Республика ШКИД (большой сборник)
Алексей Пантелеев Ленька Пантелеев
Весь этот зимний день мальчикам сильно не везло. Блуждая по городу и уже возвращаясь домой, они забрели во двор большого, многоэтажного дома на Столярном переулке. Двор был похож на все петроградские дворы того времени не освещен, засыпан снегом, завален дровами... В немногих окнах тускло горел электрический свет, из форточек то тут, то там торчали согнутые коленом трубы, из труб в темноту убегал скучный сероватый дымок, расцвеченный красными искрами. Было тихо и пусто.
— Пройдем на лестницу, — предложил Ленька, картавя на букве "р".
— А, брось, — сердито поморщился Волков. — Что ты, не видишь разве? Темно же, как у арапа за пазухой.
— А все-таки?..
— Ну все-таки так все-таки. Давай посмотрим.
Они поднялись на самый верх черной лестницы.
Волков не ошибся: поживиться было нечем.
Спускались медленно, искали в темноте холодные перила, натыкались на стены, покрытые толстым слоем инея, чиркали спичками.
— Дьявольщина! — ворчал Волков. — Хамье! Живут, как... я не знаю как самоеды какие-то. Хоть бы одну лампочку на всю лестницу повесили.
— Гляди-ка! — перебил его Ленька. — А там почему-то горит!..
Когда они поднимались наверх, внизу, как и на всей лестнице, было темно, сейчас же там тускло, как раздутый уголек, помигивала пузатая угольная лампочка.
— Стой, погоди! — шепнул Волков, схватив Леньку за руку и заглядывая через перила вниз.
За простой одностворчатой дверью, каких не бывает в жилых квартирах, слышался шум наливаемой из крана воды. На защелке двери висел, слегка покачиваясь, большой блестящий замок с воткнутым в скважину ключом. Мальчики стояли площадкой выше и, перегнувшись через железные перила, смотрели вниз.
— Лешка! Ей-богу! Пятьсот лимонов, не меньше! — лихорадочно зашептал Волков. И не успел Ленька сообразить, в чем дело, как товарищ его, сорвавшись с места, перескочил дюжину ступенек, на ходу с грохотом сорвал замок и выбежал во двор. Ленька хотел последовать его примеру, но в это время одностворчатая дверь с шумом распахнулась и оттуда выскочила толстая краснощекая женщина в повязанном треугольником платке. Схватившись руками за место, где за несколько секунд до этого висел замок, и увидев, что замка нет, женщина диким пронзительным голосом заорала:
— Батюшки! Милые мои! Караул!
Позже Ленька нещадно ругал себя за ошибку, которую он сделал. Женщина побежала во двор, а он, вместо того, чтобы подняться наверх и притаиться на лестнице, кинулся за ней следом.
Выскочив во двор и чуть не столкнувшись с женщиной, он сделал спокойное и равнодушное лицо и любезным голосом спросил:
— Виноват, мадам. Что случилось?
— Замок! — таким же диким, истошным голосом прокричала в ответ женщина. — Замок ироды сперли!..
— Замок? — удивился Ленька. — Украли? Да что вы говорите? Я видел... Честное слово, видел. Его снял какой-то мальчик. Я думал, — это ваш мальчик. Правда, думал, что ваш. Позвольте, я его поймаю, — услужливо предложил он, пытаясь оттолкнуть женщину и юркнуть к воротам. Женщина уже готова была пропустить его, но вдруг спохватилась, сцапала его за рукав и закричала:
— Нет, брат, стой, погоди! Ты кто? А? Ты откуда? Вместе небось воровали!.. А? Говори! Вместе?!
И, закинув голову, тем же сильным, густым, как пожарная труба, голосом она завопила:
— Кар-раул!
Ленька сделал попытку вырваться.
— Позвольте! — закричал он. — Как вы смеете? Отпустите!
Но уже хлопали вокруг форточки и двери, уже бежали с улицы и со двора люди. И чей-то ликующий голос уже кричал:
— Вора поймали!
Ленька понял, что убежать ему не удастся. Толпа окружила его.
— Кто? Где? — шумели вокруг.
— Вот этот?
— Что?
— Замок сломал.
— В прачечную забрался...
— Много унес? А?
— Какой? Покажите.
— Вот этот шкет? Курносый?
— Ха-ха! Вот они, — полюбуйтесь, пожалуйста, — дети революции!
— Бить его!
— Бей вора!
Ленька вобрал голову в плечи, пригнулся. Но никто не ударил его. Толстая женщина, хозяйка замка, крепко держала мальчика за воротник шубейки и гудела над самым его ухом:
— Ты ведь знаешь этого, который замок унес? Знаешь ведь? А? Это товарищ твой? Верно?
— Что вы выдумываете! Ничего подобного! — кричал Ленька.
— Врет! — шумела толпа.
— По глазам видно, — врет!
— В милицию его!
— В участок!
— В комендатуру!
— Пожалуйста, пожалуйста. Очень хогошо. Идемте в милицию, — обрадовался Ленька. — Что же вы? Пожалуйста, пойдемте. Там выяснят, вог я или не вог.
Ничего другого ему не оставалось делать. По горькому опыту он знал, что как бы ни было худо в милиции, а все-таки там лучше, надежнее, чем в руках разъяренной толпы.
— Ты лучше сообщника своего укажи, — сказала какая-то женщина. — Тогда мы тебя отпустим.
— Еще чего! — усмехнулся Ленька. — Сообщника! Идемте, ладно...
И хотя за шиворот его все еще держала толстая баба, он первый шагнул по направлению к воротам.
В милицию его вела толпа человек в десять.
Ленька шел спокойно, лицо не выдавало его, — на его лице с рождения застыла хмурая мина, а кроме того, в свои четырнадцать лет он пережил столько разных разностей, что особенно волноваться и беспокоиться не видел причин.
"Ладно. Плевать. Как-нибудь выкручусь", — подумал он и, посвистывая, небрежно сунул руки в карманы рваной шубейки.
В кармане он нащупал что-то твердое.
"Нож", — вспомнил он.
Это был длинный и тонкий, как стилет, колбасный нож, которым они с Волковым пользовались вместо отвертки, когда приходилось свинчивать люстры и колпаки на парадных лестницах богатых домов.
"Надо сплавить", — подумал Ленька и стал осторожно вспарывать подкладку кармана, потом просунул нож в образовавшуюся дырку и отпустил его. Нож бесшумно упал в густой снег. Ленька облегченно вздохнул, но тотчас же понял, что влип окончательно. Кто-то из провожатых проговорил за Ленькиной спиной:
— Прекрасно. Ножичек.
Все остановились.
— Что такое? — спросила хозяйка замка.
— Ножичек, — повторил тот же человек, подняв, как трофей, колбасный нож. — Видали? Ножик выбросил, подлец! Улика!.. На убийство небось шли, гады...
— Батюшки! Бандит! — взвизгнула какая-то худощавая баба.
Все зашагали быстрее. Сознание, что они ведут не случайного воришку, а вооруженного бандита, прибавило этим людям гордости. Они шли теперь, самодовольно улыбаясь и поглядывая на редких прохожих, которые, в свою очередь, останавливались на тротуарах и смотрели вслед процессии.
В милиции за деревянным барьером сидел человек в красноармейской гимнастерке с кантами. Над головой его горела лампочка в зеленом железном колпаке. Перед барьером стоял милиционер в буденновском шлеме с красным щитом-кокардой и девочка в валенках. Между милиционером и девочкой стояла на полу корзина с подсолнухами. Девочка плакала, а милиционер размахивал своим красным милицейским жезлом и говорил:
— Умучился, товарищ начальник. Ее гонишь, а она опять. Ее гонишь, а она опять. Сегодня, вы не поверите, восемь раз с тротуара сгонял. Совести же у них нет, у частных капиталистов...
Он безнадежно махнул жезлом. Начальник усталым и неприветливым взглядом посмотрел на девочку.
— Патент есть? — спросил он.
Девочка еще громче заплакала и завыла:
— Не-е... я не буду, дяденька... Ей-богу, не буду...
— Отец жив?
— Уби-или...
— Мать работает?
— Без работы... Четвертый ме-есяц...
Начальник подумал, потер ладонью лоб.
— Ну иди, что ж, — сказал он невесело. — Иди, частный капиталист.
Девочка, как по команде, перестала плакать, встрепенулась, схватила корзинку и побежала к дверям.
Один из Ленькиных провожатых подошел к барьеру.
— Я извиняюсь, гражданин начальник. Можно?
— В чем дело?
— Убийцу поймали.
Начальник, сощурив глаза, посмотрел на Леньку.
— Это ты — убийца?
— Выдумают тоже, — усмехнулся Ленька.
Однако составили протокол. Пять человек подписались под ним. Оставили вещественное доказательство — нож, потолкались немножко и ушли.
Леньку провели за барьер.
— Ну, сознавайся, малый, — сказал начальник. — С кем был, говори!
— Эх, товарищ!.. — вздохнул Ленька и сел на стул.
— Встань, — нахмурился начальник. — И не думай отпираться. Не выйдет. С кем был? Что делал на лестнице? И зачем нож выбросил?
— Не выбросил, а сам выпал нож, — грубо ответил Ленька. — И чего вы, в самом деле, мучаете невинного человека? За это в суд можно.
— Я тебе дам суд! Обыскать его! — крикнул начальник.
Два милиционера обыскали Леньку. Нашли не особенно чистый носовой платок, кусок мела, гребешок и ключ.
— А это зачем у тебя? — спросил начальник, указав на ключ.
Ленька и сам не знал, зачем у него ключ, не знал даже, как попал ключ к нему в карман.
— Я отвечать вам все равно не буду, — сказал он.
— Не будешь? Правда? Ну, что ж. Подождем. Не к спеху... Чистяков, повернулся начальник к милиционеру, — в камеру!..
Милиционер с жезлом взял Леньку за плечо и повел куда-то по темному коридору. В конце коридора он остановился и, открыв ключом небольшую, обитую железом дверь, толкнул в нее Леньку, потом закрыл дверь на ключ и ушел. Его шаги гулко отзвенели и смолкли.
И тут, когда Ленька остался один в темной камере и увидел на окне знакомый ему несложный узор тюремной решетки, а за нею — угасающий зимний закат, вся его напускная бодрость исчезла. Он сел на деревянную лавку и опустил голову.
"Теперь уж не отвертеться, — подумал он. — Нет. Кончено. И в школе узнают... и мама узнает".
В камере было тихо, только мышь возилась где-то в углу под нетопленой печкой. Мальчик еще ниже опустил голову и заплакал. Плакал долго, потом прилег на лавку, закутался с головой в шубейку, решил заснуть.
"А все-таки не сознаюсь, — думал он. — Пусть что хотят делают, пусть хоть пытают, а не сознаюсь".
Лавка была жесткая, шубейка выношенная, тонкая. Переворачиваясь на другой бок, Ленька подумал:
"А хорошо все-таки, что это я попался, а не Вовка. Тот, если бы влип, так сразу бы все рассказал. Твердости у него нет, даром что опытный..."
Потом ему стало обидно, что Волков убежал, бросил его, а он вот лежит здесь, в темной, нетопленой камере. Волков небось вернулся домой, поел, попил чаю, лежит с ногами на кровати и читает какого-нибудь Эдгара По или Генрика Сенкевича. А дома у Леньки уже тревожатся. Мать вернулась с работы, поставила чай, сидит, штопает чулок, посматривает поминутно на часы и вздыхает:
— Что-то Лешенька опять не идет! Не случилось ли чего, избави боже...
Леньке стало жаль мать. Ему опять захотелось плакать. И так как от слез ему становилось легче, он старался плакать подольше. Он вспоминал все, что было в его жизни самого страшного и самого горького, а заодно вспоминал и хорошее, что было и что уже не вернется, и о чем тоже плакалось, но плакалось хорошо, тепло и без горечи.
ГЛАВА I
...Еще не было электричества. Правда, на улицах, в магазинах и в шикарных квартирах уже сверкали по вечерам белые грушевидные "экономические" лампочки, но там, где родился и подрастал Ленька, долго, почти до самой империалистической войны, висели под потолками старинные керосиновые лампы. Эти лампы были какие-то неуклюжие и тяжелые, они поднимались и опускались на блоках при помощи больших чугунных шаров, наполненных дробью. Однажды все лампы в квартире вдруг перестали опускаться и подниматься... В чугунных шарах оказались дырочки, через которые вся дробь перекочевала в карманы Ленькиных штанов. А без дроби шары болтались, как детские воздушные шарики. И тогда отец в первый и в последний раз выпорол Леньку. Он стегал его замшевыми подтяжками и с каждым взмахом руки все больше и больше свирепел.
— Будешь? — кричал он. — Будешь еще? Говори: будешь?
Слезы ручьями текли по Ленькиному лицу, — казалось, что они текут и из глаз, и из носа, и изо рта. Ленька вертелся вьюном, зажатый отцовскими коленями, он задыхался, он кричал:
— Папочка! Ой, папочка! Ой, миленький!
— Будешь?
— Буду! — отвечал Ленька.
— Будешь?
— Буду! — отвечал Ленька. — Ой, папочка! Миленький!.. Буду! Буду!..
В соседней комнате нянька отпаивала водой Ленькину маму, охала, крестилась и говорила, что "в Лешеньке бес сидит, не иначе". Но ведь эта же самая нянька уверяла, что и в отце сидит "бес". И значит, столкнулись два беса — в этот раз, когда отец порол Леньку. И все-таки Ленькин бес переборол. Убедившись в упорстве и упрямстве сына, отец никогда больше не трогал его ремнем. Он часто порол младшего сына, Васю, даже постегивал иногда "обезьянку" Лялю, — всем доставалось, рука у отца была тяжелая и нрав — тоже нелегкий. Но Леньку он больше не трогал.
...Он делал иначе. За ужином, зимним вечером, детям дают холодный молочный суп. Это противный суп, он не лезет в глотку. (Даже сейчас не может Ленька вспомнить о нем без отвращения.)
У Васи и Ляли аппетит лучше. Они кое-как одолели свои тарелки, а у Леньки тарелка — почти до краев.
Отец отрывается от газеты.
— А ты почему копаешься?
— Не могу. Не хочется...
— Вася!
Толстощекий Вася вскакивает, как маленький заводной солдат.
— А ну, пропиши ему две столовых ложки — на память.
Вася облизывает свою большую мельхиоровую ложку, размахивается и ударяет брата два раза по лбу. Наверно, ему не очень жаль Леньку. Он знает, что Ленька любимец не только матери, но и отца. Он — первенец. И потом ведь его никогда не порют. А что такое ложкой по лбу — по сравнению с замшевыми подтяжками...
Между братьями не было дружбы. Скорее, была вражда.
Случалось, воскресным утром отец вызывает их к себе в кабинет.
— А ну, подеритесь.
— По-французски или с подножкой?
— Нет. По-цыгански.
Мальчики начинают бороться — сначала в обхватку, шутя, потом, очутившись на полу, забившись куда-нибудь под стол или под чехол кресла, они начинают звереть. Уже пускаются в ход кулаки. Уже появляются царапины. Уже кто-нибудь плачет.
Вася был на два года моложе, но много сильнее Леньки. Он редко оказывался побежденным в этих воскресных единоборствах. Леньку спасала ярость. Если он разозлится, если на руке покажется кровь, если боль ослепит его, — тогда держись. Тогда у него глаза делаются волчьими, Вася пугается, отступает, бежит, плачет...
Отец развивал в сыновьях храбрость. Еще совсем маленькими он сажал их на большой платяной шкаф, стоявший в прихожей. Мальчики плакали, орали, мать плакала тоже. Отец сидел в кабинете и поглядывал на часы. Эти "уроки храбрости" длились пятнадцать минут.
Все это ничего. Было хуже, когда отец начинал пить. А пил он много, чем дальше, тем больше. Запои длились месяцами, отец забрасывал дела, исчезал, появлялся, приводил незнакомых людей...
Ночами Ленька просыпался — от грохота, от пьяных песен, от воплей матери, от звона разбиваемой посуды.
Пьяный отец вытворял самые дикие вещи. "Ивану Адриановичу пьяненькому море по колено", — говорила про него нянька. Ленька не все видел, не все знал и не все понимал, но часто по утрам он с ужасом смотрел на отца, который сидел, уткнувшись в газету, и как-то особенно, жадно и торопливо, не поднимая глаз, прихлебывал чай из стакана в серебряном подстаканнике. Ленька и сам не знал почему, но в эти минуты ему было до слез жаль отца. Он понимал, что отец страдает, это передавалось ему каким-то сыновним чутьем. Ему хотелось вскочить, погладить отцовский ежик, прижаться к нему, приласкаться. Но сделать это было нельзя, невозможно, Ленька пил кофе, жевал французскую булку или сепик[1] и молчал, как и все за столом.
...Однажды зимой на масленице приехал в гости дядя Сережа. Это был неродной брат отца. Нянька его называла еще единоутробным братом (единоутробный — это значит от одной матери). Выражение это Леньке ужасно нравилось, хотя он и не совсем понимал, что оно означает. Ему казалось, что это должно означать — человек с одним животом, с одной утробой. Но почему эти слова относятся только к дяде Сереже, а не ко всем остальным людям, он понять не мог. Тем более что у дяди Сережи живот был не такой уж маленький. Это был толстый, веселый и добродушный человек, инженер-путеец, большой любимец детей.
Из Москвы он привез детям подарки: крестнице своей Ляле он подарил говорящую куклу, Васе — пожарную каску, а Леньке, как самому старшему, книгу — "Магический альманах".
Днем он ходил с племянниками гулять, катал их на вейке, угощал пирожками в кондитерской Филиппова на Вознесенском[2]. После обеда, когда в детской уже зажгли керосиновую лампу, он показывал детям фокусы, которые у него почему-то никак не получались, хоть он и делал их на научной основе по книге "Магический альманах".
За ужином были блины, и отец угощал брата шустовской рябиновкой. Вероятно, и после ужина что-нибудь пили. Детей уже давно уложили спать, и, когда они засыпали, из гостиной доносились звуки рояля и пение матери. Мать пела "Когда я на почте служил ямщиком". Это была любимая песня отца, и то, что ее сейчас пела мать, означало, что отец пьян. Трезвый, он никогда не просил и не слушал песен.
И опять, как это часто бывало, Ленька проснулся среди ночи — от грохота, от громкого смеха, от пьяных выкриков и маминых слез. Потом вдруг захлопали двери. Что-то со звоном упало и рассыпалось. В соседней комнате нянька вполголоса уговаривала кого-то куда-то сходить. Потом вдруг опять начались крики. Хлопнула парадная дверь. Кто-то бежал по лестнице. Кто-то противно, по-поросячьи визжал во дворе. В конюшне заржала лошадь. Ленька долго не мог заснуть...
А утром ни мать, ни отец не вышли в столовую к чаю. На кухне нянька шушукалась с кухаркой. Ленька пытался узнать, в чем дело. Ему говорили: "Иди поиграй, Лешенька".
В гостиной веселая горничная Стеша мокрой половой тряпкой вытирала паркет. Ленька увидел на тряпке кровь.
— Это почему кровь? — спросил он у Стеши.
— А вы подите об этом с папашей поговорите, — посоветовала ему Стеша.
Ленька пойти к отцу не осмелился. Он несколько раз порывался это сделать, подходил к дверям кабинета, но не хватало храбрости.
И вдруг неожиданно отец сам вызвал его к себе в кабинет.
Он лежал на кушетке — в халате и в ночных туфлях — и курил сигару. Графин — с водой или с водкой — стоял у его изголовья на стуле.
Ленька поздоровался и остановился в дверях.
— Ну что? — сказал отец. — Выспался?
— Да, благодагю вас, — ответил Ленька.
Отец помолчал, подымил сигарой и сказал:
— Ну, иди сюда, поцелуемся.
Он вынул изо рта сигару, подставил небритую щеку, и Ленька поцеловал его. При этом он заметил, что от отца пахнет не только табаком и не только вежеталем, которым он смачивал каждое утро волосы. Пахло еще чем-то, и Ленька догадался, что в графине на стуле налита не вода.
— Вы меня звали, папаша? — сказал он, когда отец снова замолчал.
— Да, звал, — ответил отец. — Поди открой ящик.
— Какой ящик?..
— Вот этот — налево, в письменном столе.
Ленька с трудом выдвинул тяжелый дубовый ящик. В ящике царил ералаш. Там валялись какие-то папки, счета, сберегательные книжки. Под книжками лежал револьвер в кожаной кобуре, зеленые коробочки с патронами, столбики медных и серебряных монет, завернутые в газетную бумагу, портсигар, деревянная сигарная коробка, пробочник, замшевые подтяжки...
— Да, я открыл, — сказал Ленька.
— Поищи там коробку из-под сигар.
— Да, — сказал Ленька. — Нашел. Тут лежат конверты и марки.
— А ну, посмотри, нет ли там чистой открытки. Есть, кажется.
Ленька нашел открытку. Это была модная английская открытка, изображавшая какого-то пупса с вытаращенными глазами и на тоненьких ножках, обутых в огромные башмаки.
— Садись, пиши, — приказал отец.
— Что писать?
— А вот я тебе сейчас продиктую...
Ленька уселся за письменный стол и открыл чернильницу. На почерневшей серебряной крышке чернильницы сидел такой же черный серебряный мальчик с маленькими крылышками на спине. Чернила в чернильнице пересохли и загустели, — отец не часто писал.
— А ну, пиши, брат, — сказал он. — "Дорогой дядя Сережа!" Ты знаешь, где писать? Налево. А направо мы адрес напишем.
"Дорогой дядя Сережа, — писал под диктовку отца Ленька, — папаша наш изволил проспаться, опохмелиться и посылает Вам свои сердечные извинения. С утра у него болит голова и жить не хочется. А в общем — он плюет в камин. До свидания. Цалуем Вас и ждем в гости. Поклон бабушке. Любящий Вас племянник Алексей".
Выписывая адрес, Ленька поставил маленькую, но не очень красивую кляксу на словах "его благородию". Он испуганно оглянулся; отец не смотрел на него. Запрокинув голову, он глядел в потолок — с таким кислым и унылым выражением, что можно было подумать, будто сигарный окурок, который он в это время лениво сосал, смазан горчицей.
Ленька приложил клякспапир, слизнул языком кляксу и поднялся.
— Ну что — написал? — встрепенулся отец.
— Да, написал.
— Пойдешь с нянькой гулять — опусти в ящик. Никому не показывай только. Иди.
Ленька направился к двери. Уже открыв дверь, он вдруг набрался храбрости, кашлянул и сказал:
— А что такое случилось? Почему это вы извиняетесь перед дядей Сережей?
Отец с удивлением и даже с любопытством на него посмотрел. Он привстал, крякнул, бросил в пепельницу окурок, налил из графина в стакан и залпом выпил. Вытер усы, прищурился и сказал:
— Что случилось? А я, брат, вчера дурака свалял. Я твоего дядюшку чуть к Адаму не отправил.
Сказал он это так страшно и так нехорошо засмеялся при этом, что Ленька невольно попятился. Он не понял, что значит "к Адаму отправил", но понял, что вчера ночью отец пролил кровь единоутробного брата...
Несколько раз в год, перед праздниками и перед отъездом на дачу, мать разбиралась в сундуках. Перетряхивались шубы, отбирались ненужные вещи для продажи татарину или для раздачи бедным, а некоторые вещи, те, которые не годились и бедным, просто выбрасывались или сжигались. Ленька любил в это время вертеться около матери. Правда, большинство сундуков было набито совершенно дурацкими, скучными и обыденными вещами. Тут лежали какие-то выцветшие платья, полуистлевшие искусственные цветы, бахрома, блестки, аптечные пузырьки, дамские туфли с полуотвалившимися каблуками, разбитые цветочные вазы, тарелки, блюда... Но почти всегда среди этих глупых и ненужных вещей находилась какая-нибудь занятная или даже полезная штучка. То перочинный нож с обкусанным черенком, то ломаная машинка для пробивания дырочек на деловых бумагах, то какой-нибудь старомодный кожаный кошелек с замысловатым секретным замочком, то еще что-нибудь...
Но самое главное удовольствие начиналось, когда приходила очередь "казачьему сундуку". Так назывался на Ленькином языке сундук, в котором уже много лет подряд хранилась под спудом, засыпанная нафталином, военная амуниция отца. Это был целый цейхгауз[3] — этот большой продолговатый сундук, обитый латунью, а по латуни еще железными скобами и тяжелыми коваными гвоздями. Чего только не было здесь! И ярко-зеленые, ломберного сукна, мундиры, и такие же ярко-зеленые бекеши, и белоснежные пышные папахи, и казачье седло, и шпоры, и стремена, и кривые казацкие шашки, и войлочные попоны, и сибирские башлыки, и круглые барашковые шапочки с полосатыми кокардами, и, наконец, маленькие лакированные подсумки, потертые, потрескавшиеся, пропахшие порохом и лошадиным потом.
В этих старых, давно уже вышедших из употребления и уже тронутых молью вещах таилась для Леньки какая-то необыкновенная прелесть, что-то такое, что заставляло его при одном виде казачьего сундука раздувать ноздри и прислушиваться к тиканию сердца. Казалось, дай ему волю, и он способен всю жизнь просидеть на корточках возле этого сундука, как какой-нибудь дикарь возле своего деревянного идола. Он готов был часами играть с потускневшими шпорами или с кожаным подсумком, набивая его, вместо патронов, огрызками карандашей, или часами стоять перед зеркалом в круглой барашковой шапочке или в пушистой папахе, при этом еще нацепив на себя кривую казацкую саблю и тяжелый тесак в широких сыромятных ножнах. Эти старые вещи рассказывали ему о тех временах, которых он уже не застал, и о событиях, которые случились, когда его еще и на свете не было, но о которых он столько слышал и от матери, и от бабушки, и от няньки и о которых только один отец никогда ничего не говорил. Об этих же событиях туманно рассказывала и та фотография, на которую Ленька однажды случайно наткнулся в журнале "Природа и люди".
Молодой, улыбающийся, незнакомый отец смотрел на него со страниц журнала. На плечах у него были погоны, на голове — барашковая "сибирка". Ремни портупеи перетягивали его стройную юношескую грудь.
Ленька успел прочитать только подпись под фотографией: "Героический подвиг молодого казачьего офицера". В это время в комнату вошел отец. Он был без погон и без портупеи — в халате и в стоптанных домашних туфлях. Увидев у Леньки в руках журнал, он кинулся к нему с таким яростным видом, что у мальчика от страха похолодели ноги.
— Каналья! — закричал отец. — Тебе кто позволил копаться в моих вещах?!.
Он вырвал журнал и так сильно ударил этим журналом Леньку по затылку, что Ленька присел на корточки.
— Я только хотел посмотреть картинки, — заикаясь, пробормотал он.
— Дурак! — засмеялся отец. — Иди в детскую и никогда не смей заходить в кабинет в мое отсутствие. Эти картинки не для тебя.
— Почему? — спросил Ленька.
— Потому, что это — разврат, — сказал отец.
Ленька не понял, но переспрашивать не решился.
Выходя из кабинета, он слышал, как за его спиной хлопнула дверца книжного шкафа и как несколько раз повернулся в скважине ключ.
...Ленькин отец, Иван Адрианович, родился в старообрядческой[4] петербургской торговой семье. И дед и отец его торговали дровами. Отчим, то есть второй отец, торговал кирпичом и панельными плитками.
Среди родственников Ивана Адриановича не было ни дворян, ни чиновников, ни военных: все они были старообрядцы, то есть держались той веры, за которую их дедов и прадедов, еще при царе Алексее Михайловиче, жгли на кострах. Триста лет подряд изничтожало и преследовало их царское правительство, а православная правительственная церковь проклинала, называла еретиками и раскольниками.
Поэтому старообрядцы, даже самые богатые, жили особенной, замкнутой кастой, отгородившись высокой стеной от остального русского общества. Даже в домашнем быту своем они до последнего времени держались обычаев и обрядов старины. В церковь свою ходили не иначе, как в долгополых старинных кафтанах, а женщины — в сарафанах и в беленьких платочках в роспуск. Женились и замуж выходили только в своей, старообрядческой среде. Учили детей в своих, старообрядческих школах. Ничего нового, иноземного и "прелестного" не признавали. В театры не ездили. Табак не курили. Чай, кофе не пили. Даже картофель не ели...
Правда, к концу XIX века, когда подрастал Иван Адрианович, все это было уже не так строго. Многие зажиточные старообрядцы начали отдавать детей в казенные гимназии. Кое-кто из московских и петербургских раскольников уже ездил потихоньку в театр, а там за бутылкой вина, глядишь, и сигару выкуривал...
Но все-таки это была очень скучная, мрачная и суровая жизнь, интересы которой ограничивались церковью и наживой.
Иван Адрианович учился в реальном училище. Монотонная домашняя жизнь и судьба, которая ожидала его впереди, не удовлетворяли его. Торговать ему не хотелось. Он понимал, что жизнь, которою жили его отцы и деды, не настоящая жизнь. Ему казалось, что можно жить лучше.
Недоучившись, он ушел из реального и поступил в Елисаветградское военное училище. Сделал он это против воли родителей, — ему казалось, что он убегает из затхлого, полутемного склепа к широким, светлым просторам. Карьера военного мерещилась ему как что-то очень красивое, яркое, благородное, способное прославить и одухотворить.
Учился он хорошо. Училище окончил одним из первых. И так же хорошо, почти блестяще начал службу во Владимирском драгунском полку.
Но скоро и тут наступило разочарование. Офицерская среда оказалась не намного лучше купеческой. Не дослужив и до первого офицерского чина, Иван Адрианович уже подумывал об уходе в отставку.
Осуществить это временно помешало одно событие: грянула война. И опять, против воли родителей, молодой человек принимает решение: на фронт, на позиции, на маньчжурские поля, где громыхают японские пушки и льется русская кровь. Кто знает, быть может, здесь он найдет тот жизненный смысл, ту цель, к которой он стремился и которой не мог до сих пор отыскать.
Часть, в которой служил Иван Адрианович, на войну не шла. С большими трудами удалось молодому корнету перевестись в Приамурский казачий полк. Он получил звание хорунжего[5], облачился в сибирскую казачью форму и с первым же эшелоном отправился на Дальний Восток.
И здесь, на полях сражения, он тоже показал себя как способный и отважный офицер. Конвоируемый небольшим казачьим разъездом, он должен был по приказу начальства доставить важные оперативные сводки в штаб русского командования. По дороге на казаков напал японский кавалерийский отряд. Завязалась перестрелка. Потеряв половину людей и сам раненный навылет в грудь, Иван Адрианович отбился от неприятеля и доставил ценный пакет в расположение русского штаба. В первый день пасхи, когда Иван Адрианович лежал в полевом лазарете, адъютант генерала Куропаткина привез ему боевой орден "Владимира с мечами". Получение этого ордена, который давался только за очень серьезные военные заслуги, делало его дворянином. Казалось, что перед Иваном Адриановичем открывается широкий, заманчивый путь: слава, карьера, чины, деньги, награды... Но он не пошел по этому пути. Он не вернулся в полк. Война, которая стоила России так много крови, была проиграна. И Иван Адрианович, как и всякий честный русский человек, не мог не понимать, почему это случилось. Русская армия воевала под начальством бездарных и продажных царских генералов. И в тылу и на фронте процветали воровство, подкуп, солдаты были плохо обучены, плохо снабжались и продовольствием и боеприпасами. Служить в такой армии было не только бессмысленно, но и постыдно. Молодой хорунжий навсегда охладел к военной профессии. Кое-как залечив свою рану, он облачился в штатский костюм и занялся тем делом, которым занимались и отец, и дед его и от которого ему так и не удалось убежать: он стал торговать дровами и барочным лесом. Сознание, что жизнь его разбита, что она повернулась не так, как следовало и хотелось бы, уже не оставляло его. Он начал пить. Характер его стал портиться. И хотя и раньше его считали чудаком и оригиналом, теперь он чудил и куролесил уже открыто и на каждом шагу. От этой дикой запойной жизни не спасла его и женитьба. Женился он, как и все делал, быстро, скоропалительно, не раздумывая долго. Увидел девушку, влюбился, познакомился, а через пять дней, позвякивая шпорами, уже шел делать предложение. Женился он без благословения матери, к тому же на православной, на "никонианке"[6], — этим он окончательно восстановил против себя и так уже достаточно сердитую на него староверческую родню.
И сразу же начались раздоры. Может быть, уже на второй день после свадьбы Ленькина мать поняла, какую ужасную ошибку она совершила. Женихов у нее было много, выбор был большой, и незачем ей было идти за этого темнобрового казачьего офицера.
Александра Сергеевна тоже воспитывалась в купеческой семье. Но как не похожи были эти семьи! Как будто не в одном городе и не в одной стране жили они. Как будто на разных языках говорили.
Дома было всегда весело, шумно, оживленно. Даже мачеха, злая, как и все мачехи, не могла отравить этого вечного праздника.
Даже с мачехой ладила Шурочка: нрав у нее был ангельский, — женихи, которые сватались за нее чуть ли не каждый месяц, не за приданым гнались и не красотой прельщались, а характером Шурочкиным. В гимназии Шурочку обожали, приказчики в магазине влюблялись в нее, дарили ей вскладчину букеты; цветы не успевали вянуть в маленькой Шурочкиной спаленке.
Отсюда, из этой благоуханной оранжереи, смотрела она на мир, и ей казалось, что мир этот прост и прозрачен и что очень легко и приятно ступать по его прямым дорогам.
И жизнь не противоречила ей. Жизнь давала ей больше, чем ей полагалось, и расстилала перед ней половички, по которым и в самом деле шагалось легко, мягко и бесшумно.
Талантами Шурочка не блистала, а кончила гимназию с серебряной медалью. Красотой не славилась и кокетством не отличалась, а покоряла сердца не на шутку, так что за одно лето на даче в Шувалове два студента и один коммерсант-петровец стрелялись из-за нее. Но и тут, как и всюду, судьба берегла Шурочку: как нарочно, все трое промахнулись не оставив греха на Шурочкиной совести.
Жизнь была веселой — веселее не выдумаешь. Танцы, балы, благотворительные вечера, загородные поездки, любительские спектакли, пикники, опять танцы, опять вечера... Немудрено, если Шурочка и заскучала от такого веселья. И может быть, тем и понравился ей Иван Адрианович, двадцатый по счету жених, что не был он похож на других: не умел танцевать, не шутил, не каламбурил, был пасмурен и задумчив. А в летний безоблачный день и черная туча может порадовать. Александра Сергеевна не задумывалась. Да и некогда уже было задумываться, пришла пора выходить замуж, без конца отказывать женихам было нельзя.
И вот она покинула отцовский дом и переехала к мужу! И — словно дверь захлопнулась за ее спиной.
Там, за дверью, остались и смех, и цветы, и французские водевили, и загородные пикники, и веселые вечеринки с легким вином и студенческими остротами...
Словно в погреб, вошла она в эту чужую, не похожую на другие квартиру, где пахло грибами и сургучом, где хозяйничала суровая мужнина нянька, где даже в солнечный день было пасмурно и тоскливо, где даже иконы были какие-то необыкновенные — страшные, темные, с желтыми, исступленными ликами...
И черная туча, которая поманила ее своей прохладой, разразилась такой грозой, таким неожиданным свинцовым ливнем, о каких Александра Сергеевна и в книгах не читала.
Муж, с которым она не сказала до свадьбы и десяти слов, не открылся ей и после свадьбы. Очень скоро она решила, что он — плохой человек: пьяница, грубиян, деспот, иногда — почти зверь.
Она не могла думать иначе, потому что человек этот научил ее плакать: за всю свою девичью жизнь она не пролила столько слез, сколько пришлось ей пролить за один первый месяц в доме мужа.
При всем своем ангельском характере, она не могла и приспособиться к мужу, найти с ним общий язык. Мешали ей молодость, неопытность, а чаще всего — просто страх. Ведь случалось, что она не могла выговорить слова в присутствии мужа. Иван же Адрианович, который по-своему любил жену, не мог объясниться с ней — из гордости, из упрямства, а также и потому, что с некоторых пор он действительно стал и грубым, и злым, и жестоким...
...Но всегда ли и со всеми ли был этот человек таким? Все ли хорошее было убито в нем жизнью, средой, пристрастием к водке? Неужели в этой больной душе не осталось ничего, кроме черствости и жестокости? За что же тогда так страстно любил, так горячо обожал его Ленька?
Нет, конечно. Было в этом большом, сильном и неудачливом человеке много такого, за что ему прощали грехи даже враги его и недоброжелатели.
Иван Адрианович был честен. Именно поэтому, вероятно, он никогда не мог научиться торговать. Даже маленькая неправда приводила его в ярость. Сам неподкупно-прямой, правдивый, расточительно-щедрый, он не терпел ни малейшего проявления фальши, скупости, низкопоклонства.
Был у него школьный товарищ Шаров. Много лет они дружили. Но как-то раз подвыпивший Шаров признался, что постоянно носит в кармане два кошелька: один для себя — с деньгами, а другой, пустой, для приятелей — на тот случай, если у него попросят взаймы. Иван Адрианович выслушал его, помолчал и сказал:
— Знаешь, братец... Уходи-ка ты отсюда.
— Куда? — удивился Шаров.
Иван Адрианович не ответил, встал и вышел из комнаты. Смущенный Шаров посидел, допил рюмку и ушел. С тех пор они никогда не встречались.
Однажды, когда Ленька был еще совсем маленький, возвращались они с отцом из бани. Дело было поздней осенью, уже выпал снег. На Фонтанке у Египетского моста[7] подошел к ним полуголый, оборванный, босой парень.
— Подай копеечку, ваше сыкородие, — щелкая зубами, проговорил он, почему-то улыбаясь. Иван Адрианович посмотрел на молодое, распухшее и посиневшее лицо и сердито сказал:
— Работать надо. Молод еще христарадничать.
— Я, барин, от работы не бегу, — усмехнулся парень. — Ты дай мне работу.
— Фабричный?
— Каталь я... У Громовых последнюю баржу раскатали. Кончилась наша работа.
Ленька стоял рядом с отцом и с ужасом смотрел на совершенно лиловые босые ноги этого человека, которые, ни на минуту не останавливаясь, приплясывали на чистом белом снегу.
— Сапоги пропил? — спросил отец.
— Пропил, — улыбнулся парень. — Согреться хотел.
— Ну и дурак. В Обуховскую попадешь, там тебя согреют — в покойницкой.
Парень все еще стоял рядом. Иван Адрианович сунул руку в карман. Там оказалась одна мелочь. Он отдал ее всю парню и пошел. Потом остановился, оглянулся. Парень стоял на том же месте, считал на ладони деньги. Голые плечи его страшно дергались.
— Эй ты, сыр голландский! — окликнул его Иван Адрианович.
Парень несмело подошел.
— На, подержи, — приказал Иван Адрианович, протягивая Леньке черный клеенчатый саквояж. Потом расстегнул свою новенькую синюю бекешу, скинул ее с себя и набросил на голые плечи безработного.
— Барин... шутишь! — воскликнул тот.
— Ладно, иди, — сердито сказал Иван Адрианович. — Пропьешь — дураком будешь. А впрочем, — твое дело...
Дома ахали и ужасались — мать, горничная, нянька. А Ленька весь день ходил счастливый. Он сам не понимал, почему ему так хорошо, но весь день он боролся с желанием пойти к отцу, кинуться ему на шею, крепко расцеловать его, сказать ему, как горячо он его любит. Однако он не сделал этого, — не мог и не смел сделать.
...Любил ли его отец? И вообще любил ли он кого-нибудь из близких жену, мать, приятелей? Ответить на этот вопрос мальчик не мог бы. Но то, что отец был способен на большую, сильную любовь, он знал.
Была в жизни этого человека привязанность, глубокая, трогательная и нежная.
Отцова нянька Лизавета умерла за два года до появления Леньки на свет. Он знал, что женщина эта, о которой никто, кроме отца, никогда не сказал доброго слова, вынянчила и вырастила Ивана Адриановича. О том, что отец любил и продолжает любить ее, можно было и не говорить, — это чувствовалось по всему, что делалось в доме. Гречневую кашу к обеду варили "как нянька Лизавета". Грибы солили и яблоки мочили "по-нянькиному". Между окнами на зиму выкладывали мох, а не вату — тоже "как при няньке Лизавете".
Портрета этой женщины в доме не было, Ленька никогда не видел ее и не мог видеть, но почему-то в памяти его и до сих пор хранится ее образ: высокая, прямая, с гордым, как у боярыни, лицом, красивая, больше, чем бабушка, похожая на отца...
Запомнился ему зимний день, когда в детскую вошел отец, постоял посреди комнаты, покачиваясь на носках, и спросил:
— Ты что делаешь?
— Так... ничего, — пробормотал Ленька. — Картинки разглядываю...
— Одевайся... поедем...
Ленька удивился и обрадовался. Отец редко брал его куда-нибудь с собой.
— А куда? — спросил он.
— На кладбище.
Ленька удивился еще больше. Отец никогда не ходил в церковь, никогда не ездил на кладбища — на могилы родных.
Усаживаясь в санки извозчика, он коротко приказал:
— На Громовское.
— Эх, барин. Даль-то какая! Оттуда и седока не подберешь. Полтинничек положьте.
— Ладно. Езжай!..
Хорошо помнится Леньке этот мягкий, морозный день, окраинные питерские улочки, фабричные трубы, гудки паровозов на Варшавской дороге.
Долго они блуждают с отцом по заснеженным кладбищенским дорожкам. На широких восьмиконечных старообрядческих крестах сидят черные галки. В кустах бузины попискивают какие-то крохотные птички. Хорошо пахнет снегом, от тишины и безлюдья слегка замирает сердце.
Отец останавливается, снимает шапку. За чугунной решеткой — небольшой черный памятник. Наверху его маленький золоченый крестик, а под ним, на побелевшей от инея лабрадоритовой глыбе — три слова:
"Нянъ отъ Вани"
Ленька тоже стаскивает с головы свою ушастую шапку и искоса смотрит на отца. Он не узнает его. Какое у него мягкое, милое, доброе и помолодевшее лицо! Таким он видел отца, пожалуй, только однажды — в журнале "Природа и люди"... И вдруг он почти с ужасом замечает, что по этому лицу катятся слезы. У Леньки у самого начинают дергаться губы.
— Ну, идем, сыне, — говорит Иван Адрианович и, мелко покрестив грудь, надевает свою каракулевую шапку.
...Этот день, насыщенный зимним солнцем, сияньем февральского снега, начавшийся так славно и безмятежно, запомнился Леньке еще и потому, что кончился он, этот день, ужасно, дико и безобразно.
С кладбища поехали домой. Отец был веселый, шутил с извозчиком, называл его тезкой (потому что всех легковых извозчиков в Петербурге в то время называли почему-то "ваньками")... С полдороги он вдруг раздумал и приказал ехать не в Коломну[8], а в другой конец города — на Большую Конюшенную[9], в универсальный магазин Гвардейского экономического общества[10].
Здесь они с Ленькой долго бродили по разным отделам и этажам. Отец выбирал себе галстук и запонки, купил матери брокаровских духов, а детям маленькие, похожие на бутылочки кегли.
Потом с этими покупками пошли в ресторан, который помещался тут же, в одном из этажей магазина.
Ленька никогда еще не был в ресторане. Все его здесь удивляло и занимало. И стриженные под машинку официанты в черных, как у кинематографических красавцев, фраках. И блеск мельхиоровой посуды. И особые, острые запахи ресторанной кухни, смешанные с запахами сигар и винного перегара.
Отец заказал обед: матросский борщ и беф-строганов. Ленька пил фруктовую ланинскую воду из маленькой, как кегля, бутылочки, а отец шустовскую рябиновку. Ленька уже разбирался в этих вещах, он видел, что отец заказал вина слишком много: целую бутылку — высокую, граненую, похожую на колокольню католического костела.
С мороза отец быстро захмелел; сначала он шутил и посмеивался над Ленькой, потом вдруг сразу стал мрачный. От мягкого и добродушного выражения на его лице ничего не осталось. Он пил рюмку за рюмкой, закусывал черным хлебом, думал о чем-то и молчал.
Ленька не заметил, как за соседним столом появилась компания офицеров. Это были все молодые люди в красивой форме гвардейских кавалергардов.
Офицеры пили шампанское, чокались, провозглашали тосты.
Один из них, совсем молоденький, с белокурыми, закрученными кверху усиками, поднялся с бокалом в руке и громко, на весь ресторан, объявил:
— Господа! За здоровье государя императора!..
Иван Адрианович, который тоже в это время держал в руке налитую рюмку, повернулся на стуле, прищурился и насмешливо посмотрел на молодого кавалергарда. При этом он как-то чересчур громко кашлянул или хмыкнул. Все вокруг один за другим поднялись, а он сидел. Больше того — он не стал пить, а поставил рюмку — и даже отодвинул ее на самую середину стола.
— Эй вы... почтенный! — крикнул офицер. — Разве вы не слышите?
— Что? Вы ко мне? — спросил Иван Адрианович, и Ленька похолодел, увидев знакомый ему дикий огонек, блеснувший в глазах отца.
— Папаша... папаша... не надо, пожалуйста, — забормотал он.
— Я вас спрашиваю: разве вы не слышите, за чью особу провозглашен тост? — ерепенился кавалергард.
— Какую особу? — притворно удивился Иван Адрианович.
Из-за соседнего стола выскочил другой офицер.
— Мерзавец! Шпак![11] Сию же минуту встать! — заорал он, подскакивая к Ивану Адриановичу.
Иван Адрианович с грохотом отодвинул стол.
— Извольте... сейчас же... свои слова обратно, — каким-то очень тихим и страшным голосом проговорил он.
Ленька зажмурился. Он успел увидеть, как офицер замахнулся на отца, как отец поймал его руку... Что произошло дальше, он плохо помнит. Несколько человек накинулись на отца. Ленька видел, как Иван Адрианович схватил со стула тяжелый пакет с кеглями и поднял его над головой. Он слышал звон, грохот, женский плач... В нос ему ударил острый запах духов. На несколько секунд он увидел лицо отца. Щека и висок у него были в крови.
Мальчик плакал, метался, хватал кого-то за руки...
Что было дальше и как они добрались домой, он не запомнил. Смутно помнится ему, что ехали они на извозчике, что отец обнимал его и плакал и что от него остро, удушливо пахло водочным перегаром и гиацинтами. Наверно, это пахли раздавленные в свалке брокаровские духи.
Ночью Ленька долго не мог заснуть. Уткнувшись носом в подушку, он тихо плакал, — от жалости к отцу и от ненависти к тем, кто его бил...
Уже много лет спустя, когда Ленька вырос, он понял, какой незаурядный человек был его отец и как много хорошего было погублено в нем, убито, задавлено гнетом той среды и того строя, в каких он вырос и жил...
После этого случая Иван Адрианович несколько дней не ночевал дома. Где он пропадал это время — Ленька так и не узнал. Впрочем, это и раньше бывало. Бывало и позже. Отец пил запоем.
Леньке было пять лет, когда мать его заболела. Это было нервное, почти психическое заболевание. Длилось оно шесть с половиной лет.
У матери болели зубы. И никто не мог вылечить ее. Ни один врач не сумел даже поставить диагноза и сказать, в чем дело. Она страдала, мучилась, ездила от одной знаменитости к другой. Не было, кажется, в Петербурге профессора, в приемной которого она бы не побывала. Пробовала она и гомеопатов, и гипнотизеров, и психиатров. Молилась. Делала вклады в монастыри. Ездила на богомолье. Обращалась к знахарям. Простаивала ночи в очередях у какого-то отставного генерала. Потом — у дворника в Измайловских ротах, который бесплатно лечил всех желающих заговором и куриным пометом.
Никто не помог ей — ни дворник, ни генерал, ни профессор Бехтерев, потому что никто не знал, что причина ее заболевания — неудачная семейная жизнь, нелады с мужем.
Слегка утоляло боль только одно лекарство — горький зеленоватый порошок, от которого пахло ландышем и чесноком. Этот запах преследовал Леньку в течение всего его детства.
Грустная, заплаканная мать с черной повязкой на щеке — первое его детское воспоминание. Она сидит у открытого рояля. И добрые руки ее лежат на клавишах.
Дети жили особняком, в детской, но и туда через кухарок и нянек доходили слухи и толки о неладах на родительской половине. Да и сам Ленька очень рано начал понимать, что мать и отец живут нехорошо. Он видел это. Он видел, как, забившись в подушку, плакала мать. Он видел отца, который с перекошенным от ярости лицом, не попадая руками в рукава, надевал в прихожей пальто и убегал, хлопнув парадной дверью. Поздно за полночь он возвращался. Хлопали пробки. Звенела посуда. Дрожащим от слез голосом мать пела: "Когда я на почте служил ямщиком..."
Бывало, что и матери приходилось убегать из дому. Это случалось, когда отец запивал особенно сильно. Иногда ночью, не выдержав, мать посылала горничную за извозчиком, прощалась с детьми и уезжала к сестре или к мачехе.
Случалось и так, что дети по нескольку дней оставались одни, с прислугой: мать и отец разъезжались, жили на разных квартирах.
Потом они снова сходились. Заключался мир. После бури наступало затишье. Иногда это затишье длилось неделями и даже месяцами. Тогда начиналась жизнь, как у других. Вели хозяйство. Принимали гостей. Сами ездили в гости. Занимались делами. Воспитывали детей. Ходили в театры...
В припадке нежности и раскаяния отец занимал денег и покупал матери какой-нибудь необыкновенный подарок: брильянтовую брошь, серьги или соболью муфту.
Но почти всегда получалось так, что уже через месяц эта брильянтовая брошь или муфта отправляются в ломбард, а деньги, полученные от заклада, переходят в карманы петербургских рестораторов, виноторговцев и карточных шулеров.
Перемирие кончилось. Снова начинается война.
Отец запускает дела. Входит в долги. И все-таки пьет, пьет без просыпу...
Все чаще и чаще поднимаются разговоры о разводе. Доходит до того, что уже делят имущество. Делят детей.
Но с дележом ничего не выходит. Было бы детей двое или четверо — тогда ничего. Но разделить 3 на 2 без остатка невозможно. Кто-то из них, либо мать, либо отец, должен остаться с одним ребенком.
Эти разговоры происходят в присутствии Леньки. Он с ужасом прислушивается к этим препирательствам, к этим бесконечным спорам, во время которых решается его судьба. Он одинаково любит и мать и отца и не хочет лишиться ни того, ни другого. Но, на счастье, оказывается, что и отец не хочет развода. Он не дает матери денег. А своего у нее ничего нет. Приданое прожито. И она ничего не умеет делать. Разве что играть на рояле да вышивать крестиками по канве...
Мать мечется, ищет выхода...
Она начинает наводить экономию в хозяйстве, отказывает кухарке, пробует шить, готовить... Ни с того ни с сего — в поисках заработка и профессии она вдруг начинает изучать сапожное ремесло. В ее маленькой уютной спальне, где красивая шелковая мебель, мягкие пуфики, ореховое трюмо, розовые портьеры, — появляются странные вещи: молотки, шила, клещи, деревянные гвозди, вощеная дратва... Потом все это так же внезапно, как появилось, вдруг исчезает.
Мать ходит на курсы, учится, читает книги.
Но отец протестует. Он выбрасывает эти книги за окно. В нем просыпается дух его предков, раскольников. Женщине, бабе, не пристало заниматься науками. Дети, хозяйство, церковь — вот и весь мир, который ей уготован, дальше не суйся.
Мать пробует смириться. Целые ночи напролет молится она перед зажженными лампадами. Долгие всенощные и заутрени простаивает она в окрестных церквах.
А зубы у нее по-прежнему болят. Черная повязка не сходит с ее похудевшего, осунувшегося лица. И по-прежнему, когда она целует на ночь детей, от нее пахнет чесноком и ландышем...
А Ленькина жизнь в это время идет своим чередом.
Он живет не совсем так, как полагается жить мальчику в его возрасте и в его положении. Поэтому он и не совсем похож на других детей.
Очень рано он выучился читать. Он пришел к отцу, сдвинул брови и сказал:
— Папаша, купите мне буквы!
Отец засмеялся, но обещал купить. На другой день он где-то раздобыл черные вырезные буквы, какие употребляются для афиш и аншлагов. Эти буквы наклеили на стену в детской, у изголовья Ленькиной постели. На следующее утро Ленька знал уже всю азбуку. А через несколько дней, во время прогулки с нянькой, он уже читал вывески: "пиво и раки", "зеленная", "булочная", "аптека", "участок".
Книг у него было немного. Единственную детскую книгу, которая ему попала, он через месяц зачитал до дыр. Называлась она "Рассказ про Гошу Долгие Руки". Некоторые слова в этой книге отец затушевал чернилами, но так как Ленька был любопытен, он разглядел проступавшие сквозь чернила печатные буквы. Зачеркнутые слова были "дурак" и "дура" — самые деликатные слова, которые употреблял отец, когда бывал пьян.
В кабинете отца стоял большой книжный шкаф. Из-за стеклянных дверок его выглядывали аппетитные кожаные корешки. Ленька давно с вожделением поглядывал на эти запретные богатства. Однажды, когда отец на несколько дней уехал в Шлиссельбург по торговым делам, он забрался в кабинет, разыскал ключи и открыл шкаф. Его постигло страшное разочарование. Толстые книги в кожаных переплетах были написаны на славянском языке, которого Ленька не знал. Это были старые раскольничьи книги, доставшиеся отцу по наследству, никогда им не читанные и стоявшие в кабинете "для мебели".
Но там же в шкафу он наткнулся на целую кучу тоненьких книжечек в голубовато-серых бумажных обложках. Это было полное собрание сочинений Марка Твена и Чарлза Диккенса — бесплатное приложение к журналу "Природа и люди". Книг этих никто не читал, — только "Том Сойер" был до половины разрезан. Ленька унес эти книги в детскую и читал украдкой в отсутствие отца. Разрезать книги он боялся — пробовал читать не разрезая. С опасностью испортить глаза и вывихнуть шею, он прочел таким образом "Повесть о двух городах" Диккенса. Но уже на "Давиде Копперфильде" он махнул рукой, принес из столовой нож и за полчаса разрезал всего Диккенса и всего Твена. Долгое время после этого он трепетал, ожидая расправы. Но отец не заметил исчезновения книг. Не заметил он и перемены, которая с ними произошла после возвращения в шкаф. Скорее всего, он даже и не помнил об их существовании.
Первые книги попались Леньке хорошие. Но дальше он читал уже без разбора, что попадется. Почти все книги, которые читала в это время мать, перечитывал потихоньку и Ленька. Таким образом, когда на восьмом году он пошел в приготовительные классы, он уже познакомился не только с Достоевским, Тургеневым и Мопассаном, но и с такими авторами, как Мережковский, Писемский, Амфитеатров, Леонид Андреев...
Читал он много, запоем. Брат и сестра называли его за глаза — Книжный шкаф.
Но паинькой Ленька никогда не был. Характерец у него был такой, что больше двух месяцев ни одна гувернантка не уживалась в доме. Где бы он ни был, куда бы ни шел, всегда с ним случалась какая-нибудь история: то сломает в магазине дорогую хрупкую вещь, за которую матери приходится расплачиваться из своего кошелька; то свалится на даче в яму с известью; или заблудится в лесу; или разобьет у соседей шар над цветочной клумбой...
Первый сын, любимец матери и отца, он еще в пеленках отличался характером, который называли "несносным", "ужасным", "деспотическим", а чаще всего "отцовским".
Даже отца пугало его упрямство. А о матери и говорить нечего. Когда на Леньку "нападал стих", она убегала в спальню, запиралась на ключ и плакала, уткнувшись в подушки.
Особенно трудно ей стало, когда отец окончательно покинул семью, оставив на ее руках всю троицу: и Леньку, и Васю, и Лялю. Расставшись с мужем, Александра Сергеевна не почувствовала свободы. Здоровье не улучшалось. Денег никогда не хватало. А тут еще Лешенька подрастал непутевый, дикий, неукротимый... С каждым днем все больше и больше сказывался в нем отцовский характер. И все чаще и чаще восклицала измученная, отчаявшаяся мать:
— Вторым Иваном Адриановичем наградил меня господь!..
ГЛАВА II
Ленька уже давно спал. И слезы подсыхали на его угрюмом скуластом лице.
Сквозь черную, засыпанную снегом решетку смотрела в камеру холодная петроградская луна. Было тихо. Только мыши скреблись да погукивал ветер в большой, давно не топленной железной печке.
Сколько раз приходилось Леньке вот так же, согнувшись калачиком и прикрывшись рваной солдатского сукна шубейкой, ночевать на деревянных узеньких лавках — в железнодорожных чека, в отделениях милиции, в пикетах, в комендатурах!..
Давно уже распрощался он и с мягкими перинами, и с коротенькими штанишками, и с матросскими блузками. Как далеко это все! Как не похож этот грязный, оборванный парень на чистенького первоклассника-реалиста, который читал еженедельный журнал "Задушевное слово", учил закон божий, ездил с мамашей в гости, шаркал ножкой и целовал ручки у тетушек...
Разве не целая вечность отделяет его от того памятного дня, когда пришла в гости нянька, уже не служившая в доме, уже не нянька, а "бывшая нянька", — пришла заплаканная, развязала ситцевый в крапинку узелок с орехами и зелеными недозрелыми сливами и, поклонившись, сказала:
— Вот, прими, Лешенька, гостинчика — на сиротскую долю.
Ленька не сразу понял, что это значит — "гостинчик на сиротскую долю".
Еще совсем недавно он писал под диктовку матери письмо отцу, который работал во Владимире, на лесных заготовках у лесопромышленника Громова.
"Дорогой папаша, — писал он. — Поздравляю Вас с днем Вашего Ангела и желаю Вам всего наилучшего. Я учусь хорошо, по русскому языку имею пятерку с плюсом. Мы все здоровы. Ждем Вас к себе в гости. Мамаша Вам кланяется и желает здоровья..."
И вот говорят, что отца уже нет, что он умер.
Он умер где-то далеко, на чужбине. Не было ни похорон, ни поминок, ни семейного траура. Он уехал и не вернулся. И Леньке долго думалось, что, может быть, это ошибка, что когда-нибудь звякнет в прихожей звонок, он выбежит на этот звонок и в облаке пара увидит знакомую, чуть сгорбленную фигуру — в серых высоких валенках, в заснеженном полушубке и в светло-коричневом мохнатом сибирском башлыке с серебряной кисточкой на макушке...
Осенью он перешел во второй класс приготовительного училища. Это был третий год войны. Война уже перестала быть интересной, и Леньке уже давно расхотелось бежать на фронт. В начале войны он пробовал это сделать: собрался, насушил сухарей, достал из "казачьего сундука" саблю и кожаный подсумок, даже написал домашним письмо. Но убежать ему удалось очень недалеко, — поймали его на лестнице, на второй площадке.
Теперь даже играть в войну было скучно. Еще год тому назад Ленька писал стихи:
Бомба, как с неба упала,
Тут вот она и летит.
Бедный, о бедный солдатик
Тот, в кого будут палить...
Теперь ему даже вспомнить было стыдно, что он занимался такими пустяками. Всю эту осень он писал приключенческие рассказы и большой авантюрный роман, в котором участвовали цыгане, разбойники, контрабандисты и сыщики и который назывался таинственно и страшно — "Кинжал спасения".
Но зима выдалась веселая.
Первую весть о надвигающихся переменах принес Леньке крестный брат его Сережа Крылов, по прозванию Бутылочка. Мальчик этот принадлежал к числу тех "бедных", которые особенно щедро одаривались перед праздниками подержанными вещами из казачьего и других сундуков. Родная мать Бутылочки — пожилая поденщица Аннушка — с незапамятных времен ходила в дом мыть полы и убирать квартиру. Ленькиным же братом Сережа считался потому, что Александра Сергеевна когда-то крестила его, была его восприемницей. Бутылочка был года на полтора старше Леньки и выше его на голову, однако умудрялся каким-то образом очень долго донашивать Ленькины штаны и матросские куртки. Застиранные, выцветшие, с потеками синьки в самых неподобающих местах, эти старые вещи плотно облегали сухопарую фигурку мальчика, который и сам казался Леньке каким-то застиранным и выцветшим. Даже на лице его, очень бледном и некрасивом, то тут, то там проступали синие пятна. Это не мешало Леньке любить Сережу и радоваться, когда тот нежданно-негаданно, раза два-три в год, появлялся — откуда-то издалека, из-за Обводного канала, с таинственной Везенбергской[12] улицы...
Когда-то давно, когда ребята были еще совсем маленькие, Аннушка привела Сережу поздравить крестную мать с днем ангела. Мальчики весь день просидели на подоконнике в детской, с увлечением играя в неизвестно кем выдуманную игру: натаскали откуда-то склянок и пузырьков и изображали аптеку. До вечера они по очереди продавали друг другу пластыри, горчичники и касторку, а вечером на парадной заверещал звонок и через минуту послышался ликующий вопль маленького Васи:
— Гости приехали!..
В прихожей уже слышался смех и голоса Ленькиных двоюродных братьев и сестер. Пора было кончать игру. Сережа, который до этого был весел и оживлен, замолчал, заскучал, глаза его наполнились слезами, и, склонив по-старушечьи голову, он жалобно и как-то нараспев протянул:
— Гости придут — все бутылочки побьют...
С тех пор и осталось за ним это прозвище — Бутылочка.
Теперь Бутылочка учился уже во втором классе городского четырехклассного училища, ходил в фуражке, говорил хрипловатым голосом и, когда, здороваясь, целовался с Ленькой, от него попахивало чем-то очень взрослым и очень знакомым; так пахло когда-то в кабинете отца и в дачных вагонах с надписью "для курящих".
На святках Бутылочка был у Леньки в гостях. Мальчики пошумели, поиграли, потом забрались с ногами на стулья и долго разглядывали картинки в журналах. В одном из журналов была напечатана фотография: Николай II на фронте награждает группу солдат георгиевскими крестами. Сережа прочитал подпись под картинкой, помолчал, усмехнулся и сказал:
— Скоро ему полный каюк будет.
— Кому? — не понял Ленька.
— А вот этому, — ответил Бутылочка и не очень почтительно потыкал пальцем в самую физиономию царя.
— Почему каюк? — опешил Ленька.
— А вот потому...
Худенькое лицо Бутылочки стало серьезным и даже зловещим.
— Побожись, что никому не скажешь.
— Ну?
— Что "ну"? Ты не нукай, а ты побожись.
— Божиться грех, — сказал, поколебавшись, Ленька.
— Ну ладно, можешь не божиться. Скажи тогда: "честное слово".
— Честное слово.
— "Никому не скажу"...
— Никому не скажу.
— И крёстненькой не скажешь?
— И крёстненькой...
Тогда Бутылочка оглянулся, вытаращил глаза и зашипел:
— Царица у нас шпионка. Не веришь? Какая? А вот такая — Александра. Она через Распутина[13] все военные тайны своим немцам передавала...
— А цагь? — прошептал Ленька, бледнея от одного сознания, какую страшную тайну он на себя берет.
— И царь тоже хорош. Вот увидишь, скоро они все полетят кверх кармашками... Только ты, Леша, смотри никому не говори.
— Я не скажу, — пробормотал Ленька.
Однако беречь Сережину тайну Леньке пришлось очень недолго. В феврале застучали в городе пулеметы, замелькали красные флаги, банты. Новое слово "революция" ворвалось в Ленькину жизнь.
Свергнутого царя ему не было жаль. В первый же день, отправляясь в училище, он нацепил на фуражку красную ленточку.
Царя не стало, появилось правительство, которое называлось Временным, но в Ленькиной жизни и в жизни его семьи мало что изменилось.
Мать бегала по урокам. Как и прежде, к ней приходили ученики — большей частью маленькие девочки с огромными черными папками "Мюзик". Девочки без конца разучивали гаммы и упражнения, — мешали заниматься, читать, учить уроки. Зубы у матери по-прежнему болели. И по-прежнему в комнатах пахло чесноком и ландышем.
А в городе и в стране уже ни на минуту не утихал свежий ветер. Конечно, Ленька не понимал и не мог понять всего, что происходит в мире. Ему в то время не было еще девяти лет. Он видел, что начавшаяся в феврале веселая жизнь — со стрельбой, флагами, пением "Марсельезы" и "Варшавянки" продолжается. А разобраться во всем этом — почему стреляют, почему поют, почему шумят и ходят под окнами с красными флагами — он не мог, хотя жадно прислушивался ко всем разговорам и давно уже с увлечением читал газеты, которые в тот год плодились, как грибы после хорошего дождя. Газеты были с самыми удивительными названиями. Была газета "Копейка", которая и стоила всего одну копейку. Была газета "Черное знамя". Выходила даже газета, которая называлась "Кузькина мать".
В газетах и в разговорах взрослых то и дело мелькали новые, не знакомые Леньке слова: "манифестация", "милиция", "пролетариат", "оратор"...
Летом Ленька впервые услышал слово "большевик".
В городе готовились к выборам в Учредительное собрание[14]. Стены домов, заборы, фонарные столбы, афишные тумбы, ворота — все, на чем можно было наклеить клочок бумаги, было сверху донизу залеплено предвыборными плакатами разных партий. Партий этих было так много, что не только Ленька, но и не каждый взрослый мог без усилий разобраться в их направлениях и программах. И все-таки нашлась одна партия, которая сразу же, уже одним названием своим завоевала Ленькино сердце. Эта скромная партия, шедшая в предвыборных списках под номером 19, именовалась "партией казаков". Весьма вероятно, что где-нибудь на Дону или Кубани, в казачьих станицах, у этой партии были и вожди и последователи, но можно поручиться, что в столичном городе Петрограде не было у нее более ярого приверженца и более страстного пропагандиста, чем этот вихрастый и низкорослый ученик второго приготовительного класса. Может быть, Ленька вспомнил, что отец его был хорунжим сибирского казачьего полка; может быть, сыграло тут роль очарование "казачьего сундука", может быть, самое слово "казак", знакомое по "Тарасу Бульбе", по мальчишеской игре в "казаки-разбойники", покорило и вдохновило его... Как бы то ни было, но этот мальчик, в жилах которого не было ни одной капли казачьей крови, вдруг самочинно объявил себя казаком и членом казачьей партии. Сам он голосовать еще не мог, зато делал все, чтобы увеличить число голосующих за "свою" партию. Он приставал ко всем взрослым с просьбой отдавать голоса за список № 19. Он написал от руки несколько десятков плакатиков: "Голосуйте за партию казаков № 19" — и мужественно, побеждая стыд и застенчивость, развесил эти воззвания с помощью кнопок и гуммиарабика на стенах и заборах соседних домов. Обнаружив, что у казачьей партии нет своего печатного органа, он задумал издание газеты, которая называлась "Казачья быль" и под заглавием которой стояло: "Орган партии казаков № 19". Он даже вывесил на Фонтанке, у Английского пешеходного мостика[15], объявление, в котором сообщалось, что принимается подписка на "Казачью быль", орган партии казаков № 19... Два дня после этого Ленька с трепетом прислушивался к звонкам, ожидая наплыва подписчиков... На его счастье, подписчиков почему-то не оказалось.
...Однажды он зашел в "темненькую", в комнату, где жила Стеша, уже второй год служившая у Александры Сергеевны "за горничную и кухарку".
Стеша сидела на кровати и штопала чулок.
— Стеша, скажите, пожалуйста, — сказал Ленька, — вы в Учгедительное собгание голосовать будете?
— А что ж... Почему? И буду, — засмеялась Стеша. — Все будут, и я буду.
— А вы за кого будете голосовать?
— А это, Лешенька, мое дело. Об этом не спрашивают. Это называется тайна избирателя.
— Хотите, я скажу, за кого вам голосовать? — сказал Ленька. И, оглянувшись, шепотом договорил: — Вы за девятнадцатый номер, за партию казаков голосуйте.
— Вот еще! — усмехнулась Стеша. И, так же оглянувшись, таким же таинственным шепотом сказала: — А если я, представьте, за четвертый хочу?
— Какой это четвертый?
— Не знаете? Это партия большевиков называется.
— Как?.. Большевиков? Каких большевиков?
— А вот таких. Не слыхали? Это наша партия. Рабочая.
И, выдвинув из-под кровати свой маленький деревенский сундучок, где хранилось все ее небогатое имущество — ситцевые платья, платки, башмаки, банки с помадой, пустые коробки из-под конфет, пастилы и мармелада, — Стеша порылась в нем и достала сложенный вчетверо плакат, на котором был изображен усатый широкоплечий человек в черной кепке, державший в поднятой мускулистой руке белый конверт с надписью "№ 4".
"Эх, жалко я не нарисовал ничего на своих плакатах", — подумал Ленька. Он представил, какого замечательного, усатого и чубатого казака с пикой наперевес можно было бы изобразить на плакате. Но теперь было поздно этим заниматься.
Укладывая на место вещи, Стеша уронила на пол какую-то фотографию. Ленька поднял ее. На толстой пожелтевшей, с обломанными углами карточке довольно большого, "кабинетного" размера был изображен высокий усатый человек в черной, похожей на круглый пирог барашковой шапке и в длинном, наглухо застегнутом зимнем пальто с таким же барашковым воротником.
— Кто это? — спросил Ленька.
— Да это ж мой брат, Лешенька, — с улыбкой ответила Стеша.
— У вас разве есть бгат? — удивился Ленька.
— Есть, детка.
— А где же он?
Стеша вздохнула.
— Далеко, Лешенька. Он до войны шесть лет в Сормове жил, на паровозном заводе работал. А сейчас — на войне, на фронте.
Человек на фотографии был чем-то похож на рабочего с плаката: такие же усы, такие же сильные широкие плечи.
— Он тоже большевик? — спросил Ленька.
Стеша не ответила.
Ленька еще раз посмотрел на карточку, посмотрел на Стешу.
— Вы не похожи, — сказал он.
— Ну вот, — обиделась девушка, отнимая у Леньки фотографию. — Очень даже похожи. Только что разве усов у меня нету...
Предвыборная борьба, в которую так неожиданно включился Ленька, отвлекла его от занятий, более подобающих его возрасту и положению. Осенью он должен был держать вступительные экзамены в реальное училище. Готовился он кое-как, наспех, в середине лета захворал коклюшем и месяц с лишним провалялся в постели. Неудивительно, что, когда пришла пора идти на Восьмую роту в мрачное казенное здание 2-го Петроградского реального училища, Ленька чувствовал себя не очень уверенно. Русский язык и закон божий он знал лучше, волновался главным образом за арифметику. Но именно здесь, на этом нелюбимом предмете ожидал его триумф, к которому он никак не был подготовлен.
Маленький, похожий на чижика человек (впоследствии оказалось, что фамилия его Чижов, а прозвище Чиж), подергал козлиную бородку, ехидно посмотрел на мальчика из-под золотых очков и сказал:
— А нуте-с, молодой человек. Подойдите ближе. Руки из карманов выньте. Так. Скажите: что будет тяжелее — пуд сена или пуд железа?
На Ленькино счастье, он слыхал когда-то эту шуточную задачу. Но как она решается, он забыл.
"Железо, конечно, тяжелее, — подумал он. — Но тут какой-то подвох, тут что-то наоборот..."
И, собираясь перехитрить экзаменатора, он уже хотел сказать: "Конечно, пуд сена тяжелее". Но взглянул на Чижика, который смотрел на него посмеиваясь и накручивая жидкую бороденку на блестящую пуговицу вицмундира, вовремя спохватился и хриплым голосом, громко, по-солдатски ответил:
— Пуд пудом и будет.
— Молодец. Соображаешь, — осклабился Чиж, показывая прокуренные зубы. Можешь идти. Выдержал.
На следующее утро, явившись с матерью к подъезду реального училища. Ленька увидел свою фамилию второй в списке выдержавших приемные испытания в первый класс. Впоследствии он узнал, что эту задачу про сено и железо Чиж задает на экзаменах почти всем поступающим. И даже самые способные и сообразительные редко отвечали правильно. Где же тут, в самом деле, сообразить, что сено и железо весят одинаково, если в эту минуту у тебя все поджилки трясутся, если перед носом твоим страшно блестят очки экзаменатора, сверкают пуговицы и ордена на его парадном мундире, если ты чувствуешь себя таким маленьким и потерянным в этой огромной зале, с высокими казенными окнами и с пустой золоченой рамой на стене, в которой еще совсем недавно стоял во весь свой невысокий рост самодержец всероссийский, государь император Николай II.
Первого сентября, облачившись в новенькую черную шинель и в черную с оранжевыми кантами фуражку, затянувшись кожаным поясом, на мельхиоровой пряжке которого были вытиснены буквы "2 ПРУ", Ленька отправился на молебен и на первый урок в училище.
Он плохо запомнил, как и чему учили его в реальном училище. Запомнился ему небольшой полутемный класс, высокая желтая учительская кафедра, сосед его по парте — сын книготорговца Тузова, которого учителя почему-то называли Тузов-второй; моложавый красивый священник-законоучитель, на каждом шагу говоривший "конечно" и "так сказать"; учитель словесности Бодров, которого почтительно именовали писателем, потому что у Бодрова была своя книга собрание пословиц и поговорок; инспектор Чиж и директор Дуб... Но вспомнить себя сидящим в классе, отвечающим урок или стоящим у доски или у карты Ленька не может. Гораздо лучше помнятся ему перемены. Перемен было даже как будто больше, чем уроков. Запомнились ему длинные училищные коридоры, по которым с криками "ура" носятся ученики младших классов; запомнилась большая уборная, где в клубах табачного дыма с утра до окончания уроков шумят реалисты-старшеклассники.
Спорят, ругаются, чуть не дерутся. Только и слышно:
— Большевики... Меньшевики... Эсеры... Мир без аннексий и контрибуций... Предатели... Оборонцы... Вешать вас надо!..
Ленька ничего не понимает, но стоит, слушает, хотя от папиросного дыма его давно тошнит и голова кружится.
Распахивается дверь, и в туалетную врывается еще одна партия реалистов. Большеголовый, стриженный под машинку пятиклассник Дембо, любимец малышей, вскакивает на самое возвышенное место и, размахивая, как митинговый оратор, руками, кричит, перекрывая своим басовитым голосом остальные голоса:
— Товарищи, внимание! На нас идет Германия! Устроимте по этому случаю собрание...
Его с хохотом стаскивают с "трибуны", начинается потасовка.
Давно уже прозвенел звонок, но на уроки никто не спешит. Леньке кажется, что старшеклассники вообще не занимаются. Как ни войдешь в туалетную, — они всегда тут, всегда шумят и спорят.
Эти споры и потасовки продолжаются и на улице. Здесь самое интересное драки с гимназистами, воспитанниками казенной мужской гимназии, помещавшейся рядом, в одной из соседних рот. Гимназисты — старые, вековечные враги реалистов, — "аристократы", "серошинельники", "мышиные хвостики", как зовут их презрительно реалисты.
Побоища происходят на широком Троицком проспекте[16] перед казармами Измайловского полка, где по утрам маршируют солдаты-призывники и обучаются езде на мотоциклетах молодые подпрапорщики из автороты...
Домой Ленька возвращается поздно. Идет он мимо разбитого и сожженного здания полицейского участка, мимо немецкой булочной Венцеля, у дверей которой с утра до вечера стоят теперь длинные очереди женщин, мимо кинематографа "София", мимо аптекарского магазина Васильевой, зеркальная витрина которого еще в феврале пробита шальными винтовочными пулями...
А дома все то же. Из комнаты матери доносятся жиденькие звуки рояля. Очередная девочка с косичками разучивает гаммы и экзерсисы. Мать лениво отбивает такт и скучным, усталым голосом отсчитывает:
— И раз, и два, и три... И раз, и два, и три...
В детской комнате Вася и Ляля играют в цыган. Устроили из табуреток и стульев фургон, завесились старым маминым шерстяным платком, притаились в этом таинственном полумраке и, покрикивая "гэй, гэй", едут, кочуют по степным просторам...
"Тоже! Нашли развлечение", — с презрительной усмешкой думает Ленька. Он проходит к своему столу, бросает ранец. Надо бы отдохнуть и садиться за уроки, но на свете есть вещи и поинтереснее уроков. Книги!..
До вечера он сидит, согнувшись над толстым томом и заложив пальцами уши, жадно пожирает страницу за страницей, половины не понимая или понимая по-своему, замирая от ужаса и восторга, глотая слезы, всем существом своим растворяясь в этом созданном чужой фантазией мире.
А Вася и Ляля давно уже кончили играть, давно стоят за Ленькиной спиной и, переглядываясь, прижимая к губам пальчики, набираются храбрости, готовятся к излюбленной своей шалости.
Им и страшно и весело, и хочется и боязно. И вот, наконец, кто-нибудь из них — или оба вместе — осторожно, кончиками указательных пальцев дотрагиваются до Ленькиного затылка. Ленька вскакивает, словно в него электрический ток пустили. На лице его — ярость. Вася и Ляля уже кинулись наутек. Они уже и сами не рады, что позволили себе эту невинную шутку. Через минуту из детской доносится пронзительный рев. Мать и Стеша вбегают в комнату и видят, как вся троица кубарем катается по полу. Визжит Ляля, басом ревет толстощекий Вася и хрипит, задыхается позеленевший от бешенства Ленька.
...Ленькины товарищи по классу, как и большинство ребят того времени, увлекались так называемой приключенческой, "сыщицкой" литературой. Читали и зачитывали до дыр аляповато-пестрые выпуски "Ната Пинкертона", "Ника Картера", "Шерлока Холмса"...[17] После Февральской революции этих книжек развелось еще больше. Ленька никогда не был поклонником этой копеечной уличной литературы, хотя, поддавшись моде, пробовал и сам писать приключенческие рассказы. Его тянуло к более серьезным книгам. На этой почве он подружился в училище с реалистом Волковым.
Это был худенький, бледнолицый и черноглазый мальчик, серьезный, неразговорчивый, даже высокомерный. Единственный в классе, он носил под суконным воротником казенной тужурки белый полотняный. В первый же день занятий Волков подошел к Леньке и спросил:
— Ты любишь учиться?
— Нет... не очень, — честно ответил Ленька.
— Но ведь ты выдержал экзамен вторым?
— Ну и что ж, — сказал Ленька.
— Значит, ты способный.
— Ну, почему... Пгосто повезло, — скромно ответил Ленька и рассказал про историю с сеном и железом.
Волков помолчал, сдвинул к переносице тонкие брови и сказал:
— Я выдержал одиннадцатым. И то я счастлив. А если бы я был первым или вторым, я бы витал, вероятно, на седьмом небе.
Леньке почему-то понравилось это "седьмое небо". Все чаще и чаще он стал заговаривать с Волковым. Оказалось, что и тот "терпеть не может" уличной литературы. Он читал Плутарха и сказки Топелиуса[18].
— Кто твой отец? — спросил однажды Волков.
— У меня нет отца, — ответил Ленька.
— А кем он был?
Ленька почему-то постеснялся сказать, что отец его умер приказчиком.
— Он был офицером, — сказал он и покраснел, хотя сказал правду. — А твой отец кто? — спросил он из вежливости. Он был уверен почему-то, что Волков ответит: князь или барон. Но Волков сказал, что отец его инженер, владелец технической конторы "Дизель".
— Знаешь что? — сказал он через несколько дней. — Приезжай ко мне в воскресенье в гости. Я уже говорил с мамой. Она позволила.
— Ладно, пгиеду, — сказал Ленька.
— Не "ладно", а "хорошо", — поправил его Волков.
Ленька и сам знал, что говорить "ладно" некрасиво. Так его учили когда-то мама и гувернантки. Но в реальном все говорили "ладно", это было и ловчее и как-то больше по-мальчишески. Кроме того, в слове "ладно" не было буквы "р", употреблять которую Ленька всячески избегал.
— Хогошо, пгиеду, — мрачно повторил он.
— Я заеду за тобой.
— Ладно... хорошо, — сбился Ленька.
Волков ему нравился, но вместе с тем было в этом серьезном, никогда не улыбающемся мальчике что-то такое, что пугало и отталкивало Леньку. В присутствии Волкова он немножко стеснялся и робел.
И уже совсем оробел он, когда в ближайшее воскресенье, после обеда, раздался звонок и почти тотчас в детскую вкатился румянощекий Вася и, задыхаясь от смеха, прокричал:
— Леша... Леша... тебя какой-то господинчик спрашивает!
— Какой господинчик? — удивился Ленька.
Вася не мог говорить от хохота.
— Там... в передней... стоит...
Ленька захлопнул книгу и побежал в прихожую.
У парадной двери в прихожей стоял Волков.
Но что это был за Волков! Он был не в шинели, а в сером демисезонном пальто-реглан. В руках он держал шляпу и тросточку. Пальто его было распахнуто, и оттуда выглядывали крахмальный воротничок, галстук и перламутровые пуговицы жилета.
Это был джентльмен, дэнди, рисунок из модного журнала, а не девятилетний мальчик.
Ленька смотрел на него с открытым ртом.
— Ты готов? — спросил у него Волков.
Ленька молча кивнул. За спиной его жались и давились от смеха Вася и Ляля.
— Это что за мелюзга? — спросил Волков.
Ленька, случалось, и сам называл Васю и Лялю мелюзгой, но тут он почему-то обиделся.
— Это мои бгат и сестга, — ответил он, нахмурясь.
Александра Сергеевна, сдерживая улыбку, смотрела на маленького господина.
— Вы где живете, голубчик? — спросила она Волкова.
— На Екатерингофском[19], сударыня, — ответил он.
— Ну, это недалеко. На каком же номере вы с Лешей поедете?
— На трамвае? — удивился Волков. — Я на трамвае никогда не ездил. Меня ждет экипаж.
— У вас свой выезд?!
— Да, мадам, — ответил по-французски Волков и шаркнул ножкой.
Никогда еще Ленька не чувствовал такой связанности и скованности, как в этот раз. Почему-то ему вдруг стало стыдно смотреть в глаза матери, брату и сестре. Ему вдруг неудобно стало называть Волкова "на ты".
Застегивая на ходу шинель, он спускался вслед за Волковым по узенькой темной лестнице, мрачно и односложно отвечал на вопросы товарища, а сам думал: стоит ли ехать? не вернуться ли?
На улице, у ворот, дожидался Волкова шикарный экипаж. Английский рысак, начищенный до зеркального блеска, высокий, статный, с забинтованными для пущего шика ногами, нетерпеливо бил копытом. Толстый кучер в цилиндре, натягивая синие вожжи, не шелохнувшись, сидел на козлах.
— Прошу, — сказал Волков, открывая лакированную дверцу.
Леньке приходилось ездить на конках, в трамваях, на извозчиках. Один раз, в раннем детстве, он ездил — на крестины двоюродного брата — в наемной карете. Но ехать в "собственном" экипаже, на запятках которого не было никакой жестянки с номером, — об этом он никогда и мечтать не мог. И вот теперь, когда представился случай, он не почувствовал никакой радости. Усевшись на мягкое кожаное сиденье, он мрачно уставился в широченную спину кучера и всю дорогу молчал или отделывался короткими ответами, удивляясь, как это Волков может говорить о заданных на завтра уроках, о неверном ответе в задачнике Евтушевского, о погоде и о прочих будничных делах. Ему все казалось, что вот-вот Волков откинет полу своего модного реглана, достанет серебряный портсигар и закурит сигару.
Но все-таки ехать в коляске было очень приятно. Дутые резиновые шины мягко, пружинисто подкидывали. Широкозадый кучер властным командирским голосом покрикивал на прохожих:
— Пади!..
И прохожие испуганно шарахались, оглядывались, отряхивали забрызганные грязью пальто. Наемные извозчики и ломовики придерживали своих кляч и безропотно пропускали "собственного".
На Садовой у Крюкова канала на мостовой перед лабазом стояла толпа женщин.
— Пади! — крикнул кучер.
Но женщины не успели разбежаться. Лакированное крыло коляски задело кого-то. В толпе послышались гневные голоса:
— Эй вы, барчуки! Осторожнее!
— Буржуазия проклятая!
— А ну, поддай им, бабы!
— Поездили! Хватит! Вышло ихнее времечко...
Кучер даже плечом не повел. Коляска, не убыстряя хода, мягко вкатывалась на деревянный настил моста.
Что-то ударило в стенку экипажа. Ленька привстал и оглянулся.
Женщина в сером платке, кинувшая камень, стояла с поднятой рукой и кричала:
— Да, да! Это я! Мало? Еще получите... Живоглоты!
— Гони! — крикнул кучеру Волков. И, стиснув Ленькину руку, сквозь зубы прохрипел:
— Хамы!..
"Сами же мы виноваты. Не извинились даже", — подумал Ленька, но вслух ничего не сказал.
...Чувство неловкости, скованности и немоты не оставляло его и позже, когда экипаж въехал на асфальтированную площадку маленького двора, в центре которого жиденькой струйкой бил крохотный игрушечный фонтанчик; когда поднимался он вслед за Волковым по широкой мраморной лестнице, устланной мягким ковром с жарко начищенными медными прутьями; когда высокую парадную дверь распахнул перед ними настоящий лакей, с бакенбардами, в чулках, похожий на какую-то иллюстрацию к английской детской книжке...
— Пройдем ко мне, — сказал Волков, когда нарядная, как артистка, горничная помогла им снять пальто. — У папы деловое совещание. После я тебя представлю ему.
Эти слова еще больше смутили Леньку. Никогда раньше его не "представляли" чужим родителям. Ему казалось, что он пришел на экзамен или к директору училища, а не к товарищу в гости. И комната, куда его привел Волков, действительно больше походила на директорский или даже министерский кабинет, чем на детскую девятилетнего мальчика. Письменный стол с бронзовым чернильным прибором. Огромные книжные шкафы, от пола до потолка заставленные книгами. Пушистый ковер. Камин, перед которым распласталась леопардовая шкура.
— Это твоя комната? — спросил Ленька, не зная, что сказать.
— Моя, — просто, без всякого хвастовства ответил Волков. — Ну, чем же мы займемся? Хочешь, я покажу тебе свои игрушки?..
И, усадив Леньку на ковер, он стал доставать и показывать товарищу богатства, каких Ленька не видел даже в витринах игрушечного магазина Дойникова в Гостином дворе.
Настоящая паровая машина. Электрический поезд, который бегал по рельсам через всю комнату. Кинематографический аппарат Патэ. Ружье во "монтекристо". Заводной солдат-шотландец в клетчатой юбочке, который не катался на колесиках, а ходил, переставляя одну за другой длинные голенастые ноги и делая еще при этом артикул ружьем...
Ленька с тупым удивлением смотрел на эти хитроумные дорогие игрушки и не мог почему-то ни радоваться, ни удивляться. Даже зависти к Волкову у него не было.
...Часа два он просидел на ковре — и чем дольше сидел, тем сильнее чувствовал под ложечкой томление, какое испытываешь на затянувшемся неинтересном уроке. Он уже набрался храбрости и хотел заявить, что ему пора домой, когда открылась дверь и в комнату, шурша шелковым платьем, не вошла, а вплыла молодая красивая женщина, очень похожая на Волкова — с такими же хрупкими чертами лица и с такими же тонкими черными бровями.
— Моя мама, — с гордостью объявил Волков.
Ленька вскочил, шаркнул ногой, споткнулся о паровую машину и, увидев возле своего носа тонкую бледную руку с розовыми миндалинами ногтей, ткнулся губами в эту хрупкую, крепко надушенную руку и назвал себя по фамилии.
— Очень приятно, — проворковала мадам Волкова. — Вовик мне о вас говорил. Чувствуйте себя, пожалуйста, у нас, как дома.
"Да! Ничего себе — как дома", — со вздохом подумал Ленька.
— А сейчас, пожалуйста, обедать. Вас ждут.
— Я не хочу, — забормотал Ленька. — Благодагю вас. Мне пога ехать. Я еще угоков не выучил.
— Не спешите. Успеете. Вовик вас отвезет... А уроки можете вместе учить.
Ленька понял, что погиб, и покорно поплелся вслед за Волковым — сначала в туалетную, мыть руки, потом — в столовую, где за большим обеденным столом уже сидело человек десять мужчин и среди них — высокий чернобородый господин с засунутой за воротник салфеткой, в котором Ленька почему-то сразу признал Волкова-отца. Так оно и оказалось. Волков подвел Леньку к чернобородому и сказал:
— Папа, разреши представить тебе. Мой товарищ, о котором я тебе говорил...
— А-а! Да, да, — веселым басом проговорил Волков-отец, показывая необыкновенно белые, ослепительные зубы и протягивая Леньке руку. Приятно... Садитесь, юноша. Милости просим. Водку пьете?
Ленька понял, что хозяин шутит, сделал понимающую улыбку и, поклонившись гостям, сел рядом с Волковым-сыном.
— Представь, папа, — сказал Волков-сын, к удивлению Леньки, тоже засовывая за воротник крахмальную салфетку. — Когда мы ехали домой, нас на Пиколовом мосту какие-то хамки забросали камнями.
— Вовик, — остановила его мать. — Откуда эти выражения?! "Хамки"!..
— Виноват, Елена Павловна, — бархатным голосом перебил ее какой-то бритый человек в полувоенном френче, лицо которого показалось Леньке знакомым: портрет его он видел недавно в газете. — Не те времена, голубушка, чтобы обращать внимание на этакие тонкости. Пора называть вещи своими именами.
— И детям тоже?
— Увы, и детям тоже.
— Вовик, милый, ты не ушибся?
— Мы ускакали, — сказал Вовик.
За столом продолжался разговор, прерванный появлением мальчиков.
— Боже мой! Надвигается какой-то ужас.
— Ничего, ничего, Елена Павловна. Есть еще порох в пороховницах. Не с такими справлялись.
— В Учредительное они не пролезут во всяком случае. Будьте уверены. Задавим.
— Скажите, это правда, что генералы Корнилов и Деникин освобождены из-под ареста?
— Истинная правда, о которой не следует говорить громко.
— Вчера в Пассаже на моих глазах опять сорвали погоны с какого-то офицера...
— Пришьет. Невелика беда. Была бы голова на плечах.
— Папа, я тебе говорил, что Лешин отец был офицером?
— Говорил, Вовочка. Помню. Приятно... В каком же чине был ваш... гм... гм... родитель?
Ленька подумал, что на такое общество меньше чем полковником не угодишь. Но покраснел, кашлянул и сказал правду:
— Хогунжий.
Ему показалось, что гости и хозяева переглянулись насмешливо.
— Н-да. Это что же выходит — корнет или вроде этого? Значит, вы казак?
— Да, — гордо ответил Ленька. Он покосился на Волкова и увидел, что щеки того залились румянцем.
"Это он за меня стыдится", — понял Ленька.
Без всякого аппетита он ел горячую янтарную уху с рассыпчатыми слоеными пирожками. Пирожки застревали в горле, а мадам Волкова накладывала ему на тарелку все новые и новые порции и, улыбаясь, приговаривала:
— Кушайте, голубчик, кушайте...
На другом конце стола кто-то жиденьким голосом говорил:
— Не будем забывать, господа, что судьба России, а следовательно, и всех нас, решается в Учредительном собрании. Именно поэтому всеми силами, правдами и неправдами необходимо добиваться большинства...
— К сожалению, Оскар Осипович, правдами многого не добьешься, показывая ослепительные зубы, весело пробасил Волков-отец. — Неправдами оно как-то сподручнее, как выражаются у нас на работах десятники.
— Миша, расскажи про Пелагею, — перебила его жена.
— А-а, да!.. Пелагея! Это, имею честь доложить, наша оберкухмистерша, кухарка. Третьего дня я спрашиваю у этой особы: "Пелагеюшка, матушка, вы за кого, собственно, имеете намерение голосовать на предстоящих выборах?" А она: "Мне, — говорит, — Михаил Васильевич, все равно, за кого... Мне бы только чтобы телятина на рынке подешевше стала". — "Ах, так? — я говорю. Великолепно! В таком случае вам, почтеннейшая, следует голосовать за "Партию народной свободы". Не забудьте — избирательный список номер два".
За столом дружно захохотали.
— Вот это называется агитация! Чудесно! Правильно! Так и надо.
Ленька положил ложку, кашлянул и вдруг неожиданно для самого себя громко сказал:
— Ей бы надо за большевиков голосовать.
За столом сразу стало тихо. Все переглядывались и с удивлением смотрели на мальчика. Особенно страшно и даже зловеще, как показалось Леньке, смотрел на него бородатый Волков-отец.
— Почему-с? — тихо спросил он, подняв над тарелкой вилку.
— Потому, — смутился Ленька. — Потому что это их партия... рабочая...
Вокруг зашумели. Кто-то засмеялся. Кто-то неодобрительно крякнул.
— Позвольте, позвольте, — сказал хозяин, строго рассматривая Леньку. Собственно говоря... я не совсем понимаю... Вы с кем живете, юноша?
— Я... с мамой, — пробормотал Ленька.
— Вот как? А кто ваша мама?
— Она учительница музыки.
— Тэк-с.
Волков-отец посмотрел на Волкова-сына.
— А вы знаете, молодой человек, кто такие большевики?
— Нет, — краснея, ответил Ленька.
— Не знаете? Так знайте!
И, постукивая вилкой по краешку тарелки, хозяин строгим учительским голосом заговорил, обращаясь к одному Леньке:
— Большевики, милостивый государь, это тевтонские наемники, шпионы, заброшенные в наш тыл неприятельским штабом. За немецкие деньги эти бунтовщики сеют смуту в нашем отечестве, призывают рабочих к забастовкам, солдат к неповиновению. Это враги, которых надо ловить и расстреливать на месте без суда и следствия.
Ленька побледнел. Он вдруг вспомнил Стешу, ее сундучок в "темненькой", большевистский плакат, фотографию усатого человека в черном пальто...
Что же это? Неужели это правда? Неужели их горничная — тоже германская шпионка? От одной этой мысли куриная кость встала у него поперек горла.
Он уже не слушал больше Волкова-отца. Он думал о Стеше.
Как ему раньше не пришла в голову эта страшная догадка?! Ведь он столько раз читал в газетах о шпионах, он помнит, что в некоторых газетах называли шпионами большевиков. Почему же он не подумал до сих пор о Стеше?! Ведь горничная сама призналась, что она за большевиков...
Он с трудом досидел до конца обеда и решительно заявил, что должен идти домой. К удивлению его, ни родители Волкова, ни сам Волков не стали уговаривать его остаться.
— Иди, что ж, — сказал, позевывая, Волков, провожая Леньку в прихожую. — А у меня, ты знаешь, голова что-то разболелась. Я тебя проводить не могу. Дойдешь?
— Конечно, дойду, — сказал Ленька, всовывая руки в рукава шинели, которую ему подавала горничная.
На Крюковом канале он минут десять стоял у чугунной решетки, смотрел на черную сентябрьскую воду и с ужасом думал: что же это такое? Нет, нет, не может быть. Он вспомнил, что еще совсем недавно, на прошлой неделе, Стеша получила письмо с извещением, что брат ее тяжело ранен и лежит в госпитале под Могилевом. Он помнит, как страшно рыдала девушка, получив это извещение. Значит, она притворялась? Но ведь брат ее действительно ранен. Или, может быть, письмо было вовсе не от него?.. Может быть, у нее и брата никакого нет?..
Он стал припоминать... Вообще-то, если подумать, со Стешей давно уже творится неладное. Раньше она целыми днями сидела дома, не каждое воскресенье и в отпуск уходила. А теперь — чуть вечер, чуть стемнеет, чуть кончилась работа по дому, она уже — платок на голову и бегом со двора. Возвращается поздно, будит всех. Леньке вспоминается подслушанный им недавно разговор между Стешей и матерью.
— Опять вы, Стеша, вчера во втором часу вернулись...
— Да, барыня. Простите, я разбудила вас.
— Не в этом дело. Всё, милая, на танцы бегаете? Смотрите, голубушка, дотанцуетесь.
— Нет, барыня, — негромко отвечает Стеша. — Я не на танцах была...
А где же она была? Куда она так таинственно исчезает по вечерам?
О господи, даже подумать страшно!..
За три года войны Ленька столько наслушался о шпионах, такие невероятные истории ему приходилось и слышать и читать об этих вражеских лазутчиках, которые пролезают во все щели, маскируясь и трубочистами, и точильщиками и швейцарами (и даже царицами, как уверял Сережа Бутылочка), что неудивительно, если этот девятилетний мальчик, которому к тому же очень помогала богатая фантазия, в конце концов поверил, будто их горничная Стеша — тоже шпионка. Во всяком случае, когда он подходил к своему дому, он в этом уже почти не сомневался.
Открыла ему на звонок Александра Сергеевна. Щека ее была подвязана черным платком. На глазах блестели слезы. Опять у нее болели зубы.
— Ну как? Доволен? — сказала она, пробуя улыбнуться.
— Да, — коротко ответил Ленька. И сразу же спросил: — Стеша дома?
— Нет. Ушла.
— Куда?
— Откуда же я знаю? — пожала плечами Александра Сергеевна.
"Ага! Опять", — зловеще усмехнулся Ленька.
Он ничего не сказал матери и прошел в комнаты.
Теперь он уже не колебался. Теперь настало время действовать.
Ему было жаль Стешу. К девушке он привык, любил ее почти как родную, ведь с тех пор как он помнит себя, она жила у них в доме. Но что же делать! Если бы он знал, что его мать или бабушка — немецкие шпионы, он и их должен был бы безжалостно разоблачить. Это долг патриота, как пишут в газетах.
Он стал наблюдать за девушкой. Он потерял аппетит, плохо спал, хуже стал учиться. Теперь он не ложился спать до тех пор, пока Стеша не возвращалась домой. На цыпочках он подкрадывался к дверям "темненькой" и слушал.
Стеша выдвигала из-под кровати сундучок.
"Ага", — говорил себе Ленька.
Он прижимался глазом к замочной скважине и видел, как Стеша, согнувшись, сидит на кровати и при жиденьком свете керосиновой лампочки что-то пишет в тетрадке, лежащей у нее на коленях.
"Вот... вот, — переставая дышать, думал Ленька. — Записывает... сведения..."
...Наконец он решился на последний шаг. Он решил проследить: куда ходит Стеша по воскресеньям? Он знал, что у горничной в Петрограде нет родных. Значит, она ходит туда, где главные немцы собирают все сведения от своих шпионов. И вот, в ближайшее воскресенье, узнав, что Стеша отпросилась у хозяйки "со двора", Ленька пошел к матери и объявил ей, что ему необходимо сходить к Волкову, взять учебник русской истории Ефименко. Он сказал неправду. Во-первых, учебник этот он взял у Волкова еще на прошлой неделе, а во-вторых, — отношения с Волковым были у него теперь не такие, чтобы ходить друг к дружке в гости. Правда, они не поссорились, продолжали разговаривать, даже прогуливались иногда в перемену по училищным коридорам, но Леньке казалось, что Волков смотрит на него еще более высокомерно, свысока и даже как-то обиженно: будто Ленька в чем-то обманул его.
Получив от матери разрешение и дав ей клятвенное обещание быть осторожным, то есть ни в коем случае не попасть ни под трамвай, ни под автомобиль, ни под извозчика, Ленька оделся, спустился во двор и стал ждать. Минут через пятнадцать наверху хлопнула дверь, и он, как заправский сыщик, притаился за деревом, перестал дышать и навострил уши.
Вот по булыжникам двора застучали кованые каблучки Стешиных башмаков.
Он выглянул из-за дерева.
Помахивая жалким клеенчатым ридикюльчиком, Стеша перебежала двор, свернула под арку ворот и вышла на улицу.
Ленька побежал за ней следом, минуту постоял под воротами и осторожно высунул голову в калитку.
Горничная переходила улицу.
Надвинув на глаза фуражку и прижимаясь к стенам домов, он шел за ней, выдерживая расстояние, замедляя шаги, останавливаясь и снова прибавляя шагу.
Ему было немножко страшно и немножко стыдно, но чувство гордости и сознание, что он выслеживает и вот-вот поймает настоящую немецкую шпионку, подавляло все остальные чувства.
На Покровском рынке, в толпе покупателей и продавцов он на несколько минут потерял девушку из виду, испугался, заспешил — и чуть не столкнулся со Стешей, увидев перед самым носом ее черную кружевную косынку.
На Садовой у кинематографа "Нью-Стар" Стеша ненадолго остановилась, разглядывая картинки за проволочной сеткой витрины. Ленька перешел улицу и, делая вид, что любуется бутафорскими окороками и колбасами в витрине гастрономического магазина Бычкова, искоса посматривал в ее сторону.
У Крюкова канала Стеша свернула за угол. Ленька пошел быстрее и вдруг подумал, что Стеша идет тем самым путем, каким они ехали в прошлое воскресенье с Волковым. Как и в тот раз, на углу у лабаза толпились и шумели женщины. Стеша прошла мимо, потом постояла немного, вернулась и о чем-то недолго поговорила с женщинами.
"О чем это она их выспрашивает?" — подумал Ленька и уже хотел подойти к женщинам и спросить, о чем расспрашивала их эта подозрительная особа в черной косынке, но вспомнил давешнюю историю с камнем, глубже напялил фуражку и быстро перешел вслед за Стешей Пиколов мост.
На высокой колокольне Никольского морского собора гулко ударил большой колокол. Звонили к обедне. Ленька видел, как Стеша посмотрела в сторону церкви, голубовато белевшей за облетевшими деревьями Никольского сада, и прибавила шагу.
Но куда же она идет? Вот уже виден серый красивый дом, где живут Волковы. Неужели она идет к Волкову? Нет, свернула налево. Остановилась. Оглядывается. Ленька отбежал в сторону и спрятался за фонарем. Что это за здание, перед которым остановилась Стеша? Эти места мальчику хорошо знакомы. Еще в раннем детстве нянька водила их сюда гулять. Отлично знает он и этот длинный приземистый двухэтажный старинный дом, на фасаде которого, как на фуражке матроса, ленточкой вытянулись четкие металлические буквы:
ГВАРДЕЙСКIЙ ФЛОТСКIЙ ЭКIПАЖЪ
У Леньки холодеет сердце. Перед казармой стоит группа матросов. У полосатой будки прохаживается часовой, на плече он держит длинное ружье с плоским японским штыком. И вот Ленька видит, как Стеша подходит к матросам, что-то говорит им. Те смеются. Потом она направляется к часовому, показывает ему какую-то бумажку, еще раз воровато оглядывается и проходит во двор казармы.
Зубы у Леньки начинают стучать.
Вот оно что! Значит, он не ошибся. Шпионка! Настоящая шпионка! Ходит по военным казармам и собирает сведения.
А они-то! Матросы эти!.. Простофили этакие... Не знают, кого пропустили в казарму... Еще смеются, дурни!
Ленька хочет бежать и не может: ноги не держат его.
За углом показалась пролетка извозчика.
— Извозчик! — слабым голосом крикнул Ленька.
— Тпру!.. Пожалуйте, ваше благородие. Куда прикажете? Домчу в один миг.
Ленька назвал адрес, взобрался на облезлое сиденье, извозчик зачмокал, задергал вожжами, и пролетка, дребезжа, покатилась по булыжникам набережной...
Через двадцать минут Ленька был дома.
Скинув шинель, он прошел в "темненькую". Комната эта называлась так недаром. Слабый дневной свет едва проникал в нее сквозь одно-единственное окошко, находившееся на потолке.
Руки у Леньки дрожали, когда он выдвигал из-под Стешиной кровати красный, обитый жестяными полосками сундучок.
Он знал, что нехорошо лазать в чужие вещи. Он знал, что это — грех. Но что же делать?
На петельках сундука висел замочек. Ключа не было. Ленька пошарил под Стешиной подушкой. Ключа и там не оказалось.
Тогда он сбегал на кухню, принес тонкий колбасный нож и попробовал этим ножом открыть замок.
Замок не открывался.
Ленька уже сердился. Волосы на лбу у него взмокли.
Уже не думая о том, что он делает, он сунул черенок ножа в замочную дужку и с силой повернул его. Что-то хрустнуло, и маленький медный замочек упал к его ногам.
С трепетом он поднял крышку сундука. Первое, что он увидел, была книжка. На бледно-розовой обложке ее крупными буквами было напечатано: Карлъ Марксъ и Фридрихъ Энгельсъ. "Коммунистическiй Манифестъ". Под книжкой лежал уже знакомый ему плакат, под плакатом пожелтевшая фотография усатого человека, еще какие-то фотографии, деревенский кремовый платок с бахромой, отрез материи, коробки, банки, пустые пузырьки из-под маминых духов.
Пересиливая стыд, страх и брезгливость, Ленька рылся в этом жалком девичьем приданом, как вдруг услышал за дверью шаги матери.
Он едва успел захлопнуть крышку сундука и кое-как запихал его под кровать, когда Александра Сергеевна вошла в "темненькую".
— Кто это? Это ты, Леша?! Ты что тут делаешь?
— Ничего, — ответил Ленька, засовывая руки в карманы и пробуя улыбнуться. — Зашел, думал, что тут Стеша.
— Как думал? Ты же знаешь, что она ушла со двора. И что тебе, скажи, пожалуйста, далась эта Стеша.
"Сказать или не сказать?" — подумал Ленька.
— Иди сию же минуту в детскую, — строго сказала мать. — Тебе здесь не место.
Выходя из "темненькой", Ленька спросил у матери:
— Мама, скажи, пожалуйста... Кто такой Карл Маркс?
— Кто? Карл Маркс? Что за странный вопрос? Это... Ну, в общем... как тебе сказать? Впрочем, ты еще маленький. Вырастешь, тогда узнаешь.
Ленька заметил, что щеки у матери покраснели.
— Нет, правда, мама. Скажи...
— Ах, оставь, сделай милость! У меня и без того мучительно болят зубы.
"Сама не знает", — подумал Ленька.
Он прошел в детскую. Вася и Ляля сидели на полу у печки, играли в "военно-морскую игру". Ленька присел на корточки за Лялиной спиной, попробовал принять участие в игре, но мысли его разбегались.
"Нехорошо, — думал он. — Разворошил сундук и даже не закрыл его".
И кто такой этот Карл Маркс, которого читает Стеша?
Он вспомнил, что среди книг, оставшихся от отца, имеется многотомный энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Не один раз он прибегал к помощи этого словаря, когда в книге, которую он читал, встречалось незнакомое слово, вроде "идеал", "гармония", "фатальный", "инквизитор" или "брыжи".
В кабинете он застал мать. Александра Сергеевна стояла у раскрытого книжного шкафа и перелистывала большую толстую книгу в темно-зеленом коленкоровом переплете.
— Тебе что? — сказала она, оглянувшись и быстро захлопнув книгу.
— Ничего, — сказал Ленька. — Я только хотел посмотреть в словарь: кто такой Маркс?
Щеки матери опять залились румянцем.
— О господи? Какой ты, в самом деле, неугомонный! Ну, хорошо, отстань, пожалуйста! Маркс — это немецкий ученый. Экономист.
"Немецкий?! Ага! Вот оно... Все понятно".
— Что с тобой, мальчик? Ты побледнел... Тебе нездровится?
— Ничего, — сказал Ленька, опуская голову. Но он и в самом деле чувствовал, что внутри у него делается что-то нехорошее: в висках противно шумит, горло пересохло.
— И зачем тебе вдруг понадобилось знать, кто такой Маркс? Ты что — уж не в большевики ли хочешь записываться?..
"Маркс... немцы... большевики... шпионы" — все перемешалось в Ленькиной голове.
— Ну как? Был у Волкова?
— Был. Да... — хрипло ответил Ленька.
В это время в прихожей затрещал звонок. Александра Сергеевна пошла отворять. Ленька машинально взял книгу, которую она не успела поставить на место. Как он и думал, это был энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, том восемнадцатый — на букву М.
"Малолетство — Мейшагола", — прочел он на корешке книги.
Он стал перелистывать книгу, разыскивая слово "Маркс", и не заметил, как в комнату вернулась мать.
— Послушай, Леша! Что это значит? — негромко сказала она.
Ленька захлопнул книгу и оглянулся. Такого сердитого лица он еще никогда не видел у своей доброй матери.
— Я говорю: что это значит? Ты сказал мне неправду?
— Что? Какую неправду?
Мать посмотрела на дверь и еще тише сказала:
— К тебе пришел Волков.
У Леньки запылали уши.
— Оказывается, ты и не думал ходить к нему!
— Как не думал? Я был... Но мы разошлись. То есть я не застал его...
— Не лги! Фу! Какая гадость!..
Александра Сергеевна брезгливо поморщилась.
"Знала бы она, куда и зачем я ходил!" — подумал Ленька.
— Мамочка, милая, — зашептал он, схватив за руку мать. — Я... я после все тебе расскажу. Только, пожалуйста, не выдавай меня сейчас!
— Не выдавать? — усмехнулась Александра Сергеевна. — Увы, я, кажется, уже невольно выдала тебя. Впрочем, идем!..
Малолетний джентльмен в гордой позе стоял в прихожей у вешалки, прижимая к животу шляпу, тросточку и перчатки.
— Я к тебе на минуту, — сказал он, поздоровавшись с Ленькой. И, бросив усмешку в сторону Александры Сергеевны, добавил: — Ты, я слышал, был у меня?
— Да... то есть нет, — пробормотал Ленька.
— Оказывается, это я напутала, — улыбнулась Александра Сергеевна. Леша только собирался к вам...
Ленька предложил Волкову раздеться.
— Нет, благодарю, мне некогда. Я только хотел взять у тебя своего Ефименко. Ведь завтра у нас история. Ты не забыл?
— Я уже выучил, — унылым голосом промямлил Ленька и, покосившись в сторону матери, увидел, что на лице ее опять появилось гневное и огорченное выражение. Он принес книгу и, когда Волков попросил проводить его, быстро и охотно согласился. Объясняться с матерью ему сейчас не хотелось.
Когда они вышли на улицу, Волков оглянулся и сказал:
— Послушай, в чем дело? Зачем ты наврал своей маме, будто был у меня?
— Я не врал. Это она ошиблась, — мрачно ответил Ленька.
— Да? А ведь я знаю, где ты был.
— Где?
— Я видел тебя из окна. Я сам думал, что ты ко мне идешь.
— Ну?
— Ты был у матросов. А? Что, неправда? Покраснел?
— И не думал краснеть, — сказал Ленька, трогая рукой щеку. Почему-то ему было противно объяснять Волкову, зачем он ходил в экипаж.
— Был?
— Ну, и был.
Волков с усмешкой посмотрел на него.
— А ты, кажется, и в самом деле большевик?
— Я?! Ты что — с ума сошел?
— Неизвестно еще, кто сошел.
— Так чего ж ты ругаешься?
— А зачем же ты ходил к матросам?
— Ну, и ходил. Ну, и что?
— А то, что матросы все поголовно большевики. Может быть, ты этого не знаешь?..
Нет, Ленька этого не знал. Он остановился и испуганно посмотрел на товарища:
— Шпионы? Все?!
Волков громко расхохотался.
Ленька вдруг почувствовал, что у него стучат зубы. Его знобило.
— Что с тобой? — спросил Волков, переставая смеяться.
— Мне нездоровится. Я пойду домой. Извини, пожалуйста, — сказал Ленька.
Но домой он не пошел. От объяснений с матерью он ничего хорошего не ждал. Да и стыдно ему было: никогда в жизни он столько не врал и вообще не совершал столько проступков, как в этот день.
Часа полтора он слонялся по окрестным улицам, читал афиши и плакаты на стенах, останавливался у витрин магазинов, смотрел, как работает землечерпалка на Фонтанке...
У ворот Усачевских бань сидели и стояли, дожидаясь очереди, человек двадцать матросов. Эти веселые загорелые парни в черных коротких бушлатах и в серых парусиновых штанах ничем не напоминали шпионов. Под мышками у них торчали свертки с бельем, веники и мочалки.
Ленька подошел ближе, чтобы послушать, о чем говорят моряки. В это время из ворот бань вышел толстый, раскрасневшийся офицер с маленьким и тоже очень толстым и румяным мальчиком, которого он вел за руку. Два или три матроса поднялись и отдали офицеру честь, остальные продолжали сидеть. Молодой парень в надвинутой на нос бескозырке что-то сказал вдогонку офицеру. Товарищи его засмеялись. Офицер прошел мимо Леньки, и тот слышал, как толстяк заскрипел зубами и вполголоса сказал:
— Погодите, большевистские морды!..
Леньке вдруг захотелось в баню. Захотелось — на самую верхнюю полку, в самую горячую воду.
По спине его бегали мурашки, голова кружилась, зубы стучали.
...Было уже темно и на улице зажигались фонари, когда он вернулся домой.
Дверь ему открыл Вася. Глаза у малыша были круглые, как у филина, и сияли восторгом и ужасом.
— У нас воры были! — раскатисто на букве "р" объявил он, еще не успев как следует снять цепочку с двери.
— Что? Когда? Где? — оживился Ленька.
Как и любой другой мальчик на свете, он не мог не испытать радости при этом сообщении. Кто бы ни пострадал от воров — знакомые, родственники, родной отец или родная мать, — все равно сердце мальчика не может не дрогнуть от предвкушения тех ни с чем не сравнимых блаженств, которые сопутствуют обычно этому печальному происшествию. В квартире появляются дворники, околоточный, может быть, приедет настоящий сыщик, может быть, даже вызовут полицейскую собаку-ищейку.
Скинув шинель, Ленька уже собирался бежать в комнаты, но тут услышал за дверью "темненькой" Стешин голос, и сразу весь его пыл ушел, вместе с душой, в пятки. Стеша горько плакала и, всхлипывая, сквозь слезы говорила:
— Александра Сергеевна! Барыня! Да что же это! Кто же это мог! Вы посмотрите: все, все перерыто, перекомкано... И замок сломан... И петельки сдернуты...
Ленька заметался, кинулся обратно к вешалке, схватил в охапку шинель, но в эту минуту из "темненькой" быстрыми шагами вышла мать. Лицо ее под черной повязкой пылало. Увидев Леньку, она остановилась в дверях и тихим, дрогнувшим голосом проговорила:
— Боже мой! Создатель! Только этого и недоставало! Вор!
— Кто вор? — опешил Ленька.
— Вор! Вор! — повторила она, схватившись за голову. — В собственном доме — вор!
— Врет она! — закричал Ленька. — Притворяется... Изменница!..
Но мать не дала договорить ему.
— Идем за мной! — крикнула она и, схватив Леньку за руку, поволокла его в свою комнату.
— Уйди! — отбивался и руками и ногами Ленька. — Оставь меня! Я не вор... Отстань! Отпусти!..
Мать волокла его, приговаривая:
— Позор! Позор! Боже мой! Мерзость!.. Какая мерзость!..
— Отпусти меня! — закричал Ленька и, извернувшись, укусил мать за руку. Она вскрикнула, выпустила его и заплакала. Он тоже закричал на всю квартиру, повалился на кушетку и, уткнувшись лицом в подушки, зарыдал, забился в истерике...
Через минуту Александра Сергеевна уже сидела с ним рядом на низенькой кушетке, целовала мальчика в стриженый затылок и уговаривала:
— Леша! Ну, Лешенька! Ну, хватит, ну, успокойся, мое золотко. Ну, что с тобой, мой маленький?..
— Уйди! — бормотал он, стуча зубами. — Оставь меня! Ты же не знаешь! Ты ничего не знаешь...
Потом быстро поднял голову и, глядя матери прямо в глаза, прокричал:
— Ссте-те-те-ша... у нас... шпионка!
— Господи! — сквозь слезы рассмеялась Александра Сергеевна. — Какие глупости! С чего ты взял?
— Да? Глупости? Ты думаешь — глупости?
И, приподнявшись над подушкой, всхлипывая, глотая слезы, он рассказал матери все.
Терпеливо выслушав его, Александра Сергеевна грустно усмехнулась и покачала головой.
— Боже мой!.. И откуда у этого ребенка столько фантазии?
Потом подумала минутку, нахмурилась и сказала:
— Я не знала, что Стеша — большевичка. Но это, мой дорогой, вовсе не значит, что она шпионка.
— Как не значит? Ведь большевики — шпионы?
Александра Сергеевна еще раз поцеловала сына.
— Дурашка ты мой! Это только так говорят...
— Как "только говорят"?
— Ну... ты этого еще не поймешь. Вырастешь — тогда узнаешь.
В голове у Леньки стучало, как будто туда повесили тяжелый железный маятник. Что же это такое? Что значит "только говорят"? Значит, взрослые врут? Значит, инженер Волков наврал, когда говорил, что большевики — шпионы? Значит, и все его гости — эти почтенные, богатые, интеллигентные люди — тоже вруны и обманщики?!
Перед глазами у него все поплыло; замелькали, как бабочки, золотистые цветы на розовых обоях, потом эти бабочки стали темнеть, стали черными, стали расти, стали махать крыльями... Он почувствовал, как на лоб ему легла холодная рука матери, и услыхал ее громкий испуганный голос:
— Лешенька! Сынок! Что с тобой? У тебя жар! Ты весь горишь!..
Ленька хотел сказать: "Да, горю". Но губы его не разжимались. Плечи и горло сводило судорогой. В голове стучали железные молотки.
— Стеша! Стеша! Скорей! Принесите градусник! Он в детской, в комоде, во втором ящике...
Это были последние слова, которые услышал Ленька.
ГЛАВА III
Он проболел сорок восемь дней. Три недели из них он пролежал в бреду, без сознания, в борьбе между жизнью и смертью. А это были как раз те великие дни, которые потрясли мир и перевернули его, как землетрясение переворачивает горы.
Это был октябрь семнадцатого года.
Ленька лежал с температурой 39,9 в тот день, когда крейсер "Аврора" вошел в Неву и бросил якоря у Николаевского моста.
В Смольный прибыл Ленин.
Красная гвардия занимала вокзалы, телеграф, государственный банк.
Зимний дворец, цитадель буржуазного правительства, осаждали революционные войска и рабочие.
А маленький мальчик, разметав подушки и простыни, стонал и задыхался в постели, отгороженной от остальной комнаты и от всего внешнего мира шелковой японской ширмой.
Он ничего не видел и не слышал. Но когда помутненное сознание ненадолго возвращалось к нему, начинались бред и кошмары. Безотчетный страх нападал в эти минуты на мальчика. Кто-то преследовал его, от чего-то нужно было спасаться, что-то страшное, большеглазое, чернобородое, похожее на Волкова-отца, надвигалось на него. И одно спасение было, один выход из этого ужаса — нужно было связать из шерстяных ниток красный крест. Ему казалось, что это так просто и так легко — связать крючком, каким вяжут варежки и чулки, красный крест, сделав его полым, в виде мешка, вроде тех, что напяливают на чайники и кофейники...
Иногда ночью он открывал воспаленные глаза, видел над собой похудевшее лицо матери и, облизав пересохшие губы, шептал:
— Мамочка... миленькая... свяжи мне красный крест!..
Уронив голову ему на грудь, мать тихо плакала. И он не понимал, чего она плачет и почему не хочет исполнить его просьбу, такую несложную и такую важную.
...Но вот организм мальчика справился с болезнью, наступил перелом, и постепенно сознание стало возвращаться к Леньке. Правда, оно возвращалось медленно, клочками, урывками, как будто он тонул, захлебывался, шел ко дну, и лишь на минуту страшная тяжесть воды отпускала его, и он с усилиями всплывал на поверхность — чтобы глотнуть воздуха, увидеть солнечный свет, почувствовать себя живым. Но и в эти минуты он не всегда понимал, где сон и где явь, где бред и где действительность...
Он открывает глаза и видит возле своей постели тучного человека с черными усиками. Он узнаёт его: это доктор Тувим из Морского госпиталя, их старый домашний врач. Но почему он не в форме, почему на плечах его не видно серебряных погон с якорями и золотыми полосками?
Доктор Тувим держит Леньку за руку, наклоняется к его лицу и, улыбаясь широкой дружелюбной улыбкой, говорит:
— Ого! Мы очнулись? Ну, как мы себя чувствуем?
Леньку и раньше смешила эта манера доктора Тувима говорить о других "мы"... Почему-то он никогда не скажет: "выпей касторки" или "поставьте горчичник", а всегда — "выпьем-ка мы касторки" или "поставим-ка мы горчичничек", — хотя сам при этом горчичников себе не ставит и касторку не пьет.
— Мы не имеем намерения покушать? — спрашивает он, поглаживая Ленькину руку.
Ленька хочет ответить, пробует улыбнуться, но у него хватает сил лишь на то, чтобы пошевелить губами. Голова его кружится, доктор Тувим расплывается, и Ленька опять проваливается, уходит с головой в воду. Последнее, что он слышит, это незнакомый мужской голос, который говорит:
— На Лермонтовском опять стреляют.
Однажды ночью он проснулся от страшного звона. В темную комнату с ураганной силой дул холодный уличный ветер.
Он услышал голос матери:
— Стеша! Стеша! Да где же вы? Дайте что-нибудь... Подушку или одеяло...
— Барыня! Да барыня! Отойдите же от окна! — кричала Стеша.
Он хотел спросить: "что? в чем дело?", хотел поднять голову, но голос его не слушался, и голова бессильно упала на подушку.
...Но теперь он просыпался все чаще и чаще.
Он не мог еще говорить, но мог слушать.
Он слышал, как на улице стучал пулемет. Он слышал, как с грохотом проносились по мостовой броневые автомобили, и видел, как свет их фар грозно и быстро пробегал по белому кафелю печки.
Он начинал понимать, что что-то случилось.
Один раз, когда Стеша поила его холодным клюквенным морсом, он набрался сил и шепотом спросил у нее:
— Что?..
Она поняла, засмеялась и громко, как глухому, сказала:
— Наша власть, Лешенька!..
Он не сразу понял, о чем она говорит. Какая "наша власть"? Почему "наша власть"? Но тут, как это часто бывает после болезни, какой-то выключатель повернулся в Ленькиной голове, яркий луч осветил его память, и он вспомнил все: вспомнил матросов-большевиков из гвардейского экипажа, вспомнил, как он крался за Стешей по Садовой и по Крюкову каналу, вспомнил и сундучок, и замок, и энциклопедический словарь Брокгауза... Уши у него загорелись, и, приподнявшись над подушкой, он с жалкой улыбкой посмотрел на горничную и прошептал:
— Стеша... простите меня...
— Ничего, ничего... Полно вам... Лежите! Глупенький вы, — засмеялась девушка, и Леньке вдруг показалось, что она помолодела и похорошела за это время. Таким веселым и свободным смехом она никогда раньше не смеялась.
В это время за дверью "темненькой" кто-то громко закашлялся.
— Кто это там? — прошептал Ленька.
— Никого там нет, Лешенька. Лежите, — засмеялась девушка.
— Нет, правда... Кто-то ходит.
Стеша быстро нагнулась и, пощекотав губами его ухо, сказала:
— Это мой брат, Лешенька!
— Тот?
— Тот самый.
Ленька вспомнил фотографию с обломанными углами и усатого человека в круглой, похожей на пирог шапке.
— Он жив?
— Живой, Лешенька. На три дня из Смоленска приезжал. Сегодня уезжает.
Скрипнула дверь.
— Стеня, можно? — услышал Ленька мягкий мужской голос.
Стеша кинулась к двери.
— Ш-ш... Ш-ш... Куда ты, колоброд? Разве можно сюда?!
— Ты куда, коза, мою кобуру от браунинга засунула? — негромко спросил тот же голос.
— Какую еще кобуру? Ах, кобуру?..
Ленька приподнял голову, хотел посмотреть, но никого не увидел — только услышал легкий запах табачного дыма, просочившийся в комнату.
А вечером он опять проснулся. Разбудил его шепелявый старческий голос, который с придыханием проговорил над его изголовьем:
— Бедный маленький калмычонок... В какое ужасное время он родился!..
Он открывает глаза и вздрагивает. Он видит перед собой страшное, черное, выпачканное сажей лицо. Кто это? Или что это? Ему кажется, что он опять бредит. Но ведь это генеральша Силкова, старуха вдова, живущая во флигеле, в шестом номере. Он хорошо знает ее, он помнит эту маленькую чистенькую старушку, ее румяное личико, обрамленное траурной кружевной наколкой, ее строгую, чинную походку... Почему же она сейчас такая страшная? Что с ней случилось? Остановившимся взглядом он смотрит на старуху, а она наклоняется к нему, часто-часто мигает маленькими слезящимися глазками и шепчет:
— Спи, спи, деточка... Храни тебя бог!..
И страшная костлявая рука поднимается над Ленькой, и грязные, черные, как у трубочиста, пальцы несколько раз крестят его.
Он вскрикивает и закрывает глаза. А через минуту слышит, как за ширмой мать громким шепотом уговаривает старуху:
— Августа Марковна!.. Ну, зачем это вы? Что вы делаете? Ведь, в конце концов, это негигиенично... В конце концов, заболеть можно...
— Нет, нет, не говорите, ма шер, — шепчет в ответ старуха. — Нет, нет, милая... Вы плохо знаете историю. Во времена Великой революции во Франции санкюлоты, голоштанники[20], именно по рукам узнавали аристократов. Именно так. Именно, именно, вы забыли, голубчик, именно так.
Голос у генеральши дрожит, свистит, делается сумасшедшим, когда она вдруг начинает говорить на разные голоса:
— "Ваши ручки, барыня!" — "Вот мои руки". — "А почему ваши руки белые? Почему они такие белые? А?" И — на фонарь! Да, да, ма шер, на фонарь! Веревку на шею и — на фонарь, а ля лянтерн!.. На фонарь!..
Генеральша Силкова уже не говорит, а шипит.
— И к нам придут, ма шер. Вот увидите... И нас не минует чаша сия... Придут, придут...
"Кто придет?" — думает Ленька. И вдруг догадывается: большевики! Старуха боится большевиков. Она нарочно не моет рук, чтобы не узнали, что она — аристократка, вдова царского генерала.
Его опять начинает знобить. Делается страшно.
"Хорошо, что я не аристократ", — думает он, засыпая. И почему-то вдруг вспоминает Волкова.
"А Волков кто? Волков — аристократ? Да, уж кто-кто, а Волковы, конечно, самые настоящие аристократы..."
...Он спит долго и крепко. И опять просыпается от грохота. Кто-то властно стучит железом о железные ворота. На улице слышатся голоса. Из маминой спальни, куда на время переселились Вася и Ляля, доносится детский плач.
— Стеша! Стеша! — приглушенно кричит Александра Сергеевна. — Что там случилось? Голубушка, подите узнайте...
— Хорошо, Александра Сергеевна... сейчас... узнаю, — спокойно отвечает Стеша, и слышно, как в "темненькой" чиркают спичками... Шлепают босые Стешины ноги. Через минуту на кухне хлопает дверь.
Ленька лежит, не двигается, слушает. На улице и во дворе тихо, но воспаленному воображению мальчика чудятся голоса, выстрелы, стоны...
Опять хлопнула дверь.
— Стеша, это вы?
— Я, барыня.
— Ну, что там такое?
— Да ничего, барыня. Матросы и красногвардейцы ходят. С обыском пришли. Оружие ищут.
— Куда же они пошли?
— В шестой номер, к Силковой.
— Боже мой! Несчастная! Что она переживает, — со вздохом говорит Александра Сергеевна, и Ленька чувствует, как у него от ужаса шевелятся на голове волосы, или, вернее, то, что осталось от них после стрижки под нулевую машинку.
"На фонарь! На фонарь!" — вспоминается ему шепелявый шепот генеральши. Он сбрасывает одеяло, садится, ищет в темноте свои стоптанные ночные туфли. Ему страшно, он весь трясется, но в то же время он не в силах превозмочь жадного любопытства и желания увидеть своими глазами последние минуты несчастной генеральши. Он не сомневается, что она уже висит на фонаре. Он ясно представляет ее — чинную и строгую, висящую со сложенными на груди руками и с молитвенным взором, устремленным в небеса.
Накинув на плечи одеяло и шатаясь от слабости, он пробирается на цыпочках в прихожую, единственное окно которой выходит во двор. Перед самым окном растет тополь, под тополем стоит газовый фонарь.
Зажмурившись, Ленька приближается к окну. Открыть глаза он боится. Целую минуту он стоит плотно прищурившись, потом набирается храбрости и разом открывает оба глаза.
На фонаре никого еще нет. На улице идет дождь, фонарь ярко светится, и дождевые капли косо бегут по его трапециевидным стеклам.
Где-то в глубине двора, во флигеле, глухо хлопнула дверь. Ленька прижимается к стеклу. Он видит, как через двор идут какие-то черные фигуры. В темноте что-то блестит. И опять ему кажется, что из темноты доносятся стоны, слезы, приглушенные крики...
"Идут... вешать", — догадывается он и с такой силой прижимается лбом к холодному стеклу, что стекло под его тяжестью скрипит, дрожит и гнется.
Но люди минуют фонарь, проходят дальше, и мгновенье спустя Ленька слышит, как внизу, на черной лестнице, противно визжит на блоке входная дверь.
"К нам пошли!" — соображает он. И, угрем соскользнув с подоконника, теряя на ходу туфли, он бежит в детскую. Из маминой спальни доносится приглушенная песня. Укачивая Лялю, Александра Сергеевна вполголоса поет:
Спи, младенец мои прекрасный,
Баюшки-баю...
Тихо светит...
— Мама! — кричит Ленька. — Мама!.. Мамочка... Идут к нам... Обыск!..
И не успевает он произнести это, как на кухне раздается порывистый звонок.
С бьющимся сердцем Ленька вбегает в детскую. Одеяло сползает с его плеч. Он подтягивает его — и вдруг видит свои руки.
Они белые, бледные, даже бледнее, чем обычно. Тонкие голубые жилки проступают на них, как реки на географической карте.
Несколько секунд Ленька думает, смотрит на руки, потом кидается к печке, присаживается на корточки и, обжигаясь, открывает раскаленную медную дверцу.
В глубине печки еще мелькают красные угольки. Зола еще не успела остыть. Не задумываясь, он пригоршнями берет эту теплую мягкую массу и по самые локти намазывает ею руки. Потом то же самое делает с лицом.
А на кухне уже слышатся мужские голоса, стучат сапоги.
— Кто проживает? — слышит Ленька резкий грубоватый голос.
— Учительница, — отвечает Стеша.
Приоткрыв на полвершка дверь, Ленька выглядывает на кухню.
У входных дверей стоит высокий, статный, похожий на Петра Великого матрос. Черные усики лихо закручены кверху. Грудь перекрещена пулеметными лентами. В руке винтовка, на поясе деревянная кобура, на левом боку — тесак в кожаных ножнах.
За спиной матроса толпятся еще несколько человек: два или три моряка, один штатский с красной повязкой на рукаве и женщина в высоких сапогах. Все они с винтовками.
На кухне появляется Александра Сергеевна. Правой рукой она придерживает заснувшую у нее на плече Лялю, левой застегивает капот и поправляет прическу.
— Здравствуйте, — говорит она. — В чем дело?
Говорит она спокойно, как будто на кухню пришел почтальон или водопроводчик, но Ленька видит, что мать все-таки волнуется, руки ее слегка дрожат.
Высокий матрос прикладывает руку к бескозырке.
— Хозяйка квартиры вы будете?
— Я.
— Учительница?
— Да. Учительница.
— Проживаете одни?
— Да. С тремя детьми и с прислугой.
— Вдовая?
— Да, я вдова.
Великан смотрит на женщину с сочувствием. Во всяком случае, так кажется Леньке.
— А чему же вы, простите за любопытство, учите? Предмет какой?
— Я учительница музыки.
— Ага. Понятно. На пианине или на гитаре?
— Да... на рояле.
— Понятно, — повторяет матрос и, повернувшись к своим спутникам, отдает команду:
— Отставить! Вира...
Потом еще раз подбрасывает руку к фуражке, на ленточке которой тускло поблескивают вытершиеся золотые буквы "Заря Свободы", и говорит, обращаясь к хозяевам:
— Простите за беспокойство. Разбудили... Но ничего не поделаешь революцьонный долг!..
Ленька как зачарованный смотрит на красавца матроса. Никакого страха он уже не испытывает. Наоборот, ему жаль, что сейчас этот богатырь уйдет, скроется, растворится, как сновидение...
В дверях матрос еще раз оборачивается.
— Оружия, конечно, не водится? — говорит он с деликатной усмешкой.
— Нет, — с улыбкой же отвечает Александра Сергеевна. — Если не считать столовых ножей и вилок...
— Благодарим. Вилок не требуется.
И тут Ленька врывается на кухню.
— Мама, — шепчет он, дергая за рукав мать. — Ты забыла. У нас же есть...
Матрос, который не успел уйти, резко поворачивается.
— Тьфу, — говорит он, вытаращив глаза. — А это что за шимпанзе такой?
Товарищи его протискиваются в кухню и тоже с удивлением смотрят на странное черномазое существо, закутанное в зеленое стеганое одеяло.
— Леша!.. Ты что с собой сделал? Что с твоим лицом? И руки! Вы посмотрите на его руки!..
— Мама, у нас же есть, — бормочет Ленька, дергая мать за рукав капота. — Ты забыла. У нас же есть.
— Что у нас есть?
— Огужие...
И, не слыша хохота, который стоит за его спиной, он бежит в коридор.
Обитый латунью сундук чуть не под самый потолок загроможден вещами. Вскарабкавшись на него, Ленька торопливо сбрасывает на пол корзины, баулы, узлы, шляпные картонки... С такой же поспешностью он поднимает тяжелую крышку сундука. Ядовитый запах нафталина сильно ударяет в нос. Зажмурившись и чихая, Ленька лихорадочно роется в вещах, вытаскивает из сундука старинные шашки, подсумки, стремена, шпоры...
Нагруженный этой казачьей амуницией, он возвращается на кухню. Зеленое одеяло волочится за ним, как шлейф дамского платья...
Опять его встречает хохот.
— Что это? — говорит великан матрос, с улыбкой разглядывая принесенные Ленькой вещи. — Откуда у вас взялось это барахло?
— Это вещи моего покойного мужа, — говорит Александра Сергеевна. — В девятьсот четвертом году он воевал с японцами.
— Понятно. Нет, мальчик, этого нам не надо. Это вы лучше в какой-нибудь музей отнесите. А впрочем... постой... Пожалуй, эта сабелька пригодится...
И, повертев в руках кривую казацкую шашку, матрос лихо засовывает ее за пояс, на котором уже и без того навешано оружия на добрых полвзвода.
...Через десять минут Ленька сидит в постели. На табурете возле него стоит таз с теплой водой, и Александра Сергеевна, засучив рукава, моет мальчика ноздреватой греческой губкой. Стеша помогает ей.
— А вы знаете, Стеша, — говорит Александра Сергеевна. — Пожалуй, эти красногвардейцы вовсе не такие уж страшные. Они даже славные. Особенно этот, который за главного у них, с гусарскими усиками...
— А что ж, барыня, — обиженно отвечает Стеша. — Что они — разбойники, что ли? Это ж не с Канавы какие-нибудь. Это революционная охрана. А они потому добрых людей по ночам будят, что некоторая буржуазия привычку взяла оружие припрятывать. Вы знаете, что намеднись в угловом доме у одной статской советницы нашли?
Леньке течет в уши мыльная вода. Он боится прослушать, вырывается из Стешиных рук и спрашивает:
— Что? Что нашли?
— А, чтоб вас, ей-богу! — говорит Стеша. — Забрызгали всю. Не прыгайте вы, пожалуйста!.. Целый пулемет в ванне у нее стоял. И патронов две тыщи. Вот что!..
...Эти ночные приключения могли плохо кончиться для больного мальчика. Но, вероятно, он уже так долго болел, что болезням в конце концов надоело возиться с ним и они оставили его. Через неделю он чувствовал себя настолько хорошо, что доктор Тувим позволил ему встать. А еще через две недели, закутанный по самый нос шарфами и башлыками, он впервые вышел во двор.
Уже давно выпал снег. Он лежал на крышах, на карнизах, на ветвях старого тополя, на перекладинах фонаря...
Ленька стоял у подъезда и, задрав как галчонок голову, с наслаждением глотал чистый, морозный, пахнущий дымом и антоновскими яблоками воздух.
Заскрипел снег. Он оглянулся. Через двор шла, опираясь на палку, генеральша Силкова. Чистенькое румяное личико ее на морозе еще больше закраснелось. Белый кружевной воротничок выглядывал из-под рыжего лисьего боа, хвостик которого висел у Силковой на груди, а пучеглазая острая мордочка с высунутым розовым язычком уставилась генеральше в затылок.
Ленька смотрел на Силкову, как на привидение.
Когда старуха проходила мимо, он с трудом шаркнул по глубокому снегу ногой и сказал:
— Здравствуйте, мадам... Значит, вас не повесили?
— Что ты говоришь, деточка? — спросила, останавливаясь, Силкова.
— Я говорю: вас не повесили?
— Нет, бедное дитя, — ответила старуха и, тяжело вздохнув, пошла дальше.
...В училище Ленька вернулся перед самыми рождественскими каникулами. Он пропустил больше двух месяцев и, хотя последние две недели усиленно занимался дома, боялся все-таки, что намного отстал от класса. Однако, когда он пришел в реальное и увидел, какие там царят порядки, он понял, что опасаться ему было совершенно нечего.
Первое, что бросилось ему в глаза, это то, что класс его сильно поредел. На многих партах сидело по одному ученику, а на некоторых и вообще никого не было.
— Куда же все мальчики девались? — спросил он у своего соседа Тузова-второго.
— Не знаю. Уж давно так, — ответил Тузов-второй. — Кто болен, кто по домашним обстоятельствам не ходит, а кто и вообще перестал заниматься.
— А Волков?
— Волков, кажется, уж целый месяц не появлялся.
"Наверно, тоже болен", — решил Ленька.
В училище было холодно. Батареи парового отопления еле-еле нагревались. Во многих окнах стекла были пробиты винтовочными пулями и наскоро заделаны круглыми деревянными нашлепками. В перемену Ленька заметил, что многие старшеклассники разгуливают по коридору училища в шинелях.
По-прежнему главный центр училищной жизни находился в уборной. Как и раньше, там целыми днями шли дебаты, но Леньке показалось, что теперь эти споры и перепалки стали гораздо острее. Чаще слышались бранные слова. Чаще возникали потасовки... И еще одно наблюдение сделал Ленька: в этих спорах и потасовках больше всего доставалось тому, кто отваживался защищать большевиков...
Перед большой переменой в класс пришел классный наставник Бодров и объявил, что уроков сегодня больше не будет, ученики могут расходиться по домам.
Никто, кроме Леньки, не удивился.
— Это почему? Что случилось? — спросил он у выходившего вместе с ним из класса мальчика. Это был смешливый, вечно улыбающийся паренек — Коля Маркелов, внук училищного вахтера.
— А что? Ничего не случилось, — улыбнулся Маркелов. — У нас теперь почти каждый день такая волынка. То кочегарка почему-то не работает, то учителя саботируют, то старшеклассники бастуют.
"Как это бастуют? — не понял Ленька. — Бастуют рабочие на заводах, а как же могут бастовать ученики и тем более учителя?"
...Выйдя из училища, Ленька решил сразу домой не идти, а пошататься немного по улицам. Он так долго проторчал в четырех стенах, что не мог отказать себе в этом удовольствии.
Обогнув огромный Троицкий собор, полюбовавшись, как всегда, на памятник Славы[21], сделанный из ста двадцати восьми пушек, он вышел на Измайловский, перешел мост и побрел по Вознесенскому в сторону Садовой.
День был яркий, зимний. Приятно похрустывал снег под ногами. Скрипели полозья извозчичьих санок. Откуда-то из-за Ленькиной спины, из-за башни Варшавского вокзала холодно светило луженое зимнее солнце.
На первый взгляд никаких особенных изменений на улицах за это время не произошло. В Александровском рынке бойко шла торговля. На рундуке газетчика у черного с черепичными башенками Городского дома, угол Садовой и Вознесенского, лежали все те же газеты: "Новое время", "Речь", "Русская воля", "Петроградский листок"... Не было, правда, уже "Кузькиной матери", но зато появились газеты, каких Ленька раньше не видел: "Известия Петроградского Совета", "Правда", "Солдатская правда"...
У дверей булочной Филиппова стояла длинная очередь. На каланче Спасской части маячил тулуп дозорного. По Садовой от Покрова шла скромная похоронная процессия... На площадке против Никольского рынка деревенский парень, подпоясанный красным кушаком, торговал рождественскими елками. Все было, как и в прошлом году, как и пять лет тому назад. Но не все было по-старому. Были изменения, которые бросались в глаза.
Уличная толпа стала проще. Не видно было шикарных лихачей, санок с медвежьими полостями, нарядных дам, блестящих офицеров. Ленька даже вздрогнул, когда увидел вдруг шедшего ему навстречу низенького тучного господина в бобровой шапке, с золотым пенсне на носу и в высоких черных ботах. Этого господина он видел осенью у Волковых. Он уже хотел поклониться, но тут заметил, что господин этот идет не один, — по правую и левую руку от него шагали два очень сурового вида человека с винтовками и с красными повязками на рукавах.
Ленька поежился. Опять он вспомнил Волкова.
"Зайду, узнаю, что с ним", — решил он. Тем более что Крюков канал был совсем рядом.
Поднявшись по зашарканной ковровой дорожке в бельэтаж, он долго стоял перед высокой парадной дверью и нажимал пуговку звонка. Никто не открыл ему.
Когда он спускался вниз, из швейцарской вышел сутулый небритый старик в валенках и в черной фуражке с золотым галуном.
— Вы к кому? — спросил он Леньку.
— Вы не знаете, куда девались Волковы из первого номера? — сказал Ленька. — Я звонил, звонил, никто не отвечает.
— И не ответят, — угрюмо ответил швейцар.
— Как? Почему не ответят? А где же они?
Швейцар посмотрел на тщедушного реалиста, словно раздумывая, стоит ли вообще объясняться с таким карапетом, потом смилостивился и ответил:
— Уехали со всем семейством на юг, в свое именье.
На другой день в училище Ленька сообщил об этом Маркелову, который спросил у него, не видел ли он Волкова.
— Волков уехал на юг, — сказал он.
— Уехал?! — рассмеялся Маркелов. — Скажи лучше — не уехали, а смылись!
— Как это смылись? — не понял Ленька.
Тогда эти воровские, "блатные" словечки в большом количестве появились не только в обиходе мальчиков, но и в разговорном языке многих взрослых. Объясняется это тем, что Временное правительство перед своим падением выпустило из тюрем уголовных преступников. Этот темный люд, рассеявшись по городам и весям страны, занимал не последнее место среди врагов, с которыми потом пришлось бороться молодой Советской власти.
— Что значит смылись? — удивленно переспросил Ленька.
— Чудак! — засмеялся Маркелов. — Ну, убежали, стрекача задали. Сейчас вашему брату — сам знаешь — амба! А у Волкова-папаши тоже небось рыльце в пуху!..
— Какому нашему брату? — обиделся Ленька. — Ты что ругаешься? Я не аристократ.
— А ты кто? Ты за какую партию?
— Я казак, — по привычке ответил Ленька.
Эта зима была очень трудная. На окраинах страны начиналась гражданская война. В Петрограде и в других городах все сильнее и сильнее давал себя чувствовать голод. Цены на продукты росли. На рынках появилась в продаже конина. Черный хлеб, который Леньку еще так недавно силой заставляли есть за обедом с супом и жарким, незаметно превратился в лакомство, вроде торта или пирожных.
Ленькина мать по-прежнему бегала по урокам, доставать которые с каждым днем становилось труднее. Все так же у нее болели зубы. И по вечерам, когда она, как всегда, перед сном целовала и крестила детей, Ленька чувствовал тошнотворно-приторный запах чеснока и ландыша.
В середине зимы Стеша поступила работать на завод "Треугольник". Из Ленькиной семьи она не ушла, продолжала жить в "темненькой", даже помогала, чем могла, Александре Сергеевне. Чуть свет, задолго до фабричного гудка вставала она, чтобы занять очередь за хлебом или за молоком в магазине "Помещик" на Измайловском. Вернувшись с работы, она перемывала посуду, выносила мусор, мыла полы на кухне и в коридорах... Александра Сергеевна пробовала заняться хозяйством сама. Готовить она умела, так как училась когда-то, в первые годы замужества, на кулинарных курсах. Но когда она попробовала однажды вымыть в детской пол, к вечеру у нее так разболелась спина, что Леньке пришлось спешно бежать к Калинкину мосту за доктором Тувимом.
Зима, которая тянулась бесконечно долго, казалась Леньке какой-то ненастоящей. И учились не по-настоящему. И ели не так, как прежде. И печи не всегда были теплые.
Кто виноват во всем этом, где причина начавшейся разрухи. Ленька не понимал, да и не очень задумывался над этим. В десять лет человек живет своими, часто гораздо более сложными, чем у взрослых, интересами. Правда, и в этом возрасте Ленька не был похож на своих сверстников. Он не бегал на каток, не заводил во дворе или на улице дружков-приятелей, не увлекался французской борьбой, не коллекционировал марок... Как и раньше, самым дорогим его сердцу местом был его маленький, похожий на школьную парту рабочий столик. Он по-прежнему запоем читал, сочинял стихи и даже составил небольшую брошюру под названием "Что такое любовь", где говорилось главным образом о любви материнской и где приводились примеры из Достоевского, Тургенева и Толстого. Этот философский трактат он заставил переписать от руки в десяти экземплярах Васю, который уже второй год учился в приготовительных классах и который мог взять на себя этот чудовищный труд не иначе, как из очень большого уважения к брату. У самого Васи, который рос и здоровел не по дням, а по часам, никаких склонностей к литературным занятиям не было.
Весной, когда Ленька успешно перешел во второй класс (что было в тех условиях вовсе не трудно), пришло письмо от няньки. Она писала, что детям нужно отдыхать, а времена наступили трудные, все дорого, и навряд ли Александра Сергеевна будет снимать в этом году дачу. Не соберется ли она с ребятками на лето к ней в деревню?
Вечером, когда все сошлись в столовой, Александра Сергеевна огласила это письмо перед своими домочадцами.
— Ну, как по-вашему: едем или не едем? — спросила она своих птенцов.
— Едем! — в один голос пропищали птенцы.
— А вы, Стеша, что думаете на этот счет?
— А что ж, — сказала Стеша. — Конечно, поезжайте... Времечко такое, что летом, может, еще хуже, голоднее будет, особенно у нас в Петрограде.
— Может быть, и вы, Стеша, поедете? — с робкой надеждой посмотрела на девушку Александра Сергеевна.
Но Стеша решительно замотала головой.
— Нет, Александра Сергеевна, — сказала она. — Я из Питера не уеду. Мое место — здесь. Имущество ваше сберегу — не тревожьтесь. А вы за эту услугу и мне услугу окажите — поклонитесь от меня матушке Волге. Ведь я тамошняя из-под Углича.
И вот Ленька впервые в жизни отправился в дальний путь — в Ярославскую губернию.
Когда, перед тем как ехать на вокзал, он усаживался на извозчика и с хохотом принимал из Стешиных рук бесчисленные чемоданы, узлы, тючки и корзинки, он не знал и знать не мог, что путешествие его затянется надолго и что на этом пути, который начинался так легко и весело, ждут его очень сложные передряги и суровые испытания.
ГЛАВА IV
Испытания начались гораздо раньше, чем Ленька и его семья добрались до места назначения.
От Петрограда до станции Лютово поезд шел пять с половиной суток. В мирное время эту поездку можно было совершить за десять-двенадцать часов. От станции до деревни Чельцово предстояло сделать еще 16 верст. Оставив вещи под присмотром ребят на станции, Александра Сергеевна отправилась на розыски подводы, которую обещала выслать за нею нянька. Через пять минут она вернулась в сопровождении маленького рыжебородого человека в высоком темно-синем картузе и в сапогах с очень низенькими сморщенными голенищами.
— Третьи сутки на станции живу, — мрачно говорил этот человек, постегивая себя кнутом по голенищу. — Знал бы, не ехал.
— Простите, голубчик, мы не виноваты, — заискивающим тоном отвечала ему Александра Сергеевна. — Вы же знаете, наверное, — железные дороги работают отвратительно, мы сами измучились.
Рыжебородый остановился перед горой чемоданов и корзинок, на вершине которой, вцепившись грязными пальцами в веревки, сидели маленькие, очень усталые на вид мальчик и девочка. Рядом, с дамской сумкой в руках, стоял хмурый бледнолицый реалист в черной измятой шинели. Возница медленно обошел этот маленький табор, деловито осмотрел его, что-то прикинул в уме и, покачав головой, крякнул.
— Н-да, — сказал он. — Гардероп! Ну, что ж. Только я вот что тебе скажу, барыня... Вы как хотите, а я за ту цену, что мы рядились, ехать не согласный. Я за три дни на одно сено две романовских красненьких извел.
— Хорошо, хорошо, конечно, — перебила его, покраснев, Александра Сергеевна. — Вы, пожалуйста, скажите, сколько вам следует, я заплачу.
Мужичок задумался, снял картуз, почесал в затылке.
— Спирт есть? — сказал он наконец.
— Нет, — ответила, улыбнувшись, Александра Сергеевна.
— А мыло?
— Мыла немножко есть.
— А чай?
— Чай найдется.
— А сахар?
— Сахар есть.
— А соль?
— И соль есть.
— А материе какое-нибудь? Ситец там или сатинет...
— Послушайте, — не выдержав, рассердилась Александра Сергеевна. — Вы что — в магазин пришли, в лавку? Скажите мне, сколько вы хотите денег, и я вам, не торгуясь, заплачу.
— Денег! — усмехнулся возница. — А что мне, скажи на милость, делать с твоими деньгами? Стены оклеивать?
— Не знаю. У нас в городе стены деньгами не оклеивают. Для этого существуют обои.
— Знаю. Не в Пошехонье живем, — осклабился возница. Потом опять помолчал, опять подумал, опять почесал в затылке.
— Николаевские? — сказал он наконец.
— Нет, у меня николаевских денег нет, — сказала Александра Сергеевна.
— Керенки?
— Нет, и керенок нет.
— А какие?
— Обыкновенные советские деньги, которые всюду ходят.
— Гм. Ходят!.. Ходят-то ходят, а потом, глядишь, и перестанут ходить... Кольца золотого нет?
— Знаете, почтенный, — сказала Александра Сергеевна. — Я вижу, у нас с вами ничего не выйдет. Я поищу, может быть, тут другой возница найдется...
— Ну, поищи, — усмехнулся рыжий. Потом на секунду задумался и вдруг, хлопнув себя кнутом по голенищу, весело воскликнул: — Э, будь я неладный... чего там... ладно... садитесь!.. Чать не обманете бедного мужичка-середнячка, сосчитаемся! Для кумы, для Секлетеи Федоровны, делаю. Обещал ей гостей доставить и доставлю.
И, запихав за пояс кнут, он взвалил на спину самую тяжелую корзину, сунул под мышку один чемодан, прихватил второй и, покачиваясь на своих коротких ножках, легко пошел к выходу.
Через десять минут тяжело нагруженная телега, подпрыгивая на ухабах, уже катилась по проселочной дороге, и Ленька первый раз в жизни чувствовал над головой у себя настоящее деревенское небо и дышал чистым деревенским воздухом.
Ему повезло. Была весна, самый расцвет ее, середина мая. Снег уже стаял, но поля только-только начали зеленеть, и листья на деревьях были еще такие крохотные, что издали казалось, будто черные ветви березок и осин посыпаны укропом.
Все было в диковину ребятам — и безрессорная, грубо сделанная телега, и низкорослая деревенская лошадка, и бесконечная, вьющаяся, как серая змейка, дорога, и холмы, из-за которых выглядывали то деревенские крыши, то ветряная мельница, то колокольня, и зеленеющие нежно поля, и густые, темные леса, каких они, конечно, никогда не видели ни в Лигове, ни в Петергофе, ни в Озерках[22].
Разморенные долгим и неудобным путешествием маленькие Вася и Ляля прикорнули у матери на коленях и заснули. А Ленька все сидел, смотрел и не мог наглядеться.
Вглядываясь в непролазную чащу леса, дыша его прелой весенней свежестью, он чувствовал, что голова его кружится, а сердце стучит громче, и думал, что в таком дремучем лесу обязательно должны водиться разбойники. Ему вспоминались отважные и веселые сподвижники Робин Гуда... герои Дюма, Купера... Дубровский... индеец Джо... Ему казалось, что за стволами деревьев он уже видит чьи-то настороженные глаза, наведенное дуло пистолета, натяну-тый лук...
А рыжебородый возница боком сидел на передке телеги, лениво подергивал вожжи и угрюмо молчал.
— Ну, как вы тут живете, голубчик? — спросила у него, нарушив молчание, Александра Сергеевна.
Возница целую минуту не отзывался, потом пошевелил вожжами и, не поворачивая головы, мрачно ответил:
— Живем пока...
— С продуктами благополучно у вас?
— Пока, я говорю, не померли еще. Жуем.
— А вот у нас в Петрограде совсем плохо. Уже конину едят.
Возница посмотрел на приезжую, скривил набок рот, что должно было означать усмешку, и сказал:
— Погодите, ишшо не то будет. До кошек и до собак — и до тех доберутся. Вот помяните мое слово...
— Послушайте, почему вы так говорите? Ведь вам-то теперь легче живется?
Рыжебородый даже подскочил на своем передке, отчего лошадь его испуганно вздрогнула и взмахнула хвостом.
— Легче??! — сказал он с таким видом, как будто Александра Сергеевна сказала ему что-то очень обидное.
— А разве неправда? Ведь вы получили землю, освободились от помещиков...
— От помещиков? Освободились?
Леньке казалось, что в груди у рыжебородого что-то клокочет, бурлит, закипает и вот-вот вырвется наружу. Так оно и случилось.
— Землю, говоришь, получили? — сказал он, натягивая вожжи и совершенно поворачиваясь к седокам. — А на кой мне, я извиняюсь, ляд эта земля, если меня продразверстка, я тебе скажу, пуще лютой смерти душит, если меня комбед за самую шкирку берет?! Помещик? А что мне, скажи, пожалуйста, помещик? Я сам себе помещик...
— Я не знала, — смутилась Александра Сергеевна. — Я думала, что крестьяне довольны.
— Кто? Крестьяне?? Довольны?.. Да, ничего не скажу, есть такие, что и довольны. Очень даже довольны. А кто? Голодранец, лодырь, голь перекатная...
Внезапно он оборвал себя на полуслове, посмотрел на приезжую и совсем другим голосом сказал:
— А вы, простите, из каких будете? Не коммунистка?
— Ну, вот, — усмехнулась Александра Сергеевна. — Разве я похожа на коммунистку?
Рыжебородый окинул взглядом ее серый городской костюм, стеганую панамку с перышком, ридикюль, зонтик, часики на кожаном ремешке, — и, как видно, вполне удовлетворился этим осмотром.
— Тогда я вам, барыня хорошая, вот чего скажу, — начал он. Но договорить не успел. Впереди на дороге показался человек. Ленька хорошо видел, как он выглянул из лесной чащи, раздвинул кусты и, выйдя на середину дороги, поднял над головой руку.
"Разбойники! — подумал мальчик и тотчас почувствовал, как по всему его телу медленно разливается обжигающий холодок блаженного страха. — Вот оно... вот... начинается..."
Но тут же он понял, что ошибся. Человек этот был никакой не разбойник, а обыкновенный солдат в серой барашковой папахе и в шинели без погон.
Когда телега приблизилась, он выступил вперед и хриплым голосом сказал:
— Стой! Кто такие?
Ленька увидел, что из-за его спины выглядывает еще несколько человек.
— Вы меня спрашиваете? — спокойно сказала Александра Сергеевна.
— Да, вас.
У солдата было рябое лицо, левый глаз его все время подмаргивал, как будто в него соринка попала.
— Мы из Петрограда... я учительница... едем на лето к знакомой в деревню Чельцово...
— Ага! Из Петрограда?!
Человек в барашковой шапке обошел телегу, ощупал мешки и чемоданы и, не повышая голоса, сказал:
— А ну, скидавай барахло.
— Послушайте. Это что значит? Вы кто такой?
Вася и Ляля, словно почувствовав неладное, проснулись. Девочка громко заплакала.
"Так и есть... разбойники", — подумал Ленька, но почему-то никакой радости при этом не испытал.
Рыжебородый возница, не слезая с телеги, нервно поерзывал на своем сиденье и без всякой нужды перебирал вожжи.
— Слушай, — сказал он вдруг. — Ты что ж мою барыню забижаешь? А ну, иди сюда...
И, спрыгнув с телеги, он отвел солдата в сторону и несколько минут что-то шептал ему. Сдвинув на нос папаху, солдат стоял, слушал, почесывал затылок. Товарищи его толпились вокруг. У многих из них за плечами висели ружья.
— Ладно, можете ехать, — сказал человек в папахе, возвращаясь к телеге. Глаз его посмотрел на Леньку и несколько раз мигнул.
Возница стегнул лошаденку, лошаденка взмахнула хвостом, и телега быстрее, чем прежде, покатилась по лесной дороге.
— Кто это такой? — спросила, оглянувшись, Александра Сергеевна, когда они отъехали на порядочное расстояние.
— А никто, — ответил, помолчав, возница. — Так просто. Зеленый.
— Что значит зеленый?
— Ну, что вы? Не понимаете разве? Из Зеленой гвардии. Которые с Советской властью борются.
— Постойте... Разве здесь не Советская власть?
Возница не повернул головы, но слышно было, что он усмехнулся.
— Власть-то Советская, да ведь на каждого петуха, сами знаете, сокол есть, а на сокола коршун... Скажи спасибо, мадамочка. Если б не я, ходить бы вам всем семейством в лапоточках.
— Да. Я очень благодарна вам, — взволнованно проговорила Александра Сергеевна. — Но скажите, как вам удалось уговорить его?
— Уговорить-то как удалось? — опять усмехнулся возница. — А я против них слово такое знаю...
...Смеркалось, когда телега свернула с проселка на широкую, обсаженную огромными толстыми березами дорогу. И было уже совсем темно, когда рыжебородый возница громко сказал "тпр-ру", телега дрогнула и остановилась, и Ленька, очнувшись, увидел над головой у себя черное, усыпанное звездами небо, конек избы, длинную оглоблю колодца и услышал в темноте взволнованный голос, напомнивший ему что-то очень далекое, очень хорошее, милое, светлое и безмятежное.
— Господи! Матушка!.. Владыка небесный! Радость-то какая! Дождалась... Где же они? Александра Сергеевна, голубушка, золотце вы мое неоцененное!.. Лешенька, Лешенька!..
Очутившись в теплых, мягких и сильных объятиях, Ленька услышал знакомый и уже забытый запах — запотевшего ситца, камфары, лампадного масла — и почувствовал, как по лицу его, смешиваясь, бегут свои и чужие слезы.
— Здравствуйте... няня, — с трудом выговорил он.
— Светик ты мой! Бисеринка ты моя! Узнал! Вспомнил! Дай я тебя еще поцелую, бусинка... Вырос-то как! Гляди-кось, уж в казенной фуражечке и в шинельке ходит!..
Эти громкие вопли и причитания не разбудили Васю и Лялю, которых, как чурбанчиков, сняли с телеги, вместе с вещами внесли в избу и уложили на приготовленную постель. На столе, над которым коптела и потрескивала семилинейная керосиновая лампа, пылал и бурлил толстопузый медный самовар, а по всему столу — на тарелках, блюдах и подносах — была расставлена удивительно вкусная, даже на вид и на запах, деревенская снедь.
Через десять минут, умывшись в сенях из рукомойника, Ленька уже сидел за столом, пил вприкуску горячий цикорный чай и угощался так, как давно уже не угощался в голодном и холодном Петрограде.
— Лешенька! Деточка! — потчевала его нянька. — Ты куличика возьми... Или вот яблочничка пусть тебе мамочка отрежет...
Ленька с аппетитом ел и куличики, и яблочник и даже не удивлялся тому, что куличиками нянька называет сдобные, похожие на бублики калабашки из черной муки, а яблочником — обыкновенную картофельную запеканку, от которой даже не пахло яблоками.
— Няня, послушайте, а где же ваш внук... Володя, кажется? — спросила Александра Сергеевна. — Ведь вы мне писали, что с внуком живете.
— Ох, матушка, Александра Сергеевна... и не спрашивайте!..
— А что случилось?
— Ох, и не говорите! Добровольцем в Красную Армию ушел мой Володичка.
— Ну, что ж... Это его дело.
— Его-то его... Правильно. Я и снарядила его, и благословение ему свое дала. Да мне-то каково, горемышной? Ведь меня за Володичку за моего добрые люди со света сживают. Ведь у нас тут какие дела-то делаются, Александра Сергеевна!..
И старуха, оглянувшись, перешла на громкий шепот.
Ленька уже наелся, выпил четыре или пять чашек чая, его разморило, голова его клонилась к столу, веки стали тяжелыми, но он изо всех сил боролся с этой слабостью, поминутно вздрагивал, выпрямлял плечи и, стараясь не мигая смотреть на няньку, высоко, чуть ли не выше лба, поднимал брови.
— Ведь у нас что делается-то в деревне, матушка вы моя, Александра Сергеевна! Воистину — брат на брата пошел, сын на отца руку подымает. Это только говорится, что у нас власть Советская, а поглядишь — в одном доме дезертир, в другом — оружие прячут, в третьем — топоры готовят. В лесах разбойники, зеленогвардейцы, орудуют. На прошлой неделе в Никольском селе за одну ночь весь комитет бедноты прирезали. В Корытове председателя убили... Нашего-то председателя, Василия Федорыча Кривцова, уважают, не трогают пока... Да ведь и то, как подумаешь о нем, — сердце кровью обливается. Не сносить ему головушки. И до него, голубчика, зеленые доберутся.
— С этими зелеными мы, кстати, уже имели удовольствие познакомиться сегодня. Оказывается, они чувствуют себя у вас довольно свободно...
И Александра Сергеевна рассказала няньке о встрече в лесу, о чудесном их спасении и о той роли, которую сыграл в этом спасении рыжебородый возница.
— Он потому что слово какое-то знает, — с трудом поднимая над столом голову, проговорил Ленька, чувствуя, что язык еле-еле повинуется ему.
— "Слово"! — усмехнулась нянька. — Иди-ка ты, Лешенька, лучше спать. Ишь, у тебя и глазыньки покраснели, и лобик вспотел. Иди, голубчик, приляг на сенничек...
Ленька с трудом выбрался из-за стола, кое-как доплелся до постели, кое-как расстегнул ремень, стянул с себя форменную гимнастерку... Машинально, с закрытыми глазами, расшнуровывая ботинок, он слышал, как за столом нянька вполголоса говорила матери:
— У этого Федора Глебова трое сыновей в дезертирах бегают. Один, чу, с отцом дома живет, а другие два — в лесу у зеленых...
Дальнейшего Ленька не слышал. Он повалился на постель, услышал, как захрустел под ним туго набитый сенник, глубоко вдохнул в себя запах старого, вылежавшегося сена и чистой, только что выглаженной наволочки, сладко зевнул, перекрестился, свернулся клубочком и провалился в глубокий, крепкий сон.
Так началась Ленькина деревенская жизнь. Конечно, она оказалась совсем не такой, какой он представлял ее себе по книжкам, по картинкам и по рассказам няньки. В городе ему казалось, что деревня — это несколько черных, занесенных снегом избушек. Перед избушками бегает собачка Жучка. Из лесу едет мужичок с ноготок... В лесах водятся волки и разбойники. А в занесенных снегом избах сидят при лучине бабы и девки в сарафанах и, распевая грустные тягучие песни, прядут или ткут на каких-то не то веретенах, не то пяльцах.
Жизнь оказалась гораздо сложнее, чем Ленькины представления о ней. В деревне были избушки, ветхие, покосившиеся, с заткнутыми ветошью окошками. Но были и дома на кирпичном фундаменте, двухэтажные и полутораэтажные, крытые железом, с флюгерами и флагштоками. Были мужички с ноготки, которые с утра до ночи работали и ходили босые, в залатанных отцовских пиджаках. И были красномордые шестнадцатилетние парни, которые и в майский солнечный день щеголяли в новеньких, будто лакированных калошах, лущили семечки и орехи, наигрывали на гармошках и распевали охальные разбойничьи частушки. Были в Чельцове нищие, и были богачи, мельники, лавочники... Были дома, где не было спичек, чтобы растопить печь, и были такие, где в горницах на комодах стояли граммофоны, где крашеные полы были устланы настоящими городскими коврами, где стучали швейные машины "Зингер" и бесшумно работали заграничные, шведские сепараторы...
После бурной петроградской жизни — со стрельбой, обысками, ночными тревогами и уличными манифестациями — деревенская жизнь на первых порах показалась Леньке безмятежно-спокойной и благополучной.
Но это спокойствие было кажущимся.
В Чельцове, как и во всей губернии, как и во всей стране, кипели политические страсти.
Не успела молодая рабоче-крестьянская власть стать на ноги, как на нее обрушились тяжелые испытания. На окраинах страны поднимала голову контрреволюция, разгоралась гражданская война. В Сибири, по наущению англо-американских "союзников", восстали пленные чехословаки. Истощенная четырехлетней войной страна испытывала недостаток в хлебе. Хлеб нужен был городам, хлеб нужен был солдатам, хлеб нужен был детям, оставшимся без отцов. А хлеб этот был в деревне, у кулаков, которые не хотели отдавать его по доброй воле. Советская власть вынуждена была отнимать его силой. Кулаки сопротивлялись. Во многих местах на поводу у них шла и большая часть остального крестьянства. Только что вернувшиеся с австро-германского фронта солдаты, измученные многолетней окопной жизнью, отказывались идти по призыву в Красную Армию, дезертировали, уходили в леса. В этих же лесах прятали оружие и зарывали, гноили в ямах хлеб — тот самый хлеб, от которого зависели жизнь и смерть республики.
Все это было и в Чельцове. В Чельцове была Советская власть, был комитет бедноты, над крыльцом его колыхался красный лоскуток флага. Был председатель этого комитета. Но лавочник Иван Семенов еще торговал с черного хода твердыми, как камень, мятными пряниками, ландрином и колесной мазью. Ветряной мельницей на полпути от Чельцова к волости владел его брат Семенов Осип. Дезертиры, изменники родины открыто разгуливали по деревне. И по вечерам на Большой Радищевской дороге парни призывного возраста дико орали под гармонь разухабистые дурацкие частушки.
...В волость из города приезжал продовольственный отряд. На деревню накладывалась продовольственная разверстка. Созывался сход. Перед избой, где помещался комитет бедноты, висел на дереве разбитый стальной лемех. В этот лемех били, как в набатный колокол. Под его оглушительный и тревожный звон по деревне бежал паренек, стучал, как побирушка, под окнами и отчаянным голосом кричал:
— Дядя Игнат, на сходку! Осип Иванович, на сходку зовут... На сходку! На сходку!..
Мужики собирались не спеша, степенно. Негромко переговариваясь друг с другом по имени-отчеству, усаживались они на завалинку, покуривали махорку, вздыхали, поглядывали на небо, гадали, какая завтра будет погода... Потом из комбеда выходил председатель в сопровождении городского человека в кожаной тужурке. Разговоры смолкали. Приезжий человек с лицом и руками мастерового выступал вперед и говорил, что деревня должна выделить государству столько-то и столько-то пудов хлеба. Сдать его нужно к такому-то сроку. Подводы направлять туда-то. Говорить он старался мягко, не повышая голоса, но воспаленные от усталости глаза его смотрели на мужиков сурово и недружелюбно. Мужики молчали. Только мальчишки, забравшиеся на дерево, вполголоса переговаривались, подталкивали друг друга и хихикали.
— Ну, как же, товарищи? — спрашивал человек в кожанке, почему-то усмехаясь и оглядывая окружившие его, бородатые, похожие одно на другое лица.
— Нет у нас хлеба, — отвечали ему откуда-то из глубины толпы.
— Как же так нет?
— Нету — и все...
Тогда слово брал председатель.
Впервые увидев Кривцова, Ленька подумал, что это священник или монах. У Кривцова было красивое, темное, как у угодника на иконе, лицо, длинные, стриженные в кружок волосы и большая, русая, клинообразная, слегка золотящаяся борода. Ходил он в какой-то старомодной черной бекеше и в поярковой шляпе с дырявыми полями. Говорил негромко, иногда даже глуховато, смотрел прямо и сурово.
— Земляки! — начинал он свою речь. — Братья и односельчане! Хлеб, о котором нам говорил приезжий представитель, нужен голодным людям. В Питере и в Москве жители прозябают на скудном пайке и уже, как сообщают в газетах, употребляют в пищу конину и даже падаль. Друзья и товарищи! Неужели ж наши сердца не дрогнут? Неужели ж наши души останутся холодными? Ведь умирают и страдают наши кровные братья. А ведь хлеб у нас есть. Его много. Все знают это, и никто не скажет противного. Поэтому я считаю так: необходимо выделить то, что требуют от нас закон и долг всенародного братства!
— Правильно! — раздается в толпе радостный голос. — Правильно, Василий Федорыч!..
И другой, гневный, разъяренный голос тотчас откликается:
— Правильно??! Это кто говорит "правильно"? Симков? А ты чей хлеб отдавать собираешься? Свой?
— Зачем свой? У меня у самого ребята не евши сидят.
— А-а-а! Не евши? Так ты чужим хлебом распоряжаешься?
— Ничего. У вас хватит. У вас полный подпол еще с летошних пор засыпан.
— Да? А ты считал? Ты видел?
Толпа уже гудит, бушует, уже не слышно отдельных голосов, только изредка вырываются из этого гвалта хриплые выкрики:
— Лапотники!
— Мироеды!..
— Погоди... доберемся до вас...
— Это ты доберешься?
— Ты на кого идешь? Ты на Советскую власть идешь?!
— Дураки... Душить вас надо!
Леньке вспоминается Петроград, реальное училище, перепалки в уборной. Но то, что происходит здесь, гораздо страшнее. Там все-таки была детская игра, шалость, а здесь того и гляди дело дойдет до драки, до поножовщины, вот-вот прольется кровь...
И все-таки почти всегда, после долгих и шумных споров Кривцову удается уговорить мужиков. Выносится и записывается постановление схода: выделить столько-то и столько-то пудов хлеба, столько-то картофеля и столько-то лука для сдачи государству.
...Борьба, которая шла между взрослыми, сказывалась и на играх детей.
Правда, первое время Ленька наблюдал за этими играми со стороны. Вася и Ляля, которые были проще и непосредственнее, давно уже сдружились с ребятами своего возраста. Ляля целыми днями укачивала, кормила, пеленала и баюкала с подругами тряпочных матрешек, а Вася, изображая лошадку или кучера, с хлыстом в руке носился с товарищами по улице. Ленька был застенчив, а кроме того, он немножко свысока посматривал на деревенских ребят. И хотя иногда и ему тоже хотелось и пошуметь и побегать, он предпочитал гордое уединение: сидел дома или, взяв книгу, уходил куда-нибудь на задворки, на Большую дорогу или в поле.
Однажды он стоял с книгой в руке у ворот нянькиной избы и смотрел, как соседский петух задирает черную нянькину кошку. По улице в это время пробегала шумная ватага ребят. У многих из них за плечами висели деревянные самодельные ружья, а на поясах — деревянные же сабли и наганы.
— Эй, петроградский! — крикнул какой-то маленький рыжий паренек. — Идем играть?
Ленька вздрогнул, уронил "Братьев Карамазовых"[23], покраснел и сказал:
— А как?
— Ну, как? В войну, конечно, в зеленых и красных.
— Что ж, — смущенно улыбнулся Ленька. — Хорошо... я сейчас...
Он забежал в избу, оставил книгу, напялил фуражку и вернулся к ребятам.
— Ты кто? — спросили у него. — Зеленый или красный?
— Я казак, — ответил Ленька.
Никто не засмеялся.
— Казак? — сказал, подумав, рыжий. — Значит, зеленый.
И Леньке тоже показалось, что быть зеленым, то есть разбойником, интереснее, чем красным.
Через два дня он уже был избран командиром отряда и с увлечением отдался игре: изготовлял оружие, устраивал склады боеприпасов, писал печатными буквами приказы по отряду и даже придумал знаки отличия для своих бойцов: вырезал из картона и раскрашивал цветными карандашами георгиевские кресты, которыми награждал своих наиболее отличившихся сподвижников.
Адъютантом или есаулом у него был рыжий востроносый паренек, которого товарищи звали: Хоря. Это был очень живой, бойкий, иногда даже бесшабашный мальчик.
— Тебя как зовут? — спросил у него один раз Ленька.
— Хоря.
— Нет, а по-настоящему?
— А по-настоящему Игнаша Глебов.
— Ты что — сын Федора Глебова?
— Ага. Сын. А что?
Ленька посмотрел на товарища и подумал, что Хоря действительно очень похож на рыжебородого возницу, который вез их со станции в Чельцово...
Теперь он целые дни проводил с ребятами на улице, в поле или на Большой дороге.
Как-то под вечер, скрываясь от преследований неприятеля, он выбежал на широкую Радищевскую дорогу и спрятался за одной из толстых берез, которыми в четыре ряда — по два с каждой стороны — был обсажен большак. Внезапно он услышал, что кто-то недалеко от него вполголоса поет. Выглянув из-за дерева, он увидел в пяти шагах от себя Василия Федоровича Кривцова. Председатель был без шапки, в неподпоясанной рубахе и в городских сандалиях на босу ногу. Заложив за спину руки и низко опустив голову, он медленно прохаживался под березами и каким-то тихим, девичьим голосом напевал:
Окинув думкой жизнь земную,
Гляжу я робко в темну даль.
Не знаю сам, о чем тоскую,
Не знаю сам, чего мне жаль...
Ленька стоял, смотрел на него и не знал, как ему быть. Прятаться за деревом было неудобно, а выйти он не решался. Как часто бывает в подобных случаях, выручила его мошка или соломинка, попавшая в нос. Он громко чихнул.
Кривцов перестал петь, оглянулся, помолчал и громко сказал:
— Кто здесь?
Ленька вышел из-за дерева.
— Это я, — сказал он, краснея.
— Кто это? А-а! Здравствуйте! Вы — петроградский, у Секлетеи Федоровны Кочкиной живете? Учительницы сын?
— Да.
— Гимназист?
— Нет, я реалист.
— Реальное училище, значит? Понимаю, да. И в каком классе уже занимаетесь?
— Я — во второй перешел.
— Вона как! Молодец!..
Сказав это, Кривцов опустил голову и снова задумался, поглаживая и подергивая темную золотистую бороду. Ленька стоял рядом и опять не знал, что ему делать: бежать или ждать, что ему еще скажет председатель комбеда. Внезапно Кривцов положил мальчику на плечо сильную мужицкую руку и медленно, мечтательно с мягким упором на "о" проговорил:
— На этой дороге, под этими вот вековыми березами собрались однажды семь русских мужиков, собрались и заспорили: кому живется весело, вольготно на Руси?
— Да, — сказал Ленька. — Я знаю. Это у Некрасова.
— Знаешь? — обрадовался Кривцов. — Верно! Молодец! Да, написал об этих мужичках великий поэт скорби и гнева народного Николай Алексеевич Некрасов. И именно об этой дороге он сказал в своей драгоценной поэме:
Широкая дороженька
Березками обставлена...
— Почему вы думаете, что об этой, а не об другой? — удивился Ленька.
— Почему? А потому, дорогой, что Николай Алексеевич был наш земляк и множество раз по этой дороге ходил и ездил — на охоту и по другим разным делам. Его имение Грешнево находилось на той стороне Волги, за Николо-Бабайским монастырем...
— Я не знал, — признался Ленька.
— Значит, вы еще не проходили, — улыбнулся председатель и, помолчав, добавил: — Если желаете, зайдите ко мне, я дам вам почитать его биографию. У меня есть... Где моя хижина помещается, — знаете?
— Да, знаю. Там, где красный флажок над крыльцом?
— Вот, вот... Где флажок над крылечком. Ну, бегите... Это вам, кажется, мальчики из кустов машут?..
Только через неделю, поборов робость и застенчивость, Ленька отважился зайти к председателю.
Дверь с улицы была открыта. В просторных чистых сенях, попискивая, бродили большие белые цыплята. В горнице пожилая, но моложавая, очень некрасивая женщина, подоткнув синюю крашеную юбку, скребла косарем пол.
— Здравствуйте, — сказала она, выпрямляясь и смахивая со лба прядку волос. — Вы к Василию Федорычу? Его нет, он на огородах. Заходите, присаживайтесь, я сейчас сбегаю, кликну его.
— Благодарю вас... Спасибо... Я сам, — сказал Ленька. Он успел заглянуть в горницу. Черные, закоптелые стены. В углу иконы. Над столом одна над другой две полочки с книгами. На верхней полке — маленький школьный глобус. На стене — географическая карта полушарий, какая-то анатомическая таблица и портрет человека с прищуренным взглядом и высоким открытым лбом. Ленька уже знал в то время, что человек этот — Ленин.
Председателя он застал на огороде. Василий Федорович окапывал какие-то маленькие синевато-зеленые кустики.
— А-а, пришли? — сказал он, ставя босую ногу на заступ и протягивая Леньке руку. — А я вот занимаюсь, опыты произвожу. Пытаюсь произвести в наших местах помидор, или, как его иначе называют, томат... Уже второй год вожусь, а только, вы знаете, что-то не выходит. Болеют мои помидоры. Опрыскивать их надо, жидкость такая продается, я читал, бордосская называется. А где ж ее взять? Я ведь нищий, — сказал он, почему-то улыбаясь.
— Я тогда лучше зайду после, не буду мешать, — пробубнил Ленька.
— Куда вы? Полно вам. Пойдемте, пойдемте. Я ждал вас. Вы же хотели взять книжку. А у меня к вам тем более дело есть.
Он привел Леньку в избу. Пол уже был вымыт, и хозяйка раскатывала по нему серый, латанный во многих местах домотканый половик.
— Вот, возьмите, — сказал председатель, подавая Леньке тоненькую книжку в голубовато-серой бумажной обложке. — Читайте внимательно, ничего не пропуская... Там, где подчеркнуто синим карандашом, останавливайтесь и перечитывайте. Если что непонятно будет, — спросите, я объясню.
Ленька поблагодарил и взял книжку.
— А я вас вот о чем хотел спросить, — сказал Кривцов, роясь на столе и доставая из кипы бумаг какую-то пожелтевшую записочку. — Вы не знаете, что такое пау-пе-ри-зация?[24]
— Нет... не слыхал даже, — признался Ленька.
— Ну? А я думал, вы знаете. Не проходили еще?
— Нет.
— Жалко... А я читал тут зимой одну брошюру по аграрному вопросу, и вдруг эта самая пу... пе...
Кривцов засмеялся и помотал головой.
— Черт ее знает, — выдумают словечко!.. Ну, сам виноват, — учиться надо. Да вы присаживайтесь, — сказал он. — Что вы стоите? Вот на лавку или на табуреточку...
— Ничего, — сказал Ленька, присаживаясь на краешек табурета.
Кривцов ходил по избе и, поглаживая бороду, говорил:
— Я ведь, вы знаете, только один год в школу бегал. Мы — из тех самых, из мужичков Подтянутой губернии, Пустопорожней волости, уезда Терпигорева... Помните, у Некрасова?.. Вы вот в реальном учитесь, а меня прямо из школы папаша в высшее учебное заведение перекинул — в пастухи! А учиться хотелось. Не поверите, до слез хотелось. Я, бывало, если узнаю, что где-нибудь книга имеется... даже в другой деревне... готов ночью босый по снегу идти... А уж что за книги были! Тьфу! Смех, ерунда... "Бова-королевич" какой-нибудь, "Как мыши кота хоронили"...
Василий Федорович оборвал себя, остановился, посмотрел на черный задымленный потолок и с каким-то необыкновенным чувством, как молитву, прочел:
Эх, эх! Придет ли времечко?
Приди, приди, желанное,
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого,
Белинского и Гоголя
С базара понесет?!.
Потом помолчал, улыбнулся и сказал:
— Ну, вот, ведь и пришло оно, кажись. А?
— Кто? Почему? — не понял Ленька.
Но Кривцов не расслышал его. Он еще раз прошелся по избе, остановился у маленького кривобокого окошка, задумчиво постучал пальцем по ветхому, заклеенному во многих местах газетной бумагой стеклу и, грустно усмехнувшись, сказал, как бы отвечая на какие-то собственные, очень горькие мысли:
— А ведь не понимают, черти... Ни хрена, дураки пошехонские, не понимают!..
...В середине июня в уезде объявился атаман. Никому не известный доселе приказчик Хохряков из города Ростова объединил вокруг себя разрозненные отряды зеленогвардейцев и встал во главе кулацкого движения. Нигде подолгу не останавливаясь, этот новоявленный полководец разъезжал со своими головорезами из волости в волость, громил совдепы и комитеты бедноты, убивал коммунистов и сочувствующих, грабил потребительские лавки и шел дальше.
По вечерам Ленька слышал, как на завалинке у нянькиной избы шушукались бабы:
— А в Колдобине, бабоньки, чу, комиссара в колодце стопили...
— А в Больших-от Солях исполком хохряковцы сожгли...
— А в Никольском-от, чу, карателя ночью зарезали...
Однажды воскресным утром, когда Ленька чистил в сенях свои желтые скороходовские баретки, он услышал на улице громкий, не то испуганный, не то восторженный мальчишеский голос:
— Хохряковцы идут!!!
Не дочистив бареток, со щеткой в руке он выбежал на улицу. По деревне, в сторону Большой дороги, уже неслась, взметая пыль, целая туча мальчишек и девчонок. А навстречу им вваливалась в деревню пестрая и нестройная толпа пеших и всадников.
Впереди, на порядочном расстоянии от других, ехал на белой лошади человек в синем городском пиджаке, на котором странно и даже нелепо выглядела кожаная желтая портупея. Маленькую голову всадника венчала офицерская английская фуражка, в руке он держал стек. Под вздернутым смешным носиком щеточкой торчали крохотные усики.
Из толпы ребят уже показывали на всадника пальцами, и слышался восторженный шепот:
— Сам... Это сам... Вот убиться — это он, Хохряков!..
Следом за атаманом ехал знаменосец. На плюшевой темно-зеленой, тронутой молью портьере, на которой еще сохранились кисточки и медные кольца, белым шелком было нескладно вышито:
ВЪ БОРЬБЕ ОБРЪТЕШТЫ ПРАВО CBOЪ!
Рядом со знаменосцем красивый курчавый парень в лихо заломленной на затылок солдатской фуражке растягивал мехи тальянки и сквозь зубы напевал "Хаз-Булата"[25]. Остальные лениво и нестройно подтягивали ему...
Нянькина изба стояла второй от Большой дороги. Внезапно атаман зеленых повернул коня к открытому окошку, постучал стеком по подоконнику и хриплым пропойным голосом крикнул:
— Эй, хозяйка!
Няньки дома не было. Она еще до света ушла в село Красное — к ранней обедне. Из окна выглянула Ленькина мать. Увидев перед собой городскую женщину, празднично одетую (Александра Сергеевна тоже собиралась с ребятами в церковь), Хохряков как будто слегка опешил, приложил руку к широкому козырьку английской фуражки и сказал:
— Пардон. Я очень извиняюсь. Могу я попросить вашей любезности дать мне ковшик холодной воды?
— Пожалуйста, — сказала Александра Сергеевна, улыбаясь и с интересом разглядывая этого галантного наездника. — Может быть, вам дать квасу? У нас — холодный, с ледника...
— О, преогромное мерси!
Ленька стоял в толпе ребят и видел, как мать подала в окно большой деревянный ковш и как этот величественный человек громко, с прихлюпом вылакал его до дна, крякнул, вытер рукавом свои смешные поросячьи усики и, возвращая хозяйке ковш, сказал:
— Вот это называется — да! Квасок, как говорится, ударяет в носок...
Потом оглянулся, наклонился в седле и негромко, но так, что Ленька все-таки слышал каждое его слово, сказал:
— А что, мадам, вы, я вижу, не здешняя?
— Нет, — сказала Александра Сергеевна. — Мы приезжие.
— Откуда?
— Из Петрограда... Бежали от голода.
— Так... — Хохряков еще ниже нагнулся в седле и еще тише сказал: — А скажите, — коммунисты в деревне есть?
— Не знаю, — нахмурилась Александра Сергеевна. — По-моему, нет... А впрочем, я никогда не задумывалась над этим вопросом...
Ленька взглянул на Хохрякова и вдруг увидел, что лицо у него уже не смешное, а страшное. Ноздри маленького носа раздулись. На скулах забегали желваки. Тонкие поджатые губы сжались еще плотнее...
...Что-то как будто стегнуло мальчика. Незаметно выбравшись из толпы, он юркнул в открытые ворота, пробежал по нянькиным гуменникам на задворки и, перелезая через чужие плетни, ломая чужие кусты и топча чужие грядки, за минуту домчался до председателевой избы.
Во дворе некрасивая жена Кривцова торопливо сдергивала с веревок еще не высохшее белье. Услышав за спиной шаги, она испуганно оглянулась.
— Что? — сказала она, и скуластое бледное лицо ее еще больше побледнело.
— Василий Федорыч дома? — запыхавшись, проговорил Ленька.
— Нету его, нету, — почти прокричала хозяйка и, спохватившись, договорила не так громко: — В волость они ушедши...
"Слава богу!" — подумал Ленька.
Срывая с веревки белье, хозяйка с удивлением поглядывала на Ленькину руку. Только тут Ленька заметил, что держит в руке рыжую сапожную щетку. Смутившись, он сунул ее в карман и спросил:
— А давно?
— Что?
— Ушел он...
— Да, да, давно он ушел. Спозаранок еще. Скоро не будет.
"Но ведь он не знает, он может вернуться", — подумал Ленька. И вдруг почувствовал ужас, когда понял, что может произойти, если Кривцов раньше времени вернется в деревню.
Не думая о том, что делает, забыв, что его ждут дома, он побежал на дорогу, ведущую в волость. Минут двадцать он проторчал на бугре у мельницы, откуда далеко была видна и проселочная дорога, и обсаженный березами большак, и даже голубые маковки двух красносельских церквей.
Похаживая взад и вперед по бугру и поглядывая на дорогу, он вдруг заметил, что в кустах по ту сторону мельницы прячется какой-то человек. Вглядевшись, он увидел, что это мальчик, а вглядевшись еще внимательнее, узнал огненно-красную голову Игнаши Глебова. Хоря тоже посматривал в ту сторону, откуда должен был появиться Кривцов, и тоже, как по всему было видно, волновался и нервничал.
"Караулит председателя... чтобы наябедничать!.. Наверно, отец подослал", — догадался Ленька, и вдруг его охватила такая ненависть к этим людям, что у него потемнело в глазах. Ему захотелось кинуться к Хоре, сбить его с ног, набить морду. Но как раз в эту минуту он заметил какое-то движение на Большой дороге. Оттуда доносились голоса, звуки гармоники, пение, залихватский свист... В густой зелени берез он не сразу разглядел плюшевое знамя бандитов и белую лошадь атамана, а когда разглядел и понял, что хохряковцы уходят из деревни, чуть не заплакал от радости.
От пережитых волнений он чувствовал слабость, руки у него дрожали, горло пересохло. Вернувшись домой, он, прежде чем зайти в избу, кинулся в сени, где, покрытая деревянным кружочком, стояла кадка с водой. Залпом выдудил он огромный ковш ледяной влаги и почти без передышки вылил в себя второй ковш. Эти два ковша обжигающе-холодной родниковой воды чуть не погубили не только Леньку, но и Александру Сергеевну.
К вечеру у мальчика поднялась температура, он начал хрипеть. Наутро он уже не мог говорить — из горла вместо слов вырывался свистящий шепот. Приглашенный из волости фельдшер — пожилой солидный человек в очках, в косоворотке и в сапогах с голенищами — заглянул Леньке в горло, посопел, покряхтел и важно, как профессор, объявил:
— Типичный дифтерит.
Александра Сергеевна опустилась на лавку.
— Боже мой! Какой ужас! Только этого и не хватало. Что же делать?!
— А что ж, сударыня, — утешил ее фельдшер. — Ничего не поделаешь. Может, еще и отлежится. Могу вам сказать, как опытный медик-практик, что, по моим наблюдениям, не все ребятишки от глотошной помирают...
И, получив от няньки, вместо гонорара, десяток яиц, а от Александры Сергеевны цибик перловского чая и десять кусков рафинада, этот неунывающий медик-практик уехал, оставив на столе рецепт, который кончался следующими словами:
Принимать четыре раза в день
по одной хлебательной ложке.
Ночью Ленька проснулся и слышал, как мать, рыдая, говорила няньке:
— Нет, нет, он не выживет. Я чувствую. Ведь вы подумайте, — третья болезнь за год: коклюш, воспаление легких и вот — дифтерит. И никакой помощи, ничего, кроме этого ветхозаветного эскулапа...
— Полно вам, матушка, Александра Сергеевна, — утешала ее нянька. — Не гневите бога. Господь не без милости. Да и не клином свет сошелся. Знаете что? Везите-ко вы его, голубчика, в Ярославль. Там докторов полно.
И вот чуть свет, закутанный в десятки платков, шарфов и полушалков, Ленька уже трясся в телеге, держа направление на Николо-Бабайскую пристань.
Он был в полном сознании, все слышал, все понимал, только не мог говорить.
А Александра Сергеевна, измученная страхами, бессонницей и зубной болью, которая со вчерашнего вечера опять мучила ее, поминутно посматривала на часы и подгоняла возницу.
— Скорей, голубчик! Умоляю вас — скорей! Вы не понимаете, до чего мне важно поспеть к пароходу...
Она не знала, что спешит навстречу опасностям, куда более страшным, чем дифтерит или воспаление легких.
ГЛАВА V
Это путешествие оставило очень смутные следы в Ленькиной памяти.
Запомнились ему белые, освещенные солнцем стены монастырского двора, по которому они подъезжали к Волге. Запомнилась большая широкая река, которая вдруг вся, во всем своем просторе открылась ему с высокого обрывистого берега и по которой в ту минуту плыли крохотные баржи, буксирчики и пароходики. Помнит он себя в пароходной каюте, лежащим на жесткой, как в железнодорожном вагоне, скамейке. Помнит стук машины за стенкой, запах машинного масла, табака и ватерклозета. Помнит, как над головой у него застучали, забегали и как чей-то молодой веселый голос радостно прокричал:
— Ярославль!..
Услышав этот голос, он с трудом поднимает голову, смотрит в круглое окошечко иллюминатора и не может понять: что это — во сне он это видит или наяву?
Голубое небо, высокий, утопающий в зелени берег, и на нем громоздящиеся, как в сказке, как выточенные из хрусталя, сахарно-белые дома, белоснежные башни, белые колокольни. И над всем этим ярко пылает, горит в голубом июльском небе расплавленное золото куполов и крестов.
Потом он видит себя в полутемном номере ярославской гостиницы. Горит лампа под зеленым абажуром, человек с засученными рукавами, в котором наученный горьким опытом Ленька сразу же узнает доктора, что-то делает, позвякивая чем-то в углу на умывальнике. Мать стоит рядом. Лицо у нее озабоченное, тревожное.
Доктор подходит к Леньке. В руке у него что-то поблескивает. Он улыбается, густые черные брови его шевелятся, как тараканы. Мальчик ждет, что сейчас доктор скажет: "А ну, молодой человек, откройте ротик". Но, против ожидания, доктор говорит совсем другое.
— А ну, молодой человек, — говорит он, присаживаясь на краешек постели, — дайте-ка мне, хе-хе, вашу попочку...
Ленька не понимает, в чем дело, доверчиво поворачивается на живот и вдруг чувствует, как в ногу его, повыше колена, впивается длинная острая игла. Он хочет закричать и не может — горло его сдавлено.
— Всё, всё, — говорит, посмеиваясь и похлопывая его по спине, доктор. Всё кончено. Через два месяца, хе-хе, будешь, хе-хе, здоров, как бык.
Слезы душат Леньку. Он засыпает...
А просыпается от яркого солнечного света. Мать — в летнем пальто, с зонтиком в руке — стоит перед маленьким туалетным зеркальцем и поправляет выбившиеся из-под шляпы волосы. Он хочет спросить, куда она собралась, но боится сделать себе больно и молчит. Почувствовав или увидев в зеркале его взгляд, она оборачивается:
— Проснулся, детка? Ну, как ты себя чувствуешь?
— Хорошо, — хриплым шепотом отвечает Ленька.
— Горлышко болит?
— Да.
— Кушать хочешь?
— Нет.
— Бедненький, — говорит Александра Сергеевна, и Ленька удивляется, почему она не подойдет к нему, не обнимет, не поцелует.
— Ты знаешь, маленький, придется, по-видимому, положить тебя в больницу. Этого требует доктор...
— Хорошо, — безропотно соглашается Ленька.
Он видит, что на глазах у матери блестят слезы. Ему жалко ее.
— Я должна ненадолго уйти, — говорит она. — Будь, пожалуйста, паинькой. Не вздумай, боже избави, вставать с постели. Лежи смирно. Если захочешь пить, — вода в графине на столике...
И, перекрестив издали, из дверей, мальчика, Александра Сергеевна уходит.
Ленька остается один. Ему не скучно. У него с собой книжка — "Тартарен из Тараскона" Альфонса Додэ. И вообще он чувствует себя совсем неплохо. Побаливает, как при ангине, горло. Слегка шумит голова. От легкого жара пылают щеки, постукивает в висках. Но умирать он вовсе не собирается.
Полчаса или час он лежит смирно и прилежно читает книжку. Но вот книга кончилась, перелистаны заново все страницы, пересмотрены одна за другой все картинки, а матери все нет.
Отложив книгу, он некоторое время следит за солнечным зайчиком, который бегает по выцветшим обоям и по голубому облупленному умывальнику, пытается разглядеть дочерна потемневшую картину на противоположной стене, от нечего делать пьет стакан за стаканом теплую невкусную воду из пожелтевшего мутного графина, пытается уснуть, пробует думать о чем-нибудь.
Но сон не приходит, мысли разбегаются.
И тут его внимание привлекает какой-то шум на улице. Насторожившись, он слышит за окном какие-то хриплые выкрики, какое-то бессвязное бормотанье. Кто-то стоит внизу под окном и надрывным плачущим голосом зовет:
— Матка боска! Матка боска!..
Потом побормочет что-то, похрипит, похнычет и опять:
— Матка боска! Матка боска!..
Леньке делается жутко. Любопытство гложет его. Несколько минут он борется с искушением, потом спрыгивает на пол и босиком, в одной рубашке подбегает к окну. Через минуту он уже лежит на теплом и не слишком чистом подоконнике, и, высунувшись из окна второго этажа, смотрит вниз.
Под окном на тротуаре, поджав по-турецки ноги, сидит старик нищий. Морщинистое лицо его повязано платком, у ног его стоит маленькая эмалированная чашка, куда прохожие бросают свое подаяние. Это он, неизвестно как попавший сюда нищий поляк, устроившись под окнами гостиницы "Европа", канючит милостыню, усыпая речь свою частым упоминанием богоматери.
Ленькино любопытство удовлетворено, но уходить с подоконника ему не хочется. За два месяца деревенской жизни он уже успел отвыкнуть от города, от его сутолоки, шума, от говорливой городской толпы. Все его сейчас радует и волнует, все напоминает Петроград.
Перед глазами его расстилается площадь с выходящими на нее улицами и бульваром. Правда, эта площадь поменьше Исаакиевской или Дворцовой, но дома на ней высокие, многоэтажные, а здание театра на противоположной стороне площади даже чем-то похоже на императорский Мариинский театр, где в позапрошлом году на святках Ленька смотрел балет "Лебединое озеро". Правее театра виден угол дома, над подъездом которого развевается красный флаг. Налево от площади уходит вдаль длинная и прямая улица. Громоздятся многоэтажные дома, пестрят на их торцовых стенах и брандмауэрах[26] вывески и рекламы "Жоржа Бормана", "Треугольника", "Проводника", страхового общества "Саламандра", пароходной компании "Кавказ и Меркурий"... И странно выглядит среди этих знакомых, напоминающих довоенный Петроград, вывесок и реклам огромный яркий плакат, на котором угловатый синий человек с засученными рукавами и в кепке с пуговкой заносит красный молот над головой маленького квадратного человечка в цилиндре. В угловом доме, выходящем и на улицу и на площадь, — колониальный магазин "Сиу и К°". За его зеркальными стеклами стоят огромные, белые с черно-красным рисунком китайские вазы. Над окнами со стороны площади, где больше солнца, спущены полосатые маркизы, легкий ветер похлестывает и надувает их, как паруса.
Еще рано, солнце только-только выглядывает из-за темной после ночного дождя крыши театра, но на улицах уже кипит жизнь. Дворники поливают мостовую, спешат на рынок хозяйки со своими плетеными сумками, бегут на работу советские служащие, няньки раскатывают по тротуарам коляски с младенцами... Бесшумно проносятся велосипедисты, стучат пролетки извозчиков, где-то за углом позванивает и однотонно гудит на повороте трамвай.
А под окном на тротуаре все сидит, сложив калачиком ноги, все покачивается, как от зубной боли, повязанный бабьим платком старик и бормочет, всхлипывает, надрывно зовет:
— Матка боска! Матка боска!..
И вдруг в эту размеренную сутолоку мирного городского утра врывается вихрь.
По улицам с грохотом проносится бронированный автомобиль. Он влетает на площадь, круто разворачивается и, откатившись назад, останавливается против здания, где над подъездом полощется красный флаг. В щелях его амбразур поблескивают на солнце и шевелятся, как усики огромного насекомого, стволы пулеметов. Из автомобиля выскакивают люди в военной форме. Они бегут к подъезду. Что-то странное и непривычное в облике этих людей. Что именно, Ленька не успевает сообразить. Цокающий топот заставляет его поспешно повернуть голову налево. Взметая пыль, пугая прохожих, настегивая плетками потных лошадей, улицей несутся всадники. И тут Ленька вдруг понимает, что его так удивило и напугало. На плечах всадников сверкают погоны. Эти новенькие щегольские, шитые золотом погоны воскрешают в памяти мальчика такое далекое прошлое, что ему опять начинает казаться, что он спит и видит сон...
А всадники, вырвавшись на площадь, с гиком, как наездники в цирке, несутся по ее окружности. Один из них выхватывает револьвер и несколько раз стреляет в воздух. Разинув рот, Ленька застывает на подоконнике и видит, как, обезумев от страха, бегут по тротуарам и по мостовой прохожие: женщины с мешками для провизии, служащие со своими парусиновыми портфелями, няньки с колясками, в которых перекатываются и орут несчастные младенцы...
Какой-то человек с портупеей на белом кителе взбирается на крышу броневика и, сложив рупором руки, кричит:
— Граждане!.. Просьба немедленно очистить площадь. Для собственной безопасности рекомендую вам сидеть по домам и не выходить на улицу, пока не кончится эта какофония!..
Это зловещее, впервые услышанное им слово "ка-ко-фо-ния" заставляет Леньку зажмуриться в предвкушении чего-то еще более необыкновенного и страшного.
Площадь быстро пустеет. Последние прохожие скрываются в подъездах и под арками ворот, и Ленька остается единственным зрителем этого страшного и увлекательного спектакля. Он с трепетом ждет: что же дальше? А по улице уже несутся новые всадники. Они минуют площадь, театр и в клубах пыли скрываются где-то за бульваром. И почти тотчас неизвестно откуда — справа ли, слева или, может быть, из-под земли — на площади появляется четверка лошадей, влекущая за собой — хоть и небольшую, а все-таки самую настоящую пушку.
Люди с погонами на плечах окружают смугло-серую трехдюймовку, о чем-то спорят, кричат, размахивают руками. Наконец трехдюймовка трогается дальше и останавливается под тем самым окном, на подоконнике которого лежит Ленька. Лошадей, отцепив, уводят в переулок, и два человека в серых металлических шлемах торопливо выламывают из мостовой булыжник, вкатывают в образовавшуюся ямку орудийный лафет и снова забрасывают его камнями. Потом достают из ящика обрезанную сигару снаряда и, резко передернув какие-то рычаги, вкладывают в черное жерло орудия эту тяжелую и скользкую на вид сигару.
Прильнув подбородком к раскаленному карнизу, Ленька, не мигая, наблюдает за каждым движением артиллеристов. Он разинул рот, и вдруг люди в металлических касках тоже открывают рты. Один из них сделал шаг назад и поднял руку.
В эту минуту за Ленькиной спиной хлопает дверь. Оглянувшись, он видит мать. Бледная, с растрепавшимися волосами, в съехавшей на сторону шляпке, она подбегает к окну, хватает Леньку в объятия и бежит обратно к дверям. Но добежать не успевает...
Страшный удар потрясает здание гостиницы. Месиво из треска и звона оглушает мальчика. Мать выпускает его из рук, оба они падают на пол и ползком, на четвереньках выбираются в коридор.
В дверях Ленька оглядывается, бросает последний взгляд в комнату. Подоконник, на котором за полминуты до этого он лежал, густо засыпан стеклом и штукатуркой. Голубой ламбрекен над окном соскочил с петли и покачивается, осыпанный розовой кирпичной пылью.
По коридору бегут люди. Многие из них полуодеты, а некоторые и вовсе в одном нижнем белье.
Какая-то смертельно бледная дамочка, прислонившись затылком к стене, истерически плачет и хохочет.
— Что? В чем дело? Что случилось? — спрашивают вокруг.
Новый удар грома. Электрическая лампочка над головой начинает часто-часто мигать.
— Вниз! Граждане! Господа! Вниз, в подвал! — раздается чей-то властный, начальственный голос.
Все кидаются к лестнице.
— Вот оно, вот... Дождались, — говорит какой-то бородатый, старорежимного купеческого вида человек. И, подняв к потолку глаза, он истово крестится и громко шепчет: — Слава тебе... Наконец-то... Началось...
— Да что? Что такое началось? — спрашивают у него.
— Эх, господа! Да неужто ж вы не понимаете? Восстание началось! Восстание против большевиков...
Белогвардейский мятеж, в самом центре которого так неожиданно для них оказались Ленька и его мать, был поднят эсером Борисом Савинковым по заданию и на деньги руководителя английской миссии в Москве Роберта Локкарта. Мятеж был приурочен к моменту высадки англо-франко-американского десанта на севере республики. В эти же июльские дни 1918 года эсеры пытались поднять восстание в ряде других советских городов — в Рыбинске, в Муроме и даже в Москве, где им удалось на несколько часов захватить Трехсвятительский переулок и открыть артиллерийский огонь по Кремлю.
Всего этого, конечно, в то время не могли знать не только Ленька, но и другие, более взрослые обитатели подвала, где нашли приют и защиту случайные постояльцы гостиницы "Европа".
В этом тесном, сыром и темном подвале Ленька провел несколько дней. Весь первый день он просидел на ящике из-под пива, босой, закутанный в мамино пальто. Со сводчатых потолков капала ему на голову вода. От запахов плесени и гниющего дерева трудно было дышать. И тем не менее Ленька чувствовал себя превосходно. Новые люди, новые впечатления, а главное, ощущение опасности, которая снова нависла над головой, — о чем еще может мечтать десятилетний мальчик, которого доктора и болезни на целых два месяца уложили в постель?!
А в подвале, где к обеду набилось уже человек сто "европейцев", постепенно налаживалась жизнь. То тут, то там замигали свечные огарки, из ящиков и бочек устраивались столы и кровати, завязывались разговоры и знакомства, появилась откуда-то пища и даже вино.
Рядом с Ленькой, на соседнем ящике, сидел белокурый парень в поношенной клетчатой куртке с коричневыми кожаными пуговицами. Человек этот ни с кем не разговаривал, сидел мрачный и без конца курил из черного деревянного мундштука самодельные папиросы. По другую сторону на водочном бочонке восседал тот самый, бородатый, купеческого вида господин, который так истово крестился на лестнице и с таким ликованием приветствовал начавшееся восстание. Остальных Ленька не видел или видел смутно. Но что это была за публика — нетрудно было догадаться по отрывкам разговоров, которые до него доносились. Все были радостно взволнованы, все ждали чего-то... Слово "господа", которое Ленька успел уже забыть за восемь месяцев новой власти, звучало и этих разговорах особенно часто и как-то нарочито громко и даже развязно.
— Господа! Прошу извинения, — кричал кто-то из темноты. — Нет ли у кого-нибудь ножика для открывания консервов?
— Господа! Не имеется ли желающих сразиться в преферанс?
— Тише, тише, господа! В конце концов, происходят великие события, а вы...
— А откуда вам, милостивый государь, известно, что они великие?
— В самом деле, господа! Тише! Кажется, наверху опять стреляют...
— Боже мой! Какой ужас! У меня в номере полтора пуда крупчатки и десять фунтов сливочного масла!..
Что происходит наверху, в городе, никто еще толком не знал. Изредка доносились сюда орудийные выстрелы, но стены подвала были такие толстые, что трудно было понять, стреляют это или просто передвигают шкаф или диван где-нибудь в первом или втором этаже.
...В середине дня несколько наиболее отважных мужчин отправились наверх на разведку. Вместе с ними ушел и Ленькин бородатый сосед. Через час или полтора он первый вернулся в подвал. Лицо его сияло, в руке он держал какую-то бумагу.
— Ну, что? Как? — набросились на него.
— Постойте, господа, минуточку, — бормотал он, радостно улыбаясь и в то же время озабоченно озираясь. — Где тут мое место будет? Я саквояжик оставил. Ах, вот он!.. Ну, слава тебе...
— Да что же там происходит? Вы узнали что-нибудь?
— Узнал, узнал... Дайте отдышаться. Радость-то какая!
Бородач садится, ставит себе на колени клеенчатый саквояж, вытирает платком лицо, плачет и бормочет:
— Свергнули, свергнули... Нету их больше, окаянных... И красной тряпки нету над Советом, и самого Совета нет. Вот — приказ выпущен. Читайте кто-нибудь, а я, братцы, не могу... У меня слезы...
Кто-то берет у него из рук бумагу и при свете свечного огарка громко читает:
— "Приказ. Параграф первый. На основании полномочий, данных мне главнокомандующим Северной Добровольческой армии, находящейся под верховным командованием генерала Алексеева, я, полковник Перхуров, вступил в командование вооруженными силами и во временное управление гражданской частью в ярославском районе, занятом частями Северной Добровольческой армии..."
— Послушайте, — говорит кто-то. — Откуда же здесь взялась Добровольческая армия?
— Не перебивайте! Не все ли равно?
— Очень даже не все равно.
— Сейчас, сейчас все расскажу, — бормочет бородач. И в то время, как остальные читают и слушают приказ мятежного полковника, он рассказывает соседям:
— Все, все точно узнал. Верного человека встретил — с Романовской мануфактуры конторщик. Он из нашего села, вроде как бы свойственник мне. Он здесь, на Власьевской живет, недалеко, возле монастыря, где, знаете, газетчик такой, вроде как бы на еврея или на армянина похож...
Леньке хочется дернуть рассказчика за бороду, — до того нудно и неинтересно он рассказывает.
— Кто же поднял восстание? — нетерпеливо спрашивает кто-то из слушателей.
— Рабочие подняли. Я ж говорю... С Дунаевской фабрики рабочие восстали, разгромили районный совдеп, перебили коммунистов и огромной массой направились в центр...
— Позвольте! Это что-то не того!..
— Да, да. Правду говорю. Со всех фабрик рабочие — не только с Дунаевской, а и с Нобеля, и с Большой мануфактуры, и с Константиновского...
— Чепуха!
Ленька обернулся. Это слово, — кажется, первое за весь день — произнес белокурый молодой человек в клетчатой куртке. Бородач тоже повернул голову.
— Позвольте! Это почему же вы так выражаетесь: чепуха?!
— А потому, что вы — попросту говоря, врете!
— Вру?
— Да, врете.
— А вы что же — сомневаетесь?
— Вот именно. Сомневаюсь.
— Ах, вот как? Значит, по-вашему, выходит, — рабочие довольны большевиками?
Молодой человек молчит. Ленька видит, как на его загорелых скулах ходят, подрагивают желваки.
— Значит, я говорю, вы считаете, что рабочий народ стоит за большевиков? Так, что ли, выходит?
— Знаете что, дяденька... Идите вы к черту! — сквозь зубы говорит белокурый. И, отвернувшись, он достает из кармана кожаный кисет и начинает свертывать новую папиросу.
...Тем временем в подвал возвращаются один за другим и остальные разведчики. Никто из них ничего толком рассказать не может, но все в один голос заявляют, что восстание победило, что Советская власть в городе свергнута и что уже приступило к исполнению обязанностей какое-то новое "демократическое правительство".
— Послушайте, а что делается — там, наверху, в номерах? — спрашивает у одного из разведчиков Александра Сергеевна.
— Все в полном порядке, сударыня. Стекла выбиты, воздух чистый, за окнами, вместо соловьев, посвистывают пульки...
— А как вы считаете, — не слишком опасно будет подняться туда? У меня мальчик тяжело болен. Надо взять кое-что из гардероба...
— Гм... Не советую. А впрочем, дело вашей личной отваги.
— Мама... не ходи, — хрипит Ленька.
— Ничего, Лешенька. Посиди пять минуток. Я все-таки попробую, схожу.
— Мама, не надо, там же пули свистят!..
— Ничего, детка. Бог милостив. Как-нибудь. Я должна раздобыть хоть что-нибудь. Иначе ты окончательно простудишься.
— Давайте я схожу...
Это сказал молодой человек в клетчатом. Он вынул изо рта свой черный мундштук и без улыбки смотрит на Александру Сергеевну.
— Благодарю вас, — говорит она растроганно. — Вы очень любезны. Но ведь вам одному там все равно ничего не найти... Может быть, если вам не трудно, вы проводите меня? Все-таки мне будет не так страшно...
— Пожалуйста. Идемте, — говорит белокурый, поднимаясь с ящика.
...Мать уходит.
Ленька остается один, и в первый раз за этот день ему становится по-настоящему страшно. Чтобы не думать о матери, он старается внимательно слушать, о чем говорят вокруг. Но то, что он слышит, нисколько не умаляет его страха.
— Господа! Совершенно исключительные новости, — объявляет кто-то у входа в подвал. — Я только что был на улице и своими глазами видел последнюю сводку. Оказывается, восстанием охвачен не только Ярославль. Идут бои в Петрограде, в Москве, во многих городах Поволжья!
— Не может быть!..
— Я же вам говорю, своими глазами видел.
— А вы что, собственно говоря, восстание в Москве видели или сообщение об этом?
— Да... сообщение...
— Ведь вот Фомы неверные, — бормочет Ленькин сосед-бородач. Радоваться надо, а они — "чепуха" да "не может быть"...
— А что на улицах?
— На улицах еще не совсем спокойно. Постреливают. Но, по всей видимости, сопротивление большевиков уже сломлено.
— Да, да, сломлено, сломлено, — бубнит Ленькин сосед, и опять у Леньки появляется желание схватить этого человека за бороду.
Минуты идут, а мать не возвращается.
За Ленькиной спиной кто-то взволнованным, дрожащим и даже всхлипывающим голосом говорит:
— Простите, но это гадко! Это ужасно! Я не могу забыть. У меня до сих пор в глазах эта сцена!..
— На войне, как на войне, уважаемый!
— Извините! Нет, извините! Это не война. Это называется иначе. Это убийство из-за угла.
— Ну, знаете, советовал бы вам все-таки выражаться поосторожнее!.. Проявление патриотических чувств народных масс называть убийством!..
— Да, да! И повторю, милостивый государь... Я старый русский интеллигент, старый земский деятель, ни малейших симпатий к большевикам не питал и не питаю, но я должен вам сказать, что это — убийство, подлое, гнусное, грязное убийство...
— Простите, о чем там речь? — спрашивает кто-то.
— Да видите ли, с председателем Ярославского исполкома Закгеймом не очень, так сказать, гуманно поступили. Казнили на улице без суда и следствия.
— Да... Казнили... Но как, как? Выволокли из квартиры на улицу, полуодетого, и зонтиками, зонтиками — по голове, по спине, по лицу... Молодые женщины, дамы, интеллигентные, миловидные...
— Эй, вы! В пенсне! Довольно вам разводить истерику! — кричит кто-то из дальнего угла.
Ленька сидит с ногами на ящике, ежится, кутается в мамино пальто и, зажмурившись, представляет себе эту страшную картину: полуодетого, сонного человека выталкивают, выволакивают на улицу, и нарядные дамы бьют и насмерть забивают его летними кружевными зонтиками...
Бородатый Ленькин сосед расстегнул саквояж, расстелил на коленях салфетку и с аппетитом, не спеша поедает толстые бутерброды, макает в бумажку с солью облупленные крутые яйца, пьет из бутылки молоко. Ленька уже давно хочет есть, но почему-то на эти бутерброды, яйца и молоко он смотрит с отвращением.
"Мама!.. Где же мама? Куда она пропала?"
И словно в ответ на этот вопль его души, где-то в дальнем углу подвала раздается знакомый глухой и встревоженный голос:
— Лешенька! Сынок! Мальчик! Где ты?..
— Здесь я!.. Мамочка, мама!.. — кричит он и чувствует, что голос его срывается...
Александра Сергеевна с трудом проталкивается к нему. В руках у нее одеяло, подушки и крохотный узелок с вещами.
— Почему ты так долго? — бормочет Ленька. — Где ты была? Я уж думал...
— Ты думал, маленький, что меня убили? Нет, мой дорогой, слава богу, как видишь, я жива. Но, представь себе, какой ужас, — пока мы с тобой сидели тут, нас дочиста обокрали!..
— Кто?!
— Откуда же я знаю, кто? Нашлись какие-то бессовестные, бессердечные люди, которые воспользовались несчастьем ближних и унесли буквально все, что было в номере. Осталась только всякая мелочь на туалете — гребенка, пудреница... немножко провизии... Да в шкафу я разыскала, на счастье, твои штанишки и сандалии.
— А шинель?
— Я же говорю тебе, — ничего нет: ни шинели, ни фуражки, ни моих калош, ни чемодана...
— Эх, народ! — смеется Ленькин сосед, заворачивая в салфетку остатки завтрака и пустую бутылку из-под молока. — Ловко работают! Молодцы ребята!
— Постойте, это что же значит? — говорит кто-то. — У меня же в номере все вещи остались!
— Боже мой! А у меня полтора пуда крупчатки и вот такая банка прекрасного вологодского масла!
Среди обитателей подвала поднимается паника. Многие устремляются наверх в надежде спасти хоть что-нибудь из оставленного имущества.
— Мама, — говорит Ленька, — а где же этот... клетчатый, с которым ты ходила?
— Ты спрашиваешь о молодом человеке, который провожал меня наверх? говорит Александра Сергеевна почему-то очень громко, как будто для того, чтобы ее услышали и другие, а не только Ленька. — Он сказал, что идет в город — разыскивать своего дядю. Его дядя — владелец писчебумажного магазина — где-то, кажется, на Казанском бульваре.
— Дядя... Магазин, — бормочет, прислушиваясь, бородач. — Я бы такого племянника за дверь выставил. Нахал этакий! А еще, оказывается, из приличной семьи юноша...
В узелке, который принесла из номера Александра Сергеевна, кроме Ленькиных штанов и сандалий оказалось несколько бутербродов, остатки нянькиных "яблочников" и "куличиков" и порядочный кусок шпика. Ленька оделся, то есть напялил на голые ноги форменные брюки и сандалии; Александра Сергеевна накрыла на стол, то есть расстелила на одном из ящиков скомканный лист газетной бумаги, и оба они с удовольствием поели.
— Там страшно? — спрашивал Ленька, набивая рот сухим картофельным яблочником и показывая головой наверх.
— Нет, в общем, не так уж страшно.
— Ну да! — как будто даже огорчился Ленька.
— В Петрограде бывало и пострашнее.
— Пули свистят?
— Мне, мой дорогой, было не до пуль.
Через некоторое время Ленька почувствовал необходимость сходить туда, где ему уже давно следовало побывать.
— Хорошо. Сейчас. Я провожу тебя, — сказала Александра Сергеевна, укладывая в узелок жалкие остатки завтрака.
— Не надо. Я сам, — сказал, покраснев, Ленька.
— Ты заблудишься.
— Ну, вот... Что я, маленький? Ты объясни только, как пройти.
— Да и объяснять нечего. Это совсем близко. Сразу на лестнице, на второй площадке. На двери увидишь два ноля. Но только, умоляю тебя, пожалуйста, сразу же возвращайся!
Ленька обещал не задерживаться, запахнулся в мамино пальто и, шлепая сандалиями, стал пробираться к выходу.
...В помещении с двумя нолями на дверях он действительно не задержался дольше, чем требовалось. Но когда он вышел на площадку, увидел ведущую наверх лестницу и пробивающийся откуда-то дневной свет, искушение поглядеть хоть одним глазом на то, что делается в гостинице и в городе, овладело им с такой силой, что он начисто забыл все обещания, данные матери.
"Только чуть-чуть погляжу и сразу вниз", — сказал он себе и, подобрав по-женски полы пальто, через две ступеньки на третью побежал наверх.
Ему пришлось пробежать три или четыре лестничных марша, прежде чем он очутился в длинном гостиничном коридоре, по обе стороны которого бесконечной чередой тянулись маленькие, желтые, похожие одна на другую двери. Над каждой из них висела белая табличка с номером. Некоторые двери были приоткрыты или распахнуты настежь, и оттуда струился тусклый сумеречный свет. Посмотрев по сторонам, Ленька прислушался и осторожно заглянул в одну из комнат. Там никого не было. В разбитое окно дул свежий волжский ветер. Вся комната была засыпана битым стеклом и штукатуркой. Платяной шкаф был раскрыт, на полу у дверей валялась железная платяная вешалка. На столе посреди комнаты стояла недопитая бутылка "Боржома", открытая коробка анчоусов, две рюмки, стакан, лежала скомканная салфетка.
Чувствуя, как бьется его сердце и как противно хрустит под ногами стекло, Ленька на цыпочках вошел в комнату, приблизился к окну и выглянул на улицу.
Пушки под окном уже не было. Солнечный вечерний свет заливал улицу, площадь, золотил яркую зелень бульвара, горел на осколках стекла и на белых китайских вазах в разбитой вдребезги витрине магазина "Сиу". Площадь была пуста, лишь несколько штатских с винтовками за плечами лениво похаживали взад и вперед у подъезда углового дома... Было тихо, только навострив уши, Ленька расслышал отдаленные винтовочные и пулеметные выстрелы. Действительно, в Петрограде было гораздо страшнее и куда интереснее.
...Слегка разочарованный, он вернулся в коридор и хотел уже идти к лестнице, как вдруг дверь соседнего номера открылась и оттуда — с большим медным чайником в руке — вышел молодой человек в клетчатой куртке.
Ленька почти столкнулся с ним.
— Здравствуйте, — сказал он, опешив.
— Здравствуй, — ответил тот, останавливаясь. — Не узнаю. А-а! Ты что тут делаешь?
— Я так. В уборную ходил.
— Нашел?
— Нашел.
— Молодец.
— А вы что, — не нашли своего дядю?
— Какого дядю? Ах, дядю? — усмехнулся молодой человек. — Да нет, дядя, оказывается, уехал в Америку...
— В какую? В Северную или в Южную?
— Черт его знает, — в Центральную, кажется. Ничего, проживем как-нибудь и без дяди.
— А вы почему в подвал не вернулись? — спросил Ленька.
— Да понимаешь... Как тебе сказать... Здесь наверху удобнее. Никто не мешает.
— А пули?
— Что ж пули... На свете, братец ты мой, есть вещи куда более неприятные, чем пули. Постой, а с какой стати ты таким халатником вырядился?
— Нас же обокрали, — сказал Ленька.
— Где? Когда?
— Здесь, в номере. Вы разве не знаете?
— Нет. И много унесли?
— Всё унесли. Даже шинель мою утащили.
— Гимназическую?
— Нет, я реалист.
— Жалко. Послушай, скажи, пожалуйста, — а кто твоя мать?
— Учительница.
— Ах, вот что? Гм... Она у тебя хорошая. Правда? Ты любишь ее?
— Люблю, — пробормотал Ленька.
Молодой человек постоял, помолчал и сказал:
— Ну, иди, простудишься.
Ленька не успел сделать и двух шагов, как белокурый снова окликнул его:
— Эй, послушай!
— Что? — оглянулся Ленька.
— Тебя как зовут?
— Алексей.
— Вот что, Алеша, — вполголоса сказал парень. — Ты... это... лучше не говори никому, что меня здесь видел. Ладно?
— Ладно. А маме тоже не говорить?
— Маме можешь сказать. Только потихоньку. Понял?
— Понял.
— Ну, беги. Не упади только в своем балахоне.
Ленька постоял, проводил глазами белокурого и пошел к лестнице. Но оказалось, что найти лестницу не так-то просто. Больше того, оказалось, что найти ее совершенно невозможно. В коридоре было такое огромное множество дверей и все они были до того похожи одна на другую, что через несколько минут мальчик совершенно запутался и потерялся.
Он толкался то в одну, то в другую дверь. Одни двери были заперты на ключ, открывая другие, он попадал в чужие номера.
Наконец он увидел дверь, не похожую на остальные. Над дверью висел продолговатый ящик-фонарь, на черном стекле которого красными буквами было написано:
ЗАПАСНЫЙ ВЫХОДЪ
Ленька толкнул дверь. Она открылась, и он очутился на лестнице.
"Слава богу! Наконец-то!.."
Шлепая сандалиями, он побежал вниз. Вот на площадке рыжая облупленная дверка с двумя тощими черными нолями. Вот, рядом с ней, ярко-красный, как пожарная бочка, огнетушитель. Он хорошо помнит его. Он видел этот огнетушитель, когда бежал наверх. Еще один лестничный марш — и перед ним низенькая, обшитая железом дверь в подвал. С разбегу он налетает на нее, толкает и чувствует, что дверь не открывается. Он еще раз, из всех сил наваливается на нее плечом — дверь не поддается. Похолодев от страха, он начинает барабанить кулаками по ржавому железу. Никто не откликается. Он прикладывает ухо к двери, садится на корточки, заглядывает в большую замочную скважину. Из скважины в глаз ему дует кладбищенским холодом. В подвале тихо.
"Господи! Что такое? Куда же они все девались?!"
От чрезмерных волнений он снова испытывает срочную необходимость побывать в помещении с двумя нолями на дверке.
Пошатываясь, он поднимается площадкой выше, толкает коленом рыжую дверь и видит, что и эта дверь закрыта!
Но на этот раз он чувствует даже некоторое облегчение. Значит, за дверью кто-то есть. Значит, кто-то выйдет сейчас, объяснит ему, в чем дело, поможет найти маму.
Минуту или две он деликатно ждет, потом осторожно стучит костяшками пальцев по двери. Никто не отзывается.
И тут он с ужасом замечает, что дверь в уборную заколочена. Большие ржавые гвозди в двух местах наискось торчат из косяка двери.
Повернувшись спиной к двери, Ленька изо всех сил колотит в нее ногой.
И вдруг его осеняет догадка: он же не туда попал!.. Это не та лестница! Не могли же, в самом деле, за то время, что он был наверху, заколотить гвоздями уборную!..
Он бежит наверх. Опять он в этом ужасном, длинном, как улица, коридоре с бесконечными рядами похожих друг на дружку дверей. Но теперь он знает: надо искать дверь, над которой нет таблички с номером. Он находит такую дверь. Он бежит по лестнице вниз и, пробежав полтора марша, убеждается, что опять не туда попал. Лестница приводит его на кухню. В нос ему ударяет запах кислой капусты и мочалы. Он видит кафельные белые стены, огромную плиту, жарко начищенные медные котлы и кастрюли.
Хватаясь за шершавые железные перила, он тащится наверх. В глазах у него начинает мутиться.
"Надо найти этого... белокурого, — думает он. — Он поможет мне... Надо только вспомнить, где он живет, из какого номера он вышел тогда с чайником..."
Ага! Вспомнил. Он вышел вон из той двери, как раз против кипяточного бака.
Он подбегает к этой двери, стучит.
— Да, войдите, — слышит он недовольный голос.
Он открывает дверь, входит и видит: пожилой лысый человек в желтовато-белом чесучовом пиджаке ползает на коленях посреди комнаты и завязывает веревкой корзину.
— Тебе что? — спрашивает он, изумленно подняв брови.
— Ничего... простите... я не туда попал, — лепечет Ленька.
Человек вскакивает.
Ленька выбегает в коридор.
— А ну, пошел вон! — несется ему вдогонку разъяренный голос. За спиной его хлопает дверь, поворачивается в скважине ключ.
Он стучит в соседнюю дверь. Никто не отвечает. Он толкает ее. Дверь закрыта.
Он мечется по коридору, как мышонок по мышеловке.
...И вот он попадает еще на одну лестницу. Эта лестница устлана ковровой дорожкой. Стены ее разрисованы картинами. На одной из них наполеоновские солдаты бегут из России. На другой — Иван Сусанин завлекает поляков в дремучий лес. На третьей — бородатый благообразный староста оглашает перед крестьянами манифест царя об "освобождении". На бумаге, которую он читает, большими буквами написано: "19-е февраля".
Конечно, в другое время и при других обстоятельствах Ленька не удержался бы, чтобы не рассмотреть во всех подробностях эти увлекательные картины. Но сейчас ему не до поляков и не до французов. Ему кажется, что положение, в котором он очутился, гораздо хуже всякого голода, плена и крепостной зависимости.
Он снова плетется наверх. Ноги уже еле держат его. И вдруг он слышит у себя за спиной мягкие мелкие шаги. Он оглядывается. По лестнице, придерживаясь рукой за бархатные перила, поднимается немолодой полный человек с бесцветной сероватой бородкой. Ленька успевает подумать, что человек этот очень похож на его покойного дедушку. На белом пикейном жилете блестит золотая цепочка, в руке позвякивает связка ключей.
И почти тотчас внизу хлопает дверь, и вдогонку ему раздается хрипловатый юношеский голос:
— Папа!
Человек остановился, смотрит вниз.
— Да, Николашенька?
Его догоняет высокий молодой офицер. На плечах его блестят новенькие золотые погоны. Новенькая кожаная портупея перетягивает стройную атлетическую грудь. Новенькая желтая кобура подпрыгивает на поясе.
— Что, Николаша?
— Ты знаешь, — говорит, слегка запыхавшись, офицер, — надо, в конце концов, что-то предпринять. Я сейчас прошел по номерам... Это же черт знает что! Этак через два дня, глядишь, не останется ни одной подушки, ни одной электрической лампочки и ни одного графина...
И тут офицер замечает Леньку, который, перегнувшись через перила, смотрит на него с верхней площадки.
— Эй! Стой! — кричит он и с таким страшным видом устремляется наверх, что Ленька, отпрянув, кидается к первой попавшейся двери.
В дверях офицер настигает его. Схватив Леньку за плечо, он тяжело дышит и говорит:
— Ты что тут делаешь, мерзавец? А?
— Ничего, — бормочет мальчик. — Я... я заблудился.
— Ах, вот как? Заблудился?
И, выглянув на лестницу, офицер кричит:
— Папа! Папа! Изволь, полюбуйся... Одного поймал!
— Да, Николашенька... Иду. Где он?
Офицер крепко держит Леньку за плечо.
— Ты посмотри — а? На нем же, негодяе, дамское пальто, — говорит он и с такой силой встряхивает Леньку, что у мальчика щелкают зубы.
— Ты где взял пальто, оборванец? А? — кричит офицер. — Я спрашиваю — ты у кого украл пальто, подлая образина?
От боли, ужаса и отвращения Ленька не может говорить. Он начинает громко икать.
— Я... я... ик... не украл, — задыхаясь бормочет он. — Это... это мамино пальто...
— Мамино? Я тебе дам мамино! Я из тебя, уличная шваль, отбивную котлету сделаю, если ты сейчас же не скажешь!
— Коленька! Коля! — смеется старик. — Оставь его, отпусти... Ты же из него и в самом деле все внутренности вытряхнешь. Погоди, сейчас мы разберемся. А ну, чиж паленый, говори: откуда ты взялся? Где твоя мать?
Икота не дает Леньке говорить.
— Ик... ик... в подвале.
— В каком подвале? На какой улице?
— Ик... ик... на этой.
— На Власьевской? А какой номер дома?
— Ик... ик... не знаю.
— Не знаешь, в каком доме живешь? Вот тебе и на! Сколько же тебе лет?
— Де... десять.
— Да это ж, Коленька, форменный идиотик. В десять лет не знает номера своего дома.
— Оставь, пожалуйста. Какой там идиотик! Не идиотик, а самый настоящий жулик.
И пальцы офицера с такой силой впиваются в Ленькино плечо, что мальчик вскрикивает.
— Оставьте меня! — кричит он, завертевшись вьюном. — Вы не смеете... Еще офицер называется... Я здесь, в этом доме, в гостинице живу!..
— Ха-ха!.. Остроумно! В каком же, интересно, номере? Может быть, в люксе?
— Не в люксе, а в подвале.
— Стой, стой, Николаша, — говорит встревоженно старик. — А может, и верно, а? Ведь они там, и в самом деле, все в подвал забились...
— Да ну его. Врет же. По глазам вижу, — врет.
— А мы это сейчас выясним. А ну, пошли, оголец! Кстати, я и сам хотел туда заглянуть. Неудобно все-таки, надо навестить публику.
Сознание, что сейчас он увидит маму и что страданиям его приходит конец, заставляет Леньку на время забыть обиду. Подобрав подол злополучного пальто и шлепая сползающими сандалиями, он бодро шагает между своими конвоирами.
И вот он в подвале; протискивается навстречу матери и слышит ее возмущенный и встревоженный голос:
— Леша! Негодный мальчишка! Ты где пропадал столько времени?!
Он кидается ей на шею, целует ее и, показывая пальцем на офицера, захлебываясь, икая, глотая слезы, жалобно бормочет:
— Он... Он... ик... Он... этот... меня... меня...
Офицер смущенно переглядывается со своим спутником.
— Гм... Так, значит, это ваш мальчик, мадам? — говорит старик в пикейном жилете.
— Да, это мой сын. А что случилось?
— Да ничего. Сущие пустяки, — со сладенькой улыбкой объясняет офицер. Ваш мальчуган заблудился, попал не на ту лестницу... И мы с отцом, так сказать, вывели его на путь истины...
— Благодарю вас. Вы очень любезны.
— Пожалуйста! Совершенно не за что, — говорит офицер и, щелкнув каблуками, поворачивается к своему спутнику:
— Н-да, папаша... Комфортом здесь у вас, надо признаться, и не пахнет.
— Не пахнет, не пахнет, Николашенька, — соглашается тот. И, по-хозяйски осмотрев помещение, он обращается к присутствующим:
— Ну, как вы себя здесь чувствуете, господа?
— Великолепно! — отвечают ему из разных углов.
— Не жизнь, а сказка.
— Не хватает только тюремных оков, надсмотрщиков и орудий пытки.
— А ведь вы, господа, совершенно напрасно себя здесь замуровали. Можно и в номерах отлично устроиться.
— Да? Вы считаете? А не опасно?
— Ну, полно. Какая там опасность! Никакой опасности нет. Большевики наголову разбиты, и не только у нас, но и по всей губернии. Вот мой сынок, подпоручик, может вам подтвердить это.
— Совершенно точно, — подтверждает молодой офицер. — Военные действия в Ярославле закончены. В городе устанавливается порядок. Никакой опасности для лояльно настроенного населения нет.
Прижавшись к матери, обхватив руками ее теплую шею, Ленька с ненавистью смотрит на этого надутого щеголя, на его пухлые, румяные щеки, на его прилизанные, нафиксатуаренные виски, на большие белые руки, которые поминутно поправляют то портупею, то пояс, то кобуру на нем.
— Скажите, — спрашивает кто-то. — А правда, что в Москве и в Петрограде тоже идут бои?
— Насколько мне известно, не только в Москве и в Петрограде, но и по всей стране.
— Да что вы говорите?!
— Значит, и в самом деле можно покидать это подземелье?
— Можно, господа, можно, — говорит человек с цепочкой. — Незачем вам здесь чахотку наживать. Правда, не посетуйте, порядка у нас в гостинице пока немного. Прислуги, видите ли, не хватает. Разбежались. Но завтра с утра, не беспокойтесь, все это наладим.
Перед уходом он еще раз обращается к обитателям подвала:
— Кстати, поимейте в виду, господа: завтра с утра открываем ресторан. Милости просим. Чем богаты, тем и рады.
— Действительно кстати, — отвечают ему. — А то уж мы тут на пищу святого Антония переходим.
— Только такое условие, господа, — улыбаясь говорит в дверях старик. На радостях завтрашний день угощаю всех за свой счет.
Провожаемый шутливыми аплодисментами и криками "ура", он выходит на лестницу. Вместе с ним уходит и офицер.
— Кто это? — спрашивают вокруг.
— Да неужто ж вы не знаете, господа? — обиженным голосом говорит всезнающий бородач. — Это ж Поярков, хозяин гостиницы.
— А молодой?
— А молодой — его сынок. Академик.
— Как академик?
— А так. Учился в Москве в Петровской сельскохозяйственной академии. В войну был прапорщиком. При Керенском до подпоручика дослужился. А нынче приехал к отцу на каникулы и — вот, пожалуйста, угодил, так сказать, прямо к светлому праздничку.
— А погоны он что, с собой привез? — спрашивает кто-то. Студенты-петровцы, насколько мне известно, погон не носят.
— Значит, уж где-нибудь прятал. Своего часа ждал.
— Погоны что! А вот где они пушку взяли?!
...Тем временем Александра Сергеевна, уложив Леньку на приготовленную из ящиков постель и пристроившись рядом, вполголоса распекала мальчика.
— Нет, дорогой, — говорила она. — Это невозможно. Придется мне, как видно, и в самом деле привязывать тебя за веревочку...
— Привяжи! Привяжи! Пожалуйста! — шептал Ленька, прижимаясь к матери и чувствуя, как мягкая прядка ее волос щекочет его щеку. В эту минуту он только этого и хотел — чтобы всегда, каждый час и каждое мгновенье быть рядом с нею.
— Простудился небось, безобразник?
— И не думал.
— Господи, даже градусника нет. А ну, покажи лобик. Нет... странно, температуры нет. Ну, давай спать, наказание ты мое!..
В подвале уже устраиваются на ночь. То тут, то там вспыхивают и гаснут свечные огарки. Смолкают разговоры. Кое-кто пробирается к двери, ободренные хозяином, многие обитатели подвала уходят наверх.
— А мы не пойдем? — спрашивает Ленька.
— Куда ж на ночь?.. Подождем до завтра. Там видно будет.
— Мама, значит, большевиков уже нет больше?
— Как видишь, говорят, что нет.
— И в Петрограде?
— Говорят, что и в Петрограде восстание.
— А в Чельцове?
— Боже мой, не разрывай мне сердца. Спи, пожалуйста!
Но Ленька не может спать. Он думает о Петрограде, вспоминает Стешу, где она сейчас и что с ней? Думает о Кривцове, о Васе и Ляле, оставшихся на руках няньки. Вспоминаются, наплывая одно на другое, события дня. Ему кажется, что прошла вечность с тех пор, как он лежал в постели и читал "Тартарена из Тараскона"... А ведь это было лишь сегодня утром. Светило солнце, за окном шумел город, старик нищий кричал "матка боска", и все было так хорошо, мирно и спокойно.
— Не вертись, пожалуйста, Леша. Ты мешаешь мне спать, — сонным голосом говорит Александра Сергеевна.
— Штаны колются, — бормочет Ленька.
Он уже засыпает, и вдруг вспоминается ему его черная реалистская шинель и черная с апельсиновыми кантами и с латунными веточками на околыше фуражка... Господи, неужели действительно они пропали? Неужели ему теперь всю жизнь придется ходить таким халатником, как назвал его давеча этот молодой человек в клетчатой куртке?..
— Мама, — говорит он вдруг, приподнимаясь над подушкой.
— Ну?
— Ты спишь?
— Боже мой!.. Нет, это невозможно!..
— Мамочка, — шепчет ей в ухо Ленька, — ты знаешь, а ведь я видел того, клетчатого...
— Какого клетчатого?
— Ну, того, который тебя провожал наверх.
Александра Сергеевна молчит. Но Ленька чувствует, что мать проснулась.
— Где? — говорит она очень тихо.
— Он здесь, в гостинице... У себя в номере...
— Не шуми!.. Ты разбудишь соседей. Ты говорил с ним?
— Да. Ты знаешь, у него, оказывается, дядя в Америку уехал...
— Куда?
— В Америку. В Центральную... Это где? Там, где Мексика, да?
— Да... кажется... Только ты, милый, никому не говори об этом.
— О чем?
— О том, что ты видел здесь этого человека. Понял?
— Понял. Он тоже просил не говорить. Он сказал, что ты — хорошая. Ты слышишь?
Александра Сергеевна долго молчит. Потом, обняв мальчика за шею, она крепко целует его в лоб и говорит:
— Спи, детка!.. Не мешай соседям.
И Ленька засыпает.
...Хозяин гостиницы не обманул. Утром пили чай в ресторане, где все было как в мирное время — мельхиоровая посуда, пальмы, ковры, белоснежные скатерти, официанты в полотняных фартуках... Сам Поярков стоял за буфетной стойкой и, улыбаясь, кланяясь, приветствовал входящих гостей.
Официантов было немного, они сбивались с ног, разнося по столикам чайники с чаем и кипятком, блюдечки с ландрином вместо сахара, сковородки с яичницей, черствые французские булки, сухие позавчерашние бутерброды...
Денег официанты с посетителей не брали.
— Не приказано-с, — улыбаясь и пряча за спину руки, говорили они, когда с ними пытались рассчитываться. — Завтра — пожалуйста, с нашим великим удовольствием, а нынче Михаил Петрович за свой счет угощают.
Ленька и Александра Сергеевна сидели за маленьким столиком у разбитого окна. Отсюда хорошо был виден и ресторан, и буфетная стойка у входа, и площадь, и театр, и магазин "Сиу и К°"
На залитых солнцем улицах уже не было так безжизненно и пустынно, как вчера вечером. То тут, то там мелькали за окном фигуры прохожих. Проехал извозчик. Пробежал босоногий мальчишка с керосиновым бидоном в руке. Где-то недалеко, в соседнем квартале, бамкал одинокий церковный колокол. На балкончике над магазином "Сиу" пожилая женщина в пестром капоте вытряхивала зеленый бобриковый ковер...
По мостовой, со стороны бульвара, нестройно прошла большая группа военных и штатских с винтовками за плечами. В последнем ряду с грозным видом шагали — тоже с ружьями на плечах — два гимназиста, один — высокий, с пробивающимися усиками, а другой — совсем маленький, лет тринадцати.
— Мама, смотри, смешной какой! — сказал Ленька, пробуя выдавить из себя презрительную усмешку. Но усмешка не получилась. Он почувствовал, что смертельно завидует этим вооруженным серошинельникам.
— Не зевай по сторонам, кушай яичницу, — окончательно убивая его, сказала Александра Сергеевна.
В ресторане стоял веселый гул, звенела посуда, слышался смех. То и дело хлопала дверь, появлялись новые посетители.
— Пожалуйста, пожалуйста, господа, милости просим, — кланялся и улыбался за буфетом хозяин. — Вон столик свободный... Никанор Саввич, пошевелись, — окликал он пробегавшего мимо старичка официанта.
Он весь сиял, этот седобородый добряк Поярков. Ленька смотрел на него, и ему казалось, что за ночь хозяин гостиницы еще больше пополнел, зарумянился, расцвел.
— Господа, слышали новость? — обращался он к сидящим за ближайшим от буфета столиком. — Городская управа с утра начала работать!
— Что вы говорите! Настоящая управа?
— Самая настоящая. Словечко-то какое приятное, а?
— Да, звучит весьма ласкательно.
— И кто же вошел в нее?
— Черепанов фамилию слыхали?
— Помещик?
— Он самый.
— Помилуйте, но это ж черносотенец, известный монархист.
— А вас что — не устраивает?
— Меня-то, пожалуй, устраивает, но ведь... вы понимаете...
— Еще бы не понимать. Все понимаю, уважаемый. Учтено. Там на все вкусы, так сказать, блюда приготовлены. И меньшевики имеются и кадеты... Эсерам даже — и тем местечко нашлось.
— А от рабочих?
— Ну, нет, это уж — ах, оставьте! Довольно. Побаловались.
— Послушайте, но ведь это же неумно.
— Ничего. Играть-то ведь нам уже не с кем. Все кончено.
— Как же кончено? На окраинах, говорят, и до сих пор постреливают.
— Э, бросьте. Какая там стрельба! Так просто — мальчишки-гимназисты небось балуются...
Хлопнула дверь. Хозяин повернул голову, оживился, поправил на шее полотняный воротничок, приветливо закланялся.
— Пожалуйста, пожалуйста, молодой человек... Заходите, милости просим...
— Мама, смотри, кто пришел, — сказал Ленька.
— Не показывай пальцем, — тихо ответила Александра Сергеевна.
У буфетной стойки стоял и что-то спрашивал у хозяина вчерашний белокурый парень в клетчатом полупальто. За ночь он похудел, осунулся, небритые щеки его покрылись рыжеватым пушком, глаза ввалились.
— Найдется коробочка, — весело отвечал хозяин, деликатно и с аппетитом выкладывая на прилавок коробок спичек. — Вот, сделайте милость... "Дунаевские"... С мирного времени еще...
Молодой человек закурил папиросу, жадно затянулся и полез в кармин за кошельком:
— Сколько?
Хозяин с улыбкой закинул за спину руки.
— Нет-с. Извините. Как сказано было. Условие-с.
— Какое условие?..
— А такое, что всё бесплатно.
— Почему?
— Ради праздника.
— Какого праздника? Ах да, — воскресенье?
— Эх вы! Юноша! Воскресенье!.. Праздник победы — вот какой!.. А вы, простите, я забыл, из какого номера? Память у меня что-то на радостях отшибло...
— Да я не из номера. Я так — с улицы зашел.
— Разве? Не останавливались у нас? Личность-то ваша мне как будто знакома... Ну, все равно. Будьте гостем. Позавтракать, чайку выпить не желаете?
— Позавтракать? А что ж, спасибо...
Молодой человек поискал глазами свободного места. Взгляд его остановился на столике, где сидели Александра Сергеевна и Ленька. Радостная улыбка шевельнула его губы. Несколько секунд он колебался, потом подошел, поклонился и сказал:
— Здравствуйте. Как поживаете?
— Благодарю вас, — ответила Александра Сергеевна. — Все более или менее благополучно. А как ваши дела?
Молодой человек покосился на соседний столик.
— Да так. Пока что похвастаться не могу. Паршиво.
— Пробовали что-нибудь предпринять?
— Пять раз пробовал.
— Были в городе?
— Был. И вчера вечером и сегодня... Ничего не вышло.
В это время опять распахнулась дверь, и в ресторан вошла с улицы группа вооруженных людей. Среди них был и молодой Поярков. Ленька не сразу узнал его. От вчерашнего щегольского вида подпоручика ничего не осталось. Фуражка с трехцветной кокардой была смята и сидела слегка набекрень. Сапоги запылились. Верхняя пуговица френча была расстегнута. Спутники его были не все военные, но все с оружием. У очень высокого и очень бледного студента-демидовца на поясе висело несколько гранат. Два штатских бородача (в одном из них Ленька с удивлением узнал вчерашнего соседа по подвалу) были вооружены охотничьими ружьями.
— Не стойте здесь, у всех на виду, — сказала Александра Сергеевна белокурому. Тот подумал, поклонился и отошел в дальний угол, где за столиком под искусственной пальмой старичок в золотом пенсне читал газету.
— Мама, — сказал Ленька. — А кто он такой?
— Я не знаю, кто он такой, — ответила Александра Сергеевна. — Но было бы лучше, если бы он ушел отсюда совсем.
— Куда же ему идти? Ведь дядя его уехал!
— Какой дядя?
— Ты же сама говорила...
— Ах, оставь, пожалуйста! Никакого дяди у него нет.
— Как нет? И в Америке?
— Послушай, Леша. Ты уже не маленький. Пора бы тебе разбираться в некоторых вещах.
Вошедшие военные тем временем сгрудились у буфетной стойки.
— Пить, пить... Умираем от жажды, отец, — говорил молодой Поярков, снимая фуражку и вытирая рукавом вспотевший лоб.
— Сейчас, Николашенька, сейчас, — суетился хозяин. — Чем угощать-то вас, защитнички вы наши?.. Крюшончика... лимонада... кваску? Да что же вы стоите, господа, вы присаживайтесь, пожалуйста!
— Некогда, папа, — буквально на двадцать минут отлучились.
Хлопали пробки. Шумно шипел в стаканах лимонад. Люди жадно тянулись к стаканам, опрокидывали их залпом. Их окружили, расспрашивали:
— Ну, что? Как?
— Отлично, отлично, господа, — говорил молодой Поярков, с трудом отрываясь от стакана.
— Но все-таки, по-видимому, еще идут бои?
— Какие там бои!.. Остатки добиваем.
— Но ведь и вчера говорили, что остатки.
— Рабочие Корзинкинской фабрики обороняются, — картавя, говорит студент-демидовец.
— Как рабочие? Значит, рабочие не поддерживают восстания?
— А вы что думали?.. Наивная душа!..
— Какие там рабочие! — сердито бормочет бородач. — Коммунисты, главари сражаются. А рабочий люд — он за порядок, за учредиловку, за старую власть.
— Ладно, папаша, — смеется молодой Поярков. — Публика тут все своя. Нечего, как говорится, пушку заливать...
— Позвольте! Это почему же вы так выражаетесь: "пушку"?
— Скажите, а Тверицы освобождены?
— Простите... господин подпоручик, — а правда, что американцы и англичане высадились в Мурманске?
— Господа... Не мешайте людям пить. Люди, можно сказать, кровь проливают, а вы...
Александра Сергеевна отставила стакан, машинально расстегнула сумочку, но, вспомнив, что платить за завтрак не надо, защелкнула ее, подумала и сказала:
— Ну, что ж, пойдем, мальчик?
— Куда?
— Попробуем устроиться в номере.
Они не успели отойти от столика, как за окном на улице послышался какой-то шум. Леньке показалось, что застучал пулемет. Но, оглянувшись, он увидел, что ошибся. По площади, со стороны бульвара, на полной скорости мчался мотоциклет. Лихо обогнув площадь, он круто развернулся, с грохотом вкатился на тротуар и остановился перед тем самым окном, у которого только что сидел Ленька. Крепкий запах бензина приятно ударил в нос. Не слезая с седла, человек в кожаном шлеме облокотился на подоконник, поднял на лоб очки, заглянул в ресторан и с одышкой, как будто мчался он сам, а не мотоциклет, произнес:
— Господа! Ура! Могу сообщить радостную новость. Только что получено сообщение... что частями Добровольческой армии... взята Москва!
Люди ахнули.
— Ура-а! — подскочил за прилавком хозяин.
Все, кто сидел, быстро поднялись.
"Уррра-а-а-а!" — загремело под сводами гостиницы.
Ленька взглянул на мать. Александра Сергеевна молчала. Лицо у нее было такое испуганное, столько тревоги и страха было в ее глазах, что мальчик и сам испугался. Он проследил за ее взглядом. Она смотрела попеременно то в угол, то на буфетную стойку.
В углу, у зеленой кадушки с пальмой сидел, опираясь на стол, молодой человек в клетчатой куртке. Он молчал, глаза его были опущены, губы плотно и брезгливо сжаты.
А у буфетной стойки, поглядывая на него, переговаривались о чем-то Поярков-отец, Поярков-сын и бородач-доброволец из подвала. Нетрудно было догадаться, о чем они говорят.
Но молодой человек так и не узнал об опасности, которая ему грозила.
Ленька не помнит, как и в какую секунду это произошло.
Что-то вдруг ухнуло, дрогнуло. Что-то оглушительно затрещало и зазвенело у него под ногами и над головой. Облако дыма или пыли на минуту закрыло от него солнечный свет.
Люди бежали, падали, опрокидывали стулья.
Еще один удар. Посыпались хрустальные подвески люстры.
Косяки входной двери надсадно трещали. Сыпались остатки матовых стекол с витиеватой надписью "Restaurant d'Europe".
Люди выдавливались в вестибюль гостиницы, и в этом диком людском водовороте покачивалось, вертелось, взмахивало когтистыми лапами неизвестно откуда взявшееся чучело бурого медведя.
Кто-то визжал, кто-то плакал, кто-то спрашивал в суматохе:
— Что? Что случилось? В чем дело?
И знакомый противный голос вразумительно объяснял:
— Да неужто ж вы не понимаете, господа! Красные!.. Красные начали обстрел!
— Какие красные? Откуда же красные?
Выбегая вместе с матерью из ресторана на лестницу, Ленька выглянул в окно. В это время что-то, курлыкая, просвистело в воздухе, что-то грохнуло, и на его глазах от высокого углового дома на площади отвалился и рассыпался, как песочный, целый угол вместе с окошками, с куском водосточной трубы и с балкончиком, на перилах которого висел зеленый бобриковый ковер.
ГЛАВА VI
И с тех пор уже ни на одну минуту не утихала эта страшная гроза. И днем, и ночью, и под землей, и на земле, и в воздухе — гремело, рушилось, свистело, шипело, взвизгивало, трещало, стонало, ухало...
План мятежа, поднятого эсерами и белогвардейскими офицерами, был разработан заблаговременно, тщательно и осуществлен с быстротой молниеносной. На первых порах мятежникам действительно везло. В первый же день рано утром им удалось с налета захватить артиллерийский склад, банк, телеграф и все центральные советские учреждения города. Гарнизон Ярославля, состоявший из трех пехотных полков и оставшийся до конца верным рабоче-крестьянскому правительству, был расквартирован, как это всегда бывает, по окраинным районам города. Военный комиссар Ярославского округа, как и многие другие партийные и советские работники, был зверски убит мятежниками. Восстание застало врасплох командиров отрезанных одна от другой красноармейских частей. Артиллерии у них не было. Связи тоже. Все это было очень на руку мятежникам. Небольшая кучка эсеровских авантюристов, возглавлявшаяся царским полковником Перхуровым, очень быстро, буквально в течение нескольких часов, превратилась в значительную и даже грозную силу. К повстанцам примыкали слетевшиеся в Ярославль еще задолго до мятежа бывшие царские офицеры, притаившиеся эсеры и меньшевики, студенты местного лицея, гимназисты и всякий темный сброд, падкий на деньги, которыми Перхуров щедро оплачивал своих "добровольцев".
Перевес в военных силах был поначалу на стороне мятежников. Но на стороне красных была сила, не менее грозная. На их стороне был народ. В первый же день, как только весть о восстании долетела до заводских окраин города, рабочим ярославских фабрик было роздано оружие, и вчерашние слесари, фрезеровщики, обувщики, железнодорожные машинисты, мыловары, кожевники, ткачи и табачники вышли на улицу и бок о бок с красноармейцами храбро отражали натиск повстанцев.
Эти первые рукопашные, баррикадные стычки помешали распространению мятежа за пределы города.
И все-таки опасность была очень велика.
Не перхуровцы были опасны и не гимназисты, которые шли на смерть во имя "белой идеи". За спиной перхуровцев стояли капиталистические государства Америка, Англия, Франция и другие. На их стороне была значительная часть крестьянства. Географическое положение Ярославля, его близость к Москве и к Петрограду, его ключевое, как говорят военные, положение на стратегических коммуникациях — во много раз усиливали опасность.
Руководители молодого Советского государства понимали это. Несмотря на трудность момента, на тяжелое положение на других фронтах, к Ярославлю были срочно брошены воинские подкрепления, авиация и артиллерия.
При этом дано было указание — щадить город.
Советское командование сделало попытку освободить Ярославль путем прямых атак. Но положение мятежников, засевших, как в крепости, в центральной части города, и большое количество пулеметов, которыми они располагали, превращали эти атаки в бесполезное кровопролитие.
Перхуровцам предложили сложить оружие. Они отказались.
И тогда — на второй день мятежа — заговорили советские пушки.
Уже первыми залпами шестидюймовых орудий были разбиты и выведены из строя электростанция, телефон и водопровод.
В городе начались пожары.
Гостиница "Европа", находившаяся в самом центре осажденного города, в непосредственной близости от перхуровского штаба, невольно оказалась одной из мишеней обстрела.
В первый же день из гостиницы бежали все, кто имел для этого хоть какую-нибудь возможность. Остались лишь те, кому бежать было некуда. Среди этих немногих оказались и Александра Сергеевна с Ленькой. Три дня они просидели в подвале, где кроме них оставалось еще десять-двенадцать человек, главным образом женщин и стариков. Всех мужчин, способных носить оружие, к этому времени перхуровцы насильно призвали в свою "добровольческую" армию.
В подвале круглые сутки было темно. Выгорели не только все свечи, но и спички. Кончались последние крохи еды.
По вечерам, когда Леньке приходилось ощупью пробираться в помещение с двумя нолями на дверке, он видел в лестничном окне страшное багровое зарево. Окно было похоже на открытую дверцу огромной печки.
На четвертый день утром Александра Сергеевна, покормив Леньку остатками нянькиных колобков и куличиков и высыпав себе в рот мелкую сухарную крошку, оставшуюся в просаленной бумаге, заявила, что пойдет наверх — выяснить, нельзя ли раздобыть чего-нибудь съестного.
— Сиди, пожалуйста, смирно, — сказала она. — Я скоро.
— Нет, — твердо сказал Ленька. — И я с тобой.
Она поняла, вероятно, что он одну ее не отпустит, подумала и со вздохом согласилась:
— Ну, что ж. На все воля божья. Идем...
Первое, что поразило Леньку, когда он очутился в длинном гостиничном коридоре, — это свет. В коридоре не было окон, электричество не горело, и все-таки после подвала здесь было почти ослепительно светло. Освоившись с этим отраженным, неизвестно откуда взявшимся светом, Ленька увидел, что в коридоре живут. То здесь, то там стояли у стены кровати, некоторые были завешаны пологами; люди сидели и лежали на чемоданах, узлах и корзинах, читали, чинили белье, играли в карты, что-то жевали и пили из жестяных кружек.
Коридор стал похож на вокзал или на цыганский табор.
Александра Сергеевна разговорилась с какой-то немолодой, очень строгой на вид, грузной женщиной в круглых очках. Женщина оказалась сельской учительницей из уезда. Перед самым восстанием она приехала в Ярославль на какую-то педагогическую конференцию и застряла в гостинице. Все первые дни мятежа она провела у себя в номере. Накануне, когда она ходила за кипятком в ресторан, в номер ее попал снаряд. Пришлось перебраться в коридор.
— И вам не страшно здесь? — удивилась Александра Сергеевна.
— Да ведь не страшнее, сударушка, чем другим, — ответила учительница. А я, вы знаете, что делаю, матушка? Я, когда уж очень сильно пулять начинают, зонтиком закрываюсь.
И учительница с улыбкой показала на большой черный зонт, который лежал у нее в изножий кровати.
Эта суровая на вид женщина оказалась не только бодрой и бесстрашной, но и доброй. Она угостила Леньку и Александру Сергеевну ржаными сухарями, чаем и зеленым луком, который она купила на рынке в воскресенье, когда еще не так опасно было ходить по городу.
— Я и вчера вылазку делала, — сказала она улыбаясь. — Но это уж я так, по бабьей глупости. Никакие рынки и магазины в городе, конечно, не торгуют.
— Но, скажите, что же будет дальше? — спросила Александра Сергеевна.
— А что же может быть? Будет то, что этих негодяев переловят и поставят к стенке. А вот что будет с городом? Вы слышите, что делается?
За стеной стоял грозный однообразный гул, настолько однообразный, что он не замечался, не резал уха, не мешал слушать и говорить, как не мешает слушать и говорить стук мельницы или паровой машины.
— Значит, вы думаете, что красные возьмут город? — сказала Александра Сергеевна.
— А вы что, — сомневались, матушка? — усмехнулась старуха.
— И Москву тоже, значит, возьмут? — вмешался в разговор Ленька. Учительница строго посмотрела на него из-под очков и сказала:
— Это кто же, по-твоему, должен ее взять?
— Красные.
— Зачем же им, скажи, брать ее, если они и отдавать ее не собирались?
— Как? Ведь говорили...
— Говорили? Мало ли что говорят...
Опять это "мало ли что говорят"!..
"Значит, опять наврали?" — сердито подумал Ленька.
В тот же день Александра Сергеевна и Ленька перебрались из подвала в коридор. Устроились рядом с учительницей, имени которой Ленька никак не мог запомнить: звали ее Нонна Иеронимовна Тиросидонская. Из соседнего номера выкатили большую двуспальную кровать, где-то в другом этаже раздобыли подушки. В номерах гулял ветер, пахло дымом. И хотя подходить к окнам мать строго-настрого запретила Леньке, он успел все-таки увидеть темное, задымленное небо, разбитый угол дома и повисшую на каменном выступе детскую кроватку с блестящими никелированными шишечками.
Чай пили в ресторане. Теперь там даже днем царил полумрак, окна были заложены мешками с песком, только в одном окне наверху была оставлена узкая щель, в которую, как в тюремное окошко, скупо проникал уличный свет. Не было уже ни белых скатертей на столах, ни суетящихся официантов, ни хозяина за буфетной стойкой. Какой-то замухрыжистый старичок в грязном фартуке разносил по столам жиденький чай в стаканах без блюдечек и ложек. И все-таки в ресторане было всегда полно. За стенами бушевала гроза, а за столиками пили, ели, разговаривали, шутили, смеялись, спорили...
Иногда появлялся в ресторане старик Поярков. С деланной улыбкой, больше чем обычно выпячивая живот, позвякивая связкой ключей, проходил он мимо пустой буфетной стойки, смахивал с прилавка бумажку, ставил на место стул, поправлял клеенку на столе.
— Ну, как? Что нового? — спрашивали у него.
— Отлично, отлично, — говорил он, потирая осунувшуюся щеку.
Однажды он подошел к столику, за которым сидели Александра Сергеевна и Ленька.
— Ну что, как, чиж паленый? — сказал он, потрепав Леньку за ухо. Страшновато небось?
— Нет, — ответил Ленька. — Мы пгивыкли.
— Вон как! Быстро вы...
— Мы из Петрограда, — с улыбкой объяснила Александра Сергеевна.
— Вон что? Значит, воробьи стреляные?..
Хозяин постоял, поиграл ключами и хотел уже идти, но вдруг повернулся к Александре Сергеевне и сказал:
— Да, кстати, сударыня... я хотел спросить... Вы тут на днях разговаривали с молодым человеком...
— С каким молодым человеком?
— А такой... блондин... высокий... в курточке вроде как у жирафа...
Ленька взглянул на мать и увидел, как изменилось, стало напряженным, суровым и холодным ее лицо.
— Ах, я понимаю, о ком вы спрашиваете, — спокойно сказала она. Действительно, оказалось, что мы с ним старые знакомые — еще по Петрограду. Это двоюродный брат одной моей гимназической подруги — Мальцевой. Вероятно, вы знаете — известный фабрикант Мальцев.
— Ну как же!.. Хрусталь и посуда.
— Вот, вот... А почему, собственно, вы интересуетесь им?
— Да так просто. Личность показалась знакомой. А где же он тут проживает?
— Если не ошибаюсь, он живет у своего дяди, где-то на Казанском бульваре.
— А дядю его вы тоже знаете?
— Нет, дядю не знаю.
— Так. Ну, извините... Не темно вам тут, у этой баррикады?
— Нет, благодарю вас, ничего...
Хозяин поклонился и отошел к буфету. Ленька еще раз посмотрел на мать. Она сидела все с тем же, незнакомым ему, суровым и напряженным лицом. Он ничего не сказал ей и ни о чем не спросил.
...В листовках и воззваниях, которые ежедневно выпускали мятежники, они сулили населению горы всякой благодати, сытую жизнь, вольную торговлю... На самом же деле они не смогли даже наладить снабжение обывателей продовольствием из тех запасов, которые в городе имелись. В Ярославле начинался голод.
Уже который день по-настоящему голодали и Александра Сергеевна с Ленькой. Тиросидонская, чем могла, делилась с ними, но ведь и у нее были не бог весть какие запасы. Горсточки сухарей, которую, краснея, брала у нее Александра Сергеевна, хватало лишь на то, чтобы, посасывая их вместо сахара, выпить два-три стакана чая. Но скоро и чаем стало нельзя напиваться вволю. В городе не стало воды.
Однажды утром Ленька проснулся и обнаружил, что матери возле него нет. Не было на месте и Нонны Иеронимовны. Он подремал еще полчаса или час, очнулся — их все не было. Забеспокоившись, он быстро оделся и пошел узнавать у соседей: не видел ли кто-нибудь его матери и старухи в круглых очках? Нет, никто не заметил, когда и куда они ушли...
Женщины вернулись часа через полтора, когда Ленька уже весь истомился страхами. Он и обрадовался и огорчился одновременно, когда увидел, что мать и учительница смеются и громко разговаривают.
— Мама! — накинулся он на нее. — Ты где была? Куда вы ходили?
— В город, мой дорогой, в город мы ходили.
— Под обстрелом?!
— Ничего не поделаешь, милый. Жизнь такова, что приходится быть храброй.
— Но почему же ты мне ничего не сказала, не разбудила?
— Прости, детка. Я знала, что ты обязательно привяжешься... Зато смотри, с какими мы вернулись трофеями!..
Трофеи действительно были богатые: фунтов пять колотого сахара и огромное количество настоящего цейлонского кофе. Этими светло-зелеными, защитного цвета зернышками были доверху набиты и сумки, и ридикюли, и карманы обеих женщин.
— Вы где это купили? — удивился Ленька.
Женщины переглянулись и рассмеялись.
— Совсем недалеко, мой дорогой. В магазине "Сиу и компания", напротив... Ходили чуть ли не по всему городу, два раза чуть под пули не угодили, а оказалось, что "счастье так близко, так возможно"...
— А разве магазин торгует?
— Нет, разумеется.
— Значит, вы что, просто так взяли?
— Короче говоря, ты хочешь сказать, что твоя мать — магазинная воровка? Нет, золотко. Взять "просто так" нам не позволила совесть. Мы положили с Нонной Иеронимовной в кассу по двадцать пять рублей...
В тот же день кофе изжарили, смололи и собирались варить. Но, чтобы сварить его, требовалась вода, а воды не было.
Обычно воду для питья приносил за небольшую плату рыженький веснушчатый мальчик, сын гостиничного швейцара. Имени мальчика никто в гостинице не знал, звали его просто Рыжик или Водонос. Несколько раз в день, под обстрелом, с опасностью для жизни, бегал этот храбрый паренек на Волгу или на Которосль, возвращаясь оттуда с двумя полными ведрами.
Александра Сергеевна дала Леньке денег, поручила ему найти Рыжика и купить у него воды. Ленька взял большой стеклянный кувшин и отправился искать Рыжика.
На дверях швейцарской, где жил со своим родителем маленький водонос, висел замок. Не оказалось Рыжика и на кухне. Продолжая поиски, Ленька вышел во двор. Рыжика и там не было. И тут Леньку осенила мысль, которой он сначала и сам испугался.
"А что, если сходить за водой самому?" — подумал он. Ворота на улицу были открыты. Дул ветер, попахивало дымом, где-то очень близко гремели орудийные разрывы. Было и соблазнительно и страшновато, — ведь все-таки и дороги он не знает, и у матери не спросился.
"Э, ладно, — сказал он себе. — Если старые женщины, такие как Нонна Иеронимовна, ходят, то почему же я не могу? Они с мамой тоже ушли — ничего мне не сказали".
И ноги сами собой вынесли Леньку в переулок.
Здесь еще ядовитее пахло пожаром. В конце улицы горел многоэтажный дом, — в черном столбе дыма неторопливо, лениво, то исчезая, то появляясь вновь, бежали к небу огромные тусклые языки рыжеватого пламени. Мостовая на всем протяжении улицы была засыпана кирпичом, щебнем, битым стеклом. Куда ни глянешь, — мертво и пусто. Мертвые стоят дома с выбитыми стеклами, с осыпавшейся штукатуркой, с дырами в стенах. Кажется, что и в домах никого не осталось. Но вот в одном из окон второго этажа раздвинулась тюлевая занавеска, и оттуда осторожно выглянуло испуганное лицо пожилой женщины.
Размахивая кувшином, Ленька перебежал улицу.
— Мадам... простите, — закричал он, — вы не знаете, где тут Волга?
Старуха ошарашенно посмотрела на него, выставилась из окна и спросила:
— Чего тебе?
— Я говорю, где Волга находится, вы не знаете?
— Иди... иди... убьют, — прошамкала старуха и отпрянула, пропала за своей занавеской.
"Куда же идти?" — задумался мальчик.
У подъезда поблескивала медная дощечка:
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
"Загадаю, — решил Ленька. — Если в словах "зубной врач" количество букв четное, — пойду направо, если нечетное — налево".
Этим несложным способом решения трудных жизненных вопросов он пользовался давно, с тех пор как научился читать.
Сейчас его судьбу решил твердый знак, буква, которую при желании можно было и не брать в расчет, так как к этому времени ни твердого знака, ни ятя, ни фиты, ни ижицы уже не существовало в русском алфавите.
Ленька пошел налево и почти сразу же очутился на площади перед театром. Проходя мимо этого большого, похожего на Мариинский театр, здания, он с удивлением остановился. Ему показалось, что за стенами театра поют. Он хотел подойти ближе, но в это время из-за угла театра неторопливой походкой вышел человек в военной форме с винтовкой на плече и с белой повязкой на рукаве.
— Эй, ты! Шпингалет! Куда? — закричал он и, скинув с плеча ружье, быстро пошел по направлению к Леньке.
Мальчик на минуту застыл, но, увидев поближе свирепое лицо часового, сорвался с места и сломя голову побежал в переулок. Не успел он пробежать и двадцати шагов, как услыхал у себя над головой противный курлыкающий звук, и тотчас где-то впереди, на противоположной стороне улицы, поднялся к небу высокий и густой фонтан дыма, раздался оглушительный грохот, что-то посыпалось, повалился на мостовую фонарь...
Ленька с перепугу не сообразил, что на улице разорвался снаряд; ему показалось, что стреляют именно в него, поэтому он кинулся не назад, а вперед, проскочил мимо зияющей и дымящейся воронки, свернул за угол, пробежал по какой-то куче хрустящего и скрипящего стекла, еще раз куда-то свернул, выбежал на бульвар; и тут почти в упор его окликнули:
— Стой!
...Потом, вспоминая, он не раз удивлялся, как это он не уронил тогда своего стеклянного кувшина. Отшатнувшись, он увидел наставленный на него блестящий винтовочный штык, высокого бородатого офицера в пенсне, еще каких-то вооруженных военных, а за ними — толпу оборванных, худых, закоптелых и небритых людей. Испуганно разглядывая их, Ленька не сразу расслышал, как офицер в пенсне спросил у него:
— Куда и откуда?
— Что? — не понял Ленька.
— Я спрашиваю: как попал сюда? Кто такой?
— Я... я за водой ходил...
— Куда за водой?
— На Волгу.
— А где живешь?
— В гостинице... в "Европе"... на Власьевской улице... с мамой...
— Вот как? Живешь с мамой в "Европе" на Власьевской улице, ходил на Волгу за водой, а бежишь от Волги с пустым кувшином? Обыскать! — приказал офицер.
Коченея от ужаса, Ленька почувствовал, как в карманы его штанов залезли чужие руки. Эти же руки похлопали его по спине, по животу, под мышками.
— Оружия нет, господин поручик. Десять рублей советских денег и носовой платок.
— Не имеет значения. Взять!..
— А ну! — сказал человек, который обыскивал Леньку, и толкнул мальчика в плечо.
— Куда? Зачем? — закричал Ленька.
Его еще раз толкнули — на этот раз прикладом. Он споткнулся, опять чуть не выронил кувшина и громко заплакал.
— А, дьяволы, что делают! — сказал кто-то в толпе арестованных. Ребенка и того не жалеют...
— Беги, парень, чего смотришь, — басом сказал кто-то другой. Из-за спины офицера, усмехаясь, смотрел на Леньку немолодой человек в промасленной, как у паровозного машиниста, куртке. "Беги", — еще раз сказал он ему глазами. И было в этом взгляде что-то такое, что заставило Леньку послушаться. Он отскочил в сторону, пригнулся и с быстротой, с какой никогда в жизни не бегал, помчался вниз по бульвару.
— Сто-о-ой! — заверещало у него за спиной, и в то же мгновенье мальчик услышал, как над головой у него засвистело, что-то сильно ударило его в левую руку, что-то зазвенело, рассыпалось... Он кинулся направо, заметил в ограде бульвара чугунную вертушку турникета, ударился о нее животом, упал на песчаную дорожку, вскочил, захромал, на ходу потер колено, побежал наискось, удачно проскочил через второй турникет, пересек мостовую, свернул в переулок и, увидев распахнутую настежь магазинную дверь, скатился по ступенькам вниз и задыхаясь упал на какой-то ящик или бочонок.
Только тут он обнаружил, что левая рука его все еще сжимает стеклянную дужку от кувшина. Самого кувшина не было.
...Он не сразу сообразил, что это значит. Куда девался кувшин? Где и когда он разбился? И вдруг вспомнил, как сильно тряхнуло давеча его руку, и понял: в кувшин попала пуля. И не какая-нибудь, не шальная, а та самая пуля, которая метила не в кувшин, а в его собственную голову или спину.
Ленькина спина с опозданием дрогнула и похолодела. Но тут же он почувствовал и что-то похожее на гордость: в самом деле, ведь не всякому мальчику и не каждый день приходится попадать под ружейный огонь! И все-таки минут пять Ленька сидел в прохладной темноте магазина, не решаясь не только выйти на улицу, но и сделать лишнее движение...
Наконец, когда сердце его слегка успокоилось, а глаза освоились с полумраком, он встал, прошелся по магазину и огляделся.
Это был какой-то не совсем обыкновенный магазин. Торговали здесь странными вещами. На полу и на полках стояли и лежали новенькие блестящие плуги, сепараторы, пчелиные ульи, дымари, сетки, веялки, грабли, подойники... Одна из полок была сплошь завалена книгами и брошюрами. По соседству висели хомуты, вожжи и чересседельники. На другой полке лежали, сложенные пирамидкой, запечатанные пакеты и коробки с загадочными названиями: "суперфосфат", "каинит", "томас-шлак"... Тут же стояли, выстроившись в ряд, узенькие плоские бидончики с очень яркими этикетками. На одной из этих цветастых бумажек Ленька прочел: "Бордосская жидкость".
"Что это за жидкость такая?" — без особого интереса подумал он. И вдруг ясно представилось ему: солнечный летний день, огород на чельцовских задворках, синевато-зеленые кустики помидоров и большая смуглая нога, стоящая на заступе...
Да, теперь он не сомневался, — это была та самая бордосская жидкость, помидорное лекарство, о котором так мечтал и в котором так нуждался Василий Федорович Кривцов.
Мальчик стянул с полки самый большой бидончик. Он оказался довольно тяжелым — фунтов на пять весом.
"Ничего, как-нибудь дотащу, довезу", — подумал Ленька, и почему-то ему сразу стало уютнее и веселее в этом холодном, заброшенном магазине.
Теперь, когда был сделан первый шаг, мальчик осмелел и более решительно продолжал свои изыскания. Очутившись за прилавком и выдвинув один из ящиков, которые тянулись вдоль всей задней стены магазина, он обнаружил, что ящик полон каких-то мелких зеленовато-коричневых семечек. Наклонившись, он понюхал их. Пахли они довольно вкусно. Оставалось раскусить одно семечко и убедиться, что семечко хоть и горьковато на вкус, а все-таки вполне съедобно. Уже набив полные карманы этим не известным ему даже по названию продуктом и сунув под мышку жестянку с бордосской жидкостью, Ленька вдруг спохватился и сообразил, что взял эти вещи бесплатно, то есть, попросту говоря, украл. Вспомнив, как поступили в подобном случае мать и Нонна Иеронимовна, он порылся в набитом семечками кармане, с трудом извлек оттуда измятую десятирублевку и, не найдя в магазине кассы, положил бумажку на прилавок, придавив ее для верности маленькой полуфунтовой гирей.
...Идти без кувшина за водой не имело смысла. Надо было спешить домой. Смутно предчувствуя, какие трудности ожидают его на этом пути, Ленька не стал медлить и выбрался из магазина на улицу. Что это была за улица, он не имел представления, даже не помнил, с какой стороны выбежал на нее. Оставалось или идти наугад, или прибегнуть к знакомому средству: испытывать судьбу. Над дверью магазина, из которого он только что вышел, висела темно-синяя вывеска:
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
"СЕЛЬСКИЙ ХОЗЯИН"
"Если в слове "общество" чет, — пойду направо, если нечет, — налево", загадал Ленька.
На этот раз ему приказано было идти направо. Но уже на первом перекрестке нужно было снова спрашивать судьбу: куда сворачивать? Вывесок поблизости не было, пришлось свернуть, куда глаза глядели.
Минут десять Ленька блуждал по пустынным улицам и переулкам, обходил развалины домов, натыкался на вывороченные с корнем деревья, на телеграфные столбы, на искореженные листы кровельного железа...
Один раз он увидел в конце улицы людей. От радости он чуть не закричал, побежал и вдруг заметил, что на плечах у людей сверкают погоны. Два офицера, согнувшись, как бурлаки, тащили на лямках тяжелый пулемет. На Ленькино счастье, они не заметили его, свернули за угол, а Ленька постоял, вздохнул и поплелся дальше.
Через несколько минут он увидел вещи еще более страшные. Он набрел на настоящую уличную баррикаду.
У полуразрушенного кирпичного здания, где совсем недавно работала какая-нибудь маленькая фабрика или мастерская, переулок от одного тротуара до другого был завален дровами, рельсами, железными бочками... Здесь же лежал, опрокинутый набок, фаэтон с лакированными оглоблями, на фаэтоне стояла никелированная кровать, на кровати возвышалась целая гора матрацев. То тут, то там торчали из этого сложного сооружения и другие предметы, которые очень странно было видеть на улице: кухонный стол, этажерка, конторское бюро, цинковое корыто, десятичные весы...
В одном месте стена баррикады была разворочена, похоже, что сюда стреляли прямой наводкой из пушки.
Вокруг никого не было. Грохот артиллерийской канонады доносился издалека. Набравшись храбрости, Ленька приблизился к баррикаде, заглянул в пролом и застыл от ужаса.
На мостовой лежали — кто на спине, кто боком, кто скорчившись — мертвые люди. Один из них, в полосатой матросской тельняшке, широко раскинув ноги, сидел на тротуаре, привалившись затылком к кирпичной стене фабрики. На лбу и на щеке его застыл ручеек крови, остановившиеся глаза смотрели куда-то вверх, туда, где над Ленькиной головой на телефонных проводах чирикали воробьи. А над кучерявой головой матроса чуть заметно белела нескладная, наполовину стертая надпись, выведенная наискось по стене куском штукатурки:
Перхуровцы гады ваша песенька спета
Да здравств...
Под ногами у Леньки валялись ружья, патроны, гильзы, пулеметные ленты. В другое время его мальчишеское сердце не устояло бы перед соблазном набить полные карманы этими драгоценностями. Но сейчас ему ничего не хотелось. "Домой, скорей домой, к маме", — думал он, убегая из этого страшного места.
На перекрестке двух улиц он налетел на телеграфные провода, которые причудливыми клубками висели в воздухе и петляли по мостовой. Мальчик упал, запутался, с трудом выбрался из железной паутины и повернул обратно.
Сжимая под мышкой потяжелевший бидончик с бордосской жидкостью, он брел наугад, сворачивал то направо, то налево, петлял, выходил на те самые улицы, где только что был... Таким образом он очутился у развалин какой-то большой церкви или монастыря. За оградой мелькали черные фигуры. Два монаха — один толстый, с пухлым белым лицом и с реденькой бородкой, другой совсем молоденький, худенький, наверно, еще не монах, а послушник, — вооруженные один ломом, а другой киркой, копошились на груде кирпича, стекла и развороченного железа, извлекая из-под обломков здания какие-то книги в кожаных переплетах, серебряные подсвечники, чаши...
— Батюшки, — окликнул монахов Ленька, — скажите, пожалуйста, простите, — вы не знаете, где тут "Европа"?
Толстый очень сердито, а послушник — по-мальчишески весело, с любопытством посмотрели в его сторону.
— Тут, братец ты мой, Аз-зия, а не Европа, — сквозь зубы ответил толстяк.
— Нет, правда, — упавшим голосом сказал Ленька. Но монахи не ответили ему и продолжали работать. Ленька постоял, помолчал и пошел дальше.
Горло у него давно пересохло. Он умирал от жажды.
На углу улицы, на сохранившемся обломке древней монастырской стены он прочел пожелтевшее и побуревшее от кирпичной пыли извещение Добровольческого штаба:
"...имеются точные сведения о подходе к Ярославлю
сильных подкреплений из регулярных войск... В уездах все
больше и больше разрастается восстание крестьян, по
точным сведениям, в 3-х уездах свергнули и свергают
власть большевиков... По донесениям из волостей, в
настоящее время к Ярославлю массами подходят
крестьянские повстанцы"...
"Всё врут... гады", — сердито подумал Ленька и, оглянувшись, сорвал объявление, скомкал его и бросил.
Свернув еще раз за угол, он попал на широкую, застроенную высокими домами улицу, прошел мимо заколоченного газетного киоска и остановился перед витриной магазина. Голова у него кружилась, ноги не хотели идти. Облокотившись на поручень витрины, он тупо смотрел на большую, расколотую сверху донизу кремово-белую вазу, на которой красным и черным были изображены крохотные китайские домики с загнутыми по краям крышами, косоглазые китаянки с плоскими зонтами, сидящие по-восточному длиннокосые и длинноусые китайцы...
Что-то вдруг осенило мальчика.
Он быстро оглянулся и увидел на противоположной стороне улицы большой четырехэтажный дом или, вернее, то, что осталось от дома. Угловая часть его была разрушена снарядами, в двух или трех местах по фасаду зияли огромные бреши. Над всем вторым этажом тянулась когда-то черная железная вывеска, начала и конца которой сейчас не было, сохранилось только шесть золотых букв:
ИЦА ЕВР
Ленька стоял на мостовой перед гостиницей и, задрав голову, с ужасом разглядывал эти страшные руины. Что такое? Неужели это тот самый дом, где они живут? Или, может быть, все это случилось, пока он бегал по городу?!
Дверь в ресторан была открыта. В вестибюле никого не было, только пыльный седой медведь стоял в полумраке, протягивая зачем-то черный железный подносик с кусочками штукатурки на нем.
Хватаясь руками за бархатные перила, забыв об усталости, Ленька мчался по широкой лестнице, на стенах которой бородатый Сусанин по-прежнему завлекал поляков, а наполеоновские солдаты все еще убегали из России...
В коридоре он услышал взволнованный голос матери. Она говорила кому-то:
— В длинных черных брюках... Стриженный под машинку... В руках у него был графин...
— Мама! — закричал Ленька. И сразу увидел мать, а рядом с нею — Нонну Иеронимовну и какого-то незнакомого старичка в белой панамке. Тиросидонская стояла, опираясь на зонт, и с гневом смотрела на приближающегося мальчика.
— Ха-рош! — воскликнула она.
— Ага! Нашелся? — обрадовался старичок.
— Безобразник, ты где был? — накинулась на Леньку мать.
Он ждал этого. Он знал, что его будут бранить. Но сейчас ему все равно.
— Пожалуйста, прошу вас, — говорит он, опускаясь на постель, — дайте мне пить!..
— Нет, ты все-таки изволь отвечать мне, негодный мальчишка: где ты пропадал? В конце концов это переходит всякие границы. Мы искали тебя по всему дому, перебудоражили всю гостиницу...
— Ну, где? Ну, ты же знаешь, — бормочет Ленька. — Гыжика искал.
— Какого Рыжика? Где ты его мог искать? Он давно здесь, давно принес воду... Между прочим, ты знаешь, сколько времени ты его искал?
— Дайте же пить! — умоляет Ленька.
— На, на, пей, разбойник, — говорит, появляясь откуда-то, Тиросидонская.
Ему подают большую эмалированную кружку, в которой колышется, ходит кругами черная, пахнущая свежестью вода. Зубы его стучат о железо. Горло сводит судорогой.
— Где же ты все-таки околачивался? — спрашивает учительница.
— Представьте, оказывается этот противный мальчишка полтора часа искал Рыжика!
— Искал Рыжика?!
Ленька допил воду. Голова его клонится к подушке.
— Оставьте, не мучьте меня, — говорит он, закрывая глаза. — Никого я не искал. Я ходил за водой.
— Куда??!
Ленька не видит, а скорее чувствует, как мать всплескивает руками.
— Боже мой! Нет, Нонна Иеронимовна, вы подумайте! Один! В город! На Волгу! За водой!! И с дифтеритом! У него же дифтерит!
— Ха-рош! — повторяет учительница, но на этот раз не так свирепо, пожалуй, даже с некоторым одобрением. — Ну и как? Достал?
— Нонна Иеронимовна! — хнычет Ленька. — Оставьте меня, пожалуйста. Я спать хочу.
Голова его глубже вдавливается в подушку. Ему кажется, что на минуту он засыпает. Замелькали перед глазами дома с мертвыми окнами, падающий фонарный столб, бородатый офицер в пенсне, фаэтон с поднятыми к небу оглоблями...
Но вот он чувствует, как на лоб ему легла знакомая теплая ладошка.
— Нонна Иеронимовна, милая, взгляните, пожалуйста, — слышит он встревоженный голос матери.
— Что такое?
— Вам не кажется, что у него жар?
Другая, шершавая, не по-женски грубая рука трогает Ленькину голову.
— А ну вас!.. Полно вам, тетенька! Какой там жар! Устал безобразник, набегался, вот его и размочалило. Оставьте его, пусть поспит часок-другой.
— Постойте, а где же кувшин? Ведь он уходил с кувшином.
"Ни за что не скажу, — думает Ленька, стискивая зубы. — Она с ума сойдет, если узнает".
— Газбился, — говорит он, уткнувшись носом в подушку.
— Та-ак, — смеется Нонна Иеронимовна. — Хорош водонос, нечего сказать!..
— А это что такое? Что это еще за банка? Нонна Иеронимовна, посмотрите.
— Оставьте, — говорит Ленька и, нащупав рукой бидончик, прижимает его к себе. — Не трогайте, пожалуйста. Это богдосская жидкость.
— Батюшки! А это что такое? Александра Сергеевна, взгляните! Что это там течет?
Ленька быстро садится и открывает глаза. Из карманов его сыплются, жиденькой струйкой текут на стеганое одеяло, а оттуда на пол зеленовато-коричневые зернышки.
— Что это такое? — с удивлением спрашивают обе женщины.
Ответить на этот вопрос не так просто.
— Это я купил, — говорит Ленька, подгребая рукой зернышки. — Это есть можно.
— Есть можно?
Тиросидонская нагнулась и внимательно разглядывает сквозь очки Ленькины трофеи.
— А ты знаешь, между прочим, что это такое? — спрашивает она.
— Нет, не знаю.
Старуха долго и густо хохочет.
— Дурачок ты, дурачок. Это же конопляное семечко!
— Ну и что ж, что конопляное?
— А то, мой друг, что добрые люди канареек этим семечком кормят!..
Оказалось, однако, что конопляное семя годится в пищу не только канарейкам. Уже вечером Ленька с аппетитом ел не очень складные, рассыпающиеся, но очень вкусные лепешки, от которых пахло халвой, постным маслом и еще чем-то, что действительно отдаленно напоминало запах птичьей клетки.
А ночью Ленька плохо спал, во сне ворочался, вскрикивал, и Александра Сергеевна, которая тоже не ложилась до рассвета, боялась, не отравился ли мальчик.
Он так и не рассказал ей о том, что он видел и что с ним случилось на ярославских улицах.
...Два дня спустя в обеденный час Александра Сергеевна и Ленька сидели в гостиничном ресторане на своем обычном месте у окна, доедали конопляные лепешки и с наслаждением потягивали стакан за стаканом сладкий, пахучий, одуряюще крепкий кофе.
В ресторане кутила компания военных. За двумя столиками, сдвинутыми вместе, застланными одной скатертью и заставленными бутылками и закусками, сидело человек десять офицеров, в том числе один подполковник и один штабс-капитан. Офицеры были уже сильно пьяны, говорили наперебой, не слушая друг друга, ссорились, хохотали, провозглашали тосты, а пожилой подполковник в расстегнутом френче, привалившись спиной к спинке стула и низко опустив голову, размахивал, как дирижерской палочкой, столовым ножом и густым бычьим голосом пел:
Ар-ружьем на солнце сверрркая,
Пад звуки л-лихих трррубачей,
На улице пыль падыма-ая,
Пррахадил полк гусар-усачей
Штабс-капитан, высокий, лысеющий, большеглазый, с черными усами, несколько раз подходил к столику Александры Сергеевны.
— Вы не скучаете, сударыня? — говорил он, облокачиваясь на спинку Ленькиного стула. — Может быть, так сказать, украсите своим присутствием нашу холостяцкую компанию?
— Нет, благодарю вас, — улыбаясь, отвечала Александра Сергеевна. — Меня вполне устраивает компания, в которой я нахожусь.
— Сын? — говорил он, надавливая пальцем на Ленькин затылок.
— Да, сын.
Через минуту усатый штабс-капитан снова, покачиваясь, шел к их столику. Двумя пальцами он держал за бумажный хвостик большую пеструю конфету.
— Сын, возьми!..
— Я? — сказал Ленька.
— Да, ты.
Ленька посмотрел на мать.
— Ну, что ж, — сказала она. — Поблагодари господина офицера и...
Ленька привстал, сказал "благодагю вас" и, посмотрев на конфету, сунул ее в карман.
— Почему? — сказал офицер. — Сейчас, сию минуту изволь кушать.
— Я после, — покраснев, пробормотал Ленька.
— Оставьте его, — вступилась за Леньку мать. — Он так давно не видел конфет, что, вероятно, хочет растянуть удовольствие.
— Растянуть удовольствие? Гм... Мы тоже, вы знаете, хотели бы растянуть удовольствие... Вы разрешите? — сказал офицер, взявшись за спинку стула.
— К сожалению, мы сейчас уходим, — сказала Александра Сергеевна.
— Ах, вот...
Глаза офицера налились кровью.
— Не желаете? Гнушаетесь, тэк сказать, обществом боевого русского офицера?! От ворот поворот, тэк сказать?.. Ну, что ж...
Он щелкнул каблуками, резко повернулся и, стараясь идти прямо, а от этого еще больше качаясь, вернулся к своим собутыльникам.
Несколько раз появлялся в ресторане старик Поярков. С рассеянным видом он ходил между столиков, заговаривал то с одним, то с другим, заглядывал за прилавок, выдвигал какие-то ящики... На пирующих офицеров он посматривал, как показалось Леньке, строго и даже неприязненно. Впрочем, не он один смотрел на них так. Давно уже перестали встречать добровольцев аплодисментами, ничего не осталось от того непомерного обожания, которым на первых порах окружила буржуазная публика мятежников. На каждом шагу случалось теперь Леньке слышать насмешливые и даже злобные замечания по адресу повстанцев.
— Авантюристы!.. Тоже — выдумали на свой риск начинать такое дело!
— Действительно! Герои называются!..
— Довоевались! Вандейцы!.. Наполеоны без пяти минут...
Конечно, подобные разговоры велись не открыто, а вполголоса, тишком, за спиной белогвардейцев.
И сейчас громко разговаривали и шумели только за столом офицеров. Да разве еще Ленька вел себя несколько оживленнее, чем обычно. Чувствуя от слишком крепкого кофе приятное кружение в голове и задорное щекотание в мускулах, мальчик без причины смеялся, вертелся на стуле и даже пробовал подтягивать вполголоса пьяному подполковнику, который, сползая все ниже и ниже со стула, никак не мог допеть до конца песенку про гусар-усачей...
Внезапно Ленька увидел настороженный взгляд матери и оглянулся.
В дверях стоял белокурый парень в клетчатой куртке. Он смешно жмурился и двигал бровями, — войдя с улицы, трудно было сразу освоиться с полумраком, который царил в ресторане.
Вероятно, он задержался у входа слишком долго, — на него обратили внимание. За столом офицеров стало тише.
Александра Сергеевна нервно постукивала пальцами по клеенке стола. И Ленька тоже почувствовал, как защемило, заекало у него сердце.
Когда молодой человек, вытянув, как слепой, руку, шагнул вперед, Александра Сергеевна привстала над стулом и громко окликнула его:
— Мсье Захаров!
Он с удивлением посмотрел на нее, прищурился и подошел к столику:
— Вы меня?
— Да.
— Ах, здравствуйте, — сказал он радостно. — Я не узнал. А ведь я именно вас и разыскиваю.
Улыбаясь, она протянула ему руку. Он пожал ее. С улыбкой она показала на стул:
— Садитесь.
Он сел.
— Но в чем дело? — сказал он, засмеявшись. — Почему Захаров? И почему мусью?
— Ах, не все ли равно, — проговорила она уже без улыбки и другим голосом. — Надо же мне было вас как-нибудь назвать. А вообще — сию же минуту уходите отсюда. Вы слышите?
— Почему?
— Потому что за вами следят. Вас разыскивают. О вас спрашивали.
Белокурый подумал, подымил из своего деревянного мундштучка.
— Хорошо, — сказал он. — Спасибо. Я сейчас уйду. Но я хотел вот о чем вас спросить...
— Поскорее, пожалуйста.
— У вас нет намерения бежать?
— Куда? Откуда?
— Из города.
— А разве есть возможность?
— Я только что узнал, что есть. И вполне реальная...
— Ха! Это что за шпак?! — произнес за Ленькиной спиной пьяный голос.
У столика, расставив ноги, засунув одну руку за кожаный пояс, а другую в карман галифе, стоял, покачиваясь, усатый штабс-капитан. Перекосив в злобной улыбке лицо, он с бешенством смотрел на молодого человека.
— Я спрашиваю: что это за морда? А?..
Молодой человек шумно отодвинул стул и поднялся.
— Что вам угодно? — сказал он негромко.
В эту минуту Ленька поднял голову и увидел старика Пояркова. Хозяин стоял у буфетной стойки. Брови его были высоко подняты, пальцы быстро-быстро перебирали золотую цепочку на животе.
— Мама, мама, — зашептал Ленька. Но она или не поняла его, или не расслышала.
Лицо офицера медленно зеленело.
— Что-о? — хрипел он, надвигаясь на молодого человека. — Меня? Мне? Угодно? Меня... угодно?!.
Рука его, царапая ногтями сукно френча, тянулась к съехавшей на спину кобуре.
Александра Сергеевна быстро поднялась и встала между мужчинами.
— Милостивый государь, — сказала она зазвеневшим голосом. — Я прошу вас... сию же минуту... Вы слышите?
— Эй, Дорошкевич... Не бузи! — крикнули с офицерского стола.
Штабс-капитан бегло оглянулся и снял руку с кобуры. Покачиваясь на носках, он мутными, молочно-голубыми глазами смотрел на побледневшую женщину.
— Вы слышите?! — повторила она.
— Да-с. Я вас слушаю, — сказал он, покачиваясь и подпрыгивая, как в седле. — Я все оч-чень хорошо слышу. Вы, сударыня, если мне не изменяет... э... собирались уходить? А? Ах, простите! — воскликнул он. — Пардон! Я не заметил. У вас... у вас свидание!..
И он, пятясь и по-шутовски раскланиваясь, стал отступать от столика.
Тем временем Поярков на цыпочках пробирался к выходу.
— Мама! Да посмотри же! — не выдержав, крикнул Ленька.
Она повернула голову, все сразу поняла и опустилась на стул.
— Ах, знаете, вы мне надоели, — громко сказала она, обращаясь к молодому человеку. — Уходите!
— Простите, — опешил тот, — я не понимаю...
— Боже мой, да что тут понимать? Я говорю вам: убирайтесь вон! Вы слышите? — шепнула она. — Бегите!..
Но было уже поздно.
Хлопнула дверь, и в ресторан шумно вошли один за другим три вооруженных человека в штатском. У одного из них, грузного, широкоплечего, в соломенном картузе, рукав был перехвачен белой повязкой. Почти тотчас в дверь боком протиснулся и старик Поярков. Он что-то шепнул человеку с повязкой, тот наклонил голову, прищурился и решительно шагнул к столику Александры Сергеевны.
Услышав за спиной шаги, молодой человек повернулся, вздрогнул и крепко, словно собираясь выжимать рукой двухпудовую гирю, сдавил спинку стула.
— Прошу извинения, — сухо сказал человек с повязкой, небрежно кидая руку под козырек соломенной фуражки. — Покажите ваши документы.
— Вы ко мне?
— Да, к вам.
— А кто вы такой?
— Имею полномочия.
— Пожалуйста, предъявите их.
Человек с повязкой вынул из кармана браунинг.
— Дайте документы, — негромко сказал он. За его спиной боком стоял и прислушивался к разговору старик Поярков.
Молодой человек подумал и сунул руку в карман.
— У меня документов нет, — сказал он.
— Выньте руку. Где же они?
— Документы? Они пропали в номере.
— В каком номере? Где вы живете?
— Я жил в другой гостинице. В гостинице "Вена". Номер девятнадцатый, если вас это так интересует. Но гостиница эта, как вы сами, вероятно, знаете, разрушена...
— Ах, вот как? Разрушена? Значит, никаких документов, удостоверяющих личность, у вас нет? А фамилия ваша?
— Фамилия моя — Захаров. Я из Петрограда... Студент... приехал к родственникам на каникулы...
Человек в соломенном картузе покосился на Пояркова.
— Нехорошо, молодой человек, — сказал тот, выступая вперед и усмехаясь. — Врете ведь вы, батенька. Фамилия-то ведь ваша не Захаров, а Лодыгин.
— Ошибаетесь, — негромко сказал молодой человек.
— Нет, сударь, не ошибаюсь. Стояли вы не в "Вене", а у нас — в сто четвертом номере. И прибыли не из Петрограда, а из города Иваново-Вознесенска... И уж если хотите знать, даже и профессия ваша и та в книге для проезжающих записана.
Съежившись, подобрав под сиденье стула окаменевшие, застывшие ноги, Ленька не мигая смотрел на этого пожилого, полного, такого добродушного на вид человека, который даже и сейчас чем-то напоминал ему его покойного деда.
Александра Сергеевна, откинувшись на спинку стула, тяжело дышала. Глаза ее были полузакрыты, ноготь мизинца резал, крестил, царапал зеленую, мокрую от пролитого кофе клеенку. Молодой человек искоса взглянул на нее, снял руку со стула и выпрямился.
— Ну что ж, — сказал он другим голосом. — Хорошо. Только давайте, уважаемые, выберем для объяснений другое место.
— Место уж мы, уважаемый, выберем сами, — сквозь зубы проговорил человек с повязкой и мотнул головой в сторону двери.
Сделав два шага, Лодыгин остановился. Леньке показалось, что он хочет что-то сказать ему или матери. Человек с повязкой сильно толкнул его браунингом в спину.
— А ну, пошел, не задерживаться! — крикнул он.
Молодой человек, не ожидая удара, споткнулся.
— Осторожно! — сказал он очень тихо.
Его еще раз ударили. Он опять споткнулся и чуть не упал.
За столом офицеров раздался громкий хохот.
— А-а! Большевик! Засыпался, молодчик? Дайте, дайте ему, братцы!.. К стенке его, каналью!..
Провожаемый смехом, он шел к выходу. Уже в дверях он оглянулся, прищурился и громко, на весь ресторан, но очень спокойно, легко и даже, как показалось Леньке, весело сказал:
— Смеется тот, кто смеется последний!..
Ленька на всю жизнь запомнил и эту фразу, и голос, каким она была сказана. Даже и сейчас еще она звучит в его ушах.
Дверь хлопнула.
Александра Сергеевна сидела, закрыв руками лицо. Плечи ее дергались.
— Мама... не надо, — прохныкал Ленька.
К столику, покачиваясь, опять подходил пьяный штабс-капитан.
Александра Сергеевна вскочила. Офицер что-то хотел сказать ей. Он улыбался и покручивал ус. Она изо всех сил ударила его в грудь. Он схватился за стул, не удержался и упал. Она побежала к выходу. Ленька за ней...
Когда они поднялись к себе в коридор, Александра Сергеевна упала на кровать и зарыдала. У Леньки у самого стучали зубы, но он успокаивал мать, бегал к Рыжику за водой, доставал у соседей валерьянку...
Возвращаясь из кухни, он услышал на лестнице, площадкой ниже, голос старика Пояркова.
— Кокнули молодчика, — говорил кому-то хозяин гостиницы своим добродушным стариковским голосом.
— Без суда и следствия?
— Ну какие уж тут, батенька, суды и следствия!.. Вывели на улицу — и к стенке.
— Большевик?
— Корреспондент ихней газеты из Иваново-Вознесенска...
Ленька вернулся к матери. Он ничего не сказал ей. Но когда она слегка успокоилась и задремала, он вышел на лестницу, прижался горячим лбом к стене и громко заплакал.
Слезы душили его, они ручьями текли по носу, по щекам, стекали за воротник рубашки.
Захлебываясь, он полез в карман за платком. Вместе с грязной скомканной тряпочкой, которая еще недавно носила название носового платка, он вытащил из кармана смявшуюся и ставшую мягкой, как желе, конфету. От конфеты пахло шоколадом, помадкой, забытыми запахами кондитерского магазина. Он отошел в угол, бросил конфету на каменный пол и с наслаждением, какого никогда раньше не испытывал, примял, раздавил ее, как паука, носком сандалии. Потом счистил о ребро ступени прилипшую к подошве бумажку, вытер слезы и вернулся в коридор.
Мать лежала, уткнувшись лицом в подушку. Плечи ее дергались.
— Мамочка, ты что? Что с тобой?
— Ничего, детка, — глухо ответила она сквозь слезы. — Оставь меня. У меня немножко болят зубы.
Он не знал, что делать, чем ей помочь. Как на грех, не было дома Нонны Иеронимовны. Старуха с утра ушла в город и до сих пор не возвратилась.
Через некоторое время начался сильный обстрел района. Опять все вокруг содрогалось и ходило ходуном.
Ленька прилег рядом с матерью на кровать. Уткнувшись лицом в подушку, мать тихо стонала. Он обнял ее, нащупал рукой щеку, погладил ее.
— Мамуся, бедненькая... Дать тебе еще валерьянки?
— Не надо, мальчик. Уйди. Помолчим давай. Сейчас все пройдет...
Он лежал, молчал, поглаживал ее щеку.
Вдруг его со страшной силой подбросило на кровати. Что-то рухнуло в самом конце коридора, и яркий, кроваво-красный свет хлынул в открывшуюся пробоину. Все вокруг повскакали.
— Что еще? Что там такое?
— Снаряд пробил стену.
— Ну, слава богу!.. Не было бы счастья... Хоть посветлей будет.
Багровый отсвет гигантского пожара заливал коридор. Стало еще больше похоже на цыганский табор.
Внезапно Ленька увидел в конце коридора женскую фигуру. Этот высокий черный силуэт словно вынырнул прямо из огня.
— Мама, смотри! Это же Нонна Иеронимовна идет...
Старуха была, как всегда, бодра, спокойна и даже весела. В руке она держала свой неизменный зонт...
— Ну и погодка! — сказала она, присаживаясь на краешек постели и обмахиваясь, как веером, зонтом. — Так и пуляют, так и пуляют... А вы что это разнюнились, голубушка?
— У мамы зубы болят, — объяснил Ленька.
— Ну? Сквозняком небось надуло?
— Вы где были, Нонна Иеронимовна? — не открывая глаз, простонала Александра Сергеевна. — Я страшно беспокоилась.
— Где была? Не за пустяками ходила, матушка. Важные новости узнала.
Учительница оглянулась и, хотя поблизости никого, кроме Леньки, не было, шепотом сказала:
— Бежать хотите?
— Куда?
— На волю.
— А разве можно?
— В том и дело, что можно. Мы тут с вами сидим, а в городе, оказывается, уже который день эвакуация идет. Красные обещали мирному населению беспрепятственный выход из города. А эти мерзавцы, представьте, не только не известили об этом жителей, но еще и всячески скрывают это...
— Мама, бежим! — всполошился Ленька.
— Да, да, — проговорила она, не открывая глаз. — Бежать, бежать без оглядки!..
— А силенок-то у вас хватит, бабонька?
— Нонна Иеронимовна, вы бы знали!.. Я готова ползти... готова на костылях идти, — только подальше от этого ада...
— Ну, что ж. Тогда не будем откладывать. Завтра утречком и двинемся. Через Волгу-матушку перемахнем и...
Александра Сергеевна повернулась и открыла глаза.
— Как? Через Волгу? На ту сторону? По воде?
Ленька знал, что мать всю жизнь смертельно боялась воды. Она даже дачи никогда не снимала в местах, где поблизости была река или озеро.
— Мама... ничего, — забормотал он, заметив, как побледнела мать. Бежим давай! Не бойся... не утонем...
— Ну, что ж, — сказала она, помолчав. — Как хотите... Я готова.
В эту ночь Ленька долго не мог заснуть. Задремал он только под утро, и почти сразу же, как ему показалось, его разбудили.
Мать и Нонна Иеронимовна стояли уже совсем готовые к путешествию. За плечами у Тиросидонской висел плотненький, ладно пригнанный, застегнутый на все пуговки и ремешки рюкзак.
— Ну, батенька, и мастак ты спать, — сказала она Леньке.
— Какой мастак? Я и не спал вовсе, — обиделся Ленька.
— Не спал? Вы слыхали?! Полчаса минимум будили мужичка... А ну, живо сбегай умойся, и — в добрый путь.
Ленька побрызгал на себя остатками теплой и не очень чистой воды, привел, насколько это было возможно, в порядок свой окончательно обтрепавшийся костюм и уже направился к выходу, как вдруг вспомнил что-то и повернул обратно.
— Куда? — окликнула его Тиросидонская.
— Идите... идите... я сейчас... я догоню вас.
В углу под кроватью стоял жестяной бидончик. Отыскав обрывок газеты, Ленька тщательно завернул в него свое сокровище, сунул под мышку и побежал к лестнице.
— Что это? — удивилась учительница. — А! Знаменитая барселонская жидкость?!
— Леша!! — взмолилась Александра Сергеевна. — Умоляю тебя: оставь ты ее, пожалуйста! Ну куда ты с ней будешь таскаться?
— Нет, не оставлю, — сказал Ленька, сжимая под мышкой бидончик. — А во-вторых, — повернулся он к Тиросидонской, — это не барселонская жидкость, а бордосская.
— Ну, знаешь, — хрен редьки не слаще. Разница не велика. Гляди, батенька, намучаешься.
— Не намучаюсь, не бойтесь, — храбро ответил Ленька.
На улицах было еще совсем тихо, когда они вышли из подъезда гостиницы. Утро только-только занималось. На засыпанных стеклом и кирпичом мостовых хозяйничали воробьи. Где-то за бульваром привычно и даже приятно для слуха постукивал пулемет. Сквозь густую пелену черного и серого дыма, висевшую над развалинами домов, пробивались первые лучи солнца. Было похоже на солнечное затмение.
У театра какие-то люди в черных затрепанных куртках и в круглых фуражках без козырьков сидели на корточках и чистили песком медные котелки.
— Это же немцы, — сказал, останавливаясь, Ленька. — Мама, откуда здесь немцы?
— Идем, детка. Не оглядывайся, — сказала мать.
— Нет, правда... Нонна Иеронимовна, это ведь немцы?
— Это пленные, — объяснила учительница. — Говорят, белогвардейцы хотели заставить этих несчастных воевать на своей стороне, а когда немцы отказались, — загнали их сюда — в самое пекло — в центр города.
"Значит, это они пели третьего дня", — подумал Ленька. И вспомнил, что именно здесь начались тогда его мытарства.
У входа на бульвар беглецов остановил патруль.
— Куда?
— Да вот перебираемся в более безопасное место, — с улыбкой ответила Тиросидонская.
— Бежите?
— Зачем же бежать? Идем, как видите...
Пикетчики мрачно переглянулись, ничего не сказали, перекинули на плечах винтовки и пошли дальше.
— Завидуют, голубчики, — усмехнулась Тиросидонская.
На бульваре тоже никого не было. Стояли пустые скамейки. Празднично, по-летнему пахли зацветающие липы, и сильный медвяный аромат их не заглушали даже угарные запахи пожара.
Через турникет вышли на улицу, и вдруг под ногами у Леньки что-то хрустнуло. Он оглянулся. Что это? Неужели он не ошибается? На булыжниках мостовой, раскиданные в разные стороны, радужно блестели на солнце большие и маленькие осколки стекла.
"А где же пуля?" — успел подумать Ленька и даже поискал глазами: не видно ли где-нибудь сплющенного кусочка свинца?
— Леша, что ты там разглядываешь? Иди, не задерживайся, пожалуйста! окликнула его мать.
"Знала бы она", — подумал мальчик, прибавляя шагу.
Миновали бульвар, свернули в переулок, и вдруг над головами засвистело, защелкало, заулюлюкало, и на глазах у Леньки от высокого белого забора отскочил и рассыпался, упав на тротуар, большой кусок штукатурки.
— А ну, быстренько сюда! — скомандовала Нонна Иеронимовна, перебегая улицу.
Пули свистели на разные голоса.
— Александра Сергеевна, барыня, вы что же ковыряетесь? — рассердилась учительница. — Это вам не дождик и не серпантин-конфетти. Или вам жизнь надоела?
— Не знаю, но мне почему-то ничуть не страшно, — сказала Александра Сергеевна, без особой поспешности переходя мостовую. — Ведь мы в Петрограде к пулям успели привыкнуть.
— Вы-то к ним привыкли и даже, может быть, успели полюбить их, а вот любят ли они вас, — это вопрос...
Ленька поежился. Ему вспомнился убитый матрос на тротуаре, у развалин фабрики.
— Мама, правда, ты поосторожней! — крикнул он.
— Ты что, мальчик, — боишься?
— Я-то не боюсь...
— Ну, а я тем паче... Нонна Иеронимовна... скажите... а на чем нам придется плыть?
— Куда плыть? Ах, через Волгу-то? На плотах, матушка, на плотах.
Александра Сергеевна остановилась.
— Нет, вы шутите!..
— Шучу, шучу... Не бледнейте, сударыня. Пароходы специальные ходят через Волгу. Соглашение будто бы такое есть между воюющими сторонами... А вот — легка на помине! — и сама Волга-матушка.
Где-то очень-очень далеко внизу, за чугунной решеткой ограды, за белыми лестничными ступенями, за каменными площадками, за крышами, трубами и зелеными садами, Ленька увидел ослепительно сверкающую широкую ленту реки.
"Господи, как это близко, оказывается, — подумал он, — а я-то, дурачина, бегал, искал!"
Через несколько минут путники шагали уже по набережной, где толпилось и шумело много таких же, как они, беглецов. За голубым плавучим домиком пристани покачивался и дымил маленький белый пароходик.
Тиросидонская ушла узнавать о посадке, а Ленька с матерью остались на набережной.
У парапета лестницы, ведущей в город, расположилось бивуаком какое-то белогвардейское подразделение. Собранные в козлы, поблескивали штыками винтовки. Маленький серо-зеленый ручной пулемет угрожающе уставился черным глазом в сторону Волги. Из цинковых ящиков с нерусскими надписями аппетитно выглядывала красная медь патронов.
Несколько офицеров сидели, покуривая папироски, на каменном парапете, другие — в одиночку и парочками — расхаживали по набережной, прислушиваясь к разговорам беженцев, поглядывая на них пасмурно, с наигранным презрением... Вид у них у всех был обтрепанный, многие были небриты, на сапогах и обмотках толстым слоем лежала пыль.
В одном из этих прогуливающихся офицеров Ленька узнал молодого Пояркова. Подпоручик тоже заметил его.
— Постой, — сказал он, останавливаясь, своему товарищу. — Я где-то видел этого мальчика. Эй, шкет! — окликнул он Леньку.
Ленька метнул на него исподлобья мрачный взгляд и ничего не ответил.
— Ты, с пакетом, я тебя спрашиваю. Ты откуда?
— Я не шкет, — пробурчал Ленька, теснее прижимаясь к матери.
Офицер поднял глаза и узнал Александру Сергеевну.
— Ах, простите, — сказал он, отдавая честь. — Мы знакомы, кажется?
— Я не помню.
— Ну, как же?.. В один прекрасный день мы с отцом привели к вам в подвал заблудшую овцу... Забыли?
— Да... я вспомнила, — сказала она сухо. — Простите, нам надо идти...
— Сматываете удочки?
— Что вы сказали?
— Я говорю: собираетесь бежать?
— Да. Хотим попытаться.
— Через Волгу?
— Да.
— На пароходе?
— Да... На пароходе.
— Ну, ну, — сказал он, усмехнувшись. — Ни пуха вам ни пера. А вы, я вижу, бесстрашная женщина...
— Простите, я не понимаю... что вы хотите сказать? — побледнела Александра Сергеевна.
— А то, что я вам, сударыня, искренне, по-дружески, не советовал бы подвергать такому риску и себя и ребенка.
— Какому риску? Разве это опасно?
— Значит, вы не знаете, что большевики с моста расстреливают лодки и пароходы, которые идут на тот берег?
— С какого моста?
— А вон — с Американского моста, который виден отсюда.
— Нет, скажите, — неужели это правда?
— Прошу прощения, сударыня, с вами говорит русский офицер. Вчера под вечер на этом самом месте на моих глазах затонул обстрелянный большевиками пароход "Пчелка".
— Боже мой! Какой ужас! Что же делать?!
— Мама... ничего... не потонем, дай бог, — забормотал Ленька, с ненавистью поглядывая на Пояркова.
Офицер приложил руку к козырьку.
— Желаю здравствовать, — сказал он холодно. — Считаю своим долгом предупредить вас, а решать, конечно, придется вам самим.
И, повернувшись на каблуках, он отошел к ожидавшему его товарищу.
Через минуту из толпы вынырнула грузная фигура Нонны Иеронимовны. Размахивая своим огромным зонтом, она еще издали кричала:
— Идемте, голубчики, скорей, живенько! Посадка начинается.
Александра Сергеевна торопливо пересказала ей то, что услышала от Пояркова.
— Да что он врет, каналья?! — рассвирепела учительница. — Клеветник этакий! Амфибия! Где он?..
И, подняв над головой зонт, старуха оглянулась с таким видом, словно собиралась собственноручно, врукопашную расправиться с клеветником...
...И все-таки эта двадцатиминутная поездка не была приятной и спокойной.
Все эти двадцать минут Александра Сергеевна просидела ни жива ни мертва. Ленька успокаивал ее, даже посмеивался над ней, но и сам чувствовал, как при каждом ударе машины и при каждом всплеске воды за бортом екает и сжимается его сердце. Ему было и страшно и тянуло к окну — посмотреть, что делается на реке, далеко ли до берега и виден ли мост.
— Леша! — поминутно вскрикивала мать. — Я, кажется, просила тебя?!. Отодвинься от окна!..
— Я только чуть-чуть... одним глазом...
— Боже мой! Ты, я вижу, намерен свести меня в могилу!.. Кому я говорю? Сядь на место!..
Но он все-таки успел на секунду выглянуть в квадратное, забрызганное водой окошко. И первое, что увидел, — это длинный, многопролетный железнодорожный мост, пересекавший реку. До моста было далеко, — может быть, верста или больше, но Леньке показалось, что за железными фермами моста он видит людей: на мосту что-то шевелилось и поблескивало. Вздрогнув, он отшатнулся от окна и побоялся взглянуть на мать, чтобы не заразить ее своим страхом. Но ее и пугать не надо было... Только старуха Тиросидонская чувствовала себя, как всегда, прекрасно. Положив на колени свой туго набитый мешок и черный зонт, она шутила, смеялась, подтрунивала над трусами и паникерами, которых и на пароходе оказалось немало.
Но вот машина под ногами у Леньки застучала потише, вот что-то заклокотало и забурлило и сразу смолкло. Только чувствовалось плавное движение и покачивание парохода.
— Что это? — прошептала Александра Сергеевна, подняв глаза на учительницу.
— Кончено, матушка, — ответила та, поднимаясь и закидывая за спину рюкзак. — С приездом вас...
Минуту спустя шумная толпа беженцев, весело переговариваясь, уже поднималась по отлогому берегу — туда, где виднелись какие-то низенькие приземистые строения, заборы, кусты и белые колпаки нобелевских цистерн.
Казалось, что все страхи остались позади...
И вдруг Ленька услышал у себя над головой знакомый улюлюкающий свист. Он увидел, что все вокруг побежали, и тоже побежал.
— Что случилось? — в который раз за эти дни спрашивали вокруг.
— Стреляют.
— Кто стреляет?
— Да вы что, — не видите? Красные открыли огонь с моста!
Кто-то толкнул Леньку, он споткнулся, уронил свой сверток, нагнулся, чтобы поднять его, и увидел, что действительно стреляют с железнодорожного моста. Но тут же он понял, почему стреляют.
По сходням, ведущим с парохода на берег, низко наклоняясь и закрывая руками головы, бежали один за другим люди в военной форме. Прыгая на берег, они разбегались в разные стороны.
— Смотри! — сказала Нонна Иеронимовна, схватив Леньку за плечо. Смотри, мальчик! И запомни!.. Это называется — крысы, бегущие с тонущего корабля.
Через час беженцы уже сидели на крылечке лесного хутора, верстах в четырех от города, пили парное молоко и с наслаждением ели черный пахучий деревенский хлеб.
Постепенно на хуторе собралось еще человек двадцать беглецов из Ярославля.
Где-то далеко бушевала гроза, где-то еще ухало и грохотало, а здесь, в маленьком хуторском садике, летали пчелы, щебетали птицы, мутно поблескивал и попахивал уютным дымком большой медный самовар; люди сидели на свежей зеленой траве, пили, закусывали, наперебой говорили, смеялись и уже не серьезно, а шутя рассказывали о тех страхах, которые им только что довелось пережить.
Были тут смешные и занятные люди.
Была молодая красивая московская дама с двумя близорукими девочками-близнецами. Вспоминая об ужасах, которые они испытали в Ярославле, дама поминутно закатывала глаза и говорила:
— Мне лихо было!.. Ой, не могу, до чего лихо мне, лихо было!..
Девочки робко усмехались, щурились и поглядывали на Леньку, который тоже иногда посматривал в их сторону, но при этом усиленно хмурился и начинал с деловым видом поправлять ремешок на сандалии.
Был среди беженцев толстый румянощекий парень, — как говорили, купеческий сынок, — которого сопровождал дядька, старик по имени Зиновьич. Над румяным детиной все смеялись. Рассказывали, что в Ярославле он жил в гостинице "Петроград", в угловом номере. Ночью снарядом оторвало весь угол дома, комната превратилась в открытую террасу, а парень так и проспал до утра, ничего не заметив и не услышав. Вокруг хохотали, а детина пил чай, прилежно дул на блюдечко и, тупо улыбаясь, смотрел в одну точку. Ленька тоже смеялся, но смешным ему казалось не то, что у детины такой крепкий сон, а то, что его, почти взрослого человека, водит за руку дядька. Это было как-то старомодно, по-книжному причудливо, и, хотя купчик не был ничем похож на Гринева, а скорее на Обломова или на Митрофанушку, Леньке вспомнилась "Капитанская дочка" Пушкина.
Много шутили и подтрунивали и над другим молодым человеком, над каким-то счетоводом или конторщиком из Углича, которого звали Николай Александрович Романов. Говорили, что это переодетый и загримированный Николай II, бежавший из своей екатеринбургской ссылки. Конторщик на бывшего царя ничем не походил, был выше его и лицо у него было бритое, но Леньку занимало смотреть на этого человека и думать: а что если это и верно Николай Второй?.. Что ж удивительного: усы и бородку сбрил, щеки подрумянил, а ноги... Что ж, и ноги, наверно, можно подлиннее сделать!.. Он даже пересел поближе к конторщику, чтобы посмотреть, не на высоких ли каблуках у него штиблеты...
Лежа в высокой густой траве, Ленька смотрел в голубое чистое небо, прислушивался к щебету птиц, к разговорам, к смеху, к звону посуды... Все плохое забылось, было легко, весело, похоже на пикник.
Развеселилась даже Нонна Иеронимовна.
Когда был допит второй самовар и все поднялись, чтобы продолжать путешествие, Ленька вспомнил о бордосской жидкости и стал искать бидончик.
— Да оставь ты, наконец, свою бандуру! — закричала на него учительница.
— Какую бандуру? — заинтересовались вокруг. — Разве мальчик — музыкант?
— Ого! Еще какой!..
Леньку окружили, стали просить, чтобы он показал, что у него за музыка такая. Ленька засмущался, покраснел, стал отнекиваться. Но в конце концов ему пришлось не только развернуть пакет и показать бидончик, но и объяснить, зачем он ему нужен.
Никто из его объяснений ничего не понял, только девочки-близнецы слушали Леньку с интересом, и одна из них даже потрогала осторожно бидончик пальцем.
Шумная веселая компания, растянувшись длинной цепочкой, шла извилистой лесной дорогой. Позади всех тащился со своей бандурой Ленька. Он был обижен, дулся на Нонну Иеронимовну. Учительница несколько раз оглядывалась, искала его глазами, потом сошла с дороги, подождала мальчика и пошла рядом.
— Ну, что? — улыбнулась она.
— Ничего, — пробурчал Ленька.
— Не сердись, Алексей — божий человече, — сказала старуха. — Ты молодец, доброе дело делаешь. Хороший, говоришь, дядька этот твой Василий Федорыч?
— Да. Хогоший, — ответил Ленька.
— А кто он?
Леньке было трудно объяснить, кто такой Василий Федорович. Просто хороший человек. А почему хороший, — этого словами не расскажешь. Вот Нонна Иеронимовна тоже ведь хорошая. А собственно, — чем? Смеется, грубит, кричит, как извозчик, шуточки вышучивает!..
Весь день шли — полями, лесами, дорогами, тропинками и межами. Заходили в деревни и на хутора, пили молоко, не щадя животов объедались хлебом, творогом, огурцами, салом, курятиной.
Постепенно компания беженцев таяла, рассеивалась. Почти в каждой деревне с кем-нибудь прощались, кто-нибудь уходил, отставал, сворачивал в сторону. Отстала московская красавица со своими близорукими девочками. Ушел на Гаврилов Ям розовощекий детина с дядькой Зиновьичем. Как-то незаметно исчез, растворился и Николай Александрович Романов.
"Наверно, за границу пробирается", — подумал Ленька, которому не хотелось так сразу расставаться со своей фантазией.
В деревне Быковке, уже под вечер, распрощались с Тиросидонской. Обнимаясь и целуясь с учительницей, Александра Сергеевна заплакала.
— Берегите нервы, дорогая, — сказала старуха, погладив ее по плечу. Они вам еще ой-ой как пригодятся!..
А Леньке она сказала:
— И ты тоже, Бетховен... Играй на чем хочешь — на бандурах, на балалайках, на барабанах, — только не на маминых нервах. Понял меня?
— Понял, — улыбнулся Ленька. И, увидев, что учительница протянула ему руку, как-то неожиданно для самого себя нагнулся и приложился губами к этой грубой, шершавой, не женской руке.
...Расставшись с учительницей, Александра Сергеевна заскучала. Без Нонны Иеронимовны стало совсем трудно. Нужно было действовать и решать все вопросы на свой страх и риск.
До Чельцова оставалось еще верст пятнадцать-шестнадцать. И — самое страшное для Александры Сергеевны — впереди лежала Волга, через которую опять предстояло переправляться на правый берег.
Время было позднее, темнело. И, подумав, Александра Сергеевна решила остаться в Быковке до утра.
Хозяин избы, где они остановились, весь вечер был чем-то озабочен. Поминутно он куда-то выходил, с кем-то шептался, выносил из сеней во двор что-то тяжелое. Когда Александра Сергеевна попросила у него разрешения остаться на ночлег, он крякнул, переглянулся с женой, почесал в затылке.
— А вы вообще кто будете? — спросил он.
— Я же вам говорила... Мы — беженцы из Ярославля. Пробираемся к себе в деревню — в Красносельскую волость.
— Тесно у нас. Неудобно вам будет.
— Нам много не надо. Мы привыкли ко всему, можем и на полу переспать в крайнем случае... Я, конечно, заплачу вам, — сказала Александра Сергеевна, открывая сумочку.
Хозяин еще раз взглянул на жену.
— В сарае, что ли? — сказала та.
— А что ж. Верно... В сенном сарае переспите?
— Конечно, переспим. Чего же лучше?
— Ладно... идемте, коли так, — сказал хозяин.
Он привел их куда-то на задворки, отодвинул какой-то деревянный засов, распахнул низенькую широкую дверку... Ленька помнит, как сильно ударил ему в лицо опьяняющий запах свежего сена, как приятно защекотало в носу, закружилась голова, сладко заклонило ко сну.
Александра Сергеевна осторожно переступила порог сарая.
— А змей у вас здесь нет? — робко спросила она.
Хозяин что-то пробормотал.
— Что? — переспросила Александра Сергеевна.
— Змей-то, я говорю, нет, — ответил с усмешкой хозяин.
— А что?
— Ложитесь... ладно... Дверь за вами затворить?
— Пожалуйста.
— Ну, спите... спокойной ночи.
Ленька слышал, как, закрывая дверь, хозяин выругался и вполголоса сказал:
— Эх, жисть проклятая!
Ленька протянул руку, наткнулся в темноте на что-то мягкое, колючее и, не сгибая ног, упал, повалился на душистую и хрустящую кучу.
— Ох, мама! — воскликнул он в восторге, зарываясь с головой в сено.
— Тише! — остановила его Александра Сергеевна.
— Мамочка... не бойся... ложись...
— Где ты?
— Я здесь. На руку.
— Действительно, здесь чудесно, — сказала она, вздыхая и укладываясь рядом. — Но ты знаешь, мальчик, у меня что-то ужасно тревожно на душе.
— Почему? — спросил Ленька, запихивая свой бидончик в изголовье и обкладывая его сеном. — Мама... клади голову... подушка, — пробормотал он, зевая. Все тело его сладко, истомно ныло. — Что... почему... тревожно? повторил он.
Александра Сергеевна что-то ответила, но ответа ее мальчик уже не слышал, — он спал.
...Спал он долго и крепко и только под утро стал видеть сны. Сначала ему снилось что-то хорошее: в зеленом, пронизанном солнцем лесу он ловит бабочек. Рядом с ним бегают девочки-близнецы, одна из них почему-то размахивает большим черным зонтом. Потом он очутился опять в Ярославле. Кто-то за ним гнался, он падал, проваливался куда-то и опять бежал, и опять его нагоняли. А вокруг стонало, ухало, грохало. Мчались по улице всадники, падал на голову мальчику фонарный столб, рушились белые монастырские стены...
Когда Ленька проснулся, он был уверен, что лежит в Ярославле, в гостиничном коридоре. Где-то за стеной слышались выстрелы, привычно попахивало дымом, и даже на одно мгновенье мальчику показалось, будто он слышит, как внизу, в гостиничном ресторане, смеются и поют мужские голоса.
Но тут он почувствовал, что мать крепко сжимает его плечо, и услышал у себя на затылке ее горячее дыхание.
— Боже мой... Боже мой! — шептала она. — Создатель!.. Царю небесный...
Он быстро повернулся, услышал, как захрустело под ним сено, открыл глаза и сразу вспомнил, где он. В узкие щели сарая сочился скупой синеватый предутренний свет. Где-то действительно стреляли. Откуда-то доносились голоса и пение.
— Мама... что? Что случилось? — забормотал Ленька.
— Молчи, — шепнула она, закрывая ему ладонью рот.
И тут он услышал, как у самых дверей сарая кто-то громко и спокойно сказал:
— А черт его знает, — куда! Россия велика...
Кто-то остановился у двери, заглянул в щелку.
— Чего там?
— Не видно.
— А ну, дай раза!..
Что-то стукнуло, упало. Потом что-то тяжелое, железное обрушилось на дощатую дверь. Хрястнула, надломившись, доска. Еще несколько тяжких ударов и половинка двери, повиснув на нижней петле, косо упала в сарай. Ленька подогнул ноги, съежился. Кто-то высокий шагнул, наступил на половинку двери, оборвал ее и заглянул в сарай:
— Тьфу!.. Мать честная!.. Сено...
— А ты что? — лениво откликнулся другой голос.
— Я думал, — курей нет ли.
— Да... жди... Курей небось, сволочи, всех в подпол заначили... А ну, пошли...
У Леньки болело плечо, так сильно сжимала его рука матери. Черная фигура с ружьем за спиной все еще маячила в просвете двери.
— Пошли, я говорю, — повторил тот же голос за дверью.
— Погоди, — усмехнулся первый, брякая чем-то в темноте, — мы им сейчас царский день устроим.
— Какой царский?
— А вот сейчас увидишь.
Вспыхнула спичка, Ленька невольно зажмурился и услышал, как испуганно вскрикнул в дверях человек и как тотчас откликнулся другой.
— Ты что?
— Володька! Елки зеленые... Люди!..
— Где? Какие?
— Баба какая-то с мальчиком... А ну выходи! — раздался яростный окрик.
— Мама... мама, — зашептал Ленька, увидев, что она поднимается и помогает подняться ему. Еще раз ярко вспыхнула спичка, осветила смуглое, почти красное, лоснящееся юношеское лицо, белки глаз, оскаленные по-волчьи зубы и кудрявый цыганский чубик, сбегающий на лоб из-под козырька солдатской фуражки.
— Выходи, кому говорят?!
— Что вам нужно? — сказала Александра Сергеевна, делая шаг вперед и обнимая за плечи Леньку. Из дверей на мальчика, вместе с прохладной свежестью раннего летнего утра, пахнуло знакомым ему тошнотворным запахом спиртного.
— А ну, кто там еще? Вылезай!..
Поднятая над головой спичка сделала полукруг и, блеснув на винтовочном стволе, погасла.
— Еще кто?..
— Больше никого нет. Нас двое.
После темного сарая на улице были хорошо различимы и постройки, и деревья, и лица людей. Рядом с парнем в солдатской фуражке стоял — тоже с ружьем в руках — низенький темнолицый человек в накинутой на плечи длинной шинели и в мужицкой барашковой шапке.
— Кто такие? Зачем прячетесь? — строго сказал он.
— Мы не прячемся. Мы здесь ночевали, — ответила Александра Сергеевна. А вы кто такие?
— Что-о? — надвинулся на нее парень. — Я вот те дам "кто такие"!..
— Тише, пожалуйста!.. Не пугайте ребенка.
— Ах ты... Разговоры разговаривать?!
Ленька увидел, как парень замахнулся на мать, как на лету, над головой перехватил винтовку и передернул затвор.
— Молись богу!!! — зарычал он.
— Ма-ма! — как маленький, закричал Ленька, присел, кинулся к парню и одновременно — головой и двумя кулаками — ударил его в живот.
— А-а, пащенок!..
Сильным ударом в затылок мальчика сбили с ног. В ту же секунду он услышал выстрел и почти тотчас — гневный голос матери:
— Негодяи!.. Вы что делаете?! Ребенка?.. Мальчика?..
— Петруха! Петруха! Ты что в самом деле? Маленького?..
Парень подбежал к Леньке, схватил его за шиворот, оторвал от земли.
— Убью-у!..
— Помогите! — закричала Александра Сергеевна.
Ленька задохнулся, вывернулся, услышал, как затрещала у него на груди рубаха, отлетела пуговица. Другая, тяжелая, как кувалда, рука откинула его в сторону.
— Брось, Петруха!
— Уйди!..
— Оставь, не бузи.
Человек в длинной шинели крепко держал парня за пояс.
— А ну катись! Живо! — приказал он Александре Сергеевне.
— Нет, стой, погоди! — скрипел зубами парень. — Нет, ты погоди... Я их... я им сейчас царский день исделаю.
— Не дури, кому говорят!..
Темнолицый с силой тряхнул его. И, повернувшись к Александре Сергеевне, диким голосом закричал:
— Ну, чего глаза пялишь? Кому сказано? Тикай, пока жива!..
Александра Сергеевна не заставила еще раз просить себя об этом. Схватив Леньку за руку, она побежала. Ленька слышал, как за спиной у него продолжали орать и ругаться пьяные. Оглянувшись, он увидел, что оба бандита, схватившись в обнимку, катаются по земле.
— Мама, посмотри! — крикнул Ленька.
— Боже мой!.. Не останавливайся, пожалуйста!.. Есть на что смотреть! ответила она.
...Они уже давно миновали околицу, пролезли под какими-то жердями и быстро шли, почти бежали, не выбирая дороги, к небольшой березовой рощице, на верхушках которой уже розовела и золотилась утренняя июльская заря. В ушах еще не утих пьяный крик, еще тошнило, шумело в голове, от быстрой ходьбы не хватало дыхания.
— Мама... я не могу... погоди, — хрипел Ленька.
— Идем, детка... я прошу тебя. Еще немножко — вот хотя бы до тех деревьев.
Они уже почти достигли рощи, как вдруг Ленька остановился и с неподдельным ужасом в голосе воскликнул:
— Ой, мамочка, милая!..
— Что такое? — испуганно оглянулась Александра Сергеевна.
Он держался за голову и покачивался.
— Ой, ты бы знала, какое несчастье!!
— Да что? Что случилось?
— Я ж забыл... я забыл в сарае бордосскую жидкость!
— Господи, Леша, какие глупости! Есть о чем жалеть. До этого ли сейчас? Идем, я прошу тебя...
— Нет, — сказал Ленька. — Я не могу. Я должен...
— Что ты должен? — рассердилась Александра Сергеевна.
— Ты знаешь... я, пожалуй, пойду, попробую найти сарай.
Александра Сергеевна цепко схватила его за руку.
— Леша! Я умоляю тебя, я на колени встану: не смей, не выдумывай, пожалуйста!..
Ленька и сам не испытывал большого желания возвращаться в деревню. Но мысль, что знаменитый его бидончик, который он так долго берег и таскал, содержимое которого может доставить так много радости председателю комбеда, — мысль, что этот драгоценный бидончик пропадет, сгинет в стоге сена, в чужом сарае, была совершенно непереносимой и оказалась сильнее страха.
— Мама, — сказал он. — Ну, что же мне делать? Честное слово, вот увидишь, со мной ничего не случится. Я быстро. Ты подожди меня в этом леске вот за той березкой.
— Мучитель! — сквозь слезы простонала она.
Зная, что за этим последуют другие, не менее жалостные слова, он не стал дожидаться их, вырвался и побежал...
Разыскать сарай в деревне, где мальчик провел всего одну ночь, было нелегко. Леньке пришлось побегать по задворкам, прежде чем он увидел низенькое дощатое строеньице с выдранной половинкой двери. Убедившись, что вокруг никого нет, он осторожно заглянул в пахучий полумрак, постоял, прислушался, сказал зачем-то "эй" и, не услышав отклика, нырнул в глубину сарая.
Примятое сено еще хранило следы двух тел: вот здесь лежал он, здесь мама. Ползая на коленях и тыкаясь носом в колючие травинки, Ленька лихорадочно ворошил сено... Что такое? Где же она? Неужели кто-нибудь успел побывать в сарае и утащил ее? Ах вот... наконец-то!.. Руки его дрогнули, нащупав скользкую, холодную и тяжелую банку.
И только тут, облегченно вздохнув, он вспомнил о матери. Где она? Что она сейчас переживает?! Какой он все-таки негодяй, — оставил ее в лесу, одну, после всех ужасов, которые она только что перенесла!
В Быковке все еще стреляли. Пахло дымом. Где-то в другом конце деревни шумели, кричали, навзрыд плакали бабы. Чтобы сократить путь и не блуждать по задворкам, Ленька решил бежать обратно напрямки — деревенской улицей. Перелезая через плетень, он застрял, зацепился рубахой за какой-то сучок или гвоздь, и вдруг словно из-под земли вырос перед ним краснолицый запыхавшийся дядька в солдатской шинели и в фуражке с зеленым лоскутком на околыше.
— Эй, браток, — обратился он к Леньке. — Хохрякова не видел?
— Кого? — не понял Ленька.
— Атамана, я говорю, не видал?
Ленька не успел ответить. Глаза у солдата заблестели. Он подошел поближе.
— Что это у тебя? — спросил он.
— Где?
— Да вот — в баночке, в посудине?
— Это... это жидкость, — бледнея ответил Ленька.
— Какая жидкость? А ну, покажь, — оживился солдат.
Ленька сделал усилие, разодрал от подола до подмышек рубаху, сорвался с сучка и побежал.
Петляя от одной постройки к другой, натыкаясь на какие-то грядки, перескакивая через канавы, перелезая через плетни и заборы, он бежал по деревенским задворкам, пока голова у него не закружилась, а в глазах не замелькали лиловые круги.
Выбежав за околицу, он не сразу понял, куда ему нужно идти. Березовая роща, которая, по его представлениям, должна была оказаться слева, переместилась далеко направо. На минуту он даже усомнился, — та ли эта роща? Но никаких других поблизости не было.
Еле волоча ноги, спотыкаясь и поминутно перекладывая с плеча на плечо свою ношу, он тащился неровным, ухабистым, исковыренным коровьими копытами деревенским выгоном и еще издали стал искать глазами мать. На опушке рощи ее не было. Чем ближе он подходил, тем страшнее ему становилось... Господи! Что такое? Где же она? Очутившись в роще, он кинулся под первое попавшееся дерево и минуту лежал, жадно глотая воздух и прижимаясь виском к холодной и влажной траве, потом не выдержал, вскочил, взвалил на плечо бидончик и побежал, заметался между деревьев.
— Мама... мамочка... мама! — негромко звал он. Кричать он боялся. Он был уверен, что роща полна каких-то ужасов. И вдруг, в который раз выбегая на опушку, он увидел среди розовеющих на солнце берез силуэт женщины. Александра Сергеевна стояла к нему спиной, на цыпочках и, заслоняясь рукой от солнца, вглядывалась в сторону деревни.
— Ма! — закричал Ленька.
Она вздрогнула и оглянулась. Лицо у нее было бледное, заплаканное. Мальчику показалось даже, что она похудела.
Он подбежал к ней, уронил бидончик и, схватив ее за руки, прижался щекой к костяной пряжке ее кушака.
— Мамочка, милая, прости меня!..
Она не оттолкнула его и очень спокойно, даже чересчур спокойно, как показалось Леньке, сказала:
— Боюсь, мой дорогой, что скоро у тебя не будет мамы.
— Мама... не надо! — воскликнул он.
— Да, да, мой милый... Рано или поздно ты добьешься этого... Ждать тебе осталось недолго...
Тогда он опустился на землю у самых ее ног и громко заревел:
— Ма-а!.. Зачем ты так говоришь?!
Она помолчала, выдерживая характер, но не выдержала, сама опустилась рядом и тоже заплакала.
Так они и сидели, плечом к плечу, на сырой траве, под белой березкой и плакали минут пять.
Наконец рыдания стали утихать.
— Ну, что? — сказала Александра Сергеевна, всхлипывая. — Нашел ты свою бандуру?
Ленька деликатно фыркнул и подавился слезами.
— Нашел, — сказал он, подталкивая ногой бидончик.
— Да, кстати, — встрепенулась Александра Сергеевна.
— Что кстати?
Она помолчала, подумала и сказала:
— Впрочем, нет, ничего...
— Как ничего? Ты же что-то хотела...
— Что я хотела? Оставь, пожалуйста. Ничего я не хотела... Господи, вы посмотрите, — на кого он стал похож!.. Леша, где тебя угораздило? Повернись-ка... Что у тебя с блузой?
— Да... с блузой... Ты бы знала!.. Ты знаешь, между прочим, к кому мы чуть не попали?
— К кому?
— К Хохрякову.
Захлебываясь, он стал рассказывать ей о своей встрече с бандитом. Александра Сергеевна слушала его, ахала, закрывала глаза.
— Нет, с меня довольно! — воскликнула она, поднимаясь. — Ты отдохнул?
— Отдохнул.
— Вставай тогда, поднимайся, пошли!
— А куда?
Александра Сергеевна задумалась, выпятив, как девочка, нижнюю губу.
— Н-да. Это действительно вопрос.
— Нам же надо к Волге?
— Увы. К Волге.
— А где она? Далеко?
— Милый мой, если бы я знала! Я даже не имею представления, в какую сторону нам надо идти.
Ленька вскочил.
— Мама, знаешь что? Давай будем искать дорогу по солнцу!
— К сожалению, мой дорогой, я не умею искать дорогу по солнцу.
— Как? Ты же географию знаешь?
— Да... но при чем тут география? Постой! Волга течет в Каспийское море — с севера на юг. Мы находимся сейчас на ее левом берегу...
— Значит, Волга на западе!
— Ты знаешь, пожалуй, ты прав. А где запад?
— А запад? А запад как раз напротив востока.
— А где восток?
— Мама! — с укоризной воскликнул Ленька.
Восток давно уже давал о себе знать. Он кричал о себе яркими красками неба, золотом солнечных лучей. Он быстро сушил слезы на их лицах, трепетал на бело-черных стволах берез, переливался крохотными радужками на каждом листике и на каждой травинке.
...Поставив на голову свой бидончик и придерживая его спереди, Ленька шел мелкими танцующими шажками по тропинке, изображая африканского невольника, которого принанял за бутылку рома или за нитку стеклянных бус торговец слоновой костью.
— Мама, — крикнул он, не оглядываясь, — похож я на негра?
— Пожалуй, ты больше похож на мальчика из мелочной лавки, — ответила Александра Сергеевна. — Впрочем, я далеко не уверена... Пожалуй, такого и в лавке не стали бы держать.
— Почему не стали бы?
— Очень жаль, что нет зеркала. Ты бы посмотрел на себя... Такие оборвыши по большим праздникам у Покрова на паперти стояли.
— А ты-то, думаешь, лучше?
— Да уж... Могу себе представить, какая я красотке... Господи, хоть бы иголка и нитка были...
Ленька сделал еще два-три шажка и так резко повернулся, что бидончик чуть не слетел с его головы.
— Мама! — воскликнул он. — Погоди! А где твоя сумочка?
Он ожидал, что она испугается, вскрикнет, заохает, заужасается, начнет хлопать себя по бокам. Но она даже шага не убавила.
— Идем, пожалуйста, — сказала она.
— Нет, правда, мама!.. Я же не шучу. Где твой ридикюль?
— Это я у тебя должна спросить.
— Почему у меня?
— Потому что я надеялась, что ты принесешь его мне.
— Откуда принесу?
Она взяла его за плечо.
— Идем, мальчик. Не будем особенно волноваться. Я забыла сумочку в сарае, где мы ночевали.
Бидончик сполз с Ленькиной головы на плечо, проехал по груди и по животу и плюхнулся в траву к ногам мальчика. Оказалось, что не матери, а самому Леньке пришлось ужасаться и хлопать себя по коленкам.
— Мама! — вскричал он. — Почему же ты мне не сказала?!
— А потому, что я поздно спохватилась. Тебя уже не было.
— У тебя же там деньги!
— Да, все деньги...
— Как же мы будем жить?!
— Не знаю... Бог милостив, как-нибудь...
Ленька поднял бидончик, сунул его в руки матери.
— Мама... на, подержи...
— Что еще?
— Я сбегаю.
— Куда сбегаешь?
— В Быковку... Ты не бойся. Теперь я дорогу знаю. Я быстро... Я найду...
Она схватила его за шиворот.
— Ну, нет, мой дорогой. Второй раз этого не случится...
— Мама, отпусти! — кричал Ленька.
Но она уже быстро шла и тащила его за собой.
— Мама!! Да отпусти же!.. Ты меня задушишь.
— Не отпущу!
— Ну, ладно, хорошо, — говорил он, спотыкаясь и чуть не падая. Хорошо... я не пойду в Быковку.
— Поклянись.
— К-клянусь, — выдавил он из себя и только после этого был пощажен и получил свободу.
И опять они шли — межами, тропинками и дорогами. И чем дальше шли, тем длиннее становилась большая черная тень, которая, не останавливаясь, бежала впереди, указывая им путь на запад. А над головами путников, тоже ни на минуту не отставая от них, кружил в безоблачном небе жаворонок. Все жарче и жарче припекало затылок и спину солнце. И волнами ходило, перекатывалось по сторонам что-то зеленое и золотистое — иногда повыше, иногда пониже, иногда посветлее, иногда посмуглее...
...Волгу они не увидели, а услышали. Ленька остановился и сказал:
— Мама, ты слышишь?
Где-то не впереди, а несколько правее, за косогором, тоненьким пчелиным басом гудел пароход.
Не сговариваясь, женщина и мальчик свернули с тропинки, путаясь в траве, пересекли поле, взбежали на косогор и дружно, в один голос закричали "ура!".
Внизу — совсем близко, в двух-трех сотнях шагов от них, плескались волны широкой реки. Солнце, которое почему-то переместилось, как показалось Леньке, с востока на север, кидало свои лучи прямо по ее течению, и по этой трепетной розовато-золотистой дорожке в сторону от Ярославля быстро шел, будто убегал, и тащил, уводил за собой на канате длинную плоскую баржу маленький, словно игрушечный буксирчик. На противоположном высоком берегу реки виднелись какие-то постройки, поблескивали стекла, что-то двигалось ехала телега или шли люди.
Через минуту путники уже сидели на песчаной отмели у самой воды, и опять между ними шел крупный разговор. Ленька хотел выкупаться, мать не разрешала.
— В конце концов ты забываешь, что ты болен.
— Чем я болен?
— Ах, ты даже не помнишь, что ты болен? У тебя дифтерит.
— Может быть, мне в постельку лечь?
Она засмеялась, потрепала его за ухо.
— Мурло ты мое! А ну, иди вымойся...
Засучив выше колен штаны, Ленька с наслаждением ходил по холодной воде, мыл руки, шею, лицо и, разгоняя радужный лиловатый налет нефти, украдкой пил горстями пресную сладковатую воду. Александра Сергеевна тоже занялась туалетом, — выстирала чулки, носовые платки, вымыла голову.
Потом они долго лежали на теплом песке, сушили белье и подсыхали сами.
— Что же мы будем делать дальше? — проговорила наконец Александра Сергеевна.
— Я и сам об этом думаю.
— Ты же, наверно, кушать хочешь?
— А ты?
— Нет, я почему-то не хочу.
— И я тоже не хочу.
Но через минуту, помолчав, он сказал:
— Жалко, что тут нет черепах.
— Зачем тебе вдруг понадобились черепахи?
— Можно было бы набрать яиц и сделать яичницу.
— Ну, милый, я думаю, сейчас ты удовольствовался бы и куском хлеба с солью...
И все-таки Александра Сергеевна не торопилась. Ленька чувствовал, что мать даже думать боится о том, что рано или поздно придется переправляться на ту сторону. Солнце стояло уже высоко, песок стал горячим, но волосы у нее почему-то сохли очень долго. Чулки понадобилось перестирывать. Наконец наступила минута, когда ей все-таки пришлось сказать:
— Ну, что ж...
— Давай полежим еще, — великодушно предложил Ленька.
— Нет, надо идти, — вздохнула она.
— А куда же мы пойдем?
— Поищем, нет ли поблизости какой-нибудь переправы.
— Может быть, тут мост есть?
— Нет, к сожалению, мостов тут нет.
...Первое живое существо, которое они встретили на берегу, был теленок. Маленький, тонконогий, рыженький, он стоял, расставив передние ножки, и осторожно тянул воду, постегивая себя по бокам кисточкой хвоста. Ленька подбежал к теленку, стал гладить его, чесать его жестковатую шерстку. Теленок оторвался от воды, посмотрел на мальчика круглым глуповатым глазом, почмокал толстыми губами и, припав к прозрачной воде, снова замахал, заработал хвостиком.
— Мама, ты знаешь, если тут есть телята, — значит, тут и люди есть, сделал заключение Ленька. И не ошибся. Через минуту они заметили дымок, а подойдя ближе, увидели кривобокую дощатую хибарку, рыбачьи сети, растянутые вдоль ее стен, и — самое главное — лежащую на песке, опрокинутую черным смоленым днищем вверх — большую лодку.
Из хибары вышел старик в холщовой неподпоясанной рубахе. Заслонясь рукой от солнца, он хмуро смотрел на приближающихся путников.
— Здравствуйте, дедушка! — еще издали крикнула Александра Сергеевна.
Рыбак не ответил и продолжал так же неприветливо разглядывать женщину и мальчика.
— Вы бы не могли, голубчик, перевезти нас на тот берег? — обратилась к нему Александра Сергеевна.
— Чего? Говори громче, — сердито сказал старик, наклоняя голову и прикладывая ладонь к уху.
Она еще раз повторила просьбу — насколько могла громче.
Шевеля сухими губами, он молча разглядывал их. Лицо у него было морщинистое, черное от загара, глаза слезились, красноватые веки часто и как-то болезненно мигали.
— А вы кто такие будете? — мрачно спросил он.
Александра Сергеевна стала привычно объяснять: они — из Ярославля, беженцы, пробираются к себе в деревню, в Красносельскую волость...
Старик дернул плечом и сердито перебил ее:
— Кто вы? Я говорю: кто вы?!
— Ну, как вам объяснить?.. Мы сами из Петрограда, я — учительница...
Но он не слушал ее.
— Ходят тут всякие, — говорил он, помигивая воспаленными веками. Зеленые, белые, золотые... Шут вас всех подери! Чего вам надо? Я говорю: чего надо вам? Мало? Мало поизмывались?.. На старое повернуть хотите?!.
— Дедушка! — закричала ему на ухо Александра Сергеевна. — Мы не белые, мы сами от белых бежим.
Он топнул ногой и крикнул:
— Ась?
— Дедушка, милый, у меня в деревне маленькие дети...
— Не слышу?
— Дети у меня, я говорю... Мальчик и девочка... Они меня ждут... Я их очень давно не видела...
— Тыр-тыр-тыр, — смешно передразнил он ее.
Потом постоял, ничего не сказал и, резко повернувшись, ушел в дом.
Александра Сергеевна переглянулась с сыном.
— Сумасшедший какой-то, — пробормотал Ленька.
Но старик уже появился на пороге, выволакивая длинные обглоданные весла и железные уключины.
— На, держи, — приказал он Леньке и направился к лодке.
— Только, дедушка... — кинулась к нему Александра Сергеевна. — Я должна вас предупредить...
Перевернув лодку и наваливаясь на нее животом, он уже толкал ее в воду.
— Дедушка, вы слышите? — кричала Александра Сергеевна. — У меня нет денег!.. Но я — вы не бойтесь — я заплачу вам!..
— Чего ты? — сказал он, выпрямляясь и смахивая со лба взмокшую прядку волос.
— Я говорю: вы не беспокойтесь, дедушка! Денег у меня нет, я потеряла их, но я вас как-нибудь отблагодарю. Я вам часы дам или вот — хотите колечко...
Отставив в сторону мизинец, она протянула руку. Он наклонился и большим заскорузлым пальцем осторожно тронул маленькую голубую бирюзинку на тоненьком витом колечке.
— Это чего? Золото?
— Да, дедушка. Чистое золото.
— Откедова у тебя?
— Это, дедушка, подарок. Это мне покойная мать, когда я еще девочкой была, подарила...
Он стоял, придерживая двумя руками лодку, и хмуро смотрел на женщину.
— Мать, говоришь? Подарила?.. Ну, ладно, садитесь...
И тут, когда Александра Сергеевна добилась своего и взглянула на лодку, которая уже юлила и колыхалась на воде, ее охватила робость.
— Дедушка! — крикнула она. — А лодка у вас прочная?
— Ась? — переспросил он. — Садись, я тебе говорю!..
— Мама... да садись же! — кричал Ленька. Он уже стоял в лодке и протягивал ей руку.
Она вздохнула, зажмурилась, перекрестилась и, придерживая подол юбки, шагнула на шаткие досочки кормовой банки.
Через минуту лодка уже развернулась и быстро шла наискось по течению. И опять Ленька не испытывал никакого удовольствия. Страх, который охватил Александру Сергеевну, невольно передавался и ему. Крепко зажмурившись и вцепившись одной рукой в борт лодки, а другой в Ленькино плечо, она поминутно наклонялась, вздрагивала и шептали:
— Боже мой, боже мой, как ужасно, как страшно качает!
— Мама... да где же качает? — сердился Ленька. — Ты посмотри — ни одной же волны нет!
Старик уверенно, легко, по-молодому работал веслами. Иногда он взглядывал на Александру Сергеевну, усмехался, щурил глаза и качал головой.
— Робеешь, баба? Не робей! — вдруг закричал он, показав на мгновение белые крепкие молодые зубы.
И почему-то этот веселый крик, прокатившийся эхом по реке, и неожиданная мальчишеская улыбка старика вдруг успокоили Александру Сергеевну. Ленька сразу почувствовал, что рука ее обмякла и уже не так судорожно сжимает его плечо.
На правом берегу пристали у каких-то дощатых мосточков. Стоя в лодке и помогая Александре Сергеевне подняться на мостки, рыбак сказал:
— Пойдете по левой руке, — наверх. Там деревня Воронино... Оттедова на Большие Соли путь держите.
Александра Сергеевна поблагодарила его и стала стягивать с мизинца кольцо.
— Ладно, иди, — сказал он, махнув рукой.
— Что? — не поняла Александра Сергеевна.
— Иди, я говорю, иди, бог с тобой...
— Дедушка... нет... как же...
— Иди, тебе говорят! — закричал он и так сильно топнул ногой, что заколыхался вместе с лодкой.
Ленька услышал, как мать всхлипнула. Она постояла, разглядывая кольцо, потом быстро натянула его на палец, еще быстрее наклонилась и, рискуя упасть в лодку, обняла старика и поцеловала его в загорелый лоснящийся плешивый лоб.
— Спасибо вам, дедуся, — сказала она сквозь слезы.
— От дура-баба, — засмеялся он, утирая лоб, и опять на несколько секунд блеснули его ослепительно-белые не стариковские зубы.
В деревне Воронино Александра Сергеевна и Ленька долго и безуспешно блуждали из дома в дом в поисках подводы. Почему-то никто не хотел ехать. Им пришлось пройти еще полторы-две версты до соседнего хутора, где какая-то лихая баба, соблазнившись полуфунтом сахара и катушкой ниток, которые ей обещала Александра Сергеевна, согласилась доставить их домой. Они погрузились (сделать это было нетрудно, так как весь багаж их на этот раз состоял из бидончика с бордосской жидкостью) и во второй половине дня восемнадцатого июля, на тринадцатый день белогвардейского мятежа, прибыли в Чельцово.
...Нянька, выбежав на крыльцо, рыдая, упала на грудь Александры Сергеевны.
— Ох, матушка... Александра Сергеевна!.. Ох, бедненькая вы моя!.. Золотце... Ягодка...
— Что? Что? — говорила, бледнея, Александра Сергеевна. — Что-нибудь случилось? Дети?
Но они уже, смеясь и плача, сами бежали ей навстречу.
Опять Леньку душили сильные и мягкие объятия, опять чужие и свои слезы, смешиваясь, текли ему за воротник.
Умываясь в сенях, он слышал, как нянька говорила матери:
— Ведь каких мы тут мук приняли, голубушка вы моя, Александра Сергеевна!.. И за вас-то, бедняжечек, сердце кровью изошло... Ведь мы каждый вечер с ребятами на мельницу ходили смотреть, что в Ярославле делается...
— Неужели отсюда видно что-нибудь?
— Где уж не видно!.. На полнеба полымя стоит... Уж мы вас, голубчиков, и видеть не чаяли... А они — вот они — приехали!.. Господи, милые мои, и где это вас так изодрало, измочалило?.. Матушка, Александра Сергеевна, а у нас-то тут что творилось!.. Ведь не успели вы, голубчики, уехать, опять эти черти, разбойники, прости меня грешную, нагрянули... Ведь что делалось-то, солнышко вы мое!.. Кровь стынет, вспомнить не могу, слезы душат...
Голос у няньки задрожал, она всхлипывала.
— Василия-то Федорыча... Кривцова... председателя нашего знали небось?
— Господи, ну как же... Что с ним?
Скользкий обмылок выскочил из Ленькиных рук. С намыленным лицом, с засученными рукавами он вбежал в горницу.
— Что? Няня!.. Что случилось с Василием Федоровичем?
Старуха слабо махнула рукой.
— Ничего, Лешенька... Иди... Иди, детка, не слушай...
И вдруг уронила седую простоволосую голову на стол и заплакала, запричитала так, как умеют плакать и причитать только деревенские бабы:
— Зарезали... Зарезали его, окаянные!..
— Насмерть? — закричал Ленька, чувствуя, как сжимается у него горло и заходит сердце.
— Посреди улицы... вилами его... топорами... сапогами топтали...
— Умер? — чуть слышно выговорила Александра Сергеевна. И, быстро повернувшись к сыну, сказала: — Леша, я очень прошу тебя, выйди, пожалуйста.
При всем желании, он не мог этого сделать. Ноги его подкосились. Пошатываясь, он прошел к столу и опустился на лавку.
Сморкаясь и вытирая передником заплаканное лицо, нянька рассказывала:
— Жена его, Фекла Семеновна, дай бог ей здоровьица, вырвала его, на плечах унесла от злодеев... В Нерехту в тот же час его повезла. Да где уж!.. Небось и схоронила его там, голубчика. Где ж, матушка вы моя, Александра Сергеевна, после такой лютой казни выжить человеку? Ведь на нем, родненьком, ни одного цельного места не осталось, ни единой кровиночки в лице его белом не сыскать было...
В сумерках Ленька вышел на улицу. Как будто никаких перемен не случилось за это время в деревне. На завалинках тут и там сидели и гуторили бабы и мужики. Бегали и шумели ребята. Тявкали по дворам собаки. С Большой дороги доносились девичьи голоса, песни, звуки гармоники.
Еще издали Ленька заметил, что над крыльцом председателевой избы нет флага. Подойдя ближе, он увидел, что над навесом крыльца криво торчит утыканная гвоздями палка, а на этих черных обойных гвоздиках висят, шевелятся на ветру розовые выцветшие нитки.
Он обошел избу, заглянул в темные, заклеенные газетными полосками окна, поднялся на крыльцо, потрогал зачем-то пальцем большой ржавый замок, висевший на засове. Сердце его больно защемило.
Когда он возвращался домой, у ворот нянькиной избы его нагнала шумная ватага мальчишек.
— Эй, питерский! — окликнул его знакомый голос.
Ленька оглянулся и узнал Хорю. Молодой Глебов был почему-то в коротеньких, ниже колен, городских штанах и в тупоносых новых штиблетах. Из-за пояса у него торчал настоящий длинный винтовочный штык.
— Здорово, — сказал он, подходя к Леньке, улыбаясь и протягивая руку. Приехал? Сегодня? Играть пойдешь?..
Ленька хотел что-то сказать, но губы у него вдруг задрожали, из глаз брызнули слезы. Ничего не видя, он оттолкнул протянутую руку, ударил Хорю кулаком в грудь, и голосом, которого сам испугался, закричал:
— Иди к чегту! Гыжий!..
ГЛАВА VII
Ярославский мятеж был подавлен. Окруженные плотным кольцом советских войск, понимая, что дело их проиграно, белогвардейцы в последнюю минуту решили пойти еще на одну авантюру. В Ярославле в момент мятежа находилось большое количество пленных немцев, которых Советская власть, выполняя условия Брестского мирного договора[27], отправляла на родину — в Германию. Немцы не принимали никакого участия в военных действиях, хотя мятежники и пытались заставить их силой сражаться на своей стороне. В последнюю минуту, когда советские броневики уже приближались к центральным улицам Ярославля и под ногами у мятежников, как говорится, горела земля, они вдруг объявили немцев своими врагами. Они заявили, что не признают заключенного большевиками Брестского мира, что Россия, которую они представляют, находится в состоянии войны с Германией и что на этом основании они все до последнего сдаются в плен — пленным немцам. Немцам они, конечно, были ни на что не нужны, но, подчиняясь силе, так как у мятежников было оружие, а пленные его не имели, — они вынуждены были разоружить перхуровцев и посадить их под замок — в тот самый Волковский театр, в котором только что томились сами. Конечно, советские войска, заняв город, не посчитались с этой хитроумной сделкой. Немцы поехали на родину, а мятежники оказались в руках тех, против кого они подняли оружие.
Двадцать второго июля восемнадцатого года над древним волжским городом вновь взвился красный флаг Советов.
Недели через две после этого, в первых числах августа Ленька с матерью опять ехали пароходом в Ярославль. Александра Сергеевна не забыла, что у Леньки был дифтерит, что самый опасный период болезни он провел на ногах, в холодном сыром подвале, и, хотя Ленька ни на что не жаловался и чувствовал себя прекрасно, решила все-таки, что нужно показать его опытному врачу.
Облаченный в потертую темно-синюю матросскую куртку, из которой он уже успел вырасти и которая после реалистской шинели казалась ему чересчур игрушечной, детской, Ленька стоял в толпе пассажиров на палубе волжского парохода "Коммуна" и, вытягивая шею, смотрел туда, куда смотрели и показывали пальцами все остальные.
Он еще не забыл ослепительный сон, который приснился ему месяц назад, когда, с трудом приподняв над скамейкой тяжелую воспаленную голову, он выглянул в окошечко иллюминатора и в лицо ему приятно и несильно хлестнул свежий волжский ветер. Он еще хорошо помнил этот хрустальный, сахарный город-сказку, белоснежную чистоту его башен и колоколен, кудрявую зелень садов, плавящееся в голубом небе золото, — и не мог поверить, что сейчас перед ним тот самый, приснившийся ему город...
Какие-то гнилые зубья торчали на высоком, уже не зеленом, а рыжевато-буром, спаленном берегу, какие-то сахарные огрызки лежали на кучах черных потухших головешек... И ни одной башни, ни одной колокольни, ни одной искорки золота в аквамариновом августовском небе!..
В самом городе разрушения не так бросались в глаза. Правда, от многих кварталов ничего не осталось, и проезд в этих районах был закрыт. Но были дома, кварталы и даже целые улицы, не пострадавшие от обстрела. В одном из таких не слишком пострадавших переулков Александра Сергеевна, после долгих блужданий, разыскала дом, у крыльца которого поблескивала медная дощечка:
Докторъ
Б.Я.ОПОЧИНСКIЙ
Дътскiя болезни
Открывшая на звонок молодая женщина объявила, что доктора нет, что он уже который день не ночует дома, — работает в госпитале на Борисоглебском шоссе.
— Что же нам делать? — сказала Александра Сергеевна, когда дверь перед ними захлопнулась.
— Ничего... очень хорошо, — обрадовался Ленька. — Поедем обратно!..
Большого желания встречаться с доктором у него не было. Он еще не забыл острой колючей иголки, которую всадил ему в ногу этот розовощекий весельчак. Но Александра Сергеевна держалась другого мнения на этот счет.
— Нет, мой дорогой, — сказала она. — Ехать несолоно хлебавши обратно я не могу. Придется идти искать госпиталь. Если не найдем Опочинского, покажем тебя кому-нибудь другому.
...Госпиталь, куда они добирались часа полтора, помещался в старинном здании городской больницы — на окраине города. Оставив Леньку в больничном саду и наказав ему сидеть и ждать ее, Александра Сергеевна отправилась на розыски доктора.
Леньке никогда не приходилось самому лежать в больнице. Но бывать в больницах и лазаретах ему случалось много раз. В Петрограде район, где они жили, почему-то изобиловал всякими лечебными учреждениями. По соседству с их домом помещалась Александровская городская больница. Подальше, за Технологическим институтом, расположились корпуса огромной Обуховской больницы. На Фонтанке у Калинкина моста почти рядышком стояли — Кауфманская община сестер милосердия, Крестовоздвиженская община и Морской госпиталь. Во всех этих больницах и госпиталях имелись домовые церкви, куда мать перед праздниками водила Леньку ко всенощной. В годы войны больницы были переполнены ранеными. Ленька не бывал, конечно, ни в палатах, ни, тем более, в операционных, не видел тяжело раненных и умирающих и, может быть, поэтому у него создалось представление о больнице, как о чем-то очень уютном, благополучном, безмятежном и трогательном. На всю жизнь запомнилась ему эта особенная, церковно-больничная благостная атмосфера — смешанный запах йодоформа и ладана, серые и кофейные халаты раненых, белоснежные косынки сестер милосердия с рубиновыми крестиками над переносицей, забинтованные головы, руки на черных повязках, постукивание костылей, шуршание резиновых шин и шлепанье туфель по керамиковым плиткам коридоров...
И сейчас, когда он сидел на зеленой садовой скамейке и дожидался матери, а вокруг него сидели и ходили, опираясь на костыли, молодые и пожилые люди в серых и кофейных халатах, Ленька не чувствовал ни страха, ни смущения, ни даже сочувствия к этим людям. Это была красивая, умилительная картина, напоминавшая ему детство, Петроград, садик Морского госпиталя, где так же вот бродили и сидели за решетчатой оградой раненые и увечные воины...
По дорожке мимо него медленно шел, покачиваясь на двух костылях, высокий бородатый раненый. Тяжело подпрыгивая на одной ноге, он осторожно нес вторую — укороченную на одну четверть и плотно замотанную бинтами.
Увидев рядом с Ленькой свободное место, раненый приостановился, широко расставив костыли.
— Эх, посидеть, что ли? — сказал он и, занося костыль, лихо заковылял к скамейке.
Ленька привстал, хотел помочь ему, но раненый ловко сложил оба костыля вместе, повернулся на каблуке здоровой ноги и плюхнулся на скамейку, вытянув вперед свою толстую забинтованную культю.
— Сидишь? — сказал он, искоса посмотрев на Леньку и вытирая марлевой тряпочкой вспотевшее лицо.
— Да, — скромно ответил мальчик.
— К отцу пришел?
— Нет.
— А кто? Брат? Крёстный?
Леньке было ужасно стыдно признаться, что у него никто не лежит в госпитале.
— Я сам, — пробормотал он, краснея. — Меня мама привезла — показывать доктору.
— Болен, значит? А какая болесть?
— Так... пустяки... дифтерит, — усмехнулся Ленька, всем видом своим желая показать, что, если бы не мама, он, конечно, никогда бы не решился тащиться в госпиталь с такой ерундой. — А вы что, раненый? — сказал он, показывая глазами на забинтованную ногу соседа.
— Нет, милый. Я уже не раненый. Я уже инвалид. Раненый — это когда, знаешь, полежишь, полечишься, да и снова на войну идешь. А уж мне теперича до самой смерти — только что разве с тараканами на печке воевать...
Бородач засмеялся, покачивая и поглаживая свою толстую ногу, а Ленька вдруг почувствовал, что в горле у него защекотало, и, чтобы заглушить эту щекотку, поспешил спросить:
— А вы где... То есть, вас где ранило?
— Ранило-то? А здесь, под Ярославлем.
— Значит, вы с белыми воевали?
— А с кем же еще?.. С ними...
Бородач нахмурился, помолчал, подумал и, покачав свою культю, с усмешкой сказал:
— Ведь вот, подумай, чудеса какие! А? Четыре года с немцем воевал. С австрияком воевал. Ни одной царапины... А тут — на русской земле, в русской губернии, от русской руки чуть смерть не принял.
— А вас — из чего: из пушки или из ружья?
— Из ружья, да... Называется английская разрывная пуля "дум-дум".
— Почему английская?
— А это уж ты, милый, у них поди спроси: откуда они английские боеприпасы получили?
Раненый опять вытер тряпочкой лицо.
— Не куришь? — спросил он, посмотрев на Леньку.
— Нет еще, — застенчиво ухмыльнулся Ленька.
Внезапно где-то очень близко, за углом здания, грянула духовая музыка. Тоскливые, медлительные и вместе с тем гневные звуки похоронного марша, извергаясь из медных жерл, понеслись к осеннему небу.
Ленькин сосед прислушался, крякнул, покачал головой.
— Повезли... опять, — сказал он мрачно.
— Кого повезли?
Бородач не ответил.
— Сволочи... иуды... золотопогонники, — пробормотал он сквозь стиснутые зубы.
Как и всякий другой мальчик, Ленька не мог усидеть на месте при звуках военного оркестра. Что бы ни играли медные трубы — кавалерийский галоп, церемониальный марш или траурный реквием, — ноги мальчика сами собой устремляются в ту сторону, где стучит барабан, гудят генерал-басы, поддакивают им баритоны и поют, заливаются корнет-а-пистоны и валторны.
И на этот раз Ленька не устоял перед искушением. Он забыл, что мать приказала ему сидеть на скамейке и ждать ее, забыл, что не знает расположения больницы и может потеряться...
— Я, пожалуй, пойду... посмотрю, — смущенно объяснил он соседу, сползая со скамейки.
— Что ж. Посмотри иди, — сказал тот.
...Свернув за угол и пробежав под какой-то аркой, Ленька остановился, ослепленный блеском медных труб. Он не сразу понял, что делается во дворе. У приземистого кирпичного здания с золотым крестом над кирпичным же куполом стояла высокая, обитая железом платформа, на каких обычно возят мясо и бидоны с молоком. Огромный гнедой битюг стоял под тоненькой полосатой дугой, расставив мохнатые ноги и опустив гривастую голову, в челку которой была вплетена красная лента. Какие-то люди в военной и штатской одежде медленно выносили из часовни и осторожно устанавливали на платформу бурые, похожие один на другой, гробы. Толпа женщин и военных окружала эти похоронные дроги. А в стороне, у чугунной ограды, под старым раскидистым тополем грудился небольшой военный оркестр, и золоченые трубы его под неспешный такт барабана на разные голоса печально и торжественно пели:
Вы жертвою пали в борьбе роковой,
В любви беззаветной к народу
Вы отдали все, что могли, за него,
За жизнь его, честь и свободу
Ленька снял фуражку и подошел ближе. В толпе громко, навзрыд плакали. Гробов на телеге стояло уже не меньше десяти, а их все выносили и выносили.
— Простите, пожалуйста, это кого хоронят? — вполголоса спросил Ленька у маленького, похожего на татарина, красноармейца, с серой, стриженной под машинку головой. Тот покосился на него, мрачно посопел и ответил:
— Тех, кто за нас с тобой кровь пролил.
— Убитые?
— Однополчане мои. Товарищи. Первый Советский пехотный полк. Слыхал?
— Нет, — сказал Ленька.
Из часовни выносили еще один гроб. Чтобы получше рассмотреть его, Ленька привстал на цыпочки и вдруг увидел в толпе женщин знакомое лицо. Он не успел удивиться и не успел спросить себя, что может здесь делать жена Василия Федоровича Кривцова, как сердце его, похолодев, само ответило ему на этот вопрос.
Кривцова стояла подальше других. Она не плакала, но бледные сухие губы ее были болезненно сжаты, а широкие калмыцкие скулы медленно двигались, как будто женщина пыталась перетереть зубами что-то очень твердое — камешек или гвоздь.
Музыка смолкла. Слышнее стали плач и причитания женщин. Толпа задвигалась. Какой-то черноволосый курчавый человек в белой русской рубашке, забравшись на краешек платформы и опираясь на штабель красных гробов, что-то говорил — то громко, почти крича, то совсем тихо, грозным шепотом.
Ленька ничего не видел и не слышал. Он протискивался через толпу, боясь потерять из виду Кривцову.
Телега с гробами тронулась. Женщины с плачем побежали. Кто-то на бегу толкнул Леньку. Он уронил фуражку, нагнулся, чтобы поднять ее, его опять чуть не сбили с ног. Когда он поднялся и выбрался из толпы, навстречу ему шла Кривцова.
Шла она позади всех, наклонив голову и покусывая кончик своего белого головного платка.
— Здравствуйте, — сказал Ленька.
— Здравствуйте, — безучастно ответила она, не останавливаясь и не поднимая глаз.
— Фекла Семеновна, — сказал он. — Вы что, не узнали меня?
Она остановилась.
— Ты кто? Постой... Да ведь вы из Чельцова? Питерский?
Что-то вроде улыбки мелькнуло на ее изможденном осунувшемся лице.
— Давно ли?..
— Я только что. Сегодня, с мамой приехал. А вы...
Он запнулся, не решаясь даже спросить, что привело ее в это страшное место.
— А я?.. Я у Василия Федоровича была.
— Где?
— Навещать приходила. Здесь он...
Ленька схватил ее за руку.
— Фекла Семеновна! Он жив?
— Живой, живой, — улыбнулась она усталой, измученной улыбкой и, выбрав свою большую грубую руку из Ленькиной руки, погладила его по голове. Выходили его, спасибо. Уже четвертый день в памяти лежит. А до этого худо было. Не надеялась уж. Думала, что вот так же... с музыкой повезут. Ведь на нем еще в Нерехте доктора восемнадцать ран насчитали. Вы небось знаете, слыхали, какую над ним казнь эти ироды учинили?..
— Фекла Семеновна! — жалобным голосом воскликнул Ленька. — А где он? Посмотреть на него можно?
— Что ж, — сказала она. — Пойдем сходим. Он рад будет.
Она вела его за руку, а где-то впереди, уже за оградой больничного сада, на улице, глухо стучал барабан и все тише и тише пели трубы:
Прощайте же, братья, вы честно прошли
Свой доблестный путь благородный
...В больницу они проникли с черного хода, какими-то темными коридорами, где нехорошо пахло и стояли прислоненные к стене грязные брезентовые носилки. Фекла Семеновна знала здесь все ходы и выходы, и ее тоже все знали. У застекленной двери палаты их окликнула высокая худая женщина в белой косынке:
— Кривцова?! Голубушка, ты куда? Без халата!
— Дунечка... милая... на минутку... Сейчас уйдем.
— Ты же была только что...
— Да вот — с землячком повстречалась. Друзья они с Василием Федоровичем.
— Это ты землячок? — сказала женщина, с усмешкой посмотрев на Леньку.
— Пожалуйста... на минутку, — пробормотал Ленька, шаркая зачем-то ногой.
— Ну, бог с вами, идите. Недолго только. Сейчас обход будет.
Большая больничная палата была плотно забита койками. Не успел Ленька переступить порог, как в носу у него защекотало от крепкого запаха аптеки, уборной и кислых снетковых щей. Он робко шел за Феклой Семеновной, а со всех сторон смотрели на него из-под бинтов и повязок — любопытные и бесстрастные, голубые, карие, серые, веселые, грустные, злые, добрые, измученные и уже потухающие глаза. Во всех углах разговаривали, кашляли, бредили, стонали, смеялись, щелкали костяшками домино, стучали кружками и оловянными мисками...
Кривцов лежал в самом конце палаты, у окна. Ленька в испуге остановился, увидев, как похудел и осунулся председатель. Он стал еще больше похож на угодника с иконы. От белых бинтов, которыми была замотана его голова, лицо его казалось еще темнее. Красивая русая борода была коротко острижена. Он лежал на спине, полузакрыв ввалившиеся глаза, и шевелил губами.
— Василий Федорович, не спишь? Гостя прицела...
Он с трудом открыл глаза, неудобно повернул голову и прищурился.
— А-а! — сказал он слабым голосом, улыбаясь и делая попытку приподняться на локте. — Здравствуйте! Это как же вы? Какими судьбами?
— Я так... случайно, — забормотал Ленька, тоже пробуя улыбнуться. — Мы ведь не знали, не думали, что вы...
— Думали, что я богу душу отдал? Да?
Он держал Ленькину руку в своей большой теплой руке и с улыбкой смотрел на мальчика.
— Я рад, — сказал он тихо.
Ленька присел на корточки. Он тоже чувствовал огромную радость, он чувствовал нежность к этому большому, сильному, связанному бинтами и прикованному к постели человеку, но не знал, какими словами сказать об этом.
— Вы садитесь, — зашевелился Кривцов. — Вот табуреточка... Скиньте с нее... Фекла, помоги...
На табуретке стояла бутылка с молоком, лежали круглый хлеб, яйца, несколько огурцов и тоненькая книжечка с вложенным в нее карандашом.
— Ничего... спасибо, — сказал Ленька. — Я так. Мне ведь скоро идти...
Он сидел на корточках и несмело поглаживал руку Василия Федоровича.
— Ну, что там у нас... дома, в деревне? — полузакрыв глаза, спрашивал Василий Федорович.
— Ничего... так... все в порядке, — бодрым голосом отвечал Ленька, чувствуя на себе беспокойный, настороженный взгляд Феклы Семеновны. — Ваша изба в целости... Я заходил, видел.
— Да я не о том. Я хотел спросить: кто там у нас верховодит? Глебовы-то еще хозяйничают?
— Да. Федор Глебов на днях лавку открыл. Торгует. Сыновья его, которые раньше в лесу скрывались, теперь дома живут. А с Хорькой я не играю больше.
— Это почему ж так?
— Вы же знаете, почему, — нахмурился Ленька.
Он смотрел на Кривцова и думая, что председатель очень изменился. Не в том дело, что его остригли и что он похудел. Голос у него был расслабленный, больной, но в этом голосе не было уже тех нежных, девичьих ноток, которые так поразили Леньку когда-то в сумерках на Большой дороге.
— Ничего, — говорил он с невеселой усмешкой. — Пускай похозяйничают, потешатся напоследок... Ведь, дураки пошехонские, не понимают и понять не хотят, что Советская власть — навечно, что ее ни вилами, ни топорами, ни английскими пулеметами не сокрушить... Помните? — сказал он, открывая глаза. И опять в его голосе зазвучали теплые певучие нотки, когда, приподнявшись на локте, он хрипловатым голосом медленно, упирая на букву "о", прочел:
Рать подымается
Неисчислимая!
Сила в ней скажется
Несокрушимая!
— Это что? Откуда? — спросил Ленька.
— А это у Некрасова. Не читали разве? "Русь" называется... Несокрушимая!.. Это ведь про нас с тобой сказано, про наше времечко!..
— Василий Федорович, — сказал Ленька. — А это правда, что у вас...
Он запнулся.
— Что это у меня?
— Что у вас — восемнадцать ран?
Кривцов негромко посмеялся в бороду.
— Не знаю, дружок. Я не считал.
— Да, да, правда... Мне Фекла Семеновна говорила.
И, наклонившись к раненому, Ленька покраснел, как девочка, и сказал:
— Ведь вы — знаете, Василий Федогыч, кто? Вы — гегой.
— Ну вот! Придумали... Я, дорогой мой, русский мужик. А русский мужик сильный, он все выдюжит. Это вот она у меня действительно героиня, — сказал он, улыбаясь и показывая глазами на жену, которая молча стояла у него в изножий, облокотившись на спинку кровати. — Ведь это она меня от смерти спасла...
— Полно тебе, Василий Федорович, — заливаясь румянцем, ответила Фекла Семеновна. — Не я тебя спасла, а дохтор... Вот он идет! — сказала она вдруг испуганным шепотом.
Ленька оглянулся.
Через палату быстро шел, размахивая руками и держа направление прямо к нему, невысокий румяный человек в белом халате и в белой кругленькой шапочке, сдвинутой на затылок.
— Позвольте, хе-хе, — говорил он, двигая густыми черными бровями. — Это что такое? Товарищ Кривцова, это как же вы, хе-хе, без халата сюда? И кто вас пустил?
— Прости, батюшка. Я сейчас. Я на минутку, — забормотала Фекла Семеновна.
Ленька поднялся и смущенно смотрел на доктора. Он сразу узнал его.
— А это что за птица? — сказал тот, останавливаясь и разглядывая мальчика. — Хе-хе. Интересно... Ты как сюда попал, попугай?
— Это ко мне, Борис Яковлевич, — слабым голосом сказал Кривцов.
— Я так... на минутку... зашел. Здравствуйте, доктор, — сказал Ленька, вежливо кланяясь и шаркая ногой.
— Хе-хе. Постой! Где я тебя видел? — сказал доктор, взяв мальчика за подбородок. — Ты у меня лечился когда-нибудь?
— Еще бы... Вы разве не помните? Вы же меня кололи...
— Хе-хе. Колол! Я, мой друг, за свою жизнь, хе-хе, переколол, вероятно, хе-хе, десять тысяч мальчиков и такое же количество девочек. Где? Когда? Напомни.
— Этим летом. В гостинице...
— А-а! Постой!.. В Европейской?.. Хе-хе. Помню. Дифтерит?
— Да.
— Черт возьми! Хе-хе. Почему же ты не в больнице?
— Мне некогда было, — сказал Ленька. И он коротко рассказал доктору о своих ярославских злоключениях.
— Черт! — сердито повторил доктор. — Хе-хе. Ерунда какая... Чушь собачья. Иди сюда!
Он схватил мальчика за плечо и подвел к окну.
— Открой рот.
Ленька послушно открыл рот.
— Скажи "а".
— А-а, — сказал Ленька.
— Еще. Громче.
— А-а-ы-ы, — замычал Ленька, поднимаясь на цыпочки и выкатывая глаза.
— Хе-хе. Н-да. Странно. А ну, открой рот пошире. Горло не болит?
— Э, — сказал Ленька, желая сказать "нет".
— И не болело?
— Э...
— Мать жива?
— Жива.
— Братья и сестры есть?
— Есть.
— Живы?
— Живы.
— Здоровы?
— Здоровы.
— Н-да, повторил доктор. — Исключительная история!.. Никогда, хе-хе, ничего подобного не видел. За десять лет практики... Первый случай.
— Может быть, маму позвать? — оробев, предложил Ленька. — Они здесь... Мы ведь для этого и приехали, чтобы вам показаться...
— Жалко. Напрасная трата времени. Ехать вам, хе-хе, совершенно незачем было. Вы, молодой человек, здоровы как бык. Понимаете?
— Понимаю.
— Повторите.
— Как бык.
— Ну, а в таком случае, хе-хе, делать тебе здесь, хе-хе, совершенно нечего. Прощайся с больным и проваливай. — И, взяв мальчика за плечо, доктор шутливо подтолкнул его коленом.
Ленька торопливо попрощался с Кривцовым, поклонился доктору и побежал к выходу. Уже надевая фуражку, он вдруг вспомнил что-то, оглянулся и крикнул:
— Василий Федорович! Я и забыл... У меня подарок для вас есть. Вы слышите? Поправляйтесь! Приезжайте скорее.
Кривцова он не увидел и голоса его не расслышал. Но Фекла Семеновна, помахав мальчику рукой, крикнула:
— Мамане твоей кланяться велит!..
...Александру Сергеевну Ленька нашел в саду. Еще издали он увидел ее серый жакет и белую с черной ленточкой панамку. Мать стояла у той самой зеленой скамейки, где полчаса тому назад он разговаривал с бородатым раненым. Сейчас этот бородач стоял на растопыренных костылях и что-то оживленно объяснял Александре Сергеевне, показывая рукой в ту сторону, куда убежал мальчик.
Ленька выбежал в сад из другого подъезда и появился с другой стороны.
— Мама! — окликнул он ее.
Александра Сергеевна оглянулась. Лицо ее запылало гневом.
— Негодный мальчишка! — накинулась она на Леньку. — Ты где был столько времени? Я тебя ищу по всему саду.
— Мама... погоди... не сердись, — перебил ее Ленька. — Ты знаешь, кого я сейчас видел?
— Кого еще ты там видел?
— Василия Федоровича... Кривцова.
— Ты выдумываешь, — сказала она. — Где ты его мог видеть? Ты ошибся, наверно.
— Как же ошибся, когда я с ним, как с тобой вот сейчас...
— Он жив?..
— Ну конечно, жив... Он кланяться тебе велел. Его жена, Фекла Семеновна, из Нерехты на товарном поезде привезла... У него — знаешь сколько? — восемнадцать ран было!..
— Хорошо, — сказала Александра Сергеевна. — Ты после расскажешь. Давай пошли в приемный покой. Сейчас должен прийти доктор Опочинский. Его очень трудно поймать...
— А зачем его ловить? — сказал Ленька. — Я его уже видел.
— Как видел?
— А так вот. Как тебя сейчас.
— А он тебя видел?
— Видел. И в горло мне смотрел. И сказал, что я здоров как бык. И сказал, чтобы мы сию же минуту проваливали отсюда.
Александра Сергеевна все-таки дождалась доктора. И он повторил ей то, что уже говорил Леньке: что мальчик совершенно здоров и что в его многолетней практике детского врача не было еще такого случая, чтобы у ребенка, на ногах перенесшего дифтерит, не осталось бы никаких следов этой болезни. Он объяснил это каким-то "нервным шоком". И сказал, что когда он будет немножко посвободнее, он попробует даже написать об этом заметку в ученый медицинский журнал.
...На обратном пути у Леньки произошла еще одна неожиданная встреча со старым знакомым.
Ехали они с матерью на том же пароходе "Коммуна".
Пароход был свыше меры забит пассажирами. Люди сидели и стояли где только можно было: и на палубах, и в каютах, и в узеньких коридорах...
Пользуясь слабохарактерностью матери и тем, что на этот раз рядом с ним не было Нонны Иеронимовны, Ленька свободно разгуливал по пароходу, выходил на палубу, толкался в буфете, заглядывал в машинное отделение...
"Коммуна" подходила к пристани. У выхода столпились пассажиры. Ленька подошел посмотреть, как будут бросать чалку, и вдруг увидел в толпе молодого Пояркова.
Подпоручика было трудно узнать. Похудевшие, ввалившиеся щеки его заросли густой рыжеватой щетиной. Левая щека около носа была заклеена крест-накрест белым аптечным пластырем. Одет он был в старенький, с чужого плеча брезентовый плащ с накинутым на голову капюшоном. Этот капюшон, пластырь и небритые щеки делали его похожим на какого-то старинного разбойника или беглого каторжника.
"Он или не он?" — думал Ленька, медленно приближаясь к Пояркову и не спуская с него глаз. Тот почувствовал на себе взгляд мальчика и повернул голову. Глаза их встретились. Ленька увидел, как под парусиновым капюшоном дрогнули и сдвинулись к переносице брови. Поярков что-то припоминал.
— Что ты на меня уставился, мальчик? — сказал он, пробуя улыбнуться.
— Здравствуйте!
— Здорово!
— Не узнали?
— Нет.
— Забыли, как вы меня тащили по лестнице?
— По какой лестнице? Что с тобой, дорогой? Ты чего-то путаешь.
Ленька оглянулся и тихо, чтобы его не услышали другие, сказал:
— Ведь ваша фамилия Поярков?
Он понял, что не ошибся, когда увидел, как исказилось от ужаса это бледное, заросшее щетиной лицо. Ему даже самому стало страшно. По плечам его пробежал холодный озноб. Что-то вроде жалости шевельнулось в его маленьком сердце. Человек был похож на загнанного зверя. Он был один в толпе чужих, враждебных ему людей. Неверный шаг, неосторожное слово грозили ему смертью. Он был в Ленькиной власти, и мутные голубые глаза его молили о пощаде. Но весь этот немой разговор тянулся не больше одной секунды. Подпоручик быстро справился с собой, усмехнулся и, стараясь говорить как можно спокойнее, сказал:
— Нет, братец, ты ошибся. Это какое-то недоразумение. Такой фамилии и никогда даже не слыхал.
И, наклонившись, он поднял стоявшую у его ног небольшую плетеную корзинку и стал протискиваться к выходу.
Пароход мягко ударился о кромку пристани. Началась обычная суматоха. Кидали концы, выдвигали сходни. Потом шумная толпа пассажиров хлынула на берег, и Ленька потерял Пояркова из виду. Минуту спустя он увидел его на высокой дощатой лестнице, ведущей на берег. Подпоручик шел быстро, расталкивая и обгоняя других. Несколько раз он оглянулся, как будто ждал погони...
Взволнованный этой встречей, Ленька вернулся к матери. Она накинулась на него с упреками, заговорила о том, что своим ужасным поведением он вгоняет ее в чахотку, но Ленька даже оправдываться не стал.
— Ты знаешь, кого я сейчас встретил? — сказал он, присаживаясь рядом с нею на чемодан.
— Не знаю и знать не хочу. Я с тобой разговаривать не желаю, гадкий мальчишка.
Он оглянулся и тихо сказал:
— Пояркова.
— Какого Пояркова!
— Ты что, — забыла? Сын хозяина гостиницы. Помнишь? В Ярославле... Офицер, который нас пугал, что потонем...
Александра Сергеевна вздрогнула.
— Где ты его видел? — сказала она.
— Здесь на пароходе.
— Ну и что?
— Ничего... Он вышел на этой пристани.
— Ты кому-нибудь сказал об этом?
— Нет.
Мать пристально посмотрела на него и нахмурилась. И Ленька не понял, осуждает она его или хвалит.
О Пояркове он скоро забыл.
Он не знал, что в жизни ему еще придется встретиться с этим человеком.
В августе Александра Сергеевна два или три раза ездила в Петроград за вещами. Она не работала, денег у нее не было, да они и не стоили ничего в деревне, где достать что-нибудь съестное можно было только в обмен на соль, сахар, мыло или одежду. Александра Сергеевна привозила из Петрограда свои старые платья, штопаные Ленькины штаны, вязаные Лялины кофточки, скатерти, простыни, сковородки, медные ступки. За бархатное старомодное платье ей давали лукошко картофеля, за чугунную блинную сковородку — пяток яиц.
В деревне Александра Сергеевна еще больше пристрастилась к чтению. Книг она привозила из Петрограда, пожалуй, больше, чем сковородок и полотенец. И, как и раньше, почти все, что читала она, перечитывал вслед за ней и Ленька.
Однажды он увидел на столе у матери большую толстую книгу, переплет которой был обернут газетной бумагой. На двенадцатой странице книга была заложена исчирканной карандашными заметками бумажкой. Ленька разыскал заглавную страницу.
— "Карл Маркс. Капитал. Том первый", — прочел он.
Теперь он уже знал, кто такой Карл Маркс. Ему очень захотелось прочесть эту книгу. Почему-то он был уверен, что в этой книге он найдет что-то очень важное, такое, что поможет ему решить множество тайн и загадок, которые мучили его в то время. Прилежно, не пропуская ни одного слова, он прочел полторы страницы и с огорчением увидел, что ровно ничего не понял.
С ребятами он теперь не играл. Да и на улице появлялся не часто. Когда ему случалось проходить мимо играющих мальчишек, востроносый Хоря выскакивал на середину улицы, паясничал и кричал:
— Эй, чумовой! Моряк с потонувшего корабля! Идем — подеремся!
Ленька краснел, сжимал кулаки, но проходил, не оглядываясь, мимо. Он считал ниже своего достоинства связываться с этим коротышкой.
Сам Ленька за лето сильно вытянулся. Штаны и рубахи, которые привозила из Петрограда мать, были ему уже коротки, с каждым разом их все труднее и труднее было напяливать на себя. Глядя на свои худые длинные кисти, торчавшие из рукавов, и на неприлично голые, исцарапанные коленки, Ленька представлял себя со стороны, и ему вспоминался крестный брат его Сережа Бутылочка.
Подросли, возмужали, отъелись на деревенских хлебах, покрепчали на деревенском воздухе и младшие птенцы Александры Сергеевны. Особенно отличался Вася. Ростом и телосложением он уже давно обогнал старшего брата и, хотя во всем остальном по-прежнему оставался "совершенно нормальным ребенком", читал немного, в меру, любил пошалить, пошуметь, поплакать, физической силы у него было на пятерых, и девать ее мальчику было некуда. Вероятно, именно поэтому его постоянно тянуло туда, куда Леньку и калачами было не заманить. То он помогал соседу запрягать лошадь, то, не жалея сил, по нескольку часов подряд вывозил в тяжелой тачке навоз на нянькин огород, то просто бегал по улице и хлопал, стрелял огромным пастушеским бичом, стараясь, чтобы звук получился погромче — на манер пистолетного выстрела.
Ляля тоже подросла, жила интересами деревенских девочек, бегала смотреть на посиделки, фальшивым, срывающимся голоском пела тягучие девичьи песни, ссорилась и мирилась с подругами, выклянчивала у няньки лоскутки для кукольных платьев... Ленька пробовал учить сестренку читать, но из попыток его ничего не вышло, — учитель он оказался плохой. На первом же уроке он так вспылил, раскричался, что Ляля с воплями выскочила из горницы, после чего образование ее надолго застряло на буквах "А" и "Б".
И все-таки Ленька не скучал. Осенью он еще больше пристрастился к чтению, к одиноким прогулкам. Не обращая внимания на язвительные взгляды ребят и взрослых и рискуя окончательно прослыть "чумовым", он способен был часами бродить под березами Большой дороги и бормотать стихи.
В одну из своих поездок в Петроград Александра Сергеевна привезла несколько книжек Некрасова. Ленька, который и раньше знал немало некрасовских стихов, теперь буквально упивался ими. Особенное удовольствие доставляло ему читать эти стихи на Большой дороге. Было какое-то очарование в том, что именно здесь, на этой "широкой дороженьке", под этими шишковатыми старыми березами происходили когда-то события, о которых говорилось в стихах. Ведь именно здесь шли гуськом семь русских мужиков, искателей счастья. Навстречу им — той же дорогой брели "мастеровые, нищие, солдаты, ямщики"... Обгоняя их, неслись с базара "акцизные чиновники с бубенчиками, с бляхами" и летел, качался в тройке с колокольчиком "какой-то барин кругленький, усатенький, пузатенький, с сигарочкой во рту"...
И даже дальнее село, голубые купола которого выглядывали из-за холмов, было то самое, о котором рассказывал поэт:
Две церкви в нем старинные,
Одна старообрядская,
Другая православная.
И еще одна прелесть заключалась в этих прогулках. И стихи, и места, где он читал их, напоминали мальчику Василия Федоровича Кривцова, единственного человека, к которому он крепко и по-настоящему привязался в Чельцове.
В конце лета в деревню приехала бежавшая из Петрограда от голода Ленькина тетка с дочерью Ирой. Но к этому времени и в деревне было уже не слишком сытно. Поля в этом году стояли наполовину несеянные. В Ярославле мятеж был давно подавлен, но в уездах еще долго шла жестокая борьба, и работать людям было некогда.
В Чельцове царило безвластие. Лавочники Семенов и Глебов торговали медными венчальными кольцами, цветочным чаем и гуталином; дезертиры варили самогон, пьянствовали... В лесах скрывались теперь те, кто стоял за Советскую власть.
В престольный праздник успения сгорела изба Игнатия Симкова, который в отсутствие Василия Федоровича возглавлял комитет деревенской бедноты. Дня через два после этого Ленька проснулся на рассвете, услышав за окном знакомое постукивание пулемета.
Деревню окружал красноармейский отряд.
Полуодетые дезертиры, отстреливаясь, бежали в Принцев лес, куда еще на прошлой неделе нянька водила ребят за грибами и ягодами.
Мать в это время была в Петрограде.
Несколько дней на окраинах деревни и в окрестных лесах шла настоящая война. Однажды пришла нянька и сказала:
— Федора Глебова убили.
— Как убили?!
Еще на днях Ленька видел Хорькиного отца. Рыжебородый возился у себя во дворе, чинил телегу.
— Из лесу кум-от мой шел, — рассказывала нянька. — К сыновьям, чу, ходил, самогонку им и хлеб относил, а может, и еще чего-нибудь. Ну, и попал в не ровен час под пулемет-от...
Ленька подумал о Хоре. Он вспомнил отца, вспомнил, как пусто и холодно стало у него на сердце, когда он узнал о его смерти, представил, что делается сейчас на душе у товарища, и пожалел его.
В тот же день под вечер, хотя нянька и тетка строго-настрого запретили ребятам выходить на улицу, он пошел проведать Глебова.
Игнаша сидел у ворот на лавочке и старательно, с мрачной сосредоточенностью выстругивал осколком бутылочного стекла деревянную саблю. За открытым окном глебовского дома помигивали желтоватые огоньки свечей. Слышался женский плач. Сухой старческий голос монотонно читал молитву.
Ленька остановился, хотел сказать "здравствуй", но не успел. Хоря оторвался от работы, поднял грязное заплаканное лицо и грубо спросил:
— Чего надо?
— Ничего, — мягко ответил Ленька. — Я так просто... зашел... Хотел сказать, что мне... жалко...
— А-а! Жалко?
Хоря вскочил. Губы его запрыгали. Остроносое веснушчатое лицо исказилось в злобной усмешке.
— Жалко? Тебе жалко? — заорал он, замахиваясь на Леньку саблей. Думаешь, я не знаю?..
— Что ты знаешь? — опешил Ленька.
— Смеяться пришел? Сволочь! Погоди, Симкова спалили, скоро и до вас очередь дойдет... И на твою матку пуля найдется...
Ленька ушел обиженный. Почему он — сволочь? Что он такое сделал? Он старался не сердиться на Хорю, оправдывал его, говорил себе, что у Глебовых большое горе, что он и сам небось не понимает, что говорит, но в глубине души он чувствовал, что поссорились они не случайно, что Хоря прав, что ему действительно нисколько не жалко рыжебородого Федора Глебова.
...И уж совсем никакой жалости, а самую настоящую радость испытал он, когда, дня три спустя, солнечным осенним утром за окном раздался ликующий мальчишеский голос:
— Хохряковцев ведут!..
Ленька полуодетый выскочил на улицу.
Опять, как и два месяца тому назад, с шумом бежали по деревенской улице, сверкая босыми пятками, мальчишки и девчонки.
Затягивая на ходу ремешок, побежал за ними и Ленька.
На обочине Большой дороги, под желтеющими вековыми березами толпились мужики и бабы. За этой живой изгородью слышался глухой топот множества ног, выкрики военной команды, тяжелое дыхание людей... Ленька с трудом продрался сквозь густую толпу, пробился плечом и головой между чьими-то боками и чуть не наскочил на пожилого красноармейца в выцветшей рваной гимнастерке, который с винтовкой наперевес шел по обочине... За ним шел другой, третий, четвертый... А по дороге, меся осеннюю пыль, нестройными рядами брели пленные бандиты. Были тут и молодые и старые, были — в крестьянской одежде, босые, в лаптях, в домотканых портах, а были и в гимнастерках, в защитных фуражках, в рваных солдатских и офицерских шинелях... Все были грязные, небритые, почти у всех лица были темные от усталости и смертельного страха...
— Бабы, бабы! — послышалось в толпе. — Гляди-кось, Глебовых повели! И Федька и Володька — оба тут...
Ленька привстал на цыпочки, чтобы увидеть Хорькиных братьев, но вместо этого увидел — в двух шагах от себя — няньку. Секлетея Федоровна стояла, подложив руки под черный коленкоровый передник, и молча, пригорюнившись, смотрела на дорогу.
В эту минуту где-то в стороне залязгали колеса телеги. Толпа заколыхалась и зашумела:
— Сам... сам... самого везут!..
Ленька опять весь вытянулся и увидел рыжую морду тощей лошаденки, заляпанного грязью красноармейца, который боком сидел на передке и перебирал вожжи, а в телеге — человека с низко опущенной головой. Он сидел на ворохе соломы, спиной к вознице. Руки его были связаны сзади, фуражка надвинута на глаза. Телега проехала мимо, и Ленька, как ни вытягивал шею, не успел ничего разглядеть, кроме грязной окровавленной тряпки, которой было завязано горло атамана, уныло опущенных уголков рта, папиросного окурка, прилипшего к нижней губе, и крохотных, как зубная щетка, усиков.
Толпа молчала. Но вот слева от Леньки оглушительно, в два пальца, свистнул какой-то мальчишка. Кто-то засмеялся, кто-то громко сказал:
— Эвона... напыжился... Стенька Разин недоделанный!..
Еще несколько человек засмеялись. Но тут же заплакали, заголосили, запричитали бабы. Ленька взглянул на няньку и увидел, что старуха тоже плачет. Уголком передника она утирала морщинистую щеку, по которой скатывалась крупная, как бусина, слезинка.
— Няня, — сказал Ленька, тронув старуху за локоть. — Что это вы? Что с вами?..
Она оглянулась, кивнула ему и, сдерживая слезы, ответила:
— Ничего, Лешенька... Я так... Сердце не выдержало.
...Через два дня вернулась из Петрограда Александра Сергеевна. Она привезла в деревню свежие газеты, в которых сообщалось о покушении на Ленина, — в конце августа на заводском митинге в Москве в него стреляла какая-то женщина, эсерка...
И еще две новости привезла Александра Сергеевна из Петрограда: ушла на фронт Стеша, умерла от голода генеральша Силкова.
Но голод давал себя знать и в деревне. Уже ели хлеб с жмыхами, с лебедой, с картофельными очистками. Понемножку начали прибавлять в пищу и барду, за которой ездили с бочками за двадцать верст на спирто-водочные заводы.
О возвращении в Петроград этой осенью нечего было и думать.
Люди бежали от надвигающегося голода в Сибирь, на юг, в заволжские губернии. Подумав, решила ехать на поиски хлебных мест и Александра Сергеевна.
И вот ребята опять остались на попечении няньки и тетки.
Осень в этом году стояла холодная, ненастная. Часто шли дожди, гулять было нельзя. А в избе было шумно, чадно, тесно. Экономили керосин, лампу зажигали поздно, рано гасили ее. На двор — тоже из экономии — ходили с зажженными лучинами. Потом Вася, на Ленькино несчастье, изобрел какой-то светильник: над ведром с водой приспособил что-то вроде каганца, в который вставлялся пучок лучинок. После этого лампу и вовсе перестали зажигать, и спать стали укладываться раньше — никому не хотелось возиться со светильником. Ленька готов был сам менять лучинки, только бы ему позволили сидеть за книгой, но тетка, зная его рассеянность, запретила ему оставаться одному при таком опасном освещении.
Приходилось ложиться вместе со всеми и до поздней ночи не спать, ворочаться, томиться, слушать, как храпят и стонут во сне нянька и тетка, как сердитым басом бормочет что-то спросонья Вася, как до одури однообразно хлещет по крыше дождь и как уныло, по-старушечьи покряхтывают ходики над головой.
В эти бессонные ночи на выручку мальчику опять приходят стихи.
Он читает их по памяти, сначала про себя, шепотом, потом, забывшись, начинает читать громче, в полный голос. И не замечает, как просыпается тетка и, приподнявшись над подушкой, сердито окликает его:
— Леша! Ты что там опять бормочешь?!
Оборвав себя на полуслове, Ленька прикусывает язык и стыдливо молчит.
— Спать людям не дает! — вздыхает тетка.
Почему-то слова эти страшно обижают мальчика.
— Это вы мне спать не даете, — говорит он хриплым голосом, с ненавистью глядя туда, где белеет в темноте теткина ночная кофта. — Храпите, как сапожник!
— Что-о?! — говорит тетка, и опять белая кофта вздымается над подушкой. — Негодяй, как ты смеешь!.. Боже мой, до чего его распустила мать!
— Не ваше дело, — говорит Ленька.
Тетка взвизгивает.
— Сию же минуту стань в угол! — кричит она.
— Ха-ха! — отзывается Ленька.
— Что? Что? Батюшки мои, что случилось? — раздается на печке испуганный нянькин голос.
От шума и криков просыпается и, не понимая в чем дело, начинает громко плакать Ляля.
Несколько минут в комнате стоит гвалт, как в разбуженном среди ночи курятнике. Потом все успокаивается, и Ленька, утомленный и освобожденный от избытка энергии, засыпает.
...Но теми немногими часами и даже минутами, которые дарило ему скупое осеннее солнце, он пользовался в полную меру. С утра до потемок, до той поры, когда уже больно становилось глазам, он просиживал на своем обычном, давно уже отвоеванном у всех месте — у крайнего окошка — и читал. Двоюродная сестра его Ира — гимназистка пятого класса — ходила в село Красное, помогала тамошней учительнице разбирать школьную библиотеку. За это ей позволяли брать на дом книги. Читал эти книги вслед за сестрой и Ленька, хотя из того, что приносила Ира, мало что нравилось ему. Книги были неинтересные, вялые, многословные — Писемский, Златовратский, Шеллер-Михайлов... Но тут же, среди этих потрепанных книжек, приложений к "Ниве", Ленька открыл для себя Чехова, писателя, которого он знал до этого лишь как юмориста и автора "Каштанки" и "Ваньки Жукова".
Однажды в сумерках, когда за окном шел проливной дождь, мальчик сидел, облокотясь на подоконник, и читал чеховские рассказы. Он только что прочел первые строки "Учителя словесности", рассказа, который начинается с того, что из конюшни выводят лошадей и они стучат копытами, как вдруг на улице застучали настоящие копыта, затарахтели колеса, и совпадение это так испугало Леньку, что он вскочил и отбросил книгу.
— Что? Кто это? — воскликнул он.
— Ой, светы мои!.. Не мамочка ли это наша едет? — засуетилась нянька.
Все кинулись к окнам, прильнули к забрызганным дождем потным стеклам. Но тележка проехала мимо, и скоро шум ее смолк на другом конце деревни.
Поздно вечером, как это часто бывает в сентябре, дождь перестал, небо прояснилось, даже показалось ненадолго красное предзакатное солнце.
Ребята в один голос стали проситься гулять; их выпустили, и вместе со всеми вышел во двор и Ленька. Некоторое время он помогал Васе строить запруду на бурливом, пенящемся потоке, потом, как всегда, разгорячился, поссорился, дал Васе тумака, получил два или три тумака сдачи, сразу охладел к игре и, накинув на плечи синюю курточку, вышел на улицу.
После дождя и после душной, пропахшей всеми возможными и невозможными, деревенскими и городскими запахами избы на улице дышалось легко и свободно. Негрозно, играючи шумели то здесь, то там дождевые ручьи. Остро, по-осеннему пахло яблоками, мякиной, березовым прелым листом.
Ленька дошел до конца деревни, постоял, посмотрел, как догорает закат за вершинами Принцева леса, озяб и повернул обратно. И уже на обратном пути, подходя к кривцовскому дому, он вдруг заметил, что из трубы этого дома идет дым, летят в небо веселые красные искры и что окна избы ярко, по-праздничному озарены.
В первую минуту мальчик испугался, не понял, что случилось. Но вот он вскочил на кособокую завалинку, заглянул в окно и от радости даже засмеялся тихонько.
В избе топилась печь. У шестка ее стояла, склонившись, Фекла Семеновна, наливала в корчагу воду. А за столом, вполоборота к окну, резко освещенный пламенем печки, сидел Василий Федорович — похудевший, осунувшийся, по-городскому стриженный, но тот же милый, чуть-чуть сутулый, смугловатый, весь какой-то золотисто-хлебный и ни на кого другого не похожий... Он ел из деревянной миски, не спеша разминал деревянной ложкой картофель и разговаривал с Симковым и с худощавым, похожим на Фритьофа Нансена человеком в военной форме, которого Ленька уже не один раз видел в деревне.
Ленька хотел постучать в окно и не решился. Несколько минут он ходил под окнами, несколько раз влезал на завалинку, потом поднялся на крыльцо, постоял, потрогал пальцем замок, ненужно висевший с невынутым из скважины ключом, и вдруг вспомнил что-то, ахнул и побежал домой.
В сенях за пустым бочонком, где летом держали квас, был спрятан у него завернутый в рваную мешковину заветный бидончик.
Прежде чем снова выбежать на улицу, Ленька распахнул дверь в горницу и крикнул:
— Няня!
— Ась? — откликнулась старуха.
— Угадайте!
— Что угадайте?
— Василий Федорыч приехал.
— Стой! Погоди! Где? Когда? — засуетилась старуха, но Ленька уже хлопнул дверью и минуту спустя бежал по улице, не глядя под ноги, вляпываясь в лужи, боясь, что он опоздает, что Василий Федорович уедет, уйдет, что он не застанет и не увидит его.
На полдороге он чуть не налетел на людей, шедших ему навстречу.
— Знаю, видел я этого хрена, — говорил один из них. — Как же... помню... капитан первого ранга Колчак. В одиннадцатом году на крейсере у нас...
— Добрый вечер, дядя Игнат! — радостно гаркнул Ленька, узнав голос Симкова.
— Вечер добрый, — ответил тот, не останавливаясь.
Прежде чем войти в избу, Ленька еще раз заглянул в окошко. Феклы Семеновны в горнице не было. Не сразу увидел он и председателя. Василий Федорович стоял в тени, в углу, перед книжной полкой и, наклонив голову, сдвинув брови, сосредоточенно разглядывал, вертел указательным пальцем маленький школьный глобус.
С женой его Ленька столкнулся на крыльце. Фекла Семеновна выходила с коромыслом по воду.
— Здравствуйте, Фекла Семеновна! — крикнул Ленька, взбегая по ступенькам ей навстречу.
— Кто это? — не узнала она. И вдруг загромыхала и ведрами и коромыслом, распахнула дверь и закричала через большие темные сени:
— Василий Федорыч... встречай... еще гостя бог послал!..
— Кто? — послышался знакомый голос.
Ленька пробежал сени, приоткрыл дверь:
— Можно, Василий Федорович?
Кривцов стоял у стола, по-прежнему держа в руке маленький, как недозрелый арбуз, глобус. И лицо его и глобус были ярко озарены пламенем печки.
— Кто там? — сказал он, откидывая голову и прищуриваясь.
— Это я...
— А-а-а! Очень рад, — заулыбался Кривцов, ставя на стол глобус и делая неуверенный, ковыляющий шаг навстречу Леньке. — Вы здесь еще, оказывается? А я думал, — вы уже в Питере.
— Нет, — смущенно улыбаясь, забормотал Ленька, — мы не уехали. В Петрограде ведь голод. Мы, может быть, на юг поедем.
Председатель держал его руку в своей, рассеянно слушал мальчика и кивал головой.
— Ну, ну. Превосходно. А с Хорькой у вас как? Помирились? Нет? А мамаша как? Здорова?
— Василий Федорыч, — сказал Ленька. — А вы поправились? Совсем?
— А чего ж мне?.. Поправился, конечно. Мы ведь, вы знаете, гнемся, да не ломимся. Это ведь про нас, про наше русское мужицкое племя сказано: цепями руки крючены, железом ноги кованы... Только вот с ногой неважно обстоит. Видали, что получилось? — Сильно прихрамывая, Кривцов прошелся по избе.
— Дюйма на полтора покороче стала.
— Василий Федорыч, — краснея, сказал Ленька. — А я вам подарок принес.
— Какой? Что? Бросьте вы.
— Нет, нет, возьмите, пожалуйста, — умоляюще проговорил Ленька, протягивая председателю завернутый в мешковину бидончик.
— Что это?
— Нет, вы газвегните, — сказал Ленька. Но не выдержал, не дождался, пока председатель развернет пакет, и сам объявил:
— Богдосская жидкость!
— Какая? — не понял Кривцов. — Богодуховская? А-а-а!.. Вон оно что!..
Лицо его по-детски просияло.
— Бордосская жидкость?! Постойте, это где же вы ее взяли?!
Смущенно улыбаясь, Ленька рассказал, где и при каких обстоятельствах ему удалось раздобыть помидорное лекарство.
Кривцов негромко посмеялся в бороду.
— Ну, спасибо, друг. Уважил, порадовал. Дай я тебя... дай я тебе руку пожму.
Он еще раз с удовольствием перечитал надпись на стертой, поцарапанной этикетке, побултыхал бидончик, прикинул его на вес.
— Н-да, брат. Великолепная вещь. Но только боюсь, дорогой, что мне сейчас не до помидоров будет.
— Ну конечно, — понимающе заметил Ленька. — Ведь осень уже...
— Осень-то осень... Да не в этом, дружок, дело. Придется ее, пожалуй, на полочку поставить до поры до времени. Как вы думаете, года два-три постоит, не испортится?
— Не знаю. Зачем же так долго?
— Пожалуй, не испортится. Запаяна ведь. А?
Василий Федорович, прихрамывая, подошел к полке, раздвинул книги и сунул на освободившееся место бидончик. Потом повернулся к Леньке, провел ладонью по своим коротким, стриженным под польку волосам и, застенчиво кашлянув, сказал:
— А меня вы поздравить можете.
— С чем?
— В коммунистическую партию вступил.
— Как?! Вы разве не были?
— Не был, представь себе. Тридцать шесть лет в беспартийных мечтателях ходил. А оказалось, что для мечтаний сейчас не время. Слыхали небось, чего она сделала, эта паскуда?
— Кто?
— Каплан!..
— Да, я знаю, — нахмурился Ленька. — Ленина чуть не убила.
— Ле-ни-на! — повторил Кривцов, подняв над головой указательный палец.
Таким и запомнил его навсегда Ленька. Председатель комбеда стоит посреди избы, за спиной его жарко пылает русская печь, постреливают в ее большой огненной пасти сухие поленья, и все вокруг озарено ярко-розовым полыхающим светом — и черные задымленные стены, и темные, заклеенные полосками газетной бумаги окна, и половина бородатого смуглого лица, и грозно поднятый над головой указательный палец.
Неделю спустя вернулась в деревню Александра Сергеевна. Приехала она возбужденная, веселая и счастливая. В маленьком татарском городке на реке Каме она нашла не только хлеб, но и работу: в городском отделе народного образования ей предложили заведовать детской музыкальной школой.
Побывала она на обратном пути и в Ярославле, где получила пропуск на выезд всей семьи из губернии. Срок у пропуска был короткий, надо было спешить, тем более что и навигация на Волге и Каме должна была вот-вот закрыться.
Собрались в три дня.
Утром в день отъезда, когда у ворот уже стояла подвода, груженная сильно отощавшими за лето тючками и корзинками, Ленька вспомнил о Василии Федоровиче и побежал прощаться с ним.
Председателя дома не было. От Феклы Семеновны, которую Ленька разыскал на огородах, он узнал, что Василий Федорович ушел по делам в волость. Так ему и не удалось проститься с человеком, которого он знал очень недолгое время, но который оставил в его памяти и в его сердце очень глубокий след.
ГЛАВА VIII
И вот Ленька очутился еще на тысячу верст дальше от Петрограда... Казалось, что и для него и для всей семьи начинается спокойная, нормальная жизнь. Поначалу так оно и было. Дети учились. Мать работала. Впервые в жизни она испытала настоящую радость труда. Неожиданно для себя и для близких она открыла в себе талант организатора, — в скором времени она уже руководила детским художественным воспитанием во всем городе. Не довольствуясь этим, она участвовала в концертах, пела, играла, выступала в красноармейских клубах, в детских домах, в школах. Она оживилась, повеселела, помолодела. Именно в этом году у нее перестали болеть зубы.
Семья получила две хороших меблированных комнаты в особняке раскулаченного и сбежавшего к белым богача-хлеботорговца. В одной комнате поселилась тетка с дочерью Ирой, в другой, очень большой, светлой, где стоял даже бехштейновский рояль, устроились Александра Сергеевна, Ленька и Ляля Вася еще осенью по собственному желанию поступил в сельскохозяйственную школу, жил за городом, в интернате.
Все было хорошо. И денег хватало. И еды по сравнению с Чельцовом было вдоволь.
Но благополучие это длилось очень недолго.
Зимой, в конце февраля или в начале марта, Александра Сергеевна уехала в Петроград в служебную командировку. Через месяц, самое большее через полтора, она должна была вернуться. Наконец пришло от нее и письмо, в котором она сообщала, что на следующей неделе выезжает из Петрограда.
Ленька лежал в это время в больнице. В городе свирепствовали эпидемии тифа и дизентерии, задели они и семью петроградских беженцев. В Ленькиной семье переболели все, он сам перенес за одну зиму тиф, дизентерию и чесотку.
Теперь он уже поправлялся. Из заразного отделения, где он лежал раньше, его перевели в общее и даже позволили в теплые дни выходить в маленький больничный садик.
Закутавшись в длинный обтрепанный и застиранный больничный халат, с дурацким больничным колпаком на стриженой голове, исхудалый, бледный, с руками, измазанными зеленым лекарством, которое называлось почему-то "синькой", он сидел рядом с другими больными на краешке садовой скамейки, грелся на солнышке и считал по пальцам дни, которые остались до возвращения матери. Никогда в жизни он не ждал ее с таким нетерпением и с такой тоской, как в этот раз.
Он вспоминал, как за несколько дней до отъезда мать взяла его на концерт в городской клуб, где она должна была петь перед уходившей на фронт воинской частью.
Какой это был счастливый, солнечный, суматошный день! Перед концертом Александра Сергеевна завивалась, гладила кофточку, и в комнате стоял особый, "артистический", как казалось Леньке, запах — пудры, керосинки, жарового утюга, паленых волос.
Мать, как всегда перед выступлением, волновалась.
— Нет, нет, я провалюсь, — говорила она. — Какая же я артистка? Ни голоса, ни слуха, ни подобающей внешности.
— Мама! Зачем ты так говоришь? — возмущался Ленька. — Ты же великолепно поешь!
— Да? Ты думаешь? По-твоему, это голос? Это ты называешь голосом?
Бросив на подставку утюг, она с распущенными волосами присела к роялю и запела. Ленька стоял рядом, переворачивал ноты и не замечал, что мать действительно поет плохо, что голос у нее срывается и хрипит... Этот голос он знал с детства, он казался ему лучше всех голосов на свете, лучше голоса Вяльцевой, Плевицкой и других знаменитых артисток...
— Ну что? — сказала она, захлопнув крышку рояля.
— Хогошо, — прошептал Ленька.
— Хорошо?! — воскликнула она, вскакивая. — Меня, мой милый, осмеют, освищут, тухлыми яйцами забросают за такое пение!..
В клубе Леньку посадили в четвертом ряду, совсем близко от сцены. В зале было холодно, зрители сидели в шинелях и полушубках, над головами их стоял пар, но как внимательно эти люди смотрели на сцену, как весело они смеялись, как дружно хлопали в ладоши, кричали "бис", "браво" и даже "ура"!..
Показывали какую-то агитационную пьесу — с буржуями, у которых на животах было написано "1000000000", и с представителями мирового пролетариата, которые на глазах у публики рвали цепи и обращали в бегство фабрикантов, банкиров и помещиков. Потом выступал пожилой московский фокусник, называвший себя почему-то "королем электричества". Мрачноватый молодой человек в толстовке читал стихи Маяковского и Блока... Все было очень интересно, но Ленька не мог спокойно сидеть, ему не гляделось и не слушалось; с замиранием сердца он ждал, когда на сцену выйдет конферансье и назовет знакомую ему фамилию.
Не выдержав, он вышел в фойе. На маленькой двери, ведущей на сцену, было сказано, что вход посторонним воспрещен.
"Ну, я-то, пожалуй, все-таки не посторонний", — подумал Ленька, не без робости открывая дверку.
Мать он нашел за кулисами. Она стояла, прислонившись к какой-то холщовой березке, и крутила в руках ноты.
— Что тебе надо? — испугалась она, увидев Леньку. — Уходи! Слышишь? Сию же минуту уходи! Не довершай моего позора!
— Ты волнуешься?
— Я?.. Я дрожу, как лист осенний, — ответила она громким шепотом, и Леньке показалось, что она действительно вся дрожит.
Он вернулся в зал. И не успел сесть, как услышал голос конферансье:
— Известная петроградская певица, наша уважаемая...
Все вокруг захлопали.
— Би-ис! — кричал рядом с Ленькой широкоплечий грузный красноармеец.
Вряд ли кто-нибудь, кроме Леньки, заметил, что Александра Сергеевна волнуется. Улыбаясь, она прошла к роялю, улыбаясь посмотрела в зал, сказала что-то аккомпаниатору, дождалась, пока он сыграет вступление, кашлянула в платочек и запела:
Однозвучно гремит колокольчик,
И дорога пылится слегка
В зале стало тихо. Ленька слышал, как бьется его сердце и как деликатно, сдерживаясь, сопит рядом с ним широкоплечий солдат.
Голос у матери был не сильный, но пела она тепло, задушевно, по-домашнему... И зрители долго не отпускали ее со сцены. Ей пришлось спеть и "Когда я на почте служил ямщиком", и "Вечерний звон", и "Колокольчики мои, цветики степные", и даже, когда петь стало уже нечего, глуповатую песенку про какую-то "мадам Люлю"... И что бы она ни пела, ей дружно хлопали. И всякий раз Ленькин сосед кричал "бис", и Ленька тоже кричал "бис", хотя ему было и стыдно немножко, как будто он кричал это самому себе.
После концерта он снова проник за кулисы. Мать окружили красноармейцы, благодарили ее. Какой-то пожилой человек, вероятно командир, протягивал ей перевязанный шпагатом пакет и говорил:
— Нет уж, вы нас, пожалуйста, товарищ артистка, не обижайте, не отказывайтесь. Я знаю, — цветы полагается в этих случаях, да где ж их взять в такое время?
— Да что это? Скажите, что это? — смеясь говорила Александра Сергеевна.
Пакет развернули. Там оказались хорошие солдатские валенки.
Домой Александру Сергеевну и Леньку отвезли в санках, на облучке которых сидел тот самый широкоплечий красноармеец, который был Ленькиным соседом в зрительном зале. Всю дорогу он хвалил Александру Сергеевну.
— Ну и поешь же ты, мать моя! — говорил он. — Спасибо тебе, товарищ певица. От всех ребят спасибо. Ей-богу, за душу взяла...
— Полно вам! Какая я певица? — смущенно оправдывалась Александра Сергеевна.
— Нет, не говори. Хорошо поешь. У нас в деревне и то так не поют.
А когда привез, помог Александре Сергеевне выйти из санок, снял варежку, протянул руку и сказал:
— Ну, прощевайте... А мы завтра Колчака бить идем.
И, уже вскочив на облучок и стегнув лошадь, крикнул:
— Отобьем... не сомневайтесь...
Двор был засыпан чистым снегом. Шли медленно. Ленька взял мать под руку и вдруг услышал, что она плачет.
— Мама, что с тобой? — испугался он.
— Ах, ты бы знал, — сказала она, останавливаясь и разыскивая платок, ты бы знал, какие это хорошие, какие чудесные люди!.. Нет, ты еще мал, ты не поймешь этого.
Ленька был еще мал, но он и сам видел, что эти люди, которые сегодня слушали песни и смотрели фокусы, а завтра пойдут умирать, — хорошие люди... Он только не понимал, — зачем же плакать?
А вот сейчас, вспоминая этот концерт, этот зимний вечер и разговор с матерью во дворе, он и сам готов был плакать навзрыд, забившись с головой под тоненькое больничное одеяло.
...В больнице было голодно. Тетка не навещала Леньку. Первое время она присылала ему с Ирой передачи — пару печеных картошек, бутерброд, кусок сахара. Потом Ира заболела, и передачи стала носить маленькая Ляля, которую Ленька полюбил и с которой сдружился за эту трудную зиму. Потом и Ляля перестала ходить. Пришла какая-то чужая женщина и сказала, что дома у него все хворают.
— А мама моя приехала, вы не знаете? — спросил Ленька.
— Нет, не приехала, — ответила женщина.
Прошли все сроки, а мать не появлялась. Он рассчитывал, что она вернется к выходу его из больницы, ожидал почему-то, что она сама приедет за ним на двухколесной татарской тележке... Но вот наступил день, когда ему сказали, что он здоров и что завтра с утра может идти домой. Прошла долгая ночь, наступило утро, — никто за ним не пришел и не приехал.
С жалким узелком, в котором хранилось все его небогатое имущество, он шел, то и дело останавливаясь и отдыхая, по не очень знакомым ему улицам и с трепетом ждал встречи с домашними.
То, что он увидел, было хуже того, что он мог ожидать.
Тетка лежала в бреду. В комнатах было грязно, душно, пахло лекарствами и немытой посудой. Бледная, изможденная, только что вставшая с постели Ира копошилась в замызганной и задымленной кухне, пытаясь разжечь плиту. Ляли не было, — на прошлой неделе ее увезли в детскую больницу.
— А... мама? — дрогнувшим голосом спросил Ленька.
Ира покачала головой.
— Не приехала?
Губы у Леньки запрыгали. Но он сдержался, не заплакал. Невозможно было плакать в присутствии Иры. На девочку было жалко и страшно смотреть. Она шаталась, глаза у нее были, как у безумной, плечи дергались.
Ленька заставил двоюродную сестру лечь в постель, разыскал градусник.
Ира лежала с градусником под мышкой, поминутно облизывала губы, поднимала голову и лихорадочно быстро рассказывала:
— Мы ужасно-ужасно беспокоились... Мы думали, что тетя Шурочка застряла в Петрограде, писали ей, даже телеграмму послали...
— И что? — уныло спросил Ленька.
— Ничего... Никакого ответа.
За Ленькиной спиной металась в своей постели, смеялась и часто-часто говорила что-то по-французски тетка.
Мальчик подошел к окну, посмотрел на градусник.
— Сколько? — спросила Ира.
— Тридцать восемь с чем-то, — пробурчал Ленька.
— Покажи, — попросила Ира.
Ленька встряхнул термометр. Столбик ртути на нем подходил к сорока градусам.
Нужно было что-то делать, искать доктора...
Он сам не понимал, откуда у него взялись силы.
Недели две на руках мальчика, который сам только что оправился от болезни, находилось двое тяжелобольных... Он бегал к докторам, в аптеку, по пути успевал забежать в детскую больницу и занести передачу Ляле, ходил на базар за провизией, готовил обед, кормил тетку и сестру... Стряпать он не умел, все у него валилось из рук, плита дымила, вода выкипала, чайники и кастрюли распаивались.
Но эти хлопоты и заботы, которые отнимали у него без остатка все силы, помогли мальчику перенести самое трудное для него время. Ему некогда было горевать, плакать и думать о матери.
Скоро свалились на него новые заботы. Тетка уже поправлялась. Как у всех выздоравливающих, у нее был очень хороший аппетит. Не мог пожаловаться на аппетит и Ленька. А на базаре цены с каждым днем росли. И с каждым днем таяла, становилась все тоньше пачка разноцветных бумажек в ящике комода, откуда Ленька брал на расходы деньги. Наконец наступил день, когда в ящике не оказалось ни одной бумажки. В этот день тетка послала мальчика на базар, велев ему купить провизии по длинному списку, который она долго и с удовольствием составляла. Ленька, которому к тому времени давно уже осточертели его поварские обязанности, угрюмо проглядел список и сказал:
— А деньги?
— Возьми в ящике... в комоде...
— Там нет денег.
— Как нет? — ужаснулась тетка. — Там же было около пятисот рублей.
— Было, а сейчас нет. Кончились.
Тетка, которая всегда и во всем видела трагическое, чуть не лишилась чувств.
— Боже мой! — воскликнула она. — Что же мы будем делать?! Мы нищие! Мы остались без копейки денег! Нет, в самом деле, что я буду делать? И Шуры нет. И вы у меня на шее.
Ленька мрачно молчал, общипывая уголки бумажки, на которой слабым теткиным почерком тщательно было выведено химическим карандашом:
Мяса — 2 ф.
Капусты — 1/2 коч.
Хлеба пеклев. — 1 ф.
Хлеба рж. — 1 ф.
Масла русского...
Тетка продолжала стонать и охать.
— Мама, не впадай в отчаяние, — слабым голосом попросила ее Ира. — Если нет денег, надо что-нибудь продать.
— Да, да! — оживилась тетка. — Придется. Другого выхода нет. Не умирать же нам всем с голоду. Но что? Боже мой, что можно продать? Ведь мы и так все обносились.
— Продай мое кремовое платье.
— Ира! Что ты говоришь! кремовое платье!.. Единственное приличное, которое у тебя есть?
— Ничего. Мне не жаль.
— Ну, хорошо, — подумав и вздохнув, сказала тетка. — Леша, возьми, пожалуйста, сними с вешалки Ирино платье, которое с клеенчатым кушачком, и... продай его.
— Где продать? — испугался Ленька.
— Ну где?.. Я не знаю где. На базаре.
— Нет, я не пойду, — твердо сказал Ленька.
— Это как? Это почему ты не пойдешь?
— А потому, что я торговать не умею.
— Боже мой! — всхлипнула тетка. — Что я должна терпеть! Ну, хорошо, подай мне мою кофту и юбку, я оденусь и пойду сама. Если я по дороге умру, знай, что это твоих рук дело.
Ленька понял, что положение его безвыходное.
— Где платье? Какое? — сказал он, раздувая ноздри.
...Он шел на базар с отвращением. Он вспоминал случай, который был с ним давно, в Петрограде, еще при жизни отца. Весной, на предпоследней неделе великого поста он говел, ходил каждый день с матерью в церковь, готовился к исповеди и причастию. Однажды утром у матери разболелись зубы, и она отправила мальчика к обедне одного. Ленька отстоял у Покрова всю службу, купил, как приказано было, в свечном ящике двадцатикопеечную свечку, получил тридцать копеек сдачи, положил пятачок на блюдо, а остальные монетки сунул в карман, не думая в этот момент, что он с ними будет делать. В благостном и торжественном настроении он вышел из церкви. Рыночная площадь была залита апрельским солнцем. У церковной ограды торговали бумажными пасхальными цветами и вербами, тут же какая-то деревенская женщина продавала букетики живых подснежников.
— Почем? — спросил, останавливаясь, Ленька. Покупать цветы он не собирался, просто ему было приятно, что он, как взрослый, идет один, делает что хочет и даже может прицениваться к разным товарам.
— По пятачку, миленький, по пятачку, — ответила женщина, вытаскивая из корзины и встряхивая перед Ленькиным носом мокрым еще букетиком. — Купи, деточка, свеженькие, только что из Стрельны привезла.
"А что ж... куплю, подарю маме", — решил Ленька, отдал женщине двадцать пять копеек и получил взамен пять букетиков.
Он сделал очень немного шагов вдоль церковной ограды и остановился, чтобы привести в порядок свои рассыпавшиеся букетики. В это время кто-то наклонился над ним и спросил:
— Продаешь, мальчик?
Леньку что-то дернуло, и он сказал:
— Да.
— Почем?
— По двадцать копеек, — сказал он, опять-таки не задумываясь, почему он так говорит.
Может быть, вид у мальчика был необычный и жалкий, может быть, подснежники только что появились в этот день в Петербурге, но Ленька не успел опомниться, как от цветов его ничего не осталось, а на ладони у него лежал рубль серебряной и медной мелочью.
В первую минуту мальчик растерялся, даже испугался, потом радостно ахнул.
"Ведь вот я какой умный!" — думал он с гордостью, пересчитывая на ладони гривенники и пятиалтынные. — Поторговал несколько минуток — и семьдесят пять копеек заработал!"
Сжимая в руке деньги, он бежал домой, полный уверенности, что дома его будут наперебой хвалить, будут радоваться и удивляться его торговым способностям.
Но, к удивлению его, дома его никто не похвалил. Узнав, в чем дело, отец пришел в ярость.
— Хорош! — кричал он, раздувая ноздри и расхаживая быстрыми шагами по комнате. — Ничего себе, вырастили наследничка! Воспитали сынка, мадам! Каналья! Тебе не стыдно? Ты думал о том, что ты делаешь? Ты же украл эти деньги!..
— Почему? — остолбенел Ленька. — Я не укгал. Мне их дали...
— Молчи! Дубина! Осел эфиопский! Надо все-таки голову на плечах иметь... Ты их украл... да, да, именно украл, вытащил из кармана у той бабы, которая продала тебе цветы по пятачку...
Рассвирепев и забыв о своем давнем правиле никогда не пороть Леньку, отец уже извлек из ящика письменного стола знаменитые замшевые подтяжки, и только мольбы матери, убедившей мужа, что нельзя, грешно трогать мальчика, который говеет, готовится к великому таинству, заставили Ивана Адриановича сдержаться и спрятать подтяжки обратно в ящик. Через минуту, слегка успокоившись, он снова появился в дверях кабинета.
— Пойдешь на рынок, — сказал он Леньке, — разыщешь женщину, которую ты обманул, и вернешь ей эти дрянные деньги. А если не найдешь, — отдашь нищему. Понял?
— Понял, да, — пролепетал Ленька. — Сейчас идти?
— Да. Сейчас.
Ленька со вчерашнего вечера ничего не ел. Еще в церкви он боролся с греховными мыслями, предвкушая удовольствие, с каким он будет пить дома горячий кофе с "постным" миндальным молоком и уплетать яблочные, жаренные на постном же масле, оладьи. Завтрак ждал его на столе, кофейник аппетитно дымился, но Леньке пришлось снова одеться и идти к церкви.
Церковные ворота были закрыты, женщина с подснежниками возле них уже не стояла. Не было почему-то и нищих. Обычно, когда не надо было, они попадались на каждом шагу, а тут Ленька обошел все окрестные улицы и, как назло, не встретил ни одного человека с протянутой рукой. Сжимая в потной руке опостылевшие деньги, он брел по направлению к дому, и у него уже мелькала мысль — не бросить ли незаметно деньги в Фонтанку, как вдруг он увидел идущую ему навстречу бедно одетую женщину, пожилую еврейку с маленьким ребенком на руках. От радости Ленька чуть не упал в обморок.
— Тетенька, вы бедная? — спросил он, когда женщина подошла ближе.
— Бедная, милый, — сказала она, останавливаясь.
— Тогда... вот... возьмите, пожалуйста, — пробормотал Ленька, сунул испуганной женщине монетки, услышал, как одна из них покатилась по тротуару, и побежал без оглядки, с ужасом думая, что будет, если женщина вдруг догонит его и вернет деньги.
После этого случая он на всю жизнь затаил самое лютое отвращение к торговле и ко всему, что имеет к ней хоть какое-нибудь отношение.
...На базаре он долго и угрюмо бродил с пакетом под мышкой. У него спрашивали:
— Продаешь?
Он или говорил "нет" или застенчиво бормотал что-то и проходил мимо.
Наконец он решился, отошел к забору и извлек из газетной бумаги кремовое платье. Сразу же к нему подошла какая-то женщина.
— Продаешь, мальчик?
— Да, — ответил Ленька и покраснел так, словно он сказал неправду.
Женщина взяла платье щепотками за оба плеча, посмотрела спереди, посмотрела сзади.
— Краденое? — сказала она, усмехнувшись.
— Вы что глупости говорите? — еще больше покраснел Ленька.
— Ну, ну, брось, не обижайся. Сколько хочешь?
Только тут Ленька вспомнил, что не спросил у тетки, за сколько нужно продавать платье.
— Я не знаю, — сказал он.
— Как же это, — продаешь и цены не знаешь?
— Да... А вы сколько дадите?
Покупательница еще раз оглядела платье.
— Сто рублей дам, — сказала она.
Ленька понимал, что сто рублей — мало, что платье стоит дороже, но торговаться он не мог.
— Берите, — сказал он.
Дома тетка минут пять лежала бездыханная.
— Боже мой, — заговорила она, когда наконец обрела дар речи. — Сто рублей за такое платье! Леша, ну что ты за оболтус, прости меня, господи?! Ведь ему цена — минимум триста рублей!
— Ну и ходите торгуйте сами, — сдерживая слезы, ответил Ленька.
Но тетка сама торговать не могла и не хотела. Неделю спустя мальчику пришлось идти на базар продавать будильник. Этот будильник был очень красивый, старинный, бронзовый, в красном сафьяновом футляре, но у него был один недостаток, — он не звонил.
Долго обсуждался вопрос, за сколько его можно продать. Тетка уверяла, что будильнику "цены нет".
— Я купила его в Женеве в девятьсот шестом году, — говорила она. Стоил он тогда восемьсот франков. По тем временам это бешеные деньги. Я думаю, что восемьсот рублей — это очень недорогая цена.
— Он же не будит, — мрачно сказал Ленька.
— Он ходит, и этого достаточно, — заявила тетка.
Будильник ходил — это верно, но и Леньке пришлось походить с ним по базару.
Красивая вещь сразу же привлекла внимание. Покупатели обступили Леньку.
— Сколько монет хотела, малай? — спросил у него пожилой татарин в высоком меховом колпаке.
— Восемьсот гублей, — отчеканил Ленька.
Слова эти вызвали почему-то в толпе веселое оживление.
— Шуткам не нада. Правдам говори, малай, — сказал татарин.
— Восемьсот, — стоял на своем Ленька.
— А пятьдесят не хочешь? — спросил кто-то.
Ленька выхватил будильник и пошел.
Часа через четыре он вернулся домой с будильником под мышкой. Больше восьмидесяти рублей никто ему за будильник не предложил.
На другой день ему пришлось отдать его за шестьдесят рублей, потому что восьмидесяти уже никто не давал.
Тетка по этому случаю разбушевалась. Ленька тоже нагрубил ей. Тогда она сказала, что больше не может с ним жить, назвала его "обузой" и предложила ему пойти поискать работы или устроиться в детский дом.
За несколько дней до этого пришло письмо от Васи. Письмо было адресовано Александре Сергеевне, — Вася не знал, что мать не вернулась из Петрограда. Он писал, что здоров, что все у него хорошо и что он очень доволен своим учением и работой.
Это письмо натолкнуло Леньку на мысль пойти на "ферму", в ту самую сельскохозяйственную школу, где учился Вася. Приняв это решение, он сразу же повеселел и воспрянул духом.
...Надо было сходить в городской земельный отдел, в ведении которого находилась "ферма". Несколько дней Ленька боролся с застенчивостью и нерешительностью, откладывая посещение земотдела. Наконец решился, пошел и узнал, что свободных вакансий на ферме нет.
Для мальчика это было ударом, жить дома он не мог. Подумав несколько дней, он решил идти на ферму без всякого разрешения и сопроводительной бумаги.
Дома он ни с кем не поделился своим замыслом. Тетке он сказал, что его приняли.
Тетка снарядила мальчика в дорогу: дала ему 5 рублей денег и средних размеров потертый кожаный чемодан, со всех сторон оклеенный пестрыми ярлыками заграничных отелей. Между другими там был и ярлык женевской гостиницы, проживая в которой тетка так удачно приобрела когда-то свой знаменитый будильник.
Ленька не хотел брать чемодана, но тетка обиделась, и он взял его. В чемодане без труда уместилось все Ленькино имущество: выполосканный им самим носовой платок, огрызок карандаша, исчерканный посеревший блокнотик и в блокноте — старое, смявшееся, тысячу раз читанное письмо от матери с милым словом "Петроград" на штемпеле.
Рано утром, простившись с теткой и двоюродной сестрой, Ленька вышел из дому, зашел на базар и купил за пять рублей два жареных пирожка с повидлом. Эти пирожки он занес в больницу Ляле. Девочка уже поправлялась. Он посидел с нею в больничном садике на берегу Кимы, съел, по просьбе сестры, один пирожок, попрощался, вздохнул и взвалил на плечо свой не очень грузный чемодан.
Через полчаса он уже был за городом...
И с тех пор в жизни его все завертелось и оказалось, что испытания, которые суждено ему было до сих пор перенести, — сущие пустяки по сравнению с тем, что ждало его впереди.
...Ферма стояла в лесу, километрах в десяти от города.
Это было совсем не то, о чем мечтал Ленька.
Он пришел туда под вечер, с трудом разыскал брата. Было еще не поздно, но Вася вышел к нему почему-то в одних подштанниках, заспанный, босой и лохматый. Он возмужал, огрубел, курил, как взрослый, глубоко затягиваясь, махорку, говорил солидным баском. Слушая Леньку, он все время почесывался и сплевывал через зубы. Домашние новости Васю мало взволновали. Чересчур спокойно, как показалось Леньке, выслушал он и Ленькин рассказ о матери. Он только сказал "плохо", вздохнул и затоптал окурок.
Вообще Ленькино появление не очень порадовало Васю. Ленька был "малохольный", он еще носил короткие штаны и поношенную матросскую куртку с остатками золотых пуговиц. Видно было, что Вася чувствует себя неловко. То и дело он смущенно косился в сторону товарищей, таких же босых и лохматых ребятишек, которые издали поглядывали на Леньку и посмеивались.
— Ты почему без штанов? — спросил Ленька.
— Ночью работал, — коротко ответил Вася.
— Я тебя газбудил?
— Плевать.
Вася подумал, яростно почесал стриженый затылок и сказал:
— Знаешь что... Иди-ка ты лучше обратно к тетке.
— Почему? — испугался Ленька.
— А потому, что здесь тебе жить будет трудновато. Здесь тебя свиней заставят пасти.
О свиньях Ленька меньше всего думал, когда шел на ферму. Но он сдержался, храбро помотал головой и сказал:
— Плевать. Эка невидаль.
— А бекасов не боишься?
— Каких бекасов?
— Ну, вшей, говоря по-научному.
— Я уже знаком с ними, — усмехнулся Ленька.
— Ну, что ж, ладно, — сказал Вася. — Сходи тогда к Николай Михайлычу. Попросись, может, он и примет тебя.
— К какому Николай Михайлычу?
— К директору.
Вася оглянулся и негромко добавил:
— Только смотри, особенно близко не подходи...
— А что, он — кусается?
— Не кусается, а... сам увидишь. Его у нас хлопцы Драконом зовут.
Высокий бородатый дядя в широкополой соломенной шляпе стоял у плетня школьного сада и ел, обкусывая со всех сторон, маленькое зеленое яблоко.
— Тебе что? — спросил он, увидев Леньку.
Ленька вдруг почувствовал страх, услышав этот голос. Он сам не понял, почему ему так страшно.
— Вы директор? — пролепетал он.
— Ну?
— Пожалуйста... товарищ директор, — забормотал Ленька. — Примите меня...
— Что еще? Куда тебя принять? Ты откуда взялся такой?
— Я... я из города. Хочу учиться у вас... в школе.
— Учиться?
Директор доел яблоко, бросил огрызок через забор, облизал пальцы, прищурившись посмотрел на мальчика и — послал его к черту.
— Самим жрать нечего, — сказал он сквозь зубы.
Ленька заплаканный вернулся к брату. Товарищи сначала посмеялись над ним, а потом сжалились и посоветовали ему, не обращая внимания на директорские слова, оставаться на ферме.
Ленька остался. Он с трепетом ждал, что его погонят. Но его не погнали.
Ночь он проспал в огромной, как казарма, училищной спальне на одной койке с Васей. Спать ему не давали насекомые. То он сам просыпался от их укусов, то его будил, ругаясь и ворочаясь, Вася. В спальне было темно, накурено, от подушки нехорошо пахло. Утром, невыспавшийся и разбитый, Ленька вместе с другими воспитанниками вышел по звонку во двор фермы. Директор распределял наряды. Увидев Леньку, он не удивился, только прищурился, посмотрел в тетрадку и сказал:
— Пасти бычков.
Ленька пасти бычков не умел. Бычки разбежались у него, как только он выгнал их за ворота фермы.
Разыскивать бычков пришлось Васе.
— Вот видишь, — сказал он, встретившись вечером с Ленькой.
— Ничего, — сказал Ленька, — я научусь.
Но научиться было не так-то просто. Учили на ферме только побоями, а это плохой учитель. Единственное, чему кое-как выучился здесь Ленька, — это воровству.
...На третий или на четвертый день по прибытии на ферму он зашел зачем-то в школьную кузницу. Мальчик его лет выковывал там на наковальне какую-то длинную железную штуковину.
— Это что такое? — спросил Ленька.
— Кинжал, — ответил, помолчав, мальчик.
Ленька удивился и спросил, зачем вдруг понадобился мальчику кинжал.
— А вот затем, — усмехнулся тот. — Сегодня ночью пойдем деревенских кабанков резать.
Ленька сразу не понял, а когда понял — пришел в ужас:
— Кабанков? Чужих? Резать? Это же нехорошо! Это же нечестно!
— Нечестно? — сказал мальчик. — А это вот видел?
И он поднес к самому Ленькиному носу еще не совсем готовый и неостывший кинжал.
Скоро Ленька понял, что деревенские кабанки — это пустяки, детские шалости.
Ферма, куда он пришел учиться, оказалась самым настоящим разбойничьим вертепом, во главе которого стоял атаман — бородатый директор.
Ученики голодали. В столовой кормили их изо дня в день одним и тем же безвкусным борщом из зеленой свекольной ботвы — без хлеба и без соли. А директор и его сотрудники устраивали попойки, выменивали на самогон казенные продукты, одежду, инвентарь. За спиной директора ученики роптали, ругали его последними словами, но заявить открытый протест, пожаловаться никто не решался. Рука у Дракона действительно была тяжелая.
Правда, иногда и он вспоминал, что воспитанники его не могут питаться одним воздухом. Так как делиться с ними казенным сахаром и маслом в расчеты его не входило, он нашел более дешевый способ для кормления изголодавшихся питомцев: раза два в месяц он устраивал организованные облавы на крестьянских гусей, телят и даже коров.
По звону колокола старшие ученики собирались во дворе фермы, седлали лошадей, вооружались веревочными арканами и во главе с директором ехали на промысел. Вечером они возвращались с добычей. На следующий день в свекольном борще плавало свиное сало. А охотники, то есть старшие ученики, ели еще и свиное жаркое.
Младшим приходилось охотиться не так организованно и на более мелкую дичь. Поймав где-нибудь в лесу кабанка или гуся, они тут же резали его и жарили на костре.
...Ленька еще ни разу не участвовал в этих кражах. Но есть краденое из общего котла ему приходилось довольно часто. Товарищи великодушно делились с ним.
Первое время он немножко стеснялся есть ворованное. Несколько раз он даже пробовал отказываться. Но в конце концов голод победил: оказалось, что жареная утятина или гусятина все-таки вкуснее свекольной ботвы и капустной хряпы.
Как-то под вечер компания молодых пастушат сидела в лесу у костра, в пламени которого жарилась на вертеле тушка только что зарезанного двухмесячного кабанка.
— Эх, братцы, — проговорил Ленькин сосед Макар Вавилин, по прозвищу Вавило-мученик. — Если бы еще соли да хлебушка сюда — совсем бы шик-маре получилось.
— Ну, без соли-то как-нибудь, а вот хлебца бы не мешало...
Кто-то вспомнил, что утром из города привезли несколько пудов печеного хлеба — для подкормки племенного скота.
— А ведь и верно, — оживился Вавилин. — А ну — питерский! Лешка! Вали сбегай поди... Принеси буханочку.
Ленька вздрогнул, покраснел и ничего не ответил.
— Ты что — не слышишь? Кому говорят?
— Я не умею, — пробормотал Ленька.
— Ха! Не умеет! А чего тут уметь? Иди и возьми — только и делов.
— А если увидят?
— А ты сделай так, чтобы не увидели. А увидят — беги, пока по шее не наклали.
— Айда, иди, чего там, — зашумели остальные. — Дрейфишь, что ли?
Ленька быстро поднялся.
— Ладно, — сказал он. — А где он?
— Кто?
— Хлеб.
— В телятнике у самой двери ларь стоит...
Идти было страшновато. Ёкало сердце. В животе было холодно. Но о том, что он идет на кражу, Ленька не думал. Он думал только о том, что нужно сделать все это ловко, чтоб никто не увидел и чтобы не осрамиться перед товарищами.
В телятнике было чисто, тепло, пахло парным молоком и печеным хлебом. В конце коридорчика под фонарем "летучая мышь" спал на конской попоне дежурный старшеклассник.
На большом деревянном ларе лежали хомут и чересседельник. Ленька с трудом поднял тяжелую крышку, сунул под рубаху большой круглый каравай и побежал...
Страшно ему уже не было, но руки у него почему-то дрожали. По дороге он несколько раз уронил буханку.
Товарищи встретили его как победителя:
— Молодец! Ловко! Ай да питерский!..
Ленька стоял у костра, самодовольно ухмылялся и сам понимал, насколько глупо и постыдно это самодовольство...
...Воровством он поправил немного свой авторитет.
Но научиться сельскохозяйственному делу было труднее. Чуть ли не каждый день с ним случались несчастья, за которые он расплачивался ушами, затылком или спиной.
Однажды директор приказал ему ехать в поле и сзывать на обед стадо. Ленька никогда в жизни не ездил верхом. А тут ему еще нужно было держать в руках костяной рог с маленькой резиновой пипочкой, которая вставлялась в рог, чтобы получался звук. Не успел Ленька выехать за околицу, как пипочка соскочила с рога и улетела в неизвестном направлении. Без пипочки рог не гудел. Ленька слез с лошади, пошел искать пипочку. Лошадь он, по незнанию дела, отпустил. Не найдя пипочки, он принялся ловить лошадь. Ловил ее полчаса. Полчаса взбирался на нее. Полчаса думал: что делать?
Стадо он сзывал криком. Он дул в пустой, онемевший рог и кричал:
— Ау! Уа!
Вечером ему досталось и от директора и от пастуха, который, изголодавшись и бесцельно прождав сигнала, пригнал стадо на ферму по собственному почину, через три часа после положенного времени.
Пинки и зуботычины, которые поминутно сыпались на Леньку, делали его еще более бестолковым.
Директора он не мог видеть без ужаса. Когда ему приходилось за чем-нибудь обращаться к Дракону, у него холодели ноги и отнимался язык. Эти мутные глаза, разбойничья борода и хрипловатый разбойничий голос напоминали ему какой-то кошмарный сон, который он видел в детстве, во время болезни.
Вася, чем мог, помогал старшему брату. Но ему самому было не легко. Ведь весной ему исполнилось всего десять лет. Но он как-то очень быстро огрубел, приспособился, да и сильнее он был, недаром его называли на ферме "петроградским медведем". А Леньке приспособиться было трудно. Он скучал, плакал, ночами почти не спал. Бессоннице помогали вши, которые целыми тучами ползали по рваным казенным одеялам.
На Ленькино счастье, на ферме оказалась библиотека. Книги там были не ахти какие, но Ленька набросился на них с такой жадностью, с какой никогда не набрасывался на жареную гусятину или на краденый телячий хлеб.
Эти книги немного скрасили Ленькину жизнь. Но они же его и погубили.
Однажды он пас большое стадо свиней. Среди этих свиней находился черный английский породистый боров. Ленька зачитался (он читал в это время "Иафет в поисках отца" капитана Мариетта) и не заметил, как стадо разбрелось в разных направлениях. Когда он очнулся и оторвался от книги, в отдалении только хвостики мелькали.
Ленька кинулся собирать стадо. Он разыскал всех, кроме черного борова. Боров исчез.
Директор избил Леньку до синяков. И приказал ему идти в лес искать борова.
— Если придешь без борова, убью, — было его последнее напутствие.
Ленька всю ночь проблуждал в лесу, борова не нашел и решил на ферму не возвращаться. Он был уверен, что Дракон исполнит угрозу. Но тут он вспомнил, что в спальне под койкой у него остался чемодан. Не чемодана ему было жалко, в чемодане хранилось старое, полугодовой давности письмо от матери — самое ценное, что было у Леньки за душой.
Чуть свет он пришел на ферму, пробрался в спальню. Товарищи его еще спали. Похрапывал, уткнувшись носом в подушку, и Вася. Ленька хотел разбудить брата, но подумал и решил не будить.
Сложив письмо и спрятав его за пазухой грязной рубахи, он на цыпочках вышел на крыльцо. И не успел прикрыть за собой дверь, как увидел в синеющих утренних потемках слишком знакомую ему, страшную фигуру директора. Дракон стоял в десяти шагах от крыльца, курил, кашлял и сплевывал.
Дверь скрипнула. Ленька похолодел. Дракон оглянулся и посмотрел в его сторону.
— Ты что делаешь, шваль? — крикнул он. — Что у вас там уборной нет? Сколько раз говорил! А ну, брысь!
Ленька пискнул что-то и юркнул за дверь. Дракон его не узнал. Но Ленька опять весь дрожал от страха.
— Шваль, шваль, — шептали почему-то его губы. — Шваль, шваль, шваль...
Долго он стоял за полуоткрытой дверью, слушая, как стучит сердце, и не решаясь выглянуть за дверь. Наконец решился, выглянул и увидел, что директора во дворе нет. Тогда он осторожно, затаив дыхание, спустился с крыльца, огляделся и побежал.
Бежал он, пока хватило сил. На рассвете, когда уже занималась на востоке утренняя заря, измученный и голодный, он свалился под придорожным кустом и заснул. Во сне ему привиделось, будто он бежит по какой-то широкой, устланной красной ковровой дорожкой лестнице, а за ним, перескакивая через две ступеньки на третью, гонится бородатый Дракон. Ленька в ужасе мечется, кидается в первую попавшуюся дверь, но тут его настигают, хватают за шиворот, и хрипловатый злобный голос кричит:
— Ты где взял борова, уличная шваль?!
У Леньки застучали зубы. Он очнулся, обливаясь холодным потом.
"Господи... что это? — подумал он. — Ведь это уже было со мной когда-то! Неужели и в самом деле это он?"
На секунду мелькнула у него мысль: пойти обратно, проверить, убедиться. Но страх был сильнее любопытства. Он пошел домой — к тетке.
...Минуло почти два месяца с тех пор, как он покинул город. Он шел, и в душе его теплилась маленькая надежда, что он застанет дома мать.
В город он пришел рано утром, с трудом разыскал Белебеевскую улицу, которую за это время успели переименовать в улицу Бакунина. Утро было жаркое, все окна в квартире были распахнуты. Он заглянул в комнату, где жил до отъезда матери, и отпрянул. У окна сидел в качалке незнакомый плешивый человек в очках и читал газету. В соседней комнате Ленька увидел тетку. Она стояла у комода перед зеркалом и, откинув чуть ли не на спину голову, вытаращив по-совиному левый глаз, обеими руками оттягивала на лоб веко. Лицо у нее было трагическое, похоже было, что на глазу у тетки вскочил ячмень.
Ленька окликнул ее.
Тетка испуганно оглянулась.
— Боже мой! Леша! Как ты меня напугал. Ты откуда взялся?
— Пгишел, — невесело усмехнулся Ленька, подтягиваясь повыше и заглядывая в комнату, в надежде увидеть какие-нибудь следы присутствия матери. Не обнаружив ни пальто ее, ни платья, ни даже носового платка, он упавшим голосом сказал: — Мамы нет?
— Ты видишь, что нет!
Тетка все еще поглядывала в зеркало, подпирая мизинцем левую бровь.
— И писем не было?
— Боже мой, что за глупости ты говоришь! В Петрограде белые, а он толкует о каких-то письмах!.. Кстати, ты зачем, собственно, пришел? В гости? Или по делам?
— Почему белые? — сказал Ленька. — Кто вам сказал, что в Петрограде белые?
— Не все ли равно, кто сказал... В газетах еще на прошлой неделе писали, что Юденич взял Царское Село. А от Царского до Петрограда сорок минут езды...
Ленька усмехнулся. Почему-то ему вспомнилась Нонна Иеронимовна Тиросидонская и ее знаменитое "мало ли что говорят".
— Что же ты стоишь, как нищий, под окошком? — сказала тетка. — Заходи. У нас еще пока, слава богу, имеются двери и крыша над головой.
Пройдя через двери и очутившись под крышей, Ленька еще раз услышал тот же неделикатный вопрос: зачем и надолго ли он пришел в город?
— Я в общем совсем, — пробормотал он, выдавливая из себя улыбку.
Тетка оставила в покое свой глаз и отвернулась от зеркала.
— Как совсем? Я не понимаю. Что ты хочешь сказать?
Ленька молчал.
— Тебя выгнали?
— Где Ляля? — спросил, оглядываясь, Ленька.
Тетка быстро ходила по комнате, прижимала к распухшему и покрасневшему глазу комочек платка и трагическим голосом говорила:
— Нет, в самом деле, я спрашиваю тебя: ты на что, собственно, рассчитывал? Я прошу тебя ответить: на что ты рассчитывал? Боже мой, боже мой, что еще за новое наказание свалилось на мою голову! Ты хоть немножко думал о том, что ты делаешь? Ты же не маленький, тебе не пять лет, ты должен понимать, что я не миллионерша. Мы и так еле-еле сводим концы с концами. Цены растут, жить становится буквально невозможно, масло стоит уже триста рублей фунт, говядины не достать ни за какие деньги, белый хлеб исчез, чтобы сварить чечевичную кашу, требуется...
Ленька не ел со вчерашнего дня. От голода его мутило, он слушал невнимательно и плохо понимал, что говорит тетка, но слова "масло", "говядина", "чечевичная каша", "белый хлеб" он слышал отчетливо, они терзали его слух, наполняли слюной рот, дразнили и без того бешеный аппетит.
— Ты понял меня? — спросила тетка, заканчивая свою речь.
Ленька помолчал, качнулся на стуле и невпопад сказал:
— Я есть хочу.
Тетка накормила его. Но тут же, убирая со стола, она со всей твердостью заявила, что это последний раз, что рассчитывать на ее помощь он не может. Он не маленький, ему не пять лет, он должен понимать, что она не миллиардерша, что жить становится буквально невозможно, что цены растут...
Ей действительно было трудно. Она хворала, нигде не работала, жила на заработок и на паек дочери.
Ира, которой недавно исполнилось шестнадцать лет, служила уборщицей в военкомате. Ляля уже второй месяц жила в детском доме. В этот же детский дом, по настоянию тетки, устроился и Ленька. Но пробыл он там очень недолго. Он даже не помнит, сколько именно: может быть, месяц, а может быть, и меньше...
...Было что-то унылое, сиротско-приютское в этом заведении, где какие-то старозаветные писклявые и вертлявые дамочки воспитывали по какой-то особой, сверхсовременной, вероятно, им самим не понятной, системе стриженных под машинку мальчиков и девочек, среди которых были и совсем маленькие, меньше Ляли, и почти взрослые, на много лет старше Леньки.
Кто были эти воспитательницы, откуда они слетелись сюда и какой педагогической системы держались, — над этим, конечно, Ленька в то время не задумывался. Скорее всего это были так называемые "левые" педагоги. Пользуясь тем, что Советская власть, открывая тысячи новых школ и интернатов, нуждалась в педагогических силах, эти дамочки налетели, как саранча, и на школу, и на детские сады, и на детские дома и всюду насаждали свою необыкновенную, "левую" систему.
А система эта была действительно странная.
Почему-то ребят заставляли обращаться к воспитателям "на ты" и в то же время не давали им слова сказать, так что не было, пожалуй, и случая, чтобы сказать воспитательнице "ты". Гулять водили парами, за столом, пока не была роздана еда, мальчики и девочки сидели, как преступники, с руками, сложенными за спиной. Все время их куда-то гоняли, что-то разъясняли, чему-то учили и наставляли.
Ленька помнит, как за обедом, когда ребята с жадностью глотали жиденький постный суп под названием "кари глазки", в столовой появилась высокая, стриженная по-мужски дама в пенсне. Походив по столовой и сделав кому-то замечание, что он "чавкает, как свинья", дама остановилась во главе стола и начала говорить. Говорила она очень долго, но из ее речи Леньке запомнилось только одно место.
— Дети, — говорила она. — Я хотела еще обратить ваше внимание на ваш язык. Он у вас очень грубый. Вы вот, например, все говорите...
И она, не поморщившись и не покраснев, сказала очень нехорошее слово.
— А надо говорить не так, а надо говорить...
И она произнесла еще более противное слово.
Все были голодны, но после этих слов никто не мог есть ни суп, ни кашу.
Бывали в детдоме и развлечения, но вряд ли они кого-нибудь развлекали. Даже воспоминание об этих вечерах вызывает у Леньки тоску и отвращение.
В комнате нехорошо пахнет уборной, табаком и немытой металлической посудой, голова чешется, в животе пусто, а на самодельной сцене, за раздвинутыми бязевыми простынями, выполняющими роль занавеса, ходят голодные бледные мальчики и девочки и разыгрывают глупую пьеску:
Доктор, доктор, помогите,
Наша куколка больна...
Потом выступает маленькая, стриженная, как солдат, девочка. Вытянув по швам руки, тоненьким деревянным голосом девочка читает:
Где гнутся над омутом лозы,
Где летнее солнце печет,
Летают и пляшут стрекозы,
Веселый ведут хоровод...
Было скучно, а время куда-то уходило, текло, как вода сквозь решето, так что даже читать было некогда. Неудивительно, что из детдома бежали. Чуть ли не каждое утро за завтраком не досчитывались одного, а то и двух-трех воспитанников. Подумывал и Ленька о побеге. Он уже давно лелеял мечту пробраться в Петроград и разыскать мать. Поверить, что ее нет в живых, он почему-то не мог.
Конечно, Юденич Петрограда не взял. Но люди, которые приезжали из Москвы и Питера, рассказывали ужасы: в столицах — голод, жителям выдают по одной восьмой фунта, то есть по пятьдесят граммов, хлеба в день. Леньку это не пугало. К голоду ему было не привыкать. Но на всякий случай он подкапливал потихоньку кусочки сахара и твердое как камень печенье, которое выдавали по праздникам детдомовцам.
Убежать из детдома Ленька, однако, не успел. Ему пришлось уйти оттуда не по своей воле.
...Детдом помещался в женском монастыре. Половину келий занимали монахини, половину — дети. При монастыре была церковь. Около церкви отдельно — стояла высокая белая колокольня. Ребята от скуки повадились лазить на колокольню, — им доставляло удовольствие помогать монахиням трезвонить в колокола. Лазил на колокольню и Ленька. Однажды, спускаясь с товарищами по темной кирпичной лестнице, он нащупал руками какое-то углубление в стене. Это была открытая ниша, в глубине которой ребята обнаружили большой полутемный тайник, где хранились припрятанные монахинями от конфискации целые горы мануфактуры, обуви и других товаров.
Ленька уже не краснел и не вспыхивал при слове "воровство". В ту же ночь он забрался с двумя товарищами на колокольню и вынес из тайника несколько кусков бархата, отрез шелка и четыре пары дамских полуботинок.
На другое утро, когда он торговал на базаре обступившим его татаркам мягкий темно-лиловый бархат, подошел милиционер и сказал:
— Пойдем в комендатуру, малайка.
В комендатуре Ленька пытался оправдываться. Он кричал, что его не смели задерживать, что это не воровство, а реквизиция, что обокрал он не кого-нибудь, а монашек...
С ним не согласились. Составили протокол. Вызвали заведующую детдомом, сердитую старуху, которую ребята за глаза называли почему-то "Игуменья Маша". Заведующая отказалась принять Леньку обратно. Его направили под конвоем в другой детский дом, откуда он убежал в первую же ночь.
В монастырском саду, под деревянными ступеньками беседки, были припрятаны у него дамские ботинки — богатство, которое удалось утаить и от монашек и от милиции.
Продавать эти вещи в городе Ленька побоялся. Поэтому он решил наконец исполнить свое давнишнее намерение — ехать в Петроград.
Повидав на прощанье сестру и не заходя к тетке, он отправился в путь. В первой же деревне он выгодно продал ботинки и пришел на пристань с деньгами, которых, по его расчетам, должно было хватить до самого Петрограда.
Без билета он сел на пароход, который, как ему объяснили, шел без пересадки до Рыбинска.
Но до Рыбинска Ленька не доехал.
Где-то недалеко от Казани всех пассажиров — и билетных и безбилетных попросили выйти. Пароход занимала воинская часть, отправлявшаяся на колчаковский фронт.
Большинство пассажиров осталось на пристани дожидаться следующего парохода. Но пароходы ходили тогда без расписания, — неизвестно было, сколько придется ждать — час, день, а может быть, и неделю.
Несколько человек отправились пешком в Казань. Пошел с ними и Ленька. Деньги у него быстро таяли. Цены в те дни росли, как тесто на хороших дрожжах: сегодня бутылка молока стоила тысячу рублей, а через месяц уже три или пять тысяч. Скоро Ленька проел последнюю тысячу и должен был питаться тем, что ему давали его попутчики. Попутчики давали немного, Ленька голодал.
На третью ночь, когда путешественники ночевали в поле, под стогом сена, Ленькины товарищи покинули его. Он проснулся и увидел, что никого нет. Только яичная скорлупа валялась вокруг да газетные махорочные окурки.
Когда рассвело, Ленька отправился в путь один.
...Весь день он шел по Большой Радищевской дороге в сторону Казани. В каком-то селе старуха, приняв его за нищего, вынесла ему овсяную лепешку. В другом селе он попросил напиться. Его напоили молоком.
Ночевал он в заколоченной полусожженной усадьбе. На дверях ее висел большой ржавый замок с сургучной печатью. Ленька отодрал доски на окне и залез в помещение. В комнатах не было никакой мебели, только в маленьком зальце стоял покрытый рогожами рояль, да на чердаке он нашел несколько ящиков с книгами. У этих ящиков Ленька и заснул. Разбудил его дождь, который, зарядив с утра, целый день барабанил по крыше. Ленька дотемна сидел у слухового окна и читал старые номера "Исторического вестника". Питался он зелеными китайскими яблоками, за которыми несколько раз спускался в сад. На следующее утро, захватив с собой около двадцати книг, он зашагал дальше.
Часть книг он продал по дороге — мужикам на курево. С остальными пришел в Казань.
Здесь на главной базарной площади стоял заколоченный газетный киоск. Леньке отодрал доски, разложил на прилавке книги и открыл торговлю.
Все книги он очень быстро распродал. Осталось у него только несколько томов "Жизни животных" Брема, которых никто не покупал.
Несколько ночей подряд Ленька ночевал в газетном киоске. Днем он читал и продавал Брема. Он готов был отдать его за совершенные гроши, чуть ли не даром. Но покупателей почему-то, как на грех, не находилось.
Только на пятый день, когда карманы у Леньки опять опустели, покупатель нашелся. Это был пленный немец, сапожник, который почти не говорил по-русски. Он долго разглядывал тигров, леопардов и крокодилов, потом оторвался от книги и машинально спросил:
— Wie teuer?
Ленька напряг память, вспомнил немецкие уроки в училище и ответил:
— Funf Tausend.
Немец пришел в восторг, схватил Леньку за руку, принялся трясти ее и что-то говорить быстро-быстро по-немецки. Ленька хоть и не понял ни слова, но отвечал:
— Ja. Ja. Ja.
Кое-как — на двух языках — он растолковал немцу, что он — сирота, бездомный, что ему нечего есть.
Немец предложил ему работать у него в мастерской и прямо с базара потащил его к себе на квартиру.
Жена его — толстая рыжеволосая эстонка или латышка — встретила Леньку не очень приветливо. У Франца, как звали Ленькиного хозяина, работал уже в подмастерьях молодой австриец — тоже военнопленный, — и хозяйке казалось, что второй помощник, да еще такой маленький и тщедушный, совершенно не нужен.
С первого же дня она возненавидела Леньку. За обедом она подала на второе плошку жареных почек. Леньке очень хотелось есть, и он положил себе на тарелку сразу две почки. И пока остальные раскладывали по тарелкам свои порции, он их уже съел. Вдруг он услышал голос хозяйки:
— Где же еще одна почка?
Оказалось, что хозяйка приготовила каждому по одной почке. Ленькина прожорливость оставила ее без жаркого.
— Ты жрешь, как свинья, — сказала она, выскребывая из опустевшей плошки остатки картофельного пюре. И с этих пор иначе как "свиньей" Леньку не называла.
Но все-таки Ленька прожил у Франца около двух месяцев. И если бы не хозяйка — может быть, он так и остался бы навсегда сапожничать в Казани.
Но хозяйка была самая настоящая "сапожницкая" хозяйка. Она посылала Леньку на базар, била его шпандырем и колодками, заставляла чистить картошку, мыть полы и даже штопать носки. Не раз вспоминался Леньке "Ванька Жуков" — любимый его рассказ из школьной хрестоматии.
Осенью он ушел от Франца. Расстались они по-хорошему, — Франц выплатил ему до копеечки все жалованье, как обещал при найме.
А Ленька подумал и решил пробираться к Петрограду.
...Неделю он просидел на пристани в ожидании парохода. Но пароходы на север не шли. Единственный пароход, который остановился у Казанской пристани — "Владимир Ульянов", — был до отказа набит ранеными красноармейцами.
Ленька отчаялся, скучная Казанская пристань ему опротивела, он решил ехать куда глаза глядят, или, вернее, куда пойдет первый пароход.
Таким образом он попал в город — или в большое село — Пьяный Бор. Здесь он опять остался без денег. На пристани околачивалось очень много таких же, как он, бездомных бродяг. По ночам они воровали из пристанских складов сушеную рыбу, яблоки и арбузы. Попробовал и Ленька заняться этим прибыльным ремеслом. Но в первую же ночь, проникнув в пакгауз, где лежали арбузы, он попал в объятия сторожа. Как ни плакал Ленька, как ни молил отпустить его, сторож не сжалился. Он отвел Леньку в транспортную чрезвычайную комиссию.
Там Ленька просидел — в компании дезертиров, мешочников и спекулянтов две недели. Отсюда направили его в город Мензелинск, в детскую колонию имени III Интернационала. Этот детдом тоже помещался в монастыре, и в первую же ночь Ленька, по старой памяти, забрался на колокольню в надежде найти там что-нибудь подходящее для "реквизиции". Но ничего не нашел.
Жить в колонии было и скучно, и грязно, и голодно. Город только недавно был освобожден от колчаковцев, жизнь еще не наладилась. Ленька дождался первых холодов, получил казенное ситцевое пальто и ушастую шапку — и дал тягу.
До заморозков он жил в полуразрушенном здании пивоваренного завода на берегу реки Мензелы. Пробовал воровать. На базаре из-под самого носа татарина он стащил хорошие чесаные валенки. Тут же на базаре хотел их продать. Попался. Рассвирепевший татарин избил его этими же самыми валенками. А валенки были тяжелые — с обсоюзкой.
...Однажды он, голодный, бродил по городу и вдруг увидел на заборе плакат:
"КТО НЕ РАБОТАЕТ — ТОТ НЕ ЕСТ"
Таких плакатов Ленька видел и раньше немало, но почему-то на этот раз он очень внимательно перечитал его и задумался.
В тот же день он зашел в городской финансовый отдел — в первое учреждение, которое попалось ему на глаза, и спросил, нет ли для него подходящего места.
— А что ты умеешь делать? — спросили у него.
— Да что угодно.
— Финансовую работу знаешь?
— Это считать-то, — презрительно усмехнулся Ленька. — Эка невидаль!..
Но на финансовую работу его все-таки не взяли. Ему предложили работать курьером. Работа была в самый раз. Город был маленький, учреждений немного, ходить некуда. Два дня Ленька просидел в теплой финотделской приемной, почитывая книжку и попивая морковный казенный чаек. На третий день, под вечер, его позвали к секретарю.
— Отнесите этот пакет в коммунхоз, — приказал ему секретарь, вручая запечатанный конверт и толстую рассыльную книгу.
Ленька с готовностью побежал исполнить поручение.
Но добежать до коммунхоза ему не удалось.
Финотдел помещался во втором этаже. Выбежав на площадку и увидев перед собой широкую городскую лестницу с гладкими отполированными перилами, Ленька не удержался, сел на перила и — как бывало когда-то в реальном училище покатился вниз. Но в реальном училище он скатывался большей частью благополучно. А тут ему не повезло. Зацепившись штаниной за какой-то неудачно высунувшийся гвоздь, он перекувырнулся через перила и с высоты второго этажа полетел вниз.
...Очнулся он на больничной койке. Ему посчастливилось. Он мог сломать и спину, и руку, и ногу, и что хотите. А сломал всего-навсего один большой палец на левой руке.
Из больницы он выписался в середине зимы. Пошел в финотдел. Место его было уже занято. Какая-то древняя старушка сидела в приемной, вязала чулок и попивала морковный чай.
Леньке выдали выходное пособие. Неделю он жил барином на своем пивоваренном заводе.
Потом наступили морозы, по ночам Ленька совершенно коченел.
Он уже подумывал, не вернуться ли ему в детдом. Правда, это не очень весело — возвращаться к разбитому корыту, но что ж поделаешь.
В тот день, когда в голову ему пришла эта мысль, он встретил на улице молодого веселого парня, подпоясанного солдатским кушаком, за которым торчал широкий австрийский тесак.
Ленька поднимался наверх, в город. Парень бежал вниз. Он пробежал мимо и вдруг остановился. Наверно, у Леньки был очень страшный, заморенный и измученный вид.
— Эй, малай! — окликнул его парень.
Ленька остановился.
— Ты чей? — сказал парень.
Ленька попробовал усмехнуться и сказал, что он "свой собственный". И пошел дальше. Парень догнал его и схватил за плечо.
— Послушай, — сказал он, — ты что — замерз?
Сказал он это так хорошо, заботливо и тепло, что Ленька вдруг почувствовал, что он и в самом деле промерз до последней косточки. Зубы у него застучали. Если бы парень не подхватил его под руку, он, наверно, сел бы тут же, посреди улицы, в снег.
— А ну, пойдем поскорей греться, — сказал парень и, схватив Леньку за руку, потащил его наверх, в город.
...Он привел его к дому, над подъездом которого висела вывеска:
ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ
РКСМ
В маленькой комнате, украшенной лозунгами и плакатами, сидела за столом рыжеволосая веснушчатая девушка. Девушка что-то писала.
— Принимай гостя, Маруся, — сказал ей парень.
Увидев Леньку, девушка вскрикнула. Уши и нос у Леньки были совершенно белые. Он отморозил их.
Он никогда не забудет эти добрые женские руки, которые полчаса подряд заботливо растирали снегом его лицо и уши.
— Ну что — дышать можешь? — спросили у него, когда он немного согрелся и пришел в себя.
— Да. Благодагю вас. Могу, — сказал Ленька и вдруг расплакался. Плакать ему было стыдно, он давно не плакал, но сдержать себя он не мог.
Его успокоили, напоили чаем, накормили хлебом.
Он рассказал, кто он, откуда и что с ним случилось. Рассказал и про ферму, и про монастырский бархат, и про валенки, и про чека, и про колонию имени III Интернационала...
Он думал, что сейчас его выгонят или отправят в милицию. Но парень, которого девушка называла Юркой, серьезно выслушал его и сказал:
— Вот что, товарищ Ленька... До Петрограда ты вряд ли сейчас доберешься. Оставайся у нас — в комсомоле.
Ленька остался. Его поселили на кухне, которая только называлась кухней, потому что там стояли плита и кухонный стол. А на самом деле там только чай кипятили, когда собирались по вечерам в комитете комсомольцы — на лекции, на собрания или просто поговорить, пошуметь и поспорить.
Эта зима была у Леньки очень хорошая.
Он жил в комитете вроде сторожа, получал зарплату и паек, но чувствовал себя равноправным членом коллектива. Ходил на собрания. Слушал доклады. И если на собрании обсуждалась резолюция и нужно было голосовать, он тоже поднимал руку. Сначала он делал это робко, а потом осмелел и стал поднимать руку чуть ли не выше всех. И никто не удивлялся и не возражал. Его считали таким же комсомольцем, как и других, хотя по возрасту Ленька в комсомол не годился, — ему не было еще и тринадцати лет.
...Городская организация комсомола была совсем маленькая. Все это была зеленая молодежь, главным образом — ученики и ученицы Единой трудовой школы. Юрка среди них выглядел чуть ли не старичком: ему исполнилось 18 лет. Он уже второй год работал помощником механика на городской электростанции и занимался; кроме того, на инструкторских курсах всеобуча. Работать ему приходилось много. Отец его погиб еще в германскую войну, и на Юркиных плечах лежали заботы о семье, о больной матери и о маленьких братьях и сестрах, живших в Казани. Он сам признавался Леньке, что спит не больше четырех часов в сутки. И все-таки он находил время позаботиться и о своем воспитаннике.
Прежде всего он решил, что мальчику нужно учиться. Оба они долго и со всех сторон обсуждали вопрос, — куда ему лучше идти: в бывшую гимназию или в бывшее реальное? Хотя ни реального, ни гимназии давно уже и в помине не было, в Леньке еще не угасла застарелая ненависть к "серошинельникам", и он решительно заявил, что в гимназию, даже в бывшую, учиться не пойдет. Юрка сначала рассердился на него, потом посмеялся, а потом подумал и решил:
— А и верно, пожалуй... К черту все эти гимназии. Нам, Леничка, в первую очередь нужен рабочий класс. После войны, когда разобьем колчаков и Юденичей, будем восстанавливать заводы, будем новые строить... Определим-ка мы тебя, давай, в профессиональную школу! Хочешь?
— Это в какую? — не понял Ленька. — В сельскохозяйственную?
— Почему в сельскохозяйственную? В обыкновенную профшколу. Будешь учиться на механика или на машиниста.
— В сельскохозяйственную я не хочу, — сказал, помрачнев, Ленька.
Учиться же на машиниста ему показалось заманчивым. Засыпая в этот вечер, он даже помечтал немного: вот он кончает школу, ему дают настоящий паровоз, он садится на него, заводит и едет... Куда? Да конечно же, туда, куда и ночью и днем, и во сне и наяву рвалась его маленькая душа: в милый, родной Петроград, на берега Невы и Фонтанки!..
...Но машинист из Леньки не получился.
В профшколу он пришел в середине зимы, в начале февраля. Его спросили: где он учился? Он сказал, что учился во Втором петроградском реальном училище. Вероятно, это звучало очень солидно, потому что ему не стали устраивать экзамена, дали только написать небольшую диктовку из "Сна Обломова", и когда он написал ее, сделав всего одну ошибку, в слове "импровизирует" (написал "эмпровизирует"), его зачислили сразу в третий класс.
Ленька вернулся домой радостный и гордый. Он весь сиял. Порадовались вместе с ним и Юрка, и Маруся, и другие товарищи его по комсомолу.
Но уже на следующий день, явившись на занятия в профшколу, Ленька понял, что радость его была преждевременной и что гордиться ему пока что нечем.
Начались мучения, о которых он и не подозревал, поступая в профшколу.
Он полтора года не брал в руки учебника, забыл дроби, с грехом пополам помнил таблицу умножения, а в классе, куда он попал, проходили уже алгебру и геометрию.
Первое время Ленька еще пытался что-то понять. Вытягивая шею, он, не мигая, смотрел на доску, на которой товарищ его по классу бойко вычерчивал мелом загадочные фигурки — черточки, треугольнички, дужки, украшая их, как елку игрушками, не менее загадочными нерусскими буквами: а, в, с, d...
Он внимательно и почтительно слушал учителя, торопливо и с ошибками записывал в тетрадь незнакомые, ничего не говорящие ему слова вроде "медиана", "биссектриса", "гипотенуза", и чем дальше, тем больше приходил в уныние: он очень хотел понять что-нибудь и ровно ничего не понимал.
Наконец он махнул рукой, оставил попытки разобраться в этой абракадабре и занялся своими делами: читал или пописывал стишки.
Последнее время его опять потянуло к сочинительству. Еще в первые дни своего пребывания в комсомоле, узнав о разгроме колчаковских войск в Сибири, он написал стихи под названием "Черный ворон":
Не вей над нами, черный ворон,
Ты нам не страшен уж теперь.
Для всех тиранов и злодеев
В Россию уж закрыта дверь.
Не надо нам цепей железных,
И их у нас уж больше нет...
Эти стихи он прочел Юрке.
— Ничего... Молодец! — удивился Юрка. — В общем, довольно прилично получилось. Только, пожалуй, ужей слишком много.
— Каких ужей?
— Уж, уж...
— Без них не получается, — сказал, покраснев, Ленька.
— А ты попробуй, поработай, — посоветовал Юрка. — Над стихом надо работать. Пушкин, я где-то читал, по восемьдесят раз одно стихотворение переписывал.
Ленька переписал своего "Черного ворона" одиннадцать раз. Дня через два он показал новый вариант Юрке.
Не вей над нами, черный ворон,
Ты нам не страшен ведь теперь.
Для всех тиранов и вампиров
В Россию ведь закрыта дверь...
— Вот... Гораздо лучше стало, — похвалил снисходительный Юрка.
Теперь Ленька писал потихоньку от всех пьесу. Придумывать ее он начал еще в прошлом году, в Казани, когда жил у Франца. Пьеса была в стихах, из казачьей жизни, и в подзаголовке ее почему-то стояло: "революционная опера". Перед каждым куплетом, которые, по Ленькиной мысли, актеры должны были петь, в скобках стояло: на мотив "Яблочка", на мотив "Смело, товарищи, в ногу", на мотив "Кари глазки", на мотив "Маруся отравилась", на мотив "Шумел-гремел пожар московский"...
В этих поэтических упражнениях Ленька находил хоть и небольшое, а все-таки утешение. А вообще он чувствовал себя довольно паршиво. Больше всего он боялся, что о его неудачах в школе узнает Юрка. Конечно, он мог и сам рассказать обо всем Юрке. Но он стеснялся. Как же это так: о нем заботятся, его поместили в хорошую школу, устроили не во второй и не в первый, а сразу в третий класс, и вдруг он придет и скажет: "Я не могу заниматься... ничего не понимаю".
Когда Юрка спрашивал, как у него дела в школе, он пожимал плечами и неопределенно отвечал:
— Занимаюсь.
— Я знаю, что занимаешься... Хорошо или плохо?
— Меня еще не вызывали, — говорил Ленька.
Его и в самом деле ни разу не вызывали еще. Он был маленький, низкорослый, сидел на последней парте, — может быть, учителя просто не замечали его. Но рано или поздно гром должен был грянуть. Ленька чувствовал это, но ничем не мог помочь себе: все, о чем говорилось при нем на уроках физики и математики, по-прежнему оставалось для него китайской грамотой.
...Нисколько не лучше обстояло дело и на практических занятиях в мастерских. В первый же день, когда Леньке выдали прозодежду — серую долгополую рубаху, штаны из чертовой кожи и синий коленкоровый халат, — у него спросили, по какому профилю он хотел бы заниматься: по слесарному или по столярному? Ленька очень неясно представлял себе разницу между этими профилями. Может быть, ему показалось, что столярное дело проще, — все-таки дерево, а не железо! Он выбрал столярный профиль.
В мастерской ребята его класса самостоятельно делали табуретки. Леньку поставили к верстаку, выдали ему под расписку рубанок, топор, пилу-ножовку, угольник, долото и желтый складной футик, показали, где брать материал и куда складывать готовую продукцию.
— Рубанок держать умеешь? — спросил у него худощавый болезненный человек с черными усиками, которого называли инструктором.
— Умею, — ответил Ленька.
Ему показалось, что он говорит правду. Что ж тут особенного — держать рубанок. Ему приходилось поднимать и не такие тяжести. На ферме он таскал, правда с натугой, мешки по три пуда весом. Смешно было бы сказать — не умею. О том же, что он никогда рубанком не работал, он сказать постеснялся.
Инструктор дал ему образец — хорошенькую чистенькую, гладко отполированную табуреточку — и велел делать такую же. После этого он ушел и целую неделю не подходил к Ленькиному месту. Может быть, ему было некогда, потому что ребят под его началом работало больше сорока человек, а может быть, хотел проверить самостоятельность мальчика.
Ленька посмотрел, как работают товарищи, подвязал тесемочками рукава халата и храбро принялся за дело.
Прежде всего он решил делать сиденье. Он взял доску, отмерил футиком нужную длину, заметил ее по какой-то заусенице и стал пилить. Отпилив два одинаковых кусочка, он смерил их. Оказалось, что кусочки получились не очень одинаковые. Тот, который подлиннее, он еще подпилил и подрубил топором. Смерил еще раз. Теперь оказалось, что длиннее другой кусочек. Он осторожно подтесал его и опять смерил. Кусочки были почти одинаковые. Но когда он положил их на сиденье готового табурета, он с удивлением обнаружил, что отрезанные им доски почти на два пальца короче тех, что покрывали образцовый табурет. Он хотел пилить снова, но потом подумал, что, в конце концов, такая ничтожная разница в длине большого значения не имеет. Да и пилить ему уже надоело. Хотелось поработать рубанком.
Он положил доску на верстак, зажал ее тисками и стал скоблить рубанком, то и дело поглядывая на соседей и стараясь во всех мелочах подражать их движениям. Работать рубанком оказалось не так легко и просто, как это выглядело со стороны. Рубанок почему-то то и дело спотыкался, стружка из-под него вылетала то жиденькая, как мочалка, то грубая, толстая, толщиной с палец. Поминутно эти дурацкие щепки обламывались, застревали в отверстии, из которого торчал нож рубанка, и их приходилось выковыривать оттуда долотом.
Через некоторое время Ленька уже начал задумываться: зачем вообще существует на свете рубанок, чего ради строгают доски, если после обстругивания они делаются еще более щербатыми и неровными?
Когда он обтесывал топором табуретные ножки, к его верстаку подошел его сосед по классу большеголовый татарчонок Ахмет Сарымсаков. Несколько минут он любовался Ленькиной работой, потом усмехнулся и спросил:
— Ты что, малай, на самовар лучину щеплешь?
— Какую лучину? — не понял Ленька. — Почему на самовар?
— Ты что делаешь?
— Ножки.
Сарымсаков еще раз зловеще усмехнулся, покачал головой и, ничего не сказав, пошел к своему месту.
...Ленька и сам понимал, что будущее ничего хорошего ему не сулит. Но он не падал духом. Всю неделю он самоотверженно трудился над своим табуретом. Он похудел, осунулся, руки его чуть ли не по самые локти были разукрашены синяками, ссадинами и царапинами. Из пальцев торчали занозы. На ладонях вздулись темно-лиловые пузыри.
Самое удивительное, что в конце концов ему все-таки удалось смастерить некоторое кривоногое подобие табурета. Табурет этот с грехом пополам стоял. У него было четыре ножки. Эти ножки кое-как связывались палочками-перекладинами. На ножках лежало сиденье, не очень, правда, гладкое и не очень ровное, но все-таки такое, что на него можно было поставить рубанок или ящик с гвоздями, и они не падали. В глубине души Ленька даже гордился немножко: все-таки, плохо ли, хорошо, а сделал. Пожалуй, если закрыть один глаз, а другой немножко прищурить, — не отличишь от настоящего, образцового табурета.
В конце недели, когда Ленька отделывал поверхность табурета, пытаясь отковырнуть долотом наиболее выдающиеся сучки и заусеницы, к нему подошел инструктор.
— Ну, как? — спросил он.
— Вот, — сказал Ленька, поднимаясь и показывая на табуретку таким гостеприимным жестом, как будто приглашал мастера садиться.
Инструктор со всех сторон внимательно осмотрел Ленькино изделие.
— Это что такое? — спросил он.
— Табуретка, — с жалкой улыбкой ответил Ленька.
Инструктор еще раз обошел табуретку, тронул ее зачем-то ногой и, мрачно посмотрев на мальчика, сказал:
— Это не табуретка, товарищ дорогой. Это по-русски называется — гроб с музыкой.
— Почему? Нет... Вы посмотрите получше. Это табуретка.
— А ну, сядь на нее, — приказал мастер.
— Я?
— Да, ты.
Ленька хотел сесть, даже взялся руками за сиденье, но не решился.
— Ну, что же ты?
— Я — после...
— После? Вот то-то, брат!..
Носком сапога инструктор несильно толкнул табуретку. Она рассыпалась, как карточный домик.
— А ну, делай сызнова, — приказал мастер.
— Табуретку?
— Да, табуретку.
У Леньки запрыгали губы. Он хотел сказать, что не умеет, что он новичок, что товарищи его занимаются столярным делом уже третий год, а он никогда раньше не держал в руках пилы и рубанка, но инструктор уже повернулся и шел к другому станку.
...На следующий день на уроке геометрии, когда Ленька, согнувшись над партой, с упоением писал революционную оперу "Гнет", его вызвали к доске. Он знал, что когда-нибудь эта страшная минута наступит, и все-таки от неожиданности вздрогнул, когда услышал свою фамилию.
— Ты, ты, — сказал учитель, заметив некоторую неуверенность на Ленькином лице.
Бледный, он выбрался из-за парты, прошел, как на казнь, через весь огромный класс и, готовый ко всему, остановился у доски, вытянув по швам руки.
— Вертикальные углы, — сказал учитель.
— Что? — переспросил Ленька.
— Теорема о вертикальных углах.
Слово "теорема" звучало так же загадочно и туманно, как и слова "медиана", "гипотенуза", "биссектриса" и "катет"... Это было одно из тех слов, которые Ленька слышал каждый день, которые приводили его в священный трепет и которые ровно ничего не говорили ни уму, ни сердцу его.
Он стоял у доски и покорно смотрел на учителя.
— Ну, что же ты?.. Пиши, — сказал учитель.
— Что писать?
— Как что писать? Доказывай теорему.
Ленька взял мел и тотчас положил его на место.
— Я не знаю, — сказал он тихо.
— Как? Не знаешь теоремы о вертикальных углах?
— Нет.
— Позволь... Но ведь мы повторяли эту теорему на прошлой неделе. Ты в классе был в это время?
— Был.
— Так чем же ты занимаешься, оболтус?! — рассердился учитель.
Он быстро поднялся, прошел к Ленькиной парте и схватил заветную Ленькину тетрадку.
— Это что такое?! Смотрите-ка...
— Оставьте! Не трогайте! — закричал Ленька, кидаясь к учителю.
— Смотрите-ка... Он, оказывается, пишет стихи!..
Ленька не успел выхватить тетрадку. Учитель отстранил его рукой и громко, с выражением, прочел:
— На мотив "Бродяга Байкал переехал"... Довольно мы, братья, страдали и тяжкое бремя несли, в боях мы свободу достали...
Ленька думал, что над ним будут смеяться. Но никто не смеялся. Наоборот, товарищи, которые до сих пор почти не замечали его, смотрели на него с почтительным удивлением: черт возьми! Здорово! Оказывается, у них в классе имеется свой поэт!
Учитель вернулся к своему столу.
— Стихи можно писать и дома, — сказал он уже не так сердито. — А в классе положено заниматься уроками.
Он задал Леньке еще несколько вопросов. Ни на один вопрос Ленька не ответил.
— Нет, это бог знает что, — опять рассердился учитель. — Ты с кем живешь? Отец у тебя есть?
— Нет, — ответил Ленька.
— С матерью?
— Нет.
— Значит, ты сирота? Кто же тебя воспитывает?
— Комсомол, — сказал Ленька дрогнувшим голосом.
— Кто? — не понял учитель.
— Комсомольцы... ребята меня воспитывают...
...В тот же день в школу примчался Юрка. Ленька сам ему все рассказал.
— Ничего, ничего, — утешал его Юрка. — Не огорчайся, Леничка. Уладится. Что же ты раньше молчал, дубинка этакая?
Ему действительно удалось все уладить. Он объяснил, что Ленька полтора года не учился, что в третий класс его приняли по ошибке. Заведующая школой хотела перевести мальчика классом ниже, но Юрка не сразу согласился на это. Вечером он говорил Леньке:
— Есть, Леничка, два выхода... Или перейти во второй класс. Это выход простой и легкий. Или — остаться в третьем и догонять товарищей. Это выход сложный и почетный...
— Как же мне догнать их, — сказал Ленька, — если они уже теоремы проходят?!
— Догнать, дорогой, всегда можно. Надо только быстрей бегать, больше и веселей заниматься.
— Трудно, — сказал Ленька.
— Трудно? А ты думаешь, нашим бойцам на фронте легко? А всему нашему государству Советскому легко? Ты знаешь, кто-то подсчитал, что против нас четырнадцать держав воюет... А? А мы одни... И при этом отстали от своих врагов в некоторых отношениях не на один, а, может быть, на целых пять классов. У них — техника, у них — пушки, у них — золота до чертовой матери. А у нас с тобой одни дыры да заплаты, как на тришкином кафтане. А ведь победим-то в конце концов мы, а не они? Правильно ведь?
— Я останусь, — сказал Ленька.
Юрка засмеялся и обнял мальчика за плечи.
— Ты, Леничка, не бойся, не дрейфь, — сказал он. — Я тебе помогу.
Ленька не ушел из третьего класса. Он занимался теперь с утра до вечера. Он запретил себе читать книги. Он не ходил в городской клуб "Аудитория", когда там показывали кинокартины или выступали приезжие артисты. Даже свою оперу "Гнет" он временно забросил. Забежав после школы в коммунальную столовую и наскоро пообедав по курсантскому талончику, он шел домой, в горком, забирался с ногами на большую теплую плиту, обкладывался учебниками и тетрадками и до вечера зубрил физику, алгебру и геометрию. А вечером он шел к Юрке, или Юрка сам приходил в горком, и они опять занимались.
Выступать в роли репетитора Юрке было нелегко: еще до революции, после гибели отца, он ушел, не доучившись, из Казанского промышленного училища, и теперь ему приходилось многое воскрешать в памяти.
И все-таки через месяц Ленька уже не чувствовал себя таким дураком на уроках математики и физики. Наконец наступил день, когда он принес и с гордостью показал Юрке первую хорошую отметку по геометрии.
— Вот видишь, — сказал Юрка. — Не так все ужасно, как тебе казалось.
— Без тебя я все равно не догнал бы, — сказал, покраснев, Ленька.
— Глупости, Леничка. Паникуешь. Это у тебя, прости меня, пожалуйста, от твоего дурацкого мелкобуржуазного происхождения. Тебе индустриальная закалка нужна. Тебя бы на завод, казак, — вот это бы дело! Как у тебя, кстати, с практическими в мастерских?
— Ничего. Получше теперь.
— Табуретку сделал?
— Нет. Меня теперь Иван Иванович токарному делу учит.
В мастерских Ленька тоже начинал теперь все с азов. Инструктор Иван Иванович научил его строгать, дал ему сосновый брусок и велел выстрогать его не спеша до толщины двух дюймов. Ленька испортил пять или шесть брусков и наконец добился своего: сделал точно. Тогда его поставили к токарному станку.
Он уже входил во вкус работы. Он испытывал незнакомую ему раньше радость, когда из бесформенного куска дерева ему удавалось выточить какую-нибудь незамысловатую шпульку или балясину. Это было почти так же приятно, как сочинить удачную строчку в стихотворении или придумать рассказ. Руки его огрубели, в мышцах прибавилось силы. Приятно было, умываясь после работы, замечать, как с каждым разом все крепче и солиднее становятся твои мускулы.
...И в классе он не чувствовал себя теперь таким одиноким, как раньше. Хотя никто не читал его пьесы и стихов, о нем уже ходила по школе слава, как о сочинителе. Опера "Гнет" все еще лежала недописанная, и Ленька уже почти забыл о ней, когда однажды в уборную, куда он зашел покурить, прибежал его сосед по классу Ахмет Сарымсаков и сообщил, что Леньку зачем-то разыскивают ученики старшего класса. Оказалось, что это делегация драматического кружка.
— Это ты — сочинитель? — спросили у него.
— Я, — ответил Ленька, краснея.
— Говорят, ты пишешь пьесу? Правда?
Ленька еще больше покраснел и сказал, что — да, писал, но дописать не успел — некогда.
— Жалко. Мы думали — может быть, можно ее поставить. Восемнадцатого, в день Парижской коммуны[28], у нас вечер. Хотели разучить какую-нибудь пьеску, а пьес нет. В библиотеке — всякое буржуазное барахло, читать противно.
Было, конечно, заманчиво увидеть свою пьесу на сцене. Но дописывать ее времени уже не было. Драматический кружок выбрал какую-то детскую пьеску из старорежимного репертуара. В этой пьесе предложили играть и Леньке. Но, как видно, артистических талантов у него не обнаружили, потому что роли, которые ему давали, почему-то одна за другой переходили к другим исполнителям.
Сначала ему предложили сыграть француза-гувернера. Потом дали женскую роль — какой-то "тети Наташи, 32 лет". Но уже на первой репетиции выяснилось, что тридцатидвухлетнюю тетю Ленька сыграть не сможет. Эту роль поручили более рослому и представительному парню. На Ленькину долю осталась одна-единственная роль: мальчика Боба, 11 лет. Роль эта была очень несложная и коротенькая. Во втором действии мальчик Боб выбегает на сцену и кричит:
— Господа, господа, идемте играть в фанты!..
Леньке показалось обидным играть такую куцую роль. Он уже хотел гордо отказаться, но руководитель кружка заика Сумзин уговорил его взять эту роль.
— В-вот ув-видишь, — говорил он. — У т-тебя зд-дорово получится. У тебя ж г-госп-одское п-произношение. Ты "кв-вы-са" и "в-вубанок" говоришь. Ей-богу, никому л-лучше тебя не с-сыграть... С-согл-лашайся!
Ленька согласился. И не жалел, что согласился. По вечерам на репетициях в школьном клубе было много шума и смеха. Ученики сами делали декорации, сами шили и раскрашивали занавес. Готовили костюмы. Мастерили из пакли и мочалы дамские парики. Все волновались и ждали 18 марта. И хотя роль у Леньки была с воробьиный нос, и хотя он давно без особых усилий вызубрил ее назубок, он тоже сильно волновался. Что ждет его: слава или позор? Свистки или аплодисменты? Он не дождался ни того, ни другого. Вмешались другие события, гораздо более значительные и грозные, и Леньке так и не удалось довести до конца роль мальчика Боба, 11 лет.
...Еще в середине февраля в уезде (или в кантоне, так назывались почему-то в то время в Татарской республике уезды) вспыхнуло кулацкое восстание, так называемое "восстание вилочников". Вероятно, название это бандиты получили потому, что, не имея достаточного количества винтовок и пулеметов, они выходили бороться с Советской властью вооруженные вилами, топорами и дрекольем. Это не значит, что у них вовсе не было оружия. Были у них японские и американские ружья, оставшиеся от колчаковцев, было даже несколько пушек, а главное — были опытные командиры из бывших колчаковских офицеров и унтеров.
Вилочники наступали на Мензелинск. Небольшой красноармейский гарнизон города, вышедший на подавление мятежа, был разбит. На помощь ему прибыл мадьярский коммунистический батальон. Но силы противника намного превышали силы советских войск. Мадьяры несли потери.
Город стоял под угрозой нападения. Но среди жителей его не было паники. За эти годы люди привыкли постоянно жить на осадном положении. Война уже давно стала бытом советских людей. В городе работали учреждения. Школьники бегали на уроки. На базаре торговали пайковым хлебом, жевательной смолкой и холодными, промерзшими пирожками с кониной.
Восемнадцатого марта, в день Парижской коммуны, город разукрасился красными флагами. Жиденькая демонстрация прошла от здания кантонального Совета в городской парк — на могилы жертв революции. Вечером в городе было темно. Электростанция работала на последних крохах угля. Ток подавался только в немногие здания — в военкомат, горсовет, городской комитет партии. Неярко светились и большие окна профшколы, у подъезда которой уже вторую неделю висел плакат:
18 марта 1920 г.
В актовом зале Мензелинской
профессиональной школы
состоится
ВЕЧЕР,
посвященный 49-й годовщине
ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ.
Программа:
1. Доклад: "Великое дело Коммуны живет и победит".
2. "Проказы Жужу", пьеса в 3-х действиях.
Участвуют ученики Профшколы.
3. Танцы до 3 ч.н. под рояль.
Начало в 8 ч.в.
по новому времени.
Раздеваться не обязательно.
Спектакль уже начался. Несмотря на тревожное положение в городе, зрительный зал был набит битком. Шло второе действие. Ленька стоял за кулисами. Он был в коротеньких, очень узких штанах и в белой маркизетовой дамской кофточке с синим шелковым бантом. В этом костюме он должен был изображать мальчика Боба, 11 лет.
Волнуясь и торопливо докуривая махорочную цигарку, он прислушивался к тому, что делалось и говорилось на сцене, и ждал своего выхода.
"Господа, господа, идемте играть в фанты", — бормотал он, в тысячный раз повторяя свою роль.
Иногда он, прищурившись, заглядывал в дырку, проделанную в холщовой кулисе, и чувствовал тот ни с чем не сравнимый душевный трепет, который знаком всякому, кто хоть однажды в жизни выступал на сцене.
— П-приготовиться, т-тебе в-выходить, — пробегая мимо, крикнул потный и взлохмаченный Сумзин.
Ленька похолодел и уже шагнул к кулисе, но тут вспомнил, что по ходу действия он должен не выйти, а выбежать на сцену. Отойдя в сторону, он слегка разбежался и, услышав еще раз свою фамилию, с закрытыми глазами, как ныряльщик в воду, ринулся на сцену, чувствуя заранее весь ужас того, что должно сейчас произойти.
Темный зрительный зал. Белые пятна лиц. Сотни блестящих насмешливых глаз, устремленных на него. Вот в первом ряду завшколой Рагимова, вот математик Дернов, вот инструктор столярной мастерской Иван Иванович... Почему-то не видно Юрки.
Тут Ленька вспомнил, что по пьесе он должен выбежать на сцену "с развязной улыбкой", и, торопливо скривив на сторону рот, хриплым голосом крикнул:
— Господа!..
В эту минуту в зале вспыхнул электрический свет. Ленька замер. Ему показалось, что это он натворил какую-то беду, что-то не так сказал или не то сделал.
— Господа, — еще раз пролепетал он, развязно улыбаясь.
— Товарищи! — раздался из зала молодой взволнованный голос.
На сцене и в зрительном зале все смешалось. Люди вскакивали, оглядывались.
У входа в зал стоял, подняв над головой руку, какой-то очень бледный парень в желтом овчинном полушубке.
— Внимание! — сказал он громко. — Всех комсомольцев и кандидатов в члены РКСМ просят немедленно собраться у горкома.
Зал зашумел. Молодежь протискивалась к выходу. Молодые артисты растерянно топтались на сцене. Француз-гувернер, тетя Наташа, 32 лет и еще несколько актеров постарше, сдернув парики, устремились в зал. Все они были комсомольцы.
"А я?" — подумал Ленька. В голове у него еще сидела недосказанная реплика: "...идемте играть в фанты!"
"А ну их к черту, эти фанты", — подумал мальчик. И, кинувшись за кулисы, он сорвал с себя шелковый бант и дамскую кофточку, напялил поверх Бобиных штанов свою чертову кожу, разыскал пальто и ушанку и, на ходу застегиваясь, побежал догонять товарищей.
...На улице стоял крепкий мороз. Снег под ногами скрипел. Где-то впереди шли парни и девушки и громко пели любимую комсомольскую песню тех лет:
Борцы идеи,
Труда титаны...
Кровавой би-итвы
Час настает!..
В горкоме собрались уже все комсомольцы города. Юрка — в шапке и в полушубке — стоял на кухне у плиты и разговаривал с Марусей. Леньке показалось, что девушка плачет.
— Юра, что случилось? — еще из дверей крикнул Ленька.
— А, Леничка! — оглянулся парень. — Ну, как твои фанты-банты?
— Да ну их! — отмахнулся Ленька. — Я не про то...
— Извини, дорогой, я не смог прийти. Очень хотел посмотреть тебя на сцене, да видишь ли — дела такие...
— Какие дела? Что случилось? — повторил Ленька.
— Пока еще ничего не случилось. Но может получиться плохо. Вилочники окружили венгров, форсировали Ик, идут к городу. Комсомол объявил себя мобилизованным. Завтра уходим на фронт.
— Все? — спросил Ленька.
— Мужеска пола, конечно.
— А я?
— Еще чего?! Тебе, Леничка, я считаю, подрасти не мешает.
— Мне тринадцать лет, — грозным голосом соврал Ленька.
Юрка засмеялся, обнял его.
— Не горюй, казак. Еще повоюешь, успеешь. Впереди еще — знаешь? воевать и воевать. Дорога у нас дальняя, врагов много...
...Утром в городском комитете комсомольцам раздавали оружие. На всякий случай встал в очередь и Ленька. Когда подошла его очередь, человек, выдававший винтовки, с удивлением посмотрел на него и спросил:
— А ты куда?
Ленька привстал на цыпочки и басом сказал:
— Мне четырнадцать лет.
В это время в комнату вошел Юрка. "Ну, все пропало", — подумал Ленька. Но Юрка, увидев его, не засмеялся и не рассердился.
— Ладно, — сказал он, — выбери ему там какую-нибудь берданку завалящую. Запишем его в городскую охрану.
Охранять город остались инвалиды и комсомольцы младшего возраста.
Получив ружье и надев его на плечо, Ленька почувствовал гордость. Но это не было простым мальчишеским тщеславием. Это чувство было гораздо сильнее. Маленьким сердцем своим он понял, что ему не для забавы выдали эту старую русскую трехлинейную винтовку, не потому, что он очень просил и хныкал, а потому, что его считают своим, потому, что он принят в комсомольскую семью и ему доверяют охрану самого ценного, что есть у советского человека, — завоеваний революции.
...Вечером он прощался с Юркой. На городской площади, у жиденькой дощатой трибуны, стояли они рука об руку — у обоих за плечами винтовки — и слушали оратора. Оратор, пятнадцатилетний парнишка, хриплым, простуженным голосом кричал о том, что коммунизм победит, что гидра империализма будет раздавлена, что красная звезда Интернационала воссияет над разрушенным старым миром. Это были привычные, знакомые, митинговые слова, но сейчас, в тишине морозного вечера, они звучали как-то особенно страстно и горячо, потому что это были не простые слова, а программа, за которую люди шли умирать.
Когда оратор кончил говорить, в толпе запели "Интернационал". И Ленька, вытягиваясь на цыпочках, надрывая голос, фальшивя, торопясь и обгоняя других, кричал:
С Интег-на-цио-на-а-лом
Воспгя-нет год людской...
В тот же вечер комсомольцы ушли. Ночью Ленька стоял с тяжеленной винтовкой у дверей упродкома. Он думал о Юрке. И сердце у него замирало и ёкало.
Восстание было подавлено. Вилочники бежали в леса...
С духовым оркестром и с песнями возвращались в город его отважные защитники. Но среди возвратившихся комсомольцев не было Юрки.
Ленька искал его, бегал по городу, даже шапку потерял в суете, но Юрки он не нашел.
Дней через пять хоронили погибших бойцов.
На той же площади, у жиденькой дощатой трибуны, стояли подводы с гробами. Их было много, этих наспех сколоченных темно-бурых гробов, усыпанных елочными ветками. Леньке вспомнился Ярославль, госпиталь на Борисоглебском шоссе, неожиданная встреча с Кривцовым...
Он поборол в себе страх и еще раз пошел искать Юрку. Вместе с ним разыскивали своих мужей, сыновей и братьев несколько женщин. Женщины подняли крышку первого гроба. Ленька заглянул туда и отшатнулся. Вместо мертвого человека, покойника, он увидел груду посиневших человеческих ног, рук и отдельных пальцев.
Он убежал с площади и уже не возвращался туда. Он сидел в комитете комсомола на кухне, у жарко нагретого кипяточного бака и плакал навзрыд, не стесняясь, не сдерживая слез и не видя перед собой ничего, кроме маленького скрюченного пальца. Почему-то он решил, что этот палец, — именно Юркин палец, и мысль о том, что это все, что осталось от его друга, не давала ему успокоиться. Он плакал, как никогда в жизни не плакал.
Пришла Маруся. Она утешала его, стыдила, — он не понимал, о чем она говорит, и не чувствовал стыда.
— Уйди! — кричал он. — Отстань! Дура!
Только к вечеру товарищам удалось успокоить его, покормить, раздеть и уложить спать.
...Со смертью Юрки Ленька опять — уже в третий раз — почувствовал себя сиротой. Он заскучал. Захандрил. Даже перестал ходить в школу.
Еще в начале зимы, по совету Юрки, он отправил в Петроград два письма: одно — матери, другое — в адресный стол с просьбой разыскать мать.
Ни на то, ни на другое письмо ответ не пришел.
Он писал няньке, писал Василию Федоровичу Кривцову в деревню Чельцово. Ответа не было.
А в воздухе уже пахло весной.
И вот Ленька надумал еще раз сделать попытку добраться до Питера.
Он знал, что его не отпустят, во всяком случае будут советовать ждать навигации, поэтому он решил уйти потихоньку.
В самом начале апреля он ушел из комитета. Он ничего не взял с собой, кроме письма матери и тех вещей, которые ему подарили за зиму комсомольцы. Уходя, он оставил письмо на имя Маруси. Он благодарил ее и других товарищей за все, что они для него сделали, и обещал вернуться, когда найдет мать. Через много лет из какого-то случайного обрывка газеты он узнал, что в конце 1920 года Маруся и еще две комсомолки-политработницы, которых он знал, погибли, замученные в белогвардейском плену.
ГЛАВА IX
Добраться до Петрограда Леньке и на этот раз не удалось.
Навигация еще не открылась, пароходы по Каме не ходили, и ему предстояло идти пешком несколько десятков верст до города Бугульмы. Оттуда он собирался ехать по железной дороге.
Он шел налегке, денег, чтобы прокормиться, было у него достаточно; иногда он даже позволял себе роскошь и за несколько тысяч рублей присаживался на подводу к какому-нибудь проезжему крестьянину. Но потом ему показалось, что платить за такое удовольствие слишком жирно. Он стал выжидать подводчиков с грузом. Наметив подходящую жертву, он незаметно пристраивался сзади, а если присесть было некуда, вставал на концы полозьев и ехал спокойно, как на лыжах. Если возница замечал его, ему доставалось один-два удара кнутом. За высокой же кладью — за сеном или за дровами — ему удавалось иногда проехать на дармовщинку и пять верст, и шесть, и даже больше...
Но однажды ему не повезло.
Холодным, метелистым вечером, в сумерках, он спускался с горы. Лень этот был не очень удачный. Леньке пришлось много пройти пешком, попутчиков не было, он устал. Вдруг он услышал за своей спиной скрип полозьев. Оглянувшись, он увидел, что под гору рысью летит маленькая коренастая лошадка, запряженная в широкие башкирские розвальни. Ленька сошел с дороги и пропустил подводу. Он обратил внимание, что возница — безусый горбоносый старик в овчинном тулупе — дремлет. Заметив это, он побежал за санями с намерением вскочить на полозья. Обут он был в легкие татарские сапоги с голенищами, подбитые изнутри козьим мехом. Эти сапоги ему подарили комсомольцы. Он очень любил и берег их.
На полном ходу, когда лошадь с разбегу понесла вскачь, он вскочил на концы полозьев. В эту минуту сани подбросило на ухабе, левая Ленькина нога соскользнула и попала под полоз. От сильной боли он на несколько секунд потерял сознание. Очнувшись, он увидел себя сидящим в снегу — посреди дороги. На левой ноге его болтались остатки голенища и грязные лохмотья портянки. Весь низ сапога — вместе с подошвой и каблуком — куда-то исчез. Пересиливая боль, Ленька отправился его искать. Идти полубосым по снегу было холодно. Тем не менее он искал свой опорок до темноты, пока не заболели глаза. Но так и не нашел его. По-видимому, его или отбросило в сторону, в поле, или он прицепился к полозу и уехал неизвестно куда.
От огорчения Ленька готов был плакать. Он присел у дороги, разорвал по шву голенище и обмотал им больную, уже распухшую ногу.
Поздно за полночь, хромая, доплелся он до какой-то деревни. Постучал в первую попавшуюся избу, попросился ночевать. Не особенно охотно его впустили. Ночью он проснулся от холода. Его трясла лихорадка. Болела голова, болели спина, поясница... Дышать было трудно, — горло словно веревкой было перетянуто... Он потерял память.
Никто не лечил его. Но люди, к которым он попал, оказались хорошими, добрыми людьми.
В солнечный весенний день Ленька очнулся, открыл глаза и увидел возле себя немолодую, очень смуглую женщину с глиняным кувшином в руках. Ленька закашлялся.
— А ну-кася, выпей-ка молочка, — сказала женщина.
Ленька прильнул губами к теплой щербатой крынке и долго, не отрываясь, пил душистое, пахнущее дымом топленое молоко.
Потом он опять забылся. Просыпаясь, он видел возле себя все то же доброе, смуглое, почти коричневое лицо. Он пил молоко. Кашель душил его уже не так сильно.
Он выздоровел. Чем он хворал, в то время не знали ни он сам, ни те, кто за ним ухаживал. Много лет спустя Леньку просвечивали рентгеном. И врач, который разглядывал на экране его грудную клетку, заметил, что у него был плеврит, и спросил, когда это было. Ленька не помнил, чтобы у него был плеврит, и, подумав, сказал, что, наверное, это было в двадцатом году.
— Плеврит великолепно зарубцевался, — сказал врач и поинтересовался, кто именно лечил Леньку, какой профессор.
— Лечил меня не профессор, — сказал Ленька, — лечила меня Марья Петровна Кувшинникова, бедная, неграмотная крестьянка...
О Марье Петровне и Василии Емельяновиче Кувшинниковых он сохранил на всю жизнь добрую, благодарную память. Эти люди, которые спасли ему жизнь, не позволили ему и после выздоровления их покинуть. Они предложили ему работать у них.
Ленька остался. Кувшинниковы жили одни. Единственный сын их служил в Красной Армии. Родители очень любили его, посылали ему письма и посылки. Но впоследствии выяснилось, что в это время его уже не было в живых. Он погиб в бою на деникинском фронте.
У Кувшинниковых Ленька работал. Ухаживал за скотиной. Ходил за водой. Окапывал гряды на огороде. Помогал по хозяйству. Но работать его никто не принуждал, хочешь — работай, не хочешь — гуляй, читай, сочиняй песни...
Ленька писал стихи. И хозяева очень гордились им. И по вечерам приглашали гостей — послушать Ленькины сочинения.
...Это лето было исключительно жаркое. В поволжских губерниях начался голод. И здесь — под Уфой — тоже было не очень хорошо с урожаем. Все погорело, посохло, одни только яблоки уродились в изобилии. Этими яблоками сырыми, сушеными, пареными и вареными — и питались, главным образом, местные жители.
Потом появились беженцы — из Самарской, Саратовской и даже Астраханской губерний. Целыми толпами ходили эти страшные, изможденные люди из деревни в деревню, выпрашивая подаяние и рассказывая спокойными, заученными словами про те ужасы, какие им пришлось перенести у себя на родине. Ленька долго не мог забыть женщину, которая, сидя на земле, тихим голосом рассказывала окружившим ее бабам о том, как на ее родине в одной семье зарезали, сварили и съели двухмесячную девочку. Запомнилась ему и другая женщина. На желтое, костлявое тело ее была накинута рваная холщовая рубаха. За руку она вела пятилетнюю девочку, которая была еще костлявее и желтее, ноги у девочки были тоненькие, как веточки, ручки, как у годовалого ребенка. Женщина просила милостыню. Марья Петровна вынесла ей в глиняной мисочке остатки борща и поставила мисочку на приступку. Женщина упала на колени и, стоя на четвереньках, как собака, чавкая и захлебываясь, лакала борщ прямо из миски, а девочка ползала рядом и тоже старалась приладиться к мисочке...
Ленька так полюбил своих новых хозяев, что ему и думать о расставании не хотелось. Но однажды Василий Емельянович поехал в Бугульму — добывать соль. Он взял с собой Леньку. По пути им пришлось переезжать ночью железнодорожное полотно. В это время проходил пассажирский поезд. Ленька услыхал паровозный гудок, увидел зеленые вагоны и пассажиров, которые выглядывали из окошек, и у него так защемило сердце, так захотелось в город, на родину, в Петроград, что он расплакался и сквозь слезы сказал об этом Василию Емельяновичу. Тот огорчился, даже обиделся немного, как показалось Леньке, но ничего не сказал и только, помолчав, спросил:
— Как же ты без сапог-то поедешь?
Ленька ходил босиком, но в эту минуту ему казалось, что он и без штанов поехал бы.
На базаре они расстались. Ленька пошел, оглянулся... Василий Емельянович стоял не двигаясь, раздвинув ноги, и похлопывал себя кнутом по голенищу.
— Марье-то Петровне что передать? — крикнул он Леньке вслед.
Ленька остановился. От стыда у него загорелись уши. Он забыл даже привет передать Марье Петровне.
— Передайте, — закричал он, — передайте, что я... что я еще вернусь!
— Ну-ну... Будем ждать, — улыбнулся Василий Емельянович.
Ленька не сдержал слова. Людей этих он никогда больше не видел.
...Он пришел на вокзал. Билетная касса была закрыта. Тысячи людей сидели на вокзале в ожидании поезда. Но никто ему не мог сказать, когда пойдет поезд на Петроград.
— Садись, куда сядешь, — посоветовал ему какой-то бородач. Куда-нибудь привезут — и то спасибо.
Ленька послушался бородача. Он втиснулся без билета в первую попавшуюся теплушку поезда, который остановился у бугульминского вокзала. Этот поезд привез его в Уфу. Там Ленька пересел на другой поезд. Потом еще пересел. И еще... Географию он знал неважно и даже не имел представления, в какую сторону ему нужно ехать. Таким образом, скитаясь из города в город и пересаживаясь с одного поезда на другой, он добрался до города Белгорода. Приехал он сюда на паровозном тендере, отыскав там очень удобное лежачее место — под нефтяным баком.
В Белгороде, когда он пытался высунуть голову из своего одноместного купе, чтобы подышать воздухом, его заметил дежурный, агент ЧК.
Леньку забрали. На допросе он объяснил, что едет разыскивать мать. Ему не поверили.
— Все вы так говорите, — сказал начальник пикета.
— Кто это все? — спросил Ленька.
— Малолетние воры — вот кто...
Ленька по-настоящему обиделся. Он уже давно не занимался воровством. И думал, что ему и не придется больше этим заниматься. Он расплакался...
Тогда начальник пожалел его и приказал дежурному написать бумажку, по которой Ленька мог ехать до Петрограда без билета.
В помещении пикета висела на стене большая железнодорожная карта России. Пока дежурный сочинял мандат, Ленька разглядывал карту. Он очень удивился, когда узнал, что попал совсем не туда, куда ехал, и что город Белгород находится на Украине.
В бумажке, которую ему выдали, было сказано, что он — беспризорный и едет в Петроград к матери. Всем организациям и учреждениям предлагалось оказывать ему помощь. Вместе с бумажкой начальник дал ему — от себя миллион рублей. Кроме того, его накормили хлебом, а какой-то агент дал ему еще две дольки чесноку и посоветовал натереть хлеб. Леньке это блюдо очень понравилось, а чесночный запах заставил его вспомнить о матери, и ему до смерти захотелось в Петроград.
Спать его устроили в каком-то пустом бараке, где помещались до этого раненые. Там пахло йодоформом, повсюду валялись ошметки бинтов, марля, вата, а на бревенчатых стенах висели обрывки плакатов.
ДОБЬЕМ ДЕНИКИНА!!!
НЕ ПЕЙТЕ СЫРОЙ ВОДЫ!
ТИФОЗНАЯ ВОШЬ — ВРАГ РЕВОЛЮЦИИ!
Ленька ночевал в бараке один. Его закрыли на ключ.
Ночью он проснулся от какого-то шума. Или кто-то толкнул его. Он не сразу понял, в чем дело. Приподняв голову и протерев глаза, он увидел, что в потемках кто-то крадучись бежит к окну.
— Эй, кто это? — закричал Ленька.
Но человек уже распахнул окно и выпрыгнул в маленький привокзальный садик. У Леньки слипались глаза. Пробормотав что-то, он повалился на грязный, зашарканный пол и заснул.
Разбудили его чекисты.
— Эй, путешественник, вставай. Поезд подходит.
Ленька не сразу сообразил, где он и что с ним. Заспанный, он выбежал на залитую солнцем платформу. Там уже толпился народ в ожидании поезда. Ожидающих было так много, что Ленька представить не мог, как ему удастся проникнуть в вагон. Когда подошел поезд, орды пассажиров с мешками, корзинами и узлами ринулись на приступ вагонов. Как Ленька и ожидал, его сразу же затолкали и оттеснили в сторону. Но тут на помощь ему пришел дежурный чекист. Он не только помог Леньке войти в вагон, но и усадил его на очень хорошее место, у самого окна. В вагоне на Леньку сразу же стали смотреть с уважением. А когда поезд тронулся, какая-то женщина-спекулянтка стала угощать его яблоками и вяленой воблой.
Очень скоро в вагоне поднялась суматоха. Пронесся слух, что по поезду идет контроль. Безбилетные пассажиры, которых в то время было гораздо больше, чем платных, кинулись спасать свои души. Кто прятался в уборных, кто залезал под лавки, а некоторые, у которых, наверно, и вообще совесть была нечиста, даже соскакивали на ходу с поезда.
Ленька сидел совершенно спокойный. Он умел прятаться от контроля, но сейчас в этом не было необходимости. Он жевал соленую, твердую, как подошва, рыбу, смотрел в окно и высчитывал, через сколько дней он будет в Петрограде.
В вагоне появился контроль: поездной кондуктор, работник ЧК и несколько красноармейцев с винтовками.
— Предъявите ваши документы! — возгласил кондуктор.
Те, у кого документы были, полезли в карманы, за пазухи, стали расстегивать кошельки, развязывать узелки; а те, у кого документов не было, забились поглубже под лавки, съежились там и перестали дышать.
У Леньки документы и деньги хранились в нагрудном кармане зеленой рубахи, которую ему когда-то перешила из солдатской гимнастерки Маруся. Когда подошла его очередь и кондуктор спросил: "А у тебя что?", он сунул руку в карман и сказал:
— Пожалуйста.
Но сразу же почувствовал, — словно рыбья кость встала у него поперек горла. В кармане ни денег, ни документов не было. Соскочив с лавки, он принялся рытье" в других карманах — карманы были пусты.
— Ну что же ты? — сказал кондуктор.
— Сейчас, сейчас, — бормотал Ленька. — Одну минуточку. У меня есть мандат... Мне Чека выдала...
Он рылся за пазухой, выворачивал рваные карманы штанов, тряс штанину нигде мандата не было. Только тут он вспомнил ночную сцену в бараке и понял, что деньги и документы у него украли. Губы у него затряслись. Он заплакал.
— Товарищи, — проговорил он сквозь слезы, — меня обокрали.
— Брось заливать, — сказал кондуктор. — Это тебя-то обокрали? Ты сам небось чистишь карманы — по первой категории...
На ближайшей станции Леньку высадили. Когда он выходил из вагона, вдогонку ему неслись насмешки, ругательства и издевательства. Особенно старалась женщина, которая угощала его яблоками и рыбой. Поезд уже тронулся, и Ленька стоял один на пустой платформе, а она все еще высовывалась из окна и хриплым от негодования голосом кричала:
— Паразит!.. Обманщик!.. Воблу жрет, а у самого документов нету...
Ленька показал ей кулак, присел на корточки у кипяточного бака и снова заплакал. В эту минуту он услышал у себя над головой грубый мальчишеский голос:
— Эй, плашкет! Чего сопли распустил?
Перед Ленькой стоял ободранный загорелый паренек — его одногодок или чуть побольше.
— Нашпокали? — сказал он.
Ленька перестал плакать, угрюмо посмотрел на паренька и сказал:
— Кого нашпокали? Никого не нашпокали.
— Высадили?
— Высадили, — сказал Ленька.
— Чего ж плакать? Балда! Ты чей — одесский?
— Петроградский, — сказал Ленька, все еще дичась и с любопытством разглядывая паренька. У того было грязное, шелудивое, перемазанное мазутом, но очень красивое белозубое лицо.
— Если ты петхогхадский, — сказал он, передразнивая Леньку, — то очень приятно. В Петрограде, говорят, на ходу подметки срезают. Это правда?
— Не слыхал. Не знаю, — ответил Ленька.
— Ты что — втыкаешь?
Ленька не понял, но сказал:
— Нет.
— Ну и дурак, если нет. Давай на сламу работать?
— На какую сламу?
— Ну, на пару. На бану майданы резать. Айда?
— Айда, — сказал Ленька, хотя и тут не понял, на каком бану и какие майданы ему предлагают резать. Почему-то ему показалось, что бан что что-то вроде баштана, а майдан — арбуз или тыква по-украински. Но очень скоро он понял, что речь идет не о тыквах и не об арбузах. Белозубый паренек, которого звали Аркашкой, несмотря на свои четырнадцать лет, был уже очень опытным железнодорожным вором. Он предложил Леньке войти с ним в компанию и воровать на вокзалах и в поездах вещи у пассажиров.
Леньку не бросило в жар от этого предложения. Нет, после всего, что с ним было, он уже не мог смотреть на воровство с тем презрением, которого оно заслуживает. Но, выслушав Аркашку, он, не задумываясь, сказал:
— Нет, к чегту.
И пошел.
— Фасон берешь? — крикнул ему вдогонку Аркашка. — Ну, что ж... пожалуйста... без тебя обойдемся...
Подошел поезд. Ленька вскочил на ходу на подножку, пробрался в вагон. На следующей станции его высадили, надавав пинков.
Приближался вечер, заморосил дождь. Станция была маленькая, зала для пассажиров при ней не было.
Ночевал Ленька в виадуке под железнодорожным полотном.
На следующий день утром он голодный сидел на скамеечке у станционного домика и думал: что ему делать? Ни денег, ни документов у него не было. Пойти в милицию? Проситься в детдом? Или на какую-нибудь новую "ферму"? Нет, нет, только не это...
Он уже начал жалеть, что отказался от предложения Аркашки, как вдруг услышал рядом с собой знакомый голос:
— Здорово, фрайер!
Позже Ленька со стыдом вспоминал, как он обрадовался, узнав белозубого Аркашку.
— Обедал? — спросил тот.
— Нет, — пробурчал Ленька.
— Завтракал?
— Нет.
— Значит, прямо ужинать собираешься?
Ленька угрюмо ухмыльнулся.
— Ну как, — втыкаем? — спросил Аркашка, присаживаясь возле него на лавочку.
Не было рядом с Ленькой сильной руки, которая бы могла поддержать его. Не было матери, не было Юрки, не было Василия Федоровича Кривцова...
Вокруг было пусто, опять моросил дождь.
— Ну, что ж... Втыкаем, — сказал Ленька, тряхнув головой.
...С первым же поездом они отправились "на гастроли", как говорил Аркашка. На станции Казачья Лопань Аркашка унес из-под самого носа зазевавшегося пассажира большой кожаный чемодан. В чемодане, который они открыли на пустыре за железнодорожными складами, оказались такие богатства, что Ленька рот разинул. Здесь лежало хорошее, тонкого полотна мужское белье, яркие галстуки, крахмальные воротнички, бритва, махровое полотенце, душистое мыло, бутылка вина, белая булка, английские консервы, шоколад, несколько лимонов — вещи, которых Ленька несколько лет и во сне не видел. На самом дне чемодана в коробке из-под зубного порошка были запрятаны маленькие дамские часы на золотой браслетке.
Даже у видавшего виды Аркашки глаза разбежались при виде этих богатств.
— Ничего, ничего, пофартило, — говорил он, лихорадочно роясь в чемодане. — У тебя рука легкая. Из тебя человек выйдет, Ленька! А?
Эта похвала не очень порадовала Леньку.
Он спросил: у кого Аркашка украл этот чемодан? Что это за человек, который в голодные военные годы ест белый хлеб, сардинки и лимоны?
— Тоже, наверно, вор, — сказал Аркашка. — Или какой-нибудь буржуй недорезанный.
Ленька почему-то вспомнил Волковых. То, что вещи эти — буржуйские, немного утешило его.
— В общем — плевать! — сказал Аркашка. — Сейчас это все наше.
Он смеялся, потирал руки и без конца повторял:
— Ничего, ничего... Поживем, парень! Погуляем на славу!..
Хотя Ленька не принимал никакого участия в этой краже, Аркашка по-братски разделил с ним все награбленное. Они уехали в Харьков. И там около месяца жили припеваючи, проедая деньги, вырученные от продажи часов и других вещей.
Но скоро они расстались. Аркашка покинул Леньку. То ли ему показалось, что Ленька невыгодный компаньон, так как Ленька воровал хуже и не так удачно, то ли он ему просто надоел, но однажды Ленька проснулся и увидел, что Аркашки нет. Ночевали они на бульваре — в кустах акации. Ленька посидел, подождал и, забеспокоившись, решил пойти поискать товарища. Он уже хотел подняться, когда машинально сунул руку в карман, где лежали у него заколотые французской булавкой деньги. В кармане он нащупал что-то холодное, мягкое и пушистое. От обиды и отвращения он закричал. Оказалось, что Аркашка не только обокрал его, вынув из кармана все деньги, но еще и поиздевался над ним, засунув в карман маленького дохлого котенка.
...Расставшись с Аркашкой, Ленька не горевал. Но жизнь его уже опять пошла кувырком.
Споткнуться и упасть в яму нетрудно, выкарабкаться из нее гораздо труднее.
Стыдно, горько и больно вспоминать Леньке эту осень, зиму и лето, которые он провел в Харькове и в других городах Украины... Почти год скитался он, вместе с тысячами таких же бездомных ребят, по разоренным войной местам. Не раз побывал он за это время в отделениях милиции, в железнодорожных чека, в арестных домах угрозыска...
Иногда думал: как же это так получилось? Был честный мальчик, учился, читал, писал стихи... И вот все это рассыпалось, ничего не осталось, он вор, бродяга, отпетый человек.
Он делал над собой усилия, пробовал не воровать, работать. Ходил на вокзал, предлагал пассажирам помочь снести вещи. Но вид у него был такой, что пассажиры пугались.
— Знаем, — говорили они, — знаем, куда ты их снесешь...
И, оттолкнув Леньку, они сами тащили свои корзины и чемоданы, до трамвая или до тележечника.
Пробовал он и торговать. Когда начался нэп и открылась частная торговля, он купил у знакомого китайца сотню дешевых самодельных папирос, вышел на главную улицу и стал кричать:
— А вот кому папигос! Папигос кому?!
Но пока торговал, больше выкурил сам, чем продал. Вечером подсчитал убытки и понял, что частный капиталист из него не выйдет.
О возвращении в Петроград он уже не мечтал. Ему казалось, что он уже конченый человек, он не мог представить себе, как он встретится с матерью или сестрой и как посмотрит в глаза им...
...Но в конце лета снова напала на него тоска по родине. Он уже измотался, устал... По вечерам он с завистью поглядывал на освещенные окна, за которыми текла нормальная человеческая жизнь: люди сидели за самоварами, пили чай, матери ласкали детей.
Как-то под вечер он сидел у железнодорожного полотна на станции Сортировочная, ел вишни. И вдруг, неожиданно для самого себя, решил:
— Поеду в Петроград.
Он не стал заходить в город, — там не было у него никаких дел, никто не поджидал его там, и не с кем ему было прощаться. Он дождался первого поезда, вскочил на ходу на подножку, с подножки перебрался на буфер, а оттуда — по лесенке — на крышу. До Курска он ехал без приключений. Ночь была холодная, он сидел, скорчившись, у трубы вентилятора и думал о Петрограде. Глаза у него слипались, но спать было нельзя, так как во сне очень легко сверзиться с покатой крыши, а кроме того, подъезжая к станции, надо перебираться на сторону, противоположную платформе, чтобы не заметил с платформы агент. Но все-таки Ленька заснул. И только чудом каким-то не свалился и не попал под колеса. В Курске его сняли с крыши. Полтора часа он просидел в пикете, дал обещание зайцем больше не ездить и был отпущен. Добравшись до станции Курск-товарная, и отыскав подходящий поезд, он забрался на паровозный тендер и зарылся в уголь. Так, пересаживаясь с поезда на поезд, — на крышах, на буферах, на вагонных рессорах, в угольных ящиках, в нефтяных баках, — он ехал на родину. Однажды утром он проснулся и, заметив, что поезд стоит, высунулся наружу. Он увидел знакомый перрон и высокую застекленную крышу Николаевского вокзала. Сердце его застучало. Он был в Петрограде.
ГЛАВА X
Он шел по Невскому — оборванный, длинноволосый, босой, перепачканный углем и нефтью — и ему не верилось, что он шагает по родной земле. Слезы текли по его лицу, оставляя белые полосы на перемазанных углем щеках.
Больше трех лет прошло с тех пор, как он уехал из этого города. И вот он возвращается. Но разве это тот самый Ленька идет, который нотой 1918 года подъехал на извозчике к Николаевскому вокзалу и, увидев этот вокзал, с трепетом подумал: неужели ему и правда предстоит такой далекий путь, неужели он на все лето едет в деревню?
Нет, это уже не тот Ленька.
Он шагает по Невскому и с удивлением думает, почему это никто не смотрит на него и не показывает пальцами. Но таких, как он, на улицах очень много. Да и сам Петроград выглядит не таким чистеньким и нарядным, каким он выглядел четыре года назад. Город еще не оправился от разрухи. Уже отгремели пушки, но пахнет еще порохом гражданской войны. Булыжные мостовые разворочены. В витринах зияют огромные трещины. Люди выглядят больными и голодными, хотя на улицах уже попахивает жареными пирожками и над магазинами красуются новенькие, нарядные вывески: "Кафе", "Хлеб и булки", "Продукты питания"...
С трепетом поднимался Ленька по широкой полутемной лестнице, где каждая ступенька и даже каждая выбоина на ступеньке были знакомы ему и напоминали детство.
Клеенка на дверях была ободрана. Звонок не звонил. Ленька стучал минут пять. Наконец дверь наполовину отворилась. Из-за цепочки выглянула незнакомая женщина, старуха с завязанной щекой. У Леньки срывался голос, когда он спросил, дома ли Александра Сергеевна.
— Пошел, пошел, — ответила ему старуха и захлопнула дверь.
Ленька опешил, но, подумав и подождав, опять постучал. Женщина, не открывая двери, стала ругаться. Она заявила, что если Ленька сию же минуту не уйдет, она позвонит в домовой комитет и его заберут куда следует.
— Вы не ругайтесь, пожалуйста! — закричал Ленька. — Вы мне только скажите: Александра Сергеевна здесь живет?
— Никаких Александр Сергеевн здесь нету, — сказала женщина и, помолчав, добавила: — Уходи, пожалуйста...
Ленька, понурый, поплелся вниз. Он перешел улицу и заглянул в окна второго этажа. За окном — в бывшей детской — висела клетка с чижиком или канарейкой. На подоконниках стояли горшки с цветами. Форточка в бывшей столовой была заткнута полосатой подушкой.
До вечера Ленька бродил по городу. Вечером он решил поискать кого-нибудь из родных. На Екатерининском канале[29] жила его тетка, мамина сестра. Ни номера дома, ни номера квартиры он не помнил. Только случайное детское воспоминание помогло ему отыскать этот дом. На высокой глухой стене он увидел огромный железный плакат: "Какао Жорж Борман". Толстый розовощекий повар в белом колпаке и в таком же переднике, зловеще улыбаясь, помахивал над головой банкой с какао. Ленька вспомнил, что этого повара он почему-то страшно боялся в детстве. Когда они с матерью подъезжали или подходили к этому дому, он отворачивался и зажмуривался. Этот повар снился ему иногда по ночам, как и позеленевший от петербургских туманов памятник композитору Глинке у Мариинского театра.
...Парадный подъезд был закрыт. Ленька поднялся по черной лестнице и позвонил. Облако вкусного пара ударило ему в лицо. На пороге стояла перед ним с поварешкой в руке его тетка. Не слишком храбро смотрела она на маленького оборванца.
— Что тебе нужно, мальчик? — спросила она, попятившись.
Ленька шагнул вперед. Сорвал с головы рваную кепку с полуоторванным козырьком, улыбнулся и сказал:
— Неужели не узнаете, тетя Рая?
Тетка всплеснула руками:
— Леша?!
Кинувшись с объятиями к Леньке, она остановилась на полдороге. Обнять и поцеловать его она не решилась. На ней было чистое нарядное платье и розовый в белую горошинку передник.
Конечно, первый вопрос, который Ленька задал, был:
— Что с мамой? Где она?
Он с ужасом ждал страшного ответа. И вдруг он видит, что тетка повернулась к дверям, высунула голову в коридор и кричит:
— Шурочка!
Он не успел опомниться и сообразить, в чем дело, как уже очутился в объятиях матери. Мать целовала его, плакала и смеялась, и черные угольные пятна покрывали ее лицо, руки и выгоревшее ситцевое платье.
— Боже мой! Какое счастье, — говорила она, прижимаясь щекой к его взлохмаченной грязной голове. — Лешенька... Сынок... Мальчик... Где ты был? Ведь мы давно похоронили тебя. Васюша был уверен, что тебя волки съели на этой ужасной ферме.
— А где он?
— Кто? Вася? Он с нами живет. Он скоро придет. Он у нас уже совсем взрослый — не узнаешь его — работает в булочной. А эту ты узнаёшь?
В дверях стояла и с недоумением смотрела на происходящее десятилетняя курносенькая девочка, в шерстяном клетчатом платьице, из которого она давно успела вырасти.
— Мама, кто это? — проговорила она испуганно.
— Лялька! Да ты что — не узнала?
Девочка вскрикнула, завизжала и кинулась целовать брата. Леньку вымыли в ванне. Мать сама остригла ножницами его сбившиеся в колтун космы, сама отскребывала его костлявую, покрывшуюся черной коркой спину жесткой греческой люфой.
Через полчаса пришел с работы Вася. Он еще больше возмужал, вытянулся, был на полголовы выше Леньки. Когда они целовались, в нос Леньке ударил приторный запах кондитерской: несвежего масла, помадки, каких-то эссенций... Волосы у Васи были осыпаны мукой, к пальцам у ногтей пристало засохшее тесто.
— Ты что так рано сегодня, Васюша? — спросила Александра Сергеевна.
— Мы не работали, у нас забастовка, — басом ответил мальчик.
— Какая забастовка?
— Хозяйчик договор не подписал, — важно объяснил Вася, и Ленька с удивлением и с уважением посмотрел на младшего брата.
За чаем, когда собралась вся семья, начались взаимные расспросы. У каждого было что рассказать.
— Мы думали, что тебя волки загрызли, — говорил Вася. — Я два дня по лесу ходил, искал тебя. Ты почему, чудак, мне-то не сказал, что бежать собираешься?
— Я боялся. Ведь Дракон обещал убить меня.
— А что ж, и убил бы... Ему ничего не стоило. Между прочим, усмехнулся Вася, — ты знаешь, что с этим Драконом случилось?
Ленька вздрогнул.
— Что?
— А вот что!.. — и Вася, вместо ответа, сложил из четырех пальцев решетку.
— Арестовали?
— Всех. И Дракона, и помощников его... Конопатого помнишь? В очках такой... И его взяли за шкирку. Оказалось, что все они — бывшие офицеры, белогвардейцы...
— Погоди, — сказал, побледнев, Ленька. — А как его фамилия?
— Чья?
— Директора.
— Гм... Шут его знает. Забыл. Ах да, вспомнил! Поярков Николай Михайлович.
— Я так и знал! — воскликнул Ленька.
— Что ты знал?
— Мама, ты помнишь?
— Кого? — удивилась Александра Сергеевна.
— Пояркова.
— Нет, мальчик. Откуда же мне знать его?!
— Ну, что ты! Офицер... В Ярославле... Сын хозяина гостиницы. Еще мы на пароходе с ним встретились. Еще я его отпустил, дурак...
— Не может быть. Наверно, это совпадение, — сказала Александра Сергеевна.
— Не совпадение. Он только бороду отрастил. А я его еще на ферме узнал... Честное слово, я все время думал, что это он. Теперь бы я его, негодяя, не выпустил, — сквозь зубы сказал Ленька и увидел, что мать с удивлением и даже с испугом покосилась на него.
Рассказала коротко и она свою историю. И на ее долю тоже выпало немало передряг и злоключений.
...Ранней весной девятнадцатого года Александра Сергеевна выехала из Петрограда, сдав на вокзале в багаж несколько ящиков электрических лампочек, ноты, книги, канцелярские принадлежности и другие вещи, за которыми она и ездила в командировку. Поезда, которыми она ехала, шли медленно, как и полагалось им ходить в те дни, но почти до конца пути все было благополучно, и Александра Сергеевна рассчитывала, что через день-другой она увидит и сестру и детей.
До Уфы оставалась одна ночь пути. Ночью Александра Сергеевна проснулась от выстрелов, криков и стонов. На поезд напал дезертирский отряд. Бандиты разграбили поезд, расстреляли всю поездную прислугу, убили и ранили многих пассажиров, а человек двадцать увели с собой.
Александре Сергеевне удалось спастись. Вместе с соседкой по купе, известной уфимской коммунисткой, она спряталась на тендере, зарывшись с головой в угольную крошку. Когда бандиты скрылись, женщинам полуодетым пришлось идти восемнадцать верст до ближайшей станции. Дорогой Александра Сергеевна простудилась. В Уфе ее положили в больницу. Там от соседки по койке она заразилась сыпным тифом и прохворала больше двух месяцев. Из больницы выписалась летом. Стала разыскивать багаж. Оказалось, что багаж ее случайно шел с тем же поездом, на котором она ехала последний перегон и который подвергся разграблению. Отряд чекистов, высланный на поимку бандитов, обнаружил в окрестных деревнях большое количество электрических лампочек. Лампочками играли дети. Это помогло напасть на след бандитской шайки. Бандиты были схвачены. Но розыски вещей продолжались долго. Несколько раз Александра Сергеевна писала сестре, два раза писала Леньке, но почта в те годы работала скверно, и письма ее не доходили.
Когда в конце лета Александра Сергеевна вернулась к семье, она узнала от Ляли, что три дня тому назад Ленька бежал из города, взяв направление на Питер.
...Пришлось и самому Леньке рассказать о себе. Конечно, он рассказал не все, добрую (или, вернее, недобрую) половину утаил, но его и так слушали, разинув рты...
— Леша, а на какие же деньги ты жил это время? — спросила у него Ляля, когда Ленька кончил свой рассказ.
— Глупая... помолчи, — перебил ее Вася.
Ленька почувствовал, что краснеет. Губы у него запрыгали. Он сам удивился. Ему казалось, что за эти годы он уже разучился краснеть и смущаться.
Александра Сергеевна быстро поднялась и вышла из комнаты.
— Леша! На минутку, — позвала она его.
Он вышел. Она обняла его, крепко поцеловала и сказала на ухо:
— Ведь больше этого не будет, мальчик?
— Чего? — пробормотал Ленька.
— Ты понимаешь, о чем я говорю. Я не хочу тебя осуждать. Я знаю, как много трудного тебе пришлось перенести. Но ведь теперь с этим кончено? Правда?
— Да, — сказал Ленька, прижимаясь к матери. И в первый раз за этот день он выговорил слово, которое уже много лет не произносил вслух. — Да... мамочка, — сказал он задрожавшим голосом.
Она улыбнулась, потрепала его по щеке.
— Не унывай, детка. Все устроится. Скоро начнутся занятия, поступишь в школу, будешь учиться...
— Нет, — сказал Ленька.
— Как? Ты не хочешь учиться?
— Я хочу работать, — сказал Ленька.
...Семья лишь недавно вернулась в Петроград. Квартиру их, как бесхозную, заняли за это время другие люди. Александру Сергеевну с ребятами приютила сестра. Здесь же — в прихожей на старом "казачьем" сундуке устроился и Ленька.
Жить было трудновато. Мать еще нигде не работала, перебивалась случайными уроками. Иногда по вечерам она заменяла знакомую тапершу — играла на пианино в маленьком частном кинематографе на Лиговке.
Ленька искал работу. Вася предложил помочь ему устроиться в той же кондитерской на Вознесенском, где работал он сам. Но Ленька отказался. Он мечтал о другом — о заводе.
Ему запомнилась фраза, сказанная когда-то в Мензелинске покойным Юркой:
— Тебе, Леничка, индустриальная закалка нужна...
О работе у станка, на заводе, он теперь мечтал, как недавно еще мечтал о возвращении в Петроград, а некогда мечтал о кругосветном путешествии, о разбойниках или о побеге на фронт.
Но найти работу в те годы было не так-то просто. Тогда не висели, как нынче, на каждом углу объявления: требуются плотники, требуются маляры, требуются инженеры, требуются подсобные рабочие... В те годы не работа искала человека, а человек искал работу. Страна еще не успела оправиться от жестоких ран, которые нанесли ей империалистическая война и иностранная интервенция. Еще не все заводы и фабрики работали — не хватало сырья, не было топлива. Даже опытные, кадровые рабочие, возвращаясь из армии домой, не сразу находили место. А у Леньки не было никакой специальности, никакой квалификации. И все-таки он не падал духом — искал. Целыми днями он скитался по городу. Он ходил на окраины — за Нарвскую и Московскую заставы, на Пороховые, на Выборгскую сторону. Он побывал на всех известных петроградских заводах — на Путиловском, на "Большевике", на "Красном Выборжце", на "Скороходе"... Он толкался в толпе безработных на Бирже труда, заглядывал в маленькие частные мастерские, в типографии, переплетные, словолитни... Всюду ему говорили одно и то же:
— Мест нет.
А на пути его подстерегало немало соблазнов. И нужно было иметь много мужества, чтобы бороться с ними. Он видел мальчишек, которые стайками вертелись у дверей магазинов, кинематографов и пивных. Опытный глаз его сразу определял профессию этих бледнолицых и чубатых парнишек в полосатых тельняшках и в широченных матросских клешах. Он проходил мимо, не останавливаясь, не желая иметь никаких дел с этими воришками-карманниками. Зажмурившись, он шагал мимо дверей чайных, кофеен и магазинов, откуда заманчиво пахло жареными пирожками, колбасой, пирожными, яблоками и конфетами.
В животе у него постоянно урчало. Дома сидели на пшенной каше и на черном хлебе. Правда, жизнь впроголодь не была ему в диковинку. Но за эти годы Ленька разучился сдерживать себя: сегодня он голодал, завтра подвертывался "случай" и он наедался до отвала, лакомился мороженым и конфетами, ходил в кино, курил дорогие папиросы...
Теперь он курил, потихоньку от матери, махорку или окурки, которые подбирал на улице.
Но главным соблазном были книги. За эти годы мальчик так изголодался по чтению, по печатному слову, что любой обрывок газеты, старый журнал, брошюра приводили его в трепет. Он способен был часами толкаться в галереях Александровского рынка, где в маленьких полуподвальных лавочках торговали букинисты. Рыться в книгах стало для него настоящей страстью. По сравнению с другими вещами, книги были дешевы. Их было много. Но Ленька не мог покупать их, — у него не было денег. Мечтая о работе, он мечтал и о том дне, когда, получив первую получку и вручив матери ровно половину, с другой половиной он явится на рынок и накупит целую кучу книг. Роясь в книжной завали, он откладывал и прятал, засовывая куда-нибудь подальше, в темный угол, те книги, которые он рассчитывал впоследствии купить.
Но пока это были только мечты. И неизвестно было, осуществятся ли они когда-нибудь.
Усталый и голодный возвращался он вечером домой.
Мать ставила на стол ужин, с тревогой посматривала на сына и робко спрашивала:
— Ну как, Лешенька?
— Пока ничего нет, — мрачно отвечал он, наваливаясь на опротивевшую пшенную кашу.
— Ну, что ж... Тем лучше, — утешала его Александра Сергеевна. — Значит, не судьба. Запишем тебя в школу. Будешь учиться.
— Нет, я буду работать, — угрюмо твердил Ленька.
...Был случай, когда он заколебался.
Проходя как-то вечером по Литейному, он остановился у витрины книжного магазина, загляделся и не заметил, как слева от него выросла какая-то фигура. Вдруг его сильно толкнули локтем в бок. Ленька оглянулся. Высокий молодой человек с потрепанным портфельчиком под мышкой, низко наклонившись и близоруко сощурившись, очень внимательно разглядывал на витрине толстую иностранную книгу.
— Вы что? — сказал, опешив, Ленька.
— А ничего, — спокойно и так же не глядя на него, ответил парень. И, наклонившись еще ниже, он по складам прочел: — Фрэнч... арчи-тектз энд скалп-торз... оф тзе... Гм. Это что же такое? Вы по-английски не кумекаете, сэр? Нет? Ах, вот как? Вы и разговаривать не желаете?!
"Сумасшедший", — подумал Ленька.
Парень повернул к нему худое смешливое лицо.
— Не узнаешь? Серьезно?
Верхняя губа его, над которой росли какие-то серенькие жиденькие усики, подрагивала, сдерживая улыбку.
— Ах, Леша, Леша! Нехорошо, голубчик! Ей-богу, нехорошо!.. Братьев забывать — великий грех. Вот, погоди — гости придут, они тебе в наказание все бутылочки побьют.
— Сережа! Бутылочка! — испугался и обрадовался Ленька.
— Он самый.
Крестные братья сунулись обниматься, но не обнялись почему-то, а только сильно тряхнули друг другу руки. Через минуту они уже шагали по Невскому в сторону Садовой.
— Ты почему не приходил? — спрашивал Ленька.
— Как не приходил? Я два раза у вас был. В девятнадцатом был — не достучался. А в прошлом году пришел — вас нет. Какая-то прыщавая тетка меня выгнала да еще и мазуриком обозвала.
— Да, я и забыл. Мы ведь в другом месте сейчас живем.
— И мы тоже. Впрочем, ведь ты у нас не бывал. Мы теперь недалеко от Эрмитажа, на Миллионной[30] живем. Барона Гинцбурга не знал случайно? Вот мы у него в квартире и обретаемся. Ничего квартирка. Холодно только. А ты что такой бледный, Леша?
— А ты-то, думаешь, розовый?
— Крестная как? Здорова?
— Да, спасибо. А Аннушка как?
— Какая Аннушка? Ах, мама? А что ей делается? Работает, как всегда, белье стирает. Ты где учишься?
— Нигде, — сказал Ленька и почему-то смутился и поспешил объяснить: — Я работать буду. То есть, еще не знаю, буду ли. Хочу во всяком случае. А ты?
Бутылочка посмотрел на него с удивлением.
— Учусь, конечно. В будущем году вторую ступень кончаю.
— Постой!.. Когда же ты успел?
— Что ж не успеть? Мы не зевали, братец. За два года три классика успели отмахать.
— Ты же ведь хотел, я помню, кондуктором или вагоновожатым стать.
Бутылочка громко засмеялся.
— Ну и память же у тебя!.. Да. Совершенно верно. Вагоновожатым хотел. И на газетчика тоже одно время курс держал. Но это, братец мой, когда было? В доисторические времена. До семнадцатого года. А сейчас у меня другие намерения; хочу, понимаешь, инженером быть.
У Садовой крестные братья расстались.
— Крестненькой кланяйся, — сказал Сережа, обнимая Леньку и целуя его в щеку.
— Ты же к нам придешь?
— Приду, конечно...
Бутылочка тщательно записал адрес, подробно расспросил, как удобнее пройти — подъездом или через ворота, — но почему-то не пришел. Следующая встреча крестных братьев состоялась лишь через пять или шесть лет, когда Бутылочка уже кончал институт инженеров путей сообщения.
А после этого разговора на Невском Ленька несколько дней ходил растерянный. Сережа ему ничего не сказал, не упрекнул его, но удивленный взгляд, который он бросил на крестного брата, узнав, что тот не учится, запомнился Леньке. Два-три дня он действительно колебался: не послушаться ли матери, не подать ли заявление в школу?
Но подумав, он решил не сдаваться. Он продолжал ходить и искать.
И вот ему как будто повезло. Он нашел работу.
Однажды, возвращаясь после долгих блужданий по городу домой, он проходил по Горсткиной улице. В те годы эта незаметная узенькая улочка, соединяющая Фонтанку с Сенной площадью, была очень шумной и оживленной. Здесь, по соседству с Сенным рынком, располагалась городская толкучка. В неуютных грязно-зеленых домах этой улицы было много мелких лавочек, мастерских, чайных, пивных и трактиров. С утра до ночи стоял здесь несмолкаемый гвалт: с грохотом и руганью продирались сквозь толпу ломовые извозчики, орали пьяные, визжали, высекая искру, примитивные станки точильщиков, стучали молотки "холодных" сапожников, пели бродячие певцы, уличные торговцы и торговки на разные голоса расхваливали свой товар: лимонный квас, пирожки, семечки, московские дрожжи...
Подходя к Сенной, Ленька заметил на стене углового дома небольшую вывеску:
Заведение
искусственных минеральных вод
под фирмой
"ЭКСПРЕСС"
Сущ. с 1888 г.
Качество ЭКСТРА
У дверей заведения стояла тележка, ручку которой держал сутулый, похожий на цыгана старик в зеленой суконной жилетке. Две девушки в клеенчатых фартуках выносили и устанавливали на тележку ящики с черными закупоренными бутылками.
Человек с донкихотской бородкой стоял на тротуаре и записывал что-то в синюю тетрадку.
Ленька подошел ближе и лениво, без всякого интереса заглянул в один из ящиков.
— Тебе что надо? Брысь отсюда! — замахнулся на него карандашом человек с бородкой.
Ленька поднял голову и, ни о чем не думая, а просто по привычке спросил:
— У вас работы какой-нибудь не найдется?
Дон-Кихот смерил его беглым взглядом.
— Тебе сколько лет? — спросил он.
— Пятнадцать, — не моргнув глазом, соврал Ленька.
— А ну, подними этот ящик.
Ленька заметил с двух сторон ящика дырки, похожие по форме на ванильные сухари, сунул туда пальцы, поднатужился и поднял ящик.
— Зайди, поговорим, — сказал человек с бородкой, показав карандашом на открытую дверь заведения.
Ленька с трепетом поднялся по каменным ступенькам и вошел в темное прохладное помещение. В нос ему ударил запах сырости и фруктовых сиропов. За дверью шумела какая-то машина. Что-то вертелось, что-то хлопало и стучало. Сердце мальчика быстро-быстро забилось. Вот оно! Хоть и маленький, а все-таки завод! Неужели он будет работать? Господи, только бы не сглазить, только бы не сорвалось.
Через минуту с улицы вошел человек с бородкой. Он провел Леньку в маленькую, как чулан, комнатку, где стояла у окна дубовая конторка, а на стене висели канцелярские счеты и зажатые металлической лапкой бумаги.
— Если украдешь что-нибудь, — выгоню, — сказал он, усаживаясь за конторку и открывая ключиком какой-то ящик.
— Ну, вот... Зачем? — смутился Ленька. — Я и не думал вовсе.
— Если сейчас не думал, то после можешь подумать. Предупреждаю. Дальше... Если придут из союза или еще откуда-нибудь, говори, что ты мой племянник. Понял?
— Понял, — ответил Ленька. Но так как на самом деле он ничего не понял, он позволил себе спросить: — А почему, собственно?
— Почему, собственно? А потому, что платить за тебя страховку и прочие глупости я не намерен.
Хозяин спросил у Леньки, где он живет, кто его мать, и, удовлетворившись этими расспросами, сказал, что завтра с утра Ленька может выходить на работу. Взявшись за ручку двери, Ленька осмелел и спросил:
— А на какую работу вы меня поставите?
Хозяин посмотрел на него строго.
— В мое время, голубчик, мальчики не спрашивали, на какую работу их поставят... Ты что — не комсомолец случайно?
— Нет, — сказал Ленька и почувствовал, что краснеет.
...Домой он прибежал задыхаясь от счастья.
— Мама! Ура! Поздравь меня. Устроился... На завод поступил.
Александра Сергеевна сначала тоже обрадовалась. Но когда Ленька рассказал ей, куда и при каких обстоятельствах он поступил, она приуныла.
— Лешенька, дорогой, — сказала она, обнимая мальчика, — ты бы подумал все-таки, прежде чем соглашаться. Ну, что это, в самом деле, скажи пожалуйста, за занятие — лимонад делать?!
— Что значит — лимонад? — обиделся Ленька. — И лимонад людям нужен, если его на заводах делают. Это у тебя, мамочка, прости пожалуйста, буржуазные предрассудки. Тебе бы пора знать, что всякий физический труд благородное дело. Ведь вот Вася у нас булочки и пирожки делает — ты же не возражаешь?!!
— Ну, хорошо, — сказала Александра Сергеевна. — А сколько они тебе, по крайней мере, платить будут?
Об этом Ленька на радостях даже забыл спросить у хозяина.
— Что значит — сколько? Сколько положено, столько и заплатят.
— Может быть, мне сходить, поговорить с ним? — предложила Александра Сергеевна.
— Ну, вот еще! — возмутился Ленька. — Что я — маленький, что ли?
— Ох, не нравится мне эта затея...
— Ничего, мамочка, не горюй. Это только начало. Мне бы квалификацию получить, а уж там я.
Но и на этот раз Леньке не удалось получить квалификацию.
На следующее утро он чуть свет явился в заведение. Там еще никого не было, только старик в зеленой жилетке поливал из жестяного чайника пол в темном коридорчике.
— Тебе что? — спросил он у Леньки.
— Я на работу пришел, — сказал мальчик.
— На какую работу?
— Сюда... Меня приняли.
— Попался, значит?
— Что значит попался? — не понял Ленька.
— О господи... Никола морской... мирликийский, — вдруг тяжело завздыхал старик, потягиваясь и поглаживая под жилеткой спину. — Ну, ладно, — сказал он, — возьми швабру — пропаши пол в судомойне.
Ленька не был уверен, что "пахать" пол в судомойне входит в его обязанности, но все-таки взял швабру и пошел за стариком в заведение.
Через некоторое время пришел хозяин — Адольф Федорович Краузе.
— Молодец, — сказал он, увидев Леньку за работой. — Мальчики должны приходить раньше всех.
К восьми часам стали собираться и остальные рабочие заведения. Их было всего человек пять или шесть.
Все лимонадное производство помещалось в двух небольших комнатах, разделенных тяжелой каменной аркой. В одном помещении, побольше, стояла укупорочная машина. Девушка в клеенчатом фартуке, пользуясь маленьким цинковым стаканчиком с длинной ручкой, разливала по бутылкам сладкий фруктовый сироп. Другая девушка, купорщица, брала у нее бутылки, ставила их в машину, нацеживала из крана газированную воду и поворотом рычага ловко загоняла в горлышко бутылки пробку. Мальчик Ленькиных лет вертел колесо, которое приводило в движение весь этот мощный агрегат. В соседнем помещении стояла большая деревянная лохань, в которой мыли бутылки. Там же на кухонном столе две девушки оклеивали бутылки этикетками: "Лимонад", "Ситро", "Безалкогольное пиво Экспресс"...
Конечно, все это имело довольно жалкий вид и было совсем не то, о чем мечтал Ленька. Но все-таки, как-никак, это был завод. Не Обуховский и не Путиловский, но все-таки и здесь были машины, и люди, которые здесь работали, назывались рабочими и работницами.
В глубине души Ленька надеялся, конечно, что его сразу же поставят к машине. Но к машине его не поставили.
Он сидел на пустом ящике и любовался, как быстро и споро работает высокая белокурая купорщица, когда в комнату заглянул хозяин и ласково позвал его:
— Леня!
Ленька вскочил и вышел в коридор.
— Да?
— Ты город хорошо знаешь, голубчик?
— Нет, не очень, — сознался Ленька.
— Ну, ничего, на первых порах тебе поможет Захар Иванович.
— Какой Захар Иванович?
— Вот этот старичок в жилете, который несет ящик... А читать ты умеешь?
— Я учился в третьем классе, — сказал Ленька.
— Прекрасно. Захар Иванович, наоборот, разбирается в грамоте слабо. Поможешь ему читать накладные. Сейчас вы поедете на Невский, угол Морской[31], отвезете два ящика пива в ресторан. Оттуда проедете к Александровскому парку... адрес в накладной указан. Потом съездите ни Васильевский остров... фруктовый магазин угол Большого и Четвертой линии. Там оставите остальные три ящика...
— А на чем мы поедем? — спросил Ленька, живо представляя себе это длинное и разнообразное путешествие по любимому городу.
— На чем поедете? На тележке. Собственно говоря, вы не поедете на ней, а повезете ее... Но это все равно. Захар Иванович тебе поможет. Он улицы знает хорошо. Только, пожалуйста, — ласково сказал хозяин, — будь осторожен. Имей в виду, что за каждую разбитую или пропавшую бутылку я штрафую...
Тележка уже стояла у крыльца. Мрачный Захар Иванович сидел на ящиках с бутылками и докуривал махорочную цигарку.
— Захар Иванович, познакомьтесь, — сказал Краузе. — Ваш новый помощник.
— Мы уже познакомились, — сказал Ленька.
Старик искоса посмотрел на Леньку, заплевал окурок и поднялся.
— Подержи тележку, — приказал он мальчику.
Ленька взялся за гладкий, отполированный руками возчиков поручень. Старик поставил на тележку восемь ящиков с лимонадом и пивом и обвязал их веревкой. Хозяин пересчитал ящики, записал что-то в тетрадку и передал старику накладные.
— С богом, Захар Иванович, — сказал он. — Уж, пожалуйста, голубчик, поспешите, не задерживайтесь. Ведь вас теперь двое.
— Уж это конешно, — забормотал старик. — Парой-то легше. Не изволь беспокоиться, Адольф Федорыч. До обеда отмахаем.
— Ну, Леня, в добрый час, — сказал хозяин, поднимаясь на крыльцо. — Бог в помощь, как говорили в старину...
Старик проводил его тяжелым взглядом. Таким же недобрым взглядом он посмотрел на мальчика.
— Ты кто — внук или сын будешь? — спросил он.
— Чей? — не понял Ленька.
Старик кивнул в сторону двери, за которой скрылся хозяин.
— Племянник, — сказал Ленька, усмехаясь и не зная еще, можно ли открыться этому старику и сказать, что племянник он — липовый.
— Значит, ты мне троюродным внуком приходишься, — строго сказал старик.
— Почему? — удивился Ленька.
— Почему? А потому, что я у этой сволочи в дядьях числюсь.
Старик поднял голову, зажмурился, вздохнул и забормотал:
— О господи... милосливый... мирликийский...
Потом крякнул, поплевал на руки и взялся за поручень.
— Тронули! — сказал он.
Тяжело нагруженная тележка дернулась и загромыхала по булыжникам Горсткиной улицы.
...Ехать мешала густая толпа, запрудившая улицу и рынок.
— Эй, кум! Эй, кума! — поминутно кричал Захар Иванович.
Толкать тележку оказалось нетрудно. Гораздо труднее было удерживать ее в равновесии. Тяжелые ящики тянули вниз. Когда Захар Иванович на минуту отпускал поручень, Леньке приходилось наваливаться на него животом, — ему казалось, что сейчас его с силой подкинет в воздух.
С трудом продравшись через Сенную площадь, выбрались на Садовую, свернули на Комиссаровскую, бывшую Гороховую...
— Эй, кум! Эй, кума! — кричал без передышки старик.
На углу Морской и Невского Захар Иванович снял с тележки два ящика и отнес их в ресторан. Груза на тележке стало поменьше, но зато и сил у мальчика поубавилось. Через час, когда они ехали от Александровского парка на Васильевский остров, Ленька уже качался, рубашка на нем была совсем мокрая, горячая струйка бежала от затылка по ложбинке между лопатками.
К обеду они вернулись в заведение.
— Ну как, лошадка? — весело спросил хозяин.
— Ничего, — сказал Ленька.
— Можешь идти пообедать. Недолго только, смотри!..
Ленька домой не пошел. Есть ему почему-то не хотелось. Он выпил полстакана ананасового, пахнувшего аптекой сиропа, которым украдкой угостила его разливальщица Галя, вышел за дверь и присел на каменной ступеньке. Через минуту из двери выглянул хозяин.
— Ты что же это тут расселся, голубчик? — сказал он. — В мое время мальчики без дела не сидели. На, возьми ключ, сбегай в подвал, принеси два ящика пробок...
После обеда хозяин послал Леньку и Захара Ивановича в Зимин переулок за баллонами с углекислым газом. Потом они отвозили шесть ящиков пива на поплавок к Летнему саду. Потом еще куда-то ездили.
Когда в десятом часу вечера Ленька вернулся домой, он не чуял под собой ног. Домашние накинулись на него с расспросами:
— Ну, что? Как? Работал?
— Габотал, — ответил он коротко и, тяжело опустившись на стул, попросил есть.
— Наверно, весь день лимонад пил? Да? — с завистью спросила у него Ляля.
— Да, — хмуро ответил Ленька. — И пирожными все время закусывал.
Когда он тащился домой, ему казалось, что он умирает от голода. Но есть ему и сейчас не хотелось. Не доев перловую кашу, он бросил ложку и, сказав, что устал, хочет спать, ушел к себе в прихожую.
Но и спалось ему плохо. Всю ночь он ворочался на своем казачьем сундуке, всю ночь снились ему бутылки, ящики, накладные, огромные колеса тележки с блестящими натруженными шинами, трамвайные рельсы, тумбы и щербатый булыжник мостовых. И каждые двадцать минут он просыпался от сиплого стариковского голоса, который и во сне не давал ему покоя:
— Эй, кум! Эй, кума!..
...Он работал в "Экспрессе" уже второй месяц. Весь месяц он возил тележку. Правда, был у него в этой работе небольшой перерыв. Однажды хозяин поставил его для разнообразия вертеть колесо. Ленька обрадовался. Ему казалось, что это легче, а главное — ближе к производству. Все-таки это человеческая, а не лошадиная работа. Но уже на другое утро он сам попросил Адольфа Федоровича снова поставить его на тележку. Вертеть колесо, может быть, было и легче, но это была такая тупая, бессмысленная, монотонная работа, на какую, вероятно, и лошадь, если бы ей предоставили выбор, не променяла свои вожжи, дугу и оглобли.
Прошел месяц, а хозяин и не заикался о заработной плате.
Несколько раз Александра Сергеевна робко спрашивала мальчика:
— Ну как, Лешенька?
— Еще не платили.
— Ты бы спросил у него, детка. А? Что же это, в конце концов, за работа такая — без денег!
— Что же я могу сделать? — сердился Ленька. — Он сам не заговаривает; а мне неудобно.
— Неудобно!! — язвительно смеялся Вася, нарезая толстыми ломтями ситник с изюмом, который он получал в булочной в счет зарплаты. — Мы бы такого хозяйчика давно к ногтю взяли. В союз заявите — сразу его прижмут!
На младшего брата Ленька по-прежнему смотрел с завистью и удивлением.
Вася много работал, уставал, но никогда не жаловался, на жизнь смотрел просто, все у него ладилось и настроение было неизменно ровное и веселое. Читал он немного, но, возвращаясь с работы, почти каждый день покупал вечернюю газету, в которой бегло проглядывал телеграммы из-за границы и более основательно — отдел происшествий и фельетоны "Из зала суда". Дома, ни в будни, ни в праздники, он ни минуты не сидел без дела, постоянно что-нибудь мастерил, починял, колол дрова, замазывал на зиму окна, даже ездил для этого в Удельную[32] за мохом. Ленька тоже занимался по хозяйству, но для него это была обязанность, а для Васи — приятный долг, который он выполнял, как и все в жизни, легко и весело. От матери он унаследовал музыкальный слух. Работая, вколачивая гвоздь, починяя замок или отвинчивая гаечным ключом примусную горелку, он постоянно напевал что-нибудь ломающимся мальчишеским баском... По воскресеньям к нему приходили товарищи, большей частью такие же, как и он, "мальчики" — из соседних булочных, пекарен и кустарных мастерских. Ребята вели солидные разговоры, выходили по очереди на лестницу курить, потом шумной компанией отправлялись куда-нибудь — на собрание профсоюза, в кино или просто гулять.
Неделю спустя, узнав, что Краузе все еще не рассчитался с братом, Вася рассердился, обозвал Леньку "Степой" и "валяным сапогом" и заявил, что соберет ребят и они пойдут поговорят "с этим типом".
— Нет, благодагю вас, — вспыхнул Ленька. — Можете не ходить. Я и сам могу...
— Поговоришь? Сам? Ну и правильно, — улыбнулся Вася.
На другой день, собравшись с духом, Ленька зашел в кабинетик хозяина.
— Денег? — удивился Краузе. — Зачем тебе деньги, такому маленькому?
— Мне есть надо, — хмуро ответил Ленька.
Хозяин отвернулся, достал бумажник, послюнил пальцы, подумал и протянул Леньке две бумажки по десять миллионов рублей. По тогдашнему курсу на эти деньги можно было купить десять-двенадцать коробков спичек. Ленька хотел сказать "мало", но хозяин опередил его.
— Мало? — сказал он, заметив недовольное выражение на Ленькином лице. Советую тебе помнить, голубчик, что в мое время мальчики первые два года вообще работали без вознаграждения. Заслужи, братец, поработай, тогда будешь получать больше.
Немного утешало Леньку то, что не он один находился в таком положении. По копейке (или, вернее, по миллиону), вытягивали от хозяина зарплату и остальные работники заведения. За спиной у хозяина роптали, называли его последними именами, но дальше ропота и разговоров дело не шло.
— Живоглот проклятый, — ворчал Захар Иванович. — Всю жисть на них хребет ломал, и вот опять черти навалились...
Однажды, когда хозяин стребовал с него четыре миллиона за разбитую бутылку пива, старик, сверкая глазами, сказал Леньке:
— Я ему когда-нибудь ноги переломаю, племяннику чертову!..
— Зачем же ноги ломать? — сказал, оглянувшись, Ленька. — Лучше заявить в союз или еще куда-нибудь. Его за такие штучки — знаете? — быстго к ногтю пгижмут.
— Да... заяви, — пробурчал старик. — Его прижмут, а он через неделю лавочку закроет, и, пожалуйста, Захар Иванович, иди, мети пол на Биржу...
Старик тяжело вздохнул, потянулся, похрустел костями.
— О господи... мирликийский, — забормотал он, закидывая голову и почесывая под жилеткой спину.
Ленька уже подумывал об уходе из "Экспресса", уже подыскивал исподволь другое место, но тут два события одно за другим ворвались в его жизнь, и ему пришлось не уходить, а убегать сломя голову из этого заведения.
ГЛАВА XI
Однажды после обеда они отправились с Захаром Ивановичем в очередной рейс. Хозяин поручил им отвезти два ящика лимонада к Детскосельскому вокзалу[33], четыре ящика пива на ипподром, а один ящик нужно было забросить по пути в небольшой трактир на Горсткиной улице. Оставив Леньку с тележкой на улице, старик потащил ящик во второй этаж. Ленька стоял смирно, как настоящая рабочая лошадка, равнодушно поглядывая по сторонам и придерживая в равновесии поручень тележки. Вдруг он заметил, что на него пристально смотрит какой-то мальчик. У мальчика было красивое, хотя и не очень чистое, слегка шелудивое лицо. Недобрые тонкие губы мусолили дорогую длинную папиросу. Из-под блестящего лакированного козырька фуражки-мичманки падал на бледный лоб замысловато закрученный чубик. Полосатая матросская тельняшка, широченный клеш, куцый люстриновый пиджачок... Таких мальчиков на рынке вертелось немало. Уже по одним глазам — настороженным, блудливым, воровато бегающим — Ленька легко определял, что это за мальчики и что они делают в рыночной толпе. Но этот мальчик не вертелся, а стоял в десяти шагах от тележки и, засунув руки в карманы клеша, прищурившись смотрел на Леньку.
Ленька испытывал неловкость. Он сразу понял, что где-то и когда-то видел этого мальчика. Но где, когда? Может быть, здесь же на рынке, может быть, давно, еще на юге, во время скитаний.
— Ты что смотришь? — спросил он наконец, не выдержав.
Мальчик с усмешкой шагнул вперед.
— Не узнаёшь? — сказал он, вынимая изо рта папиросу.
— Нет.
— А ну, припомни.
— Не помню, — сказал Ленька.
— В реальном училище до революции учился?
— Волков! — закричал Ленька. И тут случилось ужасное. Руки его вздрогнули, он выпустил поручень, тележка качнулась вниз, и тяжелые ящики с грохотом и звоном посыпались на камни мостовой.
Ленька оцепенел. Наверно, целую минуту он стоял, поглядывая то на Волкова, то на поручень тележки, вздыбившийся над его головой, то на двери трактира, откуда с минуты на минуту должен был выйти Захар Иванович. Только после того, как тележку стала окружать толпа любопытных, он очухался и кинулся к ящикам. Он думал, что можно еще что-нибудь спасти. Но, увидев огромную разноцветную лужу и крошево из пробок и зеленого бутылочного стекла, он понял, что спасать нечего.
Волков тоже подошел к ящикам и стоял, заложив руки в карманы, усмехаясь и покачивая головой.
— Господи... что же делать? — пробормотал Ленька, вытаскивая из ящика заткнутую пробкой бутылочную головку.
— А что делать, — сказал, оглянувшись, Волков. — Смывайся — и все. Это чье пиво?
— Хозяйское.
— Ну вот. Что ж тут раздумывать?
Он толкнул Леньку локтем.
— Давай сматывайся!..
Ленька еще раз посмотрел на двери трактира и юркнул вслед за Волковым в толпу.
Сзади кто-то кричал:
— Эй, ты, курносый! Куда? Набедокурил, а сам удочки сматывать?!
— Давай, давай, не останавливайся! — подгонял Леньку Волков.
Работая локтями, он выбрался из толпы, свернул в какие-то ворота, провел Леньку через какие-то проходные дворы, мимо каких-то лабазов и овощных складов и вывел его на Международный[34]. Тут оба мальчика остановились и перевели дух. Волков рассмеялся.
— Вот так встреча! А? — сказал он.
— Ужасно, — пробормотал Ленька, вытирая вспотевший лоб.
— Ничего... Говорят, знаешь, — посуду бить к счастью. Ты с какой это стати, дурак, лошадкой заделался?
— Так уж вышло, — объяснил Ленька. — Другой габоты не было.
— "Габоты"! — передразнил его Волков. — Рано ты, братец, работать начал.
Он достал из кармана голубую нарядную коробку "Зефир № 6", подцепил грязным ногтем толстую с золотыми буквами на мундштуке папиросу, важно, как взрослый, постучал мундштуком по коробке, подул зачем-то в мундштук и, сунув папиросу в маленькие белые зубы, с фасоном раскурил ее. Потом, спохватившись, снова вытащил пачку, протянул Леньке:
— Куришь?
Ленька поблагодарил и неловко взял папиросу. Прикуривая, он исподлобья смотрел на Волкова и чувствовал, как в нем просыпается старое, детское отношение к этому мальчику: Волков ему и нравился и отталкивал от себя. Как и раньше, в присутствии Волкова Ленька робел и ругал себя за эту робость.
— Что ж мы стоим? — сказал Волков. Они остановились у витрины, на треснувшем и продырявленном пулями стекле которой белыми буквами было написано:
КАФЭ
"УЮТНЫЙ УГОЛОК"
— Пиво пьешь? — спросил Волков.
— Нет, — смутился Ленька. — А ты?
— Иногда позволяю себе такое баловство. А вообще не люблю. Горькое...
— Я тоже не люблю, — сказал Ленька, хотя до сих пор ему приходилось пить только слабенькое безалкогольное пиво "Экспресс".
— Ну, все равно, зайдем, какао возьмем или еще чего-нибудь.
Ленька замялся.
— У меня, понимаешь, денег нет, — сказал он, краснея.
— Не беспокойся, дружок...
Волков с усмешкой похлопал себя по нагрудному карману.
...Они вошли в кафе, уселись в углу за маленьким круглым столиком. Подошла барышня в клетчатом переднике.
— Что вы хотите, мальчики?
— Дайте меню, — важно сказал Волков.
Он долго, с видом знатока, изучал карточку, наконец заказал бутылку пива, стакан какао, пару пирожных и бутерброд с сыром.
— Ну, вот, — сказал он, потирая руки, когда официантка пошла выполнять заказ. — Я рад, ты знаешь, что тебя встретил.
— Я тоже, — из вежливости сказал Ленька.
— Ты что — все время в Петрограде жил?
— Нет, мы уезжали...
Почему-то Леньке не захотелось рассказывать Волкову обо всем, что с ним случилось за эти годы.
— А ты? — поспешил спросить он.
— О милый мой! Знал бы ты... Мне столько пришлось перенести за это время, что никакому Майн Риду и Жюль Верну и во сне не снилось.
— Папа и мама твои живы?
— Мама жива, а папа...
Волков помрачнел. Тонкие брови его сдвинулись к переносице.
— Не знаю, — сказал он, оглянувшись. — Может быть, и жив еще... Во всяком случае, мама панихид по нем еще не служит.
Левушка принесла на подносе пиво, пирожные, дымящееся какао.
Волков с фасоном опрокинул над стопкой бутылку, отхлебнул пену.
— Угощайся, пожалуйста, — сказал он, покосившись на стакан с какао.
Ленька глотнул горячего сладкого напитка и опьянел, почувствовал, как по всему его телу разлилась приятная истомная теплота.
— Пирожное бери, — сказал Волков.
— Спасибо, — сказал Ленька, нацеливаясь на кремовую трубочку. — И ты тоже бери.
— Ладно. Успеется. Я сначала бутерброд съем.
— Не ладно, а хорошо, — поправил Ленька.
Оба засмеялись.
— Ты учишься? — спросил Ленька.
— Да как тебе сказать? В прошлом году учился. А в этом... скорее, что нет.
— Что значит: скорее?
— Дела, милый мой, не всегда позволяют посещать уроки.
Ленька не стал спрашивать, какие дела мешают Волкову посещать уроки. Это он и без расспросов хорошо понимал. Он пил какао, с постыдной жадностью ел сладкую, тающую во рту кремовую трубочку и смотрел на Волкова, который, морщась, потягивал темное мартовское пиво и лениво отковыривал от бутерброда кусочки сыра.
"Счастливый, — говорил в Леньке какой-то темный, глухой, завистливый голос. И другой — насмешливый, презрительный и даже немного горделивый голос тотчас откликался: — Вор... жулик... мразь... конченый человек!" Он ругал и Волкова и себя за то, что согласился зайти в кафе. Но уйти, не допив какао и не доев пирожного, он не мог. А кроме того, он был и благодарен Волкову: ведь тот спас его от беды, выручил его.
А Волков от пива уже слегка охмелел. Не доев бутерброда, он потянулся к пирожному.
— Эх, кутить, так кутить, — сказал он. — Возьму-ка и я, пожалуй, какао.
Он постучал ножом по тарелке.
— Мадемуазель!
— Что прикажете, мосье? — с насмешливой важностью проговорила официантка, подходя к столику.
— Дайте нам еще какао... Два!
— Я больше не буду, — сказал Ленька.
— Будешь!.. Два! — повторил Волков, показывая официантке два грязных пальца.
Барышня отошла от столика и тотчас вернулась.
— Может быть, молодые люди, рассчитаетесь?
— Ага! — расхохотался Волков. — Не верите? Думаете, жулики?
Он выхватил из кармана бумажник. Ленька увидел в руках у товарища миллионы и почему-то испугался. Он не пил пива, но почувствовал, что голова у него закружилась.
Официантка взяла деньги и ушла.
— Я пойду, — сказал Ленька, поднимаясь.
— Куда?
— Мне надо. Поздно уже. Меня мама ждет.
— Мама? Жива? — удивился Волков.
— Да. Жива.
— Не пущу! — сказал Волков, схватив Леньку за подол рубашки.
Ленька оттолкнул его руку.
— Мне надо идти, — спокойно сказал он.
На лице Волкова мелькнула трусливая улыбка.
— Леша, присядь на минутку.
Ленька сел на краешек стула.
— Леша, — сказал Волков. — Ты не огорчайся. Я знаю, — ты огорчен. Плюнь на свои бутылки...
Он покосился в сторону буфета и шепотом сказал:
— Я тебе дело найду.
И, значительно посмотрев на Леньку, он ударил кулаком по столу:
— Клянусь!
— Хорошо, — покорно ответил Ленька.
— Леша! — Волков обнял его за плечи. — Я тебя люблю... Ведь я тебя всегда любил. Дай я тебя поцелую...
Ленька не успел отстраниться, как Волков привстал, покачнулся и чмокнул его в щеку.
— И вообще... — Голос у Волкова задрожал. — Вообще... не забывай, что мы с тобой — осколки прошлого.
— Не знаю, — усмехнулся Ленька. — Я себя осколком не считаю.
— Да! Мы с тобой двое остались. Двое! Понимаешь? — Волков для наглядности опять показал два немытых пальца. — Где все? А? Никого нет... всех размело... Чижика помнишь?
— Помню, — сказал Ленька, отодвигая стул и поднимаясь. — Прощай.
Волков схватил его за рукав.
— Нет, Леша... Стой!
"Вот черт полосатый, — подумал Ленька. — Выпил на копейку, а бузит на миллион".
— Ну, что? — сказал он сердито.
— Во-первых, почему — прощай? Не прощай, а до свиданья. Правда? Ведь мы с тобой встретимся еще? А?
— Ну, до свиданья, — сказал Ленька.
— Придешь ко мне?
— Приду.
— Адрес помнишь?
— А вы что — разве еще на старой квартире живете?
— Да, на Екатерингофском, угол Крюкова... Имеем одну роскошную полутемную комнату в четыре квадратных сажени...
Волков привстал и протянул Леньке руку. Хмель как будто оставил его или он перестал притворяться.
— Заходи, Леша, правда, — сказал он, заглядывая Леньке в глаза. — Мама очень рада будет. И я тоже. Честное слово!..
— Ладно, — сказал Ленька, напяливая кепку и направляясь к дверям.
— Так я тебя жду, Леша! Не забудь!..
— Ладно, жди, — сказал Ленька, не оглядываясь.
"Черт... аристократ... гадина", — думал он, выходя на улицу. Он был уверен и давал себе клятву, что никогда больше не встретится с этим человеком.
...На улице уже темнело. Накрапывал дождь. На Международном реденькой цепочкой зажигались неяркие фонари. Расхлябанный трамвай, сбегая с Обуховского моста, высекал под своей дугой фиолетовую искру.
И тут, очутившись под дождем на улице, Ленька вдруг вспомнил все, что случилось с ним в этот день, и на душе его стало муторно. Он почувствовал себя маленьким, ему захотелось поскорей к маме. Как хорошо, что она существует на свете! Забиться ей под крылышко, положить голову ей на грудь, ни о чем не думать, ни о чем не заботиться...
Впереди по тротуару шли две девушки, лет по шестнадцати, плохо одетые. Девушки о чем-то оживленно спорили. Обгоняя их, Ленька услышал, как одна из них запальчиво сказала другой:
— Ошибаешься, милочка, Энгельс вовсе не с таких вульгарных позиций критиковал моногамию.
Леньке почему-то стало завидно и грустно. Незнакомое слово "моногамия" показалось ему каким-то необыкновенно возвышенным, волнующим, далеким от всего того, чем он жил последнее время. Ему вдруг захотелось учиться, читать, узнавать новое. Захотелось просто делать то, что делают все ребята его возраста: сидеть в классе, выходить к доске, учить уроки, получать отметки...
"Пойду в школу, — решил он. — Не вышло с работой — плевать. Значит, не судьба. Поработать еще успею. Мне ведь еще нет четырнадцати лет..."
Эта мысль немножко подбодрила его. Он зашагал веселее. Но когда, поднимаясь по черной лестнице, он увидел в мусорном ящике разбитую молочную бутылку, он опять вспомнил все, что случилось с ним сегодня на Горсткиной улице.
"Может быть, Краузе уже разыскал меня и сидит у мамы? — подумал он. Нет, не может быть... Ведь он даже не записал моего адреса..."
Но все-таки он чувствовал себя очень неважно, когда, дернув шишечку звонка, услышал, как задребезжал на кухне колокольчик.
Дверь ему открыла тетка.
— Ты что ж это так поздно, работничек? — спросила она строго.
— Почему поздно? — уныло огрызнулся Ленька. — Обыкновенно... кок всегда... работали... Мама дома?
— Дома, — ответила тетка. И почему-то с улыбкой (и с улыбкой зловещей, как показалось Леньке) добавила:
— У нее гости.
...В коридоре на вешалке висела потрепанная кожаная тужурка. Ленька с удивлением осмотрел и даже пощупал ее. Ни у кого из домашних такой тужурки не было.
Он приоткрыл дверь и осторожно заглянул в комнату. За круглым чайным столом под голубым абажуром сидели Александра Сергеевна, Ляля и какая-то полная женщина в сереньком платье и в белом оренбургском платке, накинутом на плечи. Женщина сидела спиной к двери, пила из блюдечка чай и что-то говорила Александре Сергеевне. Голос ее показался Леньке знакомым.
Он скрипнул дверью и вошел в комнату.
— А вот и он сам собственной персоной, — весело объявила Александра Сергеевна.
Женщина торопливо поставила блюдечко и шумно повернулась вместе со стулом.
— Боже ж ты мой! — сказала она, широко улыбнувшись.
И улыбка ее тоже показалась Леньке знакомой. Но все-таки он не мог вспомнить: кто это?
— Здравствуйте, — сказал он, останавливаясь посередине комнаты и растерянно поглядывая на мать и сестру.
— Леша, да неужели ты не узнаёшь? — воскликнула Александра Сергеевна.
— Нет.
— Это же Стеша! — закричала, захлопав в ладоши, Ляля.
Теперь он и сам удивился: как он мог ее не узнать? Правда, Стеша изменилась — пополнела, посмуглела почему-то. В уголках около глаз у нее появились чуть заметные морщинки. Но все-таки это была та же веселая, бойкая Стеша, которая водила его когда-то на прогулки, купала в ванне, рассказывала ему перед сном страшные сказки про царевича Дмитрия и учила его — в "темненькой" у красного деревенского сундучка — начаткам политической грамоты.
От Стеши пахло знакомым, домашним, но кроме того и еще чем-то: резиной, клеем, машинным маслом...
— Его и целовать-то страшно, — говорила она, сильными руками обнимая Леньку за плечи, отстраняя его от себя и с улыбкой разглядывая. — Нет, вы посмотрите, какой кавалер вырос! А? На улице бы не узнала, честное слово!..
Глаза у нее были такие же искрящиеся, веселые, но мелькало в них и что-то грустное, сочувственное, когда она смотрела на Леньку.
— Эх, ты... дурачок... глупенький, — сказала она вдруг и, наклонившись, быстро чмокнула мальчика в щеку около уха.
У Леньки вдруг ни с того ни с сего задергались губы.
— Степанида Тимофеевна, пейте, пожалуйста... остынет, — сказала Александра Сергеевна, и Ленька с удивлением покосился на мать: чего это она вдруг вздумала называть Стешу по имени-отчеству?!
— Леша, и ты тоже — иди вымой руки и садись. Посмотри, с каким роскошным подарком явилась к нам Степанида Тимофеевна!
Посреди стола стояла высокая зеленоватая банка с вареньем или повидлом.
— А мне вот что подарили! — пропищала Ляля, показывая над краешком стола маленький арабский мячик с красным треугольничком на черном шершавом брюшке.
— Да, — сказала Стеша, обращаясь к Леньке, — а тебе не подарю. Не рассчитала немножко. Оконфузилась. Тебе уж небось футбольный надо?.. А? Играешь?
— Нет... я не умею, — промямлил Ленька. Ему действительно никогда не приходилось играть в футбол. Какие там футболы! Не до футболов было...
...Намыливая на кухне серым жуковским мылом руки, лицо и шею, он почему-то вспомнил девушек, которых давеча обогнал на Международном. Потом вспомнился ему Мензелинск, зима позапрошлого года. Юрка, митинг на городской площади и песня о титанах труда, которую пели комсомольцы.
Бодро и фальшиво насвистывая мотив этой песни, он с удовольствием растирал лицо грубым кухонным полотенцем и думал о том, что ему повезло. Он избавлен от необходимости объясняться с матерью. А кроме того, он чувствовал, что с появлением Стеши в его жизнь врывается что-то хорошее, светлое, мужественное и сильное.
Когда он вернулся в комнату, за столом шел шумный разговор. При его появлении разговор оборвался. Он понял, что говорили о нем.
— Степанида Тимофеевна, — сказал он, усаживаясь за стол и принимая из рук матери стакан жидкого чая, — а вы как это нас разыскали?
— Это что за новости еще?! — рассердилась Стеша. — Какая я тебе Степанида Тимофеевна? Может, и тебя прикажешь Алексей Иванычем называть? Как разыскала? А так и разыскала. Ходила, ходила и нашла... А ты что, кавалер, говорят, грузчиком заделался?
Ленька покраснел, смутился, заерзал на стуле.
— Да, Леша, — сказала Александра Сергеевна, — вот и Степанида Тимофеевна тоже считает, что тебе надо учиться.
— Да боже мой, да какие могут быть разговоры! — воскликнула Стеша. Лешенька, да как же тебе, голубчик, не стыдно, в самом деле? Такой способный!.. Вторым учеником в реальное поступил. И вдруг все забросить! Нет, уж ты как хочешь, а я от тебя, господин хороший, теперь не отвяжусь. Изволь поступать в школу...
— Он же не может, он работает, — вмешалась в разговор Ляля.
— Да, между прочим... Ты где работаешь?
— Тут... недалеко... на Сенной, у частника, — забормотал Ленька.
— Я слыхала, что у частника. Где? На какой улице? Как это тебя угораздило такого эксплуататора себе на шею заполучить? Он что, говорят, и договора с тобой не заключил?
— Нет, — со вздохом ответил Ленька, не зная, как замять этот разговор.
— Ведь вот негодяй, а?! Ну, погоди, выберу время, я с ним поговорю, с этим нэпманом.
— Ох, нет, Стеша, не надо, пожалуйста! — испугался Ленька.
— Почему не надо?
— Потому что... потому что я уже ушел от него.
— Как ушел? — ахнула Александра Сергеевна.
— А так, — сказал Ленька, багровея. — Надоело, взял и ушел.
— Совсем?
— Совсем.
— А жалованье он тебе заплатил?
— Нет... Пока не заплатил. Но он обещал... на будущей неделе в пятницу...
— Ну, вот видите, как все хорошо получается, — обрадовалась Стеша. Значит, решено и подписано: будешь учиться!..
Она с аппетитом, не спеша пила из блюдечка чай, намазывала чайной ложкой на хлеб яблочное повидло и говорила:
— Нам, Лешенька, и рабочие нужны, — квалифицированные, конечно, а не такие, что только тележку умеют толкать, — но еще больше в настоящий момент нам требуется интеллигенция, образованные люди. Владимир Ильич Ленин так прямо и сказал: в настоящее время первая и главная наша задача — учиться, учиться и учиться!
Откусив маленький кусочек хлеба и поправляя кончиком языка сваливающееся с бутерброда повидло, она засмеялась и сказала:
— Я вот и то, представьте себе, на старости лет за учебу взялась.
— Ничего себе "на старости лет"! — улыбнулась Александра Сергеевна. Вам сколько, Стеша, простите за нескромность?
— Ох, и не спрашивайте, Александра Сергеевна! Двадцать восьмой пошел.
— Действительно — старушка.
— А что вы думаете! Меня уж "теткой" называют. А до революции всё, бывало, "девушка" да "барышня". А на фронте меня — знаете как? — Стенькой Разиной звали.
— Стеша, скажите, неужели вы действительно воевали?
— Воевала, Александра Сергеевна. Пришлось повоевать.
— Кстати, а где ваш брат, Стеша? — спросил Ленька и сразу же, по выражению лиц матери и сестры, понял, что задал вопрос вовсе некстати. За столом стало тихо.
— Что? — сказал он, краснея.
Стеша осторожно отставила блюдечко, с грустной усмешкой посмотрела на мальчика и сказала:
— Нет у меня, Лешенька, брата... Убили моего Павлушу еще в девятнадцатом, под Царицыном.
Ленька вспомнил фотографию высокого усатого человека, вспомнил его мягкий и вместе с тем мужественный голос, даже услышал как будто запах солдатской махорки, которую тот курил... И опять ему вспомнились Юрка, Маруся, корреспондент Лодыгин, Василий Федорович Кривцов — все, кто на его памяти погиб или пострадал за революцию.
— Что с тобой, Леша? — спросила Александра Сергеевна.
— Ничего... Я так... Ноги промочил. Кажется, я платок в пальто оставил, — пробормотал Ленька и, неловко отодвинув стул, быстро вышел из комнаты.
Когда он вернулся, Стеша говорила Ляле:
— Как же, Лялечка, видела, много раз видела. Я ведь, детка, и на деникинском фронте была, и на колчаковском, и с Юденичем повоевала. Я и Михаила Васильевича Фрунзе, и Ворошилова, и Буденного — всех перевидала...
— А Ленина? — спросил Ленька, подходя к столу.
— Нет, Лешенька, — ответила Стеша, пристально посмотрев на мальчика. Владимира Ильича я не видела, — не привелось.
Стеша долго рассказывала о своих фронтовых делах, расспрашивала Александру Сергеевну о Васе, поинтересовалась у Ляли, как она занимается в школе... С Ленькой же она ни одним словом не обмолвилась о том, что с ним было за эти годы.
Прощаясь, надевая в коридоре тужурку и повязываясь платком, она сказала Александре Сергеевне:
— Так, значит, условились. В четверг в пять часов.
— Я не знаю, как вас благодарить, Стеша, — взволнованно проговорила Александра Сергеевна.
— Что вы, Александра Сергеевна! Полно вам... Значит, в четверг после гудка и приходите. Я как раз в завкоме буду.
Проводив Стешу, Александра Сергеевна вернулась к ребятам и, закружившись, как девочка, по комнате, захлопала в ладоши.
— Ура, детки! Живем!..
— Что с тобой? — удивился Ленька.
— Ты знаешь, какая наша Стеша чудная! Она устраивает меня на работу. В клуб.
— В какой клуб?
— На "Треугольнике". Руководительницей музыкального кружка. Ты понимаешь, какое это счастье?
Ленька хотел как-нибудь выразить радость, но даже улыбнуться не смог. Александра Сергеевна перестала смеяться, внимательно посмотрела на него, оглянулась и тихо, чтобы не услышала Ляля, спросила:
— Что с тобой, мальчик?
— Ничего, — сказал Ленька.
— Что-нибудь случилось?
Ленька не мог огорчать ее в эту счастливую минуту ее жизни.
— Нет, — сказал он. И сразу же, чтобы переменить разговор, спросил: Ты знаешь, кого я встретил сегодня?
— Кого?
— Волкова.
— Какого Волкова? Ах, Волкова?! Да что ты говоришь! Постой, постой... Реалист? "Маленький господинчик", как его называл Вася? Ну, как он живет? Ведь он, если не ошибаюсь, из очень богатой и интеллигентной семьи?
Ленька хотел сказать, что этот Волков из очень богатой и интеллигентной семьи — мелкий вор, жулик, что у него блудливые, бегающие глаза и немытые руки, но ничего этого не сказал.
— Ты будешь с ним по-прежнему дружить? — спросила Александра Сергеевна.
— Нет, — не задумываясь, ответил Ленька. — Не буду.
ГЛАВА XII
Через неделю Александра Сергеевна начала работать на "Треугольнике". В этот же день Ленька в первый раз пошел в школу. Он шел туда счастливый, полный самых радужных надежд. Но и на этот раз ему не повезло с учением.
Он поступил в школу, в которой когда-то до революции училась его тетка. Именно тетка и настояла, чтобы его туда отдали. В царское время это была частная женская гимназия, так называемая "гимназия Гердер". Сейчас это была советская Единая трудовая школа номер такой-то, но ничего, кроме названия, в этой школе советского не было. На четвертом году революции здесь еще сохранились нравы и порядки, от которых Ленька давно успел отвыкнуть. Внешне все было как полагается: учились, как и в других школах, по программам Наробраза, на собраниях пели "Интернационал", в актовом зале на стенах висели портреты советских вождей... Но в классе "Д", куда был зачислен Ленька, еще доучивались бывшие "гердеровки" и мальчики из соседней Реформатской школы, бывшие классные дамы преподавали ботанику, пение и немецкий язык, и даже заведовала школой сестра бывшей владелицы гимназии мадам Гердер, или "Гердериха", как называли ее за глаза ученики. Впрочем, это прозвище Ленька слышал не часто, потому что в классе учился племянник Гердерихи — Володька Прейснер, поэт, шахматист и редактор классного журнала "Ученик".
За одной партой с Прейснером восседал долговязый силач Циглер, сын владельца музыкального магазина. За Ленькиной спиной сидела девочка — дочь евангелического пастора. Какая-то великовозрастная девица с голыми коленками разгуливала по школе в широкополой бойскаутской[35] шляпе. Слово "господа", давно уже отвергнутое и забытое советскими людьми, звучало в этой школе на каждом шагу. Слова "товарищи" не употребляли даже учителя. Обращаясь на уроках и на собраниях к ребятам, они говорили:
— Дети!..
Уже в первый день на уроке географии, когда вызванный к доске Ленька крикнул расшумевшимся ребятам: "Товарищи, тише!" — кто-то с задней парты угрожающе пробасил:
— У нас товарищей нет!..
А в перемену Ленька услышал, как за его спиной какая-то девочка пропищала:
— Гусь свинье не товарищ...
С первых же минут пребывания в школе он понял, что долго здесь не удержится. Не успев сказать со своими одноклассниками и двух слов, он уже чувствовал, что в классе он чужой, что и ребята и учителя смотрят на него если не враждебно, то во всяком случае холодно и недружелюбно. Во всем классе нашлось лишь пять или шесть человек, которых он мог и в глаза и за глаза, и в разговоре и в душе называть товарищами. Всё это были мальчики из простых семей: сын портного Изя Шнеерзон, сын живописца Котелев, сын сиделки из Максимилиановской лечебницы хромоногий Федя Янов...
С Шнеерзоном Ленька сидел за одной партой. Этот худенький, болезненный большеглазый мальчик в коротенькой залатанной курточке однажды очень удивил Леньку, сказав ему после перемены:
— Не слушай их. Они дураки. Они и меня тоже дразнят.
— Кого? Почему? — не понял Ленька. — Меня не дразнят.
Изя смутился, заерзал на скамейке, покраснел до корней волос и пробормотал:
— Они про тебя всякие гадости говорят.
Ленька не успел спросить: какие гадости? В класс вошла учительница, начался урок. После урока он почему-то не стал возобновлять этого разговора. Изя тоже молчал. Но скоро Ленька понял, в чем дело.
Его очень обрадовало, когда он узнал, что в классе издается литературный журнал. Правда, журнал ему не нравился. В "Ученике" печатались главным образом старомодные альбомные стишки, основным поставщиком которых был сам редактор Володя Прейснер. В этих стихах воспевались розы и соловьи, розы рифмовались с морозами, любовь — с кровью... Но журнал этот разбудил в Леньке его давнюю страсть. Ему захотелось самому писать стихи.
Лето двадцать первого года было очень засушливое. В южных районах страны, на Украине, на Северном Кавказе и в Поволжье опять свирепствовал голод. Этот страшный голод унес в могилу миллионы советских людей. В этом же году зарубежные капиталисты, убедившись, что им не одолеть силой молодого Советского государства, стали завязывать с Республикой торговые отношения. Чтобы накормить голодных, Советская власть закупала за границей хлеб. Осенью в петроградский порт пришли первые иностранные пароходы.
Под впечатлением этих двух событий Ленька потихоньку от всех писал поэму, которая называлась "Мы — им". Он писал ее всерьез, отдавая этой работе все свободное время. В аляповатые строчки он вкладывал весь пыл своей маленькой души. Он хорошо знал, что такое голод. Он видел голодающих и сам хлебнул лиха. Но он, как и всякий советский человек, не согласен был променять эту голодную жизнь на сытую жизнь капиталистов. Торговать мы с ними будем, — пожалуйста, но пустить их снова туда, откуда они только что с треском были изгнаны, — нет, не выйдет! Ленькина "поэма" так и кончалась:
Плывут пароход за пароходом
По финскозаливским водам.
Англия... Франция...
Соединенные Штаты...
Норвегия... Швеция...
Смокинги и латы...
. . . . . . . . . . . . . . .
Плывите, плывите,
Ползите, ползите,
От нас вы получите
Вечный
ответ:
Палачам
рурским
Дальше
Петропорта
В красную
Россию
Хода
нет!
Закончив поэму, которая после переписки заняла целую тетрадь, он понес ее Володе Прейснеру. Идти к Прейснеру ему не хотелось. Этот розовощекий напыщенный немчик в круглых роговых очках не нравился Леньке. Уже одно то, что в его присутствии боялись ругать Гердериху — не очень хорошо рекомендовало его. Но что ж поделаешь, — чтобы напечатать стихи в журнале, волей-неволей пришлось обращаться к нему.
После уроков, когда ученики выходили из класса, Ленька подошел к редакторской парте. Прейснер тщательно укладывал в клеенчатый портфель книжки и тетради.
— Я к тебе, — сказал Ленька.
— Ко мне? — удивился Прейснер. — Да, пожалуйста, я слушаю.
— Я стихи написал. Вот. Может быть, подойдут для журнала.
Редактор совсем остолбенел.
— Ты? Написал стихи?
— Что ж такого? — нахмурился Ленька. — Я давно пишу.
— Ну, давай, давай, посмотрим, — снисходительно усмехнулся Прейснер.
Бегло перелистав тетрадку, он еще больше развеселился.
— Ты, я вижу, решил сразу начать с полного собрания сочинений?
— Это поэма, — объяснил Ленька.
— Ах, вот как? Даже поэма?
Прейснер поправил очки и, близоруко приблизив тетрадку к тонкому прямому носу, стал проглядывать первые строчки. Ленька увидел, как покраснели у него уши и как задергались, поползли на сторону редакторские губы...
— Гм... Интересно... Под Маяковского стараешься?
— А что ж, — сказал Ленька. — Может быть, немножко есть. Я люблю Маяковского.
— Да?.. По-твоему, это поэзия?
— Что?
— Маяковский.
— А что же это такое, если не поэзия?
— Маяковский-то? Это рубленая проза, вот что. Голая политика и ни на грош поэзии.
— Что значит — голая?
— Ну, милый мой, мне трудно тебе это объяснить. Ты Тютчева читал когда-нибудь?
— Читал, конечно. И люблю.
— Странно...
Прейснер еще полистал тетрадку, закрыл ее и протянул Леньке:
— На, возьми.
— Что?
— А то, что эту ерунду я печатать не буду.
— Почему ерунду? — возмутился Ленька. — Ты же даже не прочел до конца!
— Не прочел и читать не собираюсь. Я уже вижу, что это за штучки. Должен тебе сказать, что у нас журнал литературно-художественный. Мы никакой политикой не занимаемся... Пошли лучше свою поэму в "Правду" или в "Бедноту"... Может быть, там напечатают... и почтовом ящике.
Не скажи Прейснер этих последних слов про почтовый ящик, может быть, все и обошлось бы. Но тут Ленька рассвирепел. Он чувствовал, что это глупо и недостойно, но не мог удержаться и, выхватив из рук редактора тетрадку, крикнул ему в лицо:
— Дурак ты очкастый!
И, запихав тетрадку в карман, он решительно зашагал к дверям. И тут, когда он выходил из класса, он вдруг услышал, как Прейснер вполголоса крикнул ему в спину:
— Вор! Колонист!..
Ленька похолодел. Кровь хлынула в голову, на несколько секунд перестало биться сердце.
Он повернулся, медленно, на негнущихся ногах, подошел к Прейснеру и сквозь зубы чуть слышно выговорил:
— Повтори... Что ты сказал?
— Я? — забормотал Прейснер, поправляя очки. — Я ничего не сказал. Тебе послышалось, наверно...
Ленька схватил его за грудь, но тотчас отпустил, повернулся и вышел из класса.
По щекам его бежали слезы. Так вот оно что!.. Вот о чем шушукаются за его спиной эти чистенькие мальчики и девочки! Вот на что намекал давеча Изя Шнеерзон! Гадины! Аристократы! Но как и откуда они узнали о его прошлом?!.
Первая мысль его была — уйти из школы. С этой мыслью он возвращался домой. Но, уже поднимаясь по лестнице, он вдруг решил:
— Нет, не уйду!.. С какой стати я буду уходить? Стыдиться? Кого? Этих гогочек? Да на них ведь в конце концов и сердиться нельзя. Ведь они даже правы. Ведь я действительно — бывший вор и бывший воспитанник колонии... Но разве они понимают что-нибудь в жизни, эти маменькины сынки? Разве они разбираются в чем-нибудь? Сосунки, которые с пеленок живут чужим трудом, осуждают меня... А вот Стеша, которая, конечно, все отлично знает, ни одним словом не попрекнула меня. А Юрка разве не знал? А другие комсомольцы? Или Изя, или Федя Янов... Нет, уж из-за одних этих ребят стоит остаться в школе!..
И еще одно обстоятельство повлияло на его решение остаться. Может быть, он отчетливо и не сознавал этого, но все-таки в глубине души он чувствовал, что в классе его не любят не за его прошлое, а за его настоящее. Ведь Прейснер не принял его поэму не потому, что ее написал бывший вор, а потому, что поэма — политическая, потому, что написана она "под Маяковского", потому что она — советская...
Нет, он не уйдет из школы! Он будет бороться.
Когда он принимал это воинственное решение, он не знал, что бороться ему придется физически, то есть кулаками, и что победителем из этой борьбы выйдет не он.
...Но и за стенами школы было немало огорчений. Случались, правда, и радостные события в Ленькиной жизни, но огорчений все-таки было больше.
Прошло почти полтора месяца с тех пор, как он сбежал с лимонадного завода, а он все еще не мог успокоиться. Каждый звонок на кухне заставлял его настораживаться и трепетать. И пугало его не то, что появиться Краузе и потянет его к ответу, а то, что обо всем узнает мать. Он так и не сказал ей, почему ушел с завода. Первое время она спрашивала его о деньгах, и он врал ей, говорил, будто ходит к хозяину, напоминает, требует, но что хозяин обманывает его, кормит "завтраками"... На самом же деле, он, конечно, не только не ходил в "Экспресс", но даже на Сенную и на прилегающие к ней улицы боялся заглядывать.
Потом постепенно мать перестала спрашивать о деньгах. Она работала, получала хорошую зарплату и паек. Несколько миллионов перепадало с каждой получки и Леньке. Получив от матери подарок, при первом случае он бежал в Александровский рынок к букинистам и покупал книги. Правда, денег было немного, но все-таки каждый раз он возвращался домой с одной-двумя книгами. Те же заветные книги, которые он откладывал и припрятывал до лучших времен, все еще лежали на полках букинистов и покрывались пылью, потому что лучшие времена в Ленькиной жизни все еще не наступили.
...Однажды, получив от матери в подарок пятнадцать миллионов рублей, он зашел после школы к знакомому букинисту.
— Здорово, читатель-покупатель! — приветствовал его старик-книжник. Новый товар получил. Иди, покопайся, может быть, что-нибудь отберешь...
Ленька спустился по железной винтовой лесенке в тесный полутемный подвал. Новый товар, о котором говорил букинист, оказался огромной кучей старых, антикварных книг, свезенных сюда из какой-нибудь барской усадьбы или особняка. Книги были в толстых кожаных переплетах, от них удивительно вкусно пахло: плесенью, типографской краской, свечным нагаром и еще чем-то неуловимо тонким и изящным, чем пахнут только очень старые, уже тронутые временем книги. Здесь были и Тредьяковский, и Сумароков, и Дидеротовская "Энциклопедия", и первое издание "Илиады" в переводе Гнедича, и Фома Кемпийский 1784 года издания[36], и масса французских и немецких книг с отличными старинными гравюрами. У Леньки разбежались глаза. Особенно захотелось ему купить маленькие аппетитные томики "Плутарха для юношества"... Плутарха он никогда не читал, помнил, что эти книги были когда-то в библиотеке Волкова, но те были скучные на вид, современной печати, а здесь — плюшаровское издание начала XIX века, на синеватой с водяными знаками бумаге, переплетенное в рыжую свиную кожу. В издании не хватало одного тома, поэтому букинист отдавал сто за бесценок: все одиннадцать томов за пятьдесят миллионов рублей.
У Леньки на руках было всего пятнадцать миллионов.
— Нет, это мало, — покачал головой старик. Потом подумал, полистал книгу и сказал:
— Ладно, так и быть, бери в кредит. Остальные занесешь после. Ты у меня покупатель постоянный. Я тебе верю.
Предложение было соблазнительное. Но Ленька не сразу решился взять книги. Где же он достанет столько денег? И хорошо и честно ли это — брать в долг, не зная, сумеешь ли вовремя уплатить его?
— Я ведь раньше, чем через неделю, вам заплатить не смогу, — сказал он букинисту. — А может быть, даже через две недели...
— Ну, что ж, — сказал букинист. — Через неделю сорок миллионов заплатишь. А через две недели пятьдесят. Деньги-то, они, сам знаешь, в цене падают... Бери, ладно, чего там...
Торговец связал бечевкой все одиннадцать томиков. Ленька отдал ему пятнадцать миллионов, простился и выбрался по железной лесенке наверх.
После темного подвала на улице было необыкновенно светло. Падал пушистый снежок. Но на душе у Леньки было не очень ясно. Он уже не рад был своей покупке и ругал себя за легкомыслие и малодушие.
А тут еще эта встреча подвернулась.
Он переходил на перекрестке улицу и вдруг услышал у себя над головой голос, который заставил его вздрогнуть:
— Эй, кум! Поберегись!..
Ленька съежился, не оглядываясь перебежал улицу, свернул за угол и с бьющимся сердцем прижался к стене. Только через минуту он решился осторожно выглянуть. По Садовой в сторону Покрова ехал извозчик. У Подьяческой он свернул на трамвайные рельсы, обогнал нагруженную ящиками тележку, и Ленька издали узнал сгорбленную спину и зеленую жилетку Захара Ивановича. Он почувствовал, что щеки его краснеют. С какой стати он прятался от этого доброго и несчастного старика? Может быть, догнать его? Но что он ему скажет? И что скажет ему Захар Иванович? Пожалуй, он только одно и может сказать:
"Эх, — скажет, — Леня, Леня... Нехорошо ты, братец мой, поступил! Натворил делов, набедокурил, а меня, старика, отвечать за себя заставил..."
...Домой Ленька вернулся мрачный. Но, раздеваясь в коридоре, он услышал за дверью Стешин голос. И сразу на душе у него потеплело.
Стеша сидела за круглым столом под абажуром и учила Лялю вязать крючком.
— Эх, ты, — говорила она. — По три, по три петельки надо захватывать, а не по две...
— Здравствуйте, Стеша! — еще из дверей крикнул Ленька.
— А-а, Книжный шкаф пришел!.. Ну, здравствуй, иди сюда... Что это мокрый такой? Фу, и меня всю вымочил. Снег идет?
— Да, что-то сыплется.
— Боже ты мой!.. Книг-то, книг! Откуда это?
— Купил, — сказал Ленька, краснея.
— Купил? Ишь ты, какой богатый стал. Что это? В кожаном... Священное что-нибудь?
— Нет... Это — называется Плутарх. История.
— Ах, история? Древняя или какая?
— Да, древняя.
— Ну, что хорошо. А я вон тебе — тоже принесла.
— Что? — поискал глазами Ленька.
— Подарочек. Вон, возьми, на шифоньерке лежат. "Дон-Кихот Ламанчский" читал?
— Читал, — сказал Ленька. — Только я давно и в сокращенном издании.
— Ну, а этот уж небось не в сокращенном. Эва какие толстенные.
— А мне тоненькую Стеша принесла. Зато вон какую! — похвасталась Ляля, показывая над столом "Крокодил" Корнея Чуковского.
— А что это ты, кавалер, как будто нос повесил? — сказала Стеша, приглядываясь к Леньке. — Случилось что-нибудь?
— Нет, — сказал Ленька, перелистывая книгу.
— В школе-то у тебя как? Идет?
— Ничего.
— Ничего или хорошо?
Ленька вздохнул и захлопнул книгу.
— Учусь довольно прилично, неудов нет, а вообще...
— Что вообще?
— А вообще довольно паршиво.
Он хотел рассказать Стеше о своем столкновении с Прейснером и обо всем, что с ним случилось, но при Ляле постеснялся.
— Ребята, в общем, неважные, — сказал он, присаживаясь к столу.
— Как это неважные? А ты сам-то что — важный?
— И я неважный...
Стеша испытующе смотрела на него.
— Лялечка, — сказала она, обращаясь к девочке. — Ты бы, деточка, чайком угостила нас, а?
— Хорошо, — сказала, вылезая из-за стола, Ляля. — Только я примус не умею разжигать.
— А ты приготовь чайничек, налей воду, а я сейчас приду — помогу тебе.
Ляля взяла чайник и ушла на кухню, бросив из дверей понимающий и довольно ехидный взгляд на брата. Стеша прикрыла за нею дверь и вернулась к столу.
— Обижают? — спросила она, присаживаясь рядом с Ленькой и заглядывая ему в глаза.
— Кто? — не понял Ленька.
— Ребята.
— Положим, — пробормотал он, смущаясь. — Не очень-то я боюсь этих гогочек.
— Каких гогочек? Что еще за выражения?
— Ну, факт, что гогочек...
И Ленька рассказал Стеше о тех старорежимных нравах, которые царят у них в школе. О Прейснере же и о том, что его назвали "вором" и "колонистом", он почему-то и Стеше не решился сказать.
Стеша выслушала его и нахмурилась.
— Ну что ж, — сказала она. — Картина знакомая. Комсомол-то хоть у вас в школе есть?
— Нет. Не знаю, впрочем... Кажется, нет.
Она еще похмурилась, помолчала, подумала и сказала:
— Вот, Лешенька, дорогой, поэтому нам и нужно с тобой учиться. Образование нам нужно с боя брать, как... ну, я не знаю, как, что ли, наши давеча Кронштадт взяли. С этой буржуйской интеллигенцией, с бобочками или с гогочками, как ты говоришь, каши не сваришь. Их долго еще, — ох, как долго перевоспитывать придется. А нам, я уже тебе говорила, своя, пролетарская, советская интеллигенция нужна.
— Да, но ведь я же не пролетарий, — мрачно усмехнулся Ленька.
— Ты-то?
Стеша, прищурившись, посмотрела на мальчика, как бы прикидывая на глазок его классовую принадлежность.
— Да, — рассмеялась она. — Пролетарий из тебя пока что не вышел. В настоящий момент ты скорее всего являешься деклассированной личностью. А это что значит? — сказала она серьезно. — Это значит — к какому берегу пристал, на том и стоять будешь. А ведь ты уже давно выбрал, к какому берегу плыть? А? Ведь знаю, выбрал ведь, правда?
Ленька молчал, опустив голову.
— Понимаешь, о чем я говорю?
— Понимаю, — сказал он. — Выбрал, конечно. Но только ведь я, Стеша, плаваю довольно паршиво.
— Потонуть боишься или не доплыть?
Она улыбнулась, похлопала мальчика по руке.
— Ничего, казак, доплывешь, не бойся. Не в такое время живешь, не дадут тебе потонуть, вытащат, поддержат... Да и плавать, дорогой, тоже нужно учиться... Правильно ведь?
— Правильно.
— А ты, Лешенька, знаешь что? — сказала Стеша, наклоняясь к Леньке. Ты всегда, когда тебе трудно бывает, — бери пример с нашей партии. Учись у нее. Ведь ты подумай, чего только с нами, большевиками, не делали! И в тюрьмах наших товарищей гноили, и на каторгу ссылали, и травили их... и клеветали... и шпионами и бунтовщиками... и по-всякому называли. А ведь люди все это выдержали... А? Доплыли ведь и дальше плывем. А ведь море перед нами широкое. А у тебя что? У тебя пустячки...
Стеша еще раз улыбнулась и погладила Ленькины вихры.
— Выплывешь, казак. Выплывешь, не бойся. А на этих гогочек ты плюнь. Дразнить будут — не слушай. Учись, и все.
...Ленька учился. В школу он пришел не с самого начала года, по многим предметам ему пришлось догонять класс, и все-таки за все полтора месяца, что он пробыл "у Гердер", он не получил ни одной плохой отметки. А хорошие отметки получать было нелегко. Он видел, что за такой же ответ, а часто и за более слабый Прейснеру или кому-нибудь еще из компании "гогочек" учителя ставили более высокие баллы, чем ему, Шнеерзону или очень способному и начитанному Феде Янову. Учителя придирались. Он чувствовал это на каждом шагу. Особенно невзлюбила его сама Гердериха, преподававшая в классе "Д" русскую историю. Эта высокая и прямая, как телеграфный столб, дама с золоченым пенсне на длинном угреватом носу смотрела на него, насмешливо прищурив маленькие слоновьи глазки. Вызывала она его чаще других. И как бы хорошо Ленька ни ответил, какую бы отметку она ему ни ставила, отпускала она его от доски с таким презрительным видом, как будто Ленька напорол несусветную чушь и заслуживает самой суровой кары.
— Садис-с, — говорила она зловеще и с такой силой встряхивала над чернильницей перо, что страшно было за ее белые манжетки и за такой же белый гофрированный нагрудничек.
С одноклассниками у Леньки отношения не изменились. Он дружил с Шнеерзоном, с Котелевым, с Федей Яновым, а на остальных старался не обращать внимания.
Но его не оставляли в покое.
Дней через пять после разговора со Стешей, придя перед самым звонком в класс, он заметил, что на него как-то особенно значительно посматривают. Когда он засовывал в ящик сумку, из парты выпала какая-то бумажка. На вырванном из тетради клетчатом листке жирными лиловыми чернилами было написано:
Ябеда!!!
— Что это? — удивился Ленька. — Это ты? — спросил он у Шнеерзона.
Изя выпучил глаза.
— Ты что — с ума сошел?
Ленька перевернул листок, ничего там не обнаружил, скомкал его и сунул в карман. Он даже не обиделся и не рассердился. Кем-кем, а уж ябедой он никогда не был. Но все-таки ему было интересно: чьих рук это дело? Проходя в перемену мимо прейснеровской парты, он внимательно посмотрел на редактора. Прейснер прищурился, усмехнулся и отвел глаза.
"Понятно", — подумал Ленька, хотя ничего понятного в этой истории для него не было.
...А следующий день оказался последним днем его пребывания в школе.
После большой перемены, когда уже отзвенел звонок на уроки, он возвращался из уборной в класс. Пробегая через актовый зал, он увидел сцену, которая заставила его остановиться. У стены возилось несколько мальчишек-старшеклассников. Долговязый лохматый парень в вельветовой толстовке, забравшись на плечи товарищу, переворачивал вниз головой портрет Карла Маркса. Остальные, воровато озираясь и хихикая, толпились вокруг.
Ленька почувствовал, как у него от гнева застучало в висках.
— Вы что делаете... сволочи?!! — закричал он, кидаясь в самую гущу этой маленькой толпы.
Парень, который придерживал долговязого, оглянулся и отпустил руки. Пирамида рухнула.
Все испуганно и растерянно смотрели на Леньку.
— А ну — повесь на место... сию же минуту! Слышишь? — накинулся он на долговязого, который, сморщившись, потирал ушибленное колено.
— А ты кто такой? — спросили у него за спиной.
— Что еще за барбос бешеный выскочил?
— А ну, дай ему, ребята!
Ленька повернулся к тому, кто это крикнул, но в это время долговязый вскочил и ударил его кулаком в затылок. Ленька поскользнулся на гладком паркете и чуть не упал. Его еще раз больно стукнули. В глазах у него потемнело. Он отскочил, размахнулся и, ничего уже не видя, изо всей силы ударил первого, кто подвернулся ему под руку, по уху.
В эту минуту за его спиной раздался разгневанный голос:
— Ты что делаешь, безобразник?!!
Он оглянулся.
По залу, наискось от двери, быстро шла, скользя по паркету, Гердериха. Ленька не сразу понял, что вопрос ее обращен к нему. Он плохо соображал, что происходит вокруг. Глаза его застилали слезы.
— Я тебя спрашиваю! Да, да, тебя! — услышал он визгливый голос и почувствовал, как его больно, с прищипом схватили за ухо. — Ты что делаешь, хулиган? А? Ты где находишься? Ты на улице или в трактире находишься?
— Вы что щиплетесь? — закричал Ленька, вырываясь и с трудом удерживая слезы. — А они что делают? Вы что — не видите?
Гердериха бегло взглянула на перевернутый портрет и с трудом сдержала усмешку.
— Что бы они ни делали, рукам волю ты давать не смеешь, — прокаркала она. — Скажите пожалуйста, какой ментор нашелся. Мальчики! — обратилась она к остальным, стараясь выглядеть строгой. — Это кто сделал? Что это за глупые шалости?
Никто не ответил ей.
— А ну, быстро повесьте картину, как она висела раньше, и сейчас же разойдитесь по классам. А ты, — повернулась она к Леньке, — изволь следовать за мной!..
Не ожидая ничего хорошего, но и без всякого страха Ленька пошел за заведующей. Она привела его в свой полутемный, заставленный шкафами и чучелами птиц кабинет. Плюхнувшись в кожаное кресло перед большим письменным столом, она несколько минут брезгливо рассматривала мальчика, тяжело дыша и постукивая массивным мраморным пресс-папье.
— Позор! — прошипела она наконец. — Позор на всю школу! Фу! Гадость! Босяк!..
Ленька вспыхнул.
— Позвольте, — пробормотал он. — Вы что ругаетесь? Как вы смеете?
— Что-о? — задохнулась Гердерша. — Как я смею? Сорванец! Мерзавец! Уличный мальчишка! Ты с кем разговариваешь? Ты думаешь, если будешь поминутно бегать в разные райкомы и фискалить, это дает тебе право дерзить своим педагогам и наставникам?!
— В какие райкомы? — не понял Ленька. — Кому фискалить?
— Ах, вот как? Он еще делает вид, что ничего не понимает? Ты говорил кому-нибудь, что у нас в школе выражаются "господа", что у нас нет комсомольцев, что у нас, видите ли, буржуазное засилье и затхлая атмос-фэ-ра?..
"Ах, вот в чем дело! — подумал, усмехаясь, Ленька. — Вот откуда "ябеда". Молодец Стеша! Значит, за Гердериху взялись, если она так злится".
— А что ж, — сказал он спокойно, — разве это не правда?
Угреватое лицо Гердерихи позеленело. Маленькие мышиные глазки с бешенством смотрели на Леньку.
— Значит, это действительно твоих рук дело? Значит, атмосфэра, которая царит у нас в школе, тебя не устраивает? Значит, тебя больше устраивают драки, хулиганство и воровство?
— Почему? — вспыхнул Ленька. — Какое воровство?
— Ну что ж, — не отвечая, сказала Гердериха, — мы найдем выход из этого положения. Как видно, милейший, ты забыл, что находишься в нормальной школе, в бывшей привилегированной гимназии, а не в приюте и не в колонии для малолетних преступников.
"Ага, все ясно, — подумал Ленька. — Теперь понятно, откуда Володька Прейснер узнал о моем прошлом".
— Ты что смотришь на меня, как зверь? — вскричала Гердериха. — Может быть, ты хочешь меня ударить или зарезать? Я бы не удивилась...
"Очень мне надо", — подумал Ленька.
— Можно идти? — сказал он, нахмурившись.
— Нет, погоди, гаденыш... Уйти ты успеешь.
С грохотом выдвинув ящик, Гердериха достала оттуда блокнот, с треском вырвала из него листок, с шумом открыла чернильницу и, тряхнув пером, одним духом размашисто написала записку.
— Передашь матери, — сказала она, протягивая записку Леньке. Немедленно. Сегодня же.
И, поднявшись во весь свой могучий рост, она молча указала мальчику пальцем на дверь.
Не попрощавшись, Ленька вышел. На лестнице он прочел записку:
"Предлагаю Вам срочно явиться в учебную часть 149 Ед. труд. школы для переговоров о безобразном поведении и о дальнейшем пребывании в стенах школы Вашего сына Алексея.
Зав. школой М.Гордер".
Он понял, что это значит. Спускаясь по лестнице, он думал о том, что идет по этой лестнице последний раз. Он надевал в раздевалке шубейку, смотрел на толстую рябую нянюшку и понимал, что никогда больше эту нянюшку не увидит.
Школы ему не было жалко. Ему было жаль мать. Он понимал, что вся эта история огорчит ее. А на душе у него и без того было немало грехов перед нею. Он до сих пор не сказал матери, что убежал с завода. Он утаил от нее покупку в кредит Плутарха. Он даже не показал ей этих книг, а спрятал их за шкафом.
...Подумывая о том, стоит ли вообще показывать матери эту записку, Ленька медленно переходил у Фонарного переулка набережную, как вдруг его опять больно ущипнули за ухо. Он был уверен, что его догнала Гердериха.
— Ну, что еще? — вскричал он, вырываясь и отскакивая в сторону.
Но это была не Гердериха. Перед ним стоял владелец "Экспресса" — Адольф Федорович Краузе.
Хозяин шел из бани. Это видно было и по его раскрасневшемуся лицу, и по маленькому ковровому саквояжику, который он бережно держал под мышкой. Донкихотская бородка его на морозе слегка заиндевела. На котиковой шапке, домиком стоявшей на его голове, тоже поблескивали искорки инея.
— Вот мы и встретились, — весело сказал он.
Леньке ничего не оставалось делать, как сказать "здравствуйте".
— Учишься? — спросил Краузе, показывая глазами на Ленькину сумку.
— Учусь, — ответил Ленька.
— Хорошо делаешь. Учиться в твоем возрасте мальчику более приличествует, чем работать на заводе или, тем более, возить какие-то тележки. И в каком же ты классе учишься?
— В "Дэ".
— Гм... А как же это будет, если по-старому?
— По-старому — в третьем.
— Ишь ты... Ну, ну... И хорошо занимаешься?
— Ничего.
— Да, кстати, голубчик, — сказал Краузе. — Это ведь ты разбил у меня четыре ящика пива и два ящика лимонада?
— Я... да, — пробормотал Ленька.
— А ты не подумал, маленький негодяй, что, прежде чем уходить с завода, тебе следовало рассчитаться с хозяином?
— Я думал, — сказал Ленька.
— Вот как? И долго думал?
Ленька молчал.
— Должен тебе напомнить, голубчик, — ласково сказал Краузе, — что в мое время мальчиков, которые так поступали, секли розгами.
— Сколько я вам должен? — глухо сказал Ленька.
— Сколько должен? А это мы сейчас подсчитаем.
Краузе скинул перчатку и стал загибать толстые, розовые, как у младенца, пальцы.
— Насколько мне помнится, ты разбил всего сорок восемь бутылок пива и двадцать четыре бутылки лимонада. Если считать по нынешнему курсу... Сейчас, погоди... Четырежды восемь — тридцать два и плюс четыреста восемьдесят... Это значит... пятьсот, пятьсот двенадцать и плюс...
Он долго шевелил и губами и пальцами и наконец радостно объявил:
— Всего ты мне должен семьсот восемьдесят четыре миллиона рублей.
Ленька чуть не упал.
— Послушайте, но ведь вы же мне тоже должны! — воскликнул он.
— Я? Тебе?
— Вы же не заплатили мне жалованья!
— Ах, вот как? Ты считаешь, что заслужил жалованье? Ну, что ж. Так и быть, скинем сотенку. За тобой шестьсот восемьдесят миллионов. Изволь поплачивать.
— У меня нет, — сказал Ленька упавшим голосом.
— Я понимаю, что у тебя с собой нет. Но, может быть, дома?
— Нет, и дома нет.
— Если у тебя нет, так найдется, вероятно, у матери. Ты где, кстати, живешь, я забыл?
Ленька хотел соврать, но почему-то не соврал, а сказал правду:
— Здесь... вот в этом доме... в розовом... около церкви...
— Прекрасно. Идем!
— Куда? — похолодел Ленька.
Он представил себе все, что сейчас произойдет. Представил огорчение матери, испуганную рожицу Ляли, ехидные усмешечки тетки.
— Адольф Федорович! — воскликнул он.
Хозяин схватил его за руку.
— Ты что — хочешь, чтобы я милицию позвал?
Они уже шли через двор и подходили к подъезду, когда Ленька предпринял еще одну попытку разжалобить хозяина.
— Адольф Федорович! — взмолился он. — Пожалуйста... Клянусь! Я завтра... я послезавтра достану... я принесу вам деньги. Запишите мой адрес. Я здесь вот, на этой лестнице, в тридцать первой квартире живу. Ей-богу! Адольф Федорович... Пожалуйста... прошу вас...
Вряд ли хозяин пожалел Леньку. Скорее всего, он побоялся объясняться с незнакомой ему женщиной. Подумав и потеребив заиндевевшую бородку, он сказал:
— Хорошо. Так и быть. Поверю тебе. Но только — смотри, Леня! Если до субботы не придешь и не принесешь денег...
— Приду! Принесу! — перебил его Ленька.
— ...не поздоровится тебе, — закончил хозяин.
Он записал в записную книжку адрес и ушел. А Ленька постоял, дождался, пока Краузе скроется под воротами, и поплелся домой.
...Он не знал, что ему делать.
"Зачем я сказал, что до субботы расплачусь?! — ругал он себя, поднимаясь по лестнице. — Где я возьму эти шестьсот восемьдесят миллионов? Все равно ведь это только отсрочка. В субботу он придет к маме и все расскажет ей".
И вдруг он решил: "Не буду ждать. Расскажу ей все сам".
Он понимал, что готовит матери удар, и все-таки от этой мысли ему стало легче.
На лестнице пахло чадом. Дверь на кухню была приоткрыта, и Ленька услышал голос матери:
— Нет, ты не представляешь, Раюша, какое это счастье, — говорила она. Это такая чудесная, такая здоровая, чистая, талантливая молодежь... Заниматься с ними одно наслаждение. И, ты знаешь, насколько лучше эти рабочие парни и девушки бездарных буржуазных девчонок, которые по принуждению бренчали на фортепьяно...
"Ну, вот, — подумал Ленька. — Она счастлива, радуется, что нашла по душе работу, а я ей..."
Он вошел на кухню, и сразу же с лица матери слетела улыбка.
— Что? — сказала она.
Испуганно уставилась на него и тетка, застывшая над плитой с алюминиевой поварешкой в руке.
— Ляля дома? — спросил Ленька.
— Нет, она еще не приходила. А что? Что случилось?
— Ничего. Пройдем в комнату. Мне надо поговорить с тобой.
Он рассказал матери все: и о своих школьных делах, о которых до сих пор не говорил с ней, и о побеге с завода, и о разбитых бутылках, и даже о тех тридцати пяти миллионах, которые он остался должен букинисту. В довершение всего он выложил перед ней записку заведующей. Александра Сергеевна выслушала его, прочла записку, и в голосе ее задрожали слезы, когда она сказала:
— Мальчик, дорогой... Ну, что ты со мной делаешь? Ну, зачем ты, скажи пожалуйста, молчал столько времени?!
— Я не хотел тебя расстраивать, — тоже со слезами на глазах пробормотал Ленька.
— Не хотел расстраивать? Спасибо тебе. Но все-таки, пожалуй, тебе не стоило откладывать все до последней минуты.
Ленька молчал и уныло смотрел себе под ноги.
— Погоди, давай разберемся, — сказала мать, потирая лоб. — Господи, и все сразу! И деньги, и эта записка... В школу я завтра утром схожу, поговорю с этой Гердер...
— Не надо, не ходи, — пробурчал Ленька. — Все равно я там учиться не буду.
— Да, я тоже думаю, что из этой школы тебе надо уйти. Но все-таки я считаю нужным поговорить с этой особой.
— Это ты ей сказала, что я — бывший беспризорный?
— Да, сынок. Это моя ошибка. Прости меня. Я думала, что имею дело с настоящим советским педагогом, думала, что воспитатель должен знать все о прошлом своего ученика. Оказывается, я попала не по адресу... Ну, что же, все к лучшему. В этой школе тебе делать действительно нечего. Найдем другую, получше...
— Я не буду учиться. Я пойду работать, — мрачно сказал Ленька.
— Работать? — усмехнулась Александра Сергеевна. — Ты уже поработал, попробовал. Погоди, дорогой, не спеши. Давай лучше сообразим, что нам делать с деньгами. Сегодня у нас что? Среда? Завтра у меня получка. Я должна получить довольно много за сверхурочные. Правда, я думала купить Лялюше новые рейтузы. Бедняжка совсем замерзает. Но — ничего. Зима, слава богу, не такая суровая. Подождет. Купим в следующую получку.
Александра Сергеевна встала, обняла мальчика за шею и поцеловала его в затылок.
— Не унывай, сынок, — сказала она весело. — Выкрутимся. Денег я тебе дам.
...Работала она по вечерам, возвращалась домой поздно. Но на другой день, получив зарплату, Александра Сергеевна специально приехала с Обводного канала, чтобы передать Леньке деньги.
— На, получай, безобразник, — сказала она, вручая ему две запечатанные пачки с деньгами. — Тут семьсот пятьдесят миллионов. Рассчитайся заодно и за Тацита своего или — как его? — за Плутарха... Не потеряй только, смотри!
У Леньки от стыда щипало уши, когда он принимал от матери эти деньги. Запихивая толстые пачки в карман, он бормотал слова благодарности, а она, не слушая его, говорила:
— Была я у твоей Гердер. Ну и особочка, должна я тебе сказать! Мумия какая-то! Честное слово, я с гимназических лет таких не встречала. Торжественно объявила мне, что на педагогическом совете ставится вопрос о твоем исключении... На что я, столь же торжественно и с большим удовольствием, ответила, что она опоздала, так как я сама забираю тебя из-под ее опеки. Вообще поговорили по душам. А Стеша, оказывается, действительно взялась, и довольно решительно, за эту бурсу. На днях ее будет ревизовать какая-то специальная комиссия...
...В тот же день Ленька отправился в "Экспресс" — расплачиваться с бывшим хозяином. По пути он хотел зайти к букинисту, заплатить за книги. Но, уже подходя к Александровскому рынку, он решил, что, пожалуй, лучше сделать это на обратном пути. Он понимал, какие соблазны ждут его в маленьком полутемном подвале, и счел за лучшее отложить этот визит до вечера.
Но известно, что искушения подстерегают человека не только на тех углах, где он их ждет.
Дойдя до Измайловского моста, Ленька свернул на Фонтанку. Здесь брала начало та огромная мутная человеческая река, именуемая барахолкой, которая заливала в те годы набережную Фонтанки и все прилегающие к ней улицы и переулки от Вознесенского до Гороховой. Ленька шел через эту густую, как повидло, толпу, стараясь не заглядываться по сторонам и придерживая рукой оттопырившийся карман, заколотый для верности французской булавкой. Со всех сторон на него наседали люди и вещи. Люди расхваливали свой товар, спорили, торговались, ругались, выкрикивали цены. Все, что можно было купить и продать, и даже то, чего, казалось бы, уже нельзя было продать за полной изношенностью и обветшалостью, выносилось на барахолку. Тут можно было при желании приобрести не очень подержанные солдатские брюки галифе и лайковые дамские перчатки, ржавый замок без ключа и допотопную купеческую лисью шубу, кофейную мельницу и страусовое перо, пасхальную открытку, электрическую лампочку, диван, велосипед, щенка-фокстерьера, самовар, швейную машину, очки, водолазный костюм, медаль "За взятие Очакова"...
Тут же в толпе вертелись жулики, маклаки, валютчики и другие подозрительные личности, неизвестно откуда выплывшие на поверхность земли после того, как Советская власть временно разрешила частную торговлю. Среди этих чубатых молодцов не последнее место занимали "марафетчики" с их незамысловатыми жульническими играми, вроде лото, рулетки, "наперсточка", "веревочки" или "трех листиков"... Марафетчиков окружали их помощники, "поднатчики", которые на глазах у доверчивой публики с невероятной легкостью выигрывали раз за разом огромные ставки.
— А вот подходи, — кричал безногий инвалид-марафетчик. — Кручу, верчу, деньги плачу! За тыщу пять, за две десять, за три пятнадцать, за пять двадцать пять. Занимай места, вынимай полета!
Ленька отлично знал, что все это чистое мошенничество, что выигрывают деньги только поднатчики, то есть люди, которые находятся в сговоре с хозяином игры, а стоит поставить на рулетку неопытному игроку, человеку, не знающему законов барахолки, и сразу же счастье повернется лицом к марафетчику. Он много раз видел, как играют, но сам никогда не играл, хотя иногда у него и возникало желание испытать свое счастье и ловкость.
Это искушение шевелилось у него где-то в глубине души и сейчас. Мысль, что, выиграв много денег, он сможет уплатить долги и хозяину и букинисту и одновременно вернуть деньги матери, казалась ему очень соблазнительной. И все-таки он не поддавался соблазну и не задерживался у стоянок марафетчиков, хотя несколько раз поднатчики останавливали его, хватали за руки и даже тянули в толпу.
— Эй, парень, — шептали они ему на ухо. — Разбогатеть хочешь? Давай, поставь на счастье. Выиграешь! Ей-богу! Хочешь, давай со мной на пару! Я умею, меня этот хромач не проведет...
— А ну вас! Катитесь, — отмахивался от них Ленька. — Знаю я вас. Не на такого напали...
...Погубили его черные детские рейтузы.
Краснощекая тетка несла их, развесив на вытянутой руке, и тоненьким голосом кричала:
— А вот кому рейтузики!.. Теплые... шерстяные... Век носить — не сносить. Рейтузики... рейтузики кому? Дешево отдаю.
Ленька вспомнил, что по его вине сестра осталась без зимних рейтуз, подумал, что, имея большие деньги, он сможет купить и подарить Ляле эти рейтузы, остановился и сказал себе:
"А что — попробовать, что ли? Ведь это только простачки проигрывают, которые не знают всех тонкостей игры, а у меня глаз наметанный, меня на арапа не возьмешь..."
Он вспомнил, что у него есть еще тридцать миллионов сверх той суммы, которую он должен был уплатить своим кредиторам, и решил, что если будет играть, то только на эти деньги.
Зайдя в какой-то подъезд, он откинул полу шубейки, отстегнул булавку, вытащил из пачки потоньше три бумажки по 10 000 000 рублей, зашпилил карман и вернулся на рынок. Несколько минут он стоял в толпе, окружавшей марафетчика, и приглядывался, следил за серебряной стрелкой, которая быстро бегала по размалеванному кругу рулетки. Он заметил, что выигрывают у поднатчиков чаще всего цифры 8 и 12.
"Поставлю на двенадцать", — подумал он.
— Эй, браток, — зашептал ему на ухо какой-то подвыпивший верзила. Давай на пару поставим? У меня пять лимонов есть, и ты пятишник ставь. Выиграем — пополам.
— Ладно, не лезь, — сказал Ленька. — Я и сам поставлю...
— А ну, давай, давай, — обрадовался тот, освобождая для Леньки место у табуретки и довольно заметно подмигивая хозяину игры.
"Ничего, ничего, мигай, — подумал Ленька. — Увидим, как ты сейчас замигаешь".
— Значит... если выиграю, за миллион пять получаю? — спросил он у марафетчика.
— Ручаюсь! — воскликнул тот, выхватывая из-за пазухи порядочный ворох скомканных и засаленных дензнаков.
— Ставлю на двенадцатый номер, — сказал Ленька дрогнувшим голосом.
— А ну, ставь.
Ленька свернул трубочкой десятимиллионную бумажку и положил ее на краешек табурета — против цифры "12".
— Кручу, верчу, деньги плачу! — весело закричал инвалид и действительно ударом толстого пальца раскрутил серебряную стрелку рулетки. Она завертелась с быстротой велосипедного колеса, превратилась в один сплошной, сияющий и колеблющийся круг, потом этот круг стал суживаться, тускнеть, стрелка побежала потише, закачалась, заерзала и остановилась против цифры "12".
— А, черт! — с досадой сказал марафетчик. — Ну что ж, на, получай.
Он вытащил из-за пазухи ворох дензнаков, послюнил палец и, небрежно отсчитав, протянул Леньке пять бумажек по 10 миллионов.
"Ловко я!" — подумал Ленька.
— Еще будешь? — спросили у него.
— Буду, конечно, — усмехнулся Ленька.
— Сколько ставишь?
Несколько секунд Ленька колебался.
— Давай, давай, парень, — шептали ему в оба уха. — Ставь, не бойся. Выиграешь...
Он знал, что нашептывают ему поднатчики, что они нарочно заманивают его, и все-таки этот назойливый лихорадочный шепот возбуждал и подхлестывал его.
— Пятьдесят, — сказал он.
Он опять поставил на "12". И опять серебряная стрелка остановилась у цифры "12".
— Вот бес! — с некоторым даже восхищением воскликнул марафетчик. — С тобой, брат, и играть опасно. Ну что ж, выиграл — получай. Сколько я тебе должен? Двести?
— Нет, не двести, а двести пятьдесят, — сказал Ленька.
— Что ж, на, бери, разоряй инвалида!..
"Да, пожалуй, тебя разоришь", — подумал Ленька.
— Ну, больше не будешь небось? — спросил инвалид, опасливо поглядывая на мальчика.
— Нет, почему? Буду, — сказал Ленька.
— Играешь?
— Играю.
— На сколько?
В руке у Леньки был зажат огромный комок, который даже трудно было держать.
— Вот на всё, — сказал он.
— На двести пятьдесят мильонов?
— Да, на двести пятьдесят.
Толпа ахнула.
"Сейчас обману их, — поставлю не на двенадцать, а на восемь".
Он видел, как жулики переглядывались и перемигивались между собой.
Он поставил на восьмерку. Но стрелка почему-то опять остановилась на двенадцати.
"Эх, надо было за "двенадцать" держаться!" — с досадой подумал Ленька.
— Промахнулся, браток, — с добродушной усмешкой проговорил инвалид, спокойно забирая деньги и засовывая их за пазуху. — Не пепла и тебе, как видно, фортуна улыбается. Еще будешь? — спросил он.
— Да, буду, — сказал Ленька.
Он видел, как из-за спины марафетчика какой-то человек в ватнике и в барашковой солдатской шапке отчаянно мигает ему и качает головой. Он понимал, что его предупреждают: не играй, плюнь, тебя обманывают, но азарт игры уже овладел им, он ничего не понимал, не соображал, не мог остановиться.
— На сколько играешь? — спросили у него.
— На столько же, — ответил Ленька.
— На двести пятьдесят?
— Да.
— Выкладывай деньги.
В руках у Леньки было всего двадцать миллионов.
— Я отдам, не беспокойтесь, у меня есть, — сказал он, похлопав себя по карману.
— Нет, брат, изволь деньги на кон. Этак по карману-то всякий умеет хлопнуть. Может, у тебя там семечки или огурец соленый...
— Пожалуйста... Семечки! — сказал Ленька, торопливо отворачивая полу шубейки и застывшими руками отстегивая булавку. Он вытащил из кармана запечатанную пачку, на которой было написано: "500 млн." У марафетчика и у поднатчиков забегали и заблестели глаза. Человек в барашковой шапке громко крякнул.
Руки у Леньки дрожали, когда он вскрывал пачку.
— Ладно, погоди, не рви, — остановил его марафетчик. — Долго считать. Проиграешь — тогда расплатишься. Я верю. Можешь не ставить. На какой номер играешь?
— Эй, парень, на двенадцатый, на двенадцатый, — зашептали со всех сторон поднатчики.
— На восьмой, — сказал Ленька.
Ему казалось, что серебряная стрелка никогда не остановится. Он перестал дышать. От страха и волнения его начало тошнить.
— Не угадал, — услышал он откуда-то очень издалека голос марафетчика.
Стрелка, покачиваясь, остановилась у цифры "12".
— Еще будешь?
— Да, буду, — уже не своим голосом ответил Ленька.
Он поставил на двенадцатый номер. Стрелка остановилась на шестерке. Он проиграл всю пачку. Он проиграл 20 миллионов, которые были у него на руках.
— Ну, кончил? — весело спросил марафетчик.
— Нет, не кончил, — прохрипел Ленька, доставая из кармана вторую пачку.
Через пять минут он держал в руках пять или шесть бумажек по десять миллионов. Это было все, что у него осталось.
— Давай, давай, парень! Играй! Выиграешь, — уже посмеиваясь, ворковали поднатчики.
Ленька увидел, как за спиной марафетчика человек в барашковой шапке презрительно усмехнулся и как губы его явственно и отчетливо выговорили: ду-рак.
— Играешь? — спросил марафетчик.
— А ну вас всех к чегту! — сказал задрожавшим голосом Ленька. Катитесь... оставьте... пустите меня... жулики!..
В горле у него было горько и сухо, как будто он наелся черемухи или волчьих ягод. Ничего не видя, он выбрался из толпы.
"Дурак... идиот... подлая тварь", — без жалости ругал он себя.
— Рейтузики... рейтузики не надо ли кому? — услышал он пискливый бабий голос. — А вот рейтузики... теплые... зимние... шерстяные...
"Господи, что же делать?! — воскликнул мысленно Ленька. — Пойти домой к маме, все рассказать ей?"
Нет, об этом даже думать было страшно.
Он подошел к решетке набережной... Фонтанка была покрыта грязным льдом. Он представил черную глубокую воду, которая медленно течет и колышется под этим ледяным покровом, и содрогнулся.
...Без всякой цели он бродил часа полтора по окрестным улицам. Было уже темно. Он замерз, проголодался.
На Мучном переулке зашел в маленькую чайную, сел в углу, заказал рисовую кашу, какао, два пирожных.
С мрачной прожорливостью он ел переваренную, темную, как топленое молоко, сладкую кашу, думая о том, что ест он, вероятно, последний раз в жизни. Вдруг он услышал у себя над головой радостный возглас:
— Хо! Кого я вижу?!
У столика стоял и улыбался своей безжизненной нервной улыбкой Волков. Он был в американской желтой кожаной куртке с цигейковым воротником-шалью, на голове его, сдвинутая набекрень, сидела котиковая шапка-чухонка.
— Разбогател? А? — спросил он, протягивая Леньке руку и показывая глазами на пирожные и прочую снедь.
— Да, — мрачно усмехнулся Ленька, — "газбогател"...
— Что же ты меня обманул, Леша? — сказал, присаживаясь к столу, Волков. — Обещал прийти и не пришел. А? Я ждал тебя...
— Мне некогда было, — пробормотал Ленька.
— Работаешь?
— Нет... учусь. То есть учился... Сейчас не учусь уже.
— Выгнали?
— Да, почти выгнали.
— Послушай, Леша, — сказал Волков, заглядывая Леньке в глаза. — Ты чем-то расстроен? А? Правильно? Угадал? Опять что-нибудь стряслось?
Ленька находился в таком состоянии, что любое, мало-мальски теплое и дружеское сочувствие, даже сочувствие такого человека, как Волков, было ему дорого. Он рассказал Волкову все, что с ним случилось.
— Эх, братец... какой ты, ей-богу, — сказал, усмехнувшись, Волков. Разве можно?.. У этих же марафетчиков такие кнопки, шпенечки. Они нажимают на каком номере нужно, на таком стрелка и останавливается.
— Ну их к чегту! — хмуро сказал Ленька.
— Правильно, — согласился Волков. — Послушай, Леша, — сказал он, помолчав и подумав, — ты оба пирожных будешь кушать?
— Бери, ешь, — мрачно кивнул Ленька.
— Мерси...
Волков подхватил грязными пальцами рассыпчатый "наполеон", широко открыл рот и сунул туда сразу половину пирожного.
— Постой, — сказал он, облизывая губы и смахивая с воротника слоеную крошку. — А сколько ты должен этому — своему патрону?
— Какому патрону?
— Ну, хозяину.
— Много, — вздохнул Ленька. — Шестьсот восемьдесят лимонов.
— Н-да. Это действительно много. А у тебя сколько имеется?
— А у меня — ни шиша не имеется. Вот все, что на руках — двадцать четыре лимона.
— И занять негде?
— Негде.
Волков доел пирожное, облизал пальцы и сказал:
— Я бы тебя, Леша, выручил охотно, но, видишь ли, я сейчас временно сам на колуне сижу.
— Я и не прошу, — сказал Ленька.
Волков минуту молчал, сдвинув к переносице тонкие брови.
— Погоди... Сейчас придумаем что-нибудь...
Он вытер о бахрому скатерти пальцы, напялил шапку, поднялся.
— Ладно... Идем. Достанем сейчас.
— Где?
— Неважно где. Беру на свою ответственность. Ты рассчитался?
— Да. Заплатил.
Они вышли на улицу. Волков шел уверенно, поглядывая по сторонам.
— А идти далеко? — спросил Ленька.
— Нет... Тут, совсем близко. Вот хотя бы — в этом доме.
Они свернули под ворота.
— Если спросят, куда идем, — негромко сказал Волков, — говори: в квартиру двадцать семь, к Якову Львовичу. Понял?
Ленька ничего не понял.
— Почему? — спросил он.
Волков не ответил.
На черной лестнице пахло кошатиной. На площадке мигала покрытая толстым слоем пыли десятисвечовая лампочка.
— А ну, нагибайся, — шепнул, останавливаясь, Волков.
— Что? — не понял Ленька.
— Ну, быстро! В чехарду играл когда-нибудь?
— Играл.
— Нагибайся же. Черт! Слышишь? Пока никого нет.
Ленька понял.
Он нагнул голову, ладонями уперся в стену. Волков быстро и легко, как цирковой акробат, вскочил ему на плечи. Что-то хрустнуло, на лестнице стало темно, на голову Леньке посыпалась пыль и кусочки штукатурки.
Он почувствовал, что его затошнило. Что-то внутри оборвалось.
"Кончено", — подумал он.
Волков бесшумно, по-кошачьи, спрыгнул на каменный пол.
— Есть! — услышал Ленька в темноте его радостный, возбужденный голос. Сто лимонов имеем. Живем, Леша. Пошли дальше!..
В этот вечер они свинтили в разных домах Мучного переулка восемь лампочек. В кустарной электротехнической мастерской на Гороховой улице продали эти лампочки по сто миллионов за штуку.
Тут же, на улице, Волков отсчитал и передал Леньке семьсот миллионов рублей.
— Ну, вот видишь, и заработали на твоего хозяйчика, — сказал он, улыбаясь и заглядывая Леньке в глаза. — С гаком даже. И мне, мальчишке, на молочишко кое-что осталось. Просто ведь?
— Просто, — согласился Ленька.
— Завтра пойдем?
— Что ж... пойдем, — сказал Ленька. Его все еще тошнило. И на сердце было пусто, как будто оттуда вынули что-то хорошее, доброе, с таким трудом собранное и накопленное.
...На следующий день перед обедом он пришел на Горсткину улицу.
У дверей заведения стояла хорошо знакомая ему тележка. Одно колесо ее почему-то было опутано цепочкой, и на цепочке висел замок... В коридоре, на ящиках из-под пива, спал, подложив под голову руки и сладко похрапывая, Захар Иванович. На дверях хозяйского кабинета тоже висел замок. В укупорочной было тихо: машина молчала. Удивленный и даже слегка напуганный всем этим, Ленька приоткрыл дверь. Белокурая купорщица Вера сидела на табуретке у машины и читала какую-то сильно потрепанную книжку. Другие тоже сидели не работая.
— А-а, беглый каторжник явился! — радостным возгласом встретила Леньку разливальщица Галя.
Его окружили, стали тормошить, расспрашивать.
— А что случилось? Почему вы не габотаете? — спросил он, оглядываясь.
— А ничего не случилось. Так просто. Надоело. Решили отдохнуть.
— Нет, правда...
— Итальянская забастовка у нас, — объяснила Вера.
— Какая итальянская?
— А такая, что сидим каждый на своем месте и не работаем. А из-за кого забастовку подняли, знаешь?
— Из-за кого?
— Из-за тебя и подняли, разбойник ты этакий...
Ему рассказали, в чем дело. Оказывается, хозяин в течение почти двух месяцев вычитывал из зарплаты Захара Ивановича штраф за разбитые Ленькой бутылки... Старик терпел и молчал, считая, что он виноват — не уследил за порученным его попечению мальчишкой. Наконец одна из судомоек не выдержала и пожаловалась в профсоюз. Оттуда приехал инспектор, от хозяина потребовали, чтобы он заключил с рабочими коллективный договор. Краузе отказался. Тогда союз предложил работникам "Экспресса" объявить забастовку.
— Ведь вот сволочь какая! — не удержался Ленька. — А где он?
— Кто? Адольф Федорович-то? Да небось опять в союз побежал. Уж второй день не выходит оттуда, сидит, торгуется, как маклак на барахолке. А тебе зачем он? Соскучился, что ли?
— Дело есть, — сказал, покраснев, Ленька. — Я ему деньги принес.
В это время открылась дверь, и на пороге, потягиваясь и зевая, появился Захар Иванович.
— О господи... Никола морской... мирликийский, — простонал он, почесывая под жилеткой спину. И вдруг увидел Леньку.
— Э!.. Это кто? Мать честная! Троюродный внук явился! Ленька? Какими же это ты судьбами, бродяга?..
— Захар Иванович, — забормотал Ленька, засовывая руку за пазуху шубейки и вытаскивая оттуда связанные веревочкой деньги. — Вот... возьмите... я вам...
— Что это? — не понял старик.
— Деньги... которые за бутылки... Я думал хозяину отдать, а теперь...
— Да ты что? — рассвирепел старик. — Да как ты смеешь, карась этакий, рабочего человека обижать? Чтобы я твою трудовую копейку взял?! Да я что нэпман, капиталист? Да у тебя что в голове — мочало или...
— Нет, правда, возьмите, Захар Иванович, — чуть не плача просил Ленька, пытаясь засунуть в руки Захара Ивановича деньги.
— Брысь отсюдова! — затопал ногами старик. — А то вот я сейчас швабру возьму, да — знаешь? — по тому месту, на котором блины пекут...
...Ленька вернул деньги матери. Он мог еще остановиться. Но он не остановился... Вечером пришел Волков, и у Леньки не хватило духу выгнать его, объясниться, сказать, что он не хочет знаться с ним... Он пошел по старой, проторенной дорожке.
У Гердер он больше не учился, его перевели в другую, хорошую школу.
Но и там он почти не занимался, — некогда было.
Почти месяц изо дня в день они ходили с Волковым по черным и парадным лестницам петроградских домов и вывинчивали из патронов лампочки. Если их останавливали и спрашивали, что им нужно, они из раза в раз заученно отвечали:
— Квартиру двадцать семь.
И если квартира двадцать семь оказывалась поблизости, им приходилось звонить или стучать и спрашивать какого-нибудь Петра Ивановича или Елену Васильевну, которых, конечно, к их неописуемому удивлению, в квартире не оказывалось.
Долгое время им везло. У Волкова был опыт. У Леньки этого опыта было не меньше.
Дома он говорил, что ходит по вечерам в художественный кружок при школе — учится рисовать. Ему верили.
И вот этот глупый замок и дурацкая Вовкина неосмотрительность все погубили.
И Ленька опять в камере. Опять за решеткой. И неизвестно, что его ждет.
...Проснулся он от холода. Было уже светло, и от света камера показалась больше и неуютнее. На стеклах окна, украшенного узористой решеткой, плавали хрусталики льда, по полу бегали бледные лучики зимнего солнца.
Ленька сел на лавку. Захотелось есть. Но мальчик знал, что в милиции арестованных не кормят. Он закутался поплотнее в шубейку и стал ходить по камере взад и вперед. Измерил камеру. Камера оказалась очень маленькой: девять шагов да еще поменьше, чем полшага.
Нашагал тысячу с лишним шагов — надоело. Сел на лавку, стал читать надписи, которыми были испещрены дощатые стены камеры:
"Здесь сидел ресидивист Семен Молодых за мокрое 27 апрель 1920 г.".
"Кто писал тому пива бутылку, а кто читал тому фомкой по затылку".
"Петр Арбузов 31 года сидел 5 мая 1920-го".
"Колька лягавый имеет".
"Нюрочка за тебя сел. Федя".
Под этой надписью было нарисовано химическим карандашом сердце, пронзенное стрелой. Дальше шли надписи нецензурные.
Занявшись чтением этой камерной литературы, Ленька не заметил, как дверь в камеру отворилась и в нее просунулась голова милиционера. Грубый голос равнодушно отрезал:
— На допрос.
Ленька вышел из камеры и лениво зашагал впереди милиционера.
Начальник встретил его строже, чем накануне.
— Одумался? — спросил он.
— Не в чем мне одумываться, — ответил Ленька.
— Ну ладно, нечего дурака валять... Отвечай по пунктам. Зачем был на Столярном переулке?
— По делам, — ответил Ленька.
— По каким делам?
— Коньки покупал.
— Какие коньки? У кого?
— Не знаю, у кого. В квартире двадцать семь. Разрешите, я расскажу, как дело было... Я на рынке, на Горсткином, торговал у татарина коньки, снегурочки... Тут женщина одна подходит, дамочка. Говорит: у меня дома коньки есть — могу продать. Дала адрес... Ну, вот я и пришел за коньками. Искал квартиру, а тут этот возмутительный случай...
— Гм... А не врешь?
Ленька пожал плечами.
— Ну ладно, — сказал начальник. — Проверим. — Товарищ Проценко, обратился он к усатому милиционеру. — Сходите, пожалуйста, на Столярный переулок в дом номер семнадцать и узнайте, продаются ли коньки в квартире двадцать семь. Выясните.
Ленька понял, что дело проиграно.
— Можете не ходить, — сказал он угрюмо.
— Значит, идешь на признание? — усмехнулся начальник.
— Нет, не иду.
Начальник усталыми глазами посмотрел на мальчика.
— Где живешь? — спросил он.
Ленька подумал и сказал адрес.
— Мать есть?
— Есть.
Его снова увели в камеру.
Остро давал себя чувствовать голод. В горле было горько, спина ныла от жесткой постели. Он лежал на лавке, смотрел в потолок, увешанный нитками паутины...
Через два часа его снова привели к начальнику.
Уже сгущался сумрак, в дежурной комнате горела электрическая лампочка, и зеленый колпак ее отбрасывал гигантскую тень на стену, где висел деревянный ящичек телефона и старый, засиженный мухами плакат:
"КТО НЕ РАБОТАЕТ — ТОТ НЕ ЕСТ!"
У этой стены, за барьером, разделявшим надвое помещение дежурной, сидели на скамейке Александра Сергеевна и Стеша.
У Леньки сжалось сердце, когда он увидел мать.
— Мама! — вырвалось у него.
Он почувствовал себя маленьким, несчастным и гадким самому себе, когда увидел рядом с собой ее заплаканные голубые глаза, ее вздрагивающие от слез губы и словно издалека откуда-то услышал ее добрый измученный голос:
— Господи, Леша! Неужели это правда? Ты с кем был? Ты что делал на этой лестнице? И зачем у тебя был с собою нож?
Он молчал, опустив голову, чувствуя на себе суровый взгляд Стеши и насмешливое любопытство начальника и милиционеров.
— Вы видите, гусь какой! — сказал начальник. — Второй день бьемся...
— Лешенька, дорогой, не упрямься, скажи!..
Он молчал уже действительно из одного упрямства.
И тут выступила вперед Стеша.
— Товарищ начальник, — сказала она, — позволь мне с ним один на один поговорить.
— Что ж... говорите, — сказал начальник, показывая глазами на дверцу барьера.
Стеша прошла за перегородку, отвела мальчика к окну, присела на подоконник, положила руки Леньке на плечи.
— Ну, что, казак? — сказала она тихо. — Не доплыл?
Ленька угрюмо смотрел на облезлую металлическую пряжку ее кожанки.
— Что же мы делать теперь будем? А?
— Что делать, — пробормотал Ленька. — Не доплыл — значит, на дно пойду.
— Не выйдет! — сказала она сурово. — За уши вытащим. А ну, парень, довольно волынку вертеть. Мамочку только мучаешь. Давай выкладывай начистоту: с кем был, что делал?
— Стеша, — сказал Ленька, чувствуя, что глаза его опять наполняются слезами, — вы что хотите спрашивайте, я на все отвечу, а с кем был — не скажу, товарища не выдам.
— Ну, что ж. Это дело. Товарища выдавать негоже. Но только — какой же это товарищ? Это не товарищ, Лешенька... Тебя бросил, а сам лататы задал...
Ленька дал начальнику показания. Он рассказал все без утайки — и про замок, и про лампочки, и про свои старые грехи, но имени Волкова так и не назвал и потом всю жизнь жалел и ругал себя, что оставил на свободе этого маленького, злобного и бездушного хищника, который ему никогда по-настоящему не нравился и с которым у него даже в раннем детстве не было настоящей дружбы.
Из милиции Леньку отпустили — под поручительство Стеши, взяв с него подписку о невыезде и прочитав предварительно хорошую нотацию.
...Несколько дней он жил дома, ожидая, что с минуты на минуту его вызовут в комиссию по делам несовершеннолетних, будут судить и отправят в тюрьму или в колонию для малолетних преступников.
Он уже подумывал, не стоит ли ему убежать, не дожидаясь суда, — уже изучал украдкой карту РСФСР и других советских республик, выбирая местечко подальше и потеплее, когда однажды утром его застала за этим занятием Стеша.
— Ты куда это? — спросила она, увидев разостланную на столе и торопливо прикрытую газетным листом карту.
— Никуда, — смутился Ленька. — Я так просто... Географию повторяю...
— Повторяешь? Нет, уж ты лучше не повторяй...
Она свернула карту в трубку и с решительным видом сунула ее куда-то за шкаф.
— А я тебя, кавалер, поздравить пришла, — сказала она, присаживаясь к столу и доставая из портфеля какую-то бумагу.
— С чем? — удивился Ленька.
— Вот — на, получай путевку.
— В суд? — побледнел Ленька.
— Ну вот, уж и испугался. Суда над тобой не будет. Отвоевали мы тебя, казак. А это "путевка в жизнь" называется. Послезавтра утром к девяти часам придешь на Курляндскую, угол Старо-Петергофского... Знаешь, где это? Недалеко от Нарвских ворот, у Обводного... Спросишь Виктора Николаевича.
— Какого Виктора Николаевича? А что там такое?
— А там... Ну, как тебе сказать? Детский дом... интернат... специальная школа для таких, как ты, бесшабашных.
— Я не пойду, — сказал Ленька, насупившись.
— Почему же это ты так решительно: не пойду?
— А потому... потому что я, Стеша, уже не маленький в приютах жить.
— Нет, милый мой, в том-то и дело, что ты еще маленький. Тебе еще знаешь? — расти и расти. Тебя еще вот надо как...
И маленькими сильными руками Стеша сделала такое движение, как будто выжимала белье.
— Ну как, договорились?
Ленька минуту подумал.
— Ладно, — сказал он. — Но только, Стеша, вы не думайте, я ведь все равно долго там не пробуду.
— Убежишь?
— Убегу.
— Куда же ты — на Дон или на Кубань думаешь?
Стеша рассмеялась, обняла мальчика и, потрепав его жесткие вихры, сказала:
— Эх, ты — партия номер девятнадцать!.. Никуда ты, голубчик, не побежишь. Глупости это. От хорошего на худое не бегают.
...В среду утром Ленька пришел по указанному в путевке адресу. Это был обыкновенный, ничем не примечательный городской трехэтажный дом. Внизу помещались обувной магазин, кооператив и маленькая частная лавочка. Единственный парадный подъезд был забит досками. Глухие железные ворота, выходившие в переулок, тоже оказались запертыми.
Ленька долго стучал по зеленому шершавому железу, пока не заметил толстую кривую проволоку звонка, торчавшую из облупленной кирпичной стены. Он дернул озябшей рукой проволочную петлю и услышал, как где-то в глубине двора задребезжал колокольчик. Через минуту заскрипели по снегу шаги, в воротах приоткрылось маленькое квадратное окошечко, и черный косоватый глаз, прищурившись, посмотрел на Леньку.
— Кто такая? — с татарским акцентом спросили за воротами.
— У меня путевка.
— Показывай.
Ленька вынул и показал бумажку.
В скважине заерзал ключ, калитка приоткрылась.
— Иди прямо, — сказал сторож-татарин.
Ленька пошел и услышал, как за его спиной с грохотом захлопнулась калитка.
Сердце его тоскливо сжалось.
"Как в тюрьме", — подумал он.
Во дворе человек десять мальчиков в черных суконных бушлатах и в ушастых шапках пилили дрова. С ними работал высокий немолодой человек в стеганом ватнике и в сапогах с очень коротенькими голенищами. На длинном носу его поблескивало пенсне.
Подойдя к работающим, Ленька поздоровался и спросил, где тут можно видеть Виктора Николаевича.
— Это я, — сказал человек в стеганке, отбрасывая в сторону березовое полено. — У тебя что — путевка?
— Да.
— А ну давай ее сюда.
— А-а, Пантелеев? Леня? — сказал он, заглянув в Ленькины бумаги. — Как же... слыхал про тебя. Ты что — говорят, сочинитель, стихи пишешь?
— Писал когда-то, — пробормотал Ленька.
— Когда-то? В ранней молодости? — улыбнулся заведующий. — Ну что ж, товарищ Пантелеев. Здравствуйте! Милости просим!..
Он снял варежку и протянул Леньке большую, крепкую мужскую руку. Из-за его спины выглядывали и смотрели на Леньку дружелюбные, насмешливые, равнодушные, добрые, румяные, бледные, пасмурные и веселые лица его новых товарищей. А сам Ленька, не теряя времени, опытным взглядом бывалого человека уже оценивал обстановку. Вот забор. За забором дымится высокая железная труба какого-то крохотного заводика. Правда, над забором торчат острые железные гвозди. Но при желании и при некоторой сноровке перемахнуть через такой заборчик — пара пустяков.
Он не собирался жить в этом детдоме больше одной-двух недель. Он был уверен, что убежит отсюда, как уже не раз убегал из подобных учреждений.
Но случилось чудо. Ленька не убежал. И даже не пробовал бежать...
Впрочем, здесь начинается уже другая, очень большая глава в книге Ленькиной жизни. Забегая вперед, можно сказать, что в этом приюте Ленька пробыл почти три года. Конечно, никакого особенного чуда здесь не было. Просто он попал в хорошие руки, к настоящим советским людям, которые настойчиво и упорно, изо дня в день лечили его от дурных привычек.
Ведь никто не рождается преступником. Преступниками делают людей голод, нужда, безработица. Незачем человеку воровать, если он сыт, если у него есть дом и работа, а главное — если он не чувствует себя одиноким, если он ощущает себя сыном большой страны и участником великого дела.
...Через несколько лет после выхода из школы он написал книгу, где рассказал свою жизнь и жизнь своих товарищей — беспризорных, малолетних преступников, которых Советская власть переделала в людей. Потом он написал еще несколько книг. Он сделался писателем. И этот рассказ о Леньке Пантелееве тоже написан им самим.
1938-1952
Григорий Белых Дом веселых нищих
«САЛАМАНДРА» — ШАЙКА УДАЛЬЦОВ
ДОМ ВЕСЕЛЫХ НИЩИХ
Это был такой огромный домина, что если пройтись по проспекту, посмотреть на другие здания, то просто смешно становилось от сравнения, как будто стояли вокруг не дома, а скворечники какие-нибудь или будки собачьи.
Говорили, что, когда строили этот дом, даже кирпича не хватило, и оттого подорожал он на четвертак за сотню.
А строили его потому, что будто бы домовладелец Халюстин поспорил со своим приятелем, домовладельцем Бутылкиным, кто выше построит.
Халюстин место откупил, приказал до шести этажей возводить. А когда фундамент закладывали, молебен отслужил и сам на углы по золотой десятке замазал.
Бутылкин, узнав, что дом Халюстина в шесть этажей, стал строить на семь. Но только не повезло ему. То ли инженеры были плохие, то ли кирпич оказался никудышный, но, когда возвели стены до пятого этажа, а Бутылкин приехал осматривать кладку, рухнул дом, похоронив под развалинами десятки рабочих и самого Бутылкина.
Халюстин выиграл спор. Достроил свой шестиэтажный дом и переехал в него, сдав все флигеля внаем.
Был дом как город. Выходил на три улицы. Одних окон на наружном фасаде до семисот штук было. А вывесок разных, больших и малых и очень маленьких, — как заплаток на старом халате.
На углу, над парикмахерской, висела зловещая черная рука с длинным указательным пальцем. Рядом качался деревянный калач с облезшей позолотой. Около булочной важно выпятился желтый, как попугай, почтовый ящик.
Дальше расположились: бакалейная лавка, парфюмерный магазин и «часовая мастерская Абрама Эфройкина», в единственном окне которой вечно торчала лохматая голова самого Эфройкина.
За мастерской следовали: табачный магазин — голубая вывеска, колбасная — черная с золотом и, наконец, вывеска сапожника мастерской ярко оранжевого цвета.
Буквы на ней были неровные, с замысловатыми хвостиками. Издали казалось, что они, построившись в ряд, подплясывают. Но все же можно было без труда прочесть:
ПОЧИНЩИК ОБУВИ
К. П. ХУДОНОГАЙ
А в окне мастерской висел тетрадочный лист бумаги, приклеенный к стеклу хлебным мякишем, и на листе крупно чернилами намалевано:
Здесь в починку принимают, На заказ прекрасно шьют, В срок работу выполняют И недорого берут. Сапоги, штиблеты, боты, Туфли модные для дам, Нет нигде прочней работы — Это всякий скажет вам.Так выглядел дом снаружи.
Внутри, если войти с улицы, был маленький полутемный дворик. Двор этот назывался «господский». Здесь всегда было чисто и стояла особенная чинная тишина. Даже тряпичнику тут не удавалось затянуть свое унылое «костей-тряп»: дворники тотчас же прогоняли его.
Здесь жил и сам домовладелец Халюстин с семьей, хозяин щелочной мастерской Хольм и еще какие-то важные господа.
Второй двор жители дома окрестили «курортом». В середине тут был разбит скверик, а по краям поставлены скамейки.
На третьем дворе, вернее — на задворках, в стороне от каменного великана, стоял двухэтажный почерневший от старости деревянный дом, который с незапамятных времен носил звучное имя «Смурыгин дворец».
Задворки были самой населенной и самой шумной частью дома.
Во втором этаже ругались портные, внизу, в кузнице, гремели молотами кузнецы, пели женщины, стиравшие белье в прачечной, и дробно трещали станки в сеточной.
Будни и праздники здесь были одинаково шумны. За этот шум брючники из соседнего рынка и окрестили дом «домом веселых нищих».
Кличка пристала. Скоро даже в участке, допрашивая пьяного подмастерья, околоточный не раз, махнув рукой, говаривал:
— Бросьте в камеру проспаться. Верно, из дома веселых нищих.
УТРО В «СМУРЫГИНОМ ДВОРЦЕ»
В стене была дыра. Чтобы не разводить клопов, дыру заклеили старой географической картой. Карта пришлась как раз над сундуком, на котором спят Роман с братом.
Утром, проснувшись, Роман долго рассматривал диковинные линии, сплетающиеся и расходящиеся по бумаге. Линии похожи на спутанную груду черных ниток. Петербург поместился на пальце уродливого голубого человечка, стоящего на коленях. Этот голубой человечек — море, а Петербург — крошечное кольцо, надетое на голубой палец.
Роман как будто невзначай задевает брата и выжидающе замирает. Колька перестает похрапывать, ворочается, открывает глаза, потягивается, зевает. Роман неожиданно толкает его в бок. Колька вздрагивает.
— Тьфу! Ты уже не спишь?
— Не сплю, — говорит Роман. — Давай играть в Наполеона.
— Давай, — говорит Колька. Он достает из-под подушки карандаш, перебирается через Романа к стене.
— А ты помнишь, что я вчера рассказывал?
— Помню, — говорит Роман. — Наполеона в плен взяли.
— То-то… Так вот, взяли его в плен и посадили в тюрьму на остров Корсику.
Колька показывает карандашом на маленькую розовую сосульку.
— Это и есть остров Корсика. Но Наполеон, недолго думая, удрал. Собрал своих гренадеров и пошел на Париж.
Раз-раз! Колькин карандаш быстро ставит крестики на взятых Наполеоном городах, но, не добравшись до Парижа, останавливается.
— Тут его опять разбили.
— А он?
— А он опять.
— А его?
— Опять… А остальное узнаешь завтра. Колька, смеясь, подтягивает Романа к себе и щелкает по лбу.
Роман, взвизгнув, кидается на брата с кулаками. Колька пыхтит, отбивается и вдруг спихивает Романа с кровати. Роман летит на пол. Колька хохочет. За занавеской, отделяющей угол комнаты, раздается кашель и бормотанье.
Времени — часов десять утра. В квартире просыпаются лениво. Сегодня воскресенье.
Мать встала и уже гремит самоваром на кухне. У противоположной стены спит старший брат Александр, а на сундуке в углу под иконами — сестра Ася.
За стеклянной перегородкой в темной прихожей начинается глухая возня. Слышен скрип кровати, кашель, вздохи. Потом раздается голос деда:
— Даша!
Ответа нет.
— А, Даша, — пристает дед. — Даша…
— А, чтоб тебя! Ну что? — отзывается бабушка.
— Да я так. Вставать или еще поспим?
— Спи ты. Спи.
— Да уж, кажется, выспался. Чего же лежать-то?
Бабушке еще хочется спать, но дед проснулся окончательно. Он зевает и крестит рот.
— О-о господи, господи. Пойти разве тележку смазать. Да ноги чего-то болят. Должно быть, натрудил. Третьего дня Хольмин говорит: «Свези заказ на Гагаринскую…» Слышишь, Даша, а?
— Слышу.
— На Гагаринскую. Чума ж его возьми!
Дед замолкает. Долго кряхтит, почесывается, потом опять раздумывает вслух:
— Или смазать пойти тележку-то… или полежать?
— Да лежи ты, неугомонный! — в сердцах вскрикивает бабушка.
Квартира наполняется звуками. Хлопает дверь в соседней квартире, где живет хозяин кузницы Гультяев. Кто-то, стуча каблуками, скатывается вниз по лестнице. В первом этаже робко хрюкает гармоника.
Толкнув дверь ногой, в комнату входит мать. В руках у нее весело фыркает ярко начищенный самовар.
— Вставайте, лежебоки, — громко говорит она. — Самовар на столе.
Поставив самовар, она подходит к Роману. Улыбаясь, щекочет его, хлопает по губам вкусно пахнущим, испеченным из теста жаворонком и нараспев говорит:
— Чивиль-виль-виль, великий пост — жаворонок на хвосте принес.
Роман воет от восторга и дрыгает ногами. Сегодня девятое марта. Жаворонки прилетели.
Кое-как ополоснув и вытерев лицо, Роман торопится к столу. Перекрестившись, садится и, потягивая с блюдца чай, исподлобья осматривает всех. Александр пьет нехотя. У него мрачный вид, — кажется, не выспался. Длинный нос вытянулся еще больше. Опять будет брюзжать целый день. Сестра Аська лениво жует булку и украдкой читает книгу, которая лежит у нее на коленях.
Один Колька весел и подмигивает Роману. Он исподтишка щелкает его, а сам, как ни в чем не бывало, обращается к Александру:
— Играл вчера?
— Да
— Где?
— В офицерском собрании. Танцы.
Роман жадно вслушивается. Колька и Александр — музыканты. На корнетах играют. Пять лет учились в кантонистах. Но Колька музыку бросил, служит в банке курьером, а Александр продолжает заниматься и играет в военном оркестре.
Роман мечтает тоже быть музыкантом. После чая сестра усаживается с книгой к окну.
— Слетай за газетой, — говорит Александр и дает Роману пятачок.
Роман стрелой выскакивает на лестницу.
Во дворе уже начинается жизнь. На кузнечном круге сидят мастеровые из кузницы. На них чистые рубахи.
Мастеровые курят, степенно разговаривают. Сейчас еще все трезвые.
Во втором этаже каменного флигеля, где живут портные, уже слышны возбужденные голоса.
У лестницы стоит дед. В руках у него бутылка с касторовым маслом. Он неторопливо, гусиным пером, смазывает свои грубые, солдатские сапоги.
— Ромашка, куда? — Это Женька Гультяев, сын кузнеца, орет, высунувшись из окна.
— За газетой.
— И я с тобой.
Через секунду Женька выскакивает во двор. На нем новый синий костюмчик с блестящими пуговицами. Толстый горбатый Женькин нос гордо сияет. Женька для того и выбежал, чтобы похвастать костюмом.
— Ничего себе, — говорит Роман, осторожно ощупывая костюм. — Пуговицы красивые.
По дороге Женька, захлебываясь, рассказывает новости:
— Андреяхе голову разбили. С повязкой ходит…
— Кто разбил?
— А неизвестно.
— Надо дознаться.
— А как насчет того? — таинственно спрашивает Женька.
— Слежу все время. А ты?
— И я слежу. Вчера на пушках собирались, о чем-то сговаривались. Твой Колька был, Андреяха. Я хотел подслушать, да прогнали.
— Ладно, узнаем.
— Гулять выйдешь?
— Нет, — говорит Роман, — у нас сегодня гости.
Роман торопится домой. Уже на лестнице слышит, как заливаются корнеты братьев. Это Колька по старой памяти играет с братом.
На кухне что-то шипит. Бабушка, засучив рукава, сбивает в большом горшке тесто. По квартире разносится острый и вкусный запах.
Луч света, заглянув в окно, скользнул в угол и вспыхнул на мрачных позолоченных киотах.
— Надо на две четверти, — говорит Александр. — Тут фа-диез.
КОЛЬКА ТОЧИТ КИНЖАЛ
Мать ушла на целый день в прачечную. Колька на службе, в банке. Сестра еще не возвращалась из школы. Бабушка и дед на работе. Бабушка служила в свечной мастерской, где-то на Васильевском острове, дед — в щелочной мастерской, в этом же доме. Позже всех, уложив корнет в футляр, ушел на репетицию Александр.
Роман остался один.
Сперва он разбирал папиросные коробочки. Обламывал края, а карточки раскладывал пачками. В карточки ребята играли, как в фантики. Нижние стенки коробок стоили очень дешево, верхние же крышки были «пятерками», «десятками», а если с особенно красивым рисунком, то и «стошками».
Рассортировав карточки и убрав их, Роман открыл форточку и стал смотреть на двор.
Хорошо на дворе. Солнце щедро поливает землю теплыми лучами. Воздух звенит от крика, стука и смеха. Горло щекочет дым и пар. Это в щелочной мастерской сегодня варят щелок. Рабочие перед открытыми окнами месят большими совками серую жидкую массу, разлитую по ящикам.
Из прачечной доносится надрывное пение прачек:
Хороша я, хороша, Да бедно одета, Никто замуж не берет Девушку за это…Роман загляделся на небо, по-новому синее, словно выстиранное, с редкими ярко-белыми облачками.
— Ромашка! Выходи! Под окном Женька.
— Нельзя мне.
— Ненадолго. Никто не узнает.
По лестнице скатиться вниз — одна минута. Взявшись за руки, ребята бегут к сеновалу.
В сарае полумрак. Сквозь дощатые стенки пробиваются золотые иглы солнечных лучей.
На сене развалились Васька Трифонов, Степка — сын почтальона, два брата Спиридоновы — Серега и Шурка, Павлушка Чемодан и Пеца — сын сапожника Худоногая. У Пецы настоящее имя Петька, но он не выговаривает букву «т», и, когда называет свое имя, получается «Пецка». Его и прозвали Пецей.
— Ну? — спрашивает Роман.
— Степка, говори! Степка знает! — загалдели ребята.
Степка вытер нос.
— Гулял я вчера около дома, фантики собирал. Подхожу к церковному саду — смотрю, наши ребята стоят: Андреяха, Наркис, Капешка, Зубастик и еще какие-то.
— Ну и что?
— Ну и разговаривают.
— О чем?
— А я не слышал.
— Дурак. Надо было подслушать, — сказал Шурка Спиридонов. — А дальше?
— А потом они пошли на Забалканский.
— Ну и что?
— А я не знаю, я домой пошел…
— Трепло ты, — сказал Роман. — Испугался за ними пойти.
— А ты бы взял да пошел, да узнал.
— И узнаю, — сказал Роман.
Посидели немного, помолчали.
— Батька новые стишки написал, — сказал вдруг Пеца. — Пойдемте к нему…
— Стишки слушать пошли! — закричали ребята, и один за другим стали выскакивать из сарая.
Кузьма Прохорыч Худоногай был сапожник. Об этом ясно свидетельствовали вывеска над окнами и множество сапог разных размеров и фасонов, наваленных грудами в комнате.
Но это обстоятельство не мешало Кузьме Прохорычу заниматься и стихами.
— Стихи у меня простые, — говорил обычно Худоногай. — Про явления природы, о тяжелой жизни нашего брата-мастерового и личные, из своей биографии.
Кузьма Прохорыч натягивал на колодку ботинок, когда ребята ворвались к нему. Криком и смехом наполнилась комната. Кузьма Прохорыч зажал уши, с притворным испугом глядя на ребят.
— Здравствуйте, Кузьма Прохорыч! — кричали ребята, перебивая друг друга. — Мы посидеть пришли.
Кузьма Прохорыч замахал руками и зашипел:
— Тише, саранча! Что вам надо?
— Мы так просто.
— Навестить… Можно?
— Да сидите уж, только тише, а то услышит жена, она вам задаст.
— А ее дома нет, — сказал лукаво Пеца. — Врет батька.
— Дома нет! Обманули нас! — закричали ребята.
Кузьма Прохорыч, вздохнув, покачал головой.
— Ну ладно! Видно, не проведешь вас.
Он повернул колодку, зажал ее между колен и стал стучать молотком, не обращая внимания на ребят. Некоторое время ребята сидели тихо, переглядывались и подталкивали друг друга. Потом кто-то кашлянул. Прохорыч поднял голову.
— Насиделись?
— Да так скучно.
— А что же вам?
— Стишки почитай нам, — сказал Пеца.
— Почитайте стишки! — закричали ребята. — У вас, наверно, новые есть!
— Некогда мне! Работать надо, — сказал Кузьма Прохорыч сердито.
Но ребята так настойчиво упрашивали, что наконец он, махнув рукой, открыл ящик стола. На свет появилась тетрадь в переплете.
— Ладно, прочту, — сказал Кузьма Прохорыч. — Только, как кончу, сразу уходите, а то жена застанет — и вам и мне попадет.
— Уйдем, сразу уйдем!
Кузьма Прохорыч развернул тетрадь.
— Что же вам прочитать?
— Новенькое что-нибудь.
— Новенькое?.. Про весну разве? Как в деревне она бывает.
— Читайте, читайте про весну! — загалдели ребята.
Кузьма Прохорыч откашлялся и надел на нос очки. Ребята затихли.
Вода заструилась кругом. Подснежник явился цветок. Мне в душу повеяло волей. О, как все весной хорошо!И ветер просторно бушует.
Кузьма Прохорыч кончил и поглядел на ребят.
— Еще прочтите! Мало! — закричали все. — Подлиннее какое-нибудь. Побольше… Повеселее!
— Нету у меня больше.
— Нет, есть!.. Есть!.. Пеца знает!.. Ребята не отставали.
— Так и быть, — улыбаясь, согласился Прохорыч. — Только теперь печальные стихи будут. Про свою жизнь.
Опять замолкли ребята. Кузьма Прохорыч читал:
Эх ты, горюшко, горе мое, Страданье слепое. Никогда я не вижу Счастливого светлого дня. Разве можно сказать Жизнь хорошая моя.— Мамка идет! — вскрикнул вдруг Пеца, глядя в окно.
Всполошились ребята. Кинулись в двери, давя друг друга, а Прохорыч, швырнув тетрадь в ящик стола, торопливо стал ковырять ботинок.
Литературный вечер окончился.
Колька был большой. Он уже курил. Даже сам папиросы покупал и, конечно, с такой мелкотой, как Женька или Роман, не водился.
Но разные штучки для малышей придумывал охотно.
Научил ребят стрелять спичками из ключа. Показал, как делать лягушку, чтоб хлопала, прыгала и шипела, а однажды придумал новую игру — «забастовщики».
Случилось это так.
Играли ребята в «казаки-разбойники». Те, которые были разбойники, полезли в подвал прятаться. Забрались в самый темный угол. Вдруг кто-то кричит:
— Нашел!
— Чего нашел?
— Не знаю чего. Книги какие-то.
И правда, лежат в углу какие-то книги, целая кипа, веревкой перевязаны, а сверху разными тряпками завалены.
Подтащили кипу поближе к окну, развязали. Ничего особенного. Книги разные, в серых, коричневых переплетах, без картинок, а некоторые не разрезаны даже.
Стали ребята из этих книг кораблики да стрелы делать, а Роман несколько книг домой принес. Кольке показал. Колька посмотрел, прочитал немного и спрашивает:
— Где взял?
— В подвале.
Пошел Колька в подвал и все книги к себе перетащил, а ребятам велел молчать.
— Если дворник узнает, попадет здорово, потому что эти книги про забастовщиков.
Стали ребята просить Кольку, чтобы объяснил он, кто такие забастовщики.
— Забастовщики — это рабочие, — сказал Колька и рассказал, как в девятьсот пятом году рабочие с красными флагами к царю ходили и как городовые и казаки в них стреляли. Ребята из этого игру сочинили.
Едва только ребята появились во дворе и заорали:
Вставай, поднимайся, рабочий народ… как начался страшный переполох.
Из окна высунулись жильцы, из конторы выскочили старший дворник, управляющий и младшие дворники с метлами.
Ребята разбежались. Некоторые же попались и получили основательную трепку.
Но последнее время Колька никаких занимательных штучек не показывал. Он ходил важный, задумчивый и совсем не замечал Романа.
Кольку уже несколько раз видели с большими парнями. Он принимал участие в их таинственных совещаниях.
А дома все картинки рисовал, и все одно и то же — кинжал в сердце, а вокруг змея извивается.
«Неспроста это», — решил Роман.
Однажды Роман увидел: у Кольки на правой руке указательный палец тряпкой перевязан. Колька подолгу глядит на тряпочную култышку и будто любуется ею.
— Почему у тебя палец перевязан? — спросив Роман.
— Порезал.
— А где?
— На гвозде, на девятой полке, где дерутся волки, — хмуро огрызнулся брат.
И читать начал много Колька, а книжки, которые читал, в свой сундучок прятал.
Было над чем задуматься.
Этой ночью Роман долго не мог уснуть. В квартире все спали. Колька рядом лежал, мирно похрапывал, а Роман все думал.
Вдруг Колька зашевелился и поднял голову. Роман зажмурился, прикидываясь спящим, а сам одним глазом посматривал.
Колька тихонько натянул брюки, вытащил что-то из сундучка и вышел во двор.
С бьющимся сердцем вскочил Роман и, напялив штанишки, на цыпочках пошел за братом.
Видит — сидит Колька на кузнечном кругу и что-то точит.
Притаился Роман. Колька точит, напильником шурухает осторожно, иногда останавливается, что-то вертит в руке… Песню замурлыкает — незнакомая песня, жалостливая.
Тихо на задворках и серо. Чернеют двери кузницы. Из полуоткрытого окна в первом этаже доносится храп мостовщика. Кошки бесшумно бегают. А Колька все точит и поет:
Извозчик, за полтинник
Вези меня скорей.
Я кровью истекаю
От «васинских» ножей.
Долго стоял Роман. Надоело. Замерз, зубами щелкает. Сперва с ноги на ногу переступал, после осмелел, шагнул вперед.
— Коля…
Подпрыгнул Колька, словно на иголку сел, сгреб инструменты. Бежать собрался, но, увидев Романа, плюнул.
— Вот черт! Напугал. Тебе что?
— Я немножко… — сказал Роман, пытаясь разглядеть, что держал в руке брат. — Можно с тобой посидеть?
— Иди спать. Мать увидит — выдерет.
— Она спит.
Роман шагнул еще и осторожно сел на краешек круга рядом с братом.
— А ты что делаешь?
Колька подозрительно посмотрел и буркул:
— Не твое дело.
— Ну, скажи, Колечка.
— А молчать будешь?
— Буду.
— Никому не скажешь?
— Ей-богу, нет.
Колька, немного подумав, сдался.
— Ну ладно, смотри. — И вытянул вперед руку.
На ладони лежал трехгранный напильник, только резьба сточена здорово. Обидно Роману: не думал, что секрет такой пустяковый.
— Напильник, — протянул он разочарованно. — А я-то думал…
— Дурак, — сказал Колька сердито. — Ни черта не понимаешь.
Он порылся в кармане и, вытащив медную дверную ручку, насадил ее на напильник.
— Ну, смотри, что теперь?
Роман обомлел. В руках у Кольки сверкал настоящий кинжал.
— Кинжал, право слово, — пробормотал восхищенный Роман. — Ну и здорово! А зачем он тебе?
— Драться, — сказал Колька. — У нас вся шайка с кинжалами.
— Шайка?
— А ты думал что? — Колька самодовольно засмеялся. — Десять человек. Шайка «Саламандра».
— А что это такое?
— Тайна, — помолчав, ответил Колька.
— И атаман есть?
— Андреяха атаман.
— Здорово. И драться будете?
— А как же? На Пряжку пойдем, после на семеновецких.
Колька уже не мог остановиться. Сам стал рассказывать о шайке, потом развязал палец и показал Роману крестообразный порез.
— Кровью подписывались, — объяснил он. — Так смотри… Тайна… А завтра, если не боишься, иди за нами. Будешь смотреть, как мы покроем обводненских ребят.
— Покроете?
Колька презрительно свистнул.
— Еще как! Так расщелкаем…
БОЙ В ЕКАТЕРИНГОФСКОМ ПАРКЕ
У парка много имен. Зовут его «Лысый сад», «Скопской буф», «Плешивая поляна», но официально он — Екатерингофский сад. Парк этот единственный на всю окраину. Большой он, дикий, запущенный. Даже в платной половине — в саду с открытой сценой — та же грязь, сломанные деревья, заросшие травой дорожки.
Вечером в Екатерингофе бывают гулянья. В облупившейся, кособокой раковине военный оркестр играет разухабистые польки и меланхолические вальсы. Наезжают торговцы с мороженым, с яблоками, с пряниками.
Под унылое подвывание шарманки крутится сверкающая карусель. Вертят ее мальчишки за гривенник в день. На эстраде ежедневно из года в год — матчи французской борьбы. Сухощавый арбитр в мешковатом фраке после каждой пары резким петушиным голосом объявляет:
— Чемпионат французской борьбы. Третья пара. Чемпион острова Ямайки — непобедимый борец Красная маска и чемпион России Якуба Тарапыгин.
Затаив дыхание следят зрители за борьбой. Борцы пыхтят, хлопают друг друга по жирным ляжкам вяло и нехотя.
Одним концом парк выходит на широкую грязную речку. Там густо плавает тяжелая, отливающая красной медью нефть, стоят пришвартованные к берегу буксиры и баржи.
На берегу отдыхают путиловские и портовые парни. Развалившись на чахлой траве, пьют водку, закусывая колбасными обрезками. Захмелев, пляшут и поют песни.
На площадке курорта девчонки водили хоровод, противно пища тонкими голосами:
В летнем садочке есть много цветов, Я насбираю их разных сортов. Розы, фиалки и лилии там есть, Можно для Леночки веночек сплесть.Роман сидел на скамейке, болтал ногами, подпевал.
Хотелось Роману тайну сохранить, да одному страшно было идти с большими. Вот если бы взять из ребят кого. Женьку? Разболтает сразу. Сереге сказать? Да нет его. Тут он увидел Ваську Трифонова. Васька бежал с камнем за кошкой. Роман сразу решил посвятить его в тайну. Васька — шкет отчаянный. Мать у Васьки умерла, отец — городовой, все больше на службе в участке, а когда дома, то лупит Ваську здорово. Васька обтерпелся. Дерется почем зря и всегда в синяках ходит.
Роман позвал Ваську. Тот подошел, прихрамывая и ворча.
— Эва, как колено расквасил… Тебе что? — спросил он.
Роман торопливо рассказал. Васька сразу оживился.
— Шайка?.. А не врешь? — спросил он, потирая колено. — И «Циламандра» называется? И драться будут?
— Еще как, — усмехнулся Роман. — Так расщелкают канавских!..
Васька в восторге закружился на месте и засмеялся, показывая гнилые зубы.
— Хряем, Романка…
Первыми пришли Андреяшка, Зубастик, прозванный так за большие лошадиные зубы, и Капешка, старший сын Гультяева.
Пока ребята смотрели на атамана, голубоглазого Андреяшку, подошли и остальные члены шайки. Пришел толстый парень по прозвищу Пуд, Колька, еще какие-то три незнакомых парня и два мастеровых из кузницы — Андрюха и Наркис.
Шайка собралась. Некоторое время парни совещались, потом пошли к Обводному. Роман с Васькой незаметно последовали за ними.
Вечерело. Легкие весенние сумерки туманом опустились на город. Обводный гудел гармошками и многоголосым гулом. У казенок хлопали пробки, хрипел пьяный смех.
В парке саламандровцы разошлись по дорожкам, смешались с толпой гуляющих.
На минуту Роман потерял из виду парней. Потом заметил прогуливающихся Кольку и Пуда, стал следить за ними. Роману казалось, что уже весь сад заметил приход саламандровцев и, насторожившись, следит за ними.
Видеть начало драки ребятам не удалось.
Ходили, скучали. Васька уже начал ворчать. И вдруг раздался свист. Гуляющие сразу засуетились. Со стороны Обводного донесся крик, его перебил новый свист. Дорожки быстро пустели.
— Начинается, — сдерживая дрожь, прошептал Васька.
Выскочив на полянку, ребята остановились и прислушались. В парке стало тихо, как перед грозой, только в саду духовой оркестр играл тягучий вальс.
Где-то недалеко несколько голосов гаркнули:
— Крой!
Васька побледнел, тревожно огляделся.
— Начинается! — прошептал он и, нагнувшись, схватил камень.
— Зачем? — спросил Роман.
— Драться.
Роману было страшно и весело. Он тоже поднял несколько камней.
Со стороны парка, то затихая, то усиливаясь, доносился многоголосый рев. Ребята побежали туда. За деревьями замелькали косоворотки. Косоворотки бежали в глубь парка к мосту.
— Наша берет! — крикнул Васька.
— Крой! Бей! — гремело в парке. Теперь было слышно, как по стволам деревьев щелкали камни.
Вдруг на минуту все стихло, словно противники готовились к решительной схватке, потом сразу оглушительный рев обрушился откуда-то слева.
— Ур-ра-а!
— Кажись, обошли, — прислушавшись, сказал Васька.
Мимо ребят, прижавшихся к забору, промчались Капешка, Зубастик и Пуд. За ними бежал парень с лицом, залитым кровью. Зажав голову, он не переставая орал:
— Лови! Убили!
Крики уходили к Обводному. Васька поглядел влево, вправо, потом положил камень в карман и тихо сказал:
— Улепетывай, пока не нащелкали.
Теперь они бежали вместе с наступавшими канавскими ребятами и, только выскочив на дорогу, заметили, что попали в самый центр свалки. Впереди, за трамвайной остановкой, виднелась цепь саламандровцев, сзади выбегали из парка канавские. Ребята остановились в замешательстве, но медлить было нельзя. Тяжелые булыжники, подпрыгивая как мячики, застучали по мостовой, выбивая голубые искры. Еще немного, и ребята попадут под обстрел.
Из парка выбежали два дюжих парня и кинулись к Роману и Ваське.
— Лупи их! — заорал один.
— Свои! — отчаянно крикнул Роман. Парни пробежали мимо. Вдруг Васька, размахнувшись изо всех сил, запустил камень. Один парень с ругательством схватился за голову руками, а ребята помчались к цепи саламандровцев.
— Колька! — крикнул Роман, увидев брата на левом фланге.
Колька улыбался, а под глазом у него был синяк.
— Молодцы, — сказал он. — Только утекайте, мы отступаем.
Из парка высыпала вся шайка канавских. Теперь перевес был на их стороне.
«Саламандра» дрогнула. Сперва рысцой, потом стремительным галопом ребята кинулись врассыпную.
Бой кончился. На Обводном «Саламандра» исчезла — рассосалась по переулкам.
Роман с Васькой побежали по набережной. Своих уже никого не было видно, а сзади слышался топот погони.
— Скорее! — хрипел Васька.
— Лови их! — неслось сзади.
— В ворота! — задыхаясь, крикнул Роман. Васька стремительно нырнул в какую-то подворотню. Роман за ним.
Пробежали двор. Вскочили в первую попавшуюся дверь, бегом по лестнице забрались на самый чердак и там притаились в углу.
Было темно и тихо. Площадкой ниже на освещенном подоконнике сидела рыжая кошка и опасливо поглядывала на ребят.
ВЕЧЕР У НАСТАСЬИ ЯКОВЛЕВНЫ
Когда, отсидевшись на лестнице, ребята вышли во двор, показалось Роману, что бывал он здесь. Очень знакомый двор. Сараи кособокие, качели посредине площадки, маленькая помоечка с оборванной гирей. Плохая помойка.
— Да ведь бабка здесь живет, Настасья Яковлевна. Пойдем к ней в гости. Чаю попьем.
— А заругается?
— Нет, она добрая. Только табак нюхает. Скажем, что гуляли и по пути зашли.
Дверь открыла сама Настасья Яковлевна, широкая, огромная, похожая лицом на мопса. На голове у нее был красный повойник, кофточка желтая с красными кругами, юбка синяя, пестрая.
— Внучонок! Да как ты попал? Ну, входи, обрадовал старуху, спасибо. Да дружка-то втаскивай своего, пусть не стесняется.
Ребята прошли в комнату, заставленную сундучками и корзинами. Настасья Яковлевна усадила их к столу, а сама побежала на кухню. Вернулась с большим чайником. Достала кружки, сахар, печенье.
Пока ребята, усиленно сопя, пили чай, Настасья Яковлевна, расспрашивала Романа:
— Ну, как матка? Как бабушка с дедом?
— Живем, — отвечал Роман, не зная, что бы сообщить бабке. — Вот скоро мама окна мыть будет, рамы вынут… А позавчера дед повез щелок на Гагаринскую улицу — целый день искал улицу и не нашел. Потеха!
Васька засмеялся, а Настасья Яковлевна нет. Подошла к комоду, налила из бутылки чего-то, выпила и, крякнув, сказала:
— Тяжело деду твоему. Тихий он, а все измываются. Мыслимое ли это дело — товар на тележке развозить вместо лошади.
Ребята кончили пить и перевернули чашки. Роман, подавая пример Ваське, перекрестился на икону. Настасья Яковлевна ушла на кухню, а ребята принялись рассматривать безделушки, расставленные на комоде. Тут были фарфоровые собачки, слон, глиняный мальчишка на горшке и много карточек в рамках.
Вдруг Васька ткнул Романа.
— Гляди, деньги, — быстро прошептал он.
На уголке комода лежал новенький пятиалтынный.
— Не смей трогать, — испуганно сказал Рома и поскорее отошел от комода.
Уже настал вечер. За домами оранжевая полоска неба стала красной, дома почернели и замигали огоньками. А ребята все еще сидели.
Стали играть в карты. Особенно разошлись, когда в пьяницы сыграли. Весело. Карта на карту находит. Откроет Роман девятку, а у Васьки тоже девятка, у бабушки тоже.
— Спор! — кричит Роман, заливается смехом.
— И верно, спор, — смеется бабушка. — Вы, верно, жулите. Ну, кладите еще по карте.
— Десятка, — говорит Васька. Бабушка смотрит свою и торжествует.
— Врешь, теперь моя взяла. Дама!
A у Романа — туз.
— Ага, — хохочет Роман. — Чья теперь взяла?
Смешно Роману, а Васька злится, и бабушка чаще в нос табак пихает, по-настоящему сердится.
Долго играли. Уходить не хотелось, но пора было. Стали собираться. Настасья Яковлевна расцеловала Романа, потрепала по голове Ваську.
— Ну, спасибо, кавалеры, что навестили старуху. Весело, ей-богу, с вами. Люблю вас. Еще приходите.
У самых дверей Настасья Яковлевна вдруг остановилась и хлопнула себя по лбу.
— Да что же это я! Небось мороженое уже продают. Постойте-ка!
Настасья Яковлевна рысцой побежала к комоду и на уголке, где пятиалтынный лежал, стала шарить рукой. Вздрогнул Роман, взглянул на Ваську: «Неужели спер?» А Настасья Яковлевна ищет, торопится, сердится.
— Ах ты, господи! Куда же я его засунула?
— А что, бабушка? — дрогнувшим голосом спросил Роман, чувствуя, что краснеет.
— Пятиалтынный тут лежал, — сказала бабка, взглянув на него.
— Может быть, упал? Дай-ка поищу…
— С чего ему падать?
— Ну да, упал, — радостно подхватил Васька. — Я даже слышал, как брякнуло что-то.
Настасья Яковлевна взглянула на Ваську и нахмурилась.
— Ишь ты! Говоришь, слышал, как упал? Ну, поищите…
Роман кинулся за комод, чтобы скрыть свое лицо. Теперь он был уверен, что деньги у Васьки, и только ждал, когда тот их найдет. А бабушка стояла в сторонке и мрачно наблюдала за ребятами. Наконец раздался долгожданный голос Васьки.
— Нашел! — без радости воскликнул он. Видно было, что он не чает отделаться от монеты. Лицо Настасьи Яковлевны потемнело. Она понюхала табак, чихнула и, отвернувшись к окну, сказала:
— Положи-ка, кавалер, деньгу на комод да убирайся вон. Обидел меня. Не люблю воров.
Васька даже оправдываться не стал. Положив деньги, он пошел к двери. Роман двинулся за ним, но бабушка остановила:
— Ты подожди.
Васька ушел. Настасья Яковлевна опять приложилась к бутылке, вытерла губы и вдруг спросила:
— Ты брал?
— Нет. Ей-богу, — торопливо сказал Роман. — Только видел, что лежал на комоде.
— Ну и хорошо, — вздохнула бабушка и, помолчав, горячо заговорила:
— Это, внучок, подлая штука. Украсть можно с голоду только. Вор получится из твоего дружка, если не спохватится вовремя. Не дружи с ним очень-то, да и не думай, что я сержусь.
НОВЫЙ ЕСАУЛ
У господ Гувалевых, где служила кухарка Васса Алексеевна, мальчик Боря поступил в гимназию, заважничал и перестал носить детскую черкеску. Господа Гувалевы отдали бурку Вассе Алексеевне, а та, пораздумав, двинулась к Рожновым.
— Здравствуйте, — приветствовала ее мать. — Не ждали в такую пору гостей.
— В гости приду, как позовешь, а сейчас по делам, — сказала Васса Алексеевна.
Усевшись на табурете, она с хитрой усмешкой оглядела вытянувшиеся лица. Не торопясь развязала узелок, вынула черкеску, встряхнула ее и подала опешившему от неожиданности Роману.
— Примеряй.
— Я? — спросил, еще не веря, Роман.
— А то я, что ли? — засмеялась Васса Алексеевна.
Роман поглядел на мать, на бабушку и робко дотронулся до черкески.
Шикарная была черкеска — с широкими рукавами, с патронташами на груди. Вся обшита блестящей тесьмой. А на металлическом пояске был привешен маленький кинжал с серебряной гравированной ручкой.
О такой черкеске Роман и мечтать не мог. Он стоял как вкопанный.
— Да ну, поживее!
Васса Алексеевна, повернув Романа, напялила на него черкеску.
— Будто сшита по нем, — сказала мать. Роман стоял, боясь пошевельнуться. Васса
Алексеевна улыбнулась.
— Хорошо?
— Очень, — едва выдавил потрясенный Роман.
— А коли очень, так и носи на здоровье.
В тот же день, надев бурку, Роман вышел на двор.
Ребята, окружив его, с завистью ощупывали черкеску, трогали патронташи и наперебой восторгались.
— Выберем его атаманом, — сказал Женька. — Шайку соберем и драться будем.
Забравшись на сеновал, устроили совещание. Роман выбрал себе помощника — Женьку и Ваську, потом рассказал о шайке старших.
— Будем все, как они, делать. Чтоб по-настоящему было. Нашу шайку назовем тоже «Саламандрой». — Роман разыскал железку и кусок бумаги. — Подписываться кровью будем. Все должны клятву дать — не трусить в драке, не удирать и защищать атамана.
— А может, не кровью? — спросил Женька. — Все-таки руке больно.
Но большинство приняло предложение с восторгом.
— Давай железку, Ромашка! — крикнул Васька. — Я первый буду и не испугаюсь.
Васька взял железку, немного помедлил и осторожно ткнул в руку. Показалась кровь. Васька торопливо обмазал кровью щепку и начертил на бумаге крест. Потом расписались Спиридоновы и остальные.
После торжественной церемонии вся шайка лазила по стенкам: собирали паутину и бинтовали ею порезы.
Обсосав палец, Роман завязал его какой-то тряпкой и пошел разыскивать старшую «Саламандру».
Старшая «Саламандра» собиралась в подвале, где находились дровяные сараи. Там при свете свечей они устраивали совещания.
Появление Романа было неожиданно. Некоторые парни думали, что явился дворник, бросились бежать. Зубастик сердито спросил:
— Тебе чего надо?
— Я к атаману вашему, — сказал Роман. Отыскав глазами Андреяшку, он подошел к нему и храбро протянул грязный клок бумаги.
— Наши клятвы, — объяснил он, видя удивление на лицах. — Наша шайка хочет присоединиться к вам, а я атаман.
Парни засмеялись, но Андреяшка подмигнул им и серьезно сказал Роману:
— Мы вас принимаем. Ты, как атаман, будешь моим есаулом.
Романа поставили на колени, и Андреяшка, держа над его головой финку, медленно говорил:
— Отныне ты входишь в братство шайки «Саламандра» и клянешься подчиняться ее атаману. Целуй! — Он поднес финку к губам Романа.
«Саламандра» — младшая была узаконена.
ВОЙНА СО «СНЕТКАМИ»
Последние недели поста в доме было тихо и скучно. Все только и делали, что в церковь ходили. Даже мастеровые стали меньше пить и присмирели.
Членов шайки замучили родители, беспрестанно таская по церквам, заставляя говеть и исповедоваться. Шайка долго не собиралась. А это грозило развалом. Надо было что-то предпринимать.
— Давайте драться, — предложил Роман. — Войну поповичам объявим.
Поповичи были коренные враги саламандровцев, и война с ними шла все время, то затихая, то разгораясь вновь. Это были ребята из соседнего дома. В том доме жили священники и дьяконы из собора и помещалась лавка церковной утвари.
Выбранный делегатом, Женька пошел к поповичам сообщить о начале военных действий, а «Саламандра» в боевой готовности осталась на дворе ожидать его возвращения. Вернулся Женька с необычайной поспешностью, запыхавшийся, с лиловым синяком на лбу, в растерзанном виде. Делегата избили. Возмущенные саламандровцы немедленно выступили в поход.
Поповичи, вооруженные камнями и ремнями, дружно высыпали навстречу врагу.
Битва была горячая, но саламандровцы победили. Поповичам пришлось позорно отступать, а их атаман, белобрысый гимназист, даже ремень потерял.
На другой день он пришел и стал, хныча, просить, чтоб вернули ремень.
Переговоры вел Роман. Он стоял в черкеске, как настоящий начальник, и, держась рукой за кинжал, хмурясь, строго допрашивал гимназиста:
— А будете воевать?
— Не будем, честное слово. Мир.
— Ну ладно. Ремень отдадим за выкуп. Есть фантики?
— Есть.
— Давай сто штук.
— Много. Может, пятьдесят довольно?
— Сто, или ремень не получишь.
Фантики гимназист принес, и мир снова водворился между домами.
Тогда взялись за «снетков».
«Снетки» жили в казенных рыжих корпусах Измайловского полка, что стояли против дома веселых нищих. «Снетками» звали кантонистов. Команда кантонистов, состоящая из солдатских детей, пела в Троицком соборе на клиросе. По праздникам «снетки» гуляли на пушках, изредка дрались с ребятами из дома веселых нищих.
Первым делом, поколотив «снетков», прогнали их с пушек.
На другой день кантонистов пришло больше, но ребята после жаркого боя заставили их отступить. На следующий вечер кантонисты поймали Пецу. Затащив его к себе в казарму, они выпороли его, вымазали сажей и нарубили таких банок на животе, что Пеца едва дотащился до дома.
Дело заварилось.
Наступила пасхальная ночь. Вечером мать одела Романа в чистую рубашку и, дав пятачок на свечку, отправила в церковь.
Церковь была переполнена молящимися. Одну половину ее занимали роты солдат, одетых в парадную форму с белыми ремнями и сверкающими ножнами тесаков. На другой половине теснились прихожане, а перед алтарем, отделенное оградой, стояло полковое начальство.
Хор кантонистов в полном составе гремел на клиросе.
Ребята собрались около церкви в саду. Деньги, выданные на свечки, проели на ирисках. Весь вечер ребята пробегали в саду по новым мосткам, настланным для крестного хода.
Служба окончилась. Отгудели басовые колокола. В черной мгле замигали огоньки молящихся. Вышли кантонисты.
— «Снетки»! — ревели ребята с паперти. — «Снетки», держи портки!
Кантонисты ничего не отвечали и быстро прошли мимо. Вдруг на паперть выбежал запоздавший кантонист и помчался было по переулку догонять команду.
— Стой! — крикнул Васька, хватая за грудь перепуганного мальчишку. Тот рванулся, но сзади кто-то треснул его по затылку.
Кантонист вскрикнул и заплакал.
— Попался, «снеток»! — загалдели ребята.
Кантонист, вытирая руками покрасневший нос, жалобно заскулил:
— Отпустите, что я вам сделал?
— Ага! Говори-ка, что ваши надумали? Не скажешь, излупим.
— А если скажу, не тронете? — спросил кантонист.
— Не тронем.
— Тогда скажу. В первый день пасхи нас распускают, так поповские ребята просили помочь. Значит, вместе будем вас бить.
— Измена! Проучим поповских! — закричал Женька.
— У нас и большие будут, басисты, — сказал кантонист с гордостью. — Вы лучше не показывайтесь.
— Ах, ты, плашкет! — вскипел Васька. Кто-то пнул ногой в зад кантонисту, кто-то стукнул его по спине. Минут пять ребята яростно всей оравой награждали кантониста колотушками. Потом долго смотрели, как мальчишка, подобрав полы шинели, смешно подскакивая и оглядываясь, шлепал по лужам.
— Ну что же, будем драться? — спросил Роман. — Или струсили?
— Ты не трусь, — угрюмо сказал Шурка Спиридонов.
РАЗГРОМ
Колокольный звон разбудил Романа. Прямо в полуоткрытые окна врывался он. От могучего голоса колоколов дрожал бревенчатый «Смурыгин дворец». Этот звон, шум на дворе и яркое солнце сразу напомнили, что сегодня праздник.
Роман быстро вскочил, надел черкеску, полюбовался немного кинжалом и, выпив стакан кофе, выбежал во двор.
На дворе праздник чувствовался еще острее. Все, кого он ни встречал, были в новых костюмах. Даже пьяница и оборванец Шкалик, подмастерье из кузницы Гультяева, был в новой синей рубашке.
К оглушительному звону колоколов примешивались несшиеся из окон крики, смех, пенье, бренчание балалаек, визг гармоник. По лестницам ходили компанией подвыпившие дворники. Они поздравляли жильцов и собирали праздничные чаевые.
Все ребята были во дворе. Хвастались подарками, бились крашеными яйцами, потом гурьбой пошли на колокольню. Долго лазили по темным винтовым лестницам, а забравшись на купол, смотрели оттуда вниз, где по прямым, как стрелки, улицам с маленькими игрушечными домами ходили маленькие человечки.
Серега Спиридонов звонил в колокол и, стараясь перекричать медный рев, орал Роману на ухо:
— А «снетков» не видно. Испугались, наверное.
Набегавшись на колокольне и по лестницам, ребята слезли вниз и пошли в сад играть в выбивку. Деньги были у всех. Начертили кон. Стали гнаться. Игра захватила мальчишек. С жаром ковыряли землю изуродованными пятаками, спорили и ругались. Никто не обратил внимания на толпу ребят и парней, окруживших игроков. Было не до этого. В кону стояла крупная сумма — тридцать копеек. Васька первого заломил, Роман второго. Тяжело дыша, Роман старательно складывал столбиком монеты, а вокруг стояли игроки,
— Плюнь, обязательно смажет, — взволнованно советовал Степка.
Роман плюнул.
— Бей, Васька! — закричали нетерпеливо вокруг. — Бей, только без подковырки.
И когда Васька присел и нацелился, собираясь разметать пятаком монеты, кто-то треснул его по шее. Васька перелетел через кон и ткнулся носом в землю.
— На шарап! — крикнул какой-то верзила и, нагнувшись, сгреб деньги.
— Назад! — завизжал Женька. — Отдавай деньги!
— Лупи «Саламандру»! — заорал верзила и схватил Женьку за шиворот.
— Бей «Саламандру»!
Мальчишки с ремнями и палками набегали со всех концов сада. Первый опомнился Роман.
— Отступай! — крикнул он и побежал к калитке.
Ребята выбежали на Троицкий проспект. Васька, бежавший впереди, остановился и замахал руками.
— Бери камни! Стой!
Оправившись от испуга, саламандровцы рассыпались по проспекту, готовясь встретить врага. Это были поповские мальчишки. Едва они выскочили из сада, саламандровцы рванулись им навстречу. Поповичи, словно струсив, попятились опять к саду.
— Вперед! — заорал Шурка Спиридонов.
— «Снетки» сзади, — пролепетал Женька, едва ворочая языком. Роман оглянулся и похолодел.
Сзади тихо, без криков и шума, набегали кантонисты, и было их видимо-невидимо.
Где тут защищаться! Бросились ребята во все стороны. Побежал и Роман, а за ним гнался белобрысый гимназист и звонко орал:
— Лови армяшку!.. Лови атамана!..
«Это про меня», — догадался Роман и припустил что было силы.
Но переулок кончался тупиком.
Заметался Роман, не зная, куда броситься, а сзади набегает человек десять, и впереди проклятый гимназист.
Кинулся Роман на гимназиста. Хлопнул раз, но тут его самого огрели палкой по спине, по ногам и начали лупить в двадцать рук. Тянули во все стороны, рвали Романову черкеску.
— Попался, черт! Будешь еще? Получай!..
И вдруг стенка распалась. Роман сначала ничего не понял. Только увидел, как разбегались во все стороны ребята, а он остался один на середине улицы. С угла на него надвигался городовой.
Роман метнулся было в сторону, но споткнулся и упал. Городовой зарычал, сгреб за шкирку Романа и потащил.
Роман заревел:
— Дяденька, миленький, отпусти!
— Я те отпущу, сукин сын! — ругался городовой. — Посидишь в каталажке, узнаешь!
И так было все дико: и солнце, и празднично разодетая толпа, глядевшая на Романа, который ревел и, упираясь, тащился за городовым, оборванный и избитый.
А черкеска, гордость атамана, висела лохмотьями. Одного рукава не было совсем, патронташи болтались оторванные, а полы были продырявлены.
В участке молодой пристав, вытаращив зеленыe злые глаза, орал на Романа, потрясая кинжальчиком:
— Драться!.. С ножом!.. Ах, ты, башибузук!.. Повесить тебя мало!..
Потом, оттрепав Романа за уши, сказал городовому:
— Сведи к родителям, пусть выдерут.
Полчаса спустя тот же городовой привел Романа домой и, передав матери под расписку, рапортовал:
— Задержал я его на Троицком. Дрался. А уходя, наставительно добавил:
— Вы его ремнем поучите. Чтоб не разбойничал.
На другой день Роман вышел во двор в старых синеньких штанишках с заплатами.
Ребята старались не смотреть на него, и никто уже не вспоминал о «Саламандре», а Роман почувствовал, что вместе с черкеской погибла и атаманская честь.
ДАМЫ ИЗ ТРОИЦКОГО СОБОРА
РЫЖИЙ ИСЬКА
Роману и его товарищам лето принесло много новых развлечений. Весь день проводили ребята на дворе, где теперь было особенно шумно и весело.
Из раскрытых настежь окон неслись протяжные песни портных, писк грудных детей, звон кастрюль и чугунков, ругань.
Гремели кувалды в кузнице, вздыхали с присвистом меха. Из открытых окон сеточной доносилось рокотанье станков. На площадке каждый день выколачивали ковры и разную рухлядь.
Во дворе стали появляться музыканты и бродячие певцы. Забегали китайцы-фокусники, приходили торговцы шелком с огромными тюками за спинами и с железными аршинами в руках.
Каждый день приезжали телеги. Привозили дрова, песок, кирпичи, глину.
Прямо дня не хватало ребятам, чтобы за всем уследить и все увидеть.
Однажды на господском дворе загрохотали колеса телеги и на «курорт», покачиваясь, выехал доверху нагруженный воз с мебелью. Извозчик, сидя наверху, на драной перевернутой кушетке, рычал на лошадь и стегал ее длинным кнутом, а рядом с телегой шел часовщик Эфройкин с маленьким рыжеголовым мальчиком.
Телега остановилась у лестницы.
— Рыжий! — удивленно воскликнул Женька, поглядывая на мальчишку. — Рыжий, а батька черный.
— Да это не батька, — сказал Васька. — Это Эфройкин.
— Ну и дурак! Батька и есть Эфройкин… Пока ребята спорили, издали наблюдая за рыжим мальчиком, к возу подошел дворник Степан.
— Перенесть, что ли? — лениво спросил он часовщика, стоявшего в нерешительности.
— Да, да, перенесите, — быстро проговорил Эфройкин.
— За труды рублик положьте, — сказал Степан.
— Хорошо, таскайте, я сейчас… — Эфройкин ушел наверх.
— Поспорим, что батька, — горячился между тем Женька.
— Спорим!
— На сто фантиков.
Васька не хотел уступать.
— Эй, мальчик!
— Что? — отозвался рыжий.
— Что, Эфройкин, который здесь был, твой отец?
— Да…
— Ага! Давай сто фантиков, — закричал Женька.
Но Васька не сдавался.
— А почему он черный, а ты рыжий!
— Я не знаю, — засмеялся мальчик
— А как тебя зовут? — спросил Poман
— Исаак.
— Как?
— Ну, Иська…
— Идем тогда с нами — будем мух ловить, предложил Роман.
— Идем! — закричали ребята.
Иська нерешительно улыбнулся.
— Пойдемте, только я не умею мух ловить.
Ребята, захватив рыжего, побежали к помойке.
В солнечный день мух видимо-невидимо на помойке. Тучами носятся они над мусором, ползают по стенам, греясь на солнце, и стены сверкают, как слюдяные, от блеска бесчисленных прозрачных крылышек.
Стали ловить мух.
— А ты откуда? — спросил Роман.
— Из Шклова, — сказал Рыжий.
— Это что же — город или деревня?
— Город, немножко только поменьше Петербурга.
— А мать есть у тебя?
— Матери нет, — сказал печально Рыжий. — Она вот две недели назад умерла. Меня и взял отец, потому что негде жить мне в Шклове.
Рыжий всем понравился, только мух ловить действительно не умел.
— Хороший шкет, — сказал Женька, когда Иська убежал домой.
На другой день Иська с утра прибежал к ребятам играть. Катали по двору колесики, играли в карточки, бегали на Троицкий смотреть военный парад, собирали папиросные коробки. Иська быстро перезнакомился со всеми, и к вечеру ребятам казалось, что они уже давно знают рыжего мальчишку.
— Давайте на сено прыгать, — предложил Роман.
Около сарая лежало сено, раскиданное для просушки. Туда и прыгали ребята с невысокой крыши.
Прыгал и Иська, только в первый раз дух захватило. Нужно было подойти к краю крыши, потом разом оттолкнуться ногами — и лететь вперед и вниз, прямо на сено. Сено душило пряным запахом, набивалось в нос, в уши, в рот.
Ребята развозились. Чихая, отплевываясь, снова лезли на крышу. Устроили очередь, но каждый старался прыгнуть лишний раз. На краю крыши столкнулись Женька и Васька.
— Я первый, — сказал Женька.
Женька был прав, но Васька не забыл проигранные сто фантиков.
— Ты потом, — сказал он.
— Нет, сейчас.
Ребята топтались на краю крыши, отталкивая друг друга.
— Не пущу, — хрипел Женька, стараясь удержать Ваську, но тот был сильнее.
— Не пустишь?
— Нет.
— Прыгай же!
Васька с силой толкнул Женьку. Женька упал, покатился по краю и, зацепившись за гвоздь, повис в воздухе. Раздался треск, потом Женька плашмя шлепнулся в сено, а на гвозде, как флаг, остался развеваться кусок штанины.
По двору разнесся рев. Ребята знали по опыту, что за ревом последует расправа, поэтому, не дожидаясь, пока выскочат родители, рассыпались. Не побежал только Иська. Он спокойно спрыгнул с крыши, подошел к Женьке и попробовал даже его поднять, но Женька забрыкался и остался лежать, не переставая реветь.
На крик сына выскочила кузнечиха. Увидев разорванные штаны, она всплеснула руками и заголосила:
— Мерзавцы! Разбойники! Штаны… Стервец ты этакий… Мало тебя батька порет!..
И вдруг кузнечиха увидела Иську. Через секунду ее цепкие руки уже трясли его. Раз, раз… Две пощечины обожгли Иськины щеки. Иська упал и заплакал.
На шум пришел старший дворник. Не разобравшись, в чем дело, дворник схватил Иську за воротник и поволок по двору. У самой лестницы он столкнулся с Иськиным отцом.
Ребята, наблюдавшие из-за угла, встрепенулись, ожидая, что отец Иськи сейчас сцепится с дворником. Еще не было случая, чтобы родители давали в обиду своих детей.
Ругался дворник, кричала кузнечиха, а отец Иськи и не думал заступаться за сына. Он виновато улыбался и что-то говорил, как будто оправдывался.
— Ну, глядите, — пригрозил под конец дворник. — Чтоб впредь этого не было.
Иськин отец съежился и, взяв за руку плачущего сына, увел его домой.
— Здорово, — вздохнул Роман. — Ну и батька, не заступился даже.
Всем было жалко Иську. Только Васька нахально засмеялся и сказал:
— А по-моему, так ему и надо. Пусть не суется.
С этими словами Васька повернулся и ушел.
БЕСЕДА ОТЦА НИКОЛАЯ
— Избаловался ты, — сказала вечером Роману мать. — Стыдно даже.
Из этого Роман понял, что ей известна история со штанами.
Но больше ничего не случилось. Зато на другой день к вечеру мать засуетилась, полезла в сундук и достала свежую матроску и новые штаны.
— Одевайся, — сказала она Роману.
Роман вздохнул и оделся. Мать внимательно и строго оглядела его со всех сторон.
— Ну ладно. Идем.
По сборам Роман ожидал долгого путешествия, поэтому очень удивился, когда увидел, что мать направляется к Троицкому собору.
«Молиться, что ли?» — подумал Роман. Но когда вошли в церковь, он сразу почувствовал неладное. Церковь была полна ребят. Как будто со всего города собрали детей в собор. Мальчишки и девчонки, сверстники Романа, заполнили храм. Они громко разговаривали и смеялись, а между ними двигались похожие на монашек дамы.
У прилавка, где всегда продавались свечи, стояла очередь. Здесь были мужчины и женщины с детьми. Мать, не отпуская от себя Романа, стала в очередь и сразу же заговорила с какой-то женщиной. Роман прислушивался к разговору и глядел по сторонам. Вдруг он увидел Ленку, дочь старшего дворника, и еще несколько девчонок из своего дома.
— Что же они тут будут делать? — спрашивала мать.
— О, тут хорошо! — восклицала женщина. — Тут их будут обучать грамоте, будут устраивать беседы. Их тут разделят на десятки. К каждому десятку воспитательница приставлена. Она, знаете, будет следить за ними. Я и сама вот привела своего сорванца.
— Как звать? — спросил рядом скрипучий голос.
Роман оглянулся и увидел, что уже стоит перед прилавком. Прямо на него глядели водянистые глаза строгой дамы в шляпке с куцым пером.
— Романом звать, — ответила мать.
— Сколько лет?
— Восемь.
— Будешь аккуратно посещать беседы? — спросила дама Романа.
— Будет, обязательно будет, — опять подтвердила мать.
— Ну хорошо, — сказала дама и, обращаясь к другой, старой и красноносой, добавила: — Мы запишем его в десяток Прасковьи Петровны.
Мать торопливо перекрестила Романа и ушла, а красноносая дама повела его в глубь церкви.
Тут в дверях показались кузнечиха и городовой Трифонов. Роман чуть не заплясал от восторга, увидав за их спинами Ваську и Женьку.
— Проситесь к Прасковье Петровне, — успел крикнуть им Роман.
Теперь он заметил, что дети стояли не беспорядочной толпой, а ровными рядами.
На правом фланге каждого рада, как взводный командир, стояла дама.
Романа поставили в один из первых радов, около алтаря. Маленькая сморщенная старушка в бархатном жакете и шуршащей юбке, ласково улыбнувшись ему, сказала:
— Я теперь ваша десятница. Станьте с краю. Та же дама привела Женьку и Ваську. Женькаи сразу стал около Романа, а Васька, насупившись, отошел на другой конец рада.
— Что это он? — спросил Роман.
Но тут десятницы зашикали на детей. Гул стих. Из боковых дверей алтаря вышел священник. Он был в простой серой рясе.
Священник перекрестился, потом погладил пухлой, белой рукой каштановую гриву волос и, кашлянув, сказал:
— Здравствуйте, дети.
— Здравствуйте, отец Николай, — многоголосо ответили рады.
Священник переждал, пока утихнет шум, и заговорил:
— Сегодня в третий раз собираемся мы здесь в нашем храме, и с каждым разом я вижу, что нас приходит все больше и больше. Наша мысль воплотилась в жизнь. Основанное нами детское христолюбивое общество теперь будет развиваться и расти.
Голос у священника был тихий и мурлыкающий.
— Третья наша беседа будет о грехе, которому подвержены многие слабые из нас. Грех этот — ложь… Как часто, боясь наказания, скрываем мы правду и лжем близким своим, вводя в заблуждение…
— Замолол, — прошептал Женька на ухо Ро ману.
Роман покосился на десятницу и отмахнулся. А отец Николай, теребя бородку, говорил про женщину, солгавшую Христу, потом стал рассказывать о варенье, которое соблазняет детей.
— Ложь — великий грех, — говорил отец Николай. — Если чувствуешь, что виновен, то иди к матери и скажи: «Да, мама, я виноват, прости меня». Пусть мать даже накажет тебя, будет больно, но совесть будет чиста.
Беседа длилась около часа. Ребята уныло слушали, тихонько перешептывались и переступали с ноги на ногу. Наконец священник перекрестился и сказал:
— Беседа окончена. — И, откашлявшись, запел: «Достойно есть яко воистину…»
Запели и дети. После «Отче наш» десятками подходили целовать крест.
Когда весь десяток Прасковьи Петровны очутился на улице, десятница сообщила:
— Беседы у нас будут каждую пятницу, а по вторникам все приходите ко мне. Я буду учить вас азбуке, будем играть и петь. А теперь — по домам.
ЗОЛОТОЙ БУКВАРЬ
За забором, на пустыре, окруженном военными сараями-складами пышно зеленели лопухи. Здесь было всегда тихо и таинственно. Только пчелы жужжали да стрекотали кузнечики.
Роман вырыл под забором лазейку и теперь почти каждый день бывал на пустыре. Сначала ходил один, потом сказал ребятам.
Лежа в лопухе, ребята рассказывали сказки, ловили пчел или придумывали, как бы насолить Прасковье Петровне, которая теперь мучила ребят грамотой.
Однажды Роман дольше других задержался на пустыре. Был вторник. Все ушли домой обедать и переодеваться. Вечером надо было идти к десятнице. Оставшись один, Роман лег на траву и задумался.
Знойная тишина была наполнена неуловимыми шорохами. Не то трава шелестела, не то шуршали ползавшие букашки. Солнце палило, и даже небо слепило глаза. Над головой, заслоняя свет, тихо качались изумрудно-зеленые, с темными жилками лопухи.
Жара сковала тело. Ленивые и несуразные мысли бродили в голове. Почему-то представился дед, который где-то в городе толкает, напрягаясь, тяжелую тележку с ящиками щелока и отыскивает какую-нибудь Гагаринскую или Абросимову улицу. Подумал о матери и сразу представил себе, как она стоит, согнувшись над лоханкой, в прачечной, и удушливый, вызывающий кашель густой пар поднимается от воды.
«Плохо им, — подумал Роман. — В такую жару шевельнуться трудно, а тут на-ка работай».
Вдруг рядом зашумела трава.
Роман вздрогнул и приподнялся.
Около него стоял Иська.
— Что тебе? — спросил Роман, сердясь, что прервали его приятное одиночество.
Иська испуганно моргнул и отступил на шаг.
— Я хотел спросить… — Иська переступил с роги на ногу.
— Ну, говори.
Куда вы ходите?
— Вона что, — Роман улыбнулся. — Мы учиться ходим к десятнице.
— А мне нельзя?
— Тебе? — удивленно спросил Роман. — Вот уж не знаю. Да, наверное, можно, только спросить надо.
— А ты спроси.
— Не знаю я. — Роман колебался. — Опасно с тобой, опять что-нибудь выйдет.
— Да что ж выйдет? Ты только спроси. А я тебе пуговиц с накладными орлами дам.
— А сколько?
— Пять штук дам.
— Ладно, спрошу, — сказал Роман. — У десятницы сегодня спрошу. А ты на улице жди. Если можно будет, я выйду за тобой.
В шесть часов ребята собрались на площадке и шумной гурьбой пошли к десятнице.
Шли ребята не торопясь, останавливаясь на мостах, плевали на проходящие буксиры и пассажирские пароходики. Украдкой оглядываясь, Роман видел Иську, который тихо шел сзади.
Прасковья Петровна жила на Крюковом канале, в большом сером доме с высокими узкими окнами.
Дойдя до дома, ребята поднялись по широкой парадной лестнице во второй этаж и позвонили.
Дверь открыла прислуга, старая ворчливая женщина. Ребят она не любила. После их ухода всегда приходилось снова убирать комнаты.
Пройдя в прихожую, ребята разделись и один за другим вошли в гостиную. Там уже суетилась Прасковья Петровна. Рассаживала девчонок имальчишек на мягкие стулья, покрытые белыми чехлами.
Ребята сели и замерли, как приговоренные к казни, робко поглядывая на массивные шкафы и развешанные по стенам большие портреты каких-то мрачных седоусых генералов.
— Богато живет… Здорово богато, — прошептал Женька на ухо Роману. — Ишь комодов-то сколько!
Прасковья Петровна достала из шкафа пачку книг и тетрадей и положила все на стол.
— Ну вот, дети, — заговорила она. — До сих пор мы занимались без книг. Это было неудобно. Теперь совет десятниц купил на свои деньги буквари и тетради. Сегодня я раздам их вам, и мы будем учиться по книге.
Десятница развернула пакет и стала оделять каждого тетрадями и букварями, на обложках которых были нарисованы позолоченные подсолнухи и славянскими буквами напечатано:
ЗОЛОТОЙ БУКВАРЬ
После раздачи начали заниматься.
— А-а, — тянула Прасковья Петровна, тыча пальцем в знак, похожий на воротца. — Это «а». А это «бе».
— «А», «бе»… — уныло повторяли ребята и незаметно развлекались, кто чем мог. Одни смотрели на улицу, где вереницей ползли телеги и бежали прохожие, другие разглядывали картинки. Прилежно занимались одни девочки.
— «А» да «бе» сидели на трубе, — бормотал тихо Васька. — «А» упало, «бе» пропало.
В комнате стоял тихий гул. Говорить громко не решались. Пугали тяжелые шкафы, ковры строгий краснолицый генерал на картине.
— «Ер», «еры», — монотонно говорила десятница.
— Упали с горы, — гудел, передразнивая, Васька.
— «Ерь», «ять».
— Надо поднять.
— «Фита», «ижица».
Тут Васька буркнул что-то неприличное. Ребята фыркнули.
— Что такое? — нахмурилась десятница.
— Мы ничего, — сказал Васька, краснея. — «Ижица» больно буква смешная.
Наконец Прасковья Петровна закрыла букварь.
— На сегодня довольно, — сказала она. — К следующему вторнику все выучите азбуку. А теперь давайте отдохнем. Кто из вас петь умеет?.
— Все умеем, — крикнул Серега.
— А какие песни знаете?
— «Чеснока» знаем, — сказал Женька. — Про атамана, которого васинские парни запятнали.
— Это хулиганская песня, — сказала десятница. — Лучше я вас другой научу. Хотите?
Она ударила по клавишам рояля и заиграла медленный тягучий мотив, а сама запела тихонько:
Был у Христа-младенца сад,
И много роз взрастил он в нем…
Ребята подпевали ей.
Когда урок кончился, Роман, собравшись с духом, подошел к десятнице.
— У нас есть мальчик один. Он тоже очень хочет ходить к вам. Можно ему?
— Конечно, можно, ты его приводи в следующий раз, — сказала десятница. — Мог бы и сегодня привести.
— А я боялся, — сказал, смеясь, Роман. — Он и сейчас на лестнице стоит.
— Где? Кто?
— Да Иська, мальчик тот.
— Кто?
— Иська, это зовут его так. Исаак.
— Исаак? — нахмурилась Прасковья Петровна. — Он еврей?
— Да.
Десятница отвернулась.
— Нельзя, — сказала она жестко. — Дети, запомните: у нас общество христианских детей. На беседы и в храм могут ходить только русские дети.
Роману стало обидно за Иську.
— А почему евреям нельзя? — упрямо сказал он.
— Это долго объяснять, — сказала десятница.
Ребята вышли на улицу. Роману было нехорошо и как-то стыдно перед Иськой. Нарочно он отстал от ребят и пошел один. На углу к нему навстречу кинулся улыбающийся Иська.
— Наконец-то! А я думал, что прозевал вас.Ну, как? — спросил он несмело.
Роман стоял, обливаясь потом. Иська догадался. Лицо его сморщилось. Махнув рукой, он тихо сказал:
— Я так и знал. Нельзя.
Он повернулся и, опустив голову, пошел по набережной. Роман брел один и чуть не плакал. Вдруг кто-то тронул его за руку. Роман оглянулся. Рядом шла Ленка дворникова.
— Ты почему один?
— А ты почему одна?
— Тебя дожидала.
— Зачем?
— Так… мне тоже Рыжего жалко.
Роман вдруг рассердился.
— Ну и жалей! — крикнул он. — А чего ко мне-то пристаешь? — И побежал догонять ребят.
ПРОПАВШИЕ КЛЕЩИ
Роман совсем было забыл про Иську, если б случай снова не столкнул их.
Ребята возвращались с беседы из церкви. Было уже темно. Роман, тихо насвистывая, брел к себе на задворки. Только завернул за угол дома, смотрит — сидит кто-то на колесе, где кузнецы перетягивают шины. Роман вгляделся. Знакомые острые плечи. Иськины плечи. Всхлипыванья слышны. Плачет.
Плачущего Иську Роман видел часто. Отлупит кто-нибудь, и идет, заливается Рыжий по двору, а вокруг народ смеется. Теперь же было иначе. Во дворе пусто, значит, никто не бил Иську, а он все-таки плакал. В сердце Романа шевельнулась жалость, захотелось подойти, поговорить с ним. Он осторожно позвал:
— Иська!
Тот даже не расслышал. Тогда Роман тронул его за плечо. Иська испуганно вскочил.
— Ты не бойся, — успокоил Роман, пряча руки за спину и показывая, что он не намерен драться.
Иська невнятно хрюкнул.
— Ты чего плачешь?
— Так.
— Так не плачут. — Нет, плачут, — сказал Иська хмуро.
— Бьют, верно, много?
— И бьют, — Иська всхлипнул и вдруг решительно сказал: — Я вот пойду утоплюсь. Пусть тогда бьют кого-нибудь другого.
— А зачем топиться? — спросил Роман. Но Иська, не слушая, продолжал:
— Брошусь в Фонтанку, пусть знают.
— Подожди, — сказал Роман. — Может, перестанут бить. Меня вон тоже мать лупит.
— Тебя одна мать, — горестно сказал Иська, — а меня весь двор. И дворники, и Шкалик, и Васька…
— А ты не давайся. С Васькой сам стыкнись, а от больших удирай.
— Удирал, да догоняют… — вздохнул Иська. Вздохнул и Роман.
Иська сидел молча, только изредка всхлипывал. Вдруг Роман поднял голову.
— Знаешь что? Будем дружить! Играть вместе, только не на дворе. Вот тебя и не станут бить. Я все время с тобой буду. Хочешь?
Иська недоверчиво покачал головой.
— Не веришь? Ей-богу, буду играть, — разгорячился Роман и, плюнув, добавил: — А ребята — черт с ними, без них обойдемся.
— Ладно, — сказал Иська. — А я тебе за это пружинок принесу, у папки много…
Утром Роман почувствовал, что ему особенно хорошо и весело.
Ему захотелось поскорее увидеть Иську и бежать с ним на пустырь играть. Выскочив на двор, Роман остановился. Около кузницы увидел толпу ребят, Шкалика, кузнеца Гультяева и старшего дворника. Окружив кого-то, они отчаянно ругались.
— Иди скорее! Вора поймали! — крикнул Женька.
Роман подошел к толпе, пробрался в середину и остановился в изумлении.
В центре стоял пьяный подмастерье Шкалик, а в руках у него корчился плачущий Иська.
— Воровать! Инструмент воровать! — хрипел Шкалик, вывертывая Иське ухо. — Говори, куда дел клещи?
— Поддай ему! — кричали со всех сторон. Увидев Романа, Иська вскинул голову и шагнул к нему.
Но Роман неожиданно для себя испуганно попятился в толпу. Иська понял.
— Не брал! — крикнул он, глядя на Романа. Роману крикнул Иська, а толпа подумала, что он оправдывается.
— Врешь! — загалдели кругом. — Все видели. Весь вечер на колесе сидел, и клещи лежали.
— Вор! Вор! — кричал громче всех Васька. Наконец совещавшиеся в стороне дворник и хозяин кузницы подошли к толпе. Дворник взял Иську за руку и молча повел по двору. Сзади шли бабы, мастеровые, ребятишки.
— Веди к отцу. Небось заплатит! — кричали бабы.
А мальчишки распевали:
— Вор-ворище украл топорище!
Иськин отец, издали увидев процессию, уже спешил навстречу.
Толпа окружила его. Все размахивали руками, кричали:
— Клещи из кузницы!
— Спер!
— Украл!
— Клещи украл!
— Нет! — крикнул Иська и поперхнулся, получив от дворника подзатыльник.
Дворник, откашлявшись, обратился к отцу:
— Платите за клещи, а не то я в участок отправлю. Мы этого не потерпим. Если еще раз случится, доложу управляющему.
Иськин отец не ругался, не спорил. Среди общей тишины он вынул деньги. Три потрепанных рубля перешли в черные от угля и масла руки кузнеца Гультяева.
Представление кончилось. Толпа нехотя разошлась по своим делам. Площадка опустела. Роман видел, как Иськин отец печально глядел вслед ушедшим, потом повернулся к сыну, но не ударил, не обругал его, а, улыбнувшись, что-то сказал, утешая, и, потрепав по плечу, ушел.
Роману стало еще тяжелее. В смятении поплелся он вслед за ребятами. Что-то было непонятно, неясно. Ребята, развалившись на траве, обсуждали случившееся. В стороне сидели мастеровые. Пошабашив, они завтракали. По кругу мелькала бутылка. Совсем пьяный Шкалик что-то рассказывал им, а все хохотали. В это время во двор въехала тележка мороженщика. Первым вскочил Васька.
— Кто за мороженым? — крикнул он и побежал. За ним сорвался Степка. Через минуту они вернулись. Васька шел впереди, с наслаждением облизывая края вафли, а за ним плелся Степка и скулил:
— Дай пятак.
— Фига! — последовал короткий ответ. Степка надулся и сел в стороне. С площадки донесся призывный крик торговца:
— Моро-о-жено!
Степка вскочил и в третий раз упрямо спросил:
— Даешь пятак?
— За что тебе? — облизывая пальцы, спросил Васька.
— А за то.
— Не дам.
— Не дашь?
— Нет.
Степка покраснел, растерянно заморгал и внезапно выпалил:
— А я скажу, кто клещи упер…
Мальчишки испуганно вздрогнули. Мастеровые перестали смеяться. Все глядели на Степку. Роман подскочил к нему.
— Кто? — крикнул он.
— Кто украл, говори! — загалдели ребята. Степка засмеялся, потом вдруг ткнул пальцем в покрасневшего Ваську.
— Он и Шкалик; Шкалик спер, а Васька продал, сам видел.
Из-за угла вышел Иська, помахивая палкой. Было ясно, что он слышал последние слова. Мастеровые с любопытством поглядывали то на него, то на Шкалика.
Роман, красный от злобы и стыда, подбежал к Иське.
— Шкалик это! — крикнул он.
Иська словно не слышал. Он медленно шел к мастеровым. Шкалик беспокойно заерзал, потом засмеялся, стараясь скрыть смущение, и беспокойно смотрел на Иську. А тот подошел к Шкалику почти вплотную, остановился и взмахнул палкой.
От неожиданности Шкалик опрокинулся и заорал. Иська исступленно колотил его палкой.
Но вот Шкалик, оправившись, вскочил на ноги. На его лице горела багровая полоса от удара.
— Драться? — заревел он, сжимая кулаки. Вырвав у Иськи палку, Шкалик замахнулся.
Роман вздрогнул и кинулся на шею Шкалику.
— Выручай! — завопил он, повиснув на шее парня.
— Бей его! — дружно закричали ребята и все разом навалились на врага.
Мастеровые захохотали. Копошащийся клубок грохнулся на землю. Взлетали руки, болтались ноги, потом, как по сигналу, все рассыпались, оставив на земле избитого пьяного Шкалика.
ЖИЛЕЦ СО СКРИПКОЙ
КОРЕНЬ УЧЕНИЯ
По-прежнему ребята ходили в собор на беседы. Изнывали от тоски, слушая проповеди священника, потом на квартире у наставницы до одурения долбили азбуку.
Несмотря на все старания десятницы, учение двигалось туго. Девочки еще кое-как занимались, мальчишкам же грамота не давалась. С трудом зазубрили азбуку и на этом успокоились. Тупо просиживали вечера, и лишь изредка кто-нибудь, подняв от учебника осоловелые глаза, тоскливо говорил:
— И чего зря мучает?
Ребята потихоньку начали мстить десятнице, портили мебель, сдирая лак и пропарывая гвоздями мягкие стулья.
Роману тоже мучительно было сидеть в душной комнате и зубрить приевшиеся «еры», в то время как за окном гремела улица, родная пыльная улица. Сияло солнце, а на окраине, за кладбищем, счастливцы, не попавшие в христолюбивое общество, весело ныряли в мутной речонке Воняловке.
Вероятно, Роман не скоро бы научился грамоте, не попадись ему Колькин сундучок.
В квартире не было ни души. От скуки Роман ловил тараканов. За тараканом он полез под кровать и тут увидел Колькин сундук.
Сперва потрогал его, потом выдвинул из-под кровати и открыл крышку. Никаких необыкновенных вещей там не было. Лежали книги. Роман взял одну книжку и стал разглядывать картинку на обложке. На рисунке мужчина в коричневом кителе кидал бомбу в толпу оборванцев. Роман взял другую книжку, потом третью. Револьверы, кровь, кинжалы и трупы замелькали перед глазами.
Когда пришел Колька, Роман все еще сидел на полу, а вокруг него лежали горы книжек.
Колька разорался. Дал подзатыльника Роману и поспешно стал пихать книги в сундучок.
— Рано такие книжки читать. Прежде грамоте научись, — сказал он, успокоившись.
В этот вечер надо было идти на урок.
— Знаешь что, — сказал Женька Роману, мы решили прогулять. Ты пойдешь за нами на Лоцманку за кокосом?
Роману очень хотелось идти на Лоцманку, но он покачал головой.
— Нет? — закричал Женька. — Струсил?
— Не струсил, а надо учиться, — сказал Роман.
И не пошел.
С этого дня переменился Роман. На уроках у десятницы все ребята дурачились, а он прилежно занимался. Прямо загадочное событие. Ребята все ногти изгрызли от злости, глядя на Романа, а он как будто не замечал ничего. Зубрит и зубрит азбуку, и уже девчонок догнал, и уже обогнал, и дальше напирает на слоги.
Сначала ребята думали, что Роман шутит, но когда увидели, что упорство не пропадает, все переполошились. Стали следить. Открыли, что Роман не только сам учится, но еще обучает Иську. Слежка установила, что каждый день Роман и Иська встречаются на пустыре. Роман приходил с букварем. Развалившись на лопухах, они твердили склады.
Тогда ребята решили устроить облаву.
Однажды, заметив Иську и Романа на пустыре, ребята окружили их и засели в лопухах.
Роман и Иська лежали на траве. Иська неуверенно, по складам читал:
— Ко-рень уче-ния горек, а…
— Плод… плод, понимаешь… Пы-лы-од, — старательно подсказывал Роман.
— А плод его сла-док.
— Сладок, правильно.
Роман и Иська так увлеклись, что совсем не замечали ни подозрительно качающейся травы, ни шороха вокруг.
— Попались! — заревели ребята, выбегая из лопушатника.
— Вам что? — спросил Роман, вскакивая и сжимая кулаки.
— А вот что! — сказал Серега — Почему от товарищей бегаете?
— Мы учимся.
— А зачем?
— А так.
— Врет! Не верь, Серега! — закричали ребя та. — Так не учатся зря.
Круг сдвинулся теснее.
— Ты не треплись, — сказал Серега. Лучше скажи правду, а то поколотим. Ребята были рассержены не на шутку, и Роман рассказал.
Если бы десятница вздумала за каждую заученную букву давать по плитке шоколада, то и тогда вряд ли добилась бы такого успеха, какой произвело Романово сообщение.
Все мальчишки вдруг засели за буквари. Учились не просто прилежно, а с натугой, с надрывом, до обалдения, как на гонках. Даже старательные девчонки отставали, не выдерживая соревнования. Быстро одолев склады, ребята один за другим переходили на беглое чтение. И впереди всех, как вожак, шел Роман.
Наконец настал долгожданный день. Было воскресенье. Роман утром принес газету. Александр любил за чаем читать «Петербургский листок».
— Долго бегаешь, — сказал он, протягивая руку за газетой.
Роман газету не отдал. Отскочив в сторону, он сказал улыбаясь:
— Я сам прочту.
— Учись хорошо, через год научишься читать по складам, — усмехнулся брат.
Роман промолчал, развернул большой, неудобный лист газеты и оглядел всех заблестевшими глазами. Потом посмотрел на страницу, увидел маленькую заметку с черным, жирным заголовком и, наслаждаясь общим изумлением, звонко, без запинки стал читать вслух. В груди все плясало от восторга. Роман читал, с трудом удерживая дрожь в голосе и не понимая смысла прочитанного:
УБИЙСТВО АВСТРИЙСКОЙ НАСЛЕДНОЙ ЧЕТЫ
При проезде эрцгерцога Франца Фердинанда с супругой, герцогиней Гогенберг, к ратуше в автомобиль была брошена бомба, не причинившая вреда эрцгерцогу.
Преступник, оказавшийся типографским рабочим из Требиньи, арестован.
После торжественного приема в ратуше, когда герцог с супругой продолжали объезд города, было произведено второе покушение. Гимназист выстрелами из револьвера тяжело ранил эрцгерцога и герцогиню.
Оба раненые скончались. Второй преступник арестован. Разъяренная толпа пыталась расправиться с преступниками судом Линча…»
— Карбюро Спа, — волнуясь, закончил Роман и оглядел родных.
Торжество было полное. Мать обнимала его, бабушка ахала, даже Александр, потрепав по плечу, похвалил:
— Молодец. В кинематограф сведу.
Все тормошили его, ласкали, забыв о газете, как вдруг дед негромко сказал:
— Убили. Ах, мошенники! За что же это его? Тогда Александр торопливо выхватил газету и стал читать. Колька вскочил из-за стола.
— Война будет! — крикнул он возбужденно. Мать заохала, запричитала бабушка. О Романе все позабыли, а он, выждав момент, подошел к Кольке.
— Ну как?
— Чего? — удивился Колька. — Молодец, читать умеешь.
— А это?
Роман выразительно скосил глаза на Колькин сундучок.
У Кольки и рот открылся от изумления.
— Эге, — сказал он. — Так уж не из-за этого ли ты учился?
Роман мотнул головой.
— Ну ладно, — сказал Колька. — Валяй.
За забором показалась кудлатая голова Романа. Он быстро перелез через доски и направился к ребятам.
— Принес! — еще издали крикнул он, улыбаясь. Ребята окружили его.
— Кажи скорее!
Роман молча выдернул из кармана тоненькую книжечку и, подняв над головой, показал ребятам обложку. На рисунке клокотало желтое пламя взрыва и корчились люди.
— Клёво! — ужаснулся Васька. — Дай-ка поближе посмотреть.
— Успеешь, — сказал Роман и, отвернувшись от Васьки, стал показывать картинку обступившим его ребятам.
Васька скис. Сел на траву, терпеливо ожидая своей очереди.
— На, посмотри, — сказал Роман, протягивая наконец книжку Ваське, когда все ребята уже просмотрели ее.
Васька поглядел, не беря в руки.
— Ну, валяй, читай скорее, — заторопили ребята.
Все мигом разлеглись на траве и замерли. Роман торжественно раскрыл книжку и чуть дрожащим от волнения голосом прочел:
— «Заговор преступников».
Никто не шелохнулся. Затаив дыхание, ребята не мигая глядели прямо в рот Роману.
— «Была бурная холодная ночь, когда в квартире знаменитого американского сыщика Ната Пинкертона раздался звонок…»
Солнце до боли напекло затылки, по ногам ползали муравьи, руки затекли, но ребята ничего не замечали. Час пролетел как секунда.
Когда Роман закрыл книжку, ребята долго молчали, потом Женька, вздохнув, сказал: — Жалко, что все.
— Завтра еще принесу, — сказал Роман. — Хорошая книжка, — выдавил наконец Пеца. — Даже дух захватывает. Не то что эта.
Под общий смех он извлек затрепанную азбуку. Роман выхватил у него букварь, развернул и, кривляясь, будто по складам, прочитал:
— Ко-рень учения го-рек, а плод его сла-док.
Потом встал и, размахнувшись азбукой, высоко подбросил ее вверх. Белые листочки светлым букетом взметнулись в воздухе, медленно опустились и потонули в густом лопухе.
ИОГАНН ЯН ТОФФЕР
К Рожновым переехал новый жилец. Пришел он рано утром — высокий, плечистый, усатый и при котелке. Прямо барин или чиновник почтовый.
— По виду приличный. Фотограф, говорит, — сказала мать. — Только величать трудно: Иоганн Ян Тоффер…
— Вроде немца, — решил дед. — Будешь звать Иван Иваныч…
Роман тотчас же навестил нового жильца и застал его за устройством своего жилища.
Насвистывая веселую песенку, жилец раскрыл свой единственный пухлый чемодан, вытащил пачку книг и бросил на стол. На спинку кровати повесил полотенце, положил одеяло, затем достал две фотографии в рамках и скрипку. Фотографии приколол кнопками над столом, скрипку повесил на гвоздь и, оглядевшись, подмигнул Роману:
— Готово, дружище… Роман засмеялся.
— Поиграйте на скрипке, — сказал он.
— Завтра поиграем.
— Ну ладно, — сказал Роман. — Я приду завтра.
На другой день Роман не отходил от нового жильца. Тоффер играл на скрипке, потом учил играть Романа.
Роман дергал смычком, но скрипка только мяукала и пищала.
Вечером Тоффер послал Романа купить папирос. Вернувшись, Роман нашел Тоффера не одного. В комнате сидели два молодых парня в пиджаках. Третий был постарше, с небольшой бородкой, в очках.
Роман отдал папиросы, но из комнаты не ушел, а пристроился в углу и стал рассматривать картинки в альбоме.
Иван Иваныч принес чай, нарезал ситный. — Читал газеты? — спросил пожилой муж чина.
— Да, — сказал Тоффер.
— Ну?
— Плохо. Втянут обязательно.
— Что втянут, все знают, — ты скажи, делать? Послушал бы, что наши на заводе говорят!
— Что же?
Парни переглянулись. Один, рябоватый, кивнул незаметно, показывая на Романа.
— Ничего не поймет, — сказал Тоффер так небрежно, что Роман обиделся, хотя действительно ничего не понимал.
— Ну, а что же говорят?
— Много чего, — усмехнулся парень. — Задор такой, что страшно подумать.
— Оно понятно. В раж вошли: шапками закидаем.
— И все-таки нельзя приостанавливать работу, — сказал Тоффер. — Надо разъяснять, говорить. Мы не можем приостановить событий, но подготовим дальнейшее.
— Рискованно, — сказал рябоватый, качая головой. — Вон сегодня токаря одного взяли… Сдуру сболтнул парень: на кой, мол, нам война? Так в конторе задержали. После ребята видели — задами увели.
Забыв про чай, разговаривали гости, горячо спорили, а Роман, отложив альбом, слушал. Понял одно: будет война. Он обрадовался.
Война представлялась ему как что-то веселое. Будут каждый день ходить солдаты с музыкой, со знаменами, с пушками. Точь-в-точь как Колька рассказывал про Наполеона.
Поздно вечером ушли гости. Иван Иванович раскрыл окно. Со двора пахнул теплый воздух и наползла тишина. Тоффер поглядел на Романа и, улыбаясь, непонятно спросил:
— Ну как?
— Война будет, — сказал Роман.
— Да, будет война, — сказал Тоффер задумчиво. — Будет война — драка, свалка, костоломка… Хорошо, что ты еще мал, Роман.
От тихого голоса Тоффера Роману стало страшно. Пугала тишина за окном. Двор черной и страшной дырой глядел в окно. Роман вздрогнул и отошел от окна.
НАТ ПИНКЕРТОН В ПЕТЕРБУРГЕ
С раннего утра забравшись на пустырь, ребята читали выпуски Пинкертона, по очереди передавая прочитанные соседу.
На пустыре даже воздух, казалось, застыл неподвижно и пропитался солнечным зноем. Было тихо, только пчелы гудели на репейнике, да со двора изредка доносился нечаянный крик или стук. Но вот Женька захлопнул книжку и, перевернувшись на спину, с наслаждением потянулся.
— Всех арестовали, — сказал он удовлетворенно и достал из кармана два окурка.
— Закуривай, ребята.
— Оставь на глоточек, — сказал Степка, тоже бросая книгу. И другие, точно проснувшись, отложили книжки. Стали потрошить карманы, вынимая окурки.
— Чисто работает. Всех один переловил, — рассуждал Женька.
— У них в Америке не забалуешь… Не то что у нас.
— У нас! — фыркнул Сережка. — Я вон в газете прочитал: троих топором зарубили, так до сих пор ищут — изловить не могут.
— И не найдут, — сказал Пеца. — У нас сыщиков хороших нет.
Вот Пинкертона бы к нам, тот бы разделал! — воскликнул Женька. Он даже приподнялся и, оглядев всех, спросил: — А что, если б взаправду бы к нам приехал Пинкертон?
В тот момент из-за забора показалась голова Романа. Он с необычайной быстротой перевалился через ограду и, подбежав к ребятам, с трудом дыша, прохрипел:
— Пинкертон…
— Что? — спросил Женька.
— Пинкертон в Петербурге, — передохнув, выпалил Роман.
Ребята вздрогнули. Степка поперхнулся табачным дымом и закашлялся, что-то невнятно икнул Иська, а братья Спиридоновы мешками осели на траву.
— Врешь! — взвизгнул Женька.
— Истинный бог.
— Врешь! Откуда узнал?
— Брат сказал.
— Брат врет.
— Ну нет, он не такой, чтобы трепаться зря. Ребята замолчали, каждый по-своему обдумывая сообщение Романа.
— Вот здорово! — выдавил Серега. — Поглядеть бы на него.
— Узнать бы, где живет? — сказал Женька беспокойно ерзая по траве. — Выследить бы. А? — А как? Где его искать?
Тогда поднялся Роман.
— Я знаю, — сказал он важно. — Я уже обдумал. Все очень просто.
Он взял с травы один из выпусков и ткнул пальцем в портрет сыщика, нарисованный на обложке.
— Вырежем из выпусков по портрету и пойдем по городу завтра. Кто увидит прохожего, пусть с портретом сравнит. И следить надо, где живет. Так и найдем.
На другой день началась слежка. Ловцы Пинкертона собрались на пустыре. Все были взволнованы, но больше всех волновался Роман. Он давал указания и намечал маршруты каждому.
Роман пошел с Иськой. Их путь лежал по Садовой, по Невскому до вокзала и обратно. Иська шел по левой стороне улицы, Роман по правой.
Первое время они двигались, не теряя из виду друг друга. Иська изредка поглядывал на карточку. Чем ближе подходили к Сенной, тем больше становилось народу. Роман забеспокоился. Следить за прохожими стало труднее. Только заметит такого бритого, полезет за карточкой, а бритый уже прошел. Роман вынул портрет и зажал его в кулаке, чтобы каждую минуту можно было взглянуть на него.
Первого Пинкертона Роман заметил на углу. Пинкертон стоял, поставив ногу на скамеечку, а черномазый айсор яростно начищал ботинок. Роман, протолкавшись поближе, остановился, но тут кто-то наступил ему на ногу. Пока Роман оттирал ноющий палец, Пинкертон ушел. Прихрамывая, Роман тихо пошел дальше, тараща глаза на прохожих. Роман и не думал, что может быть столько бритых под Пинкертона. Они стали попадаться на каждом шагу, и почти каждый чем-то смахивал на сыщика. Один Пинкертон покупал газету, другой бежал за трамваем, третий сидел в столовой за большим зеркальным окном, весь как на ладони, и, прожевывая котлету, поглядывал на улицу пустыми и мутными глазами.
Иську Роман уже давно потерял из виду. Пробежав Садовую, он вышел на Невский и совсем растерялся. Бритые вдруг повалили сплошной стеной.
Были они в шляпах, в кепи, в котелках, в панамах. Они улыбались, разговаривали, кивали. Казалось, весь город наполнился Пинкертонами. Роман, перебегая с края на край панели, не успевал глядеть на портрет.
Добежав до Екатерининского сквера, Роман устало прислонился к решетке и, вытерев с лица пот, задумался. Стало ясно, что таким путем невозможно отыскать Пинкертона. Тогда он решил выбрать из несущейся толпы наиболее похожего и следить за ним.
Мимо Романа быстро прошел человек в сером пальто, в шляпе, бритый и с крючковатым носом. Роман вздрогнул. Прохожий был вылитый Пинкертон. Не мешкая, он двинулся за новым Пинкертоном. Чтобы не потерять его из виду, Роману пришлось бежать. Он уже обливался потом, а человек все рассекал толпу, то исчезая, то вновь появляясь.
«Заметил, что слежу, — подумал Роман. — Врешь, не скроешься!»
На Аничковом мосту Пинкертон внезапно свернул с панели и стремительно перебежал улицу.
«Следы заметает».
Роман кинулся за ним через дорогу, едва успев проскочить под мордой лошади. Чуть не попал под трамвай, но все же нагнал человека, когда тот, быстро свернув на Фонтанку, скрылся в общественной уборной.
Обескураженный Роман подтянул спустившиеся штаны, вытер пот и стал ждать.
Пинкертон вышел несколько минут спустя. Медленно прошел он по проспекту до остановки и прыгнул в трамвай.
От жары или усталости у Романа кружилась голова. Пинкертоны мерещились всюду, они улыбались Роману и кружились хороводом вокруг него.
Захотелось спать. Солнце уже падало с выси и, словно зацепившись, висело на сверкающей игле Адмиралтейства. Из кафе и ресторанов несся запах жареного мяса.
Роман в раздумье остановился около витрины магазина, разглядывая манекен, стоявший в окне. Манекен был вылитый Пинкертон, и даже глаза были так же прищурены и пристально глядели из-под восковых век.
Вечером все собрались на пустыре. Роман пришел последний. Увидев зеленые и злые лица ребят, он не решился подойти близко. Остановившись на почтительном расстоянии, спросил:
— Ну как?
— Дурак ты, — вяло ответил Серега.
— Поздно пришел, — вздохнул Степка, — а то мы дали бы тебе банок.
Всех постигла одна и та же участь. Каждый видел целые армии Пинкертонов. Видели Пинкертонов-городовых, холодного сапожника, даже торговец огурцами около казенки оказался Пинкертоном. А Степка сказал, что Пинкертон живет в их доме, и это не кто иной, как тетка Авдотья — квартирная хозяйка.
— Нос крючком, глаза заплывши, но зоркая.
Во двор привезли глину. Свалили ее около ворот в кучу. Ребята целый день лепили лошадок, кораблики, колбаски.
Роман, сваляв большой кусок глины, принялся делать солдата. Другие ребята ломали, лепили новые штуки, опять ломали, а Роман упорно трудился над своим солдатом. И постепенно кусок глины преобразился. Теперь это был действительно солдат в шинели, с ранцем за плечами. Ребята, побросав свои работы, окружили Романа и, рассматривая солдата, переговаривались между собой.
— Это да-а, — шептались ребята.
— Как настоящий, , сказал Чемодан. — А коров умеешь лепить?
— И коров умею, — сказал Роман.
— Он все может, — вмешался Женька. — Он и паровоз, и корабль, и…
Вдруг ребята замолчали, только Женька тихо охнул.
— Гляди, — прошептал он, толкая Романа. Роман взглянул в сторону, куда показывал Женька, и обомлел.
К ребятам неторопливой походкой, помахивая тросточкой и хитро улыбаясь, шел великий сыщик Нат Пинкертон. Сомнений быть не могло. Бритый подбородок, чуть загнутый нос, тонкие губы и серые прищуренные глаза. Словно соскочил с обложки выпуска.
— Он, — прошептал Роман.
— Он, — взвизгнул Женька и, не выдержав, бросился бежать, а за ним и вся компания. На месте остался один Роман.
— Прекрасно, — сказал Пинкертон, останавливаясь около Романа и разглядывая солдата. — Очень недурно. Твоя работа?
Роман стоял истуканом и молчал.
— Захлопни рот, — посоветовал Пинкертон, — и отвечай, если тебя спрашивают.
Роман с треском сомкнул челюсти, потом буркнул:
— Моя.
— Молодец! Прямо молодец, — улыбнулся Пинкертон. — А скажи-ка, молодец, где тут у вас квартира девяносто два?
— На заднем дворе, — сказал Роман, удивленный, что Пинкертон назвал их квартиру. — А тебе кого?.. Я оттуда…
— Сам оттуда? — обрадовался Пинкертон. — Это еще лучше. Пойдем-ка со мной погуляем да побеседуем. Парень ты, я вижу, понятливый. Будешь толково отвечать, двугривенный дам.
И он показал белую монетку.
Роман посмотрел на двугривенный, подумал и двинулся за Пинкертоном. Вышли на улицу.
— Квартира у вас большая? — спрашивал Пинкертон.
— Большая.
— А жильцов много?
— Нет… родные все. Один только и есть… фотограф со скрипкой…
— Ишь ты! — усмехнулся Пинкертон. — Фотограф. А какой он из себя?
— Обыкновенный, с усами, — сказал Роман. — Иван Иваныч.
— Так, так… А дома он часто бывает?
— Всегда.
— А что делает?
— Не знаю.
— А на скрипке играет?
— Хорошо играет.
Пинкертон засмеялся и даже языком прищелкнул, потом, глядя в глаза Роману, спросил:
— А скажи-ка, много снимает ваш Иван Иваныч?
— Как снимает?
— Ну, вот фотографии снимает. Ведь он фотограф.
Роман запнулся. С удивлением вспомнил, что ни разу не видел у Ивана Иваныча фотографического аппарата.
— Нет, немного, — сказал он неуверенно.
Пинкертон весело засмеялся.
— Двугривенный почти заработал, — сказал он. — Теперь скажи, ходит кто-нибудь к вашему Иван Иванычу? Ну, знакомые или барышни?
— Ходят.
— А что они делают?
— Разговаривают.
— О чем?
Роман вдруг прикусил язык.
Недавно Иван Иванович говорил ему:
«Если кто-нибудь будет расспрашивать, о чем беседуют мои гости, не говори ничего».
— О чем же? — торопил Пинкертон, но Роман уже нашелся.
— Не знаю, — сказал он, опуская глаза под пристальным взглядом. — Я не слышал.
Долго еще расспрашивал Пинкертон, изредка записывая что-то в маленькую книжечку. Роман встревожился за Тоффера.
«Если Пинкертон ищет преступника, то, без сомнения, напал на ложный след», — подумал он.
Наконец Пинкертон спрятал книжечку и вынул двугривенный.
— Держи. Теперь беги, да молчи, что со мной разговаривал, — сказал он, собираясь уходить, но Роман вдруг тронул его за руку.
Пинкертон остановился, недоумевая.
— Он не американец, — сказал Роман.
— Кто?
— Да жилец наш, он из Риги. — Это неважно.
— Неважно? — Роман был разочарован. — А я думал, ты американца ищешь.
— Я никого не ищу, — улыбнулся Пинкертон. Роман недоверчиво покосился на него и засмеялся.
— А зачем же из Америки приехал? Зря сыщики не ездят, — сказал он и испугался.
Лицо Пинкертона вдруг посерело и вытянулось. Он быстро схватил руку Романа.
— Кто тебе сказал, паршивец? — прошептал он, кривя губы. — Говори сейчас же. Кто?
Роман струсил.
— Я сам догадался. Ей-богу, сам, — дрожа и запинаясь, пробормотал он и, путаясь, торопливо стал рассказывать. Лицо Пинкертона светлело, складки исчезли, а когда Роман кончил, он долго хохотал.
— Молодец! Молодец! — говорил он сквозь смех. — Это я и есть. Узнал-таки!
— Ну еще бы! — хвастливо сказал Роман, видя, что Пинкертон не сердится. — Я, брат, сразу заметил. Я не как другие ребята.
— Верно, — смеялся Пинкертон. — Ты парень не дурак. У меня вот товарищи есть.
— Боб Руланд и Моррисон? — спросил Роман.
Пинкертон даже побагровел от душившего его смеха.
— Во, во, Боб и Моррисон, — пробормотал он. — А они здесь?
— Нет. Я, их не взял из Америки. Дрянные они.
— Ну?
— Дрянные. Шваль, а не ребята.
— А как же в Индии — они спасли же тебя? — продолжал допытываться Роман.
Пинкертон сморщился и махнул рукой.
— Ну только что в Индии, а так все больше я их спасаю.
— А ты бы других помощников взял?
— Я и то подумываю, — сказал Пинкертон. — Вот, может, тебя возьму.
— Меня? — Роман не верил ушам. — Неужели возьмешь?
— Возьму, — сказал усмехаясь Пинкертон. — Только ты за жильцом посматривай, будешь мне сообщать.
И, повернувшись, великий сыщик зашагал по улице, насвистывая «Пупсика»
ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ИЮЛЯ
С заходом солнца дом затих. Раскрылись окна. На дворе остро запахло жареным луком, колбасой, горохом. В доме ужинали и отдыхали.
Повеяло ночной прохладой. Из «Смурыгина дворца», почесываясь, один за другим выползали мостовщики подышать воздухом перед сном. Расселись на скамье, как воробьи на заборе. Желтый язычок спички вырисовывал в темноте бронзовые скулы и тусклые, бесцветные от пыли глаза. Вспыхивали огоньки папирос.
— Погода-то! Благодать какая!
— В деревню бы теперь, в самый раз к сенокосу. Ишь как парит!
— Пожалуй, как бы другой сенокос не начался… Будто немец воевать с нами хочет.
Сразу все замолкли, насторожившись. Потом кто-то сурово обрезал:
— Будет молоть! Дурак!
— Не должно быть войны. Нечего нам с немцами делить.
— А говорят же люди.
— Мало ли что говорят! Вроде тебя брехуны.
— Сейчас, ежели запас тронуть, все работники под ружье пойдут. Это хоть наш брат, хоть немец понимают.
Долго сердито говорили, потом успокоились. Кто-то мечтательно и тихо замурлыкал:
Ревела буря, дождь шумел, Во мраке молнии сверкали…А дальше густо, как клубы махорочного дыма, громыхнуло и понеслось по двору подхваченное артелью:
И беспрерывно гром гремел, И ветры в дебрях бушевали.Хорошо пели мостовщики. Согласно, стройно, с чувством, вкладывая в мотив знакомую каждому тоску по родным местам.
Песня всколыхнула и пробудила от дремы двор. В первом дворе скрипнула створка окна. Высунулась кудлатая голова портного. Он развалился на подоконнике, шумно зевнул.
— Запели. Соловьи курские! — Потом повернулся в комнату, громко сказав: — Тащи самовар, старуха. Будем чаевничать.
У забора на траве расположились мастеровые из кузницы. Выпивали. Кто-то, захмелев, затянул частушку.
Где-то ругались. Доносились обрывки фраз, смех. Тонкий детский голос лениво тянул:
— Мамка, кинь ситнава! Кинь ситнава!
Роман сидел около мастеровых. Слушал сказки. Кувалда-молотобоец — мастер сказки рассказывать, и всегда у него неисчерпаемый запас их. Только Роману не нравятся его сказки. Непонятные они и однообразные. Все про попадью да про генеральских дочек, с ругательствами.
Роман слушал, слушал, потом надоело. Поднялся и пошел прочь. Только к каретным сараям отошел, кто-то за рукав дернул. Обернулся, а сзади Ленка дворникова стоит.
— Романка! Я ищу тебя.
— Тебе что?
— Что я знаю-то! — сказала Ленка, тараща таинственно глаза.
— Ну говори!
— Подозрительный тип у вас живет, вот что.
— Врешь ты?
— Нет, не вру. Подозрительный тип, как папа сказал.
— Да у нас нет никого.
— А жилец ваш?
— Иван Иванович? — с удивлением спросил Роман. — Это про него папка твой сказал? Ну, так дурак он. — Роман рассердился. — Дурак и есть. Я Ивана Иваныча знаю, он хороший.
— Да я ничего, — оправдывалась Ленка — Это папа. Как он сказал, я сама испугалась.
Ленка озабоченно вздохнула и, подергав косичку, ушла. А Роман снова начал бродить по двору. Около сеновала нашел Иську, Женьку и Пецу. Они тихо разговаривали, Роман сел рядом. Но разговор не клеился. Ребята, скучая, прислушивались к полузвукам, доносившимся со двора.
«Скорее бы война», — подумал Роман. И вдруг в шум двора вмешалось новое. Протяжный, едва улавливаемый звук, как игла, вонзился в шум двора, вмешался в пение граммофонов. Сначала он был слабый, непонятный, потом окреп, стал слышнее и вырос в тягучий, как сирена, звук. Звук рос и креп, напирая на двор, разъедая душную мглу и заглушая разговор.
Во дворе внезапно все стихло. Замерли голоса, оборвалось хрипение граммофонов, в тишине пиликнула гармоника и поперхнулась на высокой ноте. Грозно растущий гул захлестнул двор.
С задворков, как вспугнутая стая воробьев, промчалась ватага мальчишек.
— Солдаты идут! — закричал звонкий детский голос. — Музыка!
— Война! — прозвучало как вздох в разных концах двора, и все устремились на улицу.
Бежали мастеровые, торопливо шли почтальоны, спешили портные, на ходу накидывая на плечи пиджаки.
Все бежали к воротам.
Но раньше всех были там ребята. Пробраться на улицу оказалось нелегко. Мимо ворот, сметая все на пути, двигалась громадная толпа, которая что-то кричала, что-то пела, свистела.
Сначала ребята растерялись. Потом протиснулись за ворота. И сразу их сдавило в толпе и потащило вперед.
Роман задыхался. Оглядываясь кругом, искал товарищей. На секунду чей-то локоть придавил ему голову к большому и мягкому, как подушка, животу, и Роман услышал, как живот густым басом урчал: «Боже, царя храни».
Роман вырвался из-под локтя. Увидел Степку. Пробился к нему, наступая на ноги идущим и получая пинки. Потом вместе отыскали Иську с Женькой. Ваську нашли на заборе.
— Лезьте сюда! Оратора слушать! — крикнул Васька.
У подножия памятника худенький человек, размахивая руками, кричал в толпу. До ребят доносились только отрывки его речи:
— Не сложим оружия!.. Победим!.. С нами бог!..
А солдаты все шли, и казалось — конца не будет людскому потоку. С оглушающим грохотом проезжали вереницы орудий. Двигалась кавалерия. Копыта лошадей с сухим треском скоблили мостовую. Там, где обрывались ряды солдат, чернели еще более густые толпы горожан. Над ними развевались полотнища трехцветных флагов. Не переставая, гремели оркестры.
Воздух дрожал от непрерывного многоголосого рева толпы. Улицы оглушительно стонали, гудела мостовая, в окнах жалко звякали стекла.
Тускло поблескивали хоругви и ризы священников. Мужчины с окаменевшими в экстазе лицами, спотыкаясь, несли тяжелые иконы и, задыхаясь, пели молитвы.
На углах, забравшись на тумбы, кричали добровольные ораторы. Толпа, не слушая, ревела «ура», стаскивала ораторов, качала их и неслась дальше.
Войска шли всю ночь. Шли в одном направлении — к вокзалу. Широкие, плотные колонны серых шинелей перекатывались как волны.
Наступило утро. Прошли последние части пехотинцев, а за ними потянулся длинный обоз и долго наполнял грохотом улицы.
Наконец проехала запоздавшая двуколка.
Улицы опустели, и сразу стало тихо и скучно. Тут только спохватившись, ребята побежали домой. Роман поднялся по лестнице и тихонько стукнул в дверь.
— Кто там? — спросил голос через некоторое время.
Роман обрадовался, узнав голос Тоффера.
— Это я, Иван Иваныч, откройте.
— Поздно, — сказал Тоффер, впуская его. — Где ты был?
— На улице. Солдат глядел. Много как, так и идут все время, и сейчас идут, — соврал Роман, проходя к Тофферу в комнату. — Германцам попадет.
Он посмотрел на Тоффера и увидел, что тот даже не слушал. Иван Иванович стоял, прислонившись к раме, и глядел в окно. Лицо его было задумчиво.
— Иван Иваныч .
Тоффер вздрогнул . Отвел глаза, посмотрел на Романа.
— Что с вами? — спросил Роман.
Тоффер долго медлил ответом, потом, повернувшись, со вздохом сказал:
— Подумай, Роман, сколько людей погибнет в этой войне.
— А германцы? Им тоже попадет, — сказал Роман, пытаясь ободрить Тоффера.
— А германцы разве не такие же люди?
— Такие же люди. А раз нападают?
Было видно, когда Тоффер, улыбнувшись, сказал:
— Глуп ты еще, а то бы я объяснил тебе. Совсем войны не надо.
Иван Иваныч говорил тихо, не обращая внимания на Романа. Роман молчал и вертел в руках выпуск Пинкертона, который с вечера таскал в кармане.
Вдруг Тоффер перестал говорить и подошел к Роману. Взял из рук книжку, прочел название.
— Нат Пинкертон. Зачем ты читаешь эту дрянь?
— И вовсе не дрянь. Интересно.
— Выдумки все это. Нет таких сыщиков.
— Ну да, нет! Скажете тоже!
— Конечно, нет.
Роману стало смешно. Иван Иваныч большой, а о Пинкертоне ничего не знает.
— Есть, — сказал он. — Посмотрим, что есть…
— А докажешь? — усмехнулся хитро Иван Иваныч.
Роман фыркнул:
— Еще бы не доказать. И докажу.
— Как же это? В Америку поедем?
— Не надо и Америки. Я здесь видел Пинкертона.
Иван Иваныч изумленно вытаращил глаза и громко расхохотался.
— Нечего смеяться, — буркнул , Роман. — Сам видел. Врать не стану. Пинкертон, настоящий сыщик. И конфетами меня угощал.
— Верно?
— А то, думаете, вру?
Но Тоффер все еще смеялся.
— О чем же вы с ним говорили? — спросил он. — О кинематографе?
— Фига, — разозлился Роман. — Он преступников ловит. Он и о вас спрашивал.
Тоффера словно подбросило — и смеяться перестал.
— Как ты сказал? — нахмурившись, спросил он.
А Роман нарочно не торопился отвечать. Тогда Иван Иваныч взял стул и сел рядом с Романом.
— Ну-ка, выкладывай, — деловито сказал он. — Рассказывай все подробно. Что он спрашивал обо мне?
— А все. Как живете, что делаете, кто к вам ходит, о чем разговариваете.
— А ты?
— Ну, я не дурак — сказал Роман. — Насчет разговоров ничего не сказал.
Сообщение взволновало Тоффера. Он долго расспрашивал о Пинкертоне. Интересовался даже, как тот был одет и какая на нем шляпа. Потом он долго ходил по комнате и что-то бормотал под нос.
Роман вспомнил про Ленку и кстати рассказал о дворнике. Тоффер внимательно слушал. Потом зевнул, сказал:
— Чепуха все. Иди спать и не рассказывай никому о Пинкертоне. А эти книжки брось все-таки читать.
Иван Иваныч подошел к этажерке, порылся в стопке толстых томов и достал книгу. Потом что-то написал на обложке и протянул книгу Роману,
— Вот возьми.
— Про сыщиков?
— Нет. Про одного мальчика, но очень интересная, только попробуй, начни…
Роман оглядел книгу. На обложке большим красными буквами стояло одно слово:
РЫЖИК
Название было непонятное и неинтересное.
ИМЕНИНЫ
На Троицком проспекте, раньше тихом и пустынном, теперь каждый день учили солдат. С раннего утра разбитые повзводно новобранцы проделывали военные упражнения, а бравые унтеры, важные, как петухи, грозно командовали:
— Взвод!.. Отставить!..
Целыми днями марширующие новобранцы ревели с присвистом песню:
Пишет, пишет царь германский,
Пишет русскому царю:
«Я Россию завоюю,
Сам в Россию жить пойду».
На задворках, в пустовавшем двухэтажном флигеле, открылась фабрика военного обмундирования. Загудели швейные машины. Двор огласился песнями работниц-швеек. Ежедневно к фабрике подъезжали возы. Привозили полотно, вату, большие пачки катушек с нитками, увозили зеленые тюки гимнастерок и большие кипы белья.
Роман целые дни проводил с ребятами во дворе. Домашние дела его не интересовали, да и что особенного могло произойти дома?
Но однажды, придя домой, застал мать в слезах. Колька потихоньку сказал:
— Александра мобилизовали. Завтра на фронт.
На другой день встали все не по обычному рано. Разбудили и Романа. Вместе пили чай. Даже дед не пошел на работу. Старший брат был в новеньком обмундировании. Сидел за столом важно, как именинник, с вытянувшимся лицом и даже не шутил. В глазах его Роман подметил что-то похожее на испуг.
После чая брат позвал Романа и, вытащив из сундука новенькую хрестоматию, подал ему.
— Это тебе подарок, — сказал он. — Осенью учиться пойдешь, на память.
— Спасибо скажи, — бормотала мать, вытирая слезы.
Александр начал одеваться. Бабушка кинулась к нему помогать напяливать шинель. Дед сидел в стороне на табуретке и, поглаживая бороду, изредка крякал. Колька стоял у окна.
Все сели. Бабушка, часто крестясь, бормотала молитвы. Мать торопливо развязала узелок платка, доставая деньги. Минуту сидела молча, опустив глаза, не двигаясь. Наконец Александр встал.
— Благословит тебя господь, — сказала мать дрогнувшим голосом. Она подошла к Александру и стала часто-часто крестить его.
— Шуратка, миленок, внученька-а! — запричитала бабушка, бросаясь к Александру.
Все сгрудились вокруг него. Дед крепко обнялся с внуком и отошел в сторону. Потом все по очереди подходили прощаться. Целовали, говорили что-то бессвязное, но нужное:
— Пиши почаще… Что надо, сообщи…. Наконец Александр вырвался из круга, вскинул на плечи мешок.
Мать все еще суетилась. Бегала, хватала что-то, совала деньги. Вошел Тоффер.
— Прощайте, Иван Иваныч, — сказал Александр, обращаясь к Тофферу. — Я увезу свой корнет, так вы их скрипкой почаще веселите.
— Ладно, — сказал Тоффер, пожимая руку Александра. — А вам желаю поскорее вернуться. Добрый путь!
В этот день в квартире Рожновых было особенно тоскливо. Говорили мало. Колька рисовал немцев из «Огонька», сестра вышивала, мать читала Евангелие, а бабушка чинила белье. Только дед, тяжко вздыхая, разговаривал сам с собой.
День прошел. Потом другой, третий, неделя. В квартире прочно засела тоска.
По вечерам, если у Ивана Ивановича не было гостей, он часто снимал с гвоздя скрипку и наигрывал разные польки.
Мать привыкла к нему, да и все домашние полюбили тихого жильца. И столовался Иван Иванович вместе с Рожновыми.
А лето считало последние дни.
Наступил день именин Романа. Утром мать водила именинника в церковь причащаться. Дома его ждал большой арбуз. Пили кофе. Бабушка угощала пирогом.
После чая, забрав с собой Иську и Женьку, Роман гулял, покупал мороженое и угощал товарищей. Потом купил себе книжку «Взятие Плевны», на обложке которой солдат в серой кепи и с багровым лицом бежал на турок.
Вечером собрались гости. Пришла Настасья Яковлевна, знакомые матери и бабушки. Васса Алексеевна подарила Роману сапоги, а Настасья Яковлевна сунула ему в кулак полтинник и балалайку.
Сестра подарила книгу стихотворений Лермонтова. Роман знал, что сестра дорожила этой книгой, поэтому отнесся к подарку с уважением.
Лучше всех оказался запоздалый подарок Кольки. Он пришел с работы поздно.
— Поздравляю, — сказал он и, подмигнув Роману, вышел на кухню. Роман последовал за ним. Тут брат вытащил замечательный стозарядный пистолет.
Давно Роману не было так весело, как в этот вечер. Гости сидели за столом, прикладывались к рюмкам, разговаривали. Именинник бегал вокруг стола и выбирал самое вкусное. Ему даже дали выпить рюмку сладкого вина.
Роману очень хотелось, чтобы здесь присутствовал Иван Иваныч, но у него опять сидели товарищи. Они чуть не с утра забрались к нему в комнату и все говорили. Роман часто поглядывал в замочную скважину, но войти не решался.
А гости, захмелев, стали петь песни. Колька принес гитару, заиграл плясовую. На середину комнаты выскочила Васса Алексеевна и поплыла по кругу. Потом все плясали, и Роман плясал и пел:
Вышла баба на торги, Предлагает пироги. Пирога! Пирога! Кому надо пирога!..Воздух от папиросного дыма стал серым. В комнате было жарко. Заслезились от пота стекла окон. Комната дрожала от громкого смеха и выкриков.
В этот момент с улицы тихонько постучали в двери.
— Заходи, мил человек, — сказала Настасья Яковлевна. Но никто не вошел. Дверь только чуть приоткрылась, и тонкий голос крикнул:
— Романка! выйди-ка на лестницу.
Роман узнал тонкий голосок. Выскочил во двор. Там его ждала Ленка. Она была чем-то напугана и дрожала, поминутно оглядываясь.
— Что тебе? — спросил Роман, замирая. Ленка захныкала.
— Только никому ни словечка, а то батька убьет меня.
— Говори! — крикнул Роман. — Никому не скажу.
Наконец Ленка залпом выпалила:
— Батька сказал, чтоб дворники сегодня спать не ложились. К вам полиция с обыском придет.
— Врешь? — сказал Роман, вздрогнув. — Ведь врешь же? — переспросил он, надеясь, что Ленка сейчас засмеется и скажет, что пошутила.
Но Ленка отчаянно замотала головой.
— Не вру, Романка. Ей-богу. Батька сказал, что жилец ваш — шпион германский.
Роману стало так тяжело, словно большой камень придавил его.
Что же делать?
Ленка хотела еще что-то сказать, но Роман уже не слушал. Повернувшись, он побежал по лестнице.
В квартире пели, плясали, и никто не обратил внимания на Романа.
Прошмыгнув в кухню, Роман постучал к Тофферу. В комнате зашуршали бумагой, потом послышался голос Тоффера:
— Войдите.
Роман вбежал, захлопнул за собой дверь и остановился.
— А, именинник, — улыбнулся Тоффер. — Ну, что скажешь?
— Удирайте! — крикнул Роман.
Тоффер резко поднялся. Вскочили и остальные.
— Что ты мелешь? — строго спросил Тоффер.
— Не мелю! — крикнул Роман. — Ленка сказала. Ночью полиция с дворником придет обыск делать. Дворник сказал, что вы шпион.
Лицо Тоффера почернело, на лбу надулись складки. Товарищи молча переглянулись.
— А похоже на правду, — сказал один. — У них сейчас любимый прием: назовут шпионом — и каюк.
— Спасибо, Роман, — сказал Тоффер, гладя его по голове. — Теперь иди, веселись.
Пирушка уже не занимала Романа. Он сидел, тревожно поглядывая на дверь и прислушиваясь к малейшему шороху.
А гости все веселились. Изредка прикладывались к рюмкам. Но вот на кухне что-то грохнуло. Мать раскрыла дверь. Там стояли Тоффер с чемоданом в руке и его товарищи.
— Простите, — улыбнулся он, — зацепился за что-то.
— А вы куда?
— Товарищей приезжих надо пристроить. Но вы не беспокойтесь, — может быть, я сегодня и ночевать не буду дома.
— Как вам удобнее, — сказала мать.
Тоффер быстро оглядел комнату, отыскал глазами Романа, забившегося в угол, и кивнул ему. Роман ответил прощальным кивком. Один только он и знал, что Иван Иваныч, может быть, навсегда прощается с квартирой.
Поздно разошлись гости.
Роман лег, но уснуть не мог.
На него напал страх. Вдруг Ленка перепутала что-нибудь, и он обманул Тоффера.
За окном шумел дождь. А Роман все не спал, лежал и прислушивался к шорохам. От напряжения даже в висках стучало.
Но вот послышался звук голосов. По двору шли люди. Уже отчетливо было слышно, как много ног ступает по ступенькам лестницы.
Роман лежал не дыша.
В дверь застучали. Стучали громко, но никто не проснулся. Стук повторился. Кто-то за дверью выругался.
— Кого еще несет, чума их возьми, — заворчал, просыпаясь, дед.
Приподнялась бабушка. Вскочила мать. Зажгла свечку и, накинув юбку, подошла к дверям.
— Кто там?
— Откройте, Любовь Никифоровна, — раздался голос старшего дворника. — Полиция здесь.
— С нами крестная сила! — забормотала бабушка, побелев и часто крестясь.
Дед кряхтел и, сидя на кровати, равнодушно чесал спину. Мать, волнуясь, отдернула задвижку. Тотчас же вошли два городовых, пристав и дворник.
— У вас проживает Иоганн Ян Тоффер? — спросил пристав.
— Проживает, — сказала мать.
— Покажите комнату.
Мать, перепуганная, молча провела людей через кухню. Роман, замирая от возбуждения, приложил ухо к стене.
Вот все остановились перед дверью. Сильный рывок потряс стены квартиры. Это открыли дверь. Минуту стояла тишина, потом послышалась ругань пристава.
— Да его нет… Где он?
— Не знаю, господин пристав, — бормотала перепуганная мать. — Вечером ушел и не приходил.
Пристав долго ругался. Успокоившись, велел всем ложиться и гасить свет, а сам, оставив в засаде городовых, ушел. Городовые долго ворочались в темной комнате, после затихли.
Утром в квартире все было спокойно.
На дверях комнаты Тоффера висела большая красная печать. Роман долго в щелку рассматривал комнату Тоффера. Все было на месте, и даже скрипка, как всегда, висела на стене, завернутая в коричневую тряпку. Только хозяина не было.
Вдруг Роман что-то вспомнил и кинулся к своему ящику. Минуту торопливо рылся и извлек со дна книжку.
— Книгу забыл отдать Ивану Ивановичу. Стало стыдно. Как будто украл.
С того дня, как Тоффер дал книгу, она лежала на дне ящика даже не разрезанная. С книгой Роман сел к окну, твердо решив прочесть ее. Открыл первую страницу. В углу заметил надпись чернилами и радостно рассмеялся.
На обложке крупными, аккуратно выведенными буквами стояло:
Маленькому Роману на память от его усатого друга
Ивана Ивановича.
ГОРОДСКОЕ ТРЕХКЛАССНОЕ
В ПЕРВОМ КЛАССЕ
Рамы наглухо закрыты. Начисто вымыты стекла, и от этого особенно ярко блестят стекающие по ним дождевые капли. Они ползут сперва медленно, делая неожиданные зигзаги, потом, сорвавшись, стремительно сбегают вниз, оставляя на стекле серебристую рваную цепочку мелких водяных крупинок.
От дождя неясный, ровный шум. Дождь звенит по стеклам, шелестит по наружной стене. Дрожь пробирает при одной мысли, что теплая стена комнаты с выцветшими ласковыми обоями с другой стороны сейчас холодна и набухает холодным дождем. На столе коптит пузатая керосиновая лампа. Аська сидит у стола, что-то вышивает. Поблескивает на пальце медный наперсток. Аська теперь совсем заважничала. Весной она кончила школу и уже второй месяц работает в типографии ученицей-приемщицей.
В углу сидит Колька в зеленом служебном кителе с блестящими пуговицами. Колька рисует.
Роман не видит рисунка, но знает, что это немцы — в касках, со штыками.
Последнее время с Колькой опять что-то случилось. Он подолгу молча сидит, уставившись в одну точку. Иногда встряхнется, вздохнет и опять задумается.
Роман уверен, что Колька опять что-нибудь затевает. Но что?
Посреди комнаты мать раскладывает грязное белье. В ночь стирать будет.
На сундуке сидят Настасья Яковлевна и бабушка. Настасья Яковлена поминутно прикладывается к табакерке и звонко чихает, вспугивая тишину. Она еще больше потолстела, обрюзгла.
За стеной новый жилец — маклак с рынка — дребезжит тихонько на балалайке и пьяным голосом гнусит:
Маруся, ты Маруся,
Тебе семнадцать лет.
Чего же ты скрываешь
Таинственный секрет!
— Да-а, дела, — вздыхает дед.
Колька перестает рисовать, поднимает голову и долго глядит в потолок. О чем он думает?
— Ну, а Александр-то пишет? — спрашивает Настасья Яковлевна, поправляя свой кроваво-красный повойник.
— Пишет, — говорит мать. — На прошлой неделе письмо прислал. В Галиции стоят, местечко какое — забыла. Пишет, что ничего, да уж какое там…
— Чтоб не волновалась, — говорит бабушка. — А где же там ничего, господи! Небось жмется в шинелишке…
— Ну, даст бог, вернется, — говорит Настасья Яковлевна.
Дождь шелестит за окном. Ползут без конца капли. Роман от скуки следит за ними и думает о ребятах. С наступлением осени развалилась дружная компания. Спиридоновы готовились в школу и по целым дням зубрили таблицу умножения. Женька тоже готовился в школу. Ему купили ранец, и он уже успел похвастаться. И Степка будет учиться.
Один Васька слонялся по двору, ничего не делая, да Роман все ожидал, когда мать выберет свободный день и отведет его в школу. Но матери все некогда.
Вот и сейчас она идет в прачечную на всю ночь.
Собрав белье, она связывает его в узел, потом, накинув платок, оглядывает комнату: не забыла ли чего.
Настасья Яковлевна вдруг тоже начинает суетиться.
— Ах ты, как засиделась! Пойдем, что ли? Дотащу узел-то до прачечной.
Мать берет корзину с дровами, Настасья Яковлевна — узел с бельем и лампу. Роман закрывает за ними дверь на задвижку. В квартире становится еще тише. Бабушка молится богу.
Сестра за занавеской спать укладывается. Один Колька сидит за столом. — Да-а, дела, — кряхтит дед.
Он, уже раздетый, сидит в нижнем белье на кровати, свесив ноги. Почесываясь, лениво разговаривает сам с собой:
— И что, в самом деле, сцепились? Хлеба, что ли, мало? Или земли не хватает? Эх, кабы мне волю, взял бы я этого Вильгельма, чума его возьми…
Бабушка, кончив шептать молитвы, раздевается, расчесывает жидкие волосы и, кряхтя, лезет под одеяло.
— Ложись ты, долбыня! — прикрикивает она на деда. — Долбит, долбит, из пустого в порожнее переливает… И ты бы ложился, — обращается она к Кольке. — Нечего зря керосин-то палить…
За стеной шуршит неугомонный дождь, шипит и потрескивает фитиль в лампе.
Наконец мать взялась за Романа. Отложив все дела, она два дня бегала по школам. Прием уже везде был окончен, но ей удалось пристроить Романа.
На третий день она пошла с ним в Александровский рынок покупать сапоги. Юркие торговцы, беспрерывно щебеча, тормошили Романа, напяливали ему на ноги разные ботинки и уговаривали мать:
— Мадам, берите эти… Нигде не найдете лучше.
Сапоги наконец купили. Но на обратном пути мать вдруг вспомнила: — а ранец еще надо…
— Надо… — сказал Роман.
— Ты иди домой, — сказала мать. — А я забегу к Вассе Алексеевне. Что-то она мне говорила о ранце.
Через час мать пришла и принесла огромный кожаный ранец…
— Вот-то счастье… — рассказывала она. — Старший-то барчук гувалевский гимназию кончил. Васса Алексеевна для меня расстаралась, выпросила у господ ранец.
Ранец был шикарный — с отделениями для книг, для тетрадей и для пенала.
Целый вечер, как солдат перед боем, чистил Роман ранец, стирал резинкой чернильные пятна, буквы, рожицы, нарисованные на крышке. Потом долго укладывал две тетрадки и книгу.
И вот он в школе. Шагает с матерью по чистому, светлому коридору. Скрипят новые сапоги, режет плечи ремень от ранца.
Начальница принимает их в столовой. Она пьет кофе с сухариками.
— Пойди-ка поближе, — говорит она Роману.
Роман делает два шага вперед и останавливается. Как бы не поскользнуться в новых сапогах на скользком паркете!
— Сколько лет? — спрашивает начальница и, прищурившись, разглядывает его.
— Девять, — говорит Роман. — А ты хочешь учиться?
— Хочу.
Начальница — седенькая старушка. У нее дряблое розовое личико, маленькие пухлые ручки. Одета она в простое серое платье.
— Ну, посмотрим, посмотрим, — говорит она и поднимается. — Иди за мной.
Мать быстро крестит Романа и уходит, а Роман идет за старушкой по коридору.
Дверь в класс отворяется. При входе старушки шум и крики мгновенно смолкают.
— Здраст… Гликерия Петровна! — кричат хором ученики. А Роману слышится: «Лукерья».
Класс большой и светлый. У стены две доски. На одной стене висят портреты царей, на другой — портреты писателей: Пушкина, Гоголя, Лермонтова.
Гликерия Петровна по очереди начинает вызывать ребят. Роман оглядывает всех учеников. Один ему особенно нравится — черноглазый курчавый мальчишка в черной курточке.
— Рожнов! — выкликает Гликерия Петровна.
Роман встает. На него с любопытством смотрит весь класс.
— Ты учился раньше?
— Да, Лукерья Петровна, — говорит Роман.
Все хохочут, а больше всех черноглазый, который понравился.
— Дурак! — визжит он. — Глухарь!
— Меня зовут Гликерией Петровной, — говорит, покраснев, учительница. — Садись.
Роман садится и видит перед носом на парте бумажку с корявыми буквами:
Глухарь Вислоухий
Роман оглядывается. Все сидят как ни в чем не бывало. Учительница говорит что-то вроде речи. Роман внимательно слушает. Вдруг у него начинает чесаться шея. Он трет ее рукой и достает свернутую бумажку, засунутую за воротник.
Черноглазый мальчишка давится от смеха. Роману обидно. Почему именно этот смеется? Он показывает мальчишке кулак.
— Скажу, — громко говорит черноглазый, и Роман, вздрогнув, прячет руку.
Пришел священник. Отслужил молебен, и ребят распустили по домам.
— А ты что знаешь? — спрашивает Романа во дворе черноглазый мальчишка.
— Закон божий… Арихметику…
— Дурак! — завизжал черноглазый. — Арихме-тика!.. Ребята, он говорит: арихметика…
Вдруг, сделав испуганное лицо, черноглазый попятился от Романа.
— Что у тебя на груди? — крикнул он. Роман, ничего не подозревая, нагнул голову, чтобы посмотреть. Черноглазый дернул его за нос.
— Расти большой! — крикнул он.
Ребята захохотали. Роман, недоумевая, оглядел ребят и, поняв, что над ним смеются, треснул черноглазого прямо по носу. Потасовка продолжалась недолго, и Роман вышел из нее победителем, хотя и с синяком.
Домой возвращался гордый и чувствовал себя заправским бывалым школяром, а школа была теперь как родной дом.
ИЛЮШКИН ДВУГРИВЕННЫЙ
В классе царил полумрак. Только над немногими партами горели спущенные на блоках лампочки, и несколько человек, тихо переговариваясь, проверяли задачи.
После первого столкновения во дворе Зелинский — так звали курчавого — не трогал Романа, но относился к нему враждебно. У него была большая партия приверженцев. Оценив это, Роман тоже не задевал его и только изредка огрызался, когда Зелинский вслух отпускал какую-нибудь штуку по его адресу. Роман еще ни с кем не дружил, и даже со своим соседом по парте Илюшкой Крякиным, большим, толстым мальчишкой с одутловатым лицом и пухлыми, всегда мокрыми губами, он еще ни разу не разговаривал.
Над Крякиным тихонько посмеивались, но он не то что не обижался, а просто не обращал на это внимания, хотя мог заставить всех замолчать, так как был самый сильный в классе.
Крякин словно не замечал Романа. Всегда он о чем-то думал, уставившись в одну точку сощуренными близорукими глазами и шевеля губами. Если же Крякин не думал, то обязательно читал. Читал он много и всегда приносил с собой толстые книги.
Вторую неделю продолжалось их молчаливое соседство. Роман не хотел первый заговаривать с ним, не начинал и Крякин.
Однажды Роман пришел в школу раньше обычного. В классе было пустовато. Только Зелинский с двумя друзьями шушукался в углу да Крякин уже сидел за партой и, читая, жевал булку. При входе Романа компания Зелинского притихла, кто-то хихикнул: «Арихметика идет…»
Роман ничего не ответил. Сев за парту, он вынул тетрадь, лениво просмотрел задачи, но они все были решены. Тогда достал хрестоматию. Будто бы читая, стал искоса заглядывать в книгу Крякина. Там были картинки, на которых бородатые люди в шляпах мчались на конях, стреляя в кого-то.
Крякин вдруг захлопнул книгу и, подперев голову руками, задумался. Роман осмотрел обложку, прочел:
ПИТЕР МАРИЦ, МОЛОДОЙ БУР ИЗ ТРАНСВААЛЯ
— Крякушка опять мечтает, — засмеялся кто-то.
Крякин вздрогнул, повертел головой по сторонам, потом взглянул на Романа чуть удивленно, словно впервые увидел, и тихо спросил:
— Ты любишь кинематограф?
— Нет.
— А бывал?
— Ни разу не был…
— Крякин прищурился и фыркнул: — Эх, ты, колобашка!
Помолчали. Через некоторое время Крякин енова спросил:
— А солдатики у тебя есть?
— Есть…
— Оловянные?
— Нет, бумажные.
— А у меня оловянные.
На этом беседа прервалась. Начались занятия.
Роман с Крякиным больше не разговаривали, но, по-видимому, Крякин, раз заметив, теперь не забывал о Романе.
В большую перемену у Романа произошла стычка с Зелинским.
Ребята, собравшись в кучу, разговаривали о зиме.
— Скоро на коньках покатаемся, — говорил один. — Я восьмерку делаю шикарно.
Роман подошел к кучке, с интересом слушая разговор.
— А кто на одном коньке круг делать умеет? — спросил он.
— А ты умеешь?
— Умею. Я насобачился на одном коньке кататься.
— Потому что второго нет, — с насмешкой сказал Зелинский, незаметно подошедший сзади.
Роман вспыхнул.
— Я и на одном тебя двадцать раз обгоню.
— Ври больше!
— Поспорим, шкелет!
— Вислоухий!
— Шкелет!
— Приди на каток, попробуй!
— И приду, не испугаюсь.
Тут в толпу ребят протиснулся Крякин и, словно не слыша, что говорят, подошел к Роману.
— Пойдем поговорим, — сказал он. Роман последовал за ним.
Крякин завтракал. Он отломил кусок булки с колбасой и дал Роману.
— Бери, после мне когда-нибудь тоже дашь. Роман взял.
— Чего это ты с Зелинским?
— Пристает.
— Ну и черт с ним… Ты читать любишь?
— Смотря что.
— А хочешь, я тебе интересную книгу дам? Только ты верни.
— Ладно, давай, — сказал Роман.
Последние два урока прошли незаметно. Роман все время перешептывался с Крякиным. Тот дал ему книгу. Книга была та самая, которую он читал утром.
— Очень интересная, про буров, — сказал Крякин. — Знаешь что, пойдем сегодня в кинематограф.
— Нет, — сказал печально Роман. — Денег нет.
— А я тебе дам двугривенный в долг, после вернешь.
Роман еще никогда не брал в долг, поэтому было страшно, но в кинематограф идти хотелось.
Хотя и не знал, как отдаст двугривенный, но сказал:
— Ладно! Идем!
ФИРМА КРЯКИН И Ко
— Ты, брат, не понимаешь, — шепчет Крякин, скосив глаза на учительницу и стараясь не шевелить губами. — Главное — разбогатеть надо.
— А как? — спрашивает Роман, тоже делая каменное лицо.
— А вот как…
— Крякин, продолжай, — говорит Гликерия Петровна. — Опять не знаешь, на чем остановились!
Крякин делает вид, что протирает глаза. Он всегда отыгрывается на близорукости, и, пока он возится, ему успевают подсказать. Крякин читает:
— Увидя, как пчела хлопочет вокруг цветка…
— Укажи имя существительное.
— Пчела.
— Садись, довольно.
— Пронесло!
После уроков ребята прощаются на углу.
— Главное, — разбогатеть, — опять бубнит Крякин. — Тогда, брат, все тебе будет. Сумей из каждой штуки деньгу делать.
— Попробую, — говорит Роман. — Ты научи.
— И научу. Приходи вечером ко мне, в кинематограф пойдем, я тебе кой-чего расскажу. Придешь?
— Не знаю. Денег нет…
— А ты достань. Достань обязательно. Новая драма идет.
Дома Роман бродит из угла в угол и все думает, где достать денег. Уроки не идут на ум. Уже шесть часов.
«Разве пойти погулять», — думает Роман и замечает на вешалке костюм брата. Некоторое время стоит в раздумье, потом, решившись, осторожно опускает руку в карман братнего пиджака. Пусто. В другом тоже пусто.
— Заваляется у него, как же! — бормочет досадливо Роман.
Он ходит по комнате и думает о Крякине. Откуда только он деньги берет? Наверное, у батьки ворует.
Батька у Крякина маклак-старьевщик. Денег у него много. Да и сам Илюша скупой, расчетливый в денежных делах. Тетрадями в классе торгует. Перья, вставки продает, ножички перочинные выменивает, и всегда с выгодой.
Роман смотрит на часы. Семь.
Уже, наверное, ждет Илюша. Подождет, подождет — и один отправится в кино.
А если пойти без денег?.. Наверное, Крякин даст в долг. И потом, ведь он кой-чего хотел рассказать, так что сходить надо обязательно.
Роман быстро одевается и идет на улицу.
Как бы не опоздать! Вдруг и правда Илюша без него уйдет в кино.
Роман прибавляет шагу и к Крякину прибегает запыхавшийся.
Крякин сидит на кухне на портновском верстаке и мрачно расстреливает горохом оловянных солдатиков.
— Что, я тебя ждать должен? — говорит он сердито и быстро одевается.
Они выходят на улицу.
— Ну, куда пойдем?
— Не знаю, — говорит Роман.
— В «Иллюзион» пойдем, там сегодня хорошая штука, — решает Крякин.
— Я не пойду.
— Почему?
— Денег нет.
— А ты не достал?
— Не мог.
— Эх, ты, колобашка!
Крякин плюет с досадой. Потом, вздохнув, достает кошелек, подносит его близко к глазам и считает монеты.
— Так и быть, — говорит он, — заплачу за тебя, только, смотри, отдай. Потому плачу, что план у меня есть один. В кинематографе обсудим.
Они идут в кинематограф. Воздух плотный и сизый, как в бане.
Пристроившись в углу под запыленной пальмой, Крякин и Роман слушают музыку. Крякин достает две ириски. Одну дает Роману. Но Роман чувствует, что Крякин недоволен им. И верно, Крякин приступает к разговору.
— Ты вот что, — говорит он, — ты дурак.
— Почему?
— Дурак, потому что у тебя коммерции в голове не хватает.
— Может быть, и не хватает, — говорит обиженно Роман. — Я и математику не люблю.
— Ну и опять дурак, — смеется Крякин. — Без математики человек не проживет. Я вот придумал одну штуку. Хочешь быть моим компаньоном?
— Не знаю.
— А чего не знаю? Ты мне сколько должен?
— Полтинник.
— Не полтинник, а пятьдесят семь копеек с сегодняшними. Ириску не считаешь?.. Ну вот. А дело я придумал такое, что полтинник в день будешь зарабатывать.
— Какое же дело?
— Откроем торговлю.
— Торговлю? — Роман фыркает. — Чем же торговать? Окурками, что ли?
— Не окурками, а книгами. У тебя книги есть?
— Ну есть.
— Соберем книги — и на барахолку. После уроков торговать будем. Видал, как букинисты работают? Такие деньги загребают! Будем свои книги продавать, покупать по дешевке у ребят и продавать дороже. Понятно?
Тон у Крякина уверенный, и Роман уже видит целую гору полтинников, которые они загребают на верном деле Крякина.
— Идет, — говорит он.
В это время распахиваются портьеры, и все бросаются в зрительный зал.
Гудит толкучка, как осиное гнездо. В морозном воздухе стоит пар. Воздух дрожит от выкриков и брани. В крытых брезентом ларьках продаются шапки, шляпы, брюки, пальто. Прямо на земле в кучу свален дешевый товар. Маклаки, старьевщики, зажимая пальцами просиженные места, расхваливают брюки. Шипят спиртовки походных ресторанов, где за гривенник можно получить суп из требухи и черную котлету. Орут наперебой граммофоны.
Только в книжном ряду спокойно и тихо. Здесь торговцы и покупатели особенные. Букинисты — торговцы солидные: не кричат, не суют товар под нос. Подходи и выбирай.
Покупатели — молодые парни, школьники, студенты, какие-то выцветшие чиновники и приказчики.
На разостланных парусинах горами лежат книги. Том энциклопедии под выпуском Пинкертона, учебник физики и любовный письмовник.
Холодно. Время за час перевалило. Букинист в тулупе и в английском пробковом шлеме потирает руки. Другой букинист, молодой, в ушастой шапке, прыгает на месте, размахивает руками, со всеми заговаривает, шутит.
— А не закурить ли? — говорит он, обращаясь к своему соседу, старому букинисту в шубе и в валенках. Тот недовольно морщится и молчит. Болтливый букинист достает махорку и сворачивает папироску. Он сует ее в рот и уже хочет зажечь спичку, но в это время к книжному ряду приближаются два шкета. Один побольше, толстый, другой худенький, щуплый. Оба волокут, обливаясь потом, огромные тюки с книгами.
— Продаете? — спрашивает болтливый букинист.
Мальчишка, который побольше, качает головой:
— Нет.
Они медленно идут по ряду и останавливаются около свободного места.
— Здесь, что ли? — нерешительно спрашивает худенький. Толстый кидает свой тюк на землю и, не глядя по сторонам, тихо говорит:
— Здесь. Ладно.
Оба почему-то краснеют. Молча развертывают тюки. Толстый ерзает на разостланной по снегу тряпке и, сопя, раскладывает книги.
— Ах, сукины дети! — вскрикивает болтливый букинист в восторге. — Да они магазин открыли!
Весь книжный ряд с интересом следит за новыми торговцами, а те, смущенные таким вниманием, стоят, не зная, что предпринять. Толстый перекладывает книжки, а худенький беспомощно топчется вокруг и делает вид, что он тут ни при чем.
— Ай да маклаки! — смеются букинисты.
Хмурый букинист подходит к лавочке и разглядывает товар. Новые торговцы краснеют и с тревогой ждут, что будет дальше. Букинист вдруг спрашивает:
— Сколько дать за всю лавочку?
— Как за всю? — растерянно бормочет толстый. — Выбирайте, что надо.
— Да я весь товар куплю, — не отстает букинист.
— Денег не хватит, — говорит худенький сумрачно.
Маклаки смеются. Тогда букинист быстро выдергивает из груды одну книгу. Это «Бур из Трансвааля».
— Сколько за эту?
— Положи, — говорит, морщась, толстый. — Ведь не купишь.
— Сколько стоит-то? — пристает букинист. Тогда толстый и худенький одновременно говорят:
— Двугривенный.
— Четвертак.
— Дружно сменится букинисты.
— Так не торгуют, — говорит сумрачный букинист.
Взмахнув ногой, он вдруг щелкает ею по носу толстого. Книга летит в кучу, а нос толстого превращается в ломтик вареной свеклы.
Новых торговцев оставляют в покое. Они сидят на сложенных запасных книгах в унылых позах.
— Зря мы это, — говорит худенький. Толстый хочет выругаться, но в это время к магазину подходит покупатель. Парень в полушубке долго рассматривает книги, потом берет связку выпусков «Пещеры Лейхтвейса». Роман бледнеет. Полный комплект — семьдесят четыре выпуска «Лехтвейса» — его любимые книги.
— Сколько? — спрашивает парень.
— Давайте рублевку, — равнодушно говорит Крякин, не обращая внимания на недовольное покашливание товарища.
«Легко продавать чужие книги за дешевку», — думает Роман. Крякин уже бренчит серебром. Продал Лейхтвейса за восемь гривен.
Роман плотно сжимает губы и молчит. Зато, когда пожилая женщина с мешком берет «Бур из Трансвааля», он, не торгуясь, отдает книгу за пятнадцать копеек.
Темнеет. На толкучке звенит звонок. Сторож входит ряды. Конец торговле.
Мелкое торговое дело на первых порах сулило большие надежды. В день книжная фирма распродавала на рубль-полтора товара. Торговцы стали частенько похаживать в кино и угощаться конфетами. Но через неделю выяснилось, что магазин остался без товара. Книг стало так мало, что стыдно было их раскладывать. Фирма свернула торговлю. Магазин закрылся. Во время большой перемены было устроено совещание компаньонов.
— Мы дураки с тобой, — сказал решительно Крякин. — Мы все продавали и не покупали. А надо было покупать по дешевке.
Порешили произвести новый пересмотр книжных запасов и собрать еще, что возможно. Мобилизовали оставленные после первой сортаровки любимые книги. С новым запасом фирма выступила на толкучке.
С этого же дня компаньоны начали упорную работу по укреплению своего положения. Продавали и на половину вырученных денег покупали новые книги.
В первый раз фирма приобрела у какого-то шкета три учебника, которых больше никто не спрашивал. Учебники стали мертвым грузом.
Потом купили два комплекта «Нивы» и продали их с убытком для себя в тридцать копеек. Тогда прекратили покупку книг.
Дела шли все хуже и хуже. Книг стало мало, да и книги были плохие. Покупатель больше не шел к их магазину и толкался у больших развалов букинистов.
— К черту! — выругался Крякин, притоптывая на месте застывшими ногами. — Ты постой, а я пройдусь, ноги разомну. А потом ты пойдешь.
Крякин пошел вдоль книжных рядов. Роман остался один. Он с тоской разглядывал обложки примелькавшихся книг и думал о том, как бы поудобнее разругаться с Крякиным и бросить торговлю.
Крякин вернулся минут через десять. Подойдя к своему магазину, он огляделся по сторонам и, нагнувшись, положил под книги два толстых тома. Роман поглядел на книги, потом на Крякина. Крякин усмехнулся.
— Нечего и смотреть. Купил по дешевке.
— Купил? — медленно спросил Роман, что-то обдумывая. — Ну, тогда сиди, я пойду тоже погуляю.
Пройдя весь книжный ряд, Роман остановился у последнего букиниста. Букинист в оборванной студенческой шинели торговался с каким-то господином. Роман нагнулся к книгам. Одной рукой он перебирал коленкоровые и картонные корешки, а другой, не глядя, схватил пару книжек и незаметно сунул в карман. Букинист повернулся к Роману.
— Ничего не выбрал, мальчик? — спросил он. Роман попятился назад.
— Нет, — сказал он дрогнувшим голосом.
У своего магазина Роман ободрился и, также оглядевшись, сунул в общую кучу добытые книги.
— Где взял? — сердито спросил Крякин.
— Купил…
— Врешь! — крикнул Крякин.
— А ты? — усмехнулся Роман. Крякин успокоился.
— Ну ладно. У кого? — спросил он, меняя тон.
— У крайнего, знаешь, вроде студента… Крякин захихикал.
— Здорово! И я у него. Только смотри, у соседей не надо.
Дела пошли в гору. Торговали с чистой прибылью. Чтобы удобнее было таскать книги, компаньоны завели в карманах пальто по дыре. Стоило только присесть и нечаянно накрыть полой нужную книгу, как книга исчезала.
И вот, когда благополучие казалось особенно прочным и незыблемым, когда ребята, обнаглев, воровали книги у всех букинистов, не исключая и своих соседей, тогда и стряслось несчастье.
Случилось все потому, что в один из теплых февральских дней болтливому букинисту стало скучно. Ему захотелось побеседовать, посмеяться. Болтливый букинист посвистал, помахал руками и взглянул на соседа, торговца-старика. Тот сидел, уткнувшись в книгу. Другой сосед обедал, хлебая щи из фаянсовой миски. Тогда болтливый букинист пошел к двум малышам, тихо копавшимся в книгах.
Роман и Крякин как раз занимались ревизией своих товаров и, кончив ее, с ужасом убедились, что в их магазине не осталось ни одной своей книги. Все были давно распроданы, а те, что лежали, были в разное время присвоены у букинистов. Оба вздохнули и поглядели друг на друга. В этот момент над их головой раздался голос:
— Торгуете?
Крякин затрясся всем телом и с испугу сел прямо на книги.
— Торгуем, — пролепетал Роман, опасливо поглядывая на букиниста.
— Молодцы, — сказал болтливый букинист. — Здорово взялись. Я думал, треплетесь, ан нет — дело пошло.
Болтливый букинист, улыбаясь, оглядывал книги, не замечая растерянности компаньонов.
— Ишь как магазин пухнет!
В это время Крякин привстал. Болтливый букинист сразу увидел толстую хрестоматию, которая лежала сверху на куче книг.
— Ишь ты, — сказал он, беря хрестоматию. — И у меня такая есть.
Роман и Крякин стояли как мертвые. Вдруг Роман, прикусив губу, чтобы она не дрожала, схватил несколько книг и сунул их букинисту, стараясь отвлечь его внимание от хрестоматии.
— Вот у нас еще какие есть, — бормотал он торопливо.
Но букинист не положил хрестоматию. Он перелистал несколько страниц, потом перевернул книгу и внимательно осмотрел обложку.
— Гм… — промычал букинист в крайнем удивлении. Он взглянул на ребят, потом опять нагнулся к книгам и стал их быстро разбирать. Он откидывал некоторые в сторону и все чаще мычал. Наконец он поднялся с солидной пачкой книг.
— Вы что же это? — сказал он мрачным голодом.
Ребята молчали. Торговец оглянулся, словно ища поддержки, и вдруг отчаянно заорал:
— Мерзавцы! Воришки!
Компаньоны растерянно смотрели на букиниста.
На крик сбегались со всех сторон любопытные.
— Да я вас под суд отдам, сволочей! — ревел букинист.
Он прыгнул на книжный магазин компаньонов и стал топтать книги, поддавая и расшвыривая их ногами.
Больше ждать было нечего. Крякин и Роман нырнули в толпу.
Вот и ворота. Роман юркнул под арку и вдруг нос к носу столкнулся с Зелинским. Увидев Романа, тот ядовито, с зловещим видом сказал:
— Знаю теперь! Все видел! Завтра классу будет известно, зачем вы на рынок ходите…
На другой день неудачникам торговцам в классе устроили торжественную встречу с улюлюканьем.
— Маклаки пришли! — кричали ребята и свистели, дергали и толкали торговцев.
Во время уроков их засыпали комками жеваной бумаги, подкладывали на сиденье перья и булавки. Растерянные торговцы весь день сидели тихо, даже не разговаривали друг с другом, а когда кончились уроки и оба очутились на улице, Крякин сказал:
— Это из-за тебя все.
— Пошел к черту, — разозлился Роман. — Я с тобой больше дружить не буду.
— И не дружи, — усмехнулся Крякин, уходя. — Только рубль сперва отдай.
ДЕЛА КОЗЬМЫ КРЮЧКОВА
В квартире было тихо и как-то особенно мирно. Мать ушла в церковь. Дед уже лежал в кровати. Он всегда ложился раньше всех, с сумерками, по-деревенски, и теперь тихо похрапывал.
За столом против сестры сидел Колька. Он долго рисовал бой русских с германцами. На большом листке, постепенно оживавшем, скоро стало тесно от бегущих в атаку солдат и от рвущихся снарядов.
У натопленной печки на низенькой скамейке не шевелясь сидел Роман. Крякин требовал долг. В классе тоже не все было благополучно. Еще до ссоры друзья, подкараулив, сильно поколотили Зелинского, и тот теперь что-то замышлял. Вчера вечером пришлось удирать с катка, так как там их чуть не поймал Зелинский с ребятами.
Горячая печь приятно грела спину. По спине пробегали мурашки. Роман поеживался и смотрел на брата. Когда Колька рисовал, то от усердия, что ли, всегда высовывал кончик языка. И теперь язык вылез наружу. Подойти бы да дернуть.
Но вот Колька потянулся и, поднявшись, с треском бросил карандаш.
Он начал ходить по комнате, потом стал у печки.
— Ты чего нос повесил? — спросил он у Романа.
— Скучно, сказал Роман. — Делать нечего. Колька сел рядом.
— Это верно, — сказал он. — Скучно здесь. Вот на войне — там другое дело.
— Весело?
— Дурак. Не весело, а интересно.
— А что там?
— Там бои. Наши войска наступают сейчас. Там, брат, ух дела какие! Там и спать некогда.
— Почему?
— Воюют, — Колька помолчал и вдруг спросил — А тебя в школе не бьют?
— Нет, а что?
— Да больно ты кислый какой-то. Может, врешь?
— Чего мне врать?
— То-то. Я не люблю трусов. Лучше пусть изобьют, да не беги. Только не трусь.
— Да я и не трушу, — сказал Роман. — На нас с Крякиным весь класс косится.
— За что?
— А все из-за Зелинского. Есть у нас такой. Трепло!
И Роман стал рассказывать о школьной жизни. Когда рассказал о Крякине, опять вспомнил про долг.
— Дай рубль, — оборвав рассказ, попросил он у брата.
— Зачем?
Роман рассказал историю долга. Колька внимательно выслушал его. Рубль Роман получил.
— Отдай долг и больше не бери, — сказал Колька. — А с Крякиным поменьше дружи: он пройдоха.
— Ладно, — сказал Роман. — Завтра отдам — и к черту.
Пришла мать. Отужинали и легли спать. Мать задула лампу, оставив одну лампадку у иконы. Роман, подождав немного, перебрался к брату и, закутавшись в одеяло, прижался к нему.
А Колька стал шепотом рассказывать о том, как выехали на разведку три казака и встретили немецкий разъезд. Были то «уланы смерти». Два казака испугались и ускакали, а третий кинулся на немцев и начал стрелять, рубить, колоть. Четырнадцать человек изрубил.
— И все один?
— Один. Этот казак сейчас в Петрограде, лечится. Звать его Козьма Крючков. А то вот недавно из одной гимназии две девчонки на войну убежали, в разведку ходили и тоже отличились. Сейчас легко отличиться. Приехал на фронт, примазался к солдатам — и готово. Вот и мне хочется на войну, — задумался Колька.
— А возьмут?
— Возьмут, — уверенно сказал Колька. — В разведчики возьмут, они теперь нужны дозарезу. Для разведчика чем меньше рост, тем лучше.
— А меня возьмут?
— Ну, нет, ты не годишься, — засмеялся Колька.
Потом Колька рассказывал о немецком генерале, который проиграл сражение из-за соринки, попавшей в глаз. Сначала Роман внимательно слушал, потом шепот брата стал сливаться с тиканьем часов, с храпом, с сонным бормотаньем бабушки. И вот все поплыло, завертелось, из-под кровати вырос усатый генерал огромного роста в каске. Генерал тер обеими руками глаза и, плача, ругался:
— Доннер-веттер!
Был он похож на Женьку.
КАК ЗВЯКАЮТ КЛЮЧИ
Едва Роман переступил порог класса, как град «ударов, тычков и пощечин обрушился на него. Кто-то завыл от восторга, кто-то крикнул:
— Бей его!
От боли и неожиданности Роман присел, но, тотчас догадавшись, в чем дело, с необыкновенной поспешностью повернулся и, прежде чем нападавшие успели принять меры, выскочил из класса, пробежал коридор и очутился на дворе. На бегу, ощупав голову, сообразил: ранцами пустыми били. Здорово! Покрыть хотели целым классом.
У ворот Роман дождался Крякина. Крякин, прищурившись, внимательно выслушал его и, зевнув, сказал:
— Не люблю драться. Черт с ними!
— Как же черт с ними? — возмутился Роман.
— Сейчас придем, они опять бить будут.
— А мы подождем до начала уроков: при Гликеше не тронут.
— А потом?
— А потом придумаем что-нибудь.
Так и сделали. В школу пришли, когда класс встал на молитву. Появление друзей было встречено сдержанными смешками, но больше ничего не случилось.
Начались уроки.
Крякин, обернувшись, вдруг прошептал спокойно:
— На большой перемене бить нас будут.
Тон у Крякина был такой, словно он сообщил, что их будут угощать пирожными. Сдерживая злость, Роман спросил:
— А мы что же будем делать?
— Придумаем, — ответил Крякин. На последнем уроке он шепнул Роману:
— Дураки они. Кто же пустыми ранцами дерется? Набей-ка свой книгами поплотнее: ранец у тебя тяжелый, — как стукнешь, так сразу с ног долой.
— А ты драться собираешься? — с ужасом спросил Роман.
Крякин кивнул головой.
— Со всем классом?
— Наплевать. Только меня слушай. Если драться умеючи, весь класс разгромим.
Урок подходил к концу. Стрелки классных часов незаметно подвигались к двенадцати, и чем ближе подходила перемена, тем беспокойнее становилось в классе. Все ерзали на своих местах. Роман, чуть пригнувшись, набивал ранец книгами.
За минуту до звонка класс беспокойно загудел. Зелинский, как будто невзначай, громко сказал:
— Из класса не выпускать.
Кто-то зловеще захихикал. Роман вздрогнул и сжал губы.
— Они рассчитывают, что мы удирать будем, — зашептал Крякин. — Вот и поднесем сюрприз.
Роман кивнул головой и, стиснув побелевшие губы, впился в стрелку часов.
«Умирать — так умирать», — подумал он.
Ровно двенадцать.
В классе стало тихо. Сперва в часах что-то захрипело, потом медленный звон возвестил о конце урока. Учительница, чувствуя что-то неладное, оглядела класс, но, кроме застывших в ожидании лиц, ничего не заметила и, собрав книги, ушла.
У дверей по сигналу Зелинского уже собралась кучка ребят. Дверь за учительницей закрылась, и тотчас взгляды всего класса устремились на двух компаньонов. Тут Крякин быстро вскочил с парты и взмахнул ранцем.
Треск и крик. Кто-то свалился. Роман проворно прыгнул в проход между партами и замахал тяжелым ранцем. Первый удар пришелся худенькому рябому ученику Халюпину
Халюпин икнул и мгновенно без крика исчез под партой.
Нападение было неожиданно и быстро. Роман и Крякин вывели из строя сразу несколько человек. Раздумывать было некогда. Четыре дружных руки сыпали удары направо и налево. Класс всполошился. Началась паника. Кто-то уже плакал. Стоявшие у дверей кинулись к месту побоища.
— На парты! — крикнул Зелинский. — Бей сверху!
Кто-то, вскочив на парту, треснул Романа по голове. В глазах сразу позеленело. Дальше стало хуже. Удары градом посыпались сверху. Все дрались ранцами. Мешали друг другу, толкались и лупили как попало.
Роман бил уже не глядя, зажмурившись от боли.
В шуме сражения не сразу заметили, как дверь класса открылась и вошла Гликерия Петровна. Мигом окинув картину боя, она, как на крыльях, порхнула через класс к месту сражения, но ученики уже рассыпались по местам. Только Крякин, стоя на парте, все еще размахивал ранцем да сидевший на полу Роман, вылупив глаза, глядел на учительницу и растирал обеими руками голову.
Гликерия Петровна некоторое время грозно сверкала глазами, затем крикнула:
— На три часа после уроков!
Уроки окончены. Класс сразу пустеет. Товарищи шумят в коридоре, надевая пальто и собираясь разойтись по домам. Хлопает выходная дверь. Крики становятся тише. Вот зачем-то худенький Халюпин забегает на минуту в класс. Он роется в своей парте и выскакивает снова, на прощанье показав Роману язык. Реже хлопает дверь. В последний раз она закрывается с оглушительным треском. Сразу наступает могильная тишина. Роман и Крякин некоторое время молчат, прислушиваясь к незнакомой тишине и оглядывая опустевший класс.
В классе пасмурно. С улицы смотрит серый день. Крякин поднимает голову и, прищурившись, долго глядит на часы.
— Половина третьего, — говорит он.
Роман сердит. Он злобно бормочет:
— Посиди до пяти, тогда узнаешь. Затеет всегда, а потом отдувайся за него.
— Дурак! — фыркнул Крякин. — А лучше бы, если б нас избили?
— Иди к черту!
— Сам пошел туда. Вперед рубль отдай, а потом ругайся.
Роман вскакивает как ужаленный. Никогда еще не хотел он так отвязаться от долга, как сейчас. И он отвяжется сейчас. Слава богу! Колькин рубль при нем.
— И отдам. Подавись своим рублем. Я больше тобой знаться не желаю, — говорит Роман.
— Не знайся, не очень-то нуждаемся.
Роман, стиснув от бешенства зубы, лезет в карман и начинает рыться. Рубль лежал в правом кармане. Странно, почему его там нет? Может быть, он переложил его в левый карман? И он снова ищет, стараясь не глядеть на Крякина, который, как нарочно, следит за каждым его движением. В отчаянии Роман судорожно выворачивает карманы и высыпает на парту все свое имущество. Платок, резинка, циркуль, карандаш, две гильзы из-под патронов. Рубля нет. Роман готов расплакаться. А Крякин смотрит, насмешливо кривит рот.
— Что лупишься? — в бешенстве кричит Роман.
— Рубля жду, — отвечает Крякин спокойно.
— Нету рубля, — тихо говорит Роман. — Потерял рубль.
— Которого не было.
— Ей-богу, потерял.
В голосе Романа чувствуется искренность. И Крякин перестает шутить.
— Ты серьезно? — спрашивает он. Роман молча кивает головой.
— Так надо искать, — говорит Крякин. — Наверно, во время драки потерял.
Он вскакивает и начинает двигать парты. Осмотрели оба ряда, измазались в пыли и чернилах, но рубля не нашли. Ясно, что кто-нибудь уже подобрал.
— Ну ладно, давай читать, — говорит Роман и вытаскивает из парты толстенькую книгу в красном переплете.
Часы глухо прохрипели четыре раза. Но Роман не слышит. Роман далеко в прериях с отрядом капитана Рауля преследует шайку индейцев.
Крякин уныло бродит по классу. Он подошел к учительской кафедре, поднял крышку. Роется там, потом уходит за классную доску, где стоит шкаф.
Роман дочитал главу и закрыл глаза. И вдруг его ухо улавливает странный звук. Тихий, тихий и нежный, как колокольчик, но отрывистый. Что это? Бряцанье не прекращается.
«Цвинь! Цвинь!»
Роман поднимает голову и видит за доской ноги Крякина.
Он захлопывает книжку и идет к доске. Крякин стоит около шкафа и разглядывает ключи.
— Ты что? — шепотом спрашивает Роман и сам не понимает, почему он боится говорить громко.
Крякин смотрит на него.
— Ничего. Ключи у Гликеши в столе нашел. Хочу посмотреть, что в шкафу есть.
Одну минуту они глядят друг на друга.
— Брось! Попадет!
— Да ведь никто не узнает. Посмотрим — и все.
Посмотреть, что в шкафу, интересно, но все же страшно.
— А вдруг придет?
— Услышим, — уверенно говорит Крякин. Крякин уже сунул ключ в скважину. Щелкнул замок, и дверка сама распахнулась. На широких полках лежат огромными стопами чистые тетради, пачки карандашей, книги, вставочки, коробки перьев и резинки.
Одно мгновенье друзья смотрят друг на друга. Крякин начинает усиленно сопеть. Вдруг он протягивает Роману ключи, а сам принимается орудовать в шкафу. Отделив от стопы чуть ли не половину тетрадей, он вытаскивает их, потом так же быстро хватает несколько книг, две пачки карандашей, резинки, циркули и ножницы. В это время оба слышат тихие шлепающие шаги учительницы.
— Закрывай! — шипит Крякин, а сам, нагруженный книгами и тетрадями, бежит к парте.
Роман, как во сне, захлопывает дверку шкафа, поворачивает ключ и, сунув всю связку в карман, тоже бежит на место.
Входит Гликерия Петровна и смотрит на часы.
— Можете идти, — говорит она.
КОНВЕРТ НА КОМОДЕ
На другой день Роман, по обыкновению, явился в школу. Первые два урока прошли благополучно. Третьим уроком было рисование, которое преподавала худенькая женщина с необыкновенно большой и круглой головой, за что ребята и прозвали ее Сковородкой. На ее уроке всегда присутствовала Гликерия Петровна, так как Сковородка одна не могла справиться с ребятами.
После звонка обе учительницы явились в класс. Дежурным был Роман. Он поставил, как всегда, один стул — для Сковородки, у кафедры, а другой, у окна, для Гликерии Петровны, которая, сидя там, наблюдала за порядком в классе. Надо было еще вытереть доску, но Роман с утра не мог найти тряпку. Урок начался. И тут Сковородка полезла в кафедру. Она долго молча рылась там, потом, опустив крышку, спросила: — Гликерия Петровна, где ключи от шкафа?
— В кафедре.
— Здесь их нет.
Недовольно морщась, учительница подошла к кафедре, и минуту обе рылись вместе. Класс с радостью встретил неожиданную проволочку и выжидающе следил за Гликерией Петровной.
— Где ключи? — вдруг резко спросила учительница, поднимая голову и глядя на учеников.
Роман переглянулся с Крякиным. Тот делал ему какие-то знаки.
— Сейчас же найдите ключи, иначе всех накажу! — крикнула учительница.
Класс беспокойно загудел.
— Распустились! Почему доска не вытерта? Дежурный, вытри. И немедленно найти ключи.
Роман испуганно вскочил. Недолго раздумывая, он выдернул из кармана платок, собираясь вытереть им доску. Что-то звонко брякнуло на пол.
Роман обернулся. Все смотрели на него, а лицо Крякина было бело как лист бумаги.
Роман медленно перевел глаза на пол. У его ног лежали ключи от шкафа.
— Что это значит? — спросила Гликерия Петровна.
Роман молчал.
— Подними и дай сюда.
Роман поднял ключи и подошел к учительнице. Ключи как угли жгли ему руку.
— Так, — сказала Гликерия Петровна ледяным тоном. — Почему они оказались у тебя?
Роман молчал. Гликерия Петровна минуту в раздумье перебирала ключи, потом, открыв шкаф, стала внимательно пересчитывать книги.
— Гадость… Мерзость… Воришки… — как будто издалека доносилось до Романа.
В двенадцать часов, во время большой перемены, школьная уборщица Маша вывела на лестницу Романа и Крякина.
— Фулюганы какие! Вот придете с матками, вам покажут, — сказала она, закрывая за ними дверь.
— Наплевать — сказал Крякин на улице. — Будем прогуливать, а на следующей неделе я уезжаю с матерью в деревню, тогда свалишь все на меня — и ладно.
Роман забился в уголок к печке и сидит не шевелясь в полумраке. Хорошо, что на него никто не обращает внимания. Все собрались вокруг стола, где сидит мать. Мать, взяв в правую руку лупу, медленно читает письмо — с фронта от Александра. Письмо еще утром подал почтальон. Тогда она в первый раз одна прочитала его. Потом днем она читала его пришедшей Вассе Алексеевне и теперь, в третий раз, читает его всем родным. Колька беспокойно расхаживает по комнате, хмурится и кусает губы.
«Писать ко мне нельзя! Так как мы стоим сейчас секретно в местечке Эн».
— Господи, нельзя! В каком местечке-то? — спрашивает бабушка.
— Местечко Эн, — объясняет мать. — Нельзя, значит, объявлять, что за местечко. «Стоим в местечке Эн. Я сейчас нахожусь в штабе, так что мне теперь лучше…»
— Слава тебе, господи, — крестится бабушка. Колька презрительно фыркает.
— Вояка! В штаб забрался!
— Дурень, — говорит укоризненно мать. — Вот возьмут тебя — наплачешься.
— В штабе стулья протирать не буду, — заносчиво отвечает Колька.
Роман плохо понимает, что говорят. Голова набухает, раздувается, как мыльный пузырь, и, кажется, готова рассыпаться на части. Сейчас треснет. От боли даже в глазах зеленеет. Роман стискивает изо всех сил зубы и глотает беспрерывно набегающую слюну. Горло при каждом глотке что-то сдавливает. Все тело болит.
«А завтра что делать? — мелькает в голове Романа. — В школу нельзя. Опять прогуливать?»
Мать идет на кухню приготовлять ужин. Вдруг она останавливается около Романа и спрашивает его с тревогой:
— Что с тобой?
Она трогает его голову своей жесткой и холодной рукой. От прикосновения у Романа по телу бегут мурашки.
— Господи, какой ты красный! Лоб горячий. Ты не болен?
Роман собирает последние силы. Смотрит на мать, но видит плохо, перед глазами плавают зеленые круги. Гудит в голове, ломит в висках, все тело как в огне.
— Нет, — говорит он хрипло. — Спать хочется.
И, шатаясь, идет к кровати, валится на нее и уже не слышит, как мать, раздевая его, испуганно говорит:
— Никак заболел? О господи!
Целую неделю Романа бросает то в жар, вызывающий жгучий и обильный пот, то в дрожь — тогда все тело кажется обложенным мелкими льдинами. Зубы выбивают дробь. Кажется, кровь замерзла в венах, ни один мускул не повинуется.
Роман постоянно видит мать возле своей постели. Она сидит сгорбившись, освещенная бледным пламенем лампады. Желтые блики играют на ее заострившихся скулах.
С неделю Роман был болен. Иногда кричал, бредил, просил у всех рубль.
И вдруг однажды открыл глаза, как после долгого и крепкого сна. Потянулся, чувствуя во всем теле приятную слабость. Хотелось есть. Над головой тускло горела лампада. В углу на сундуке лежала мать — нераздетая, в платье. Она дышала ровно, спала. Из-за перегородки доносился храп стариков.
Роман лежал на спине, отдыхая, разглядывая тени от лампадки. Тени, как живые, то вытягивались на половину комнаты, то уменьшались и чернели. Неясный шорох заставил Романа насторожиться и повернуть голову. От изумления он чуть не крикнул. За столом, в пальто и в шапке, сидел Колька и при слабом свете полупритушенной лампы что-то быстро, не останавливаясь, писал. Роман молча следил за братом, потом пошевелился, чтобы привлечь его внимание. Колька быстро поднял голову. Глаза их встретились. Колька, бросив писать, подошел к нему.
— Лучше тебе? — спросил он.
— Мне хорошо, — шепотом сказал Роман. — А что ты пишешь?
— Так, разное, — нехотя сказал Колька.
— А почему не спишь?
— Надо. Ухожу.
— А куда?
— По делам, на службу.
— Ночью-то?
— Ну да. В ночную смену. Дежурства у нас ночные теперь. Ну, спи же.
— Ладно, я сплю, — сказал Роман, и, перевернувшись, действительно заснул.
Утром проснулся здоровый и бодрый.
Мать напоила крепким кофе. Теперь все относились к Роману особенно предупредительно и заботливо. Это было приятно. Мучило только одно: знает ли мать о школьных делах или нет? Но мать ничего не говорила.
Еще несколько дней пролежал он в постели и все время наблюдал за матерью. Один раз она сказала:
— Поправляйся и сразу пойдешь на экзамен. Скоро занятия кончаются.
«Значит, была в школе и все знает», — подумал Роман.
В этот день Роман встал с постели, и мать закатила роскошный обед — с мясом, которое уже было трудно купить.
Роману было хорошо и весело. Хотелось с кем-нибудь поговорить, но никого подходящего не было. Тогда вспомнил о Кольке. Где же Колька? Кольку он не видел ни разу с тех пор, как начал выздоравливать. Роман пошел к матери. Она сидела на кухне с бабушкой.
— Тебе что? — спросила мать.
— Коля где?
Мать и бабушка быстро переглянулись.
— Коля? — мать замялась. — Его нет дома.
— А где он?
— Он… он в Павловске… переведен туда работать на время.
Роман печальный побрел в комнату. Стало скучно. Постоял у окна. На дворе черными пятнами темнели проталины. Гулять еще было нельзя. От нечего делать Роман стал разглядывать раскиданные на комоде бумажки. Увидел голубой конверт, небрежно брошенный на альбом с открытками. Взял.
«Маме» — стояло на конверте крупными буквами.
«Милая мамочка!
Когда ты прочтешь это письмо, я уже буду далеко. Не старайся отыскивать меня, так как все равно не найдешь. Я уезжаю на фронт, в армию добровольцем. Прости меня, мама, если сердишься, но мне очень надоело так жить здесь…
Еще раз прости. Целую всех: бабушку, дедушку, Аську и Романа. Отдай ему мои книги. Не сердись. Я буду писать с фронта.
Твой Коля».Роман не слышал, как подошла мать. Он стоял раздумывая, пораженный тем, что прочел в письме.
— Прочел? — раздался над головой тихий голос матери. Роман вздрогнул и выронил письмо. Потом взглянул на мать. Та молча обняла его и привлекла к себе.
— Значит, Колька не в Павловске? — дрогнувшим голосом спросил Роман. — Он на войне?
Мать не ответила.
НАРКИС
ДЕД ДЕЛАЕТ КАРЬЕРУ
Растаял последний снег. Высохли лужи. Только в углах двора, в тенистых местах, виднелись порыжевшие заледенелые сугробы.
После болезни Романа мать два раза бегала в школу, просила за сына и наконец пришла довольная.
— Ну, смотри, — объявила она Роману. — Держись. Тебя оставили.
Роману стыдно было идти в школу. Но делать нечего.
На другой день, собрав книги и тетради, двинулся вместе с матерью.
И, как в первый раз, при поступлении, Гликерия Петровна приняла их в столовой, сидя за кофе.
— Ну?
— Простите, — сказал Роман тихо. — Больше не буду.
— Посмотри мне в глаза.
Роман поднял голову, краснея, посмотрел на учительницу и повторил:
— Больше не буду.
— Не сомневаюсь в этом, — сказала Гликерия Петровна. — Иди в класс и постарайся загладить вину хорошим поведением.
Ребята не приставали к Роману и не дразнились. Крякина в школе не было — он действительно уехал в деревню. Роман засел за учебники и остаток года учился прилежно. Перед пасхой сдал экзамен и перешел во второй класс.
Год был закончен. Начинались летние каникулы.
За зиму все ребята выросли.
Женька Гультяев щеголял в длинных брюках с карманами и уверял всех, что отец насильно заставил его надеть брюки.
— Это почему же заставил? — спрашивали ребята.
— Не знаю. Говорит, что вырос я, — небрежно отвечал Женька.
На деле же брюки Женьке обошлись дорого. Две предпраздничных недели пришлось ходить с опухшими от слез глазами, и только тогда выведенная из терпения тетя Катя распорола старую шерстяную юбку и стала шить брюки. Но, кроме брюк, Женьке больше нечем было хвастать. На экзаменах он провалился и остался на второй год в первом классе.
Еще прошлой осенью, когда ребята поступали в школу, поступил и Иська.
Зимой Роман встречал его, озабоченного и сумрачного. Иська рассказывал о школе и часто жаловался на ребят.
— Не поддавайся, — учил его Роман. — Тебе в морду — ты обратно. — И рассказал, как он с Крякиным дрался против всего класса.
— Попало же вам, наверно? — смеялся Иська.
— И им попало. Теперь не лезут. Ты обязательно давай сдачи.
— Попробую, — пообещал Иська.
У всех ребят были какие-нибудь перемены и новости. У Васьки отец получил повышение и прибавку жалованья. Был он теперь околоточным. Даже с самого старшего дворника драл взятки. Свирепствовал в участке. Собственноручно лупил мастеровых, а про Ваську совсем забыл.
Васька всю зиму катался на коньках, играл в карты. У него появились новые друзья с Покровского рынка. Васька вырос, возмужал и уже, не стесняясь, курил при всех, ругался отборными, зернистыми ругательствами и часто ходил на Покровку. Покровские парни устраивали бои с пряжкинскими и семенцовскими парнями, и Васька принимал участие в этих боях. Еще Васька хвастался, что умеет пить ханжу, но этому ребята не особенно верили. По-прежнему суетливо и безалаберно жил дом веселых нищих. Все так же поскрипывал над булочной облезлый золотой калач, качался над дверями парикмахерской палец и деловито постукивал молоток в руках Кузьмы Прохорыча.
Только меньше попадалось знакомых лиц. Из кузницы взяли в армию трех мастеровых. Забрали старых саламандровцев — Андреяшку, Зубастика, Дядю Пуда.
Зубастик и Дядя Пуд отправились на фронт, а Андреяшка поступил в военную школу и часто приходил во двор в новенькой шинели с разрезом сзади, со шпорами на сапогах и при сабле.
Но война надоела даже мальчишкам. И солдаты, и оркестры, и манифестации по случаю новой победы уже не были новостью. К тому же и компания понемногу развалилась. Женька уехал с матерью в деревню. Роман, благодаря хлопотам матери, попал в детскую колонию за город, где прожил два летних месяца, устраивая с товарищами путешествия по лесу, играя в лапту и купаясь.
Приехал в город уже в августе. Тут было не до игр.
Приходилось думать о новом учебном годе, собирать и просматривать запылившиеся за лето учебники. Вспоминать забытые упражнения и задачи.
Арифметика особенно не давалась Роману. Поэтому он решил поупражняться в задачах. Но одному было трудно. Искать помощи у взрослых или у Женьки с Васькой не было смысла.
Тогда Роман вспомнил об Иське и сразу пошел к нему.
— Иси нет дома, — сказал ему Эфройкин. — Но он скоро придет. Посидите.
— Нет уж, — сказал Роман. — Я у ворот подожду…
Он сел у ворот на тумбу и стал терпеливо ждать.
Только теперь, раздумывая, Роман все больше удивлялся тому, что Иська совсем перестал бывать на дворе.
«Зафорсил, что ли? Или ученым стал?»
Роману не терпелось, он хотел поскорее увидеть товарища. Когда вдали показалась фигура Иськи, он пошел ему навстречу.
Но, не дойдя, остановился, с удивлением разглядывая его. Иська очень переменился. Стал вы-ше, но похудел и выглядел усталым. — Здорово!
— Здорово!
— Ты откуда?
— С фабрики, — сказал Иська…
— С фабрики? — удивленно переспросил Роман. — А что ты там делал?
Иська засмеялся.
— Вот чудак-то! Что там делают? Работал, конечно.
— Ты работаешь? На фабрике? Давно?
— Второй месяц, — вздохнув, тихо сказал Иська. — Отец устроил.
Роман почесал переносицу и озадаченно буркнул:
— А я-то к тебе шел, думал, по арифметике поможешь… Так ты, значит, не будешь учиться?
Иська молча мотнул головой. Потом, видя, что Роман чего-то еще ждет, тихо заговорил:
— Отец один работает, а жить теперь очень дорого и трудно. А учиться все равно плохо было. Так я сам попросил отца, чтобы он на работу меня устроил. Он и устроил — на швейную фабрику. Жалованье получаю, два раза в месяц.
Распрощались товарищи тепло, и Роман обещал заходить к Иське на квартиру.
Солнце светило по-летнему, но уже с утра над городом завывал свирепый норд. Гремели и скрежетали железом плохо заплатанные крыши. Тучи пыли носились по улицам.
По небу быстро мчались ярко-белые хлопья облаков, подгоняемые ветром, и казалось, что солнце прыгает по ним, как заяц с кочки на кочку.
В этот день семья домовладельца Халюстина переезжала с дачи.
Роман сидел на ступеньках лестницы и следил за дворниками, таскавшими кресла, стулья, столы. Один, два, три стола.
«На кой леший так много столов?» — думал Роман.
Дворники с трудом сняли со второго воза и понесли огромный зеркальный шкаф. Татьяна Павловна, жена домовладельца, спустилась с лестницы, чтобы наблюдать за ними. Она поминутно вскрикивала:
— Ради бога, осторожнее!
При каждом ее окрике дворники вздрагивали. Сопение их становилось громче, и по вытаращенным глазам, по надувшимся на шеях жилам Роман видел, как тяжело достается осторожность.
Когда отнесли шкаф, взялись за огромную, с блестящими шарами кровать. Кое-как стащив ее с воза, дворники остановились в нерешительности.
— Ну, несите же, — нетерпеливо сказала Татьяна Павловна.
Степан протянул было руку, погладил кровать и переглянулся с Иваном.
— Передохнуть надо малость, — проговорил он, как бы извиняясь.
Роман не заметил, как в воротах показался дед, как он долго стоял и следил за дворниками. Видя, что дворники не решаются нести кровать и что барыня недовольна, дед крякнул.
— Дайте-ка я, — сказал он и, пригнувшись, взвалил кровать на спину.
Лицо его налилось кровью, подбородок задрожал, затряслась борода. Минуту он стоял неподвижно, потом с трудом оторвал от земли ногу, переставил ее и пошел, пошатываясь, на лестницу. Дворники злобно фыркнули.
Вернулся дед немного медленнее, но спокойный, только лицо было серое да ноги заметно дрожали от слабости.
— Вы прямо богатырь, — сказала Татьяна Павловна, давая ему на чай.
Дед конфузливо улыбнулся и спрятал гривенник.
Осень выдалась затяжная. Целыми днями лил дождь — то мелкий, как пыль, ознобный, то частый и крупный, как собачьи слезы.
Над городом навис нерассеивающийся туман. Улицы тонули в молочно-белой дали. В тумане со звоном проносились цветноглазые трамваи, ныряли прохожие и бегали газетчики. Уже никого не удивляли белые вагоны санитарных трамваев, сводки с фронта читали без интереса.
В городе появились очереди. Очереди сперва вытянулись у булочных, потом у продуктовых лавок. Везде говорили одно и то же:
— Будет голод.
— Хлеба нет.
Исчезла звонкая монета.
Все стало дорожать.
В квартире Рожновых жизнь словно умерла. Как-то по привычке вставали, делали свои дела.
Через несколько месяцев после побега Колька прислал письмо. Он писал, что ранен в разведке: шел с отрядом по деревне, зашли в избу, а в дверях его ударили тесаком по голове. Писал, что лежит в лазарете, но в каком городе — не сообщал.
После случая с кроватью дед стал жаловаться на боль в пояснице. Он часто охал по ночам и спал беспокойно. Бабушка заставила его сходить в больницу. Выяснилось, что дед надорвался.
— Подхалим! — кричала бабка. — До старости дожил, а ума не нажил. За гривенник старался! Что, она тебя навек наградила гривенником-то, барыня твоя? Да?
— Да оставь ты, — уныло просил дед. — Разве я за гривенник? Помог уж просто!
— Помогай, помогай! Всем помогай! Твоя помощь всем нужна.
Дед отмалчивался, чувствуя себя виноватым.
Но Халюстины не забыли старательного старика. Однажды дворник Степан сказал деду, что домовладелец зовет его к себе.
Дед вернулся сияющий и весь вечер рассказывал:
— Вхожу это я в кухню. Так, говорю, и так, барин вызывал. Горничная пошла, а после он сам выходит. «Ну, — говорит, — проходи ко мне в кабинет». Чума его возьми, в кабинет! А у меня ноги в щелоке. «Напачкаю», — говорю. А он: «Ничего, уберут». А потом сел и начал: «Знаю, дескать, работник ты старательный. И как есть у меня свободное место, то хочу тебе предложить. Старшим дворником». Я-то сперва на попятный. «Грамотой, — говорю, — плохо владею, не сладить». А потом — знаю, что ты загрызешь, ну и согласился.
— И хорошо сделал. Отказываться нечего. Двадцать рублей на полу не валяются, — сказала бабушка.
Перед великим постом мать Романа позвали убирать квартиру Халюстиных.
Мать взяла с собой Романа, надеясь, что его хорошо покормят.
Робко и нерешительно вошел Роман на господскую кухню, заставленную сверкающими медными тазами и кастрюлями. Горничная и кухарка, громко болтая, пили чай. Они тотчас же усадили Романа с матерью за стол.
Роман пил чай и ел пирог, прислушиваясь к их разговорам.
Пришла на кухню и сама Татьяна Павловна. Взяв Романа за руку, она отвела его в детскую, оклеенную розовыми обоями.
— Ну вот, сиди здесь, читай, играй, а когда придут мои девочки, познакомишься с ними — вместе играть будете.
Оставшись один, Роман огляделся. Заставленная диванчиками, столиками, этажерками, комната казалась очень уютной. На стенах, на обоях были нарисованы девочки, катающие обручи. Девочки смеялись. Все здесь имело счастливый и веселый вид. У фарфоровой собачки на этажерке была толстенькая, сытая мордочка. Куклы были с яркими щечками.
«Вот черти», — подумал с невольным уважением Роман и принялся за осмотр игрушек.
Поднял куклу, повернул ее. Кукла раза два закрыла глаза. Нечаянно сжал ее, и кукла раздельно, так, что Роман вздрогнул от неожиданности, произнесла: «Мама».
Были тут и солдатики, и автомобиль, и барабан, даже целая обстановка для комнаты. Но все игрушки были такие хрупкие, что казалось, сейчас развалятся. Взяв паровозик, Роман легонько толкнул его. Паровозик стремительно побежал по полу, наскочил на этажерку и перевернулся. Колесико отлетело в сторону.
«Наигрался!» — испуганно подумал Роман.
Он сунул паровозик под этажерку, взял несколько книг и стал их перелистывать. Одну, другую, третью, но книги не понравились. Тогда пошел в комнаты, где работала мать. Помогал ей двигать стулья и столы, подавал тряпки и щетки.
Раза два Татьяна Павловна заходила посмотреть, как идет работа, и, смеясь, говорила про Романа:
— Старательный помощник!
Когда вечером, окончив работу, Роман с матерью собрались уходить, Татьяна Павловна вышла на кухню со свертком.
— Вот тебе, — сказала она, передавая сверток Роману. — Это котлетки, за работу. Приходи почаще помогать матери.
— Спасибо, — сказал Роман и подумал про себя: «Почему не помочь, — котлетки что надо».
МОБИЛИЗАЦИЯ
Иська, насвистывая, шел по двору. В руках у него болтались сапоги.
— Ты куда? — спросил Роман, повстречавшись.
— К сапожнику, сапоги совсем развалились…
— Пойдем вместе.
Роман любил ходить к Худоногаю, у которого часто собирались мастеровые и рассказывали разные истории. Кроме того, он редко виделся с Иськой, и ему хотелось с ним поговорить. Но Иська был хмурый и разговаривал нехотя.
У сапожника пили чай.
За столом сидели Худоногай, его жена Улита и Наркис, молотобоец от Гультяевых.
Отдав сапоги, Иська и Роман присели у стола и стали слушать, о чем говорят.
— А ты все-таки что думаешь, а? — спрашивал Наркис, с тревогой и ожиданием вглядываясь в лицо Худоногая. — Ведь не имеют правов брать, а? Ведь забраковали же.
Худоногай неуверенно пожимал плечами и, отводя взгляд, с напускной бодростью говорил:
— Не должны, если по закону.
— Не должны, — радостно подхватил Наркис. — А к чему же опять на пункт волокут?
И опять тревога сквозила в глазах Наркиса, и опять Худоногай, отводя взгляд, говорил, утешая:
— А может так. Думают, которые поправились…
Роман знал, что тревожило Наркиса. На улицах, на углах и под воротами снова расклеивали зеленые афишки о переосвидетельствовании всех забракованных при призывах. Завтра надо было идти и Наркису.
Громко и тоскливо пел самовар.
— А вы чай-то хлебайте, — шумно заворочалась Улита. — Двадцать раз не буду для вас подогревать.
— Мы пьем, Уля, мы пьем, — вздрагивая, говорил Худоногай и часто и шумно прихлебывал с блюдца желтую воду, мелко откусывая сахар.
— Ведь не за себя я, Кузьма Прохоры, — снова говорил Наркис. — Разве за себя боюсь?
Худоногай сочувственно кивал головой.
— Мать-то как же? Ты рассуди, а? Работать она не может, слепая совсем.
— Не возьмут тебя, зря беспокоишься.
— Я тоже так решаю, что не возьмут, — задумчиво тянул Наркис и вдруг, подняв голову, добавил: — А если возьмут, так я сам не пойду.
— Правильно, — сказал вдруг все время молчавший Иська. — И не ходи.
Все с удивлением посмотрели на него, а Иська, ничуть не смущаясь, стал пить чай.
— Ты, малец, помолчи, — сказал Худоногай, — без тебя решат, что правильно, что нет. Тут думать надо…
— А чего думать? — неожиданно сказал Иська, отрываясь от стакана. — Раз дядя Наркис не хочет воевать, так и не надо.
— А его и спрашивать не будут. Не он войну начинал.
— У нас на фабрике так говорят, — сказал Иська. — Войну затеяли богачи, которым она выгодна, а рабочие должны отдуваться. Вот теперь рабочие никто не хочет воевать, а их гонят, поэтому и нужно сделать так, чтобы все отказались воевать.
— Больно много знаешь, — значительно сказал Худоногай. — Только не везде разговаривай, а то уши надерут.
— Будет вам тоску нагонять, — зевнув, сказала Улита. — Заладят одно, как кукушки.
— И верно, — засмеялся Наркис. — Почитай-ка лучше стишки, Кузьма Прохорыч.
Худоногай взглянул на жену и, видя ее одобрительную улыбку, полез в стол за тетрадью.
Читал и поглядывал на Улиту. Улита была вроде цензора. Некоторые стихи она запрещала ему читать, другие слушала с улыбкой, кивая головой в знак одобрения. Худыногай читал про войну:
Эх, война ты злая, Кто тебя надумал! Сколько ты люду убивала Пулями дум-дума."Прослушав две строфы, Улита сурово оборвала мужа:
— Это брось… С такими стишками в полицию можешь попасть.
Худоногай послушно прекратил чтение и взялся за другое.
— Мой ответ любителю пить политуру, — объявил он торжественно.
Пей сам презренную отраву, Но лучших чувств, стремлений не глуши, Не предлагай другому роковой забавы: В ней много зла, в ней нет живой души.Поздно вечером расходились по домам. Проедаясь с сапожником, Наркис спросил снова:
— Так не возьмут, думаешь?
— He возьмут, — уверенно сказал Худоногай.
— Возьмут, — тихо шепнул Роману Иська. — Нынче всех берут, и больных и здоровых, только бы армию пополнять.
— Откуда ты знаешь?
— На фабрике говорят, — сказан Иська. — на фабрике много чего говорят, только не все можно рассказывать, а то живо в участок попадешь.
На другой день на приемном пункте после осмотра комиссия признала Наркиса годным к военной службе и зачислила в артиллерию.
Домой он вернулся туча тучей. Через пять минут из конурки Наркиса выскочил Шкалик и стремглав помчался за ханжой, — Наркис устраивал для мастеровых прощальную попойку.
Весь вечер надрывалась отчаянно гармошка. Мастеровые орали песни, матюгались и плясали так, что сотрясался весь «Смурыгин дворец». Только Наркиса не было слышно. Наркис молча сидел у стола, то и дело подставляя стакан. Наркис запил.
— Ничего, — ревел Шкалик, хлопая его по плечу. — Не горюй. И к войне привыкнешь.
Никто из обитателей «Смурыгина дворца» не мог уснуть, но никто не решался беспокоить загулявшую компанию.
Утром кузница не работала. Перепившаяся компания провожала Наркиса на пункт. С ревом вывалились во двор.
Сзади всех шла мать Наркиса. Вдруг Наркис остановился и огляделся вокруг с недоумением, словно только что проснулся на незнакомом месте. Толпа с любопытством глядела на Наркиса, а он вдруг сбросил на снег мешок и хрипло спросил:
— Братцы! Куда же это меня?
Никто не проронил ни звука. Наркис смотрел то на одного, то на другого. Потом рванул ворот рубахи, обнажая грудь.
— За что меня, братцы! Куда же меня? — закричал он отчаянно. — Кому я мешаю?
Толпа вздрогнула и попятилась. Мастеровые растерянно смотрели на Наркиса. Шкалик, пошептавшись с товарищами, подошел к нему.
— Идем, Наркис, — забормотал он испуганно. — Ну их всех к чертовой матери.
Наркис оттолкнул его. Сорвав с головы шапку, бросил ее в снег.
— Не пойду! — закричал он, дико ворочая глазами. — Не пойду в солдаты! Пусть убьют здесь. Не пойду.
— Иди, Наркис, не буянь, — сказал кто-то в толпе.
— Не пойду, — упрямо ответил Наркис.
— Полиция возьмет. Иди лучше, — спокойно продолжал упрашивать голос.
Наркис задрожал и еще отчаяннее закричал:
— А, полиция! Сволочи! И пристав сволочь, и царь сволочь. Все сволочи!
Наркис размахивал кулаками, ругался, крепко, злобно, без передышки, отводя душу. Толпа сочувственно молчала.
Растолкав сгрудившихся зрителей, вынырнул управляющий.
— Что здесь? — деловито спросил он.
— Уйди, гад! — зарычал Наркис. Управляющий испуганно попятился и исчез,
но через минуту снова появился в сопровождении дворников и деда.
Дед пришел перепуганный и остановился, не зная, что делать.
— Отвести в участок! — закричал управляющий. — Что стоите?
Дед огляделся, словно ища поддержки со стороны, потом ласково толкнул Наркиса.
— Иди, а! Брось ты тут скандалить, — сказал он тихо.
— Не церемоньтесь с ним. В участок! — опять крикнул управляющий.
— В участок? — зарычал Наркис. — Меня в участок?
— Да будет тебе, — опять попробовал успокоить его дед.
Наркис оттолкнул его.
— Паскуда! Продался, старый хрыч! — закричал он. — Барский холуй!
Наркис размахнулся, словно хотел ударить деда, но в этот момент дворники по знаку управляющего кинулись на него и потащили к воротам. Наркис отбивался, не переставая ругаться. Шкалик, не выдержав, кинулся вперед.
— Выручай, братки! — крикнул он мастеровым и бросился на дворников.
Но никто не поддержал его. Шкалик подбежал к Степану, размахнулся, но Степан лениво отвел удар и тяжело стукнул его в грудь. Шкалик поскользнулся. Упал.
Дворники вывели Наркиса за ворота и повели посреди улицы, закрутив ему руки за спину…
Толпа разошлась. Снова стало тихо на дворе. Дядя Костя открыл кузницу, и сумрачные мастеровые уже разжигали горн.
Вечером дед пришел домой особенно насупившийся и хмурый. Молча поужинав, он сел к окну и долго сидел не двигаясь. Потом ходил по комнате и разговаривал сам с собой вслух:
— За что он меня так? Барский холуй! А я испокон веков холуем не был. Кабы моя воля, я б разве тронул его? Ведь приказывает барин. Беспорядок… Чума ж их возьми!
Но, видно, не мог успокоить свою совесть и, снова усевшись у окна, до одури глядел на голубые крыши и бормотал что-то себе под нос.
НЕПРОПИСАННЫЙ ЖИЛЕЦ
Мать часто ходила к Халюстиным. Она подрядилась еженедельно мыть полы в кухне и убирать комнаты.
Роман всегда сопровождал ее.
Мать не только не мешала ему, но даже была рада.
— Ходи, ходи, — говорила она. — Господа они сильные, богатые. Мне барыня говорила, что устроит тебя в хорошую школу. Будешь там всему учиться, образованным станешь, а образованным легко прожить на свете.
Пока мать работала, Роман бродил по комнатам, разглядывая картинки в альбомах, книжки и разные безделушки, которых так много было в комнатах на столиках, на этажерках и на стенах.
Однажды, забравшись в гостиную, он залез в кресло и стал смотреть картинки в журнале. В этот момент комнату вошел Халюстин, а за ним следом Татьяна Павловна.
Не замечая Романа, они остановились посреди комнаты.
Халюстин был взволнован.
— Черт знает что, — сказал он сердито. — Я сейчас получил уведомление, что из сводного батальона скрылся новобранец Наркис Дорогушин. Он жил у нас, и теперь полиция просит, если он появится здесь, задержать и направить в участок.
Наркис удрал!
Роман сразу бросил картинки, прислушиваясь к разговору. Домовладелец был очень расстроен и все время говорил о каком-то преступлении перед родиной, говорил, что раньше в армии не бегали солдаты, и называл Наркиса изменником.
Татьяна Павловна повернулась к дверям и тут увидела Романа.
— Иди к матери, она тебя ждет, — сказала Татьяна Павловна, выпроваживая его.
Уже в дверях Роман услышал, как Халюстин сказал:
— Надо предупредить дворников.
Роман прошел на кухню. Матери там не было.
— Она ушла, — сказала кухарка и, взяв с блюда несколько куриных лапок, завернула в бумагу и сунула пакет Роману за пазуху.
Роман даже спасибо не сказал. Он вышел во двор, не переставая думать о Наркисе. Вспомнил, как Наркис боялся военной службы, как буянил во дворе. Роману стало жалко его, но потом он повеселел. Все-таки удрал Наркис. Ловкач какой! Только бы не попался.
Двор уже затихал. В окнах зажигались огни, перебивая синюю мглу вечера. На площадке еще катались на санках ребята.
Роман свернул за дровяные сараи и пошел мимо темного здания. В этом здании раньше помещалось правление железных дорог. Правление выехало, и здание пустовало. Вдруг Роман остановился.
Впереди мелькнула тень. Кто-то, согнувшись, шмыгнул на лестницу.
Роман притаился. Дом был необитаем. Человек, прошмыгнувший на лестницу, мог только спуститься в подвал или полезть на чердак. Но чердак тоже был закрыт.
Роман осторожно прокрался к окнам подвала и заглянул в одно из них. В это мгновение в подвале вспыхнул маленький огонек. Страх и жгучее любопытство охватили Романа. Едва сдерживая дыхание, он осторожно влез в подвал. Подвал он знал хорошо, так как не раз, играя в казаки-разбойники, прятался здесь.
Осторожно ощупывая серые кирпичи, он дошел до угла и завернул. Шел тихо, ступая на концы пальцев. Черная мгла со всех сторон окутала его. Сердце Романа то останавливалось, то снова начинало бешено колотиться в груди. Медленно передвигаясь, Роман дошел до нового поворота и застыл неподвижно. Вдруг он почувствовал, что за углом кто-то стоит и тоже притаился, выжидая. Это было так страшно, что Роман чуть не закричал, но все же совладал с собой. Любопытство победило. Он осторожно вытянулся и заглянул за угол.
В лицо ударил свет.
На ящике посреди подвала стояла свечка, а у стены, прижавшись к кирпичам, стоял человек и глядел на Романа. Сильный толчок опрокинул Романа на землю. Человек навалился на него и сдавил ему горло, так что в ушах зашумело, а в глазах завертелись круги.
— Следить, сволочь? Я тебе послежу. Показывай морду!
Сильные руки повернули Романа к свету. Роман, расширив глаза, глядел на лохматую голову, склонившуюся над ним, потом почувствовал, как разжались руки, державшие его за горло.
— Э-э! — удивленно протянул человек и отпустил Романа.
— Наркис! — воскликнул Роман, вскакивая. — Наркис!
— А ведь я чуть тебя не задушил, Роман, — сказал Наркис. — Думал, кто из шпиков следит.
— А я тебя за вора принял, — сказал Роман. Оглядевшись, он заметил в углу сено, примятое и покрытое какими-то тряпками. На ящике валялись горбушка хлеба и кусок колбасы.
— Здорово! — сказал Роман. — Значит, удрал?
— Удрал, — тряхнув головой, как-то залихватски сказал Наркис. — Не стерпел. Унтера дерутся, взводные кричат, тоже в морду лезут. Не под силу. Не зверь я. Сбежал. Буду пока здесь, а потом думаю в деревню податься…
— А тебя хватились, — сказал Роман. И он передал Наркису все, что слышал у домовладельца.
— Да, — задумчиво сказал Наркис. — Поймают — не помилуют. Только не дамся живым… Ты смотри, никому не говори. Проболтаешься — погубишь меня.
— Никому не скажу, только я к тебе буду приходить.
— Приходи, но чтоб не заметили. Ну, беги теперь.
Роман повернулся, но, нащупав за пазухой пакет, остановился. Достал куриные лапки, положил на ящик и пошел к выходу.
АРЕСТ НАРКИСА
О бегстве Наркиса знал уже весь двор. Ходили смутные слухи и толки. Одни говорили, что он уехал в Сибирь, другие уверяли, что он скрывается в чулане у матери.
Один Роман знал правду. Тайна угнетала его. Тщательно обдумав все, он решил рассказать об этом Иське. Иська отнесся к рассказу очень серьезно.
— Надо подобрать ребят надежных. Будем Наркису помогать.
В тот же вечер состоялось таинственное совещание, на котором присутствовали Женька Гультяев, Павлушка Чемодан, Иська и Роман.
— Вот что, — сказал Иська, — Наркис из полка удрал, на войну не пошел. Он прячется теперь, а его ловят. Поймают — в тюрьму посадят.
— А почему он не пошел на войну? — спросил Женька.
— Ишь ты, какой умный, — засмеялся Чемодан. — Тебе бы понравилось, если пуля или бомба в живот? В окопах интересно, думаешь, сидеть?
— А другие сидят?
— И другие не хотят, да боятся, а Наркис не побоялся, — сказал Иська. — Это царь затеял войну. Царю от этого выгода будет, а солдатам никакого интереса нет.
— Правильно, — сказал Павлушка. — В «Марсельезе» говорится: «Ему нужно для войска солдатов».
— Там не так.
— Нет, так.
— Ври больше…
— Нечего спорить, — оборвал Иська ребят. — Надо помочь Наркису, пока он в деревню не уедет. Надо ему пищу носить по очереди. Хлеб, еще чего-нибудь, чтоб он с голоду не помер.
— Это правильно, — сказал Павлушка. — Только нам не попадет?
— За что?
— Что мы против царя и против войны, выходит.
— Все рабочие не хотят войны, — сказал Иська.
— А ты почем знаешь? Ты их спрашивал? — спросил Женька.
— У нас на фабрике все против войны, только боятся громко говорить, — сказал Иська.
Женька хотел еще поспорить, но тут ребята накинулись на него, и он замолчал.
С этого времени каждый день кто-нибудь из ребят лазил в подвал и относил Наркису еду. Иногда в подвале собирались все, и тогда Наркис рассказывал историю своего побега.
А дома Роман с трепетом слушал, как дед, сокрушенно качая головой, говорил:
— Следи, говорит, за подозрительными, особенно, говорит, за старухой Дорогушиной следи. У нее, говорит, сын из армии бежал. Он, говорит, изменник, скрывается, не хочет на фронт идти. А кому интересно на фронт? Чума их возьми! И зачем же мне следить? Что же я, сыщик, какой, что ли? Мое дело двор — порядок чтоб был, а чего же я за людьми буду смотреть?
— Молчи, дурак, — говорила бабушка. — А про жалованье забыл?
Но дед только отмахивался.
— Пес с ним и с жалованьем. Вот возьму и уйду. Не могу я с людьми лаяться и на слезы их смотреть.
Наркиса энергично искали. Несколько дней спустя после побега к матери Наркиса внезапно ночью пришли городовые. Обыскали всю квартиру, допрашивали мать, но та сама не знала, куда скрылся сын. И то, что дело приходилось иметь с полицией, еще больше разжигало мальчишек и заставляло еще больше быть настороже. Они берегли Наркиса и были уверены, что уберегут.
В субботу, когда кончилась учебная неделя, на последнем уроке Гликерия Петровна раздала дневники с отметками за неделю. Получил и Роман свой дневник. В нем было две пятерки, три четверки и одна тройка. С хорошими отметками весело идти домой, потому что не надо прятать от матери дневник. Роман весело бежал домой и по дороге обдумывал, что можно отнести сегодня Наркису.
На площадке «курорта» стояла толпа жильцов. В кучу сбились кухарки, портные, рабочие из щелочной. Около лестницы бегали городовые и суетился перепуганный и растерянный дед. Он разводил руками и, оправдываясь, что-то говорил приставу. Тот, хмурясь, коротко рычал:
— Ворона ты, а не дворник! Именно ворона!
— Виноват, не знал, ваше высокородие.
— Не знал? А зачем ты приставлен, а? Зачем именно? У собак блох считать?
Роман нырнул в толпу и протолкался вперед.
— Прятался! — кричала женщина в дырявом шерстяном платке, наспех накинутом на плечи. — Целый месяц прятался! Ах ты, боженька мой!..
— Врешь! Две недели!
— Ах ты, боженька мой! Цельный месяц! — Роман уже догадывался, но еще не хотел верить. Вдруг на него наскочил Женька.
Женька был бледен и трясся.
— Наркиса нашли, — сказал он, щелкая зубами.
— А где он?
— Еще в подвале. Городовые ищут.
— Ну, так еще не нашли. Может, он удрал давно, — сказал Роман, но в этот момент в подвале зашумели.
Все, жадно вытягивая головы, впились глазами туда, откуда доносились крики. С лестницы выскочил городовой и весело сказал приставу:
— Волокут. Сильный, бестия, едва справились!
Городовые медленно, с усилием тащили Наркиса. Он сопротивлялся, отчаянно отбиваясь руками и ногами. Рубаха на нем была разорвана, все лицо расцарапано, в крови.
Толпа невольно отшатнулась. Наркис на мгновение встретился глазами с десятками устремленных на него глаз и вдруг закричал:
— Помогите!
— Эх, сволочи! Как ломают! — вздохнул кто-то в толпе.
Вдруг Наркис, дернувшись, освободил руку и ударил городового в грудь.
— Держи! — крикнул пристав на деда. — Что стоишь?
Дед ошалело оглянулся и, подскочив к Наркису, хватил его за руку.
— Будет тебе! Брось скандалить, — забормотал он испуганно.
Но Наркис, увидев деда, еще больше озверел.
— Убью! — зарычал он. — Уйди, холуй господский! Христопродавец! Иуда, доносчик!
И сразу дед, словно побитый, отпустил Наркиса и отошел в сторону.
Больше Наркису говорить не дали. Городовые поволокли его через двор, а за воротами уже дожидался извозчик.
— Как барина, повезли, — сказал булочник, вышедший из пекарни. — Забьют теперь в гроб…
Как увезли Наркиса, дед пошел прямо домой и контору закрыл раньше времени. Расстроился, видно, сильно. Ходил по комнате взад-вперед, присаживался в разных углах. Бороду разглаживал, морщился чего-то, словно большую задачу решить не мог. Потом, крякнув, молча накинул на плечи полушубок, забрал выписки и ключи и вышел.
Вернулся дед к ужину. Молча разделся и, сев за стол, сурово сказал, ни к кому не обращаясь:
— Так что я больше не старшой.
— Это почему? — спросила бабушка.
— Потому что расчет взял.
Бабушка окаменела. Ложку выронила из рук.
— Батюшки! Да ты сдурел, окаянный!
Но дед, обычно кроткий, вдруг бросил есть и так поглядел на бабушку, что она замолчала.
— Служил через силу. Не моя работа, — сказал дед мрачно. — Буду тележку возить, камни ворочать, да никто не посмеет холуем обозвать.
— Откажут мне теперь, — сказала мать тихо.
— Пускай, — буркнул Роман, а про себя подумал: «Ни котлеток, ни лапок ихних не надо».
КОНЕЦ ФАРАОНОВ
ПРОИСШЕСТВИЕ У КИНЕМАТОГРАФА
Падал мягкий ленивый снежок. Было тепло. На узкой, как щель, Садовой улице толкались извозчики, автомобили и трамваи, бежали торопливо прохожие. Был шумный вечерний час, когда город начинал развлекаться.
Роман, Женька и Пеца прошли площадь Сенного рынка. Вдали замелькали два круглых фонаря кинематографа. Прибавили шагу.
И вот, когда кинематограф был уже почти рядом, на улице что-то случилось. Прохожие вдруг замедлили свой бег, кто-то остановился, с тревогой поглядывая в сторону рынка и указывая туда рукой. Бешено мчавшийся лихач на всем скаку осадил лошадь. Сидевший в пролетке господин в шляпе поднялся и через голову извозчика стал смотреть вперед. Ехавший трамвай захлебнулся звоном и, рыча тормозами, встал. За ним немедленно остановился другой. Кто-то испуганно спросил:
— Что случилось?
— Раздавили, наверное, кого.
Но, заглушая слова, совсем близко зазвенело разбитое стекло.
Городовой, стоявший на углу Гороховой, заметался, кинулся, было на шум, потом остановился и вдруг, отчаянно засвистав, бросился в противоположную сторону по Гороховой улице.
А по тротуару и мостовой, громко и невнятно галдя, побежали люди. Опять где-то рядом треснуло и зазвенело стекло. На тротуаре около больших витрин кафе-ресторана быстро выросла толпа. Она сперва покрыла всю панель, потом сползла на мостовую, растянулась на всю улицу, останавливая на пути извозчиков, автомобили, трамваи. Все что-то кричали. Рядом с Романом скуластый мужчина в рваном зимнем пальто надрывался:
— Бе-ей! Бе-ей!
Роман видел, как над толпой, освещенный ярким светом витрин вырос человек. Человек замахал руками и, что-то хрипло прокричав, исчез. Большое зеркальное стекло, за которым виднелись столики и люди, сидевшие за ними, вдруг треснуло, сверкнуло, как молния, тысячью ослепительных зигзагов и грузно, со звоном осело на мостовую. Из образовавшейся дыры густо пошел пар, и в пару заметались сидевшие за столиками люди.
— Бьют! — взвизгнул Пеца. Толпа залила уже всю улицу. Вдали над головами взметнулся флаг, и несколько голосов сперва тихо, потом все громче запели:
Отречемся от старого мира, Отряхнем его прах с наших ногТолпа заколыхалась и тихо двинулась вперед по улице, увлекая за собой и ребят. И уже на всю улицу гремело подхваченное всеми:
Вставай, поднимайся, рабочий народ! Иди на врага, люд голодный! Раздайся клич мести народной…Ребят понесло мимо кафе с разбитыми стеклами, в котором испуганные официанты гасили свет и поспешно закрывали ставнями окна.
Толпа стремительно двигалась вперед. Роман, забыв про все, шел вместе с толпой.
Роман вспомнил рассказы Кольки о девятьсот пятом годе, о забастовках рабочих, вспомнил картинку из какого-то журнала, на которой точно так же, как сейчас, шли люди с флагами.
Женька испуганно глядел по сторонам и все пытался выскочить из толпы. Он трусил.
— В кинематограф опоздаем. Вылезайте! — закричал он наконец.
Тогда ребята кинулись наперерез толпе, стараясь выбраться на панель. Но толпа вдруг останов вилась. Минуту все толкались в нерешительности на месте, потом сперва медленно, а затем быстрее и быстрее все попятились назад. Впереди тревожно закричали:
— Спасайся! Фараоны!
Люди шарахнулись в разные стороны. Улица сразу опустела. Ребята растерянно остановились посреди дороги, поглядывая на редкие фигуры демонстрантов, бежавших мимо. Мужчина в тяжелом ватном пальто, увидев мальчишек, грубо толкнул их на панель.
— В подворотню, пащенки! — закричал он, толкая их в калитку. — Марш в подворотню!
В подворотне было много народу. Все стояли, молча прислушиваясь.
Вот вдали послышался дробный стрекот. Топот быстро разрастался и скоро перешел в оглушительный треск. А через минуту мимо ворот, выбивая из камней голубые искры, с грохотом промчался отряд конных городовых.
— Господи! Господи! — прошептал кто-то из стоявших рядом с Романом. — Всех бы передавили!
Роман взглянул на своего спасителя. Мужчина стоял, вытирая лицо платком, и, злорадно улыбаясь, бормотал:
— Проехали, проклятые!
Снова на улице стало тихо и покойно, как будто ничего не случилось. Поползли трамваи, побежали люди. Только в кинематограф ребята не попали — было уже поздно.
На другое утро дед в праздничной рубахе ходил по квартире.
— Ведь это разве мыслимое дело, чтоб царя сразу скинуть. С ума спятили, с флагами ходят, чума их забери.
Сестры не было, она ушла в город глядеть, гулять. Мать пошла было на рынок, но скоро вернулась, ругаясь. Все магазины и рынки были закрыты.
— А как же в школу? — спросил Роман.
— Нет сегодня школы. Распустили вас.
Быстро одевшись, Роман выскочил на двор. День был морозный, солнечный. Во дворе было не по-обычному тихо и пустынно. Кузница была заперта большим висячим замком, закрыты были и мастерские. Двор словно вымер. Зато с улицы доносился непонятный, тревожный гул.
Почти у самых ворот Романа догнал Иська.
Старый знакомый проспект с желтыми зданиями казарм и пустынным церковным садом, где только голодные вороны перекликались между собой, проспект, где знакома каждая тумба, сегодня был неузнаваем. Люди, веселые и праздные, толкались на тротуарах, густо, как сельди, шли по мостовой, стояли на трамвайных путях. Трамваи не ходили, не видно было и извозчиков. Только изредка, расхлестывая по сторонам толпу, урча, проносились грузовики, наполненные солдатами с развевающимися красными флагами.
Солдаты кричали «ура». Им отвечала улица, и рев катился вслед за автомобилями, то обгоняя их, то отставая.
— На Невский идем! — крикнул Иська. — Там митинги.
Ребята выскочили на Садовую и пошли посередине дороги. Все тоже направлялись к Невскому. Иногда люди останавливались кучками у расклеенных на стенах плакатов и читали громко вслух:
«ГРАЖДАНЕ СВОБОДНОЙ РОССИИ!..»
Всю дорогу Иська непрерывно говорил о революции и о том, что теперь без царя будет лучше жить и свободнее.
— Вот теперь будут правительство выбирать, которое от народа будет, — говорил Иська. — Скоро по фабрикам и везде будут выборы.
— А здорово это, как царя сразу скувырнули, — вставил Роман, но Иська только улыбнулся.
— Сразу, говоришь? Нет, брат, не сразу. А сколько сидит по тюрьмам и в Сибирь сослано! Революцию давно хотели устроить, да все не выходило. А теперь скоро и войне конец. У нас на фабрике только об этом и говорят. Война всем надоела, да она и не нужна никому, кроме буржуев.
Иська так уверенно рассуждал обо всем, что Роману стало обидно, почему он не на фабрике. Иська словно угадал его мысль.
— Жалко, что ты не на фабрике, — сказал он, — а то тоже был бы пролетарием. Ну, да еще будешь.
Ребята подошли к Невскому и остановились. Дальше не пускали. Во всю ширину Садовой улицы стояли цепью солдаты, заграждая дорогу. Перед цепью бегал молоденький офицер и то кричал на толпу грозным баском, то упрашивал:
— Граждане, прошу! Подайтесь назад, прошу вас…
В толпе смеялись. Солдаты добродушно улыбались. На штыках их винтовок были привязаны алые бантики.
Чтобы попасть на Невский, ребята пробежали по Банковскому переулку. На набережной канала группа солдат и штатских окружила двух офицеров.
— Не смеете! — визжал усатый офицер и крепко держался за шашку. Шашку тянул солдат в папахе набекрень и в распахнутой шинели.
— Сымай, ваше благородие, сымай, — говорил солдат, ухмыляясь. — Все одно отберут.
Мимо ребят прошла толпа демонстрантов с флагом и пением. Впереди толпы шел мужчина в котелке — худой, с длинной жилистой шеей — и особенно отчаянно пел:
Царь-вампир из тебя тянет жилы, Царь-вампир пьет народную кровь.Невольно Роману показалось, что именно из этого человека больше всего жил и крови вытянул царь-вампир.
Нахлынувшая толпа завертела Романа. Когда он оглянулся, Иськи уже не было. Иська потерялся.
Роман наугад пошел по улице, жадно следя за всем происходящим. У Владимирской услышал звуки марша. Невский пересекала стройная колонна солдат. Перед оркестром несли знамена. Оглушающее «ура» не смолкало все время, пока шли солдаты. И опять Роман заметил, что штыки винтовок были украшены алыми бантиками. Как будто капельки крови застыли на них.
На Знаменской площади, у памятника Александру Третьему, шел митинг. А мимо сновали грузовики, и у солдат на штыках были бантики, а на груди поблескивали пулеметные ленты патронов.
Солдаты улыбались, штатские кричали «ура»; и Роману казалось, что сегодня праздник, а завтра начнется новая, счастливая жизнь.
Долго бродил Роман по городу. О доме вспомнил, когда уже сгущались сумерки, а люди, час назад кричавшие «ура», торопливо бежали домой, Город быстро и незаметно затих. Улицы опустели. Только грузовики с солдатами чаще проносились по улицам, но солдаты больше не пели.
Неуловимая тревога расползалась по темнеющим улицам, и последние пешеходы торопливо исчезали в воротах. Роман быстро шагал по Загородному, пугливо оглядываясь и прислушиваясь к тишине.
Вдалеке что-то треснуло и раскатилось, словно камень по плитам пустынного и большого зала. Стреляли далеко, но гул выстрела разнесся по всей улице. Где-то хлопнула калитка. В окнах стал гаснуть свет. Выстрел повторился, потом еще и еще.
Роман прибавил шагу. Что означали эти выстрелы, он не знал, но догадывался, что революция еще не победила и где-то идет бой. А выстрелы не прекращались. Они гремели то где-то далеко, то совсем рядом, хотя людей было не видно.
Роман выскочил на Забалканский и побежал к Первой роте. Пустынные улицы как-то странно оживились. Везде в подворотнях и по стенам двигались серые тени с винтовками, среди которых изредка попадались черные пальто. Роман не оглядываясь несся по улице. Теперь грохотало со всех сторон. Кто-то кричал:
— К офицерскому собранию!
Вдруг Роман споткнулся обо что-то большое и мягкое. Остановившись, он увидел старуху, которая, раскорячившись, ползла по земле.
— Ляг, ляг, недужная сила! Ай смерти захотел? — зашипела она на Романа.
Роман, не слушая, помчался дальше. У Тарасова переулка солдат стало еще больше. Согнувшись, они перебегали по проспекту.
Стрельба усилилась. Солдат, обогнавший Романа, опустился на колено, щелкнул затвором, приложился и выстрелил. Из дула выскочил голубоватый огонек, и Роману показалось, что земля дрогнула.
— В темные окна пали! — крикнул солдат и побежал вперед.
Кто-то схватил Романа и толкнул в Тарасов переулок.
— Стоять здесь и не высовываться! — скомандовал молодой парень в кожаной тужурке.
Роман, оглядевшись, увидел, что он не один. У стены уже стояло несколько человек в штатском. Все они внимательно глядели на стену противоположного дома.
— Во! Во! Еще! — возбужденно вскрикивал седенький старичок в шубе и указывал на стену, с которой, не переставая, кусками отваливалась штукатурка. Это работали пули.
— Из собрания палят, — сказал кто-то тихо.
— Из собора, с купола, — перебил старичок. — Городовые там с утра засели.
Несколько человек, устав ждать, пригнулись и побежали через улицу. Побежал и Роман. Было жутко и интересно бежать, чувствуя, что это не игра, а настоящая опасность.
КАК ВАСЬКА ОСИРОТЕЛ
Каждый день во двор приходили из городской милиции и искали городовых. Но городовых в доме не было. Единственный проживавший — отец Васьки — и тот исчез. Говорили, что он скрывается в доме на чердаке, но точно никто ничего не мог сказать. Васька ходил грустный, и не похоже было, что ему известно, где отец.
Двор теперь не подметали, и грязь сразу расползлась по всему дому. Дворники перестали работать. По вечерам весь дом собирался на площадке курорта. Здесь происходили горячие митинги. Спорили о судьбах России. Спорили горячо, чуть не ссорясь, словно каждый стал министром. И непременным оратором на этих митингах был Кузьма Прохорыч Худоногай.
Через несколько дней после переворота закрылся кинотеатр «Аврора», а в его помещении открылся солдатский клуб. В клубе ежедневно происходили митинги, спектакли, танцы.
И Серега Спиридонов вдруг предложил:
— Давайте свой клуб устроим.
— Хорошо бы. Только где?
— А на пустыре. Землянку выроем — и готово.
Женька стащил из кузницы отца две лопаты. Ребята долго ходили по пустырю, выбирая место для землянки. Наконец единогласно решили, что самое удобное — рыть у забора.
Так как лопат было всего две, то копали по очереди. Серега и Пеца, вызвавшиеся копать в первую очередь, разделись, поплевали на руки и стали разгребать рыхлый талый снег. Земля, уже нагретая и мягкая от солнца, поддавалась легко.
Пока двое работали, остальные собирали нужный для постройки материал. Притащили несколько кусков ржавого листового железа, доски. Женька сколотил две скамеечки и стол. Пеца принес из дома кусок красной материи, а Роман достал портрет Керенского, который принесла из типографии сестра.
К вечеру землянка была готова. Правда, в ней было темновато, но зато это был свой клуб, а от сырости помогал костер, который развели ребята посреди землянки.
Роман занялся украшением стен клуба. Повесил портрет Керенского, а под ним кинжал, когда-то сделанный Наркисом.
— Если клуб устроили, — сказал Серега, — то мы должны примкнуть к какой-нибудь партии.
Стали выбирать партию. Серега предложил вступить в анархисты. Роман — в партию социалистов-революционеров. Спорили только об этих двух партиях, так как у остальных были скучные названия.
Большинство склонилось к социалистам-революционерам. Тогда Роман известкой нацарапал на куске материи два слова:
Социалисты-революционеры.
Тряпку как флаг повесили на стене против портрета Керенского.
Когда ребята уже хотели расходиться по домам, в землянку пришел Васька.
— Вона вы где, — сказал он.
Ребята окружили его, ожидая, что Васька будет хвалить их работу, но Васька молчал.
— Ну как? — спросил Женька, не вытерпев. — Хорошая землянка?
— Хорошая, — сказал тихо Васька.
— А хочешь к нам в партию записаться?
— Хочу.
— Пойдешь завтра с нами в цейхгауз?
— Пойду, — нехотя ответил Васька и опять замолчал.
Беседа не ладилась. Тут ребята вспомнили, что у Васьки все еще не отыскался отец.
— Так и не приходит? — спросил Женька.
— Нет, — сказал Васька, — не приходит. Убили его, верно. — И голос у Васьки дрогнул.
Ребятам стало неловко.
— Не может быть, — сказал Серега. — Он прячется где-нибудь, а после придет. Ты не горюй, ей-богу, придет, — добавил он, чтобы утешить товарища.
На другой день вся компания ходила в цейхгауз за инвентарем для клуба. Темное низенькое здание казармы, стоявшее против дома веселых нищих, было заброшено. Часовые, как маятники, болтавшиеся перед воротами, внезапно исчезли. Вход в казарму стал свободным для всех. В казарменном дворе царил хаос. Посредине на площадке стояли вывезенные и неубранные двуколки. Тут же находились два снаряженных орудия. Лошади бродили без привязи по двору и толкались около раскрытых дверей сеновала — огромного деревянного корпуса. Двор был пустынен и тих. Корпуса складов, окружавшие его со всех сторон, стояли с разбитыми и взломанными дверями.
Ребята завернули в узенький проулок и остановились около длинного деревянного здания.
На дверях висел огромный тяжелый замок. Но ребят не смущало это обстоятельство.
Между дверью и землей была большая щель. Женька первый лег на землю и, как червяк, прополз под дверь. За ним по очереди полезли и остальные.
В сарае было темно. Узенькие запыленные оконца едва освещали помещение, заваленное ящиками и кипами гимнастерок.
Ребята принялись за дело. Вскрывали ящики тесаками, распарывали тюки, копались в них. Срезали медные пуговицы с мундиров. Примеряли кивера, сдирали с них блестящую клеенку. Женька обрывал с парадных мундиров малиновые нагрудники. Роман запихивал за пазуху противогазы. Васька ничего не брал. Он искал патроны. Серега помогал ему.
Наконец Серега выволок на середину два плоских тяжелых ящика. Ребята сбили крышки. В ящиках лежали аккуратно уложенными рядами патроны. Ребята совали их за пазуху, в карманы, в каждую дыру, куда можно было пихнуть.
Потом тем же путем выбрались из сарая и пошли домой.
В клубе разбирали добычу. Часть имущества развесили по стенам, часть решили унести домой. Васька сосредоточенно выдергивал зубами головки патронов и высыпал в мешок порох. Он ничего не принес, кроме патронов, зато их у него было больше двух сотен.
— Зачем тебе столько пороху? — спросил Женька.
— Высыплю и продам, — сказал Васька, — а то жрать скоро нечего будет.
Васька, словно предчувствуя что-то и не надеясь больше на помощь отца, решил заняться хозяйством.
Ребята еще сидели в землянке, когда невдалеке раздались грузные шаги.
— Старший дворник, — прошипел Пеца, срывая кивер и швыряя его под лавку.
Все вскочили, собираясь бежать, но вход уже загородила грузная фигура Григория Ивановича.
— Это что же вы тут делаете? — спросил он.
— Ничего, — сказал Роман. — Сказки рассказываем.
— А землянку-то сами вырыли? — опять спросил дворник.
Ребята приободрились. По-видимому, дворник пришел не для того, чтобы разогнать их.
— Сами. Мы клуб устроили здесь.
— Клуб? Ишь ты! Ну играйте, играйте. Только не бедокурить, а то всех прогоню и землянку разрушу.
Григорий Иванович уже собирался уходить, как вдруг, словно вспомнив что-то, остановился.
— А что, Васька тут, у вас?
Ребята насторожились, а Васька, побледнев, молчал.
— Тут он, — сказал Роман, выталкивая вперед Ваську.
— Иди завтра в Обуховскую больницу, — сказал дворник. — Батька нашелся, а после, как сходишь, приходи ко мне. Слышишь, поговорим.
— Слышу, — отозвался Васька, и дворник, крякнув, ушел.
На другой день ребята вместе с Васькой ходили в больницу. Васькиного отца нашли в покойницкой. Он лежал среди других трупов, голый, посиневший и скрюченный, словно ему было холодно. Голова его была разбита и залита запекшейся кровью. Рот оскален. У ног лежали изорванная в клочья шинель и сапоги, а на желтой щиколотке на тонкой бечевке болтался номерок.
Васька не плакал. Он так же, как другие мальчишки, с ужасом и любопытством смотрел на отца и только был бледен, да губы у него дергались.
Потом в конторе Ваську спрашивали о похоронах. Васька отказался хоронить. Ему отдали какие-то письма, бывшие у отца, и кошелек с тринадцатью рублями. Да еще сапоги прихватил Васька. Сапоги, возвращаясь домой, продал за пять рублей маклакам на рынке.
ГЕРОИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Революция, перевернувшая весь город, совсем не коснулась училища.
Там по-прежнему было чинно, скучно, и даже портреты царей Александра Второго и Николая Первого по-прежнему висели в классе, и только последний царь был затянут черным коленкором. Собственно, Роману было все равно, висят цари или нет, но иначе на это смотрел Пуговочкин, худенький, маленький парнишка, новый товарищ Романа. И когда он, покачав головой, показал многозначительно на портреты, Роман вдруг тоже покачал головой:
— Царизм разводит Гликеша… — И, нахмурив брови, заявил: — Надо принять меры…
Собрали экстренное собрание. Роман держал речь:
— Мы, как революционеры, не можем учиться в классе, где висят портреты царей-вампиров…
— Врешь! — кричали ему. — Сам вампир! Хулиганы! Портреты не мешают!
— Нет, мешают! Долой царей!
— Не позволим снимать! — выкрикивал Зелинский. — Знаем вашу шатию!
Но тут вмешались другие ребята и закричали на Зелинского. Большинство оказалось за Романа.
— Снимай портреты! Долой! — вопили ребята» Сбегали на кухню, притащили стремянку, и Роман с Пуговочкиным полезли за портретами.
Под бешеное «ура» стащили бородатого Александра и уже принялись за Николая. Но тут на шум прибежала Гликерия Петровна.
Класс позорно струсил. Мгновенно все очутились на своих местах, и только Роман с Пуговочкиным застыли у стремянки.
Гликерия Петровна оглядела класс, потом подошла к стремянке.
— Вы сняли?
— Мы, — сказал хмуро Пуговочкин.
— Зачем? Они вам мешали?
— Цари, — опять буркнул Пуговочкин.
— Дурак, — захихикали на партах, где сидела компания Зелинского.
Гликерия Петровна долго молчала, потом, отвернувшись, не глядя сказала:
— Повесь на место.
— На место, — захихикали на партах. — Вешай!..
Но Пуговочкин не двинулся с места. Гликерия Петровна обернулась.
— На место! — резко крикнула она.
Роман дернулся к портрету, а Пуговочкин стоял, хмуро поглядывая на учительницу, потом повернулся и, дойдя до своей парты, сел.
— Вон! — крикнула Гликерия Петровна. Пуговочкин встал и вышел.
В марте начались экзамены. Роман окончил начальную школу с хорошими отметками.
Теперь он целыми днями пропадал на улице. Все было ново и интересно. Каждый день ходили демонстрации. Появилось много солдат и матросов. Они гуляли по городу с девушками. Высыпали на панели тысячи торговок и торговцев. Они продавали семечки, яблоки, мармелад и книжки про Распутина.
В садах играла музыка и все дорожки были забиты гуляющими.
Было везде весело и празднично. Даже не верилось, что война еще не окончена. Все как будто забыли о ней.
С фронта самовольно стали возвращаться солдаты. Это еще больше усиливало впечатление, что война окончена.
Однажды вечером, когда Рожновы всей семьей пили чай с ржаными лепешками, испеченными бабушкой, в дверь тихонько стукнули, потом загремели тяжелые шаги, и в комнату вошел солдат. Солдат был в потрепанной грязной шинели, в папахе и с большим вещевым мешком за плечами. Из-под поднятого воротника видна была светлая курчавая бородка.
— Вам кого? — спросила несмело мать, выходя ему навстречу.
Солдат, медля с ответом, оглядел комнату, потом улыбнулся и спросил:
— Любовь Никифоровна здесь живет?
— Здесь, — сказала мать и вдруг, тихо вскрикнув, кинулась обнимать солдата.
— Александр!
— Шуратка! Внучек, дорогой ты мой! — запричитала бабушка.
Теперь и все узнали солдата. Бросились к нему, тормошили, наперебой обнимали.
Александр по очереди перецеловался со всеми, потом сбросил на пол мешок, разделся и пошел умываться. Мать, бабушка и Роман побежав ли за ним. Они толкались вокруг рукомойника, помогая ему, но больше мешали.
Опять все уселись за стол. Опять пили чай, хотя была глубокая ночь. Александр до рассвета рассказывал о фронте, о войне, о страшных «чемоданах», о революции в окопах. Рассказывал про большевиков, как они с фронта бегут. Называл их изменниками.
— А ты-то совсем приехал?
— Нет, — сказал Александр. — Мы, фронтовики, приехали тыл чистить. Много тут паразитов развелось, а на фронте воевать некому и незачем.
Жара душила город. Зеленая стена пыли повисла над улицами. Люди едва передвигали ноги. Собаки лениво трусили, высунув языки и часто дыша. По улицам бегали мальчишки с четвертными бутылями в руках. Бутыли были наполнены зеленоватой и розовой водой.
— Квасу! Клюквенного, лимонного! — кричали мальчишки.
Роман забрался за пушки памятника. Лег в тень на траву и стал смотреть на улицу, на извозчика, который напрасно понукал остановившуюся лошадь.
Недалеко от Романа на камне сидел парень. Лицо парня, давно не бритое и заросшее грязью, было весело. На парне едва держались рваная рубаха и синие крестьянские шаровары. Рядом с ним лежали толстая суковатая палка и мешок. Парень часто поглядывал на Романа. Он тоже следил за извозчиком, а когда тот бросил кнут, подошел и ударил лошадь кулаком по морде, парень не выдержал и выругался.
— Вот сволочь! — сказал он, оборачиваясь к Роману. — Думает, лучше будет. Самого бы так съездить по рылу.
— Не понравилось бы, — сказал Роман. Наконец лошадь пошла. Говорить было не о
чем. Парень достал из мешка хлеб и стал есть.
— Недалеко, верно, живешь-то? — спросил парень неожиданно.
— А вон в том доме, — ответил Роман.
— Большой дом!
— Порядочный.
— А как тебя звать?
— Роман. А тебе зачем?
— Да так, — парень вдруг засмеялся и замолчал, пристально разглядывая Романа.
Роман перестал обращать на него внимание. Задумался. Глядя на пыльную траву сада, он вспоминал, как когда-то здесь гуляли кантонисты и собиралась шайка «Саламандра». Теперь все исчезло. Около памятника по вечерам собирались солдаты, пели песни, тирликали на гармошке.
«Когда-то здесь и Колька гулял с ребятами», — подумал Роман. Где-то он теперь? Писем от него совсем не приходило. Если на фронте еще, то почему не едет домой? Ведь Шурка приехал же.
— Паренек, а нет ли у тебя закурить? — спросил оборванец неожиданно.
Роман вздрогнул. Минуту соображал, потом, кивнув головой, полез в карман. Оборванец взял папироску и чиркнул спичкой. Роман тоже закурил.
— Давно куришь-то?
— А тебе что за дело?
— Значит, есть дело, если спрашиваю, — и парень снова улыбнулся.
«Чего он скалится?» — подумал Роман, внимательно и осторожно приглядываясь к парню.
Оборванец затянулся, пустил струйкой дым и сказал:
— А ведь я тебя знаю.
— Соври лучше, — сплюнув, спокойно ответил Роман.
— И врать не буду, — ухмыльнулся парень. — Не только тебя, а всех родных твоих знаю и, где живешь, знаю. Вон там, на заднем дворе живете.
— Верно?
— Верно.
— А что, брат-то старший вернулся с войны?
— Вернулся, — сказал Роман и разинул от изумления рот. — Ты его знаешь?
— Шурку-то? Еще бы не знать. Вместе росли. Парень словно давился от смеха.
— В кантонистах вместе были? — расспрашивал Роман.
— Зачем в кантонистах? В одном доме, вместе росли.
— Ну, это ты врешь! Я что-то тебя не помню.
Парень захохотал.
— Не помнишь?
— Нет, — твердо сказал Роман.
Тогда оборванец, перестав смеяться, вдруг спросил:
— А Пинкертонов кто тебе давал читать? Не помнишь? А про Наполеона кто рассказывал?
Роман вздрогнул. Приподнявшись, пристально стал разглядывать парня. Парень, чуть улыбаясь, смотрел на Романа. И по этой манере улыбаться, чуть скосив губы, Роман вдруг признал оборванца.
— Колька! — испуганно прошептал он, все еще не веря.
Парень кивнул головой.
— Наконец-то! — сказал он, улыбаясь. — А я уж думал, ты совсем забыл, что у тебя есть брат. Давно слежу за тобой, а ты все узнать не мог. Ну, да и тебя не легко узнать. Вырос тоже здорово.
— Как же ты попал сюда? — спросил Роман.
— Очень просто — где пехом, где на поезде, так и добрался.
— И давно здесь?
— Порядочно.
Роман перевел дух,
— Что же ты домой не идешь?
Колька сидел опустив голову, молчал. Роман решительно вскочил,
— Идем домой, — сказал он. — Мать будет рада как!
— Рада? — недоверчиво спросил Колька.
— Ей-богу, рада. Она ж тебя каждый день вспоминает.
Колька задумался.
— Вот что, — сказал он наконец. — Пока не говори. Скажешь, когда я велю тебе, а пока сбегай домой да принеси чего-нибудь, жрать здорово хочется.
Спустя полчаса Роман лежал на траве и смотрел, как брат жадно ест селедку. Никогда не думал он, что брат вернется с фронта не в новенькой шинели с медалями или нашивками, а исхудавший, обросший бородой, в драных холщовых штанах и в замызганной рубахе.
Колька, словно угадав его мысли, усмехнулся.
— Что, не ждал такого?
— Нет, — сказал Роман.
— Еще бы!
Колька бросил селедку, вытер губы ладонью и, закурив, развалился на траве.
— Я и сам думал, что вернусь домой на худой конец поручиком. Да чего поручиком! Когда удирал, так, честно скажу, думал — генералом буду…
— Генерал, — фыркнул Роман.
— Чего смеешься? На войну-то я зачем подрал добровольцем? Герой нашелся какой!
Колька говорил, словно подсмеивался над собой.
— План был у меня наполеоновский. Доехать до Пскова, а оттуда, думал, прямо в окопы попаду и начну немцев лупить. Пошел на Варшавский вокзал. Денег-то было мало. Решил ехать зайцем в товарном вагоне. Смотрю, стоит состав — вагоны с сеном. Двери закрыты. Я забрался в один вагон через окно, закопался в сено. Заснул. Просыпаюсь — поезд жарит вовсю. Обрадовался. Ехал так трое суток. Вылезти боялся — вдруг останусь? Потом приехали. Выглянул в окно — вокзал большой. Псков, наверно. Дождался вечера, вылез, читаю на вокзале: «Станция Клин». Э, думаю, не доехал. А тут пассажирский подошел. Сел в него — и дальше. А Клин-то недалеко от Москвы был. Ну, и приехал в Москву. Что будешь делать. Ехал к фронту, а уехал, наоборот, от фронта.
Колька потянулся, зевнул и, замолчав, уставился в небо. Роман тоже поглядел на небо. Там, летели клочковатые, как комья ваты, облачка, освещенные заходящим солнцем.
— А дальше?.. — не вытерпел Роман.
— Что дальше?
— Ну, как поехал на фронт?
— Не поехал, а пехом пошел… Два дня шел по тракту, был в Бородинском поле, в Малоярославце был. В Малоярославце деньги кончились. Есть нечего стало. Пошел тогда на базар. Выменял сапоги и опорки, купил булку и в чайную двинулся. Напился чаю. Вышел на дорогу и зашагал.
— На фронт?
Колька как-то странно усмехнулся.
— Да, на фронт… Дней пять болтался по дорогам. Ночевал в стогах или в сараях. Покупал у крестьян молоко, хлеб. Потом деньги опять вышли. Сутки голодал — совсем ни крошки во рту не было. Брел вперед потихоньку. Добрался до деревни. Идти дальше — сил нет, а попросить боюсь.
Остановился у одной избы, смотрю — баба вышла, кур кормит. Я на нее поглядываю, а она на меня.
«Откуда будешь, паренек?» — спрашивает.
Стал я врать.
«Издалека, — говорю, — беженец я. Отца и мать убили, остался один…»
Баба охает, а я разошелся, про сестру и маленького братца стал рассказывать.
«И их убили?» — охает баба.
«И их, — говорю, — сразу обоих…»
Взяла меня баба в избу, накормила щами с кашей, простокваши поставила. Набил живот — пальцем не тронуть. А вечером приехал хозяин. Я опять давай рассказывать. Второй раз совсем гладко рассказал.
«Оставайся у меня, — говорит мужик. — Лениться не будешь, — буду кормить…»
Я так обрадовался, что и про жалованье спросить забыл.
Месяца три проработал у него. В поле ездили — за лесом для избы. Богатый был мужик и новую избу себе рубил. Работал я у него здорово, но после все-таки стал подумывать, что не мешало бы и денег получить. А он молчит, как будто так и полагается. А тут еще староста пронюхал, что я без документов. Пришел раз и спрашивает, кто да откуда.
Стал я ему опять историю свою рассказывать. Слушает чертов старикашка, поддакивает, а после говорит:
«Так-то так, но все-таки должен я тебя в волость направить»
Испугался я, стал просить, чтоб не отправлял. Сдался.
«Ну ладно, — говорит, — понимаю горе твое. Так и быть, промолчу, а ты приди-ка завтра ко мне — дров поколоть».
Обещал я, а сам думаю: «Добры, сволочи, все, да, видно, за доброту содрать шкуру хотят».
Собрался я ночью, прихватил у хозяина фунта два сала да хлеба и задрал дёру.
Иду себе дальше, посвистываю. Шамовка была, да и сам я подправился, пока жил у мужика. Кое-как добрался до Смоленска. И опять тут круто пришлось. Стал я понемножку продавать с себя вещи. Рубашку хорошую продал, штаны запасные. Стал ходить на биржу — такое место было около рынка, там работу разную можно было достать. Кое-что зарабатывал. Однажды стою там, смотрю — идет дядька. Бороденка рыженькая, паршивая, нос толстый, прыщеватый. На башке картуз, блуза замасленная, а в руках связка мелких шестеренок.
«Эй, дядя, давай поднесу», — говорю ему.
Посмотрел дядька, усмехнулся.
«Неси, — говорит, — если делать нечего».
Взял я шестерни, взвалил на плечи и попер. Долго шли. По дороге дядька расспрашивает, кто я, да что делаю, да где живу… Я ему накручиваю: «Безработный и беженец…» И всю историю старую выкладываю…
Так доходим мы до слесарной мастерской. Взял у меня шестерни дядька, дает гривенник.
«Ты вот что, — говорит. — Поступай ко мне в мастерскую. Выучишься на слесаря, а пока разную работу будешь делать. Харчи мои, жилье мое и жалованья трешку…»
Подумал я: где лучше сыщешь? И остался.
Была мастерская небольшая, на шесть станков. Восемь рабочих, я девятый. Работали по десять часов, а вечером все вместе или в карты играли, или песни пели. Пьяные каждый день напивались. Всё, бывало, денатурат перегоняли на спирт. Это моя обязанность была. Сидишь и трясешь бутыль с денатуратом, а потом через ватку цедишь.
Напьются вечером работники и начнут ругать все и вся. А больше всего войну костили, и так это у них складно выходило, что никак не переспоришь их. Особенно хорошо ругался один слесарь. Шмель по прозвищу. Как начнет крыть — царя ругает, царицу ругает, министров, войну… Одно за другое цепляет, и получается так, что царь во всем виноват и война никому не нужна, а министры-сволочи только деньги на ней заколачивают…
Говорили ребята, что Шмель раньше в Москве на заводе работал и за свою ругань даже в тюрьме сидел, а потом без работы мотался с волчьим паспортом, пока наш дядька не подобрал его к себе.
Хотелось мне с ним поближе познакомиться, да не пришлось. Выгнали меня. №
И выгнали-то из-за него.
Принес как-то вечером Шмель книжку, подает мне.
«Вот прочти-ка мальцам. Больно веселая сказка…»
Ну, я взял и стал читать. Читаю и вижу, что сказка-то не простая, а про нашего царя, и таким он палачом выведен, что даже читать страшно. Ребята присмирели, слушают. Вдруг появляется наш дядька-хозяин. Сначала и не заметили его. Послушал немножко дядька, потом говорит:
«Покажи-ка книжку-то».
Я и дал ему, а он ее в карман и говорит:
«Завтра я приставу покажу. Узнаю вот, можно ли такие книжки читать».
И ушел.
«Ну, — говорит Шмель. — Удирай сегодня же… А то в тюрьму посадят. Политическая это книжка».
Собрали мне мастеровые пятерку денег, я и ушел.
Потом работал в Клястицах у бараночника и тоже не усидел долго на месте, потому что начал я ребятам проповедовать про хозяев, что обирают они рабочих. Однажды наш булочник услышал, ввязался:
«Так, говоришь, хозяева рабочих обирают?»
«Обирают».
«Значит, и я обираю?»
«Обираете», — говорю, потому что никак мне не вывернуться и надо крыть на чистоту».
Подумал, подумал булочник.
«Так, так, — говорит. — А я думал, что от голода тебя спас да от смерти. Ну, коли я кровосос, то получай расчет и шагай дальше.
Долго болтался я после этого. Однажды арестован был — в облаву попал.
Нагляделся всего, а главное — на что ни взгляну, все слова Шмеля-слесаря вспоминаю: как он говорил о рабочем классе, так все и выходило правдой.
Потом попал в одну деревню. Батрачил, с хозяином воровать лес по ночам ездил. Потом в драке порезали меня парни. В больнице долго лежал. Тогда и письмо сочинил вам от скуки.
Колька встал, отряхнул листья, прилипшие к платью.
— А как же война? — спросил Роман. — Значит, не был на войне?
— Нет, — усмехнулся Колька. — Там без меня обошлись… Ну вот что, — сказал он. — Иди домой, а завтра опять приходи сюда.
Колька засмеялся, шлепнул Романа по затылку и, насвистывая, пошел из сада.
В этот же вечер Роман, не удержавшись, раскрыл матери свою тайну. На другой день она пошла вместе с Романом и на пустыре, плача, обнимала растерявшегося и сконфуженного оборванца. Потом вместе пошли домой.
Только поздно вечером, когда уже все были в кроватях, улеглось радостное возбуждение.
— А ты давно с фронта? — спросил Колька брата.
— Весной приехал. Наша часть сюда нарочно послана.
— На отдых?
— Нет.
— Значит, пополняться?
— Нет, — сказал Александр. — Мы приехали, чтобы поддерживать Временное правительство и ударить кое-кого как следует. Ты что-нибудь слыхал о большевиках?
— Слыхал, — сказал Колька, и в его голосе Роману послышалась усмешка.
— Ну так вот. Понимаешь, какое положение? Мы на фронте кормим вшей, a тут изменники сдавать Россию хотят.
— Это кто же вшей-то кормил? спросил Колька.
— Мы кормили, — сказал Шурка холодно.
— И ты кормил? А еще что делал?
— Воевал.
— С корнетом? Немцев маршами пугал?
Роман с удовольствием следил за разыгравшейся ссорой братьев.
— Никто не собирается сдавать Россию, — сказал Колька. — А сам народ хочет кончить войну и уходить с фронта.
— Врешь. С фронта бегут только мерзавцы и сволочи.
— А ты как же?
Роман фыркнул. Ловко Колька поддел брата. Александр засопел и некоторое время молчал. Потом вдруг спросил:
— Ты в большевики, что ли, записался?
Колька только усмехнулся.
— Давай спать, — сказал он. — Об этом в другой раз поговорим. Ладно?
БОЛЬШЕВИКИ
Странные вещи творились в доме. Квартиры разделились на враждебные лагери. Везде спорили.
У Рожновых каждый вечер собирались соседи и знакомые. Приходил дворник, сапожник Худоногай, изредка кузнец, зачастила Настасья Яковлевна.
Говорили о политике. На политике все помешались. Даже дед и бабушка ввязывались в спор. Они были за царя и за старое. Александр стоял за Временное правительство. Колька ругал всех и называл себя большевиком. Только сестра, мать и
Роман хранили нейтралитет. Сестру политика не интересовала, мать слушала всех и молчала, а Роман приглядывался и прислушивался к спорам.
— Свобода! А на кой ляд нужна она? — спрашивала бабушка сердито. — Какая же это свобода, если жрать нечего?
— Ты ничего не понимаешь, — говорил Александр. — Голод был бы и при царе. Корень в экономических причинах. Голод — неизбежное наследие войны.
— А коли так, то к чертовой матери войну, — г говорила улыбаясь Настасья Яковлевна.
— Верно! Долой войну! — поддерживал ее Ко-* лька. — Большевики этого и хотят.
По вопросу о войне Колька имел солидную1 поддержку со стороны Худоногая.
— Правильно, — говорил Худоногай. — Очень правильно. Ведь большевики и землю хотят крестьянам отдать?
— Это в программе, — заявлял Колька. — ; Земля — крестьянам, фабрики — рабочим…
— Вот видите, какая программа. Даже сомневаться нельзя. Это настоящая народная партия. У них и девиз, помнится мне, такой: «Не трудящийся — не ест».
— Золотые слова, — говорит Настасья Яковлевна. — Я б в макушку поцеловала того, кто сказал это…
— Стар я, — вздыхал Худоногай, — а то бы прямо в большевики записался. Уж поработал бы для народа. Ну, да и так поработаю.
Худоногай стал везде говорить, что он большевик, и даже стихотворение написал, в котором говорилось, как большевики, распределив землю между крестьянами и доходы с фабрик между рабочими, стали управлять миром.
— Большевики хотят опозорить Россию, — кипятился Александр.
— А мне так думается, — вставлял негромко Худоногай, — мне думается, что хоть разные министры-капиталисты и говорят о войне, но война уже кончилась.
— Неправда!
— А как же неправда, если солдаты с фронта уходят?
— Это не солдаты, а изменники! Их большевики сманивают, но скоро мы и большевиков прижмем. Немцам мир нужен, вот для этого они и подсылают большевиков-шпионов.
— Это вы напрасно говорите — про шпионов, — вставлял Худоногай. — Меня это удивляет. Образованный человек, а верите разным сплетням, как, извините, баба. Надо разъяснять, кто такие большевики, а не болтать, что говорят другие.
— Ну и разъясняйте.
— Я так и делаю. Я теперь нарочно хожу по улицам и всем говорю, кто такие большевики.
Роман и Пеца сидят в Александровском саду. В деревянном павильоне играет духовой оркестр. Он играет какой-то веселый вальс. Под эту музыку по дорожкам, усыпанным шелухой от подсолнухов, окурками и огрызками яблок, бродят солдаты и матросы. С ними девушки в коротеньких юбочках клеш и в высоких шнурованных ботинках.
Ребята поглядывают на гуляющих, слушают Музыку и разговаривают между собой.
— Теперь без партии нельзя, — говорит Роман. — Теперь каждый человек в партии. И нам надо найти свою партию.
— Мы же социалисты, — говорит Пеца. — Социалисты-революционеры. Это ничего партия.
— Дурак! Там буржуи! Большевики лучше!
— А меньшевики?
— Меньшевики — это маленькая партия, ерундовая…
— Маленькая, да удаленькая, — язвит Пеца. — Вон Андреяшку видел… Он прапор теперь!
И верно. Андреяшка, когда-то атаман шайки «Саламандра», появился снова во дворе в форме прапорщика, щеголеватый, с усиками.
— Так он не меньшевик…
— А кто?
— Социалист…
— Ну, это вопрос…
Роман и Пеца спорят горячо, но ни один из них не уверен в своей правоте.
— Все-таки, по-моему, большевики — самая лучшая партия, — говорит Роман. — И Колька большевик, и батька твой большевик.
Роману хочется склонить Пецу на свою сторону. Но Пеца колеблется, увиливает.
— Давай закурим, — говорит он, и Роман достает пачку «Зефира».
— А кто лучше? — спрашивает он.
— Дай папироску, тогда скажу.
— Нет, ты сейчас скажи.
Пеца косится на папиросы и пожимает плечами:
— Пожалуй, большевики ничего.
Они закуривают и смотрят на компанию матросов, расположившихся на скамье против них. У матросов гармошка. Гармонист, маленький кривоногий матросик в огромном клеше, неустанно наяривает на двухрядке и подмигивает проходящим мимо девушкам.
— Веселые ребята, — говорит Роман. — Матросы все большевики.
Рядом с Романом сидит пара. Пожилой хмурый мужчина с тросточкой и дама. Они другого мнения.
— Боже мой! Это и есть большевики! — вздыхает громко дама. — Во что они превратили этот чудный сад!
Пеца смотрит на Романа и хихикает.
— Пойдем отсюда, — говорит Роман.
Они поднимаются и идут к выходу, но Пеца уже настроен критически. Он поддает ногами яблочные огрызки и рассуждает:
— Действительно… Во что сад превратили!
Они идут по Вознесенскому проспекту. На Вознесенском около булочной Филиппова огромная очередь за хлебом. У дверей, конечно, скандал. Несколько женщин оттаскивают от дверей тощего, заморенного солдата.
— Не пускайте его! Он без очереди, бесстыжая рожа, — галдят женщины и тянут солдата за рубаху.
Солдат упирается.
— Я не рожа, граждане! — кричит он. — Нельзя оскорблять, я командированный!
— Знаем… С фронта утек… Шкура болыыевицкая!..
— Ничего себе партия, — ядовито говорит Пеца. — Знаменитая! На всех углах поминают… Шкуры!..
Роман видит, что Пеца окончательно разуверится в большевиках. Он останавливается.
— Значит, по-твоему, шкуры?
— А ты разве не слышал? — смеется Пеца.
Роман поворачивается и идет прочь.
— Да ты чего? — кричит Пеца. — Чего злишься?
Он бежит за Романом.
— Чего я сказал? Подумаешь, обиделся…
— Да, обиделся…
— Да я так, нарочно, потрепался.
Во дворе они все-таки мирятся и прощаются снова друзьями. Роман идет домой хмурый и задумчивый. Он даже не замечает Иськи, попавшегося навстречу. Только когда Иська окликнул его, Роман поднял голову.
— Здравствуй, — говорит Иська, улыбаясь. Иська в потрепанной кожанке, высокий, сухой, жилистый. Настоящим рабочим стал.
Роман смотрит на него и ничего не отвечает.
— Ты что такой? — спрашивает Иська. — Больной, что ли?
Но Роман опять молчит некоторое время и вдруг спрашивает:
— А ты кто?
— Как кто? — смеется Иська. — Человек, конечно.
— А к какой партии примыкаешь?
— Вон что! — Иська перестает смеяться. — Я рабочий, — говорит он, — а все рабочие за большевиков.
— Значит, большевик, — говорит Роман задумчиво и, не прощаясь, уходит домой.
Дома он с нетерпением ждет Кольку. Колька теперь занят страшно. Он поступил в полк музыкантом. Там в полку его выбрали в солдатский комитет. Колька усердно занимается комитетскими делами и часто даже ночевать остается в казарме.
Но в этот вечер Колька пришел домой. Он голоден. Мать греет ему суп, и Колька, сев за стол, жадно ест, а Роман обдумывает, как заговорить с ним. Наконец находит способ. Надо Кольку разозлить.
Роман ходит некоторое время вокруг стола, потом громко говорит:
— Смешные эти большевики!
Колька перестает чавкать и, выпучив глаза, смотрит на Романа.
— Это почему же смешные? — спрашивает он, хмурясь.
— Ругают их все…
Колька усмехается и, принимаясь снова за суп, говорит:
— Дурак!
Но Роман не теряется.
— А кто они такие, большевики?
— Все рабочие и крестьяне.
— А солдаты?
— А солдаты разве не рабочие?
— Значит, большевики?
— Большевики.
— А ты?
— И я большевик.
— А почему?
— Потому что большевики хотят, чтоб вся земля перешла к крестьянам, чтоб солдаты больше не сидели в окопах, а вернулись домой, чтобы рабочие получали все, что они зарабатывают, а не работали на хозяина. Понял?
— Немного понял, — говорит Роман.
— Ну и ладно. Остальное потом объясню, а завтра вечером приезжай-ка ко мне в казармы. Там у меня граммофон есть. Домой повезешь.
На другой день Роман и Пеца поехали в казармы. Устроившись на колбасе, Роман объяснял Пеце программу большевиков.
— Пожалуй, ничего, — сказал Пеца. — Приемлемая программа.
Он боялся теперь спорить с Романом.
На Неве ребята сошли с трамвая. Но к казармам пройти оказалось нелегко. На площади около низенького здания вокзала стояла огромная толпа. Со всех сторон подходили новые и новые колонны, с плакатами, с оркестрами. Колонны пробивались на площадь и там останавливались.
Было уже темно, но толпа не расходилась.
— Митинг, наверно, будет, — сказал Пеца. Вдруг с разных сторон вспыхнули прожекторы и осветили площадь, залитую народом.
Ребята пролезли в самую гущу к прожекторам, около которых стояли солдаты.
Роман и Пеца никогда не видели близко прожекторов. Они ходили вокруг них, прыгали, зажмурившись, перед светом, заглядывали в огромные светящиеся жерла, не обращая внимания на солдат, отгонявших их. Вдруг толпа заволновалась. Со всех сторон грохнуло оглушительное ура, а прожекторы повернули к подъезду вокзала.
— Приехал, приехал! Вон он! — говорили со всех сторон.
— Приехал кто-то! — закричал Пеца. — Идем смотреть!
Не обращая внимания на толчки, пинки и давку, ребята протиснулись к подъезду и сквозь шеренгу матросов увидели какую-то делегацию, впереди которой шел бородатенький приземистый мужчина. Вокруг гремело бешеное ура. Человек с бородкой шел, немного наклонив лысеющую голову, и чуть улыбался.
Толпа сомкнулась, смяла ребят, потискала и выбросила куда-то в сторону.
— Идем в казармы, — крикнул Пеца. — Поздно…
— Погоди, — сказал Роман. — Надо узнать, кто приехал.
Он подошел к солдату, который, покуривая, смотрел на толпу.
— Дяденька…
— Чего? — спросил солдат.
— Кто это приехал?
— Ленин приехал, — сказал солдат.
— Кто такой Ленин?
— Ленин? — Солдат посмотрел на Романа и; заплевав папироску, неторопливо сказал:
— Ленин — это самый главный большевик.
Ребята сидели в землянке и делили кокос, только что принесенный с Лоцманки. Женька старательно ломал крепкие корки ореха на равные части и раскладывал их на шесть кучек.
Воровали вместе, всей партией. Пеца, Сергей и Роман таскали кокос. Васька, Шурка и Женька «стремили» за сторожами. Так уже повелось, что всем клубом ходили на промыслы.
Женька разломал последнюю корку и облегченно вздохнул.
— Берите!
— Здорово натаскали, — сказал Женька. — Мы, социалисты-революционеры, не зеваем. Вон малковские ребята, как ни пробовали, а все боялись тащить, а мы…
— Мы не социалисты-революционеры, W вдруг сказал Роман.
Женька удивленно уставился на него.
— А кто же мы?
— Кто вы, — я не знаю, может, и социалисты, но я теперь больше в этой партии не состою, так как она за буржуазию.
— Ах ты, сволочь! — загорячился Женька. — Социалисты не за буржуазию, а за свободу и за войну до победного конца.
— Знаем мы, — усмехнулся Роман. — Вам только бы капиталы спасти, а на рабочих наплевать. Номер не пройдет! Я теперь стал большевиком и вам советую перейти в мою партию.
— Шпион!
— Буржуй!
— Изменник!
— Дураки. Ничего не понимаете, а ругаетесь, — сказал Роман. — Лучше вступайте в мою партию.
— Коку-маку!
— Ну и не надо. А мы тогда свою партию о Пецей устроим
— А мы вам не дадим, — сказал Васька. — Катитесь колбаской из нашего клуба.
— Это почему? Мы тоже копали землянку.
— Фига! А лопаты кто давал? — крикнул Женька. — Большевиков нам не надо, валите вон от нас.
— Ну и уйдем, — сказал Роман, поднимаясь и забирая кокос. За ним поднялся и Пеца.
— Кто еще с нами? — спросил Пеца.
Но на дворе шел дождь, вылезать из землянки, видно, никому не хотелось. Серега и Шурка отказались. Тогда партия большевиков, гордо задрав головы, вышла из клуба.
— Таким сволочам кокосу не надо было давать! — крикнул вдогонку Женька.
Забравшись на чердак, большевики устроили совещание.
— Свой клуб сделаем, — сказал Пеца.
— Определенно, — поддержал Роман. — И знаешь, где сделаем? Напротив их клуба, в другом углу.
Выпросив у дворника две лопаты, Роман и Пеца побежали на пустырь и, не обращая внимания на дождь, стали копать землянку. А из клуба социалистов выглядывали насмешливые рожи и кричали:
— Большевики-дураки!
— Буржуй, воблу жуй! — отвечали им большевики.
К вечеру землянка была готова. На кусочке картона Роман нацарапал:
КЛУБ БОЛЬШЕВИКОВ
Партия Романа и Пецы жила самостоятельно и все время боролась с партией Женьки. Чтобы как-нибудь соблазнить ребят, Роман и Пеца стали украшать свой клуб. Они устроили в своей землянке окошки, поставили деревянные скамейки, пол застлали железом, а сверху покрыли соломой, так что в землянке всегда было сухо. Женька, догадавшись, в чем дело, перещеголял Романа, устлав пол в своей землянке старым рваным ковром. Пробовали большевики и устно агитировать. Но из этого ничего не вышло.
«Не умеем, — думал Роман. — Вот быть бы настоящим большевиком, тогда другое дело!» Он с завистью думал об Иське, который гордо заявлял, что он большевик, и советовал Роману поступить на завод. Роман приставал к матери с просьбой устроить его на завод, но мать только качала головой:
— Трудно теперь пристроить. Рабочие, которые давно работают, и те без дела ходят. Фабрики закрываются, куда же пойдешь? Вот подожди, — может, будет полегче, куда-нибудь суну.
Роману иногда становилось до слез обидно, что он родился в такое время, когда и на завод нельзя попасть.
По-прежнему собирались соседи у Рожновых. Разговоры не умолкали до позднего вечера. Однажды, после обычных споров, когда все, устав говорить, пили чай, кто-то попросил Худоногая прочитать стихи. Худоногай не ломаясь начал читать:
Герцен много пострадал За революцию хватился, За границей умер он И домой не воротился.Поэма о Герцене подходила к концу, когда в сенях загремели тяжелые шаги. В комнату вошел старший дворник, покопался в большой папке и вытащил пачку бумажек:
— Расписывайтесь в получении избирательных бланков. Голосовать будете. Депутатов в правители выбирать. Который за кого хочет, тот опусти свою партию в конверт, — после мне сдадите.
Александр расписался за всех. Мать перебрала листки и спросила:
— За кого же голосовать?
— За кого хочешь, — сказал Александр. — Для того на всех листочках программы партий и написаны, чтобы могла разобраться.
— Голосуй за четвертый номер, — сказал Колька, усмехаясь.
Листочки получили все, кроме Романа. Роман с завистью следил за родными. Александр по очереди читал программы, напечатанные на листках, а все внимательно слушали, изредка вставляя замечания:
— Вот правильная партия.
Но все партии сулили так много хорошего, что даже трудно было выбирать.
— Чума их забери! Я вот возьму, да все и суну в конверт, — сказал дед. — Пусть все правят да жизнь полегче делают.
Колька вложил свой листочек и запечатал. Потом стал что-то нашептывать сестре, но та, отмахнувшись, громко сказала:
— Отстань ты со своими большевиками…
— Большевик-то агитирует! — расхохотался Александр. — Только ничего не выходит.
— Где надо, — выйдет, — сказал Колька и нахмурился. Видно, ему стало неприятно, что больше никто не голосовал за большевиков. Роману тоже стало жалко Кольку и обидно за партию. Мать, бабушка и дед выбрали листки какой-то церковной партии, а сестра вместе с Александром голосовала за социалистов-революционеров.
Легли спать, но Роману не спалось. История с голосованием не на шутку встревожила его. Роман потихоньку встал и подошел к комоду, где лежали конверты. Некоторое время разглядывал их. Тусклый свет лампы бледно освещал комнату. Роман видел неясные очертания фигуры брата, спавшего на кровати, видел голову матери. Из-за перегородки доносился ровный, густой храп деда. Все спали.
Тогда Роман на цыпочках добрался до печки и тихонько открыл дверцу. Стараясь не шуршать бумагой, Роман вытащил брошенные матерью листки, вернулся к комоду, забрал оттуда конверты и юркнул под одеяло.
— Вот увидим, кто победит, — злорадно шептал он, отогревая дыханием заклеенные конверты.
Вскрыв и выпотрошив все конверты, за исключением Колькиного, Роман вложил в них большевистские листки и снова заклеил. Потом спокойно завернулся, зевнул и стал засыпать. Победа большевикам была обеспечена!
КОЛЬКА В ПОДПОЛЬЕ
— Ромка, Ромашка-а!..
Роман выглянул в окно. Внизу топтался Пеца.
— Выходи скорее!
Роман схватил шапку и кубарем скатился по лестнице.
Пеца уже бежал к воротам. Роман пыхтя понесся за ним.
— Что случилось?
— Стреляют… Большевиков бьют! — на бегу, задыхаясь, говорил Пеца.
На улице было все спокойно. Побежали на Садовую. Вскочили в трамвай и поехали к Невскому. У Гостиного трамвай стал. От Невского шли и бежали люди.
Спрыгнув с площадки, мальчишки помчались вперед.
На перекрестке толпа милиционеров налаживала движение. Из подъездов и подворотен выходили испуганные прохожие, подбирали кепки, шляпы, тросточки… Кучки любопытных стояли на углах.
— Шли, шли тихо, мирно, — рассказывал кто-то взволнованно. — Вдруг как начали жарить. Ну, конечно, кто куда…
— Поделом!.. Нечего с флагами ходить. Не при старом режиме! Сволочи!
— Опоздали, — разочарованно сказал Роман. Пошли тихонько обратно.
Около Юсупова сада стояла толпа. Оттуда доносились крики. Ребята замешались в самую гущу.
— Погляди, чего там?
Пеца приподнялся на цыпочки и испуганно вскрикнул:
— Ой, там батька! Лезем в середину! Оба протиснулись в толпу.
Высокий мужчина с желтыми усами кричал на Худоногая:
— Вам что здесь надо? Вы зачем вмешиваетесь в разговор? Агитировать пришли?..
— Я не вмешивался, — отвечал Худоногай. — Но я вижу, что вы тут говорите неправду…
— Я? Неправду? — взвизгнул мужчина. — Как вы смеете?
— И смею, да! Большевиков шпионами называете…
— Называл, — продолжал кричать высокий, — и буду называть!
В этот момент, растолкав толпу, на середину выбрался солдат в большой рваной шинели до пят. Солдат был пьян. Серые водянистые глаза его скользнули по кругу и остановились на Худоногае.
— Ты кто ?
— А вам это зачем? — усмехнулся Худоногай. Солдат побагровел.
— Ты кто? — заревел он, надвигаясь на сапожника. Высокий с рыжими усами пронзительно засмеялся.
— Известно кто! Большевик! Шпион немецкий!
— Товарищи! — крикнул Худоногай. — Не слушайте его!
— Ты против Керенского? Агитировать пришел? — заорал солдат и, размахнувшись, ударил Худоногая.
Кузьма Прохорыч упал. Роман видел, как высокий с желтыми усами, засопев, ткнул его тяжелым сапогом в бок. Толпа сомкнулась. Началась свалка. Пеца плача порывался кинуться в середину, но его оттирали.
— Большевик! Так ему! — хрипел кто-то в толпе.
— Убьют!.. Караул!
И уже недалеко свистел милиционер. Толпа разбухала и ширилась. Роман и Пеца видели, как подъехал извозчик, как долго он ругался, отказывался ехать. Потом зачмокал, задергал вожжами, и толпа расступилась. Роман и Пеца стояли неподвижно, не обращая внимания на толчки. Пролетка прокатила мимо них. На минуту оба увидели окровавленное лицо Кузьмы Прохорыча, которого поддерживал милиционер. Пеца морщился. По щекам его катились слезы.
Вернувшись домой, Роман застал родных в страшной тревоге.Во время его отсутствия на квартиру приходл Андреяшка с юнкерами и требовал, чтобы мать сказала, где находится Колька. Кольки дома не было.
— Он большевик, и мы должны его арестовать, — заявил Андреяшка и, уходя, пригрозил: — Мы будем следить.
Скоро домой прибежал Александр.
— Николай дома?
— Нет…
— На улицах расстреливают демонстрацию большевиков, — выпалил он.
Колька пришел только к вечеру. Мать наспех приготовила ему поужинать, но едва он подсел к столу, как на дворе раздался шум.
Роман выглянул в окно. К «Смурыгину дворцу», спотыкаясь и громко разговаривая, двигалась компания подвыпивших юнкеров.
Колька схватил шинель, шапку и побежал в квартиру Гультяевых. Там через окно выскочил на задворки.
Юнкера долго буянили в квартире.
— Перестреляю, если спрятали! — грозился Андреяшка. Потом, пригласив Александра выпить с ними, удалились.
Было уже темно, когда Роман пробрался на задворки.
Около землянки большевиков кто-то стоял. Роман остановился.
— Кто там?
— Это я, Ромашка, не бойся.
— Иська?
Роман подбежал к нему.
Иська стоял, разглядывая небо и засунув руки в карманы кожанки. Потом, опустив голову, поглядел на Романа.
— Ты что?
— Ничего, — сказал Роман. — Тут Кольки не видел?
Иська, помолчав, сказал:
— Колька ушел… только что. Велел передать, что пока жить будет в другом месте… В подполье…
Роман потоптался на месте, потом спросил:
— Разбили большевиков?
— Ничего, — усмехнулся Иська. — Большевиков разбить нельзя. — И, погрозив кому-то кулаком, сказал: — Мы еще вернемся.
ПОСЛЕДНЯЯ «МАРСЕЛЬЕЗА»
Был вечер, не по-обычному тревожный. Рано закрыли ворота в доме веселых нищих. В подворотне стояли несколько жильцов из портных, Григорий Иванович и управляющий. Молча смотрели на улицу сквозь переплет чугунной решетки.
Изредка быстро пробегали прохожие. Где-то стреляли. Мимо ворот проехало три грузовика, в которых сидели вооруженные штатские и солдаты.
— Большевики, должно быть, — опасливым баском прогудел Григорий Иванович.
Больше никто ничего не сказал. Роман, стоявший тут же, напрасно ждал, надеясь, что жильцы заговорят и тогда будет ясно, что делается там, на улице. А там было что-то интересное. Он попытался пробраться, но дворник не пустил его. Стоять и прислушиваться к далеким выстрелам было скучно. Роман побрел домой.
Дома все уже спали. Только мать сидела у окна, задумчиво глядя на улицу.
— Поздно являешься, — сказала она Роману. — Отдельно готовить ужин не буду.
Роман промолчал. На столе для него лежал кусок крутой каши, вобла, ломтик хлеба. Он быстро поел, но остался голоден. Подобрал все крошки и тогда только встал.
Мать убрала посуду и опять села к окну. Роман попробовал было подсесть к ней, но мать не позволила.
— Ложись спать.
Роман лег. Завернулся в одеяло с головой и сразу заснул.
Проснулся он от громкого стука и разговора. Открыв глаза, увидел Николая.
С июля пропадал Колька. Несколько раз Александр говорил, что видел его где-то на митинге, но домой Колька не приходил, верно, боялся. Его появление теперь было как праздник. Колька стоял в шинели, улыбающийся. В руках у него были какие-то кулечки, за плечами висела на ремне большая громоздкая винтовка, которой он все время цеплялся за углы и сундуки. Около Кольки суетилась мать.
— Да ты сними ружье-то. Перебудишь всех, — говорила она.
— Ничего, пусть проснутся, — смеялся Колька, — будем чай пить.
Но все уже и так проснулись. Колька поставил винтовку в угол и снял шинель. Потом, увидев, что Роман не спит, подсел к нему на край сундука.
— Колюха, а Колюха! — крикнул из-за перегородки дед. — Что там, как? Опять революция?
— Опять, — откликнулся Колька. — Все хорошо. Большевики победили. Керенского по боку.
Зимний взяли.
— И Колька поглядел в угол, где спал брат.
— Врешь! — раздался оттуда хриплый голос Александра.
— Посмотри, коли не веришь, — усмехнулся Колька.
— А зачем же Зимний взяли? — спросил Роман.
— Потому что в Зимнем Временное правительство засело. Что ж ты, братишка, таких вещей не знаешь, а еще большевиком себя именуешь?..
Мать поставила самовар.
— Вставайте, кто есть хочет, — крикнула она и стала развертывать кульки с мукой, сахаром, галетами.
Это Колька получил паек. Все потянулись к столу. Из-за перегородки, кряхтя, вылез дед, вышла сестра.
— А по мне — все одно, какая власть, только б кормили, — сказал дед, довольный.
Закутавшись в одеяло, Роман тоже подсел к столу и слушал, как Колька рассказывал о Зимнем. Было немного обидно, что проспал революцию.
Потом Колька завел граммофон. Он долго искал подходящую пластинку. Ничего не нашел и поставил старую, заигранную «Марсельезу».
— Последний раз, — сказал Колька. — Завтра купим «Интернационал».
Стрелки показывали ровно пять, когда возобновилась прерванная ночь.
Только Александр долго ворочался на своей кровати, и в углу тлела, поминутно вспыхивая, его папироска.
На другой день Роман и Пеца держали совет
Надо было показать, что и они не дремлют. Постановили произвести переворот и разгромить клуб социалистов-революционеров.
Улучив момент, когда социалисты во главе с Женькой пошли кататься на трамваях, Роман и Пеца принялись за работу. Землянка была разрушена в четверть часа. На ее месте образовалась глубокая яма, из которой торчали доски, куски железа, а вокруг были разбросаны плакаты, тряпки и картинки. Выбрав кусок бумаги, Роман долго выводил буквы, слюнявя химический карандаш. Потом прикрепили бумажку к доске, которая высоко торчала над ямой. На бумажке было ясно написано:
ДОЛОЙ БУРЖУЕВ!
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ
ПРОВОДЫ
Под ногами чавкала бурая каша снега, смешанного с грязью. На лицо и руки садился тяжелый и липкий туман.
Идти по дороге было трудно. Ноги скользили и проваливались в грязь. Роман видел, как братья, шедшие впереди, то и дело оступались, а гроб, который они несли, угрожающе колыхался, готовый шлепнуться в грязь посредине дороги. Тогда трусивший сзади замызганный священник, с редкой, слипшейся от дождя бородкой, семенил к ним и ласково говорил:
— Полегоньку, милые. Тихонько идите…
Братья не отвечали. У обоих лица были мокры от пота. Они, видно, здорово устали. Гроб был тяжелый, и оба брата, худые и заморенные, в огромных солдатских шинелях, едва переставляли ноги. Носы острые, как клювы, выделялись на их исхудавших лицах.
За гробом шли бабушка, дед и хозяйка квартиры, в которой жила Настасья Яковлевна — женщина с красным лицом и желтыми волосами цвета соломы.
— А скрутило ее, родные, в три дня, — говорила, придыхая, женщина. — Пришла она с рынка. Ничего как будто, только дышит тяжело. Ну, легла в кровать, лежит и вроде как заснула. Мы ходим потише, чтобы, думаем, не беспокоить старуху, а она уже померла.
Бабушка перекрестилась.
— Славная была старуха, дай ей, господи, царствия небесного.
На кладбище было тихо и печально. Могила для Настасьи Яковлевны была уже готова. По левую сторону ямы стоял огромный склеп, а справа — большой мраморный ангел, склонившийся на одно колено. У ангела была отбита ступня, а над губой нарисованы синие усы.
Сторож с пухлым и рыхлым, как опара, носом, что-то бурча, махал кадилом. Священник пел:
— Упокой, господи, душу рабы твоея… Голос священника перебивало надрывное карканье ворон.
— Вот и убрал господь доброго человека, — сказал дед, когда возвращались с кладбища.
Никто ему не ответил.
Дома мать уже ждала всех. Она приготовила поминальный обед, сварила кутью.
За столом мало говорили. Только краснолицая женщина, тоже приглашенная на поминки, ела и говорила не переставая.
Раньше всех вышли из-за стола Александр и Николай. Мать шепотом сказала:
— На фронт едут сегодня. И, вздохнув, добавила, словно жалуясь: — Сколько уж мытарились — и опять…
Вечером братья вместе ушли в казармы. А позже Роман пошел на вокзал.
На платформе около теплушек стояли провожающие. Собралась делегация от завода. Начался митинг. Сперва выступил комиссар полка. Потом представители от рабочих.
— Вы там бейте генералов, — говорили рабочие, — а мы будем тыл укреплять и поможем вашим семьям. Да здравствует власть советов!
Оркестр играл «Интернационал». Красноармейцы кричали «ура». Поезд тронулся, а оркестр все играл. Играл до тех пор, пока поезд не скрылся за семафором.
— Уехали? — спросила мать, когда Роман вернулся домой.
— Уехали.
Мать вздохнула. Взбивая подушки, тихо сказала, ни к кому не обращаясь:
— Вот и опять одни, — и с силой бросила подушки, так что скрипнула кровать и задрожало стекло на лампе.
Через некоторое время в доме закрылась сеточная мастерская. Щелочная тоже перестала существовать.
Хозяин мастерской заплатил деду за два месяца вперед, попросил заколотить досками мастерскую, чтобы ничего не растаскали, и изредка поглядывать. Роман вместе с дедом ходили забивать двери и окна.
Одна кузница работала еще, но Женька сообщил, что мастеровых пришлось всех уволить и отец работает один с сыном.
Григорий Иванович и два младцщх дворника долго ходили по двору, осматривая зачем-то стены. Потом Степан принес лестницу, он долго прилаживал колокол к крюку, а Григорий Иванович тем временем объяснял стоящим жильцам:
— Власть теперь общая. Так вот: как колокол зазвонит, так все собирайтесь на собрание. Надо домовый комитет выбирать.
В тот же вечер колокол загремел, впервые сзывая жильцов на собрание. Весь дом устремился в помещение, где раньше находилась сеточная мастерская. Народу набилось много. Не вместившиеся в мастерскую стояли на дворе и у окон. А в мастерской выступали ораторы и говорили речи о том, что домами надо править самим. Стали выбирать домовый комитет. Но выбирали осторожно и нехотя, все время оглядываясь на темный угол, где стоял бывший хозяин дома.
Скоро свечная мастерская, где работала бабушка, тоже закрылась, и бабушка осталась без дела. Судя по тому, что она даже ворчать перестала, мысли ее были серьезные. Она копалась в своих сундуках, доставала какие-то узелки и платья, от которых по всей квартире разносился запах сырости и нафталина, перетряхивала их и откладывала в сторону. А покончив с тряпками, решительно объявила:
— Поеду в деревню к себе. А вы ждите. Буду вам гостинцев присылать, — может, и не помрете с голоду.
— А ведь это ты верно, мать, надумала, — радостно подхватил дед. — Поезжай, пришли-ка сдобных на коровьем да свининки к рождеству.
Обычно тяжелая на подъем бабушка собралась в два дня. Дед и Роман отвезли на вокзал бабушкин багаж и проводили ее.
— Ждите, — говорила бабушка из окна вагона. — Приеду — первым делом вам посылку слажу.
— Свининки пришли да яичек, ежели будут. К свояченице зайди, к брату наведайся, — говорил дед на прощанье. — Они не оставят, не может того быть, чтобы забыли…
Бодро говорил дед, а когда поезд скрылся в темноте, мигнув напоследок красным глазом, сразу осунулся старик, посерел.
Всю дорогу шли молча. Только около самого дома дед вдруг остановился и, обращаясь к Роману, сказал:
— Напрасно отпустил-то. Время — оно вон какое! Вместе надо бы, а то даст ли бог свидеться?
В первый раз дед говорил с Романом как со взрослым. Роману было приятно это, и он бодро сказал:
— Ничего, бабушка хлеба нам привезет.
— И то верно, — согласился дед.
АМЕРИКАНСКИЙ ЩЕЛОК
Очередь стояла с утра. Она то уменьшалась, то увеличивалась, разрастаясь вширь и вдаль. Ждали хлеба. Ждали упорно, настойчиво, ругаясь и перешептываясь, изнывая от удушливой и смрадной жары нечищеной улицы. Город был грязен, не убран. Около тротуаров дымили кучи мусора, подожженные заботливыми руками домоуправленцев.
По дороге протопали красноармейцы. Несколько человек шли в кальсонах.
Из очереди вслед красноармейцам злобно кричали:
— Вояки! Портки на фронте оставили!
— Это чтоб пороть лучше было!
Роман и Женька с раннего утра толкались около потребиловки. Бегали смотреть, не везут ли хлеб. Читали новые приказы, только что расклеенные по стенам.
«Генерал Деникин, кучка офицеров и бежавшие от революции приверженцы монархического строя ведут за собой отстающую часть казачества, удерживая их посулами…»
В полдень привезли хлеб. Перед лавкой остановились два воза, доверху нагруженные теплыми штабелями буханок. Хвост пришел в движение.
Роман и Женька таскали хлеб в лавку, отламывая на ходу маленькие корочки, потом без очереди получили свои четвертки и пошли домой.
Четвертки оба проглотили мгновенно, а бурчание в животе не прекращалось.
— Сейчас бы фунтешник завернуть, — вздохнул Женька. — Еще и мало было бы!
— А на рынке до черта хлеба, — сказал задумчиво Роман. — По триста рублей фунт.
Походив по двору, ребята отправились на пустырь. Около дверей щелочной Женька на минуту остановился, поднял окурок и, оторвав конец, хотел идти дальше, как вдруг оба замерли. Из-за заколоченных дверей щелочной мастерской доносился голос, беззаботно распевавший:
Матрос молодой, В ногу раненный, Торговал на Сенной Воблой жареной.Потом послышались глухие удары молотка. Эти удары были знакомы ребятам. Так могли только набивать щелок в пачки.
Ребята переглянулись. Мастерская была давно закрыта. Щелоку там не было, и все-таки кто-то набивал пачки. Роман подкрался к дверям и, внимательно осмотрев их, увидел, что доски едва держались. Со стороны было похоже, что дверь забита, а на самом деле она свободно открывалась. Тогда, не сговариваясь, оба ворвались в мастерскую.
В пустынном помещении, около стола, где набивали пачки, стоял Васька с деревянным молотом в руках. В станке у него был заложен готовый кулек, в руке он держал совок со щелоком, а на столе ровными рядами стояли десятка два готовых пачек, точь-в-точь таких, какие раньше изготовляли в мастерской.
Сначала Васька перепугался и бросился было бежать, но, увидев ребят, плюнул и, сгоня с лица испуг, выругался.
— А я-то думал — Григорий Иванович!
— Ты что тут делаешь? — спросил Женька, алчно шныряя глазами по мастерской.
Васька усмехнулся:
— Не видишь разве?
Взяв совок, он направился к ящикам, в которых когда-то остужали щелок, и, забравшись в ящик, стал соскребывать ножом со стенок приставший порошок. Набрав полный совок, он рассыпал щелок по пачкам и стал его утрамбовывать молотком, проделывая все это так, как настоящий рабочий.
— Здорово, — с завистью пробормотал Женька. — И давно это ты?
— Порядочно, — сказал Васька.
— А потом продаешь?
— А ты что думал?
— И берут?
— Еще как! Вчера десять пачек продал, а позавчера пошел, так…
Но Женька уже не слушал. Быстро схватив первый попавшийся под руку совок, он забрался в ящик и стал торопливо соскребывать щелок, словно хотел догнать Ваську. Роман тоже схватил совок.
— Еще товарищ, — ругался Женька, яростно чихая. — Потихоньку от нас! Думал, не узнаем?
Так снова заработала законсервированная фабрика и началось производство необходимого в хозяйстве патентованного американского щелока.
Компания развернула дело и поставила его на широкую ногу. К делу привлекли и Пецу. Сначала думали, что щелоку хватит пачек на сто, но набили сто, и двести, и триста, а щелоку все еще было много. За долгие годы работы мастерская насквозь пропиталась едким порошком. Щелок был в каждой щели и дырке, в каждой скважине. Всех охватила щелочная горячка. Каждему хотелось заработать больше другого. Ребята грызлись из-за каждого ящика. Однажды Роман, чтобы заработать побольше, забрался в мастерскую в шесть часов утра, но, придя на другой день в это же время, увидел Женьку. Женька пришел в пять. Тогда учредили компанию на паях и пригласили Пецу. Двое набивали, двое собирали щелок, а доход делили на всех.
Щелок охотно раскупали лавочники уцелевших ларьков. Ребята ходили сытые и довольные. Потом выработка стала падать. Ящики выскребли
так, что, если бы их вымыть, они не стали бы чище. Тогда Женька посоветовал перевернуть ящики. Принялись скрести их с другой стороны. Потом взялись за котел, в котором варился щелок. Потом стали выскребывать щелок из щелей в полу, из углов, со стен. С каждым днем доставать его становилось тяжелее, да и щелок, вначале белый как мел, теперь напоминал золу. Наконец настал день, когда, облизав весь сарай, ребята не набрали и горсти порошка.
— Все! — сказал Васька сокрушенно. — Как языком вылизали.
— Языком так не вылизать.
— А мне вчера торговец говорит: приноси еще, — сказал Женька.
— А если землю? — сказал Пеца. Ребята удивленно поглядели на него.
— Что землю?
— А в пачки набивать.
— Зачем же?
— Да так! И сверху чего-нибудь белого — извести или мелу.
В этот день заготовили двести пачек, наполненных землей.
Поверх земли в каждую пачку насыпали немного истолченной в порошок извести. Заклеили пачки ярлыками.
— Как настоящие! — говорил в восторге Васька, любуясь пачками.
Женька и Пеца понесли щелок в лавку, а Роман и Васька стояли у дверей. Пачки сложили на прилавок. Одну пачку торговец взял в руки. Он всегда открывал одну пачку на пробу. И тут ребята поняли, какую огромную ошибку допустили они, очумев от радости. Пачка была одинакова с обеих сторон. А известь насыпали только с той стороны, с которой заклеивали пачки.
Лавочник не торопясь стал отдирать ярлык.
Женька задрожал и, поглядев на Пецу, быстро пошел к выходу. Пеца испугался не меньше Женьки, но решил спасать положение.
— Стойте! — крикнул он.
Лавочник вопросительно поглядел на него.
— Не с того конца открываете, — сказал Пеца.
— А разве не все равно?
— Так сыпаться будет.
— А это не страшно.
— Дайте, я сам распечатаю! — в отчаянии крикнул Пеца, но торговец уже сорвал ярлык и, выпучив глаза, глядел на комья бурой высохшей земли, плотно утрамбованной в пачке. Ребят в лавке уже не было.
— Дураки! — ругался Васька. — Не могли догадаться!
Огорченные неудачей, ребята окончательно разгромили мастерскую. Разломали ящики, выворотили из печей котлы, а на другой день продали на барахолке молотки, совки и деревянные станки.
КАК ВЫСЕЛИЛИ ВАСЬКУ
Жил Васька экономно, но как ни ухитрялся, а скоро все распродал, что осталось после отца. Сначала разбазарил одежду: отцовы рубахи, пиджаки, два пальто, ботинки, потом стал продавать мебель. Скоро имущества осталось немного: табурет сломанный, кровать старая, комод, портрет отца да начатая банка гуталину со щеткой. А работы не было. Васька и сам знал, что взять ее неоткуда, но продолжал надеяться. Григорий Иванович — бывший старший дворник, а ныне управдом — стал наведываться к нему и, качая головой, говорил:
— Шел бы ты в приют.
— На кой он мне черт? — хмуро отвечал Васька.
— А что же ты делать-то будешь? Попрошайничать?
— Вовсе нет! Работать!
— Да какая ж теперь работа? Дурень! Хорошие рабочие без дела сидят. Воровать ты будешь, а не работать. Только воровать не позволю. Коли что замечу или люди скажут, сразу отправлю, — грозил управдом.
Васька огрызался.
— Не имеешь права ругаться! Что я — украл? Васька прикидывался обиженным, и управдом уходил. Но Васька уже давно промышлял на стороне, отыскивая все новые пути для существования. И чем дальше, тем таинственнее были эти пути.
Однажды он притащил из казармы маленький кавалерийский карабин.
Ребята с восхищением разглядывали его. Васька предложил им купить и заломил три косушки.
Никто не купил.
— Дерешь больно, — сказал Женька. Карабин Васька куда-то запрятал, а продавал
ребятам патроны за хлеб и на деньги.
Но это не спасло Ваську. Скоро пришлось продать комод, последнюю ценную вещь. Продал спекулянту за большую пачку «косух» и за каравай хлеба.
Ребята, присутствовавшие при продаже, тут же нанялись нести комод на вокзал. На вокзале мужик рассчитался с мальчишками. Ребята пошли домой и по дороге зашли на толкучку — лакомиться лепешками.
Бродили по толкучке, разглядывая товар, как вдруг Васька стал прицениваться к колоде карт. Парень, продававший карты, расхваливал их без зазрения совести, хотя карты были старые, потрепанные.
— Да брось ты! Идем! — сказал Женька, но Васька не пошел.
Он взял карты, пересчитал их и спросил:
— Сколько заплатить?
— Пять тысяч.
Васька отдал карты и задумался.
— Три дам, — сказал он через некоторое время.
Женька ужаснулся.
— Три тысячи!
— Гони монеты — так и быть, — сказал парень, всовывая карты в руки Ваське.
На другой день ребята лежали в траве на пустыре. Разговоры все были переговорены. Изнывая от тоски, зевали. Тут Васька достал карты:
— Давайте играть.
— А как? — спросил Пеца. — В дурака, что ли?
— В дурака и мараться нечего, — усмехнулся Васька. — В очко будем играть.
— Денег нет, — сказал Женька.
— А и не надо. Будем играть на папиросы.
Ребята уселись в кружок.
Васька перемешал карты и стал сдавать.
— В банке две папиросы
— На две даешь карту, — весело крикнул Женька.
Игра началась. Через четверть часа у Женьки и Романа папиросы иссякли. Еще через полчаса Женька проиграл зажигалку, перочинный нож и ремень. Но ремень не отдал, а обещал за него принести завтра фунт соли. Роман проиграл пачку папирос. Пеца выиграл десяток. Васька выиграл больше, хотя и не радовался так, как Пеца.
Когда расходились домой, Пеца сказал:
— Приноси и завтра карты. Опять сыграем.
На другой день снова играли. Женька принес с собой денег, папирос и пять фунтов соли. Соль он стащил у отца.
— У нас много этого барахла, — хвастался Женька в начале игры. — Батька запас.
Но ему снова не повезло, и чем больше он проигрывал, тем больше горячился.
В этот день все проиграли Ваське. Расставаясь, Женька хмуро сказал:
— Завтра приходи пораньше.
Ребята втянулись в игру. Играли каждый день и каждый день проигрывали Ваське.
Это уже не было развлечение от скуки. Ребята собирались мрачные. Как только приходил Васька, начинали играть. Если был дождь, то играть переходили на чердак «Смурыгина дворца». Васька по-прежнему выигрывал. Роман играл, но все чаще задумывался. Пора было прекратить игру, а сил не хватало. Пеца и Женька играли яростно. Больше всех проигрывал Женька и, чем больше проигрывал, тем больше приходил в ярость. Соль он таскал теперь каждый день.
— Смотри, — предупреждал Роман. — Батька запорет
— А тебе что? — огрызался Женька
— Давай еще карту! — хрипит Женька, тараща глаза на колоду.
Васька молча сдает. Роман и Пеца внимательно смотрят за ним. Женька, взяв карту, сперва кладет ее, не глядя, на землю и считает внимательно очки в трех картах, потом осторожно прикрывает карту, лежащую на земле. Лицо у него в пятнах от волнения, рука дрожит. Но вот карта открыта. Женька бледнеет и чертыхается.
— Двадцать семь очков, — говорит Пеца и, не сдержавшись, фыркает.
— Ты что? — вдруг орет Женька и вскакивает, готовый драться. — Ты что?
— Ничего! Какой же дурак прикупает к казне?
— А тебе что? На твои играю?
Женька дрожит от злости и обиды. Но виноват не Пеца. Женька здорово проигрался.
— Бей!
— Шишки!
— Ваши с дыркой!
Васька-банкомет обходит круг и считает банк. В банке четвертка табаку, две воблы, десять тысяч дензнаков и на рубль царского серебра.
— Застук, — говорит Васька.
Все, притаившись, напряженно следят за Васькиными руками, раздающими карты. Тишина полная. Никто не говорит, но у всех одна мысль, одно желание: не дать Ваське сорвать банк.
Первый играет Пеца.
— На сколько? — спрашивает Васька, Пеца с несчастным видом смотрит на банк,
морщит лоб и что-то подсчитывает, беззвучно шевеля губами. Роман видит, как хочется Пеце сыграть «по банку». Наконец Пеца лезет за пазуху и достает со вздохом полфунта хлеба: Пеца только что получил паек за четыре дня. Пеце тяжело. Он смотрит нерешительно на хлеб, но ставить больше нечего, и, вздохнув, он кладет хлеб на кон.
Хлеб оценен в четвертку табаку.
Пеца берет карту. Играет осторожно. Прежде чем взять еще, — раздумывает, но все же проигрывает.
Очередь Роману. И Роману хочется сыграть по всем, но карта плохая. У него мелькает мысль, что если незаметно вытащить из комода матери пять пачек папирос, то это как раз будет полная ставка, но домой бежать некогда. Васька торопит. Тогда Роман вынимает последнюю пачку, оставшуюся в кармане, и кладет.
У Романа король. Еще карта — шестерка. Еще карта — девятка.
— Довольно!
Васька открывает свою. Десятка. Берет карту. Опять десятка. Роман отшвыривает пачку в общую кучу и говори Женьке:
— Сорви банк!
Все трое внимательно смотрят на Женьку. Роман искренне желает Женьке удачи. Женька долго не решается играть.
— Ну, скорее, — торопит Васька.
Наконец Женька говорит:
— Иду по всем, — и протягивает руку за картой, но Васька карты не дает. — Это много, брат, — говорит он. — Чем покривать будешь? — А тебе что? Выплачу!
— Так выставь!
— Выставлю, не бойся!
— В долг не играю.
Женька теряется, бледнеет.
— Откуда же я тебе возьму? Если проиграю, вечером отдам. Солью отдам.
Васька неохотно дает карту. Снова у Женьки перебор. Он с ругательством бросает карты и ничком кидается в траву.
Васька громко подсчитывает, сколько соли должен отдать Женька. Выходит не меньше полпуда. Ребята мрачно слушают и смотрят на Женьку.
— Слышишь? — спрашивает Васька. — Полпуда соли проставил.
Женька зашевелился, приподнялся. Смотрит устало на Ваську и, махнув рукой, говорит:
— Ладно, вечером отдам.
Женька идет домой. Ребята тоже расходятся. С Васькой никто не разговаривает, но он даже не замечает этого. Насвистывая, он раскладывает добычу по карманам.
Вечером Женька рассчитывается с Васькой. А ребята караулят на улице, пока в кузнице пересыпают соль.
— Здорово много соли упер, — безнадежно говорит Женька, прощаясь. — Как увидит батька, сразу запорет.
Соль понадобилась скоро. Тетя Катя поймала на рынке мужика, который менял муку на соль. Тетя Катя привела мужика на квартиру. Дядя Костя пошел за солью и увидел, что соли не хватает больше пуда. Мужику отдали соль, а когда он ушел, дядя Костя взялся за Женьку.
Два дня Женька стойко переносил брань и порку, а на третий день сдался и все рассказал. Женькин отец побежал к управдому. Едва управдом узнал, в чем дело, сейчас же вместе с кузнецом двинулся к Ваське.
— Теперь я его упеку, — ворчал он грозно. Но Васьки дома не оказалось.
Никто из ребят не видел Васьки с самого утра.
— Сбежал, наверно! Так пусть и не попадается на глаза, — сказал управдом. — Комнату от него отберем, сегодня же отмечу его, а если сам придет, в приют отправлю.
На этом порешили, и управдом уже хотел идти домой, как вдруг увидел Ваську. Васька шел из ворот, беззаботно насвистывал, а на плече у него болтался целый пук сушеной воблы.
— Ага, — многозначительно сказал управдом и направился навстречу Ваське.
В этот момент за Васькиной спиной показался младший дворник.
Ребята, перепуганные, ждали, что будет дальше.
— Влип! — сказал Пеца, когда управдом почти подошел к Ваське. Но Васька вдруг остановился. Васька как будто нюхом почувствовал надвигающуюся опасность.
— Лови! — заорал управдом дворнику и кинулся к Ваське.
Васька увернулся и хотел было бежать обратно, но, увидев дворника, попятился, и, когда казалось — все погибло и путь к бегству был отрезан, он вдруг кинулся в сторону, в один миг перебежал площадку и исчез в окошке подвала.
— Удрал! — захохотал Пеца, видя изумленное и яростное лицо управдома. — Фига найдешь его в подвале!
Но управдом не хотел сдаваться. Он ругался на весь двор. Вызвали милиционера, председателя домкомбеда и, окружив подвал, долго искали Ваську. Но найти не могли.
Васька исчез и больше не беспокоил управдома.
На другой день ребята нашли его на пустыре за работой. Васька укреплял заброшенную землянку большевиков — чинил крышу.
— Сдали твою комнату, — сказал Женька.
— Наплевать, — сказал Васька тряхнув головой. — Здесь проживу.
Ребята помогли Ваське построить заново шалаш и этот вечер вместе провели в гостях у Васьки.
Быстро промелькнуло куцее северное лето девятнадцатого года. Васька припеваючи жил в землянке. Он покрыл крышу землей, даже печку приладил, только боялся часто топить, чтобы не засыпаться. Устроил кровать из соломы и разного тряпья. Обзавелся хозяйством — приобрел солдатский котелок и чайник.
Роман и Женька каждый день приходили к Ваське. Больше некуда было ткнуться. Спиридоновы уехали в деревню. Иська совсем перестал показываться, потому что вечно был занят работой, а по вечерам ходил в какой-то клуб, куда и Романа не раз звал. Редко появлялся на дворе и Пеца. Худоногай умер. Улита после смерти мужа стала спекулировать. Ездила по деревням, меняла граммофонные пластинки и нитки на муку и масло. А с нею катался и Пеца на обшарпанных крышах «максимов».
Но благополучие Васьки длилось недолго.
Когда начали гвоздить обильные дожди, приуныл Васька. Обложенная землей, крыша его убежища не выдержала. Первый же сильный дождь застыл холодными лужами на полу Васькиной хижины. В землянке стало грязно и холодно. Стены отсырели, и с них комьями валилась глина.
Васька осунулся, ходил черный от грязи, вечно дрожал от холода и стал покашливать. Однако не сдавался, хотя нужда напирала со всех сторон. Продавать было нечего. Из всего имущества остался у Васьки один краденый карабин, да и тот покупать никто не хотел. Летом по городу прошли обыски, — отбирали оружие. Многие в доме прятали по подвалам сабли да револьверы. Найди в такое время покупателя! Уж Васька за две косушки отдавал Роману карабин. Цена грошовая, но Роман тоже побаивался, не покупал.
Ребятам было жалко Ваську, но жалеть открыто боялись: Васька сразу бы разругался с ними. А ругаться с Васькой было невыгодно. Васька умел добывать деньги.
По предложению Васьки ребята занялись торговлей. Торговали папиросной бумагой. В городе не было тонкой бумаги, а Васька нашел. Целые залежи открыл.
В подвалах остался архив Управления железных дорог, и в толстых делах было подшито много приказов, напечатанных на тонкой рисовой бумаге. Забравшись ночью в подвал, ребята выдирали листы папиросной бумаги, а днем ходили на барахолку и меняли бумагу на что придется.
Барахолка прижалась к самому вокзалу. Ближе к хлебу.
Весь город собирался сюда, поджидая прибытия дальних поездов, от которых за тысячу верст пахло печеным хлебом и мясом. Хитрые маклаки, брючники, чухонцы с мешками картофеля и жулики-марафетчики — все были здесь. Прямо на земле в грязи был разложен товар: часы, бинокли, жилетки, сапоги, крючки, замки, медные ручки. Какие-то дамочки в старомодных порванных шляпках предлагали молчаливым финнам граненые бокалы и веера. Брючники, молодые нагловатые парни с перекинутыми через плечо кипами товара, назойливо наседали на покупателя.
— Эй, браток! Есть брючки касторовые, есть брючки просторные! Есть венчальные, есть разводные…
— Сколько хочешь?
— Пять косух.
— Много.
— А сколько дашь?
— Любую половину.
Хор пьяных босяков, забравшись в самую гущу толпы, распевал каторжную песню:
Задумал я богу помолиться, Взял котомку и пошел, А солнце за реку садится, А я овраг не перешел.Ребята сидели на ступеньках около подъезда и подсчитывали, кто сколько продал. Подошел красноармеец. Шинель в дырках, папаха набекрень, лицо широкое, доброе.
— Продаете бумагу, огольцы?
— Продаем.
— А ну, давай всю! — сказал солдат и взял бумагу у Васьки. Посмотрел, улыбнулся — Мало.
И у Женьки забрал. И опять ему мало. Отдал и Роман свою. Заплатил солдат за всю бумагу полбуханки хлеба, а уходя, сказал:
— Коли будет, огольцы, еще бумага, так несите прямо в казармы. Знаете где?
— Еще бы не знать!
— Ну вот. Всегда возьмем, хоть сколько.
На другой день ребята, набрав бумаги, понесли ее в казармы. Не обманул красноармеец, всю бумагу купили в казарме, да еще накормили красноармейцы ребят кислыми щами. Наевшись, ребята не ушли из казармы, а остались слушать, как солдаты поют песню под гармонь. А Васька все с широколицым солдатом сидел, который бумагу в первый раз скупил у ребят, и что-то рассказывал ему.
Ребята стали ходить в казарму каждый день. Котелки с собой брали. Красноармейцы сливали в них жижку от супа.
К казарме привыкли быстро. Тепло было в больших комнатах, весело и людно.
Роман и Женька приносили солдатам папиросы, а Васька помогал дневальному и дежурным убирать казарму, подметал полы, бегал за кипятком. Всегда старался остаться подольше в казармах. Не хотелось возвращаться в землянку, где постоянно скапливались лужи, свистел ветер и была непролазная грязь.
Однажды пришли ребята по обыкновению к ужину в казармы, но в столовой никого не застали. Побежали в спальни. Там шел митинг. Главный комиссар говорил о наступлении Юденича, о том, что надо наступление отбить.
В этот вечер супу ребятам не дали. Красноармейцам убавили паек.
После ужина красноармейцы деловито связывались, чистились, готовились к походу. Из разговоров мальчишки поняли, что ночью полк уходит на Псков.
Выпал первый снег.
Проснувшись утром и увидев побелевший двор, Роман первым делом с испугом подумал о Ваське.
Одевшись, он побежал на пустырь, гадая, найдет там Ваську или нет.
Васька был там. Он сидел около землянки, почерневший за одну ночь. Сжавшись в комок и не в силах удержать трепавшую его лихорадочную дрожь, Васька звонко щелкал зубами. Глаза его блестели.
— Здесь спал? — с ужасом вскрикнул Роман. Васька молча кивнул головой и, бессильно,
по-стариковски пожевав губами, тихо сказал:
— Больше нельзя.
— А как же?.. — начал было Роман и замолчал.
Васька не отвечал.
Около него лежал небольшой узелок и палка. Землянка была полна грязи, и кровать совсем расползлась.
— Уходишь? — спросил Роман.
— Поеду…
— Куда?
Васька махнул рукой.
— Туда, на юг…
— Он сполз в землянку, покопался в разворошенной соломе и вынес карабин.
Карабин был грязен, как и Васька, залеплен глиной, ствол его изрядно заржавел…
Васька поковырял ногтем приставшую глину, потом, не глядя на Романа, тихо сказал:
— Купи… хороший карабин… за косушку отдам…
Роман взял карабин, даже покраснел. Полез в карман и все, что было — четыре тысячи керенками разными, — отдал Ваське.
Васька не взглянул на деньги. Сунул их в карман, поднял узелок, постоял еще немного, глядя на двор, потом протянул Роману черную, покрытую засохшей грязью руку.
— Прощай, — сказал он.
Роман молча пожал руку. Потом долго глядел, как Васька тихонько шел через пустырь, шлепая босыми ногами по не успевшим стаять белым пятнам первого снега. За ним оставалась извилистая лента больших черных следов.
Роман вздохнул и пошел в сарай закапывать Васькин карабин.
КОНЕЦ "СМУРЫГИНА ДВОРЦА
По утрам управдом Григорий Иванович сидел в домовой конторе и отогревал коченеющие пальцы около гудящей буржуйки.
— Значит, выезжаете?
— Стало быть, так.
— Куда же отмечать?
— На родину. В Новгородскую.
— А квартира, значит, пустая?
— Да уж пустая, позаботьтесь.
— Что ж заботиться, — хмурился управдом. — Заколотим, пусть бог позаботится.
И он гнал дворника за досками и гвоздями.
Потом оба шли в опустевшую квартиру, производили осмотр и заколачивали двери и окна.
Каждый день кто-нибудь выезжал.
Большой, когда-то густо заселенный двор затихал. Пустели квартиры, этажи.
В «Смурыгином дворце» занятыми остались только две квартиры. Давно перестала существовать артель мостовщиков. Не работала кузница. Изредка сам хозяин, придя в мастерскую, копался там, починяя какую-нибудь тележку, и робко звякал ручником.
Страшно стало ходить вечерами мимо пустынных корпусов. Жутью веяло от черных дыр дверей. Оставшиеся жители переезжали ближе к воротам, где еще теплилась жизнь. Все жались друг к другу, кое-как коротая скучные серые дни и долгие бессонные ночи. Сторожей не было, поэтому дежурство у ворот приходилось вести самим жильцам. Строго соблюдая очередь, жильцы выходили дежурить, закутываясь в несколько старых рваных пальто. Выходили по двое, по трое. Мужчины, женщины, молодежь.
С наступлением темноты крепко замыкались квартиры. Двери закрывались на засовы, припирались досками, запирались на французские, английские и обыкновенные замки, закидывались цепочками.
Иногда среди ночи оглушительно гремел колокол. Члены домкомбеда выскакивали во двор. На дворе начиналась беготня и крики. В окнах зажигались огни. Встревоженные жильцы сторожили у дверей, но никто не высовывался на лестницу, Потом тревога затихала, и все опять успокаивалось. А утром двор гудел, обсуждал какой-нибудь новый налет на потребиловку или кражу в квартире.
После отъезда бабушки дед совсем затосковал. Целыми днями спал или просто лежал в кровати, разговаривая сам с собой.
— Лежишь, так вроде как есть меньше хочется. А ходишь — аппетит разгуливаешь, а нонче это не годится. На четвертку не разгуляешься, — бормотал он, по обыкновению не обращая внимания на то, слушают его или нет. — Разве мыслимо жить человеку на четвертку хлеба?
Иногда дед начинал мечтать, не замечая, что этим раздражает всех.
— Вот и сейчас бы пшенной каши с маслицем поесть. Чума ж тя возьми! Вот бы Даша догадалась крупки прислать.
— Не больно шлет, — сердито обрывала мать, и дед с испугом замолкал.
Бабушка как уехала, так и пропала. Не было ни писем, ни посылки. Но дед ждал. Дед был уверен, что посылка придет, и через некоторое время начинал говорить о том, как придет посылка, как они развернут и найдут там орловские лепешки со сдобой.
Мать молча слушала его бормотанья и хмурилась.
— Довольно тебе! Иди-ка чай пить, — обрывала она обычно.
Дед, кряхтя, слезал с кровати.
— Чай так чай, — говорил он и, достав из ящика кухонного стола маленькую корочку хлеба, круто посыпал ее солью и пил чай. Пил долго и много, выпивая по нескольку больших кружек.
Когда пошел снег, дырявая крыша «Смурыгина дворца» совсем провалилась. Потолки в квартире покрылись черными сырыми пятнами. Рожновы переполошились.
Дед, обрадовавшись делу, проворно полез на крышу и целый день возился, наколачивая заплаты на проржавевшие листы железа.
Починив крышу, он с Романом вставил рамы и законопатил их паклей. Так приготовились встречать зиму.
— Теперь бы только дров побольше, — говорил дед. — Зиму без горюшка бы прожили, лежи, знай, да бока обогревай.
А в тот день к вечеру пришел Григорий Иванович.
— Уж не знаю, хорошее скажу или плохое, — сказал Григорий Иванович и, надев очки, достал из кармана бумажку. — Вот тут у меня протокол заседания. Правление постановило перевести вас в новую квартиру, потому что в «Смурыгином дворце» жить больше нельзя. Очень он стар.
— Бог с ней и с новой квартирой, — сказал дед, переворачиваясь на другой бок. — Никуда мы, Любаша, не поедем.
— То есть как же не поедете? Тут постановление. Не имеете права ослушаться.
— Нам и здесь хорошо. Все равно дом пустует.
— Не будет пустовать, — усмехнулся управдом. — И на это есть постановленьице. На дрова пойдет «Смурыгин дворец».
Пришлось переезжать.
Поселились на первом дворе, в пустовавшей квартире управляющего.
На другой день под воротами появилось объявление:
"Все жильцы дома не старше шестидесяти лет и не моложе пятнадцати обязаны явиться завтра утром в 9 ч. к деревянному флигелю. У кого имеются топоры, пилы или другие инструменты, пусть захватят таковые с собой.
Ровно в девять часов утра грянул вечевой колокол. Из квартир стали вылезать жильцы, неся с собой топоры, ломы, лопаты и пилы.
Никогда не было столько народу у «Смурыгина дворца». Собравшаяся толпа спорила сперва о том, как ломать, потом о том, сколько дров выйдет, потом о том, как их раздавать.
Порешили, что будут давать по количеству печей и работников.
Пришел представитель правления. Вместе с управдомом он долго ходил вокруг дома, примериваясь и тщательно обсуждая, откуда лучше начать разборку дома. Наконец скомандовал: «Начинай!»
Жильцы дружно ринулись ломать. В черные бревенчатые стены вонзились острые иглы ломов. Расковыряли крышу, стали скидывать железо. Посыпалась штукатурка, доски, перекрытия, бревна.
Работали с жаром, подгоняя друг друга. Дым и пыль от штукатурки тучей стояли над домом, а управдом, сидя на стене и размахивая топором, весело покрикивал сверху:
— Веселее! С дровами будем!
Кряхтел, стонал и охал старый дом, бревна отдирались со скрежетом, неохотно, как пластырь от наболевшей раны.
Наступил полдень, а разобрали только чердак. Работа двигалась плохо.
Тогда, снова посовещавшись, решили валить дом.
Закинули канаты на стену, закрепили их.
— Раз, два — дружно! — крикнули десятки
Рванули веревки. Еще раз рванули.
— Дружно! Дружно!
Крепкие толстые канаты трещали. Роман тоже тянул изо всех сил и смотрел на дрожащий и раскачивающийся верх стены. Стена качалась, с хлопаньем рвались скрепы, и бревна косились. Потом стена накренилась, оглушительно затрещала и, как живая, поползла вниз.
Когда пыль спала, открывая высокую груду обломков и бревен, Роман увидел вдруг свою комнату, увидел грязные, вылинявшие обои с пятнами там, где стояли кровать и сундук, увидел карту на стене, исчирканную карандашом. Ему показалось, что стены еще теплые. Роман глядел не отрываясь, не замечая, как закрепили веревки на другой стене. Управдом снова скомандовал: «Начинай!» — и вторая стена, закачавшись, начала валиться. Теперь поползла карта, лопались и трещали обои.
Скоро на месте, где стоял дом, возвышалась сплошная груда бревен, белых от известковой пыли. До позднего вечера ругались жильцы, распределяя дрова и растаскивая их по квартирам.
Роман ходил среди бревен, как среди могил. Ему стало грустно.
Потихоньку прошел в самую середину развалин и, сев на кирпичи, задумался.
— Дрова тоже! Гниль! — доносились голоса жильцов, деливших бревна. — И ломать-то не стоило.
Перепрыгивая с кирпича на кирпич и спотыкаясь, к Роману подобрался человек и остановился в нескольких шагах.
— Романка! Это ты?
По голосу Роман узнал Иську. Иська подошел ближе и сел рядом.
— А я как знал, что ты здесь, — сказал он и, помолчав, спросил: — Что, жалко?
— Жалко, — сказал Роман, довольный, что Иська почувствовал его горе. — Я родился ведь здесь.
— Да-а, — протянул Иська. — И я хоть не жил здесь, а тоже ведь жалко. Всё ломаем. Разруха потому что.
— Сволочи, — сказал Роман и вздохнул.
Иська встрепенулся.
— Кто сволочи? — спросил он вдруг.
— Известно кто! Кто ломает.
Иська тихонько свистнул.
— Ну, это ты брось. Ломают, потому что нечем жить. Подожди, дай оправимся — не будем ломать.
— А когда же оправимся? Все война…
— Кончится. Да и почему не ломать? Ведь дом-то все равно был старый. Жили-то вы в грязи небось да в сырости. А вот кончим войну, поколотим всех буржуев, тогда сами заживем как господа. Все хорошие квартиры займем. С электричеством будут квартиры, с уборными…
— Дожидайся, будут!
— И будут, — уверенно сказал Иська.
Роман посмотрел на него.
— Когда же?
— Когда советская власть окрепнет. Вот вернутся рабочие с фронтов, откроются заводы. Начнут строить новые дома. Да не такие, как теперь, а большие, чтобы всем хватило. В домах паровое отопление будет. Во как!..
Роман засмеялся. Больно интересно выходило.
— И откуда ты все это знаешь?
— Слыхал, — сказал Иська. — У нас в клубе лекцию читали про будущую жизнь. Профессор читал. Вот ходил бы — и тоже все знал бы. Верно, Романка, а? Приходи.
— Неинтересно…
— Да получше, чем у вашей генеральши было, когда азбуку учили… Ребят у нас много. Весело. А захочешь по-настоящему учиться, в союз молодежи запишешься.
— Скучно, если лекции…
— Не только лекции… Да ты приходи в клуб. Не понравится — уйдешь, а понравится — будешь ходить. У нас хорошо. Библиотека есть, гимнастикой можешь заниматься, козлы есть.
— Не знаю, — сказал Роман нерешительно. — Может, и приду… Только в клуб, а в союз не буду записываться.
— И не надо, — сказал Иська. — В союз не играть записываются, а работать. Если нет охоты, то не стоит. Союз готовит коммунистов для партии, так что тут желание нужно.
— А ты?
— Что я?
— Ты в союзе?
— Я в союзе, — гордо сказал Иська. — Я хочу быть коммунистом…
Роман встал. Встал и Иська.
— Пожалуй, приду, — сказал Роман, прощаясь.
КЛУБ МОЛОДЕЖИ
Рыжие казарменные здания вытянулись вдоль проспекта, как солдаты в строю, а с левого фланга, у собора, как унтер-офицер, возвышался белый особняк — офицерское собрание.
До революции в особняке устраивались раз в неделю полковые балы. В большом, отделанном позолотой зале офицерские жены танцевали вальсы и танго. Духовой оркестр из бородачей и молоденьких кантонистов, под командой дядьки — усердного унтера, трубил до изнеможения. В соседнем зале, поменьше, щелкали бильярдные шары.
После революции в особняке устроили солдатский клуб. Завесили стены красным, расклеили портреты Керенского, в углу сколотили эстраду.
Днем на эстраде выступали разные ораторы, убеждавшие голосовать за эсеров, кадетов, меньшевиков. Вечером солдаты приводили горничных, работниц, кухарок, уличных торговок и танцевали с ними «Беженку». Музыканты так же наигрывали вальсы и танго, и даже дядька-унтер так же усердно дирижировал, словно хотел выслужиться перед новыми хозяевами.
Потом клуб закрылся. В особняке устроили склад военных снаряжений, затем пункт для регистрации мобилизованных и наконец бюро по учету дезертиров.
Сразу постарел особняк за эти два года беспрерывной смены хозяев. Позолота на стенах осыпалась, и на высоту человеческого роста стены покрылись черными, сальными пятнами. От сырости на потолках выступили бурые подтеки и трещины. Потолки стали похожи на географические карты. Мягкая мебель с прорванными сиденьями, с отломанными ножками была свалена в швейцарскую, где, пережив всех хозяев, продолжал свою службу розовощекий старичок швейцар. Был он теперь и сторож, и владелец, и единственный жилец особняка. В теплые дни, по старой памяти, старичок вылезал на парадную и, сидя на табурете, кутался в обтертую синюю шинель с огромными медными пуговицами. В холод отсиживался в конуре, топил буржуйку мягкими стульями и ножками от бильярдных столов.
Однажды в особняк пришли три парня. Один высокий, плечистый, в длинной кавалерийской шинели, другой худенький, в пенсне, третий в валенках и продранной кожанке, суетливый и горластый.
— Ты кто? — спросил он сторожа, отыскав его в конуре около буржуйки.
Сторож подсунул под себя недоломанный стул, оглядел испуганно нового начальника и, оробев, сказал:
— Дрябкин Савастей, швейцар раньше был…
— Так, — строго сказал парнишка. — Будешь комендантом… — И помахал бумагой. — Грамотный? Читай!
— Неграмотный.
— Ну и не надо. Райком партии предписывает сдать тебе все имущество и здание под клуб коммунистической молодежи. Мы тройка по приему.
— Принимайте, — сказал испуганно сторож и мотнул рукой на груду обломков.
Парнишка смутился, что-то отметил в бумажке и сказал:
— Все принято.
Несколько дней клуб приводили в порядок. В большой зал вкатили двуногий рояль и подставив вместо третьей ножки табурет, установили его в углу. Два уцелевших бильярдных стола поставили во втором зале, отведенном под читальню. Третий стол, без ножек, новое правление постановило сломать, а зеленое сукно снять и передать коменданту Савастею Дрябкину, чтобы он сшил себе пальто, так как старое совсем износилось. Стоимость материала посчитать за жалованье.
Через некоторое время в клуб привезли на трех возах библиотеку, спортивный инвентарь и двух мраморных амуров. Все это благополучно разместили по разным комнатам.
Клуб был открыт.
Об открытии клуба Роман узнал от Женьки.
— Против нашего дома клуб устроили, — сказал однажды Женька Роману. — В офицерском собрании. Все ребята туда теперь ходят. Похряем смотреть.
Роман вспомнил, как Иська звал его в свой клуб. Роман давно собирался идти к Иське, но так как Иськин клуб находился далеко, около завода, то Роман все откладывал. И вдруг рядом открывается другой клуб, такой же, наверное, как и Иськин, а может быть, и лучше еще.
— Обязательно пойдем, — сказал Роман.
В тот же вечер пошли. Шумно и многолюдно было в клубе. В большом зале, грохоча сапогами, носились ребята, прыгали через козла, лазали по канату к потолку, вертелись на штангах. Рояль гремел не умолкая. Музыканты то и дело сменялись, беспрерывно барабаня одно и то же — то «собачий вальс», то «полечку-трясучку», или же хором орали:
Шарманчики-чики, Шарабанчики-чики.Тут же около рояля на большом ковре катались парами любители французской борьбы. Рядом с ними, надев на головы предохранительные сетки, состязались фехтовальщики. Они добросовестно молотили друг друга рапирами. От рапир летели искры. Лязг и скрежет железа еще сильнее разжигали бойцов, а вокруг стояли зрители и судьи, расценивая удары.
— Ничего ударчик!..
— Хороший ударчик…
Роману понравилась драка на рапирах. Он надел сетку и стал состязаться с Женькой. Женька сразу вошел во вкус. Раз треснул, два треснул. У Романа даже в ушах зазвенело, но стерпел. Изловчился и наотмашь плюхнул Женьку по черепу. Женька сразу позеленел.
— Ничего ударчик! — закричали вокруг. Потом ребята прыгали через козла, и Роман чуть не разбил нос. Лазали по канату к потолку, играли в чехарду, потом решили заняться французской борьбой и уже начали снимать пальто, но тут в зал вбежал парнишка в кожанке и валенках и закричал:
— Кружок Всевобуча, стройся!..
Сразу за ним пришел комендант Савастей и, кряхтя, стал отталкивать в угол козлы. Ребята помогали ему. Потом пришел военный в кавалерийской шинели. Был он высокого роста, светлоглазый и хотя очень молодой, но строгий.
Половина ребят уже построилась в шеренги, остальные стали смываться.
— Команда, смирно! — крикнул высокий.
— Кто это? — спросил Роман у стоявшего рядом парня.
— Товарищ Федотов, — сказал парень.
— А что он за штука?
— Инструктор…
— Лишние, выметайся, не мешай! — закричал парнишка в кожанке, подбегая к стоявшим у дверей ребятам. — А ты чего стоишь?.. — вскинулся он на Романа.
— Пуговочкин! — засмеялся Роман, протягивая ему руку. — Здравствуй, Пуговочкин… Не узнаешь?..
Парнишка поглядел на Романа и заулыбался.
— Здравствуй, Рожнов! Как попал к нам?
Пошли с Пуговочкиным в библиотеку. Пуговочкин рассказал, как после школы устроился в контору рассыльным и стал агитировать конторских мальчишек. Сколотил группу и в райком направился. Утвердили их как молодежную ячейку, а Пуговочкина взяли на учет и послали сюда организовывать работу клуба.
Рассказал и Роман про себя. Потом вместе с Пуговочкиным Роман и Женька кромсали буханку хлеба на сто порций и мазали порции повидлом.
По окончании занятий кружка в помещении библиотеки раздавали хлеб всем посетителям клуба.
Возвращаясь домой, Роман и Женька с увлечением напевали:
Шарманчики-чики, Шарабанчики-чики…— Завтра пойдем? — спросил Женька, прощаясь.
— Пойдем, — сказал Роман. — Я хочу в кружок поступить — стрелять учиться.
На следующий день они уже втроем пошли вклуб. Третий был Чемодан. Только на этот раз Роману не пришлось заниматься в кружке Всевобуча. Пуговочкин, поймав его, поручил сперва раздавать книги, а потом опять нарезали хлеб, уже без Пуговочкина, потому что Пуговочкин ушел слушать лекцию. Но когда в следующий вечер Пуговочкин снова хотел засадить Романа в читальню, он отказался и пошел в зал, где товарищ Федотов уже отдавал команду строиться. Роман встал на левый фланг.
— По порядку номеров рассчитайсь! — крикнул товарищ Федотов, и по длинному ряду, как искры, побежало:
— Первый! Второй! Третий!..
— Тридцать третий! — выкрикнул Роман, когда очередь дошла до него.
Женька и Чемодан не стали заниматься. Они решили, что выгоднее нарезать хлеб и мазать его повидлом.
ТРИ ПИСЬМА
За ночь напорошило снегу.
Утром Женька, встретив Романа, спросил:
— Санки есть?
— Есть.
— Большие?
— Порядочные, деревянные.
— Приходи после обеда с санями на площадку. Ладно? Поедем с тобой к вокзалу. Придет поезд, а тут саночки подкатишь и, пожалуйста, — свезешь багаж кому-нибудь. Только хлебом бери. Я хотел один, да одному скучно.
Часов в двенадцать Роман пришел на курорт и притащил санки — большие, крепкие, деревянные салазки. Женька ждал его. У него тоже были санки, но поменьше.
— Клёвые саночки, — сказал Женька, оглядев салазки Романа. — Очень подходящие.
— Ну идем, — сказал Роман.
Но Женька с места не сдвинулся. Он стоял неподвижно и глядел куда-то вперед, через плечо Романа. Роман повернулся и увидел направлявшегося к ним низкорослого солдата в рваной и длинной шинели. В руках у солдата была папка с бумагами. Солдат шел прямо к ним и улыбался.
— Васька! — крикнул Женька и побежал навстречу солдату.
Васька не спеша уселся на санки, ребята сели около него, с жадностью разглядывая товарища. Был он в военной форме. На голове большая фуражка, под шинелью виднеется серая форменка, на ногах русские сапоги. Через плечо надета сумка. Щеки у Васьки румяные и пухлые, как раньше.
— Где ты? Что делаешь? — спрашивали ребята.
Васька отвечал раздельно и важно:
— Жрать нечего было, а тут осень и жить некуда податься. Вот и решил тогда. Пошел к самому комбату. «Так и так, — говорю, товарищ командир, жрать нечего и жить негде, голову преклонить некуда. Возьмите добровольцем в армию». Комбат и согласился. «Если не врешь, — говорит, — возьму». И зачислил добровольцем. Теперь за курьера работаю.
Помолчал Васька, потом, поддернув сумку, добавил:
— Сегодня на фронт едем. Прощаться зашел.
В тот же вечер Васькин полк шел на вокзал
Шел весело, с музыкой и песнями, окруженный провожающими родными и знакомыми. Васька шел в последней роте и вместе с красноармейцами отчаянно пел:
Аль ты не видишь, Аль ты не слышишь, Аль ты не знаешь, Что я тебя люблю?..А рядом шли Роман и Женька, таща свои санки и с завистью и гордостью поглядывая на Ваську. Васька был их представитель.
На вокзале прощались недолго. И тут Васька чуть не сдался, больно подозрительно заблестели у него глаза. Но не заплакал.
— Пеце привет передайте, — сказал он, усмехаясь. — Скажите, что это я у него ремень стянул летом.
Ребята махали шапками и следили за вагоном, который надолго, а может быть и навсегда, увозил Ваську — старого друга детства, отчаянного хулигана и воришку, а теперь курьера седьмого пехотного полка Василия Трифонова.
Долго стояли ребята, бесцельно смотря вдаль, где уже исчез последний вагон и таяла темная ленточка дыма. Пути снова были пустынны, и только огни стрелок украшали синюю сумеречную дорогу.
— Вы чего стоите? — окликнул ребят проходивший носильщик. — Тикайте к первой платформе: дальний пришел.
Схватив санки, ребята вперегонки помчались к платформе.
Пассажиры вывалились из вагонов, увешанные мешками, корзинами, котомками и коробками, обливающиеся потом, но довольные. Тут же стояли саночники и наперебой предлагали подвезти багаж.
Роман и Женька врезались в кучу саночников.
— Есть саночки! — крикнул Женька.
— Куда прикажете? — не отставал Роман и лихо подкатил саночки под ноги какому-то мужику с огромным мешком. Мужик хотел поставить мешок на землю, но санки так ловко подвернулись ему под ноги, что мешок плюхнулся на доски. Мужик растерянно поглядел на Романа, заморгал глазами, собираясь выругаться.
— Куда прикажете?
Мужик подумал и махнул рукой.
— Вези на Шамшев переулок.
— На Шамшев? — спросил Роман и вспомнил деда, возившего щелок тоже на Шамшев переулок. — Два фунтика положите.
— Ладно, — сказал мужик.
Роман, напрягаясь до дрожи, сдернул сани с места и поволок их, как крепко запряженная лошадь, тяжело ступая в лужи.
Возвращался домой веселый и радостный. Не замечал пугливой тишины на улицах. Все хорошо, когда за пазухой лежит веская горбушка хлеба.
Роман только корочку отломил, маленькую. Остальное нес домой. Первый заработанный хлеб! Когда мужик резал хлеб огромным складным ножом, Роман впервые ощутил необыкновенное и новое для него чувство гордости. Он теперь работник, сам зарабатывает себе хлеб.
Быстро вбежал во двор, на лестнице очистил сани от снега и, толкнув дверь, вошел в квартиру.
Тотчас же ухо резнул крик. Кричал кто-то в комнате. Голос был хриплый, страшный и незнакомый.
Роман бросил санки в углу и с замирающим сердцем, предчувствуя недоброе, кинулся в комнату. Но, открыв дверь, он в ужасе отпрянул назад. С кровати, освещенной полосой желтого света лампы, на него смотрели остановившиеся стеклянные глаза деда. Лицо деда было перекошено страшной гримасой. Он корчился и извивался, взбивая одеяло, кусая подушки. Увидев Романа, дед поднял руку. Хриплый вой ударил в уши.
Роман взвизгнул. Зажмурившись, чтобы не видеть страшных глаз деда, кинулся через комнату.
Рядом в комнате нашел сестру. Она сидела в углу и, зажав уши, плакала.
— Он умирает, — всхлипывая, бормотала она. — А я боюсь подойти. У него страшное лицо.
Роман, щелкая зубами, придвинул стул к сестре и сел с ней рядом.
За стеной слышались то крик, то хриплый лай, то дикое рычание.
— Я не могу, — плакала сестра. — У него, наверно, язык отнялся. Может, ему пить надо, а я боюсь. У него лицо, ты видел?
Роман кивнул головой.
— А мама в прачечной. Я не могла выйти отсюда.
Оба сидели обнявшись, прислушиваясь к стонам.
Долго кричал дед, царапал стенку, выл. Иногда Роману казалось, что он встает и идет к ним. Оба вскрикивали и, закрыв глаза, ждали, что будет дальше. Потом крики стали тише, реже. Наконец все утихло.
— Пойди взгляни, — сказала сестра. — Может, он уснул.
Но Роман качнул головой.
— Пойди сама.
Он подошел к столу и при тусклом свете лампы, которая была почти пуста и уже мигала, стал рассматривать открытку. На карточке был изображен какой-то памятник в оранжевых лучах солнца. Около памятника стояла барышня с голубым летним зонтиком. Мысли Романа копошились в голове. Наконец он сообразил, что это письмо. Роман перевернул его и, с трудом разбирая, прочел:
«Привет мамульке!
Пишу из города Барнаула. Колчака прикончили. Скоро приеду в отпуск. Ждите. Целую всех.
Коля».
«От Кольки из Сибири», — радостно подумал Роман. Потом заметил, что на столе лежат еще два письма.
Открыл вторую бумажку. Это было извещение из военного стола.
Было оно напечатано на машинке.
Военный стол сообщает, что Ваш сын Александр Рожнов, служивший в латышском стрелковом полку, недавно скрылся из части, перейдя с двумя музыкантами границу.
Если таковой явится домой, то предписывается Вам немедленно сообщить в военный комиссариат.
Третья бумажка была из почтового отделения.
Василию Семеновичу Бакулину.
На Ваше имя получена посылка, за которой и предлагается явиться в почтовое отделение.
Хлопнула дверь. Роман поглядел на сестру. Оба прислушались. Кто-то вошел в соседнюю комнату. Походил. И вдруг за стеной тихо прозвучал голос матери:
— Господи помилуй!..
Через минуту мать вошла в комнату, где сидел Роман с сестрой, и тихо сказала:
— Дедушка умер.
Сестра заплакала. Роман стоял и глядел на повестку. В глазах расплывались буквы.
— А бабушка посылку прислала ему…
Лампа совсем гасла. Керосин был в другой комнате, но там лежал мертвый дед. Мать села. Долго сидели все трое, глядя на мигающий язычок пламени, уже не освещавший комнату, а только светившийся как уголек.
Мать гладила Романа по голове и тихо приговаривала:
— Одни мы теперь. Совсем одни…
Сестра все еще плакала. Роману тоже хотелось расплакаться, но он крепился.
— Проживем, — сказал он, прижимаясь к матери. — Я теперь работу нашел, не маленький. Сегодня два фунта хлеба заработал. Скоро на завод войду.
Сестра внимательно посмотрела на него, а мать недоверчиво качнула головой.
Роман почувствовал, что кончилось детство и начинается новая пора.
Три дня в неделю он будет с саночками встречать поезд, а в свободные дни станет ходить в клуб. Вступит в союз молодежи, будет учиться и работать на заводе, на том же самом, где работает Иська.
Огонек в лампе мигнул в последний раз и с
тихим треском погас. Мать дрогнувшим голосом сказала:
— А керосин там, в комнате.
— Я не пойду! — вскрикнула сестра. — Я умру от страха!
Тогда поднялся Роман.
— Я пойду, — сказал он твердо и, видя, что все молчат, решительно направился в комнату, где лежал дед. Взрослые мертвых не боятся.
ВРАГ У ВОРОТ
Ветер вырывался из-за угла и яростно трепал плохо приклеенный плакат, на котором был нарисован красноармеец. Красноармеец корчился и изгибался, а над ним корчились и изгибались крупные буквы. Буквы прыгали и прятались в складках плаката:
ВРА… У… ВОР…
ВРАГ… У… В…РОТ…
Когда ветер на минуту утихал, солдат на плакате переставал извиваться, а буквы выравнивались, как рота воинов после команды «смирно!»:
ВРАГ У ВОРОТ
Гонясь за расстроенными, измученными частями Красной Армии, быстро продвигалась вперед добровольческая Северо-Западная офицерская армия под командой генерала Юденича.
Тревожные, хмурые дни проводил Петроград. Одно за другим прекращали работу разные учреждения и спешно перевозили дела и имущество в Москву. Пустели улицы и дома. Население города таяло, как снег в сильную оттепель.
Перепуганные обыватели бежали из города, наполняя вокзалы, осаждая каждый отходящий поезд. Забивали платформы горами сундуков, мешков, корзинок с домашним барахлом. Рыча и ругаясь, дрались из-за каждого сантиметра свободной крыши вагона.
Бежали подальше от стрельбы, от голода. Учреждения не работали, но заводы продолжали дымить. Там работа не только не останавливалась, но даже усилилась. Заводы спешно выполняли военные заказы: готовили снаряды, винтовки, одежду и обувь для организующихся и прибывающих отрядов.
Спешно формировались и отправлялись на фронт новые боевые единицы, для того чтобы пополнить и привести в порядок расстроенные ряды Красной Армии.
На заводах и фабриках организовывались отряды обороны, но работа не прекращалась. Мобилизованные стояли у станков, перепоясанные патронными лентами. У станков лежали винтовки.
Вечером в клубе молодежи было собрание.
Комсомольцы, собравшись в читальне, слушали товарища Федотова. Товарищ Федотов не спеша говорил ребятам:
— Наши сдали Лугу. Это три часа езды от Петрограда. Положение создалось острое, скрывать нечего. Возможно, что белые подойдут и ближе, и Петрограду придется защищаться своими силами. Тогда долг каждого из нас помогать заводским отрядам. Петроградский комитет комсомола постановил объявить поголовную мобилизацию комсомольцев, организовать из них отряды самообороны, часть их влить в ряды армии, а часть оставить в городе…
Товарищ Федотов приостановился на минуту и внимательно оглядел сгрудившихся парней.
Никто не шевельнулся, никто не прервал его. Ждали…
Тогда он опустил голову и, глядя на Пуговочкина, строчившего протокол, отчетливо, словно диктуя, договорил:
— С сегодняшнего дня постановление вступает в силу. Все комсомольцы мобилизованы. Прикрепленные к заводским дружинам и районным отрядам должны быть на месте, прикрепленные к нашему кружку Всевобуча должны будут выделить дежурных по клубу и быть на месте, как только будет дан приказ. Командование отрядом поручено мне… Понятно?..
Ребята молчали, нахмурившись обдумывали речь товарища Федотова. Только кто-то тихо буркнул:
— Вполне понятно.
Инструктор надел папаху. Пуговочкин, шумно вздохнув, прихлопнул протокол промокашкой и поднялся.
— Собрание окончено. Вопросов нет?
Тогда заволновались, зашумели ребята.
— А винтовки нам будут? — крикнул кто-то.
— Без винтовок не повоюешь!
— Винтовки будут, когда нужда в них будет, — сказал товарищ Федотов. — А сейчас все в зал. Построиться. Сегодня идем на стрельбище — на практическую стрельбу.
— Ура-а!.. — заорали ребята
Пуговочкин схватил шапкуб и побежал тоже вниз, к подъезду, но, столкнувшись в дверях Романом, остановился.
— Слышал? Был на собрании?
— Был, — сказал Роман. — С самого начала.
— Вот, брат… Пойдем сейчас стрелять, — гордо сказал Пуговочкин.
— А мне можно? — спросил Роман.
Пуговочкин задумался.
— Ты ведь не комсомолец… Да чего там, пойдем, только на глаза Федотову не попадайся.
Стрельбище находилось на окраине города, на огромном поле, заваленном мусором.
Шел отряд по темным пустынным улицам с песнями. Комсомольцы, шагая в ногу, дружно орали:
Смело мы в бой пойдем…
На стрельбище их встретили несколько красноармейцев. Объяснив коротко, как обращаться с винтовкой, с прицелом, товарищ Федотов отошел в сторону, а первая пятерка, получив винтовки, заряжала их под наблюдением красноармейцев.
Стреляли по очереди в смутно видневшиеся белые мишени. Старательно прицеливались, долго не решаясь спустить курок, мазали.
Роман с нетерпением ждал своей очереди. Вот Пуговочкин взял винтовку, вот другой, рябенький комсомолец, торопливо вырвал винтовку из рук красноармейца. Еще один парень, отстреляв положенные пять патронов, передал винтовку красноармейцу, и красноармеец держал ее, не зная, кому давать. Тогда подошел Роман.
Красноармеец с сомнением оглядел его и ухмыльнулся. Роман испугался и, с испугу, что ли, заорал на красноармейца:
— Чего вылупился? Гони винтовку-то…
Красноармеец, продолжая ухмыляться, выпустил винтовку и достал обойму с патронами.
— Как же это ты будешь-то?
Винтовка была тяжелая, но Роман, напрягая все силы, старался обращаться с ней как можно свободнее.
Осторожно вставил обойму, защелкнул затвор и попробовал было приложиться, но дуло сразу опустилось книзу, как он ни старался удержать его.
Стало стыдно. Неловко было даже взглянуть на красноармейца, потому что тот, наверное, смеется. Но красноармеец вдруг перестал ухмыляться и ласково сказал:
— Стреляй с колена, пузырь. Легче…
Роман опустился на одно колено, приложился, задержал дыхание, ловя в прорезь мушки темное пятно мишени.
— Поймал? — спросил красноармеец.
— Да.
— Пали.
Ахнуло впереди, метнулся голубой огонек. Роман чуть не сковырнулся — так сильно в плечо и по челюсти ударило прикладом.
Красноармеец засмеялся.
Подошел товарищ Федотов.
— Ты что?
— Да вот… Храбрец ваш стреляет. Думал, в лужу клюнет, ан нет.
Товарищ Федотов взглянул на Романа, тоже улыбнулся, но ничего не сказал и отошел. — Ну валяй… Еще разок пальни, — сказал красноармеец, обращаясь к Роману.
Всю ночь глухо гудели далекие орудийные выстрелы, так что даже стекла тихонько дребезжали. Над затихшим темным городом безмолвно метались белые лучи прожекторов, ощупывая каждое облако, каждую щель в сером небе. Жужжали пропеллеры невидимых аэропланов, и неизвестно было, свои это или уже белогвардейские.
Новое туманное утро рассеяло ночные тревоги. Засветло расклеенные на углах газеты как-то бодро сообщали, что хотя белые все еще наступают, победа останется за рабочими Петрограда.
Целый день Роман с Женькой и Чемоданом бегали по городу, разглядывая укрепления, возводимые на перекрестках и углах проспектов.
На улицах все было по-новому. Стало много военных, много оружия и совсем почти исчезли очереди.
С трудом дождавшись вечера, Роман побежал в клуб. Он звал и Женьку, и Чемодана, но те, переглянувшись, отказались. Роман догадался. Они побаивались.
Около клуба стоял автомобиль. Когда Роман подошел, два красноармейца с Пуговочкиным носили винтовки в клуб.
— Помогай, — крикнул Пуговочкин, увидев Романа.
Роман охотно взялся за работу. Но винтовок было немного. Всего тридцать штук.
— Это для нашего отряда, — объяснил Пуговочкин, устанавливая ружья в стойку.
— А мне дадут? — спросил Роман.
— He знаю, — сказал Пуговочкин, не глядя на товарища. — Если хватит, — дадут.
В восемь часов весь отряд уже был в сборе. Комсомольцы были угрюмы и озабочены. Они подходили к винтовкам, осторожно трогали их, но не брали из стойки.
Наконец пришел Федотов, скомандовал построиться. Выстроились моментально и затихли. Роман тоже встал.
— Ребята! — сказал товарищ Федотов. — Районный штаб выделил тридцать винтовок, поэтому численность отряда определяется в тридцать человек. Вас тут больше…
Федотов оглядел ряды, как бы проверяя каждого, и, медленно выговаривая слова, закончил:
— Желает ли кто-нибудь остаться дежурить при клубе? Пусть выйдет из строя.
Никто не шевельнулся. Только тише стало. Федотов нахмурился.
— На всех винтовок не хватит, ребята. Если не выйдете сами, я буду отбирать…
Опять молчание, и только одинокий голос прозвучал мрачно:
— Отбирайте.
Тогда Федотов отошел на фланг и, оттуда осматривая каждого строго и внимательно, стал обходить строй.
— Комсомолец?
— Нет.
— Выйди.
Парень, виновато оглядев товарищей, вышел и стал к стенке. А Федотов продолжал осмотр, изредка говоря:
— Выйти.
У стенки уже собралось человек семь, а Федотов отводил одного за другим и приближался к Роману.
— Рядом с Романом стоял рябенький парнишка. Он оглянулся на Романа и тоскливо прошептал:
— Выгонит.
Федотов остановился около них. Словно по команде, Роман и рябенький приподнялись на цыпочки…
— Выйди… Оба выйдите, — сказал Федотов и оглядел поредевшие ряды. — Пожалуй, хватит. Сколько осталось?
Все стали громко считать. И Роман считал и насчитал двадцать девять. Но только хотел крикнуть, как рябенький торжествующе завопил:
— Одного не хватает!
— Тогда… — сказал товарищ Федотов и, поглядев на стоявших перед ним Романа и рябенького, спросил Романа: — Комсомолец?
— Нет.
— Я комсомолец! — крикнул рябенький.
— Становись в строй, — скомандовал товарищ Федотов. — Взять винтовки.
Забракованных было человек двенадцать. Они стояли в стороне, с завистью поглядывая, как комсомольцы разбирали винтовки и строились.
— Все, кто получил винтовки, останутся в клубе на всю ночь. Остальные могут идти домой.
Город жил напряженной, тревожной жизнью без сна и отдыха.
Под гул далекой орудийной канонады росла на черных перекрестках колючая паутина проволочных заграждений. Взад и вперед носились ревущие грузовики, наполненные рабочими и красноармейцами. В окнах домов, заложенных мешками с песком, можно было угадать настороженные глаза пулеметов и винтовок, направленных в одну сторону — к Нарвской заставе.
Выйдя из клуба, Роман отправился домой. Мать и сестра уже сидели за столом. Ужинали. Роман тоже сел.
Похлебали овсяной похлебки с дурандовыми лепешками, потом мать дала Роману и Аське по две сырых картофелины. Разрезав свои картофелины тоненькими ломтиками, они жарили их на плите. Поджаренные ломтики мороженой картошки были сладковаты и напоминали мацу. Как ни старался Роман есть медленнее, все же уничтожил свою порцию раньше, чем сестра.
У Романа была еще печенка. Днем, когда привозили мясо в потребиловку, он ухитрился отрезать большой кусок — с фунт.
Роман не хотел показывать печенку сестре. Но сестра так аппетитно чавкала, что у Романа челюсти заныли от голода. Не вытерпев, он сбегал в прихожую и достал из-за сундука печенку. У Аськи глаза расширились от зависти. Она торопливо доела картошку и следила за Романом. Роман взял нож и разрезал печенку на три равные части.
Один кусок отдал сестре, другой — матери, третий стал жарить сам.
— Я тебе завтра воблину куплю, — сказала растроганная сестра.
Поджаренная на плите печенка имела какой-то странный, не мясной вкус, но все же Роман съел ее с удовольствием.
Мать поела, убрала посуду, смела со стола сор и, увязав белье, сказала:
— Я иду в прачечную. Следите за лавкой, не привезут ли хлеба.
Она уже уходила, когда в дверях столкнулась с управдомом.
— Окопы рыть, — сказал управдом. — Кто желает, записывайтесь. Идти к Путиловскому заводу, к десяти часам. За работу по фунту хлеба.
— Фунт хлеба? — мать бросила узел. — Кому-нибудь надо идти.
— Я пойду! — живо сказала сестра.
— И я пойду, — сказал Роман.
Управдом усмехнулся.
— Маловат, хлеба не поешь столько.
Сестра быстро оделась и убежала, хлопнув дверью.
— В лавке не прозевай хлеб, — напомнила еще раз мать и тоже ушла в прачечную.
Роман остался один.
В квартире сразу стало тихо и скучно и немножко страшно. За дверью в прихожей что-то шуршало. По плите ползали тараканы и с шумом шлепались на пол. В трубе посвистывал ветер.
Роман сел на теплую еще плиту и долго прислушивался к разным шорохам да к стрельбе за окном.
Потом невтерпеж стало. Соскочил. Походил по комнате, посвистал. Остановился у окна.
Во дворе была темень непроглядная, но то и дело слышались шаги, разговор.
Роман сорвал с крючка солдатский ватник, накинул на плечи и выскочил во двор, а со двора — на улицу.
Улицы были пустынны. Только около освещенных дверей потребиловки стояла толпа. Толпа ругалась с заведующим лавкой. Завлавкой, в рваном переднике, надетом поверх зеленой военной тужурки, кричал в толпу, загораживая выход:
— Не выдаем хлеб сегодня! Завтра все получите! Завтра!
— Нет, не завтра! Ты сегодня давай! — кричали из толпы. — Может, вас завтра перевешают, а мы ждать не намерены.
Кричали все — мужчины, женщины, старухи, плакали ребята.
— Пустят вас завтра в развес!.. Достукались! Из ворот торопливо вышла группа мужчин.
Среди них был председатель правления и все коммунисты дома. Через плечо у каждого была перекинута винтовка.
Группа быстро прошла мимо затихшей на мгновенье толпы.
— Это наши большевики, — прошипел кто-то. — Тоже вояки!
В этот момент из подворотни выбежал еще один парень с маленькой кавалерийской винтовкой и, шлепая по сырому снегу, побежал вслед за остальными. Роман узнал Иську и догнал его.
— Ты куда? На фронт?
Иська пожал протянутую руку и с оттенком гордости сказал:
— На караул. Завод охранять пока, а если надо будет, то и на фронт.
Роман потоптался. Было до смерти завидно. Хотелось тоже чем-нибудь похвастаться.
— А я в клуб хожу тоже, — сказал он, но Иська не слушал, уже бежал.
— Во Всевобуче занимаюсь! — крикнул Роман ему вслед и грустный пошел к дому.
На улице сразу стало неинтересно. Да и в квартиру было возвращаться противно. Нет. Он не пойдет домой. В такой день, когда полгорода на фронте и когда гремят совсем рядом орудия, он не может сидеть дома. Роман пойдет к Путиловскому заводу, туда, где копает окопы сестра. Он ее встретит. Они вместе придут домой пить чай с заработанным хлебом.
В этот вечер черные, без фонарей улицы города походили на кладбищенские дорожки, а дома выглядели склепами — так тихо и безжизненно стояли они. На улицах было пусто.
На башенке Варшавского вокзала тускло освещенные часы показывали половину первого. В другое время Роман едва ли решился бы уходить из дома так поздно, но сегодня почему-то казалось, что надо ходить всю ночь.
На Обводном подул резкий ветер. Здесь по сравнению с центром было многолюдно и оживленно. Чем ближе к заставе, тем больше людей. Все они шли в одном направлении. У многих за плечами поблескивали винтовки. Попадались группами женщины с лопатами, кирками и метлами.
У Нарвских ворот около пролетов стояли две только что установленные бронебашни с орудиями. Огромный корпус напротив был заложен мешками с песком, и везде стояли группы вооруженных рабочих.
На Петергофском шоссе было оживленно, как в полдень на Невском. Громыхали повозки, быстро проезжали автомобили, шли рабочие и солдаты. Ехали верховые, и изредка гремели броневики.
Роман шел вперед и глядел во все стороны, жадно схватывая каждую мелочь, боясь пропустить что-нибудь интересное. Все суетилось кругом, двигалось, жило, и каждый чувствовал себя участником этого тревожного бега.
Роман незаметно дошел до путиловской часовни. Дальше было черное шоссе с полуразрушенными домами по одной стороне. На другой стороне темнели огромные пустыри. На этих пустырях мигали, как светлячки, десятки фонарей. Желтые огненные точки двигались по всем направлениям. Подойдя ближе, Роман увидел, что все поле полно работающими. Женщины рыли окопы, насыпая невысокие валы, мужчины возили тачки с землей. Около каждой группы стоял распорядитель с фонарем в руках.
Пройдя немного вперед, Роман увидел линии совсем готовых окопов, около которых красноармейцы устанавливали проволочные заграждения. Здесь было тише и пустыннее. Зато громче доносились орудийные выстрелы.
Роман ходил среди работавших, отыскивая сестру. Ее нигде не было. Рабочие собирали инструменты, и кто-то кричал тихонько:
— Смена, кончай!
— Сдать лопаты! — командовали начальники.
— Хлеб привезли! — вдруг закричал кто-то рядом с Романом. — К часовне, хлеб получать!
Роман побежал вместе со всеми к часовне. Там, содрогаясь и пыхтя, стоял грузовик, а вокруг него — огромная толпа рабочих. Старосты уже выкликали по спискам рабочих. Получив хлеб, они отходили прочь.
Роман хотел протискаться вперед, думая увидеть сестру, но его стали толкать.
— Ты чего тут трешься? — крикнула какая-то тетка в рваной шинели. — Не работал, а за хлебом лезешь…
— Никуда я не лезу, — сказал Роман и отошел в сторону.
Стало обидно и завидно и совсем не интересно, потому что был он тут лишним и только мешал.
Роман тихо поплелся назад.
Мимо него проходили женщины, пересмеиваясь и громко разговаривая. Навстречу им шли другие, с кирками и лопатами.
Быстро прошел отряд рабочих. За плечами у них тускло отсвечивали дула винтовок.
Увидев винтовки, Роман вспомнил клуб, отряд Всевобуча.
«Сейчас в клубе все, а может, уже и на фронте или у заставы, — подумал он. — Если б не рябенький, была бы у меня винтовка».
Вдруг Роман остановился.
«Ах, черт!.. А карабин? Васькин карабин!»
Роман сорвался с места и помчался как бешеный по Обводному.
Он бежал, не замечая луж, не чувствуя ветра, смахивая с лица выступающий пот.
Роман пробежал через двор прямо на пустырь. Там было черно и страшно. Непонятными дикими фигурами торчали разрушенные стены военных сараев. На крыше лязгало железо. Неплотно прикрытые двери поскрипывали и пищали.
Но Роман переборол страх. Он вбежал в сарай и остановился в полной темноте.
Припомнив место, он осторожно чиркнул спичкой и пошел в угол сарая. Спичка погасла. Роман нащупал стенку, опустился на колени. Снова чиркнул спичкой и весело свистнул. У стены, небрежно прикрытый кирпичами, поблескивал маленький карабин — наследство Васьки Трифонова.
Не думал Роман, когда закапывал, что так скоро понадобится Васькин карабин.
Обжигая руки о холодную сталь, вытащил карабин, стер рукавом грязь, облепившую его, и, спрятав его под ватник, понес домой.
Дома положил карабин в прихожей под сундук, потом, успокоенный и радостный, пошел в комнату.
Скоро пришла мать, а потом и сестра.
Морщась и вздыхая, она стала разбирать постель и раздеваться. Роман все ждал, когда сестра достанет хлеб. Но сестра так долго молчала, что даже мать, не вытерпев, наконец спросила:
— Ну, а хлеб-то дали?
— В том-то и дело что нет, — сказала сестра. — Деньгами, сказали, отдадут завтра.
Роман вздрогнул. С изумлением взглянул на сестру, думая, что она шутит, но сестра раздевалась, сидя на кровати, и не поднимала глаз.
— Ну, нечего делать, — вздохнула мать. — А мы на тебя надеялись, думали чай пить.
Уже засыпая, Роман, усмехнувшись, беззлобно подумал: «Зачем давал ей печенку?»
Всю ночь гудела орудийная канонада. Роман ее слышал даже сквозь сон. Но утром наступила необыкновенная тишина.
Вскочив, Роман прежде всего побежал на угол, где уже висел серый лист газеты. Около газеты толкалось несколько человек, хмуро и внимательно проглядывая сообщение. Роман еще издали прочел огромные буквы:
ВСЕ НА ФРОНТ!
КРАСНОГО ПИТЕРА ВРАГАМ НЕ ВИДАТЬ!
ПЕТРОГРАДСКИЙ СОВЕТ МОБИЛИЗОВАЛ ВСЕХ СВОИХ ДЕПУТАТОВ…
ФОРМИРУЙТЕ ОТРЯДЫ!
НА ФРОНТ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО! ВСЕ ПРИЗВАННЫЕ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ
НЕМЕДЛЕННО ЯВИТЬСЯ В ЗАВОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ ОТРЯДЫ…
Роман читал, чувствуя, как сильно бьется сердце, а рядом вполголоса говорили:
— Не отстоять!.. Где там!
— Пулково взяли, а Пулково — это ж рукой подать…
«Пулково взяли, — думал Роман. — Здорово прут…» И тут вдруг догадался, почему тихо так в городе: не ходили трамваи.
Сестра ушла на работу, мать — в город, купить что-нибудь. Оставшись один, Роман достал карабин, сбегал на кухню за наждачной бумагой и, с трудом разобрав затвор, долго скоблил и протирал его, начищал дуло и продувал ствол. Потом отлил из лампады масла и, смочив им обильно части затвора, долго прилаживал все на место.
Наконец карабин был собран.
Стало смеркаться. Отгудели гудки.
Пришла мать, сестра. Обедали. А на дворе уже совсем стемнело и снова гулко грохотали выстрелы.
— Сегодня спать нельзя, — сказала сестра.
— Почему?
— А мало ли что? Вдруг белые… У нас говорили, что сегодня обязательно будет бомбардировка.
Роман вскочил, накинул ватник, шапку.
— Сидел бы дома! — крикнула мать, но он уже был в прихожей.
Вытащил карабин и с карабином в руках выбежал на улицу. Тут оправился, перекинул ружейный ремень через плечо и ровным, широким шагом пошел в клуб.
В клубе было грязно и дымно. Несколько сонных комсомольцев бродили по комнатам, остальные спали — кто на скамьях, кто прямо на полу, подложив под голову тяжелые ковры. На Романа никто не обратил внимания, и он, пройдя в читальню, снял карабин и, положив его на подоконник, стал рассматривал журналы, валявшиеся где попало, изредка поглядывая на ребят и прислушиваясь к разговорам.
Тревожное напряженное ожидание всех утомило. Даже разговаривали мало. Те, кто не спал, сидели осоловевшие, с красными, воспаленными глазами. Много курили. Некоторые вяло грызли сухари, полученные на паек.
Кто-то сел за рояль, тихонько забренчал.
У кого картошки нет, Заявите в комитет, В комитете разберут И картошку вам дадут…— Заткнись! — заорали на него. — Заткнись со своей картошкой!
А за окном совсем ясно грохотали орудия, и при каждом выстреле ребята, морщась, ругались.
— Фу, черт!.. Сидишь, как в дыре… Ни поспать покойно…
— Так и просидим до победы. Видно, без нас расщелкают Юденича…
Но часов в десять в канцелярии клуба, где сидел товарищ Федотов, пронзительно зазвенел звонок телефона.
Не успел еще товарищ Федотов принять телефонограмму, все уже знали: вызывают.
Не дожидаясь команды, отряд быстро выстроился в зале, и, как вчера, Роман снова встал на левом фланге.
Вышел товарищ Федотов.
— Ребята, — сказал он озабоченно. — Дошла очередь до нас. Белые у Лигова и продвигаются вперед.
Все молчали.
— Во черт… — тихо вздохнул кто-то.
— Райком снимает заводские дружины на фронт. Наш отряд направляется на охрану, десятками. Первый десяток идет с товарищем Савченко, — он указал на рослого рыжего парня. — К нему назначаются Ивановский, Теркин, Харламов…
Названные десять отошли. Федотов поговорил с Савченко. Тот весело улыбнулся, кивнул головой и откозырял:
— Есть, командир. Пошли, ребята!
Ребята, громыхая прикладами, шумной ватагой потопали за Савченко. Внизу хлопнула дверь, и все стихло.
— Во втором отряде с товарищем Власовым будут…
И Федотов снова прочел список десятка, и каждый отвечал: «Есть».
Через десять минут второй отряд ушел куда-то сменять посты.
Федотов оглядел оставшуюся кучку, взглянул в список и мотнул головой.
— Остается девять человек. Я десятый. Вы пока со мной.
И все бы сошло благополучно, если бы не рябенький парнишка.
— Десять! — крикнул рябенький, беспокойно перебрав глазами оставшихся. — Десять, товарищ Федотов, вы одиннадцатый…
— Как так?
— Да так…
— Ушло двадцать?
— Двадцать…
— Винтовок было тридцать?
— Тридцать, совершенно верно…
— Ну?
— А нас все-таки одиннадцать! — радостно крикнул рябенький и сам удивился.
— В чем дело? Кто лишний?
— Я лишний, — сказал Роман тихо.
— Правильно, совершенно верно! — закричал рябенький. — Он и есть лишний, и винтовка не наша — ишь какой окурок.
Товарищ Федотов нахмурился, тяжело посмотрел на Романа и сказал:
— Пойдем в канцелярию…
В канцелярии Федотов уселся за большим столом и закрыл плотно двери.
Взял карабин от Романа, долго разглядывал его, потом, подняв голову, спросил:
— Где взял, шкет? Отвечай!..
Роману скрывать было нечего, выложил все начистоту: когда, где сперли карабин и за сколько тысяч перекупил его у Васьки.
Товарищ Федотов выслушал внимательно, записал.
— А сколько лет тебе?
— Четырнадцать лет.
— Комсомолец?
— Нет
— А как же ты в отряд норовишь? Больно молод, да еще не комсомолец. Так нельзя.
Роман растерялся, посмотрел на Федотова робко и сказал:
— Товарищ Федотов… возьмите… Я уж…
Но тот не дал докончить, устало махнул рукой.
— Впрочем, можно… Но карабин отберем в казну.
Вылетел из канцелярии Роман красный, радостный…
Хотелось всем сразу рассказать, что товарищ Федотов оставил его в отряде, однако слушателей не нашлось… Ребята снова дремали по углам.
Наступила ночь. Тягостно бежали минуты.
За окном на черном небе бледно ползал луч прожектора, глухо ухали пушки.
Ребята все спали, кто обняв винтовку, кто положив ее под голову. Дружный храп иногда даже заглушал далекий орудийный гул.
Из канцелярии доносился шорох бумаг. Товарищ Федотов жег какие-то списки.
На клочке бумаги в углу была нарисована чья-то рожица. Роман взял вставку и подрисовал к рожице туловище, ноги, ружье… Потом задумался. Долго сидел, что-то соображая, наконец решительно перечеркнул человечка и пониже написал:
«Заявление в комитет молодежи».
Опять перечеркнул и снова:
«Заявление в союз молодежи».
И, уже не отрываясь, быстро написал: «Прошу союз принять меня в комсомол, для того чтобы я мог…»
В канцелярии зазвенел резко звонок телефона, и в тишине голос Федотова коротко прозвучал:
— Хорошо… Выступаем…
Роман сложил начатое заявление и, сунув в карман, стал будить ребят. Все вскакивали сразу и, схватив винтовку, бежали вниз. Только рябенького долго пришлось будить. Он все мычал и не просыпался, а потом быстро открыл глаза, посмотрел на Романа и весело спросил:
— И ты с нами, окурок?
— Факт! — улыбнулся Роман и поправил сползающий с плеча карабин.
Григорий Белых, Алексей Пантелеев Республика Шкид
Посвящаем эту книгу товарищам по школе имени Достоевского.
Авторы.Об этой книге
Первой книге молодого автора редко удается пробить себе дорогу к широкой читательской аудитории. Еще реже выдерживает она испытание временем.
Немногие из начинающих писателей приходят в литературу с уже накопленным жизненным опытом, со своими наблюдениями и мыслями.
Одним из счастливых исключений в ряду первых писательских книг была «Республика Шкид», написанная двумя авторами в 1926 году, когда старшему из них — Г. Белых — шел всего лишь двадцатый год, а младшему — Л. Пантелееву — не было еще и восемнадцати.
Вышла в свет эта повесть в самом начале 1927 года, на десятом году революции. Все у нас было тогда ново и молодо. Молода Советская республика, молода ее школа, литература. Молоды и авторы книги.
В это время впервые заговорило о себе и о своей эпохе поколение, выросшее в революционные годы.
Только что выступил в печати со звонкой и яркой романтической повестью, озаглавленной тремя загадочными буквами «Р.В.С.», Аркадий Голиков, избравший впоследствии псевдоним «Аркадий Гайдар». Это был человек, прошедший суровую фронтовую школу в тогда еще молодой Красной Армии, где шестнадцатилетним юношей он уже командовал полком.
Авторы «Республики Шкид» вошли в жизнь не таким прямым и открытым путем, каким вошел в нее Гайдар. Оттого и повесть их полна сложных житейских и психологических изломов и поворотов.
Эту повесть написали бывшие беспризорные, одни из тех, кому судьба готовила участь бродяг, воров, налетчиков. Осколки разрушенных семей, они легко могли бы докатиться до самого дна жизни, стать «человеческой пылью», если бы молодая Советская республика с первых лет своего существования не начала бережно собирать этих, казалось бы, навсегда потерянных для общества будущих граждан, сделавшихся с детства «бывшими людьми».
«Их брали из «нормальных» детдомов, из тюрем, из распределительных пунктов, от измученных родителей и из отделений милиции, куда приводили разношерстную беспризорщину прямо с облавы по притонам… Пестрая ватага распределялась по новым домам. Так появилась новая сеть детских домов-школ, в шеренгу которых стала и вновь испеченная «Школа социально-индивидуального воспитания имени Достоевского», позднее сокращенная ее дефективными обитателями в звучное «Шкид».
Должно быть, это сокращенное название, заменившее собою более длинное и торжественное, привилось и укоренилось так скоро потому, что в новообразованном слове «Шкид» (или «Шкида») бывшие беспризорники чувствовали нечто знакомое, свое, созвучное словечкам из уличного жаргона «шкет» и «шкода».
И вот в облупленном трехэтажном здании на Петергофском проспекте приступила к работе новая школа-интернат.
Нелегко было обуздать буйную ораву подростков, сызмала привыкших к вольной, кочевой, бесшабашной жизни. У каждого из них была своя, богатая приключениями биография, свой особый, выработанный в отчаянной борьбе за жизнь характер.
Многие воспитатели оказывались, несмотря на свой зрелый возраст, наивными младенцами, очутившись лицом к лицу с этими прожженными, видавшими виды ребятами. Острым, наметанным глазом шкидцы сразу же находили у педагога слабые стороны и в конце концов выживали его или подчиняли своей воле. На ребят не действовали ни грозные окрики, ни наказания. Еще рискованнее были попытки заигрывать с ними. Сам того не замечая, педагог, подлаживавшийся к ребятам, становился у них посмешищем или невольным сообщником и должен был терпеливо сносить не только издевательства, но подчас и побои.
Всего лишь нескольким воспитателям удалось — да и то не сразу — найти верный тон в отношениях с питомцами Шкиды.
Но, в сущности, упорная борьба двух лагерей длится чуть ли не до самого конца повести. Один лагерь — это «халдеи», довольно пестрый коллектив педагогов во главе с неистощимым изобретателем новых тактических приемов и маневров, заведующим школой Викниксором. Другой лагерь — орда лукавых и непокорных, ничуть не менее изобретательных шкидцев.
То одна, то другая сторона берет верх в этой борьбе. Иной раз кажется, что решающую победу одержал Викниксор, наконец-то нашедший путь к сердцам ребят или укротивший их вновь придуманными суровыми мерами. И вдруг шкидцы преподносят воспитателям новый сюрприз — такую сногсшибательную «бузу», какой не бывало еще с первых дней школы. В классах и залах громоздят баррикады и учиняют дикую расправу над «халдеями».
Шкида бушует, как разгневанная стихия, а потом также неожиданно утихает и снова входит в прежние границы.
На первый взгляд, герои Шкиды — бывалые ребята, прошедшие сквозь огонь, воду и медные трубы, отчаянные парни с воровскими повадками и блатными кличками — Гужбан, Кобчик, Турка, Голый барин (шкидцы переименовали не только свою школу, но и друг друга, и всех воспитателей).
Но стоит немного пристальнее вглядеться в юных обитателей Шкиды, как под лихими бандитскими кличками вы обнаружите искалеченных жизнью, изморенных долгим недоеданием, истеричных подростков, по нервам которых всей тяжестью прокатились годы войны, блокады, разрухи.
Вот почему они так легко возбуждаются, так быстро переходят от гнетущей тоски к исступленному веселью, от мирных и даже задушевных бесед с Викниксором — к новому, еще более отчаянному восстанию.
И все же нравы в республике Шкид с течением времени меняются.
Правда, это происходит куда менее заметно и последовательно, чем во многих книгах, авторы которых ставили себе целью показать, как советская школа, детский дом или рабочая бригада «перековывает» опустившихся людей. Казалось бы, неопытные литераторы, взявшиеся за биографическую повесть в восемнадцати-девятнадцатилетнем возрасте, легко могли свернуть на эту избитую дорожку, быстро размотать пружину сюжета и довести книгу до благополучного конца, минуя все жизненные противоречия, зигзаги и петли. Но нет, движущая пружина повести оказалась у молодых авторов тугой и неподатливой. Они не соблазнились упрощениями, не сгладили углов, не обошли трудностей.
Перед нами проходит причудливая вереница питомцев Шкиды разного возраста и происхождения.
Даже самих себя Л. Пантелеев и Г. Белых изобразили с беспощадной правдивостью, лишенной какой бы то ни было подкраски и ретуши.
Сын вдовы-прачки, способный, ловкий, изворотливый Гришка Черных, по прозвищу Янкель, рано променял школу на улицу. С жадностью глотает он страницы «Ната Пинкертона» и «Боба Руланда» и в то же время занимается самыми разнообразными промыслами: «обрабатывает двумя пальцами» кружку с пожертвованиями у часовни, а потом обзаводится санками и становится «советской лошадкой» — ждет у вокзала приезда мешочников, чтобы везти через весь город их тяжелый багаж за буханку хлеба или за несколько «лимонов».
А вот другой шкидец, одетый в рваный узкий мундирчик с несколькими уцелевшими золотыми пуговицами. До Шкиды он учился в кадетском корпусе.
— Эге! — восклицает Янкель. — Значит, благородного происхождения?
— Да, — отвечает Купец, но без всякой гордости, — благородного… Фамилия-то моя полная — Вольф фон Офенбах.
— Барон?! — ржет Янкель. — Здорово!..
— Да только жизнь-то моя не лучше вашей… тоже с детства дома не живу.
— Ладно, — заявил Япошка. — Пускай ты барон, нас не касается. У нас — равноправие».
И в самом деле, в Шкиде нет имущественных и сословных различий. Все равны. Однако и здесь появляются среди ребят свои хищники.
В Шкиде, как и в голодном Петрограде времен блокады и разрухи, голод порождает спекуляцию.
Неизвестно откуда появившийся Слаенов, подросток, «похожий на сытого и довольного паучка», дает в долг своим отощавшим товарищам осьмушки хлеба и получает за них четвертки. Скоро он становится настоящим богачом — даже не по шкидским масштабам, — уделяет долю своих хлебных запасов старшему отделению, чтобы с его помощью властвовать над обращенными в рабство младшими ребятами. Все это продолжается до тех пор, пока республика Шкид не обрушивается на опутавшего ее своей сетью «паучка» со всей свойственной ей внезапной яростью и неистовством.
Рабство в Шкиде упраздняется, долги аннулируются: «Нынче вышел манифест. Кто кому должен, тому крест!»
Так понемногу преодолевает Шкида болезни, привитые улицей, толкучкой, общением с уголовным миром.
Тот, кто внимательно прочтет эту необычную школьную эпопею, с интересом заметит, какой сложный и причудливый сплав постепенно образуется в Шкиде, где увлекающийся педагогическими исканиями Викниксор пытается привить сборищу бывших беспризорных чуть ли не лицейские традиции.
В одной и той же главе книги шкидец Бобер напевает на мотив «Яблочка» характерные для того времени зловещие уличные частушки:
Эх, яблочко На подоконничке! В Петрограде появилися Покойнички…И тут же хор шкидцев затягивает сочиненный ребятами по инициативе Викниксора торжественный гимн на мотив старинной студенческой песни «Gaudeamus».
В этом школьном гимне, которым Викниксор рассчитывал поднять у ребят чувство собственного достоинства и уважения к своей школе, строго выдержан стиль и ритм стихотворного латинского текста, рожденного в стенах университетов:
Мы из разных школ пришли, Чтобы здесь учиться. Братья, дружною семьей Будем же труди-и-ться!..А в самые тяжелые для Шкиды дни, когда в ней вспыхнула бурная эпидемия воровства, заведующий школой опять, по выражению шкидцев, «залез в глубокую древность» и вытащил оттуда социальную меру защиты от преступников, применявшуюся в Древней Греции, — остракизм.
Вопрос о том, кого подвергнуть остракизму, поставили на закрытое голосование.
Еще так недавно все шкидцы были связаны круговой порукой, нерушимым блатным законом: «Своих не выдавать!»
Но, предлагая новую крутую меру, Викниксор чувствовал, что лед тронулся: Шкида уже не та, на нее можно положиться.
И в самом деле, только меньшинство голосовавших возвратило листки незаполненными. Да и то по мотивам, которые были четко выражены в надписи на одном из листков: «Боюсь писать — побьют».
А большинство ребят нашло в себе мужество назвать имена коноводов, которые всего лишь за несколько дней до того задавали в Шкиде буйные и щедрые пиры и катали босоногую компанию по городу в легковом автомобиле.
Этот товарищеский суд был, в сущности, крупнейшей победой Викниксора в борьбе со шкидской анархией и воровством. Нанесен был решительный удар круговой поруке, развенчана бандитская удаль.
Нелегко было победить романтику уголовщины.
Викниксор хорошо понимал натуру своих питомцев, их склонность ко всему острому, необычному, яркому. Поэтому-то он и старался изо всех сил увлечь их все новыми и новыми оригинальными и причудливыми затеями. Ребята на первых порах относились к ним довольно насмешливо, но понемногу втягивались в изобретенную Викниксором своеобразную педагогическую игру.
Так были придуманы школьная газета, затем герб и гимн школы, потом самоуправление — республика (откуда впоследствии и возникло заглавие повести) и наконец остракизм, перенесенный с площадей Древних Афин в школу для дефективных на Петергофском проспекте.
Но в своих непрестанных поисках новых педагогических приемов Викниксор не всегда уходил «в глубь веков». Вместе с пристрастием к некоторой экзотике ему свойственно было живое чувство реальности и современности.
Перебирая характеристики и биографии самых безнадежных шкидцев с длинным перечнем их преступлений и наказаний, он напряженно думал:
«А все-таки что-то еще не использовано. Что же?..»
И тут он понял, что им упущено самое главное: трудовое воспитание.
Четверых самых злостных виновников кражи, получивших наибольшее число записок при голосовании, Викниксор после долгого раздумья решил перевести в Сельскохозяйственный техникум.
С горьким чувством покидала эта четверка Шкиду. На вокзале один из четверки — Цыган — решительно заявил: «Убегу!»
Но он не убежал.
Спустя некоторое время товарищи получили от него из техникума пространное письмо.
«…Викниксор хорошо сделал, что определил меня сюда, — писал он. — Передайте ему привет и мое восхищение перед его талантом предугадывать жизнь, находить пути для нас. Влюблен в сеялки, молотилки, в племенных коров, в нашу маленькую метеорологическую станцию… Я оглядываюсь назад. Четыре года тому назад я гопничал в Вяземской лавре, был стремщиком у хазушников. Тогда моей мечтой было сделаться хорошим вором… Я не думал тогда, что идеал мой может измениться. А сейчас я не верю своему прошлому, не верю, что когда-то я попал по подозрению в мокром деле в лавру, а потом и в Шкиду. Ей, Шкиде, я обязан своим настоящим и будущим…»
В статье «Детство и литература» (1937 г.) А. С. Макаренко, говоря о повести Белых и Пантелеева, отзывается о ней так:
«…Собственно говоря, эта книга есть добросовестно нарисованная картина педагогической неудачи».
И в самом деле, неудач, срывов и метаний в работе педагогического коллектива республики Шкид было немало. Подчас он проявлял по отношению к своим питомцам чрезмерный либерализм, а иной раз прибегал к таким давно осужденным советской педагогикой мерам, как дневники, похожие на кондуит, и карцер.
Однако же считать всю деятельность Шкиды сплошной педагогической неудачей было бы едва ли справедливо, хоть у талантливого, но не всегда последовательного Викниксора не было той стройной и тщательно разработанной системы, какой требовал от воспитателей А. С. Макаренко. Не хватало ему иной раз и выдержки, необходимой для того, чтобы справиться со стихией, бушевавшей в Шкиде.
Автор «Педагогической поэмы» подходит к петроградской школе имени Достоевского как строгий критик-педагог, резко и решительно осуждающий распространенное тогда в литературе любование романтикой беспризорщины.
Настороженность, с какой он читал повесть бывших беспризорников, вполне понятна.
Но не надо забывать, что «Педагогическая поэма» была итогом долгого опыта воспитательной работы, а «Республику Шкид» написали юноши, только что покинувшие школьную парту.
И все же им удалось нарисовать правдивую и объективную — «добросовестную», по выражению А. С. Макаренко, — картину, выходящую далеко за рамки школьного быта.
В этой повести со всей четкостью отразилось время. Сквозь хронику «Республики Шкид» с ее маленькими волнениями и бурями проступает образ Петрограда тех суровых дней, когда в его ворота рвались белые и в городе было слышно, как «ухают совсем близко орудия и в окошках дзинькают стекла». И даже после того как был отражен последний натиск врага, улицы городских окраин еще были опутаны колючей проволокой и завалены мешками с песком. Город, стойко выдержавший блокаду, только начинал оживать, приводить в порядок разрушенные и насквозь промороженные здания, восстанавливать заводы, бороться с голодом и спекуляцией. Но черный рынок — толкучка — все еще кишел всяким сбродом — приезжими мешочниками, маклаками, продавцами и скупщиками краденого. И среди этой кипящей, «как червивое мясо», толпы шныряли бездомные или отбившиеся от дома ребята, с малых лет проходившие здесь школу воровства.
В лихорадочной суете толкучки металось и судорожно дышало обреченное на гибель прошлое.
Работая над своей книгой, молодые авторы понимали — или, вернее, чувствовали, — что без этого фона времени их школьная летопись оказалась бы куда менее серьезной и значительной.
Но, в сущности, не только в повести, а и в самой школе, о которой идет в ней речь, можно проследить явственные приметы времени. В Шкиде, как и за ее стенами, еще боролся отживающий старый быт с первыми ростками нового. И в конце концов новое одержало верх.
Об этом убедительно говорят сами же питомцы Шкиды.
Вспомним письмо Цыгана и его же слова, сказанные в то время, когда он был уже не шкидцем и не учеником техникума, а взрослым человеком, агрономом совхоза: «Шкида хоть кого исправит!»
Встречи бывших шкидцев, пути которых после выпуска из школы разошлись, чем-то напоминают «лицейские годовщины», хоть буйная, убогая и голодная Шкида так мало похожа на Царскосельский лицей.
Встречаясь после недолговременной разлуки, молодые люди, уже вступившие в жизнь, с интересом оглядывают друг друга, как бы измеряя на глаз, насколько они изменились и повзрослели, сердечно вспоминают отсутствующих товарищей, свою необычную школу и ее доброго, чудоковатого руководителя, которого в конце концов успели узнать и по-настоящему полюбить.
Если бы деятельность этой школы была и в самом деле всего только «педагогической неудачей», ее вряд ли поминали бы добром бывшие воспитанники.
Но, пожалуй, еще больше могут сказать о Шкиде самые судьбы взращенных ею людей.
Недаром пели они в своем школьном гимне:
Путь наш труден и суров, Много предстоит трудов, Чтобы выйти в люди…Среди бывших питомцев Шкиды — литераторы, учителя, журналисты, директор издательства, агроном, офицеры Советской Армии, военный инженер, инженеры гражданские, шофер, продавец в магазине, типографский наборщик.
Это ли педагогическая неудача?
Однако заслугу перевоспитания бывших беспризорных и малолетних преступников нельзя приписать целиком ни Викниксору (хоть он и вложил в это дело всю душу), ни лучшим из его сотрудников. Никакими усилиями не справились бы они с непокорной, разнохарактерной и в то же время сплоченной Больницей, если бы на нее одновременно не влияли другие — более мощные — силы.
О том, что именно сыграло решающую роль в судьбе шкидцев, можно узнать, прочитав один из рассказов Л. Пантелеева.
Этот рассказ, носящий заглавие «Американская каша», написан в форме открытого письма к бывшему президенту Соединенных Штатов Гуверу, основателю АРА — Ассоциации помощи голодающим.
Обращаясь к президенту, Л. Пантелеев говорит:
«…Я в то время не был писателем. Я был тем самым голодающим, которым вы помогали.
Я был беспризорным, бродягой и в тысяча девятьсот двадцать первом году попал в исправительное заведение для малолетних преступников. Я выражаюсь вашим языком, так как боюсь, что вы меня не поймете. По-нашему, я был социально-запущенным и попал в дефективный детдом имени Достоевского…»
Очевидно не надеясь на литературную осведомленность президента Гувера, Пантелеев считает нужным вполне серьезно пояснить:
«…Достоевский — это такой писатель. Он уже умер»,
А затем продолжает:
«В этом доме нас жило шестьдесят человек.
Хорошее было времечка
Для вас — потому, что недавно лишь кончилась мировая война и ваша страна с аппетитом поедала и переваривала военные прибыли…
Для нас это время было хорошим потому, что уже заканчивалась гражданская война и наша Красная Армия возвращалась домой с победными песнями, хотя и в рваных опорках. И мы тоже бегали без сапог, мы едва прикрывали свою наготу тряпками и писали диктовки и задачи карандашами, которые урвали бумагу и ломались на каждой запятой. Мы голодали так, как не голодают, пожалуй, ваши уличные собаки. И все-таки мы всегда улыбались. Потому, что живительный воздух революции заменял нам и кислород, и калории, и витамины…»
Дальше в «Письме к президенту» рассказывается, как в благотворительной столовой АРА кто-то перечеркнул химическим карандашом крест-накрест лицо Гувера, самодовольно поглядывавшего с портрета, и под портретом написал: «Old devil» («Старый дьявол»).
Случилось это вскоре после того, как на стоявшем в петроградском порту американском пароходе «Old devil» офицер в фуражке с золотыми звездами жестоко избил повара-негра, бросившего шкидцам с борта какой-то пакетик.
Кто именно перечеркнул портрет Гувера чернильным карандашом, ни автор «Письма президенту», ни его тогдашние товарищи не знали, но на грозный вопрос: «Кто это сделал?» — все они, не сговариваясь, встали из-за стола и хором ответили: «Я!»
За эту историю их выгнали из столовой АРА, лишили американской шоколадной каши, маисового супа, какао и белых булок, а заодно и отпуска на целых два месяца.
«Опять мы хлебали невкусный жиденький суп с мороженой картошкой. Опять жевали мы хлеб из кофейной гущи. И снова и снова мы набивали свои желудки кашей, в которой было больше камней, чем сахара или масла…»
Воспитанники школы для дефективных, так долго не признававшие никаких законов и не ладившие с милицией и угрозыском, чувствовали себя, однако, советскими гражданами, детьми революции.
Часто они спрашивали Викниксора:
«— Виктор Николаевич, почему у нас в школе нельзя организовать комсомол?
Викниксор хмурил брови и отвечал, растягивая слова:
— Очень просто… Наша школа дефективная, почти что с тюремным режимом, а в тюрьмах и дефективных детдомах ячейки комсомола организовывать не разрешается… Выйдете из школы, равноправными гражданами станете — можете и в комсомол и в партию записаться».
Ребята долго и настойчиво просят Викниксора дать им учителя политграмоты, но после нескольких неудачных гастролей весьма сомнительных преподавателей сами решают организовать кружок для изучения политграмоты и марксизма. Собираются по ночам в дровяном сарае или в коридоре сырого полуразрушенного здания. В желтом свете огарка Еонин, по прозвищу Японец, несколько более осведомленный в области политики, чем другие шкидцы, читает им доклады о съезде комсомола, о конгрессе Коминтерна.
Собрания эти окружены романтической тайной, и паролем для приходящих служат поговорки из жаргона картежников и уголовников:
«— Четыре сбоку! Ваших нет».
Или:
«— Деньги ваши! Будут наши!»
О ночных сборищах стало наконец известно вездесущему Викниксору. Как и во многих других случаях, он сумел вовремя подхватить и натравить в новое русло затею шкидцев. По его совету вместо «подпольного комсомола» был организован в школе открытый кружок, которому ребята дали название «Юный коммунар», сокращенно — Юнком.
На первых порах юнкомцам пришлось выдержать яростное сопротивление шкидской орды, да и сами они не один раз срывались. И все-таки в конце концов юнком стал силой, с которой уже не могли не считаться самые закоренелые зачинщики бузы и воровства.
В душную и затхлую атмосферу школы для несовершеннолетних преступников проник тот «живительный воздух революции», о котором так хорошо говорит в своем рассказе Л. Пантелеев.
Закончив повесть, юные авторы «Республики Шкид» отнесли свою рукопись, на которой еще не высохли чернила, в Отдел народного образования, а оттуда она была переслана в редакцию детской и юношеской литературы Госиздата.
Это было время, когда наша новая книга для детей только создавалась. От старой, дореволюционной литературы в детской библиотеке сохранились лишь немногие книги, которые были созданы в свое время классиками. Нужны были новые темы и новые люди.
И эти люди пришли. Один за другим появились в те годы писатели, ныне известные у нас в стране: Борис Житков, М. Ильин, Аркадий Гайдар, В. Бианки и другие. Почти все они были крестниками ленинградской редакции и принимали самое горячее участие в ее работе — обсуждали вместе с редакторами рукописи и планы будущих изданий. На шестом этаже ленинградского Дома книги всегда толпился народ. Сидели на подоконниках и на столах, до хрипоты спорили, весело шутили.
Но все это ничуть не мешало напряженной работе редакции. Я не ошибусь, если скажу, что почти каждая книга, выпущенная детским отделом Госиздата, становилась событием. Достаточно вспомнить «Морские истории» Житкова, «Рассказ о великом плане» и «Горы и люди» Ильина, «Лесную газету» Бианки, «От моря и до моря» и «Военных коней» Николая Тихонова, «Приключения Буратино» Алексея Толстого, «Штурм Зимнего» Савельева и многое другое.
Таким событием оказалась и «Республика Шкид».
Сотрудники редакции и близкие к ней литераторы (а среди них были известные теперь писатели Борис Житков, Евгений Шварц, Николай Олейников) читали вместе со мной эту объемистую рукопись и про себя и вслух. Читали и перечитывали. Всем было ясно, что эта книга — явление значительное и новое.
Вслед за рукописью в редакцию явились и сами авторы, на первых порах неразговорчивые и хмурые. Они были, конечно, рады приветливому приему, но не слишком охотно соглашались вносить какие-либо изменения в свой текст.
Помню, как нелегко было мне убедить Л. Пантелеева переделать резко выделявшуюся по стилю главу, почему-то написанную ритмической прозой. Вероятно, в этом сказалась прихоть молодости, а может быть, и невольная дань недавней, но уже отошедшей в прошлое литературной моде.
Я полагал, что четкий, почти стихотворный ритм одной из глав менее всего соответствует характеру документальной повести. В конце концов автор согласился со мной и переписал главу «Ленька Пантелеев» заново. В новом варианте она оказалась едва ли не лучшей главой книги.
И вот наконец «Республика Шкид» вышла в свет. Вся редакция с интересом ждала откликов печати и читателей.
Скоро из библиотек стали приходить сведения, что повесть читают запоем, берут нарасхват. Сочувственно встретили ее и писатели, и многие из педагогов. Как говорится в таких случаях, успех повести превзошел все ожидания.
Одним из первых откликнулся на нее А. М. Горький.
Книга появилась в начале 1927 года, а уже в марте того же года он писал о ней воспитанникам колонии его имени в Куряже:
«…Я очень ценю людей, которым судьба с малых лет нащелкала по лбу и по затылку.
Вот недавно двое из таких написали и напечатали удивительно интересную книгу… Авторы — молодые ребята, одному 17, а другому, кажется, 19 лет, а книгу они сделали талантливо, гораздо лучше, чем пишут многие из писателей зрелого возраста.
Для меня эта книга — праздник, она подтверждает мою веру в человека, самое удивительное, самое великое, что есть на земле нашей».
В том же месяце Горький писал С. Н. Сергееву-Ценскому об авторах повести:
«…Это — не вундеркинды, а удивительные ребята, сумевшие написать преоригинальную книгу, живую, веселую, жуткую. Фигуру заведующего школой они изобразили монументально. Не преувеличиваю».
Очевидно, повесть взволновала и обрадовала Горького, так хорошо знавшего «дно» жизни, своею предельной правдивостью и оптимизмом, купленным дорогой ценой.
В «Заметках читателя» он посвящает ей такие строки:
«…На днях я прочитал замечательную книгу «Республика Шкид»… В этой книге авторы отлично, а порой блестяще рассказывают о том, что было пережито ими лично и товарищами их за время пребывания в школе… Значение этой книги не может быть преувеличено, и она еще раз говорит о том, что в России существуют условия, создающие действительно новых людей».
Со дня выхода «Республики Шкид» прошло более тридцати лет. Но книги по-настоящему, а не только формально современные не стареют с течением времени. Утратив прямую злободневность, они становятся подлинными и незаменимыми документами эпохи.
Сейчас «Республика Шкид» выходит вновь. Один из ее авторов — Григорий Белых — безвременно погиб, едва перешагнув за тридцать. Другой — Л. Пантелеев — давно уже стал видным писателем. Его повести и рассказы — «Часы», «Пакет», «Честное слово», «На ялике», «Ленька Пантелеев», «Маринка», «Новенькая», «Индиан чубатый», «Рассказы о Кирове» и другие — популярны у нас в стране и переведены на многие зарубежные языки.
Он-то и подготовил к печати настоящее издание — оглядел книгу, написанную в юности, оком зрелого мастера, внес в нее некоторые изменения и поправки, стараясь в то же время сохранить в неприкосновенности ее молодой почерк.
Так и мы, кому довелось редактировать «Республику Шкид» тридцать лет назад, больше всего заботились о том, чтобы она не утратила жизненной подлинности, молодого задора, остроты и свежести юношеских впечатлений.
С. Маршак
Первые дни
Основатели республики Шкид. — Воробышек в роли убийцы. — Сламщики. — Первые дни.
На Старо-Петергофском проспекте в Ленинграде среди сотен других каменных домов затерялось облупившееся трехэтажное здание, которому после революции суждено было превратиться в республику Шкид.
До революции здесь помещалось коммерческое училище. Потом оно исчезло вместе с учениками и педагогами.
Ветер и дождь попеременно лизали каменные стены опустевшего училища, выкрашенные в чахоточный серовато-желтый цвет. Холод проникал в здание и вместе с сыростью и плесенью расползался по притихшим классам, оседая на партах каплями застывшей воды.
Так и стоял посеревший дом со слезящимися окнами. Улица с очередями, с торопливо пробегающими людьми в кожанках словно не замечала его пустоты, да и некогда было замечать. Жизнь кипела в других местах: в совете, в райкоме, в потребиловке.
Но вот однажды тишина здания нарушилась грохотом шагов. Люди в кожанках, с портфелями, пришли, что-то осмотрели, записали и ушли. Потом приехали подводы с дровами.
Отогревали здание, чинили трубы, и наконец прибыла первая партия крикливых шкетов-беспризорников, собранных неведомо откуда.
Много подростков за время революции, голода и гражданской войны растеряли своих родителей и сменили семью на улицу, а школу на воровство, готовясь в будущем сделаться налетчиками.
Нужно было немедленно взяться за них, и вот сотни и тысячи пустующих, полуразрушенных домов снова приводили в порядок, для того чтобы дать кров, пищу и учение маленьким бандитам.
Подростков собирали всюду. Их брали из «нормальных» детдомов, из тюрем, из распределительных пунктов, от измученных родителей и из отделений милиции, куда приводили разношерстную беспризорщину прямо с облавы по притонам. Комиссия при губоно сортировала этих «дефективных», или «трудновоспитуемых», как называли тогда испорченных улицей ребят, и оттуда эта пестрая публика распределялась по новым домам.
Так появилась особая сеть детских домов-школ, в шеренгу которых стала и вновь испеченная «Школа социально-индивидуального воспитания имени Достоевского», позднее сокращенная ее дефективными обитателями в звучное «Шкид».
Фактически жизнь Шкиды и началась с прибытия этой маленькой партии необузданных шкетов. Первые дни новорожденной школы шли в невообразимом беспорядке. Четырнадцати— и тринадцатилетние ребята, собранные с улицы, скоро спаялись и начали бузить, совершенно не замечая воспитателей.
Верховодить сразу же стал Воробьев, прозванный с первого дня Воробышком — отчасти из-за фамилии, отчасти из-за своей внешности. Он был маленький, несмотря на свои четырнадцать лет, и за все пребывание в школе не вырос и на полдюйма. Пришел Воробей вместе с парнем, по фамилии Косоров, из нормального детского дома, где он собирался убить заведующего школой.
Как-то летним вечером Воробьева по приказу завдетдомом не пустили гулять, и он поклялся жестоко отомстить за такое зверство. На другой день Косоров — его верный товарищ — достал ему револьвер, и Воробьев пошел в кабинет заведующего. Косоров стоял у дверей и ждал единственного выстрела — другого не могло быть, так как в револьвере был один патрон.
Что произошло в кабинете, осталось неизвестным. Выстрела Косоров так и не услышал, а видел только, как раскрылась дверь и разъяренный заведующий стремительно протащил за шиворот бледного Воробья.
Впоследствии Воробьев рассказывал, что, когда он скомандовал «руки вверх», заведующий упал на колени и лишь осечка испортила все дело.
За это неудавшееся покушение и за целый ряд других подвигов Воробья перевели в Шкиду. Вместе с ним был переведен и его верный товарищ — Косоров.
«Косарь», в противоположность Воробью, был плотным здоровяком, но всегда ходил хмурый. Таким образом, соединившись в «сламу», они дополняли друг друга.
Жить «на сламу» означало жить в долгой и крепкой дружбе. «Сламщики» должны были всем делиться между собой, каждый должен был помогать своему другу.
Придя в Шкиду, сламщики сразу поставили дело так, что остальные шесть шкетов боялись дохнуть без их разрешения, а заика Гога стал подобострастно прислуживать новым заправилам.
Состав педагогов еще не был подобран. Воспитанникам жилось вольготно.
День начинался часов в одиннадцать утра, когда растрепанная кухарка вносила в спальню вчерашний обед и чай.
Не вставая с кровати, принимались за шамовку.
Воробей, потягиваясь на кровати, грозно покрикивал тоненьким голосом на Гогу:
— Подай суп! Принеси кашу!
Гога беспрекословно выполнял приказания, бегая по спальне, за что милостиво получал в награду папироску.
Шамовки было много, несмотря на то что в городе, за стенами школы, сидели еще на карточках с «осьмушками». Происходило это оттого, что в детдоме было пятнадцать человек, а пайков получали на сорок. Это позволяло первым обитателям Шкиды вести сытную и даже роскошную жизнь.
Уроков в первые дни не было, поэтому вставали лениво, часам к двенадцати, потом сразу одевались и уходили из школы на улицу.
Часть ребят под руководством Гоги шла «крохоборствовать», собирать окурки, другая часть просто гуляла по окрестным улицам, попутно заглядывая и на рынок, где, между прочим, прихватывала с лотков зазевавшихся торговцев незначительные вещицы, вроде ножей, ложек, книг, пирожков, яблок и т.д.
К обеду Шкида в полном составе собиралась в спальне и ждала, когда принесут котлы с супом и кашей. Столовой еще не было, обедали там же, где и спали, удобно устраиваясь на койках.
Сытость располагала к покою. Как молодые свинки, перекатывались питомцы по койкам и вели ленивые разговоры.
«Крохоборы» разбирали мерзлые «чинаши», тщательно отдирая бумагу от табака и распределяя по сортам. Махорку клали к махорке, табак к табаку. Потом эта сырая, промерзлая масса раскладывалась на бумаге и начиналась сушка.
Сушили после вечернего чая, когда с наступлением зимних сумерек появлялась уборщица и, громыхая кочергой и заслонками, затапливала печку.
Серенький, скучный день проходил тускло, и поэтому поминутно брызгающая красными искрами печка с веселыми язычками пламени всегда собирала вокруг себя всю школу. Усевшись в кружок, ребята рассказывали друг другу свои похождения, и тут же на краю печки сушился табак — самая дорогая валюта школы.
Полумрак, теплота, догорающие в печке поленья будили в ребятах новые мысли. Затихали. Каждый думал о своем. Тогда Воробей доставал свою балалайку и затягивал тоскующим голосом любимую песню:
По приютам я с детства скитался, Не имея родного угла. Ах, зачем я на свет появился, Ах, зачем меня мать родила…Песню никто не знал, но из вежливости подтягивали, пока Гога, ухарски тряхнув черной головой, не начинал играть «Яблочко» на «зубарях».
«Зубари», или «зубарики», были любимой музыкой в Шкиде, и всякий новичок прежде всего старательно и долго изучал это сложное искусство, чтобы иметь право участвовать в общих концертах.
Для зубарей важно было иметь слух и хорошие зубы, остальное приходило само собой. Техника этого дела была такая. Играли на верхних зубах, выщелкивая мотив ногтями четырех пальцев, а иногда и восьми пальцев, когда зубарили сразу двумя руками. Рот при этом то открывался широко, то почти совсем закрывался. От этого получались нужной высоты звуки. Спецы по зубарям доходили до такой виртуозности, что могли без запинки сыграть любой самый сложный мотив.
Таким виртуозом был Гога. Будучи заикой, он не мог петь и всецело отдался зубарикам. Он был одновременно и дирижером, и солистом шкидского оркестра зубарей. Обнажив белые крупные зубы, Гога мечтательно закидывал голову и быстрой дробью начинал выбивать мелодию. Потом подхватывал весь оркестр, и среди наступившей тишины слышался отчаянный треск зубариков.
Лица теряли человеческое выражение, принимали тупой и сосредоточенный вид, глаза затуманивались и светились вдохновением, свойственным каждому музыканту. Играли, разумеется, без нот, но с чувством, запуская самые головоломные вариации, и в творческом порыве не замечали, как входил заведующий.
Это означало, что пора спать.
В первые дни штат Шкиды был чудовищно велик. На восемь воспитанников было восемь служащих, хотя среди них не было никого лишнего. Один дворник, кухарка, уборщица, завшколой, помощница зава и три воспитателя.
Завшколой — суровая фигура. Грозные брови, пенсне на длинном носу и волосы ежиком. Начало педагогической деятельности Виктора Николаевича уходило далеко в глубь времен. О днях своей молодости он всегда вспоминал и рассказывал с любовью. Воспитанники боялись его, но скоро изучили и слабые стороны. Он любил петь и слушать песни. Часто, запершись во втором этаже в зале, он садился за рояль и начинал распевать на всю школу «Стеньку Разина» или «Дни нашей жизни».
Тогда у дверей собиралась кучка слушателей и ехидно прохаживалась на его счет:
— Эва, жеребец наш заржал!
— Голосина что у дьякона.
— Шаляпин непризнанный!..
Завшколой переехал в интернат с первого дня его основания и поселился во втором этаже.
От интерната квартиру заведующего отделял один только зал, который в торжественные минуты назывался «Белым залом». Стены Белого зала были увешаны плохими репродукциями с картин и портретами русских писателей, среди которых почетное место занимал портрет Ф. М. Достоевского.
В качестве помощницы заведующего работала его жена, белокурая немка Элла Андреевна Люмберг, или просто Эллушка, на первых порах взявшая на себя роль кастелянши, но потом перешедшая на преподавание немецкого языка.
Они-то и являлись основателями школы.
Воспитателей было немного.
Один — студент, преподаватель гимнастики, получивший кличку Батька. Другой — хрупкий естествовед, влюбленный в книжки Кайгородова о цветах, мягкий и простодушный человек, потомок петербургских немцев-аптекарей. Прежде всего «ненормальный» питомник не принял его трудно выговариваемого имени. Герберта Людвиговича сперва переделали в Герб Людовича, потом сократили до Герб Людыча, потом любовно и просто стали звать Верблюдычем и наконец окончательно закрепили за ним имя Верблюд.
Однако Верблюда любили за мягкость, хотя и смеялись над некоторыми его странностями. А их у него было много. То подсмотрят ребята, как Верблюдыч перед сном начинает танцевать в кальсонах, напевая фальшивым голосом мазурку, то вдруг он начнет мучить шкидцев, настойчиво разучивая гамму на разбитом пианино, которое не в добрый час оказалось у него в комнате.
Музыка у Верблюдыча была второй страстью после цветов. Однако все же он играть ни на чем не умел и за все свое пребывание в школе не поразил шкидцев ни одним новым номером, кроме гаммы.
Третий педагог был ни то ни се. Он скоро исчез со шкидского горизонта, обидевшись на маленький паек и на слишком тяжелую службу у «дефективных». Впоследствии он был спортинструктором Всеобуча, а оттуда перешел в мясную лавку на должность «давальца».
Цыган из Александро-Невской лавры
Здравствуйте, сволочи! — Викниксор. — Бальзам от скуки. — Первый поэт республики. — Однокашник Блока. — Цыган в ореоле славы.
Недолго тянулись медовые дни ничегонеделания. Постепенно комплект воспитанников пополнился, появились и приходящие ученики, такие, которых отпускали после уроков домой. Открылись три класса, которые завшколой назвал почему-то отделениями.
Начались занятия. Меньше стало свободного времени для прогулок. К тому же завернули морозы, и ребята все больше отсиживались в спальне, мирно коротая зимние вечера.
В один из таких вечеров, когда весь питомник, сгрудившись, отогревался у печки, в спальню вошел Виктор Николаевич, а за ним показалась фигура парня в обтрепанном казенном пальто.
«Новичок», — решили мысленно шкидцы, критически осматривая нового человека.
Завшколой откашлялся, взял за руку парня и, вытолкнув вперед, проговорил:
— Вот, ребята, вам еще один товарищ. Зовут его Николай Громоносцев. Парень умный, хороший математик, и вы, надеюсь, с ним скоро сойдетесь.
С этими словами Виктор Николаевич вышел из комнаты, оставив ребят знакомиться.
Колька Громоносцев довольно нахально оглядел сидевших и, решив, что среди присутствующих сильнее его никого нет, независимо поздоровался:
— Здравствуйте, сволочи!
— Здравствуй, — недружелюбно процедил за всех Воробьев. Он сразу понял, что этот новичок скоро будет в классе коноводом. С появлением Громоносцева власть уходила от Воробья, и, уже с первого взгляда почувствовав это, Воробышек невзлюбил Кольку.
Между тем Колька, нимало не беспокоясь, подошел к печке и, растолкав ребят, сел у огня.
Ребята посторонились и молча стали оглядывать новичка. Вызывающее поведение и вся его внешность им не понравились.
У Кольки был зловещий вид. Взбитые волосы лезли на прямой лоб. Глаза хитро и дерзко выглядывали из-под темных бровей, а худая мускулистая фигура красноречиво утверждала, что силенок у него имеется в достатке.
Путь, но которому двигался Громоносцев к Шкиде, был длинный путь беспризорного. Пяти лет он потерял отца, а позже и мать. Без присмотра, живя у дальних родственников, исхулиганился, и родственники решили сплавить юнца поскорее с рук, сдав его в Николо-Гатчинский институт.
Родственники получили облегчение, но институт не обрадовался такому приобретению. Маленький шкетик Колька развернулся вовсю: дрался, ругался, воровал и неизвестно чем закончил бы свои подвиги, если б в это время институт не расформировался.
Но Колька — сирота, и его переводят в другое заведение, потом в третье. Колька так много сменил казенных крыш, что и сам не мог их перечислить, пока наконец воровство не привело его в Александро-Невскую лавру.
Когда-то лавра кишела черными монашескими скуфьями и клобуками, но к прибытию Кольки святая обитель значительно изменила свою физиономию. Исчезли монахи, а в бывших кельях поселились новые люди.
Тихие кельи превратились в общие и одиночные камеры, в которых теперь сидели несовершеннолетние преступники.
Лавра была последней ступенью исправительной системы. Отсюда было только две дороги: либо в тюрьму, либо назад в нормальный детдом.
Попасть в лавру считалось в те годы самым большим несчастьем, самым страшным, что могло ожидать молодого правонарушителя. Провинившихся школьников и детдомовцев пугали Шкидой, но если уж речь заходила о лавре — значит, дело было швах, значит, парень считался конченным.
И вот Колька Громоносцев докатился-таки до лавры. Три месяца скитался он по камерам, наблюдая, как его товарищи по заключению дуются самодельными картами в «буру», слушал рассказы бывалых, перестукивался с соседями, даже пытался бежать. В темную зимнюю ночь он с двумя товарищами проломили решетку камеры и спустились на полотенцах во двор. Поймали их на ограде, через которую они пытались перелезть. Отсидев тридцать суток в карцере, Колька неожиданно образумился. Однажды, явившись к заведующему, твердо заявил:
— Люблю математику. Хочу быть профессором.
Категорическое заявление Кольки подействовало. Громоносцева перевели в Шкиду.
В тот же день, рассмотрев поближе новичка, шкидцы держали совет:
— Как его прозвать?
— Трубочистом назовем. Эва, черный какой!
— Жуком давайте.
— Нет.
— Ну, так пусть будет — Цыган.
— Во! Правильно!
— Цыган и есть.
Колька снисходительно слушал, а когда приговор был вынесен, улыбнулся и небрежно сказал:
— Мне все равно. Цыган так Цыган.
… — А почему вы школу зовете Шкид? — спрашивал Колька на уроке, заинтересованный странным названием.
Воробышек ответил:
— Потому что это, брат, по-советски. Сокращенно. Школа имени Достоевского. Первые буквы возьмешь, сложишь вместе — Шкид получится. Во, брат, как, — закончил он гордо и добавил многозначительно: — И все это я выдумал.
Колька помолчал, а потом вдруг опять спросил:
— А как зовут заведующего?
— Виктор Николаевич.
— Да нет… Как вы его зовете?
— Мы? Мы Витей его зовем.
— А почему же вы его не сократили? Уж сокращать так сокращать. Как его фамилия?
— Сорокин, — моргая глазами, ответил Воробышек.
— Ну, вот: Вик. Ник. Сор. Звучно и хорошо. — И правда, дельно получилось.
— Ай да Цыган!
— И в самом деле, надо будет Викниксором величать.
Попробовали сокращать и других, но сократили только одну немку. Получилось мягкое — Эланлюм.
Оба прозвища единогласно приняли.
Однажды Викниксор, бывший Виктор Николаевич Сорокин, любитель всего нового и оригинального, зашел к ребятам и, присев на подоконник, мягко, по-отечески заговорил:
— Вы, ребята, скучаете?
— Скучаем, — печально ответили ребята.
— Надо, ребята, развлекаться.
— Надо, — поддакнули опять шкидцы.
— Ну, если так, то у меня есть идея. Школа наша расширяется, и пора нам издавать газету.
Ребята погмыкали, но ничего не ответили, и Викниксору пришлось повторить предложение:
— Давайте издавать газету.
— Давайте, Виктор Николаевич. Только… — замялся Косарь, — мы это не умеем. Может, вы сделаете?..
Предложение было смелое, но Викниксор согласился:
— Хорошо, ребята, я вам помогу. На первых порах нужно руководство. Так что — ладно, устроим.
Скоро о беседе забыли.
Но завшколой, увлеченный своей идеей, не остыл.
Каждый вечер в маленькой канцелярии дробно стучала пишущая машинка. Это готовился руками самого Викниксора первый номер шкидской газеты.
В то же время питомник стал замечать рост популярности Цыгана.
Колька ужо не ходил мокрой курицей, новичком, а запросто, по-товарищески беседовал с завшколой и долгие вечера коротал с ним за шахматной доской.
— Ишь, стерва, подлизывается к Викниксору, — злобно скулили ребята, поглядывая на ловкого фаворита, но тот и в ус не дул и по-прежнему увивался около зава.
— Не иначе как кляузником будет, — разжигал массы Воробей.
Ребята слушали и озлоблялись, но Цыган не обращал внимания на хмурившихся товарищей, хотя было обидно, что до сих пор с ним никто не желал дружить, а тем более повиноваться ему так, как повиновались Воробышку.
Дело в том, что Шкида только тогда начинала уважать своего товарища, когда находила в нем что-нибудь особенное — такое, чего нет у других.
У Воробья это было. У него имелась балалайка, паршивая, расстроенная в ладах балалайка, и умение кое-как тренькать на ней. Из всех воспитанников никто этой науки не осилил, и поэтому единственного музыканта уважали.
У Цыгана еще не было случая завоевать расположение товарищей, но он искал долго, упорно и наконец нашел.
Однажды, сидя в кабинете завшколой за партией в шахматы, Колька, победив три раза подряд, четвертую игру нарочно провалил.
Приунывший Викниксор повеселел. Несмотря на свои пятнадцать лет, Колька хорошо играл в шахматы, и завшколой редко выигрывал. Поэтому он очень обрадовался, когда загнанный и зашахованный его король вдруг получил возможность дышать, а через шесть ходов Колька пропустил важное передвижение и получил мат.
— Красивый матик. Здорово вы мне влепили, — притворно восторгался Цыган, разваливаясь в кожаном кресле. — Очень красивый мат, Виктор Николаевич.
Викниксор расцвел в улыбке.
— Что? Получил? То-то, брат. Знай наших.
Цыган минуту выждал, тактично промолчав, и дал Викниксору возможность насладиться победой. Потом, переменив тон, небрежно спросил:
— Виктор Николаевич, а как насчет газеты? Будете выпускать или нет?
— Как же, как же. Она уже почти готова, — оживился Викниксор. — Только вот, брат, материалу маловато. Ребята не несут. Приходится самому писать.
— Да, это плохо, — посочувствовал Колька, но Викниксор уже увлекся:
— Ты знаешь, я и название придумал, и даже пробовал сам заголовок нарисовать, но ничего не вышло, плохо рисую. Зато весь номер уже перепечатан, только уголок заполнить осталось. Я пробовал и стихи написать, да что-то неудачно выходит. А ведь когда-то гимназистом писал, и писал недурно. Помню, еще, бывало, Блок мне завидовал. Ты знаешь Блока — поэта знаменитого?
— Знаю, Виктор Николаевич. Он «Двенадцать» написал. Читал.
— Ну вот. Так я с ним в гимназии на одной парте сидел, и вот, бывало, сидим и пишем стихи, все своим дамам сердца посвящали. Так ведь, представь себе, бывало, так у меня складно выходило, что Блок завидовал.
— Неужели завидовал? — удивлялся Колька.
— Да. А вот теперь совсем не могу писать — разучился.
— А я ведь с вами, Виктор Николаевич, как раз об этом и хотел поговорить, — деликатно вставил Цыган.
Завшколой удивленно взглянул.
— Ну-ну, говори.
Колька помялся.
— Да вот тоже, вы знаете, попробовал стишки написать, принес показать вам.
— Стишки? Молодец. Давай, давай сюда.
— Они, Виктор Николаевич, так, первые мои стихи. Я их о выпуске стенгазеты написал.
— Вот, вот и хорошо.
Тон заведующего был такой ободряющий и ласковый, что Колька уже совсем спокойно вытащил свои стихи и, положив на стол, отошел в сторону.
Завшколой взял листочек и стал читать вслух;
Ура, ребята! В нашей школе Свершилось чудо в один миг. И вот теперь висит на стенке Своя газета — просто шик.Прочтя первый куплет, Викниксор помолчал, подумал и сказал:
— Гм. Ничего.
Колька, чуть не прыгая от радости, выскочил из кабинета.
В спальню он вошел спокойный.
Ребята по-прежнему сидели у печки. При его входе никто даже не оглянулся, и Кольку это еще больше обозлило.
— Ладно, черти, узнаете, — бормотал он, укладываясь спать.
* * *
Через пару дней Шкида действительно узнала Громоносцева.
— Ты видел, а?
— Что?
— Вот чумичка. Что! Пойди-ка к канцелярии, Позек-сай, газету выпустили школьную. «Ученик» называется.
— Ну?
— Ты погляди, а потом нукай. Громоносцев-то у нас…
— Что Громоносцев?
— Погляди — увидишь!
Шли толпами и смотрели на два маленьких листика. Четвертую часть всей газеты занимал заголовок, разрисованный карандашами.
Читали напечатанные бледным шрифтом статейки без подписи о методах воспитания в школе, потом шмыгали глазами по второму листку и изумленно гоготали:
— Ай да Цыган! Ловко оттяпал.
— Прямо поэт.
Колька и сам не поверил, когда увидел свои стихи рядом с большой статьей Викниксора, но под стихами стояло: «Ник. Громоносцев». Оставалось верить и торжествовать.
Стихи были чуть-чуть исправлены и первое четверостишие звучало так:
Ура, ребята! В нашей школе Свершилось чудо в один миг! У канцелярии на стенке Висит газета «Ученик».Газета произвела большое впечатление. Читали ее несколько раз. Вызывал некоторое недоумение заголовок, представлявший собою нечто странное. По белому полю полукругом было расположено название «Ученик», а под ним помещался загадочный рисунок — головка подсолнуха с оранжевыми лепестками, внутри которого красовался черный круг с двумя белыми буквами: «Ш. Д.», вписанными одна в одну — монограммой.
Что это означало, никто не мог понять, пока однажды за обедом непоседливый Воронин не спросил при всех заведующего:
— Виктор Николаевич, а что означает этот подсолнух?
— Подсолнух? Да, ребята… Я забыл вам сказать об этом. Это, ребята, наш герб. Отныне этот герб мы введем в употребление всюду. А значение его я сейчас вам объясню. Каждое государство, будь то республика или наследственная монархия, имеет свой государственный герб. Что это такое? Это — изображение, которое, так сказать, аллегорически выражает характер данной страны, ее историческое и политическое лицо, ее цели и направление. Наша школа — это тоже своеобразная маленькая республика, поэтому я и решил, что у нас тоже должен быть свой герб. Почему я выбрал подсолнух? А потому, что он очень точно выражает наши цели и задачи. Школа наша состоит из вас, воспитанников, как подсолнух состоит из тысячи семян. Вы тянетесь к свету, потому что вы учитесь, а ученье — свет. Подсолнух тоже тянется к свету, к солнцу, — и этим вы похожи на него.
Кто-то ехидно хихикнул. Викниксор поморщился, оглядел сидящих и, найдя виновного, молча указал на дверь.
Это означало — выйти из-за стола и обедать после всех.
Под сочувствующими взглядами питомника наказанный вышел. А кто-то ядовито прошипел:
— Мы подсолнухи, а Витя нас лузгает!
Настроение Викниксора испортилось, и продолжать объяснение ему, видимо, не хотелось, поэтому он коротко заключил:
— Подсолнух — наш герб. А теперь, дежурный, давай звонок в классы.
Таким образом, в один день республика Шкид сделала два ценных приобретения: герб и национального поэта Николая Громоносцева.
Популярность сразу перешла к нему, и первой крысой с тонувшего Воробьиного корабля был Гога, решительно пославший к черту балалаечника и перешедший на сторону поэта.
Воробышек был взбешен, но продолжать борьбу он уже не мог.
Тщетно перепробовал он все средства: писал стихи, которые и сам не мог читать без отвращения, пробовал рисовать, — Шкида холодно отнеслась к его попыткам, и Воробей сдался.
Цыган торжествовал, а слава поэта прочно укрепилась за ним несмотря на то, что газета после первого номера перестала существовать, а сам Громоносцев надолго оставил свои поэтические опыты.
Янкель пришел
Кладбищенские рай. — Нат Пинкертон действует. — Гришка достукался. — Богородицыны деньги. — «Советская лошадка». — Гришка в придачу к брюкам. — Янкель пришел.
Еще маленьким, сопливым шкетом Гришка любил свободу и самостоятельность. Страшно негодовал, когда мать наказывала его за то, что, побродивши в весенних дождевых лужах, он приходил домой грязным и мокрым.
Не выносил наказаний и уходил из дому, надув губы. А на дворе подбивал ребят и, собрав орду, шел далеко за город, через большое кладбище с покосившимися крестами и проваливающимися гробницами к маленькой серенькой речке. И здесь наслаждался.
Свобода успокаивала Гришкины нервы. Он раздевался и начинал с громким хохотом носиться по берегу и бултыхаться в мутной, грязной речонке.
Поздно приходил домой и, закутавшись, сразу валился на свой сундук спать.
Гришка вырос среди улицы. Отца он не помнит. Иногда что-то смутно промелькнет в его мозгу. Вот он видит себя на белом катафалке, посреди улицы. Он сидит на гробу высоко над всеми, а за ними идут мать, бабушка и кто-то еще, кого он не знает. Катафалк тащат две ленивые лошади, и Гришка подпрыгивает на деревянной гробовой доске, и Гришке весело. Это все, что осталось у него в памяти от отца. Больше он ничего вспомнить не мог.
Кузница дворовая с пылающим горном стала его отцом. Мать работала прачкой «по господам», некогда было сыном заниматься. Гришка полюбил кузницу. Особенно хорошо было смотреть вечером на пылающий кровавый горн и нюхать едкий, но вкусный дым или наблюдать, как мастер, выхватив из жара раскаленную полосу, клал ее на наковальню, а два молотобойца мощными ударами молотов мяли ее, как воск. Тяжелые кувалды глухо ухали по мягкому железу, и маленький ручник отзванивал такт. Выходило красиво — как музыка.
До того сжился с кузницей Гришка, что даже ночевать стал вместе с подмастерьями. Летом заберутся в карету непочиненную — усядутся. Уютно, хорошо, потом подмастерья рассказывают страшные сказки — про чертей, мертвецов, про колокольню с двенадцатью ведьмами.
Слушает Гришка — мороз кожу выпузыривает, а не уходит — жалко оставить так историю, не узнав, чем кончится.
Так бежало детство.
Потом мать повела в школу, пора было взяться за дело, да Гришка и не отвиливал, пошел с радостью.
Учиться хотелось по разным причинам, и главной из них были книжки брата с красивыми обложками, на которых виднелись свирепые лица, мелькали кинжалы, револьверы, тигры и текла красная хромолитографская кровь.
Гришка оказался способным. То, что его товарищи усваивали в два-три урока, он схватывал на лету, и учительница не могла нахвалиться им за его ретивость.
Однако успехи Гришкины на первом же году кончились. Читать он научился, писать тоже. Он вдруг решил, что этого вполне довольно, и с яростью засел за «Пинкертонов». Никакие наказания и внушения не помогали.
Гришка в самозабвении, затаив дыхание, носился с прославленным американским сыщиком по следам неуловимых убийц, взломщиков и похитителей детей или с помощником гениального следопыта Бобом Руландом пускался на поиски самого Ната Пинкертона, попавшего в лапы кровожадных преступников.
Так два года путешествовал он по американским штатам, а потом мать грустно сказала ему:
— Достукался, скотина. Из школы вышибли дурака. Что мне с тобой делать?
Гришка был искренне огорчен, однако ничего советовать матери не стал и вообще воздержался от дальнейшего обсуждения этого сложного вопроса.
С грехом пополам пристроила мать «отбившегося от рук» мальчишку в другую школу, но Гришка уже считал лишним учение и по выходе из дому прятал сумку с книгами в подвал, а сам шел на улицу, к излюбленному выступу у ювелирного магазина, где стояла уличная часовня. Здесь он садился около кружки с пожертвованиями и двумя пальцами начинал обрабатывать ее содержимое.
Помогала этой операции палочка. Заработок был верный. В день выходило по двугривенному и больше.
Потом пришла война, угнали на фронт брата. Гришку опять вышибли из школы за непосещение. Некоторое время отсиживался он дома, но мать упорно стояла на своем, и вот третья по счету классная доска начала маячить перед Гришкиными глазами.
С революцией Гришка и у себя сделал переворот. На глазах у матери он твердо отказался учиться и положил перед ней потрепанный и видавший виды ранец.
Напрасно ругалась мать, напрасно грозилась побить — он стоял на своем и упорно отказывался.
И вот мать махнула на него рукой, и Гришка вновь получил свободу.
Таскался по кинушкам, торговал папиросами, потом даже приобрел санки и сделался «советской лошадкой». Часами стоял он у вокзалов, ожидая приезда спекулянтов-мешочников, которым за хлеб или за деньги отвозил по адресу багаж. Но работа сорвалась: слабовата была «лошадка».
Однажды, в тусклый зимний вечер, накинув на плечи продранную братнину шинель и обрядив свои сапки, Гришка направился к Варшавскому встречать дальний поезд. Улицы уже опустели. Тихо посвистывая, Гришка подъехал к вокзалу и стал на свое обычное место у выхода. «Лошадок» уже собралось немало. Гришка поздоровался со своими соседями и, поудобнее усевшись на санки, стал ждать.
То и дело со всех сторон прибывали новые саночники, ждавшие «хлебного» поезда.
На углу, у лестницы, кучка ребят-лошадок ожесточенно нападала на новичков, тоже приехавших с саночками в поисках заработка.
— Чего к чужому вокзалу приперли? Вали вон!
Новички робко топтались на месте и скулили:
— Не пхайся! Местов много. Вокзал некупленный, где хотим, там и стоим!
Поезд пришел. Началась давка. Саночники наперли, яростно вырывали из рук ошалевших пассажиров мешки.
— Прикажете отвезти, земляк?
— Вот санки заграничные!
— За полтора фунта на Петроградскую сторону!
Гришка, волоча за собой санки, тоже уцепился было за сундук какой-то бабы и робко предложил:
— Куда прикажете, гражданка?
Но гражданка, не поняв Гришку, жалобно заголосила:
— Ах, паскуда! Караул! Сундук тянут!
Гришка, смущенный таким оборотом дела, выпустил сундук. Через мгновение он увидел, как тем же сундуком завладел какой-то верзила, с привычной сноровкой уговаривавший перепуганную старуху:
— Вы не волнуйтесь, гражданочка. Свезем в лучшем виде, прямо как на лихачах!
Становилось тише. Уже «лошадки» разъехались по всем направлениям, а Гришка все стоял и ждал. Остались только он да две старушонки с детскими саночками. На заработок не было уже никакой надежды, но домой ехать с пустыми руками не хотелось.
Вдруг из вокзала вышел мужик, огляделся и гаркнул:
— Эй, совецкие!
— Есть, батюшка, — прошамкали старушки.
— Пожалуйте, гражданин, — тихо проговорил Гришка.
Мужик оглядел трех саночников и с сомнением пробормотал:
— Да нешто вам свезти?
Потом выбрал Гришку и стал выносить мешки, туго набитые картошкой. Гришка испугался. Его сани покряхтывали от тяжести. Ужо некуда было класть, а мужик все носил. Гришка хотел было отказаться, но потом с отчаянием решил:
— Эх, была не была, вывезу!
И повез. Везти нужно было далеко, за заставу. Гришка весь вымок от пота, руки его немели, веревка резала грудь, а он все вез. Вечером он, разбитый, пришел домой и принес с собой целых три фунта черного, каленого, смешанного с овсом хлеба. Заработок был по тем временам крупный, но зато и последний. Гришка надорвался.
Дело обернулось совсем плохо. Дома не было даже хлеба, а Гришке нужны были деньги. Он курил и любил лакомиться лепешками с салом на толкучке. Потихоньку стал он воровать из дома вещи: то бабушкину золотую монету, то кофейник.
Потом как-то сразу все открылось. Терпение родительницы лопнуло, и мать, побегав неделю, отвезла Гришку за город в детскую трудовую колонию.
Колония помещалась в монастыре. Тут же в монастыре было и кладбище.
Голодно было, но весело. Полюбил Гришка товарищей, полюбил могилки и совсем было забыл дом, как вдруг разразилось новое несчастье.
К городу подступали белые.
Шли войска, тянулись обозы, артиллерия. Рассыпалась колония по огородам, и, пользуясь случаем, запасались воспитанники картошкой, капустой, редькой и прочей зеленью.
Тут Гришка, под наплывом чувств, вдруг вспомнил родных и начал снабжать их краденой снедью.
Тревожно было в городе. Ухали совсем близко орудия, и стекла дзинькали в окошках. Окутались улицы проволокой и мешками с песком.
Настроение у всех приподнятое. У Гришки тоже. Он пришел в любимый монастырь, в последний раз посмотрел на резные окна и белые кресты на могилках и, стащив две пары валенок из кладовой, ушел, с тем чтобы больше не возвращаться.
Потом еще приют, еще кражи.
Распределительный пункт с трудом отделался от мальчика, дав направление о переводе в Шкиду. Но взяли его только тогда, когда вместе с ним в приданое послали две пары брюк, постельное белье, матрац и кровать.
К тому времени у Гришки выработались свои взгляды на жизнь. Он стал какойто холодный ко всему, ничто не удивляло его, ничто не трогало. Рассуждал он, несмотря на свои четырнадцать лет, как взрослый, а правилом себе поставил: «Живи так, чтоб тебе было хорошо».
Таким пришел Гришка в Шкиду[[37]].
Пришел он утром. Его провели к заведующему в кабинет. Вид школы Гришке понравился, но при входе в кабинет зава он немного струхнул.
Вошел тихо и, притворив дверь, стал оглядывать помещение.
«Буржуем живет», — подумал он, увидев мягкие диваны и кресла, а на стенах фотографии в строгих черных рамках.
Викниксор сидел за столом. Увидев новичка, он указал ему рукой на кресло.
— Садись.
Гришка сел и притих.
— Мать есть?
— Есть.
— Чем занимается?
— Прачка она.
— Так, так. — Викниксор задумчиво барабанил пальцами по столу. — Ну а учиться ты любишь или нет?
Гришка хотел сказать «нет», потом раздумал и, решив, что это невыгодно, сказал:
— Очень люблю. Учиться и рисовать.
— И рисовать? — удивился заведующий. — Ну? Ты что же, учился где-нибудь рисовать?
Гришка напряг мозги, тщетно стараясь выпутаться из скверного положения, но залез еще глубже.
— Да, я учился в студии. И меня хвалили.
— О, это хорошо. Художники нам нужны, — поощрительно и уже мягче протянул Викниксор. — Будешь у нас рисовать и учиться.
Викниксор порылся в бумагах и, достав оттуда лист, проглядел его, внимательно вчитываясь:
— Ага. Твоя фамилия Черных. Ну ладно, идем, Черных. Я сведу тебя к товарищам.
Викниксор крупными шагами прошел вперед. Гришка шел сзади и критически осматривал зава. Сразу определил, что заведующему не по плечу клетчатый пиджак, и заметил отвисшее голенище сапога. Невольно удивился: «Ишь ты. Квартира буржуйская, а носить нечего».
Прошли столовую, и Викниксор дернул дверь в класс — Гришку сперва оглушил невероятный шум, а потом тишина, наступившая почти мгновенно. Он увидел ряды парт и десятка полтора застывших как по команде учеников.
Между тем Викниксор, позабыв про новичка, минуту осматривал класс, потом спокойно, не повышая голоса и даже как-то безразлично, процедил:
— Громоносцев, ты без обеда! Воронин, сдай сапоги, сегодня без прогулки! Воробьев, выйди вон из класса!
— За что, Виктор Николаевич?! Мы ничего не делали! Чего придираетесь-то! — хором заскулили наказанные, но Викниксор, почесав за ухом, не допускающим возражения тоном отрезал:
— Вы бузили в классе, — следовательно, пеняйте на себя! А теперь вот представляю вам еще новичка. Зовут его Григорий Черных. Это способный и даровитый парень, к тому же художник. Он будет заниматься в вашем отделении, так как по уровню знаний годится к вам.
Класс молчал и оглядывал новичка. С виду Гришка, несмотря на свои светлые волосы, напоминал еврея, и особенно бросался в глаза его нос, длинный и покатый, с загибом у кончика.
Минуту они стояли друг против друга — класс и Гришка с Викниксором. Потом завшколой, еще раз почесав за ухом и ничего не сказав, вышел из класса.
Цыган подошел поближе к насторожившемуся новичку, минуту молча осматривал его, потом вдруг отошел в сторону и, давясь от смеха, указывая пальцем на Гришку, хихикнул:
— Янкель пришел! Смотрите-ка, сволочи. Еврей! Типичный блондинистый еврей!
Гришка обиделся и огрызнулся:
— А чего ты смеешься-то? Ну, предположим, еврей… А ты-то на кого похож? Типичный цыган черномазый!..
Такой выходки никто не ожидал, и класс одобрительно загоготал:
— Ай да Янкель! Сразу Цыгана угадал.
— Коля, слышишь? Цыган издалека виден.
Колька сам был немало огорошен ответом и уже собирался проучить новичка, как вдруг выступил Воробышек;
— Чего пристаете к парню? Зануды грешные! Осмотреться не дадут. — Потом он, уже обращаясь к Гришке, добавил: — Иди сюда, Янкель, садись со мной.
— Да я совсем но Янкель, — протестовал Гришка, но Воробей только махнул рукой.
— Это уж, брат, забудь и думать! Раз прозвали Янкелем, значит — ша! Теперь Янкель навеки!
Гришка минуту постоял под злобным взглядом Кольки, мысленно взвешивая — схватиться с ним или нет, потом решил, что невыгодно, и пошел за Воробьем.
— Ты Цыгана не бойся. Он сволочь порядочная, но мы ему намылим шею, зря беспокоишься. А тебя он теперь не тронет, — тихо проговорил Воробей, сидя рядом с Гришкой.
Гришка молчал и только изредка улавливал краем уха зловещий шепот черномордого противника:
— Янкель пришел. Янкель воюет.
Но класс не поддержал Кольку. Янкель уже завоевал сочувствие ребят, к тому же не в обычае шкидцев было травить новичков.
Где-то за стеной зазвенел колокольчик.
— Уроки начинаются, — объяснил Воробей и добавил: — Теперь, Янкель, мы с тобой все время будем сидеть на этой парте. Хорошо?
— Хорошо, — удовлетворенно кивнул Янкель и впервые почувствовал, что наконец-то найден берег, найдена тихая пристань, от которой он теперь долго не отчалит.
За стеной звенел колокольчик.
Табак японский
Янкель дежурный. — Паломничество в кладовую. — Табак японский. — Спальня пирует. — Роковой обед. — Скидавай пальто. — Янкель-живодер. — Око за око. — Аудиенция у Викниксора. — Гога-Азеф. — Смерть Янкелю? — Мокрая идиллия.
Как показало время, Викниксор был прав, когда отрекомендовал нового воспитанника даровитым, способным парнишкой.
Так как способный Янкель уже около недели жил в Шкиде, то решили, что пора испробовать его даровитость на общественной работе.
Особенно большой общественной работы в то время в Шкиде не было, но среди немногих общественных должностей была одна особо почетная и важная — дежурство по кухне.
Дежурный, назначавшийся из воспитанников, прежде всего обязан был ходить за хлебом и другими продуктами в кладовую, где седенький старичок эконом распоряжался желудками своих питомцев.
Дежурный получал продукты на день и относил их на кухню к могущественной кухарке, распределявшей с ловкостью фокусника скудные пайки крупы и селедок таким образом, что выходил не только обед из двух блюд, но еще и на ужин коечто оставалось.
Янкеля назначили дежурным, но так как это поле деятельности ему было незнакомо, то к нему приставили помощником и наставником еще одного воспитанника — Косаря.
* * *
Когда зимние лучи солнца робко запрыгали по стенкам спальни, толстенький и меланхоличный Косарь хмуро поднялся с койки и, натягивая сапоги, прохрипел:
— Янкель, вставай. Ты дежурный.
Вставать не хотелось: кругом, свернувшись калачиком, распластавшись на спине или уткнувшись носом в подушку, храпели восемь молодых чурбашек, и так хотелось закутаться с головой в теплое одеяло и похрапеть еще полчаса вместе с ними.
За стеной брякал рояль. Это Верблюдыч, проснувшийся с первым солнечным лучом, разучивал свою гамму. Верблюдыч сидел за роялем, — это означало, что времени восемь часов.
Янкель лениво зевнул и обратился к Косарю:
— Курить нет?
— Нету.
Потом оба кое-как оделись и двинулись в кладовку.
Кладовая находилась на чердаке, а площадкой ниже, в однокомнатной квартирке, жил эконом. От лестницы эту квартиру отделял довольно длинный коридор, дверь в который была постоянно замкнута на ключ, и нужно было долго стучаться, чтобы эконом услышал.
Янкель и Косарь остановились перед дверью в коридор. Косарь, лениво потягиваясь, стукнул кулаком по двери, вызывая эконома, и вдруг широко раскрыл заспанные глаза.
Дверь открылась от удара.
— Ишь ты, тетеря. Забыл закрыть, — покачал головой Косарь и, знаком позвав Янкеля, пошел в темноту.
Добрались ощупью до другой двери, открыли и вошли в прихожую, залитую солнечным светом.
В прихожей было так тепло и уютно, что заспанные общественники невольно медлили входить в комнату эконома, наслаждаясь минутами покоя и одиночества.
В этот момент и случилось то простое, но памятное дело, в котором Янкель впервые выказал свои незаурядные способности.
Косарь стоял и силился побороть необычайную сонливость, упорно направляя все мысли к одному: надо войти к эконому. В момент, когда, казалось, сила воли поборола в нем лень и когда он хотел уже нажать ручку двери, вдруг послышался голос Янкеля, странно изменившийся до шепота:
— Курить хочешь?
Хотел ли курить Косарь? Еще бы не хотел! Поэтому вся энергия, собранная на то, чтобы открыть дверь, вдруг сразу вырвалась в повороте к Янкелю и в энергичном возгласе:
— Хочу!
— Ну, так, пожалуйста, кури. Вон табак.
Косарь проследил за взглядом Янкеля и замер, упершись глазами в стол.
Там правильными рядами лежали аккуратненькие коричневые четвертушки табаку. По обложке наметанный глаз курильщика определил: высший сорт Б.
Пачек сорок — было мысленное заключение практических математиков.
Взглянули друг на друга и решили, не сговариваясь: 40 — 2 = 38. Авось не заметят недостачи.
Так же молча подошли к столу и, положив по пачке в карман, вышли на цыпочках из комнаты.
* * *
Сонную тишину спальни нарушил треск двери, и два возбужденных шпаргонца ворвались в комнату.
— Ребята, табак!
Восемь голов мгновенно вынырнули из-под одеял, восемь пар глаз заблестело масляным блеском, узрев в поднятых руках Косаря и Янкеля аппетитные пачки.
Первым оправился Цыган. Быстро вскочив с койки и исследовав вблизи милые четвертушки, он жадно спросил:
— Где?
Дежурные молча мотнули головами по направлению к комнате эконома. Цыган сорвался с места и скрылся за дверьми.
Спальня притихла в томительном ожидании.
— Ура, сволочи! Есть!
Громоносцев влетел победоносно, размахивая двумя пачками табаку.
Пример заразителен, и никакие силы уже не могли сдержать оставшихся.
Решительно всем захотелось иметь по четвертке табаку, и, уже забыв о предосторожностях, спальня сорвалась и, как на состязаниях, помчалась в заветную комнату…
Через пять минут Шкида ликовала.
Каждый ощупывал, мял и тискал злосчастные пакетики, так неожиданно свалившиеся к ним.
Черный, как жук, заика Гога, заядлый курильщик, страдавший больше всех от недостатка курева и собиравший на улице «чиновников», был доволен больше всех. Он сидел в углу и, крепко сжимая коричневую четвертку, безостановочно повторял:
— Таб-бачок есть. Таб-бачок есть.
Янкель, забравшись на кровать, глупо улыбался и пел:
Шинель английский, Табак японский, Ах, шарабан мой…На радостях даже не заметили, что на подоконнике притулилась лишняя пачка, пока Цыган не обратил внимания.
— Сволочи! Чей табак на подоконнике? У всех есть?
— У всех.
— Значит, лишняя?..
— Лишняя.
— Ого, здорово, даже лишняя!
— Тогда лишнюю поделим. А по целой пачке заначим.
— Вали!
— Дели. Согласны.
Лишнюю четвертку растерзали на десять частей. Когда дележку закончили, Цыган грозно предупредил:
— Табак заначивайте скорее. Не брехать. Приходящим ни слова об этом. Поняли, сволочи? А если кого запорют, сам и отвиливай, других не выдавай.
— Ладно. Вались. Знаем…
В это утро воспитатель Батька, войдя в спальню, был чрезвычайно обрадован тем обстоятельством, что никого не надо было будить. Все гнездо было на ногах. Батька удовлетворенно улыбнулся и поощрительно сказал:
— Здорово, ребята! Как вы хорошо, дружно встали сегодня!
Цыган, ехидно подмигнув, загоготал:
— Ого, дядя Сережа, мы еще раньше можем вставать.
— Молодцы, ребята. Молодцы.
— Ого, дядя Сережа, еще не такими молодцами будем.
Между тем Янкель и Косарь снова пошли в кладовую.
Эконом еще ничего не подозревал. Как всегда ласково улыбаясь, он не спеша развешивал продукты и между делом справлялся о новостях в школе, говорил о хорошей погоде, о наступивших морозах и даже дал обоим шкидцам по маленькому куску хлеба с маслом.
Янкель молчал, а Косарь хмуро поддакивал, но оба вздохнули свободно только тогда, когда вышли из кладовой.
Остановившись у дверей, многозначительно переглянулись. Потом Янкель сокрушенно покачал головой и процедил:
— Огребем.
— Огребем, — поддакнул Косарь.
* * *
День потянулся по заведенному порядку. Утренний чай сменился уроками, уроки — переменами, все было как всегда, только приходящие удивлялись: сегодня приютские не стреляли у них, по обыкновению, докурить «оставочки», а торжественно и небрежно закуривали свои душистые самокрутки.
В четвертую перемену, перед обедом, Янкель забеспокоился: пропажа могла скоро открыться, а у него до сих пор под подушкой лежал табак. Подстегивали его и остальные, уже успевшие спрятать свою добычу.
Не переводя духа взбежал он по лестнице наверх в спальню, вытащил табак и остановился в недоумении.
Куда же спрятать? Закинуть на печку? Нельзя — уборка будет, найдут. В печку — сгорит. В отдушину — провалится.
Янкель выскочил в коридор, пробежал до ванной и влетел туда. Сунулся с радостью под ванну и выругался: кто-то предупредил его — рука нащупала чужую пачку.
В панике помчался он в пустой нижний зал, превращенный в сарай и сплошь заваленный партами. С отчаянной решимостью сунул табак под ломаную кафедру и только тогда успокоился.
Спускаясь вниз, Янкель услышал дребезжащую трель звонка, звавшего на обед. Вспомнил, что он дежурный, и сломя голову помчался на кухню.
Надо было нарезать десять осьмушек — порций хлеба для интернатских, — ведь это была обязанность дежурного.
Шкидский обед был своего рода религиозным обрядом, и каждый вновь приходящий питомец должен был твердо заучить обеденные правила.
Сперва в столовую входили воспитанники «живущие» и молча рассаживались за столом. За другой стол садились «приходящие».
Минуту сидели молча, заложив руки за спины, и ерзали голодными глазами по входным дверям, ведущим в кухню.
Затем появлялся завшколой с тетрадочкой в руках и начинался второй акт — перекличка.
Ежедневно утром и вечером, в обед и ужин выкликался весь состав воспитанников, и каждый должен был отвечать: «Здесь». Только тогда получал он право есть, когда перед его фамилией вырастала «птичка», означающая, что он действительно здесь, в столовой, и что паек не пропадет даром. Затем дежурный вносил на деревянном щите осьмушки и клал перед каждым на стол. После этого появлялась широкоскулая, рябоватая Марта, разливавшая неизменный пшенный суп на селедочном отваре и неизменную пшенную кашу, потому что, кроме пшена да селедок, в кладовой никогда ничего не было. Постное масло, которым была заправлена каша, иногда заменял тюлений жир.
По сигналу Викниксора начиналось всеобщее сопение, пыхтение и чавканье, продолжавшееся, впрочем, очень недолго, так как порции супа и каши не соответствовали аппетиту шкидцев. В заключение, на сладкое, Викниксор произносил речь. Он говорил или о последних событиях за стенами школы, или о каких-нибудь своих новых планах и мероприятиях, или просто сообщал, на радость воспитанникам, что ему удалось выцарапать для школы несколько кубов дров.
Точка в точку то же повторилось и в день дежурства Янкеля, но только на этот раз речь Викниксора была посвящена вопросам этическим. С гневом и презрением громил завшколой ту часть несознательных учеников, которая предается отвратительному пороку обжорства, стараясь получить свою порцию поскорее и вне очереди.
Речь кончилась. Довольна ли была аудитория, осталось неизвестным, но завшколой был удовлетворен и уже собирался уйти к себе, чтобы принять и свою порцию селедочного бульона и пшенной каши, как вдруг всю эту хорошо проведенную программу нарушил эконом.
Он старческой, дрожащей походкой выпорхнул из двери, подковылял к заву и стал что-то тихо ему говорить. Шкидцы нюхом почуяли неладное, физиономии их вытянулись, и добрая пшенка, пища солдат и детдомовцев времен гражданской войны и разрухи, обычно скользкая, неощутимая и гладкая, вдруг сразу застряла в десяти глотках и потеряла свой вкус.
В воздухе запахло порохом.
Эконом говорил долго, — пожалуй, дольше, чем хотелось шкидцам.
Десять пар глаз следили, как постепенно менялось лицо Викниксора: сперва брови удивленно прыгнули вверх и кончик носа опустился, потом тонкие губы сложились в негодующую гримасу, пенсне скорбно затрепетало на горбинке, а кончик носа покраснел. Викниксор встал и заговорил:
— Ребята, у нас случилось крупное безобразие!
Экстерны беззаботно впились в дышавшее гневом лицо зава, ожидая услышать добавочную речь в виде второго десерта, но у живущих сердца робко екнули и разом остановились.
— В нашей школе совершена кража. Какие-то канальи украли из передней нашего эконома одиннадцать пачек табаку, присланного для воспитателей. Ребята, я повторяю: это безобразие. Если через полчаса виновные не будут найдены, я приму меры. Так что помните, ребята!..
Это была самая короткая и самая содержательная речь из всех речей, произнесенных Викниксором со дня основания Шкиды, и она же оказалась первой, вызвавшей небывалую бурю.
За словами Викниксора последовало всеобщее негодование. Особенно возмущались экстерны, для которых все это было неожиданным, а интернатским ничего не оставалось делать, как поддерживать и разделять это возмущение.
Буря из столовой перелилась в классы, но полчаса прошло, а воров не нашли. Таким образом, автоматически вошли в силу «меры» завшколой, которые очень скоро показали себя.
После уроков у интернатских отняли пальто. Это означало, что они лишены свободной прогулки.
Это был тяжелый удар.
Само по себе пришло тоскливое настроение, и хотя активное ядро — Цыган, Воробей, Янкель и Косарь старались поддерживать дух и призывать к борьбе до конца, большим успехом их речи уже не пользовались.
Напрасно Цыган, свирепо вращая черными глазами и скрипя зубами, говорил страшным голосом:
— Смотрите, сволочи, стоять до последнего. Не признаваться!..
Его плохо слушали.
Долгий зимний вечер тянулся томительно и скучно.
За окном, покрытым серыми ледяными узорами, бойко позванивали трамваи и слышались окрики извозчиков. А здесь, в полутемной спальне, томились без всякого дела десять питомцев. Янкель забился в угол и, поймав кошку, ожесточенно тянул ее за хвост. Та с отчаянной решимостью старалась вырваться, потом, после безуспешных попыток, жалобно замяукала.
— Брось, Янкель. Чего животную мучаешь, — лениво пробовал защитить «животную» Воробей, но Янкель продолжал свое.
— Янкель, не мучь кошку. Ей тоже небось больно, — поддержал Воробья Косарь.
Кошкой заинтересовались и остальные. Сперва глядели безучастно, но, когда увидели, что бедной кошке невтерпеж, стали заступаться.
— И чего привязался, в самом деле!
— Ведь больно же кошке, отпусти!..
— Потаскал бы себя за хвост, тогда узнал бы.
В спальню вошел воспитатель.
— Ого, Батька пришел! Дядя Сережа, дядя Сережа, расскажите нам что-нибудь, — попробовал заигрывать Цыган, но осекся.
Батька строго посмотрел на него и отчеканил:
— Громоносцев, не забывайтесь. Я вам не батька и не Сережа и прошу ложиться спать без рассуждений.
Дверь шумно захлопнулась.
Долго ворочались беспокойные шкидцы на поскрипывающих койках, и каждый по-своему обдумывал случившееся, пока крепкий, властный сон по одолел их тревоги и под звуки разучиваемого Верблюдычем мотива не унес их далеко прочь из душной спальни.
* * *
Рано утром Янкель проснулся от беспокойной мысли: цел ли табак?
Он попытался отмахнуться от этой мысли, по тревожное предчувствие но оставляло его. Кое-как одевшись, он встал и прокрался в зал.
Вот и кафедра. Янкель, поднатужась, приподнял ее и, с трудом удерживая тяжелое сооружение, заглянул под низ, по табаку не увидел.
Тогда, потея от волнения, он разыскал толстую деревянную палку, подложил ее под край кафедры, а сам лег на живот и стал шарить. Табаку не было. Янкель зашел с другой стороны, опять поискал: по-прежнему рука его ездила по гладкой и пыльной поверхности паркета.
Он похолодел и, стараясь успокоить себя, сказал вслух:
— Наверное, под другой кафедрой.
Опять усилия, ползание и опять разочарование. Под третьей кафедрой табаку также не оказалось.
— Сперли табак, черти! — яростно выкрикнул Янкель, забыв осторожность. — Тискать у товарищей! Ну, хорошо!
Злобно погрозив кулаком в направлении спальни, он тихо вышел из зала и зашел в ванную.
Когда он снова показался в дверях, на лице его уже играла улыбка. В руке он держал плотно запечатанную четвертку табаку.
* * *
— Элла Андреевна! А как правильно: «ди фенстер» или «дас фенстер»?
— Дас. Дас.
Эланлюм любила свой немецкий язык до самозабвения и всячески старалась привить эту любовь своим питомцам, поэтому ей было очень приятно слышать назойливое гудение класса, зазубривавшего новый рассказ о садовниках.
— Воронин, о чем задумался? Учи урок.
— Воробьев, перестань читать посторонние книги. Дай ее сюда немедленно.
— Элла Андреевна, я не читаю.
— Дай сюда немедленно книгу.
Книга Воробьева водворилась на столе, и Эланлюм вновь успокоилась.
Когда истек срок, достаточный для зазубривания, голос немки возвестил:
— Теперь приступим к пересказу. Громоносцев, читай первую строку.
Громоносцев легко отчеканил по-немецки первую фразу:
— У реки был берег, и на земле стоял дом.
— Черных, продолжай.
— У дома стояла яблоня, на яблоне росли яблоки.
Вдруг в середине урока в класс вошел Верблюдыч и скверным, дребезжащим голосом проговорил, обращаясь к Эланлюм:
— Ошень звиняйсь, Элла Андреевна. Виктор Николайч просил прислать к нему учеников Черний, Громоносцев унд Воробьев. Разрешите, Элла Андреевна, их уводить.
— Не Черный, а Черных! Научись говорить, Верблюд! — пробурчал оскорбленный Янкель, втайне гордившийся своей оригинальной фамилией, и захлопнул книгу.
По дороге ребята сосредоточенно молчали, а обычно ласковый и мягкий Верблюдыч угрюмо теребил прыщеватый нос и поправлял пенсне.
Невольно перед дверьми кабинета завшколой шкидцы замедлили шаги и переглянулись. В глазах у них застыл один и тот же вопрос: «Зачем зовет? Неужели?»
Викниксор сидел за столом и перебирал какие-то бумажки. Шпаргонцы остановились, выжидательно переминаясь с ноги на ногу, и нерешительно поглядывали на зава.
Наступила томительная тишина, которую робко прервал Янкель.
— Виктор Николаевич, мы пришли.
Заведующий повернулся, потом встал и нараспев проговорил:
— Очень хорошо, что пришли. Потрудитесь теперь принести табак!
Если бы завшколой забрался на стол и исполнил перед ними «танец живота», и то тройка не была бы так удивлена.
— Виктор Николаевич! Мы ничего не знаем. Вы нас обижаете! — раздался единодушный выкрик, но завшколой, не повышая голоса, повторил:
— Несите табак!
— Да мы не брали.
— Несите табак!
— Виктор Николаевич, ей-богу, не брали, — побожился Янкель, и так искренне, что даже сам удивился и испугался.
— Вы не брали? Да? — ехидно спросил зав. — Значит, не брали?
Ребята сробели, но еще держались.
— Не-ет. Не брали.
— Вот как? А почему же ваши товарищи сознались и назвали вас?
— Какие товарищи?
— Все ваши товарищи.
— Не знаем.
— Не знаете? А табак узнаете? — Викниксор указал на стол. У ребят рухнули последние надежды. На столе лежали надорванные, помятые, истерзанные семь пачек похищенного табаку.
— Ну, как же, не брали табак? А?
— Брали, Виктор Николаевич!
— Живо принесите сюда! — скомандовал заведующий.
За дверьми тройка остановилась.
Янкель, сплюнув, ехидно пробормотал:
— Ну вот и влопались. Теперь табачок принесем, а потом примутся за нас. А на кой черт, спрашивается, брали мы этот табак!
— Но кто накатил, сволочи? — искренне возмутился Цыган.
— Кто накатил?
Этот злосчастный вопрос повис в воздухе, и, не решив его, тройка поползла за своими заначками.
Первым вернулся Янкель. Положил, посапывая носом, пачку на стол зава и отошел в сторону. Потом пришел Воробей.
Громоносцева не было.
Прошла минута, пять, десять минут — Колька не появлялся.
Викниксор уже терял терпение, как вдруг Цыган ворвался в комнату и в замешательстве остановился.
— Ну? — буркнул зав. — Где табак?
Цыган молчал.
— Где, я тебя спрашиваю, табак?
— Виктор Николаевич, у меня нет… табаку… У меня… тиснули, украли табак, — послышался тихий ответ Цыгана.
Янкеля передернуло. Так вот чей табак взял он по злобе, а теперь бедняге Кольке придется отдуваться.
Рассвирепевший Викниксор подскочил к Цыгану и, схватив его за шиворот, стал яростно трясти, тихо приговаривая:
— Врать, каналья? Врать, каналья? Неси табак! Неси табак!
Янкелю казалось, что трясут его, но сознаться не хватало силы. Вдруг он нашел выход.
— Виктор Николаевич! У Громоносцева нет табака, это правда.
Викниксор прекратил тряску и гневно уставился на защитника. Янкель замер, но решил довести дело до конца.
— Видите ли, Виктор Николаевич. Одну пачку мы скурили сообща. Одна была лишняя, а одну… а одну вы ведь нашли, верно, сами. Да? Так вот это и была Громоносцева пачка.
— Да, правильно. Мне воспитатель принес, — задумчиво пробормотал заведующий.
— Из ванной? — спросил Громоносцев.
— Нет, кажется, не из ванной.
Сердце Янкеля опять екнуло.
— Ну, хорошо, — не разжимая губ, проговорил Викниксор. — Сейчас можете идти. Вопрос о вашем омерзительном поступке обсудим позже.
* * *
Кончились уроки; с шумом и смехом, громко стуча выходной дверью, расходились по домам экстерны.
Янкель с тоской посмотрел, как захлопнулась за последним дверь и как дежурный, закрыв ее на цепочку, щелкнул ключом.
«Гулять пошли, задрыги. Домой», — тоскливо подумал он и нехотя поплелся в спальню.
При входе его огорошил невероятный шум. Спальня бесилась.
Лишь только он показался в дверях, к нему сразу подлетел Цыган:
— Гришка! Знаешь, кто выдал нас, а?
— Кто?
— Гога — сволочь!
Гога стоял в углу, прижатый к стене мятущейся толпой, и, напуганный, мягко отстранял кулаки от носа.
Янкель сорвался с места и подлетел к Гоге.
— Ах ты подлюга! Как же ты мог сделать зто, а?
— Д-д-да я, ей-богу, не нарочно, б-б-ратцы. Не нарочно, — взмолился тот, вскидывая умоляющие коричневые глаза и силясь объясниться. — В-ви-ви-тя п-пп-озвал меня к се-бе и г-говорит: «Ты украл табак, мне сказали». А я д-думал, вы сказали, и с-сознался. А п-потом он спрашивает, к-как мы ук-крали. А я и ск-казал: «Сперва Ч-черных и Косоров п-пошли, а п-потом Громоносцев, а потом и все».
— А-а п-потом и в-все, зануда! — передразнил Гогу Янкель, но бить его было жалко — и потому, что он так глупо влип, и потому, что вообще он возбуждал жалость к себе.
Плюнув, Янкель отошел в сторону и лег на койку.
Разбрелись и остальные. Только заика остался по-прежнему стоять в углу, как наказанный.
— Что-то будет? — вздохнул кто-то.
Янкель разозлился и, вскочив, яростно выкрикнул:
— Чего заныли, охмурялы! «Что-то будет! Что-то будет!» Что будет, то и будет, а скулить нечего! Нечего тогда было и табак тискать, чтоб потом хныкать!
— А кто тискал-то?
— Все тискали.
— Нет, ты!
Янкель остолбенел.
— Почему же я-то? Я тискал для себя, а ваше дело было сторона. Зачем лезли?
— Ты подначил!
Замолчали.
Больше всего тяготило предчувствие висящего над головой наказания. Нарастала злоба к кому-то, и казалось, дай малейший повод, и они накинутся и изобьют кого попало, только чтобы сорвать эту накопившуюся и не находящую выхода ненависть.
Если бы наказание было уже известно, было бы легче, — неизвестность давила сильнее, чем ожидание.
То и дело кто-нибудь нарушал тишину печальным вздохом и опять замирал и задумывался.
Янкель лежал, бессмысленно глядя в потолок. Думать ни о чем не хотелось, да и не шли в голову мысли. Его раздражали эти оханья и вздохи.
— Зачем мы пошли за этим сволочным Янкелем? — нарушил тишину Воробей, и голос его прозвучал так отчаянно, что Гришка больше не выдержал. Ему захотелось сказать что-нибудь едкое и злое, чтобы Воробей заплакал, Но он ограничился только насмешкой:
— Пойди, Воробышек, сядь к Вите на колени и попроси прощения.
— И пошел бы, если бы не ты.
— Дурак!
— Сам дурак. Сманил всех, а теперь лежит себе.
Янкель рассвирепел.
— Ах ты сволочь коротконогая! Я тебя сманивал?
— Всех сманил!
— Факт, сманил, — послышались голоса с кроватей.
— Сволочи вы, а не ребята, — кинул Янкель, не зная, что сказать.
— Ну, ты полегче. За сволочь морду набью.
— А ну набейте.
— И набьем. Еще кошек мучает!
— Сейчас вот развернусь — да как дам! — услышал Янкель над собой голос Воробья и вскочил с койки.
— Дай ему, Воробышек! Дай, не бойся. Мы поможем!
Положение принимало угрожающий оборот, и неизвестно, что сделала бы с Янкелем рассвирепевшая Шкида, если бы в этот момент в спальню не вошел заведующий. Ребята вскочили с кроватей и сели, опустив головы и храня гробовое молчание.
Викниксор прошелся по комнате, поглядел в окно, потом дошел до середины и остановился, испытующе оглядывая воспитанников. Все молчали.
— Ребята, — необычайно громко прозвучал его голос. — Ребята, на педагогическом совете мы только что разобрали ваш поступок. Поступок скверный, низкий, мерзкий. Это — поступок, за который надо выгнать вас всех до одного, перевести в лавру, в реформаториум, В лавру, в реформаториум! — повторил Викниксор, и головы шкидцев опустились еще ниже. — Но мы не решили этот вопрос так просто и легко. Мы долго его обсуждали и разбирали, долго взвешивали вашу вину и после всего уже решили. Мы решили…
У шкидцев занялся дух. Наступила такая тяжелая тишина, что, казалось, упади на пол спичка, она произвела бы грохот. Томительная пауза тянулась невыносимо долго, пока голос заведующего не оборвал ее:
— И мы решили, мы решили… не наказывать вас совсем…
Минуту стояла жуткая тишь. Потом прорвалась.
— Виктор Николаевич! Спасибо!..
— Неужели, Виктор Николаевич?
— Спасибо. Больше никогда этого не будет.
— Не будет. Спасибо.
Ребята облепили заведующего, сразу ставшего таким хорошим, похожим на отца. А он стоял, улыбался, гладил рукой склоненные головы.
Кто-то всхлипнул под наплывом чувств, кто-то повторил этот всхлип, и вдруг все заплакали.
Янкель крепился и вдруг почувствовал, как слезы невольно побежали из глаз, и странно — вовсе не было стыдно за эти слезы, а, наоборот, стало легко, словно вместе с ними уносило всю тяжесть наказания.
Викниксор молчал.
Гришке вдруг захотелось показать свое лицо заведующему, показать, что оно в слезах и что слезы эти настоящие, как настоящее раскаяние.
В порыве он задрал голову и еще более умилился.
Викниксор — гроза шкидцев, Викниксор — строгий заведующий школой — тоже плакал, как и он, Янкель, шкидец…
Так просто и неожиданно окончилось просто и неожиданно начавшееся дело о табаке японском — первое серьезное дело в истории республики Шкид…
Маленький человек из-под Смольного
Маленький человек. — На Канонерский остров. — Шкида купается. — Гутен таг, камераден. — Бисквит из Гамбурга. — Идея Викниксора. — Гимн республики Шкид.
У дефективной республики Шкид появился шеф — портовые рабочие.
Торгпорт сперва помог деньгами, на которые прикупили учебников и кое-каких продуктов, потом портовики привезли дров, а когда наступило лето, предоставили детдому Канонерский остров и территорию порта для экскурсий и прогулок.
Прогулки туда для Шкиды были праздником. Собирались с утра и проводили в порту весь день, и только поздно вечером довольные, но усталые возвращались под своды старого дома на Петергофском проспекте.
Обычно сборы на остров поглощали все внимание шкидцев. Они бегали, суетились, одни добывали из гардеробной пальто, другие запаковывали корзины с шамовкой, третьи суетились просто так, потому что на месте не сиделось.
Немудрено поэтому, что в одно из воскресений, когда происходили сборы для очередного похода в порт, ребята совершенно не заметили внезапно появившейся маленькой ребячьей фигурки в сером, довольно потертом пальтишко и шапочке, похожей на блин.
Он — этот маленький, незаметный человечек — изумленно поглядывал на суетившихся и шмыгал носом. Потом, чтобы не затолкали, прислонился к печке и так и замер в уголке, приглядываясь к окружающим.
Между тем ребята построились в пары и ожидали команды выходить на улицу.
Викниксор в последний раз обошел ряды и тут только заметил притулившуюся в углу фигурку.
— Ах, да. Эй, Еонин, иди сюда. Стань в задние ряды. Ребята, это новый воспитанник, — обратился он к выстроившейся Шкиде, указывая на новичка.
Ребята оглянулись на него, но в следующее же мгновение забыли про его существование.
Школа тронулась.
Вышли на улицу, по-воскресному веселую, оживленную. Со всех сторон, как воробьи, чирикали торговки семечками, блестели нагретые солнцем панели. До порта было довольно далеко, но бодро настроенные шкидцы шагали быстро, и скоро перед ними заскрипели и распахнулись высокие синие ворота Торгового порта.
Сразу повеяло прохладой и простором. Впереди сверкала вода Морского канала, какая-то особая, более бурливая и волнующаяся, чем вода Обводного или Фонтанки.
Несмотря на воскресный день, порт работал. Около приземистых, широких, как киты, пакгаузов суетились грузчики, сваливая мешки с зерном. От движения ветра тонкий слой пыли не переставая серебрился в воздухе.
Дальше, вплотную к берегу, стоял немецкий пароход, прибывший с паровозами.
Шкидцы попробовали прочесть название, но слово было длинное и разобрали его с трудом — «Гамбургер Обербюр-гермейстер».
— Ну и словечко. Язык свернешь, — удивился Мамочка, недавно пришедший в Шкиду ученик.
Мамочка — это было его прозвище, а прозвали его так за постоянную поговорку: «Ах мамочки мои».
«Ах мамочки» постепенно прообразовалось в Мамочку и так и осталось за ним.
Мамочка был одноглазый. Второй глаз ему вышибли в драке, поэтому он постоянно носил на лице черную повязку.
Несмотря на свой недостаток, Мамочка оказался очень задиристым и бойким парнем, и скоро его полюбили.
Вот и теперь Мамочка не вытерпел, чтобы не показать язык немецкому матросу, стоявшему на палубе.
Тот, однако, не обиделся и, добродушно улыбнувшись, крикнул ему:
— Здрасте, комсомол!
— Ого! Холера! По-русски говорит, — удивились ребята, но останавливаться было некогда. Все торопились на остров, солнце уже накалило воздух, хотелось купаться.
Прошли быстро под скрипевшим и гудевшим от напряжения громадным краном и, уже издали оглянувшись, увидели, как гигантская стальная лапа медленно склонилась, ухватила за хребет новенький немецкий паровоз и бесшумно подняла его на воздух.
В лодках переехали через канал и углубились в зелень, — по обыкновению, шли в самый конец Канонерского, туда, где остров превращается в длинную узкую дамбу.
Жара давала себя знать. Лица ребят уже лоснились от пота, когда наконец Викниксор разрешил сделать привал.
— Ура-а-а! Купаться!
— Купа-а-аться!
Сразу каменистый скат покрылся голыми телами, Море, казалось, едва дышало, ветра не было, но вода у берега беспокойно волновалась.
Откуда-то накатывались валы и с шумом обрушивались на камни.
В воду влезать было трудно, так как волна быстро выбрасывала купающихся на камни. Но ребята уже приноровились.
— А ну, кто разжигает! Начинай! — выкрикнул Янкель, хлопая себя по голым ляжкам.
— Разжигай!
— Дай я. Я разожгу, — выскочил вперед Цыган. Стал у края, подождал, пока не подошел крутой вал, и нырнул прямо в водяной горб.
Через минуту он уже плыл, подкидываемый волнами.
Одно за другим исчезали в волнах тела, чтобы через минуту — две вынырнуть где-то далеко от берега, на отмели.
Янкель остался последний и уже хотел нырять, как вдруг заметил новичка.
— А ты что не купаешься?
— Не хочу. Да и не умею.
— Купаться не умеешь?
— Ну да.
— Вот так да, — искренне удивился Черных. Потом подумал и сказал: — Все равно, раздевайся и лезь, а то ребята засмеют. Да ты не бойся, здесь мелко.
Еонин нехотя разделся и полез в воду. Несмотря на свои четырнадцать лет, был он худенький, слабенький, и движения у него были какие-то неуклюжие и угловатые.
Два раза Еонина вышвыривало на берег, но Янкель, плававший вокруг, ободрял:
— Ничего. Это с непривычки. Уцепись за камни крепче, как волна найдет.
Потом ему стало скучно возиться с новичком, и он поплыл за остальными.
На отмели ребята отдыхали, валяясь на песке и издеваясь над Викниксором, который плавал, по шкидскому определению, «по-бабьи».
Время летело быстро. Как-то незаметно берег вновь усыпали тела.
Ребята накупались вдоволь и теперь просиди есть.
Роздали хлеб и по куску масла.
Тут Янкель вновь вспомнил про новичка и, решив поговорить с ним, стал его искать, но Еонина нигде не было.
— Виктор Николаевич, а новичку дали хлеб? — спросил он быстро. Викниксор заглянул в тетрадку и ответил отрицательно.
Тогда Янкель, взяв порцию хлеба, пошел разыскивать Еонина.
Велико было его изумление, когда глазам его представилась следующая картина. За кустами на противоположной стороне дамбы сидел новичок, а с ним двое немецких моряков.
Самое удивительное, что все трое оживленно разговаривали по-немецки. Причем новичок жарил на чужом языке так же свободно, как и на русском.
«Ого!» — с невольным восхищением подумал Янкель и выскочил из-за куста.
Немцы удивленно оглядели нового пришельца, потом приветливо заулыбались, закивали головами и пригласили Янкеля сесть, поясняя приглашение жестами. Янкель, не желая ударить лицом в грязь, призвал на помощь всю свою память и наконец, собрав несколько подходящих слов, слышанных им на уроках немецкого языка, галантно поклонился и произнес:
— Гутен таг, дейтчлянд камераден.
— Гутен таг, гутен таг, — снова заулыбались немцы, но Янкель уже больше ничего не мог сказать, поэтому, передав хлеб новичку, помчался обратно. Там он, состроив невинную улыбку, подошел к заведующему.
— Виктор Николаевич, а как по-немецки будет… Ну, скажем: «Товарищ, дай мне папироску»?
Викниксор добродушно улыбнулся:
— Не помню, знаешь. Спроси у Эллы Андреевны. Она в будке.
Янкель отошел.
Эланлюм сидела в маленькой полуразрушенной беседке на противоположном берегу острова. Она пришла позже детей и, выкупавшись в стороне, теперь отдыхала.
Янкель повторил вопрос, но Эланлюм удивленно вскинула глаза:
— Зачем это тебе?
— Так. Хочу в разговорном немецком языке попрактиковаться.
Эллушка минуту подумала, потом сказала:
— Камраден, битте, гебен зи мир айне цигаретте.
— Спасибо, Элла Андреевна! — выкрикнул Янкель и помчался к немцам, стараясь не растерять по дороге немецкие слова.
Там он еще раз поклонился и повторил фразу. Немцы засмеялись и вынули по сигарете. Янкель взял обе и ушел, вполне довольный своими практическими занятиями.
На берегу он вытащил сигарету и закурил. Душистый табак щекотал горло. Почувствовав непривычный запах, ребята окружили его.
— Где взял?
— Сигареты курит!
Но Черных промолчал и только рассказал о новичке и о том, как здорово тот говорит по-немецки.
Однако ребята уже разыскали немцев. Поодиночке вся Шкида скоро собралась вокруг моряков.
Еонин выступал в роли переводчика.
Он переводил и вопросы ребят, и ответы немцев.
А вопросов у ребят было много, и самые разнообразные. Почему провалилась в Германии революция? Имеются ли в Германии детские дома? Есть ли там беспризорники? Изучают ли в немецких школах русский язык? Случалось ли морякам бывать в Африке? Видели ли они крокодилов? Почему они курят не папиросы, а сигареты? Почему немцы терпят у себя капиталистов?
Моряки пыхтели, отдувались, но отвечали на все вопросы.
Ребята так увлеклись беседой, что даже не заметили, как подошли заведующий с немкой.
— Ого! Да тут гости, — раздался голос Викниксора.
Эланлюм сразу затараторила по-немецки, улыбаясь широкой улыбкой. Ребята ничего не понимали, но сидели и с удовольствием рассматривали иностранцев, а старшие сочли долгом ближе познакомиться с новичком, выказавшим такие необыкновенные познания в немецком языке.
— Где это ты научился так здорово говорить? — спросил его Цыган.
Еонин улыбнулся.
— А там, в Очаковском. Люблю немецкий язык, ну и учился. И сам занимался — по самоучителю.
— А что ото за «Очаковский»?
— Интернат. Раньше, до революции, он так назывался. Он под Смольным находится. Я оттуда и переведен к вам.
— За бузу? — серьезно спросил Воробей.
Новичок помолчал. Усмехнулся. Потом загадочно ответил:
— За все… И за бузу тоже.
Постепенно разговорились. Новичок рассказал о себе, о том, что жил он в малолетство круглым сиротой, что где-то у него есть дядя, но где — он и сам не знает, что мать умерла после смерти отца, а отца убили в четырнадцатом году на фронте. За разговором время бежит быстро, только оклик Викниксора вернул ребят к действительности.
Солнце уже опускалось за водной гладью Финского залива, когда Викниксор отдал приказ сниматься с якоря. Обратно шли с моряками.
Когда переправились через канал и вышли на территорию порта, немцы поблагодарили ребят за дружескую беседу и, попросив минутку подождать, скрылись на корабле. Через минуту они вернулись с пакетом и, что-то сказав, передали его Эланлюм.
Немка засияла.
— Дети, немецкие матросы угощают вас печеньем и просят не забывать их. У них у обоих есть дети вашего возраста.
Шкида радостно загоготала и, махая шапками на прощание, двинулась к воротам.
Только один Горбушка остался недоволен тем, что немцы, по его мнению, очень мало дали.
Он всю дорогу тихо бубнил, доказывая своему соседу по паре, Косарю, что немцы пожадничали.
— Тоже, дали! Чтоб им на том свете черти водички столько дали. Это же не подарок, а одна пакость!
— Почему же? — робко допытывался Косарь.
— Да потому, что если разделить это печенье, то по одной штуке достанется только, — мрачно изрек Горбушка, а потом, после некоторого раздумья, добавил: — Разве, может, еще одна лишняя будет, для меня.
— Ну ладно, не скули! — крикнули на Горбушку старшие.
А Цыган, не удовольствовавшись словами, еще прихлопнул ладонью Горбушку по затылку и тем заставил его наконец смириться.
Горбушка получил прозвище благодаря необычной форме своей головы. Черепная коробка его была сдавлена и шла острым хребтом вверх, действительно напоминая хлебную горбушку.
Несмотря на то, что Горбушка был новичок, он уже прославился как вечный брюзга и ворчун, поэтому на его скульбу обычно никто не обращал внимания, а если долгое ворчанье надоедало ребятам, то они поступали так, как поступил Цыган.
Теплое чувство к морякам сохранилось у шкидцев, и особенно у Янкеля, у которого, кроме приятных воспоминаний, оставалась еще от этой встречи заграничная сигарета с узеньким золотым ободком.
После этой прогулки ребята прониклись уважением к новичку.
Случай с немцами выдвинул Еонина сразу, и то обстоятельство, что старшие шли с ним рядом, показало, что новичок попадает в «верхушку» Шкиды.
* * *
Так и случилось. Еонина перевели в четвертое, старшее отделение. Умный, развитой и в то же время большой бузила, он пришелся по вкусу старшеклассникам. Скоро у него появилась и кличка — Японец, — и получил он ее за свою «субтильную», по выражению Мамочки, фигуру, за легкую раскосость и вообще за порядочное сходство с сынами страны Восходящего Солнца.
Еще больше прославился Японец, когда оказался творцом шкидского гимна.
Произошло это так.
Однажды вечером воспитатели сгоняли воспитанников в спальни, и классы уже опустели. Только в четвертом отделении сидели за своими партами Янкель и Япончик.
Янкель рисовал, а Японец делал выписки из какой-то немецкой книги.
Вдруг в класс вошел Викниксор. По-видимому, он был в хорошем настроении, так как все время мурлыкал под нос какой-то боевой мотив.
Он походил по классу, осмотрел стены и согнувшиеся фигуры воспитанников и вдруг, остановившись перед партой, произнес:
— А знаете, ребята, нам следовало бы обзавестись своим школьным гимном.
Янкель и Японец удивленно вскинули на заведующего глаза и деликатно промолчали, а тот продолжал:
— Ведь наша школа — это своего рода республика. Свой герб у нас уже есть, должен быть и свой гимн. Как вы думаете?
— Ясно, — неопределенно промямлил Янкель, переглядываясь с Японцем.
— Ну, так в чем же дело? — оживился Викниксор. — Давайте сейчас сядем втроем и сочиним гимн! У меня даже идея есть. Мотив возьмем студенческой песни «Гау-деамус». Будет очень хорошо.
— Давайте, — без особой охоты согласились будущие творцы гимна.
Викниксор, весь захваченный новой идеей, сел и объяснил размер, два раза пропев «Гаудеамус».
Янкель достал лист, и приступили к сочинению.
Позабыв достоинство и недоступность зава, Викниксор вместе с ребятами старательно подбирал строчки и рифмы.
Уже два раза в дверь заглядывал дежурный воспитатель и, подивившись необычайной картине, не посмел тревожить воспитанников и вести их спать, так как оба они находились сейчас под покровительством Викниксора.
Наконец, часа через полтора, после усиленного обдумывания и долгих творческих споров, гимн был готов.
Тройка творцов направилась в Белый зал, где Викниксор, сев за рояль, взял первые аккорды.
Оба шкидца, положив лист на пюпитр, приготовились петь.
Наконец грянул аккомпанемент и два голоса воспитанников, смешавшись с низким басом завшколой, единодушно исполнили новый гимн республики Шкид:
Мы из разных школ пришли, Чтобы здесь учиться. Братья, дружною семьей Будем же трудиться. Бросим прежнее житье, Позабудем, что прошло. Смело к но-о-о-вой жизни! Смело к но-о-о-вой жи-и-з-ни!Время для пения было не совсем подходящее. Наверху, в спальнях, уже засыпали ребята, а здесь, внизу, в полумраке огромного зала, три глотки немилосердно рвали голосовые связки, словно стараясь перекричать друг друга:
Школа Достоевского, Будь нам мать родная, Научи, как надо жить Для родного края.Ревел бас Викниксора, сливаясь с мощными аккордами беккеровского рояля, а два тоненьких и слабых голоска, фальшивя, подхватывали:
Путь наш длинен и суров, Много предстоит трудов, Чтобы вы-и-й-ти в лю-у-ди, Чтобы вы-и-й-ти в лю-у-ди.Когда пение кончилось, Викниксор встал и, отдышавшись, сказал:
— Молодцы! Завтра же надо будет спеть наш гимн всей школой.
Янкель и Японец, гордые похвалой, с поднятыми головами прошли мимо воспитателя и отправились в спальню.
На другой день вся Шкида зубрила новый гимн республики Шкид, а имена новых шкидских Руже де Лилей[[38]] — Янкеля и Японца — не сходили с уст возбужденных и восхищенных воспитанников.
Гимн сразу поднял новичка на недосягаемую высоту, и оба автора сделались героями дня.
Вечером в столовой вся школа под руководством Викниксора уже организованно пела свой гимн.
Халдеи
Человек в котелке. — Исчезновение в бане. — Опера и оперетта. — Война до победного конца. — Кое-что о Пессимисте со Спичкой. — Безумство храбрых.
Халдей — это по-шкидски воспитатель.
Много их перевидала Шкида. Хороших и скверных, злых и мягких, умных и глупых, и, наконец, просто неопытных, приходивших в детдом для того, чтобы получить паек и трудовую книжку. Голод ставил на пост педагога и воспитателя людей, раньше не имевших и представления об этой работе, а работа среди дефективных подростков — дело тяжелое. Чтобы быть хорошим воспитателем, нужно было, кроме педагогического таланта, иметь еще железные нервы, выдержку и громадную силу воли.
Только истинно преданные своему делу работники могли в девятнадцатом году сохранить эти качества, и только такие люди работали в Шкиде, а остальные, пай-коеды или слабовольные, приходили, осматривались день–два и убегали прочь, чувствуя свое бессилие перед табуном задорных и дерзких воспитанников.
Много их перевидала Шкида.
* * *
Однажды в плохо окрашенную дверь Шкиды вошел человек в котелке. Он был маленький, щуплый. Птичье личико его заросло бурой бородкой. Во всей фигуре новопришедшего было что-то пришибленное, робкое. Он вздрагивал от малейшего шороха, и тогда маленькие водянистые глаза на птичьем личике испуганно расширялись, а веки, помимо воли, опускались и закрывали их, словно в ожидании удара. Одет человек был очень бедно. Грязно-темное драповое пальто, давно просившееся на покой, мешком сидело на худеньких плечах, бумажные неглаженные брюки свисали из-под пальто и прикрывали порыжевшие сапоги солдатского образца. Это был новый воспитатель, уже зачисленный в штат, и теперь он пришел посмотреть и познакомиться с детьми, среди которых должен был работать. Скитаясь по комнатам безмолвной тенью, маленький человек зашел в спальню.
В спальне топилась печка, и возле нее грелись Японец, Горбушка и Янкель.
Маленький человек осмотрел ряды кроватей, и, хотя было ясно видно, что это спальня, он спросил:
— Это что, спальня?
Ребята изумленно переглянулись, потом Япошка скорчил подобострастную мину и приторно ответил:
— Да, это — спальня.
Человек тихо кашлянул.
— Так. Так. Гм… Это вы печку топите?
— Да, это мы печку топим. Дровами, — уже язвительно ответил Японец, но человек не обратил внимания.
— Гм… И вы здесь спите?
— Да, и мы здесь спим.
Человек минуту походил по комнате, потом подошел к стене и пощупал портрет Ленина.
— Это что же — сами рисовали? — снова спросил он.
В воздухе запахло комедией. Янкель подмигнул ребятам и ответил:
— Да, это тоже сами рисовали.
— А кто же рисовал?
— А я рисовал. — Янкель с серьезным видом подошел к воспитателю и молча уставился в него, ожидая вопросов.
Маленький человек оглядел комнату еще раз и остановил взгляд на кроватях.
— Это — ваши кровати?
— Да, наши кровати.
— Вы спите на них?
— Мы спим на них.
Потом Янкель с невинным видом добавил:
— Между прочим, они деревянные.
— Кто? — не понял воспитатель.
— Да кровати наши.
— Ах, они деревянные! Так, так, — бормотал человек, не зная, что сказать, а Янкель уже зарвался и с тем же невинным видом продолжал:
— Да, они деревянные. И на четырех ножках. И покрыты одеялами. И стоят на полу. И пол тоже деревянный.
— Да, пол деревянный, — машинально поддакнул халдей.
Японец хихикнул. Шутка показалась забавной, и он, подражая Викниксору, непомерно растягивая слова, с серьезной важностью проговорил, обращаясь к воспитателю:
— Обратите внимание. Это — печка.
Халдей уже нервничал, но шутка продолжалась.
— А печка — каменная. А это — дверцы. А сюда дрова суют.
Маленький человек начал понимать, что над ним смеются, и поспешил выйти из комнаты.
Скоро вся Шкида уже знала, что по зданию ходит человек, который обо всем спрашивает.
За человеком стала ходить толпа любопытных, а более резвые шли впереди него и под общий хохот предупредительно объясняли:
— А вот тут — дверь…
— А вот — класс…
— А это вот — парты. Они деревянные.
— А это — стенка. Не расшибитесь.
Через полчаса затравленный новичок укрылся в канцелярии, а толпа ребят гоготала у дверей, издеваясь над жертвой любознательности.
Запуганный приемом, маленький человек больше уже не приходил в Шкиду. Человек в котелке понял, что ему здесь не место, и удалился так же тихо, как и пришел.
Не так просто обстояло дело с другими.
Однажды Викниксор представил ребятам нового воспитателя.
Воспитатель произвел на всех прекрасное впечатление, и даже шкидцы, которых обмануть было трудно, почувствовали в новичке какую-то силу и обаяние.
Он был молод, хорошо сложен и обладал звучным голосом. Черные непокорные кудри мохнатой шапкой трепались на гордо поднятой голове, а глаза сверкали, как у льва.
В первый же день дежурства ему выпало на долю выдержать воспитательный искус. Нужно было вести Шкиду в баню.
Однако юноша не сробел, и уже со второй перемены голос его призывно гремел в классах:
— Воспитанницы! Получайте белье. Сегодня пойдете в баню.
Шкидцы тяжелы на подъем. Любителей ходить в баню среди них — мало. Сразу же десяток гнусавых голосов застонал:
— Не могу в баню. Голова болит.
— У меня поясница ноет.
— Руку ломит.
— Чего мучаете больных! Не пойдем!
Но помер не прошел. Голос новичка загремел так внушительно и властно, что даже проходивший мимо Викниксор умилился и подумал: «Из него выйдет хороший воспитатель».
Шкидцы покорились. Ворча, шли получать белье в гардеробную, потом построились парами в зале и затихли, ожидая воспитателя.
А тот в это время получал в кладовой месячный паек продуктов в виде аванса.
Ученики ждали вместе с Викниксором, который хотел лишний раз полюбоваться энергичным новичком. Наконец тот пришел. За спиной его болтался вещевой мешок с продуктами.
Он зычно скомандовал равняться, потом вдруг замялся, нерешительно подошел к Викниксору и вполголоса проговорил:
— Виктор Николаевич, видите ли, я не знал, что ученики пойдут в баню… и поэтому не захватил белья.
— Ну, так в чем же дело?
— Да я, видите ли, хочу попросить, чтобы мне на один день отпустили казенное белье. Разумеется, как только сменюсь, я его принесу.
Обычно такие вещи не допускались, но воспитатель был так симпатичен, так понравился Викниксору, что тот невольно уступил.
Белье тотчас же подобрали, и школа тронулась в баню. Все шло благополучно.
Пары стройно поползли по улице, и даже ретивые бузачи не решались на этот раз швыряться камнями и навозом в трамвайные вагоны и в прохожих.
В бане шумно разделись и пошли мыться.
Воспитатель первый забрался на полок и, казалось, совсем забыл про воспитанников, увлекшись мытьем.
Потом ребята одевались, ругались с банщиком, стреляли у посетителей папиросы и совсем не заметили отсутствия воспитателя. Потом спохватились, стали искать, обыскали всю баню и не нашли его. Подождав полчаса, решили идти одни.
Нестройная орда, вернувшаяся в школу, взбесила Викниксора. Он решил прежде всего сделать выговор новому педагогу. Но того не было. Не явился он и на другой день. Викниксор долго разводил руками и говорил сокрушенно:
— Такой приятный, солидный вид — и такое мелкое жульничество. Спер пару белья, получил продуктов на месяц, вымылся на казенный счет и скрылся!..
Однако урок послужил на пользу, и к новичкам педагогам стали с тех пор больше приглядываться.
Галерея безнадежных не кончается этими двумя. Их было больше.
Одни приходили на смену другим, и почти у всех была единственная цель: что-нибудь заработать. Каждый, чтобы удержаться, подлаживался то к учителям, то, наоборот, к воспитанникам.
Молодой педагог Пал Ваныч, тонконосый великан с лошадиной гривой, обладал в этом отношении большими способностями.
Он с первого же дня взял курс на ученика, и, когда ему представили класс старших, он одобрительно улыбнулся и бодро сказал:
— Ну, мы с вами споемся!
— Факт, споемся, — подтвердили ребята. Они не предполагали, что «спеваться» им придется самым буквальным образом.
«Спевка» началась на первом же уроке.
Воспитатель пришел в класс и начал спрашивать у приглядывающихся к нему ребят об их жизни. Разговор клеился туго. Старшие оказались осторожными, и тогда для сближения Пал Ваныч решил рискнуть.
— Не нравятся мне ваши педагоги. Больно уж они строги к воспитанникам. Нет товарищеского подхода.
Класс удивленно безмолвствовал, только один Горбушка процедил что-то вроде «угу».
Разговор не клеился. Все молчали. Вдруг воспитатель, походив по комнате, неожиданно сказал:
— А ведь я хороший певец.
— Ну? — удивился Громоносцев.
— Да. Неплохо пою арии. Я даже в любительских концертах выступал.
— Ишь ты! — восхищенно воскликнул Янкель.
— А вы нам спойте что-нибудь, — предложил Японец.
— Верно, спойте, — поддержали и остальные.
Пал Ваныч усмехнулся.
— Говорите, спеть? Гм… А урок?..
— Ладно, урок потом. Успеется, — успокоил Мамочка, не отличавшийся большой любовью к урокам.
— Ну ладно, будь по-вашему, — сдался воспитатель. — Только что же вам спеть? — нахмурился он, потирая лоб.
— Да ладно. Спойте что-нибудь из оперы, — раздались нетерпеливые голоса.
— Арию какую-нибудь!
— Арию! Арию!
— Ну, хорошо. Арию так арию. Я спою арию Ленского из оперы «Евгений Онегин». Ладно?
— Валите, пойте!
— Даешь! Чего там.
Пал Ваныч откашлялся и запел вполголоса:
Куда, куда, куда вы удалились, Весны моей златые дни? Что день грядущий мне готовит…Пел он довольно хорошо. Мягкий голос звучал верно, и, когда были пропеты заключительные строки, класс шумно зааплодировал.
Только Мамочке ария не поправилась.
— Пал Ваныч! Дружище! Дерните что-нибудь еще, только повеселей.
— Верно, Пал Ваныч. Песенку какую-нибудь.
Тот попробовал протестовать, но потом сдался.
— Что уж с вами делать, мерзавцы этакие! Так и быть, спою вам сейчас студенческие куплеты. Когда, бывало, я учился, мы всегда их певали.
Он опять откашлялся и вдруг, отбивая ногой такт, рассыпался в задорном мотиве:
Не женитесь на курсистках, Они толсты, как сосиски, Коль жениться вы хотите, Раньше женку подыщите, Эх-эх труля-ля… Раньше женку подыщите…Класс гоготал и взвизгивал.
Мамочка, тихо всхлипывая короткими смешками, твердил, восхищаясь:
— Вот это здорово! Сосиски.
Бурный такт песни закружил питомцев. Горбушка, сорвавшись с парты, вдруг засеменил посреди класса, отбивая русского.
А Пал Ваныч все пел:
Поищи жену в медичках, Они тоненьки, как спички, Но зато резвы, как птички. Все женитесь на медичках.Ребята развеселились и припев пели уже хором, прихлопывая в ладоши, гремя партами и подсвистывая. По классу металось безудержное:
Эх-эх, труля-ля… Все женитесь на медичках…Песню оборвал внезапный звонок за стеной. Урок был кончен.
Когда Пал Ваныч уходил из класса, его провожали гурьбой.
— Вот это да! Это свой парень! — восхищался Янкель, дотягиваясь до плеча воспитателя и дружески хлопая его по плечу кончиками пальцев.
— Почаще бы ваши уроки.
— Полюбили мы вас, Пал Ваныч, — изливал свои чувства Японец. — Друг вы нам теперь. Можно сказать, прямо брат кровный.
Пал Ваныч, ободренный успехом, снисходительно улыбнулся.
— Мы с вами теперь заживем, ребята. Я вас в театры водить буду.
Скоро Пал Ваныч стал своим парнем. Он добывал где-то билеты, водил воспитанников в театр, делился с ними школьными новостями, никого не наказывал, а главное — не проводил никаких занятий: устраивал «вольное чтение» или попросту объявлял, что сегодня свободный урок и желающие могут заняться чем угодно.
Пал Ваныч твердо решил завоевать расположение ребят и скоро его действительно завоевал, да так крепко, что, когда пришел момент и поведение воспитателя педагогический совет признал недопустимым, Шкида, как один человек, поднялась и взбунтовалась, горой встав за своего любимца.
А любимец ходил и разжигал страсти, распространяясь о том, что враги его во главе с Викниксором хотят выгнать его из школы.
Разгорелся страшный бунт. Целую неделю дефективные шкеты дико бузили, вовсю распоясавшись и объявив решительный бой педагогам.
Создалось «Ядро защиты».
Штаб работал беспрерывно. Руководителями восстания оказались, по обыкновению, старшие: Цыган, Японец, Янкель и Воробей. Они по целым дням заседали, придумывая все новые и новые способы защиты любимого воспитателя.
По классам рассылались агитаторы, которые призывали шкидцев не подчиняться халдеям и срывать уроки.
— Не учитесь. Бойкотируйте педагогов, стремящихся прогнать нашего Пал Ваныча.
И уроки срывались.
Лишь только педагог входил в класс и приступал к уроку, в классе раздавалось тихое гудение, которое постепенно росло и переходило в рев.
Преимущество этого метода борьбы состояло в том, что нельзя было никого уличить.
Ребята сидели смирно, сжав губы, и через нос мычали.
Кто мычит, — обнаружить невозможно. Стоит педагогу подойти к одному, тот сразу замолкает и сидит, поджав губы, педагог отходит — мычание раздается снова.
Говорить невозможно.
Уроки срывались один за другим.
Учителя, выбившиеся из сил, убегали с половины урока.
Постепенно борьба за Пал Ваныча превратилась в настоящую войну. Штаб отдал приказ перейти к активным действиям. Ночью в школе вымазали чернилами ручки дверей, усыпали сажей подоконники, воспитательские столы и стулья. Набили гвоздей в сиденья, а около канцелярии устроили газовую атаку — стащили большой кусок серы из химического шкафа и, положив его под вешалку, зажгли. Едкая серная вонь заставила халдеев отступить и из канцелярии.
На уроках ребята уже открыто отказывались заниматься.
Целую неделю школа бесновалась. Педагогический состав растерялся. Он еще ни разу не встречал такого организованного сопротивления.
Воспитатели ходили грязные, вымазанные в чернилах и мелу, в порванных брюках и не знали, что делать. Общая растерянность еще больше ободряла восставших шкидцев.
Штаб работал, придумывая все новые средства для поражения халдеев. Заседали целыми днями, разрабатывая стратегические планы борьбы.
— Мы их заставим оставить у себя Пал Ваныча! — бесновался Японец.
— Правильно!
— Не отдадим Пал Ваныча!
— Надо выпустить и расклеить плакаты! — предложил Янкель, любитель печатного слова.
Этот проект тотчас же приняли, и штаб поручил Янкелю немедленно выпустить плакаты. В боевом порядке он созвал всех художников и литераторов школы.
Плакаты начали изготовлять десятками, а проворные агитаторы расклеивали на стенах классов и в коридоре грозные лозунги:
ТРЕПЕЩИТЕ, ХАЛДЕИ!
МЫ НЕ ДОПУСТИМ ИЗГНАНИЯ ЛУЧШЕГО ПЕДАГОГА.
МЫ ПРОТЕСТУЕМ!!!
Воспитатели не успевали срывать подметные листки.
Восстание разжигалось опытными и привычными к бузе руками. Уже в некоторых классах открыто задвигали двери партами и скамьями, не давая входить на урок педагогам. Строились баррикады.
Среди воспитателей появилось брожение.
Откололась группа устрашившихся, которые начали поговаривать об оставлении Пал Ваныча. Но Викниксор встал на дыбы и, чтобы укротить восстание, решил поскорее убрать педагога. Его уволили в конце недели, но надежды, что вместе с его уходом утихнет буза, не оправдались.
Пал Ваныч сделал ловкий маневр. Когда ему объявили об увольнении, он пришел в четвертое отделение и грустно поведал об этом воспитанникам.
Поднялась невероятная буря. Ребята клялись, что отстоят его, и дали торжественное обещание закатить такую бузу, какой Шкида еще ни разу не видела.
Этот день шкидцы и педагоги запомнили надолго. Старшеклассники призвали все отделения к борьбе и дали решительный бой.
Штаб обсудил план действий, и сразу после ухода Пал Ваныча на стенах школы запестрели плакаты:
ПОД СТРАХОМ СМЕРТИ
МЫ ТРЕБУЕМ
ОСТАВЛЕНИЯ В ШКОЛЕ
П. И. АРИКОВА!!!
В ответ на это за обедом Викниксор в пространной речи пробовал доказать, что Ариков никуда не годен, что он только развращает учеников, и кончил тем, что подтвердил свое решение.
— Он сюда больше не придет, ребята. Я так сказал, так и будет!
Гробовое молчание было ответом на речь зава, а после обеда начался ад, которого не видела Шкида со дня основания школы.
Во всех залах, классах и комнатах закрыли двери и устраивали из скамеек, щеток и стульев западни. Стоило только открыть дверь, как на голову входившего падало что-нибудь внушительное и оставляло заметный след в виде синяка или шишки.
Такие забавы не очень нравились педагогам, но сдаваться они не хотели; нужно было проводить уроки. Халдеи ринулись в бой, и после долгой осады баррикады были взяты штурмом. У троих педагогов на лбу и на подбородках синели фонари. Однако педагоги самоотверженно продолжали бороться.
В тот же день штаб отдал приказание начать «горячую» войну, и не одна пара воспитательских брюк прогорела от подложенных на стулья углей. Но надо отдать справедливость — держались педагоги стойко. Об уроках уже не могло быть и речи, нужно было хотя бы держать в своих руках власть, и только за это и шла теперь борьба, жестокая и упорная. Наступил вечер. За ужином Викниксор, видя угрожающее положение, предпринял рискованную контратаку и объявил школу на осадном положении. Запретил прогулки и отпуска до тех пор, пока не прекратится буза. Но, увы, это только подлило масла в огонь. Приближались сумерки, и штаб решил испробовать последнее средство. Средство было отчаянное. Штаб выкинул лозунг: «Бей халдеев».
Как стадо диких животных, взметнулась вся школа. Сразу везде погасло электричество и началась дикая расправа. В темноте по залу метались ревущие толпы. Застигнутые врасплох, халдеи оказались окруженными.
Их сразу же смяли. Подставляли ножки. Швыряли в голову книгами и чернильницами, били кулаками и дергали во все стороны.
Напрасны были старания зажечь свет. Кто-то вывинтил пробки, и орда осатанелых шпаргоцев носилась по школе, сокрушая все и всех. Стонала в темноте на кухне кухарка. Гремели котлы. Это наиболее предприимчивые и практичные ребята решили воспользоваться суматохой и грабили остатки обеда и ужина.
Наконец воспитатели не выдержали и отступили в канцелярию. И тут, оцепив всю опасность положения и поняв, кто является зачинщиком, Викниксор пошел немедля в класс старших и устроил экстренное собрание.
Для того чтобы победить, нужно было переменить тактику, и он ее переменил.
Когда все ребята сели и немного успокоились, Викниксор ласково заговорил:
— Ребята, скажите откровенно, почему вы бузите?
— А зачем Пал Ваныча выгнали? — послышался ответ.
— Ребята! Но вы поймите, что Павел Иванович не может быть воспитателем.
— Почему это не может?
— Да потому хотя бы, что он молод. Ну скажите сами, разве вы не хотите учиться?
— Так ведь он нас тоже учит! — загудели нестройные голоса, но Викниксор поднял руку, дождался наступления тишины и спросил:
— Чему же он вас учит? Ну что вы с ним прошли за месяц?
Ребята смутились.
— Да мы разное проходили… Всего не упомнишь!
А Мамочка при общем смехе добавил:
— Он здорово песни пел. Про сосиски!
Настроение заметно изменилось, и Викниксор воспользовался этим.
— Ребята, — сказал он печально, — как вам не стыдно… Вы, старшеклассники, все-таки умные, развитые мальчики, и вдруг полюбили человека за какие-то «сосиски»…
Класс нерешительно захихикал.
— Ведь Павел Иванович не педагог, — он цирковой рыжий, который только тем и интересен, что он рыжий!
— Верно! — раздался возглас. — Рыжий! Как в Чипизелли.
— Ну так вот, — продолжал Викниксор. — Рыжего-то вам и в цирке покажут, а литературы вы знать не будете.
Класс молчал. Сидели подперев головы руками, смотрели на разгуливающего по комнате Викниксора и молчали.
— Так что, — громко сказал Викниксор, — выбирайте: или Пал Ваныч, или литература. Если вы не кончите бузить, — Пал Ваныч, может быть, будет оставлен, но литературу мы принуждены будем вычеркнуть из программы школы.
Он задел больное место. Шкидцы все-таки хотели учиться.
— Ребята! — крикнул Японец. — Ша! Как по-вашему?
— Ша! — повторил весь класс. И все зашумели. Сразу стало легко и весело, как будто за окном утихла буря.
Буза прекратилась. Павла Ивановича изгнали из школы, и штаб повстанцев распустил сам себя.
А вечером после чая Японец сказал товарищам:
— Бузили мы здорово, но, по правде сказать, не из-за Пал Ваныча, как вы думаете?
— Это правда, — сказал Цыган. — Бузили мы просто так — ради самой бузы… А Пал Ваныч — порядочная сволочь…
— Факт, — поддакнул Янкель. — Бить таких надо, как Пал Ваныч…
— Бей его! — с возбуждением закричал Воробей, но он опоздал. Пал Ваныча уже не было в школе. Он ушел, оставив о себе сумбурное воспоминание.
* * *
Другую тактику повел некий Спичка, прозванный так за свою необыкновенную худобу. Это был несчастный человек. Боевой офицер, участник двух войн, он был контужен на фронте, навеки сделавшись полуглухим, озлобленным и угрюмым человеком.
В школу он пришел как преподаватель гимнастики и сразу принял сторону начальства, до каждой мелочи выполняя предписание Викниксора и педсовета.
Он нещадно наказывал, записывал в журнал длиннейшие замечания, оставлял без отпусков.
Хороший педагог — обычно хороший дипломат. Он рассчитывает и обдумывает, когда можно записать или наказать, а когда и не следует.
Спичка же мало задумывался и раздавал наказания направо и налево, стараясь только не очень отходить от правил.
Он расхаживал на своих длинных, худых ногах по Шкиде, хмуро оглядываясь но сторонам, и беззлобно скрипел:
— Встань к печке.
— В изолятор.
— Без обеда.
— Без прогулки.
— Без отпуска.
Его возненавидели. Началась война, которая закончилась победой шкидцев.
Школьный совет признал работу Спички непедагогичной, и Спичка ушел.
Тем же кончил и Пессимист — полуголодный студент, не имевший ни педагогической практики, ни педагогического таланта и не сумевший работать среди шкидцев.
Много их перевидела Шкида.
Около шестидесяти халдеев переменила школа только за два года.
Они приходили и уходили.
Медленно, как золото в песке, отсеивались и оставались настоящие, талантливые, преданные делу работники. Из шестидесяти человек лишь десяток сумел, не приспосабливаясь, не подделываясь под «своего парня», найти путь к сердцам испорченных шкетов. И этот десяток на своих плечах вынес на берег тяжелую шкидскую ладью, оснастил ее и отправил в далекое плавание — в широкое житейское море.
* * *
Ольга Афанасьевна — мягкая, тихая и добрая, пожалуй даже слишком добрая. Когда она представилась заведующему как преподавательница анатомии, он недоверчиво и недружелюбно посмотрел на нее и подумал, что вряд ли она справится с его буйными питомцами. Однако время показало другое. То, что другим педагогам удавалось сделать путем угроз и наказаний, у нее выходило легко, без малейшего нажима и напряжения.
Хрупкая и болезненная на вид, она, однако, обладала большим запасом хладнокровия: никогда не кричала, никому не угрожала, и все же через месяц все классы полюбили ее, и везде занятия по ее предмету пошли хорошо.
Даже самые ленивые делали успехи.
Мамочка, Янкель и Воробей — присяжные лентяи — вдруг внезапно обрели интерес к человеческому скелету и тщательно вырисовывали берцовые и теменные кости в своих тетрадях.
Ольга Афанасьевна сумела привить ученикам любовь к занятиям и сделала бы много, если бы не тяжелая болезнь, заставившая се бросить на некоторое время Шкиду.
* * *
Гражданская война кончилась. Вступила в свои права мирная жизнь. В городе один за другим открывались новые клубы и домпросветы.
Задумались над этим и в детском доме. Свободного времени у ребят было достаточно, надо было использовать его с толком.
И вот пришла Мирра Борисовна, полная, жизнерадостная еврейка. Она пришла пасмурным осенним вечером, когда в классе царила скука, и сразу расшевелила ребят.
— Ну, ребята, я к вам. Будем вместе теперь работать.
— Добро пожаловать, — угрюмо приветствовал ее появление Мамочка. — Только насчет работы бросьте. Не загибайте. Все равно номер не пройдет.
— Почему же это? — искренне удивилась воспитательница. — Разве плохо разработать пьеску, поставить хороший спектакль? И вам будет весело, и других повеселите.
— Ого! Спектакль? Это лафа!
— Засохни, Мамочка! Дело будет! — раздались возгласы.
Работа закипела.
Подходили праздники, и поэтому Мирра Борисовна с места в карьер взялась за дело. Даже свое свободное время она проводила в Шкиде.
Сразу же подобрали пьесы. Взяли «Скупого рыцаря» и отрывки из «Бориса Годунова». Вечером, собравшись в классе, устраивали репетиции.
Япошка, разучивший два монолога царя Бориса, выходил на середину класса и открывал трагедию. Но как только монолог подходил к восклицанию:
И мальчики кровавые в глазах…Япошка терялся. Темперамент исчезал, и он, как-то заплетаясь, заканчивал:
И мальчики кроватые в глазах…Тогда следовал мягкий, но решительный возглас Мирры Борисовны:
— Еончик… Опять не так!..
Еончик чуть не плакал и начинал с начала. В конце концов он добился своего. В репетициях и в подвижных играх, устраиваемых неутомимой Миррой, как звали ее воспитанники, коротались долгие шкидские вечера.
Все больше и больше сближались ребята с воспитательницей и скоро так ее полюбили, что в дни, когда она не была дежурной, шкидцы по-настоящему тосковали. Стоило только показаться ее овчинному полушубку и мягкой оренбургской шали, как Шкида мгновенно оглашалась криками:
— Мирра пришла!
День спектакля был триумфом Мирры Борисовны.
Играли ребята с подъемом.
Вечер оказался лучшим вечером в школе, а после программы шкидцы устроили сюрприз.
На сцену вышел Янкель, избранный единогласно конферансье, сообщил о дополнительной программе, которую ученики приготовили от себя в честь своей воспитательницы, и прочел приветственное стихотворение:
Окончивши наш грандиозный спектакль, Дадим ему новый на смену. В нем чествуем Мирру Борисовну Штак, Создавшую шкидскую сцену.С этого дня дружба еще более окрепла, но однажды в середине зимы Мирра пришла и, смущаясь, сообщила, что она выходит замуж и уезжает из Питера. Жалко было расставаться, однако пришлось смириться, и веселая учительница в солдатском полушубке навсегда исчезла из Шкидской республики, оставив на память о себе знакомую билетершу в «Сплендид Паласе», еженедельно пропускавшую в кино двух питомцев Мирры — Янкеля и Японца.
Таковы были эти две воспитательницы, сумевшие среди дефективных детей заронить любовь к занятиям и привязанность к себе. Их любила вся школа.
Зато Амебку Шкида невзлюбила, хотя, может быть, он был и неплохим преподавателем.
Амебка — мужчина средних лет, некрасиво сложенный, с узким обезьяньим лбом — был преподавателем естествознания. Свой предмет он любил горячо и всячески старался привить эту любовь и ученикам, однако это удавалось ему с трудом. Ребята ненавидели естествознание, ненавидели и Амебку.
Амебка был слишком мрачный, склонный к педантизму человек, а Шкида таких не любила.
Идет урок в классе.
Амебка рассказывает с увлечением о микроорганизмах. Вдруг он замечает, что последняя парта, где сидит Еонин, не слушает его. Он принимает меры:
— Еонин, пересядь на первую парту.
— Зачем же это? — изумляется Япошка.
— Еонин, пересядь на первую парту.
— Да мне и здесь хорошо.
— Пересядь на первую парту.
— Да чего вы привязались? — вспыхивает Японец, но в ответ слышит прежнее монотонное приказание:
— Пересядь на первую парту.
— Не сяду. Халдей несчастный! — озлобленно кричит Еонин. Амебка некоторое время думает, потом начинает все с начала:
— Еонин, выйди вон из класса.
— За что же это?
— Выйди вон из класса.
— Да за что же?
— Выйди вон из класса.
Еонин озлобляется и уже яростно топает ногами. Кнопка носа его краснеет, глаза наливаются кровью.
— Еонин, выйди вон из класса, — невозмутимо повторяет Амебка, и тогда Японец разражается взрывом ругательств:
— Амебка! Халдей треклятый! Чего привязался, тупица деревянная!
Амебка спокойно выслушивает до конца и говорит:
— Еонин, ты сегодня будешь мыть уборные.
На этом обе стороны примиряются.
Вот за такое жуткое спокойствие и не любили Амебку шкидцы. Однако человек он был честный, его побаивались и уважали.
Но самыми яркими фигурами, лучшими воспитателями, на которых держалась школа, являлись два халдея: Сашкец и Костец, дядя Саша и дядя Костя, Алникпоп и Косталмед, а попросту Александр Николаевич Попов и Константин Александрович Меденников.
Оба пришли почти одновременно и сразу же сработались. Сашкец — невысокий, бодрый, пожилой воспитатель. Высокий лоб и маленькая проплешина. На носу пенсне с расколотым стеклом. Небольшая черная бородка, фигура юркая, живая. Громадный, неиссякаемый запас энергии, силы, знаний и опыта.
Сашкеца в первые дни невзлюбили.
Лишь только появилась его коренастая фигурка в потертой кожаной куртке, шкидцы начали его травить.
Во время перемен за ним носилась стая башибузуков и на все лады распевала всевозможные куплеты, сочиненные старшеклассниками:
Есть у нас один грибок: Он не низок, не высок. Он не блошка и не клоп, Он горбатый Алникпоп…— Эй, Сашкец, Алникпоп! — надрывались ребята, дергая его за полы куртки, но Сашкец словно бы и не слыхал ничего.
Перед самым носом у него останавливались толпы ребят и, глядя нахально на его порванные и небрежно залатанные сапоги, пели экспромт, тут же сочиненный:
Сапоги у дяди Саши Просят нынче манной каши…Бывали минуты, когда хладнокровие покидало нового воспитателя, тогда он резко оборачивался к изводившему его, но тут же брал себя в руки, усмехался и грозил пальцем:
— Ты смотри у меня, гусь лапчатый…
Гусь лапчатый — тоже сделалось одной из многих его кличек.
Однако скоро травля прекратилась. Новичок оказался сильнее воспитанников, выдержал испытание. Выдержка его ребятам понравилась. Сашкеца признали настоящим воспитателем.
Он был по-воспитательски суров, но знал меру. Ни одна шалость не проходила для ребят без последствий, однако не всегда виновные терпели наказание. Сашкец внимательно разбирал каждый проступок и только после этого или наказывал провинившегося, или отпускал его, прочитав хорошую отповедь.
Не делал он никаких поблажек, был беспощаден и строг только к тем, кто плохо занимался по его предмету — русской истории. Тут он мягкости не проявлял, и лентяи дорого платились за свою рассеянность и нежелание заниматься.
Время шло. Все больше и больше сживались ребята с Алникпопом, и скоро выяснилось, что он не только отличный воспитатель, но и добрый товарищ.
Старшие ребята по вечерам стали усиленно зазывать к себе Алникпопа, потому что с ним можно было очень хорошо и обо многом поговорить. Часто после вечернего чая приходил к ним Алникпоп, усаживался на парту и, горбясь, поблескивая расколотым пенсне, рассказывал — то анекдот, то что-нибудь о последних международных событиях, то вспомнит какой-нибудь эпизод из своей школьной или студенческой жизни, поспорит с ребятами о Маяковском, о Блоке, расскажет о том, как они издавали в гимназии подпольный журнал, или о том, как он работал рецензентом в дешевых пропперовских изданиях. Разговор затягивается и кончается только тогда, когда зазвенит звонок, призывающий спать.
Так постепенно из Сашкеца новый воспитатель превратился в дядю Сашу, в старшего товарища шкидцев, оставаясь при этом строгим, взыскательным и справедливым халдеем.
Костец пришел месяцем позже.
Пришел он из лавры, где работал несколько месяцев надзирателем, и уже одно это сразу обрезало все поползновения ребят высмеять новичка.
Вид его внушал невольное уважение самому отъявленному бузачу. Львиная грива, коричневато-рыжая борода, свирепый взгляд и мощная фигура в соединении с могучим, грозным, рыкающим голосом сперва настолько всполошили Шкиду, что ученики в панике решили: это какой-то живодер из скотобойни — и окрестили его сразу Ломовиком, однако кличку уже через несколько дней пришлось отменить
Ломовик, в сущности, оказался довольно мягким добродушным человеком, рыкающим и выкатывающим глаза только для того, чтобы напугать.
Скоро к его львиному рычанию привыкли, а когда он брал кого-либо за шиворот, то знали, что это только так, для острастки, да и сам зажатый в мощной руке жмурился и улыбался, словно его щекотали.
Однако грозный вид делал свое.
Гимнастика, бывшая в ведении Косталмеда, проходила отлично. Ребята с удовольствием проделывали упражнения, и только четвертое отделение вечно воевало с дядей Костей, как только можно отлынивая от уроков.
Скоро Костец и Сашкец почувствовали взаимную симпатию и сдружились, считая, вероятно, что их взгляды на воспитание сходятся. Великан Косталмед и маленький, сутулый Алникпоп принадлежали к числу тех немногих халдеев, которые сумели удержаться в школе и оставили добрый след в истории Шкидской республики, вложив немало сил в великое дело борьбы с детской преступностью.
Власть народу
Вечер в Шкиде. — Тихие радости. — В погоне за крысой. — Танцкласс. — Власть народу.
Кончились вечерние уроки.
Дежурный в последний раз прошел по коридорам, отзвенел последний звонок, и Шкида захлопала партами, затопала, запела, заплясала и растеклась но этажам старого здания.
Младшие отделения высыпали в зал играть в чехарду, другие ринулись на лестницу — кататься на перилах, а кое-кто направился на кухню в надежде поживиться остатками обеда.
Старшие занялись более культурным развлечением. Воробей, например, достал где-то длинную бечевку и, сделав петлю, вышел в столовую. Там он уселся около дыры в полу, разложил петлю и бросил кусок холодной каши. Потом спрятался за скамейку и стал ждать.
Это он ловил крыс. Ловля крыс была последнее время его любимым развлечением. Воробей сам изобрел этот способ, которым очень гордился.
Япошка сидел в классе, пошмыгивал носом и с необычайным упорством переводил стихотворения Шамиссо с немецкого на русский. Перевод давался с трудом, но Японец, заткнув пальцами уши, не уставая подбирал и бубнил вслух неподатливую строку стиха:
Я в своих мечтах, чудесных, легких… Я в мечтах своих, чудесных, легких… Я в чудесных, радостных мечтаньях… Я в мечтаньях, радостных, чудесных…И так без конца. До тех пор, пока строчка наконец не принимала должного вида и не становилась на место.
Громоносцев долго, позевывая, смотрел в потолок, потом вышел из класса и, поймав какого-то шкета из младшего отделения, привел его в класс. Привязав к ноге малыша веревку, он лениво жмурился, улыбался и приказывал:
— А ну, мопсик, попляши.
Мопсик сперва попробовал сыграть на Колькином милосердии и взвыл:
— Ой, Коленька! У меня нога болит!
Но Громоносцев только посмеивался.
— Ничего, мопсик, попляши.
В углу за классной доской упражнялся в пении недавно пришедший новичок Бобер. Он распевал куплеты, слышанные где-то в кино, и аккомпанировал себе, изо всей силы барабаня кулаками по доске:
Ай! Ай! Петроград — Распрекрасный град. Петро-Петро-Петроград — Чудный град!..Доска скрипела, ухала и трещала под мощными ударами.
За партой сидел Янкель, рисовал лошадь. Потом рисовать надоело, и, бессмысленно уставившись взором в стенку, он тупо забормотал:
— Дер катер гейт нах хаузе. Дер катер гейт нах хаузе.
Янкель ненавидел немецкий язык, и фраза эта была единственной, которую он хорошо знал, прекрасно произносил и которой оперировал на всех уроках Эланлюм.
В стороне восседали группой одноглазый Мамочка, Горбушка, Косарь и Гога.
Они играли в веревочку.
Перебирая с пальца на палец обрывок веревки, делали замысловатые фигуры и тут же с трудом их распутывали.
Вдруг все, кто находился в классе, насторожились и прислушались. Сверху слышался шум. Над головами топали десятки ног, и стены класса тревожно покряхтывали под осыпающейся штукатуркой.
— Крысу поймали! — радостно выкрикнул Мамочка.
— Крысу поймали! — подхватили остальные и помчались наверх.
В зале царило смятение.
Посреди зала вертелся Воробей и с трудом удерживал длинную веревку, на конце которой судорожно извивалась большая серая крыса.
По стенкам толпились шкидцы.
— Ну, я сейчас ее выпущу, а вы ловите, — скомандовал Воробей.
Он быстро наклонился и надрезал веревку почти у самой шеи крысы.
Раздался визг торжества.
Крыса, оглушенная страшным шумом, заметалась по залу, не зная, куда скрыться, а за ней с хохотом и визгом носилась толпа шкидцев, стараясь затоптать ее ногами.
— О-о-о!!! Лови!
— А-га-а… Бей!
— Души!
— И-и-их!
Зал содрогался под дробным топотом ног и от могучего рева. Тихо позвякивали стекла в высоких школьных окнах.
— О-го-го!!! Лови! Лови!
— Забегай слева-а!
— Ногой! Ногой!
— Над-дай!
Двери зала были плотно закрыты. Щели заткнуты. Все пути отступления серому существу были отрезаны. Тщетно тыкался ее острый нос в углы. Везде стены и стены. Наконец Мамочка, почувствовав себя героем, помчался наперерез затравленной крысе и энергичным ударом ноги прикончил ее.
Мамочка, довольный, гордо оглядел столпившихся ребят, рассчитывая услышать похвалу, но те злобно заворчали. Им вовсе не хотелось кончать такое интересное развлечение.
— Эва! Расхрабрился!
— Сволочь! Надо было убивать?
— Подумаешь, герой, отличился! Этак бы и всякий мог!
Недовольные, расходились шкидцы.
В это время внизу Бобер закончил лихую песенку «Ай-ай, Петроград», загрустил и перешел на романс:
В шумном платье муаровом, В макинтоше резиновом…Потом затянул было «Разлуку», но тут же оборвал себя и громко зевнул.
— Пойти потанцевать, что ли, — предложил он скучающим голосом.
— Пойдем, — поддержал Цыган.
— Пойдем, — подхватил Янкель.
— Пошли! Пошли! Танцевать! — оживились остальные.
Янкель помчался за воспитателем и, поймав его где-то в коридоре, стал упрашивать:
— Сыграйте, дядя Сережа. А? Один вальсик и еще что-нибудь.
В Белом зале собралось все взрослое население республики. Шкидцы, как на балу, выбирали партнеров, и пары церемонно устанавливались одна за другой.
Дядя Сережа мечтательно запрокинул голову, ударил по клавишам, и под звуки «Дунайских волн» пары закружились в вальсе.
Собственно, кое-как умела танцевать только одна пара — Цыган и Бобер. Остальные лишь вертелись, топтались и толкали друг друга.
— Синьоры! Медам! Танц-вальс! Верти, крути, наворачивай! — надрывался Янкель, грациозно подхватывая Японца — свою даму — и нежно наступая ему на ногу.
Японец морщился, но продолжал топтаться, удивляясь вслух:
— Черт! Четверть часа вертимся — и все на одном месте!
Вальс сменился тустепом, тустеп — падеспанью.
Веселье постепенно просачивалось в холодные белые двери зала.
В самый разгар танцев, когда Шкида, единодушно закусив удила, дико отплясывала краковяк, ожесточенно притопывая дырявыми казенными сапогами, в дверях показался Викниксор.
— Ребята!
Крякнул вспугнутый рояль и смущенно смолк, захлебнувшись в аккорде.
Не успев в очередной раз притопнуть, остановились насторожившиеся пары. Лицо заведующего сияло какой-то особой торжественностью.
— Ребята, — повторил Викниксор, когда наступила полная тишина, — все немедленно идите в столовую. Сейчас состоится общешкольное собрание.
* * *
В полутемной столовой, пропахшей тюленьим жиром, тревожный гул голосов.
Бритые головы поминутно вертятся в разные стороны, а на лицах застыл вопрос: в чем дело?
Школьное собрание для шкидцев — новость. Это в первый раз.
Все с нетерпением ждут Викниксора: что-то он скажет?
Наконец заведующий входит в столовую.
Несколько минут он стоит, осматриваясь, потом подзывает воспитателя и громко говорит:
— Сергей Иванович, вы будете для первого раза секретарем. Ребята еще не привыкли к самоуправлению.
Воспитатель молча садится, кладет перед собой лист бумаги и ждет, а Викниксор минуту думает и почесывает ухо. Потом он выпрямляется и начинает говорить:
— Ребята! До сих пор у нас в школе нет жизни… Да, постойте!..
Он сбивается.
— Я забыл начать-то. Итак, считаю первое общешкольное собрание открытым. Председателем пока буду я, секретарем Сергей Иванович. В порядке дня — мой доклад о самоуправлении в школе. Итак, я начинаю.
Шкида молчит. Шкида притаилась и ждет, что скажет ее рулевой.
— Итак, прошу внимания. Что такое наша школа? Это — маленькая республика.
— Пожалуй, скорее — монархия, — ехидным шепотом поправляет зава Японец.
— Наша школа — республика, но в республике всегда власть в руках народа. У нас же до сих пор этого но было. Мы имели, с одной стороны, воспитанников, с другой воспитателей, которыми руководил я. Этим, так сказать, нарушалась наша негласная конституция.
— Правильно! — несется приглушенный выкрик из гущи воспитанников.
Викниксор грозно хмурит брови, по тут же спохватывается и продолжает:
— Теперь этого не будет. Сейчас я изложу перед вами мой план. Школа должна идти в ногу с жизнью, а посему наш коллектив должен ввести у себя самоуправление.
— О-го-го!
— Здорово!
Шкидцы удивлены.
— Да. Самоуправление. Вам непонятно это слово? Слово русское. Вот схема нашей системы самоуправления. Сегодня же мы изберем старост по классам, по спальням, но кухне и по гардеробу. На обязанности их будет лежать назначение дежурных. Дежурные будут назначаться на один день. Сегодня один, завтра другой, послезавтра третий и так далее. Таким образом, все вы постепенно будете вовлечены в общественную жизнь школы. Поняли?
— О-го-го! Поняли!
— Ну, так вот. Старосту мы будем выбирать на месяц или на две недели. Но старосты — это еще но все. Старосты по кухне и по гардеробу нуждаются в контроле. Мы изберем для них тройку. Ревизионную тройку, которая и будет контролировать их работу. Согласны?
— Ясно! Согласны! — гудят голоса.
— Таким образом, мы изживем возможности воровства и отначивания.
— Вот это да! Правильно.
Викниксор чувствует себя прекрасно. Ему кажется, что он совершил огромный подвиг, сделал большой государственный шаг, ему хочется еще что-нибудь сообщить, и он говорит:
— Кроме того, педагогический совет будет созывать совет старост, и вместе с воспитателями ваши выборные будут обсуждать все наиболее существенные мероприятия школы и ее дальнейшую работу.
Шкида поражена окончательно. Возгласы и реплики разрастаются в рев.
— Ур-ра-а!
Но Викниксор переходит к выборам. Как на аукционе, он выкрикивает названия постов для будущих старост, а в ответ в многоголосом гуле слышатся фамилии выбираемых.
— Староста по кухне. Кого предлагаете? — возглашает Викниксор.
— Янкеля!
— Цыгана!
— Янкеля!
— Даешь Черных!
— Черных старостой!
— Кто за Черных? Поднять руки. Кто против? Против нет. Итак, единодушное большинство за. Черных, ты — староста по кухне.
Уже прозвенел звонок, призывающий спать, а собрание еще только разгоралось.
Наконец, далеко за полночь, Викниксор встал и объявил:
— Все места распределены. Время позднее, пора спать.
Он пошел к дверям, по, вспомнив что-то, обернулся и добавил:
— Собрание считаю закрытым. Между прочим, ребята, за последнее время вы что-то очень разбузились, поэтому я решил ввести для неисправимых изолятор. Поняли? А теперь — спать.
— Вот вам и конституция! — съязвил за спиной Викниксора Японец.
Но его не слушали.
— Ай да Витя! Ну и молодец! — восхищался Янкель, чувствуя, что пост кухонного старосты принесет ему немало приятного.
— Да-с, здорово.
— Теперь мы равноправные граждане.
— Эй, посторонитесь, гражданин Викниксор!.. Гррражданин шкидец идет, — не унимался Японец.
Новый закон Викниксора обсуждали везде.
В спальне, в уборной, в классах.
Бедный дядя Сережа безуспешно пытался угомонить и загнать в спальню своих возбужденных питомцев.
Шкидцы радовались.
Только один Еонин с видом глубоко обиженного, непризнанного пророка презрительно выкрикивал фразы, полные желчи и досады:
— Эх вы! Дураки! Растаяли! Вам дали парламент, но вы получили и каторгу.
Он намекал на старост и изолятор.
— Чего ты ноешь? — возмущались товарищи, однако Японец не переставал. Он закидывал руки вверх и трагически восклицал:
— Народ! О великий шкидский народ! Ты ослеп. Тебя околдовали. Заклинаю тебя, Шкида, не верь словам Викниксора, ибо кто-кто, а он всегда надуть может.
Не было случая, чтобы Еонин поддержал новую идею Викниксора, и всегда в его лице педагоги встречали ярого противника. Но если прежде за ним шло большинство, то теперь его мало кто слушал. Получившие конституцию шкидцы чувствовали себя именинниками.
Великий ростовщик
Паучок. — Клуб со стульчаком. — Четыре сбоку, ваших ист. — Шкида в рабстве. — Оппозиция. — Птички. — Савушкин дебош. — Смерть хлебному королю!
Слаенов был маленький, кругленький шкет. Весь какой-то сдобный, лоснящийся. Даже улыбался он как-то сладко, аппетитно. Больше всего он был похож на сытого, довольного паучка.
Откуда пришел Слаенов в Шкиду, никто даже не полюбопытствовал узнать, да и пришел-то он как-то по-паучьи. Вполз тихонько, осторожненько, и никто его не заметил.
Пришел Слаенов во время обеда, сел на скамейку за стол и стал обнюхиваться. Оглядел соседей и вступил в разговор.
— А что? У вас плохо кормят?
— Плохо. Одной картошкой живем.
— Здорово! И больше ничего?
— А тебе чего же еще надо? Котлеток? Хорошо, что картошка есть. Это, брат, случайно запаслись. В других школах и того хуже.
Слаенов подумал и притих.
Дежурный с важностью внес на деревянном щите хлеб. За ним вошел, солидно помахивая ключом, староста Янкель. Он уже две недели исправно работал на новом посту и вполне освоился со своими обязанностями.
— Опять по осьмухе дают! — тоскливо процедил Савушка, вечно голодный, озлобленный новичок из второго отделения, но осекся под укоризненным взглядом халдея Сашкеца.
Однако настроение подавленности передалось и двум соседям Савушки, таким же нытикам, как и он сам. Кузя и Коренев вечно ходили озабоченные приисканием пищи, и это сблизило их. Они стали сламщиками. Слаенов приглядывался к тройке скулящих, но сам деликатно молчал. Новичку еще не подобало вмешиваться в семейные разговоры шкидцев.
Янкель обошел два стола, презрительно швыряя «пайки» шкидцам и удивляясь в душе, как это можно так жадно смотреть на хлеб. Сам Янкель чувствовал полное равнодушие к черствому ломтю, возможно потому, что у него на кухне, в столе, лежала солидная краюха в два фунта, оставшаяся от развешивания.
— Янкель, дай горбушку, — жалобно заскулил Кузя.
— Поди к черту, — обрезал его Черных.
Горбушки лежали отдельно, для старшего класса. Розданные пайки исчезали моментально. Только Слаенов не ел своего хлеба. Он равнодушно отложил его в сторону и лениво похлебывал суп.
— Ты что же хлеб-то не ешь? — спросил его Кузя, с жадностью поглядывая на соблазнительную осьмушку.
— Неохота, — так же равнодушно ответил Слаенов.
— Дай мне. Я съем, — оживился Кузя.
Но Слаенов уже прятал хлеб в карман.
— Я его сам на уроке заверну.
Кузя надулся и замолчал.
Когда все именуемое супом было съедено, принесли второе.
Это была жареная картошка.
Липкий, слащавый запах разнесся по столовой. Шкидцы понюхали воздух и приуныли.
— Опять с тюленьим жиром!
— Да скоро ли он кончится? В глотку уже не лезет!
Однако трудно проглотить только первую картофелину. Потом вкус «тюленя» притупляется и едят картошку уже без отвращения, стараясь как можно плотное набить животы.
Этот тюлений жир был гордостью Викниксора, и, когда ребята возмущались, он начинал поучать:
— Зря, ребята, бузите. Это еще хорошо, что у нас есть хоть тюлений жир, — в других домах и этого нет. А совершенно без жиру жить нельзя.
— Истинно с жиру бесятся! — острил Японец, с печальной гримасой поглядывая на миску с картошкой.
Он не мог выносить даже запаха «тюленя».
Вид картошки был соблазнителен, но приторный привкус отбивал всякий аппетит. Еошка минуту боролся, наконец отвращение осилило голод, и, подцепив картошку на вилку, он с озлоблением запустил ею по столу.
Желтенький шарик прокатился по клеенке, оставляя на ней жирный след, и влип в лоб Горбушке, увлекшемуся обедом.
Громкий хохот заставил встрепенуться Сашкеца.
Он обернулся, минуту искал глазами виновника, увидел утирающегося Горбушку, перевел взгляд на Японца и коротко приказал:
— За дверь!
— Да за что же, дядя Саша? — пробовал протестовать Японец, но дядя Саша уже вынимал карандаш и записную книжку, куда записывал замечания.
— Ну и вали, записывай. Халдей!
Еошка вышел из столовой.
Кончился обед, а Кузя все никак не мог забыть осьмушку хлеба в кармане Слаенова.
Он не отходил от него ни на шаг.
Когда стали подниматься по лестнице наверх в классы, Слаенов вдруг остановил Кузю.
— Знаешь что?
— Что? — насторожился Кузя.
— Я тебе дам свою пайку хлеба сейчас. А за вечерним чаем ты мне отдашь свою.
Кузя поморщился.
— Ишь ты, гулевой. За вечерним чаем хлеба по четвертке дают, а ты мне сейчас осьмушку всучиваешь.
Слаенов сразу переменил тон.
— Ну, как хочешь. Я ведь не заставляю.
Он опять засунул в карман вынутый было кусок хлеба.
Кузя минуту стоял в нерешительности. Благоразумие подсказывало ему: не бери, будет хуже. Но голод был сильнее благоразумия, и голод победил.
— Давай. Черт с тобой! — закричал Кузя, видя, как Слаенов сворачивает в зал.
Тот сразу вернулся и, сунув осьмушку в протянутую руку, уже независимо проговорил:
— Значит, ты мне должен четвертку за чаем.
Кузя хотел вернуть злосчастный хлеб, но зубы уже впились в мякиш.
* * *
Вечером Кузя «сидел на топоре» и играл на зубариках. Хлеб, выданный ему к чаю, переплыл в карман Слаенова. Есть Кузе хотелось невероятно, но достать было негде. Кузя был самый робкий и забитый из всего второго отделения, поэтому так трудно ему было достать себе пропитание.
Другие умудрялись обшаривать кухню и ее котлы, но Кузя и на это не решался.
Вся его фигура выражала унижение и покорность, и прямо не верилось, что в прошлом за Кузей числились крупные кражи и буйства. Казалось, что по своей покорности он взял чью-то вину на себя и отправился исправляться в Шкиду.
Рядом за столом чавкал — до тошноты противно — Кузин сламщик Коренев и, казалось, совсем не замечал, что у его друга нет хлеба.
— Дай кусманчик хлебца. А? — робко попросил Кузя у него, но тот окрысился:
— А где свой-то?
— А я должен новичку.
— Зачем же должал?
— Ну ладно, дай кусманчик.
— Нет, не дам.
Коренев опять зачавкал, а измученный Кузя обратился, на что-то решившись, через стол к Слаенову.
— До завтра дай. До утреннего чая.
Слаенов равнодушно посмотрел, потом достал Кузину четвертку, на глазах всего стола отломил половину и швырнул Кузе. Вторую половину он так же аккуратно спрятал в карман.
— Эй, постой! Дай и мне!
Это крикнул Савушка. Он уже давно уплел свою пайку, а есть хотелось.
— Дай и мне. Я отдам завтра, — повторил он.
— Утреннюю пайку отдашь, — хладнокровно предупредил Слаенов, подавая ему оставшуюся половину Кузиного хлеба.
— Ладно. Отдам. Не плачь.
* * *
На другой день у Слаенова от утреннего чая оказались две лишние четвертки. Одну он дал опять в долг голодным Савушке и Кузе, другую у него купил кто-то из первого отделения.
То же случилось в обед и вечером, за чаем.
Доход Слаенова увеличился. Через два дня он уже позволил себе роскошь — купил за осьмушку хлеба записную книжку и стал записывать должников, количество которых росло с невероятной быстротой.
Еще через день он уже увеличил себе норму питания до двух порций в день, а через неделю в слаеновской парте появились хлебные склады. Слаенов вдруг сразу из маленького, незаметного новичка вырос в солидную фигуру с немалым авторитетом.
Он уже стал заносчив, покрикивал на одноклассников, а те робко молчали и туже подтягивали ремешка на животах.
Еще бы, все первое и половина второго отделения были уже его должниками.
Уже Слаенов никогда не ходил один, вокруг него юлила подобострастная свита должников, которым он иногда в виде милостыни жаловал кусочки хлеба.
Награждал он редко. В его расчеты не входило подкармливать товарищей, но подачки были нужны, чтобы ребята не слишком озлоблялись против него.
С каждым днем все больше и больше запутывались жертвы Слаенова в долгах, и с каждым днем росло могущество «великого ростовщика», как называли его старшие.
Однако власть его простиралась не далее второго класса: самые могучие и самые крепкие — третье и четвертое отделение — смотрели с презрением на маленького шкета и считали ниже своего достоинства обращать на него внимание.
Слаенов хорошо сознавал опасность такого положения. В любой момент эти два класса или даже один из них могли разрушить его лавочку. Это ему не улыбалось, и Слаенов разработал план, настолько хитрый, что даже самые умные деятели из четвертого отделения не могли раскусить его и попались на удочку.
Однажды Слаенов зашел в четвертое отделение и, как бы скучая, стал прохаживаться по комнате.
Щепетильные старшие не могли вынести такой наглости: чтобы в их класс, вопреки установившемуся обычаю, смели приходить из первого отделения и без дела шляться по классу! Слаенов для них еще ничего особенного не представлял, поэтому на него окрысились.
— Тебе что надо здесь? — гаркнул Громоносцев.
Слаенов съежился испуганно.
— Ничего, Цыганок, я так просто пришел.
— Так? А кто тебя пускал?
— Никто.
— Ах, никто? Ну, так я тебе сейчас укажу дверь, и ты в другой раз без дела не приходи.
— Да я что же, я ничего. Я только думал, я думал… — бормотал Слаенов.
— Что думал?
— Нет, я думал, вы есть хотите. Хочешь, Цыганок, хлеба? А? А то мне его девать некуда.
Цыган недоверчиво посмотрел на Слаенова.
— А ну-ка, давай посмотрим.
При слове «хлеб» шкидцы оглянулись и насторожились, а Слаенов уже спокойно вынимал из-за пазухи четвертку хлеба и протягивал ее Громоносцеву.
— А еще у тебя есть? — спросил, подходя к Слаенову, Японец. Тот простодушно достал еще четвертку.
— На. Мне не жалко.
— А ну-ка, дай и мне, — подскочил Воробей, за ним повскакали со своих мест Мамочка и Горбушка.
Слаенов выдал и им по куску.
Когда же подошли Сорока и Гога, он вдруг сморщился и бросил презрительно:
— Нету больше!
Хитрый паучок почуял сразу, что ни Гога, ни Сорока влиянием не пользуются, а поэтому и тратиться на них считал лишним.
Ребята уже снисходительно поглядывали на Слаенова.
— Ты вали, забегай почаще, — усмехнулся Цыган и, войдя во вкус, добавил: — Эх, достать бы сахаринчику сейчас да чайку выпить!
Слаенов решил завоевать старших до конца
— У меня есть сахарин. Кому надо?
— Вот это клево, — удивился Японец. — Значит, и верно чайку попьем.
А Слаенов уже распоряжался:
— Эй, Кузя, Коренев! Принесите чаю с кухни. Кружки у Марфы возьмите. Старшие просят.
Кузя и Коренев ждали у дверей и по первому зову помчались на кухню.
Через пять минут четвертое отделение пировало. В жестяных кружках дымился кипяток, на партах лежали хлеб и сахарин. Ребята ожесточенно чавкали, а Слаенов, довольный, ходил по классу и, потирая руки, распространялся:
— Шамайте, ребята. Для хороших товарищей разве мне жалко? Я вам всегда готов помочь. Как только кто жрать захочет, так посылайте ко мне. У меня всегда все найдется. А мне не жалко.
— Ага. Будь спокоен. Теперь мы тебя не забудем, — соглашался Японец, набивая рот шамовкой.
Так было завоевано четвертое отделение.
Теперь Слаенов не волновался. Правда, содержание почти целого класса первое время было для него большим убытком, но зато постепенно он приучал старших к себе.
В то время хлеб был силой, Слаенов был с хлебом, и ему повиновались.
Незаметно он сумел превратить старших в своих телохранителей и создал себе новую могучую свиту.
Первое время даже сами старшие не замечали этого. Как-то вошло в привычку, чтобы Слаенов был среди них. Им казалось, что не они со Слаеновым, а Слаенов с ними. Но вот однажды Громоносцев услышал фразу, с таким презрением произнесенную каким-то первоклассником, что его даже передернуло.
— Ты знаешь, — говорил в тот же день Цыган Японцу, — нас младшие холуями называют. А? Говорят, Слаенову служим.
— А ведь правы они, сволочи, — тоскливо морщился Японец. — Так и выходит. Сами не заметили, как холуями сделались. Противно, конечно, а только трудно отстать… Ведь он, гадюка, приучил нас сытыми быть!
Скоро старшие свыклись со своей ролью и уже сознательно старались не думать о своем падении.
Один Янкель по-прежнему оставался независимым, и его отношение к ростовщику не изменилось к лучшему. Силу сопротивления ему давал хлеб. Он был старостой кухни и поэтому мог противопоставить богатству Слаенова свое собственное богатство.
Однако втайне Янкель невольно чувствовал уважение к паучку-ростовщику. Его поражало то умение, с каким Слаенов покорил Шкиду. Янкель признавал в нем ловкого человека, даже завидовал ему немножко, но тщательно это скрывал.
Тем временем Слаенов подготавливал последнюю атаку для закрепления власти. Незавоеванным оставалось одно третье отделение, которое нужно было взять в свои руки. Кормить третий класс, как четвертый, было убыточно и невыгодно, затянуть его в долги, как первый класс, тоже не удалось. Там сидели не такие глупые ребята, чтобы брать осьмушку хлеба за четвертку.
Тогда Слаенов напал на третье отделение с новым оружием.
Как-то после уроков шкидцы, по обыкновению, собрались в своем клубе побеседовать и покурить.
Клубов у шкидцев было два — верхняя и нижняя уборные. Но в верхней было лучше. Она была обширная, достаточно светлая и более или менее чистая.
Когда-то здесь помещалась ванна, потом ее сняли, но пробковые стены остались, остался и клеенчатый пол. При желании здесь можно было проводить время с комфортом, и, главное, здесь можно было курить с меньшим риском засыпаться.
В уборных всегда было оживленно и как-то по-семейному уютно.
Клубился дым на отсвете угольной лампочки. Велись возбужденные разговоры, и было подозрительно тепло. На запах шкидцы не обращали внимания.
Уборные настолько вошли в быт, что никакая борьба халдеев с этим злом не помогала. Стоило только воспитателю выгнать ребят из уборной и отойти на минуту в сторону, как она вновь наполнялась до отказа.
В верхней-то уборной и начал Слаенов атаку на независимое третье отделение.
Он вошел в самый разгар оживления, когда уборная была битком набита ребятами, Беспечно махнув в воздухе игральными картами, Слаенов произнес:
— С кем в очко сметать?
Никто не отозвался.
— С кем в очко? На хлеб за вечерним чаем, — снова повторил Слаенов
Худенький, отчаянный Туркин из третьего отделения принял вызов.
— Ну давай, смечем. Раз на раз!
Слаенов с готовностью смешал засаленные карты.
Вокруг играющих собралась толпа. Все следили за игрой Турки. Все желали, чтобы Слаенов проиграл. Туркин набрал восемнадцать очков и остановился.
— Побей. Хватит, — тихо сказал он.
Слаенов открыл свою карту — король. Следующей картой оказался туз.
— Пятнадцать очков, — пронесся возбужденный шепот зрителей.
— Прикупаешь? — спросил Туркин тревожно. Слаенов усмехнулся.
— Конечно.
— Король!
— Девятнадцать очков. Хватит.
Туркин проиграл.
— Ну, давай на завтрашний утренний сыграем, — опять предложил Слаенов.
Толстый Устинович, самый благоразумный из третьеклассников, попробовал остановить.
— Брось, Турка. Не играй.
Но тот уже зарвался.
— Пошел к черту! Не твой хлеб проигрываю. Давай карту, Слаеныч.
Туркин опять проиграл.
Дальше игра пошла лихорадочным темпом. Счастье переходило от одного к другому.
Оторваться темпераментный Турка уже не имел силы, и игра прерывалась только на уроках и за вечерним чаем.
Потом они играли, играли и играли.
В третьем отделении царило невероятное возбуждение. То и дело в класс врывались гонцы и сообщали новости:
— Туркин выиграл у Слаенова десять паек.
— Туркин проиграл пять.
Уже прозвенел звонок, призывающий ко сну, а игра все продолжалась.
В спальне кто-то предупредительно сделал на кроватях отсутствующих чучела из одеял и подушек…
Утром стало известно: Туркин в доску проигрался. Он за одну ночь проиграл двухнедельный паек и теперь должен был ежедневно отдавать весь свой хлеб Слаенову.
Скоро такая же история случилась с Устиновичем, а дальше началась дикая картежная лихорадка. Очко, как заразная бацилла, распространялось в школе, и главным образом в третьем отделении. Появлялись на день, на два маленькие короли выигрыша, но их сразу съедал Слаенов.
То ли ему везло, то ли он плутовал, однако он всегда был в выигрыше. Скоро третье отделение ужо почти целиком зависело от него.
Теперь три четверти школы платило ему долги натурой.
Слаенов еще больше вырос. Он стал самым могучим в Шкиде. Вечно он был окружен свитой старших, и с широкого лица его не сходило выражение блаженства.
Это время Шкиде особенно памятно. Ежедневно Слаенов задавал пиры в четвертом отделении, откармливая свою гвардию.
В угаре безудержного рвачества росло его могущество. Шкида стонала, голодная, а ослепленные обжорством старшеклассники не обращали на это никакого внимания.
Каждый день полшколы отдавало хлеб маленькому жирному пауку, а тот выменивал хлеб на деньги, колбасу, масло, конфеты.
Для этого он держал целую армию агентов.
Из-за голода в Шкиде начало развиваться новое занятие — «услужение».
Первыми «услужающими» оказались Кузя и Коренев. За кусочек хлеба эти вечно голодные ребята готовы были сделать все, что им прикажут. И Слаенов приказывал.
Он уже ничего не делал сам. Если его посылали пилить дрова, он тотчас же находил заместителя за плату: давал кусок хлеба — и тот исполнял за него работу. Так было во всем.
Скоро все четвертое отделение перешло на положение тунеядцев-буржуев.
Все работы за них выполняли младшие, а оплачивал эту работу Слаенов.
Вечером, когда Слаенов приходил в четвертое отделение, Японец, вскакивая с места, кричал:
— Преклоните колени, шествует его величество хлебный король!
— Ура, ура, ура! — подхватывал класс.
Слаенов улыбался, раскланивался и делал знак сопровождающему его Кузе. Кузя поспешно доставал из кармана принесенные закуски и расставлял все на парте.
— Виват хлебному королю! — орал Японец. — Да будет благословенна жратва вечерняя! Сдвигайте столы, дабы воздать должное питиям и яствам повелителя нашего!
Мгновенно на сдвинутых партах вырастали горы конфет, пирожные, сгущенное молоко, колбаса, ветчина, сахарин.
Шум и гам поднимались необыкновенные. Начиналась всамделишная «жратва вечерняя». С набитыми ртами, размахивая толстыми, двухэтажными бутербродами, старшие наперебой восхваляли Слаенова.
— Бог! Божок! — надрывался Японец, хлопая Слаенова по жирному плечу. — Божок наш! Телец златой, румяненький, толстенький!
И, припадая на одно колено, под общий исступленный хохот протягивал Слаенову огрызок сосиски и умолял:
— Повелитель! Благослови трапезу.
Слаенов хмыкал, улыбался и, хитро поглядывая быстрыми глазками, благословлял — мелко крестил сосиску.
— Ай черт! — в восторге взвизгивал Цыган. — Славу ему пропеть!
— Носилки королю! На руках нести короля!
Слаенова подхватывали на руки присутствовавшие тут же младшие и носили его по классу, а старшие, подняв швабры — опахала — над головой ростовщика, ходили за ним и ревели дикими голосами:
Славься ты, славься, Наш золотой телец! Славься ты, славься, Слаенов-молодец!..Церемония заканчивалась торжественным возложением венка, который наскоро скручивали из бумаги.
Доедая последний кусок пирожного, Японец, произносил благодарственную речь.
…Однажды во время очередного пиршества Слаенов особенно разошелся.
Ели, кричали, пели славу. А у дверей толпилась кучка голодных должников.
Слаенов опьянел от восхвалений.
— Я всех могу накормить, — кричал он. — У меня хватит!
Вдруг взгляд его упал на Кузю, уныло стоявшего в углу. Слаенова осенило.
— Кузя! — заревел он. — Иди сюда, Кузя!
Кузя подошел.
— Становись на колени!
Кузя вздрогнул, на минуту смешался; что-то похожее на гордость заговорило в нем. Но Слаенов настаивал.
— На колени. Слышишь? Накормлю пирожными.
И Кузя стал, тяжело нагнулся, будто сломался, и низко опустил голову, пряча от товарищей глаза. Лицо Слаенова расплылось в довольную улыбку.
— На, Кузя, шамай. Мне не жалко, — сказал он, швыряя коленопреклоненному Кузе кусок пирожного. Внезапно новая блестящая мысль пришла ему в голову.
— Эй, ребята! Слушайте! — Он вскочил на парту и, когда все утихли, заговорил: — Кузя будет мой раб! Слышишь, Кузя? Ты — мой раб. Я — твой господин. Ты будешь на меня работать, а я буду тебя кормить. Встань, раб, и возьми сосиску.
Побледневший Кузя покорно поднялся и, взяв подачку, отошел в угол. На минуту в классе возникла неловкая тишина. Японца передернуло от унизительного зрелища. То же почувствовали Громоносцев и Воробей, а Мамочка открыто возмутился:
— Ну и сволочь же ты, Слаенов.
Слаенов опешил, почувствовал, что зарвался, но уже у следующее мгновение оправился и громко запел, стараясь заглушить ворчание Мамочки.
Рабство с легкой руки Слаенова привилось, и прежде всего обзавелись рабами за счет ростовщика четвертоотделенцы. Все они чувствовали, что поступают нехорошо, но каждый про себя старался смягчить свою вину, сваливая на другого.
Рабство стало общественным явлением. Рабы убирали по утрам кровати своих повелителей, мыли за них полы, таскали дрова и исполняли все другие поручения.
Могущество Слаенова достигло предела.
Он был вершителем судеб, после заведующего он был вторым правителем школы.
Когда оказалось, что хлеба у него больше, чем он мог расходовать, Слаенов начал самодурствовать. Он заставлял для своего удовольствия рабов петь и танцевать.
При каждом таком зрелище присутствовали и старшие. Скрепя сердце они притворно усмехались, видя кривлянья младших.
Им было до тошноты противно, но слишком далеко зашла их дружба со Слаеновым.
А великий ростовщик бесновался.
Часто, лежа в спальне, он вдруг поднимал свою лоснящуюся морду и громко выкрикивал:
— Эй, Кузя! Раб мой!
Кузя покорно выскакивал из-под одеяла и, дрожа от холода, ожидал приказаний.
Тогда Слаенов, гордо посматривая на соседей, говорил:
— Кузя, почеши мне пятки.
И Кузя чесал.
— Не так… Черт! Пониже. Да но скреби, а потихоньку, — командовал Слаенов и извивался, как сибирский кот, тихо хихикая от удовольствия.
Ежедневно вечером за хлеб нанимал он сказочников, которые должны были говорить до тех пор, пока Слаенов не засыпал.
Доход Слаенова с каждым днем все рос. Он получал каждый день чуть ли не весь паек школы — полтора — два пуда хлеба — и кормил старших. За это старшие устраивали ему овации, называли его «Золотым тельцом» и «Хлебным королем».
Слаенов был первым богачом не только в Шкиде, но, пожалуй, и во всем Петрограде.
Так продолжался разгул Слаенова, а между тем нарастало недовольство.
Все чаще и чаще на кухне у Янкеля собиралась тройка заговорщиков.
Там, за прикрытой дверью, за чаем с хлебом и сахарином, обсуждались деяния Слаенова.
— Ой и сволочь же этот Слаенов, — возмущался Мамочка, поблескивая одним глазом. — Я бы его сейчас отдул, хоть он и сильнее меня!
— И ст-т-оит. И ст-т-оит, — заикался Гога, но Янкель благоразумно увещевал:
— Обождите, ребята, придет время, мы с ним поговорим.
Тройка эта показала Слаенову свои когти. Однажды, когда он попытался заговорить с Мамочкой и ласково предложил ему сахарину, тот возмутился.
Прямолинейный и страшно вспыльчивый Мамочка сперва покрыл Слаенова крепкой руганью, потом начал отчитывать:
— Да я тебя, сволочь несчастная, сейчас кочергой пришибу, ростовщик поганый! Обокрал всю школу. Ты лучше со мной и не разговаривай, парша, а то, гляди, морду расквашу!
Нападение было неожиданным. Мамочка искал только предлога, а Слаенов никак не думал, что противники окажутся такими стойкими и злобными.
Скандал произошел в людном месте. Кругом стояли и слушали рабы и одобрительно, хотя и боязливо, хихикали.
Слаенов так опешил, что даже не нашелся, что сказать, и, посрамленный, помчался в четвертое отделение.
Там он сел в углу и сделал плачущее лицо.
— Ты чего скуксился? — спросил его Громоносцев.
Слаенов обо всем рассказал.
— Понимаешь, Мамочка грозится побить, — говорил он и щупал глазами фигуры своих телохранителей, но те смущенно молчали.
Тут Слаенов впервые почувствовал, что сделал крупный промах.
Он считал себя достаточно сильным, чтобы заставить Громоносцева и всю компанию приверженцев повлиять на их одноклассника Мамочку, но ошибся. Мамочку, по-видимому, никто не решался трогать, и это было большим ударом для Слаенова.
Он сразу почувствовал, во что может превратиться маленькое ядро оппозиции, и поэтому решил раздавить ее в зародыше.
Но начал он уже не с Мамочки.
* * *
Янкель только что вошел в класс. В руках его была солидная краюха хлеба, которая, по обыкновению, осталась от развески.
Он собирался пошамать, но, увидев Слаенова, нахмурился.
— Долго ты здесь будешь шляться еще? — угрюмо спросил он ростовщика среди наступившей гробовой тишины, но вдруг, заметив в руках Слаенова карты, смолк.
В голове родилась идея: а что, если попробовать обыграть?
Расчет Слаенова оказался верен: в следующее же мгновение Янкель предложил сыграть в очко.
Игра началась.
Через час, после упорной борьбы, Янкель проиграл весь свой запас и начал играть на будущее.
Игра велась ожесточенно. Весь класс чувствовал, что это не просто игра, что это борьба двух стихий. Но Янкелю в этот день особенно не везло. За последующие два часа он проиграл тридцать пять фунтов хлеба, двухмесячный паек. Слаенов предложил прекратить игру, по Янкель настаивал на продолжении.
С трудом удалось его успокоить и увести в спальню.
Маленький, лоснящийся, тихий паучок победил еще раз.
Утром Янкель встал с больной головой. Он с отчаянием вспомнил о вчерашнем проигрыше.
На кухне он заглянул в тетрадку и решил на риск назначить дежурным по кухне вне очереди Мамочку. Так и сделал.
Сходили с ним в кладовую, получили на день хлеб и стали развешивать.
Янкель придвинул весы, поставил на чашку четверточную гирю, собираясь вешать, и вдруг изумился, глядя на Мамочкины манипуляции.
Тот возился, что-то подсовывая под хлебную чашку весов.
— Ты что там делаешь?
— Не видишь, что ли? Весу прибавляю, — рассердился Мамочка.
— Что же, значит, обвешивать ребят будем? Ведь заскулят.
— Не ребят, а Слаенова… Все равно ему пойдет.
Янкель подумал и не стал возражать.
К вечеру у них скопилось пять фунтов, которые и переправились немедленно в парту Слаенова.
Янкель повеселел. Если так каждый день отдавать, то можно скоро отквитать весь долг.
На другой день он по собственной инициативе подложил под весы солидный гвоздь и к вечеру получил шесть фунтов хлеба.
Янкель был доволен.
Тихо посвистывая, он сидел у стола и проверял по птичкам в тетради выданное количество хлеба. Птички ставились в списке против фамилии присутствующих учеников.
Как назло, сегодня отсутствовало около десяти человек приходящих, и Янкель уже высчитал, что в общей сложности от них он получил около фунта убытку: обвешивать можно было только присутствующих.
Вдруг Янкель вскочил, словно решил какую-то сложную задачу.
— Идея! Кто же может заподозрить меня, если я поставлю четыре лишние птички.
Открытие было до смешного просто, а результаты оказались осязательными.
Четыре птички за утренний и за вечерний чай дали два лишних фунта, а четыре за обед прибавили еще маленький довесок в полфунта.
Своим открытием Янкель остался доволен и применил его и на следующий день.
Дальше пошло легко, и скоро оппозиция вновь задрала голову.
От солидного янкелевского долга Слаенову осталось всего пять фунтов, которые он должен был погасить на следующий день.
Но в этот день над Янкелем разразилось несчастье.
После обеда он в очень хорошем настроении отправился на прогулку, а когда пришел обратно в школу, на кухне его встретил новый староста.
За два часа прогулки случилось то, о чем Янкель даже и думать не мог.
Викниксор устроил собрание и, указав на то, что Черных уже полтора месяца работает старостой на кухне, предложил его переизбрать, отметив в то же время, что работа Черных была исправной и безукоризненной.
Старостой под давлением Слаенова избрали Савушку — его вечного должника.
Удар пришелся кстати, и Викниксор невольно явился помощником Слаенова в борьбе с его противниками.
Дни беззаботного существования сменились днями тяжелой нужды. Никогда не голодавшему Янкелю было очень тяжело сидеть без пайка, но долг нужно было отдавать.
Слаенов между тем успокоился.
По его мнению, угрозы его могуществу больше не существовало.
Так же пировал он со старшими, не замечая, что Шкида, изголодавшаяся, измученная, все больше и больше роптала за его спиной.
А ростовщик все наглел. Он уже сам управлял кухней, контролируя Савушку. Слаенов заставлял Савушку подделывать птички, не считаясь с опасностью запороться.
Хлеб ежедневно по десятифунтовой буханке продавался за стенами Шкиды в лавку чухонки. Слаенов стал отлучаться по вечерам в кинематограф. Денег завелось много.
Но злоупотребление птичками не прошло даром.
Однажды за перекличкой Викниксор заметил подделку.
Лицо его нахмурилось, и, подозвав воспитателя, он проговорил:
— Александр Николаевич, разве Воронин был сегодня?
Сашкец ответил без промедления:
— Нет, Виктор Николаевич, не был.
— Странно. Почему же он отмечен в тетради?..
Викниксор углубился в изучение птичек.
— А Заморов был?
— Тоже нет.
— А Данилов?
— Тоже нет.
— Андриянов?
— Нет.
— Позвать старосту.
Савушка явился испуганный, побледневший.
— Вы меня звали, Виктор Николаевич?
— Да, звал. — Викниксор строго поглядел на Савушку и, указав на тетрадь, спросил голосом, не предвещавшим ничего хорошего:
— Почему здесь лишние отметки?
Савушка смутился.
— А я не знаю, Виктор Николаевич.
— А хлеб кто за них получал?
— Я… я никому не давал.
Вид Савушки выдал его с головой. Он то бледнел, то краснел, шмыгал глазами по столовой и, как затравленный, не находя, что сказать, бормотал:
— Не знаю. Не давал. Не знаю.
Голос Викниксора сразу стал металлическим:
— Савин сменяется со старост. Савина в изолятор. Александр Николаевич, позаботьтесь.
Сашкец молча вытащил из кармана ключ и, подтолкнув, повел Савушку наверх.
В столовой наступила грозная тишина.
Все сознавали, что Савушка влип ни за что ни про что. Виноват был Слаенов.
Ребятам стало жалко тихого и покорного Савушку.
А Викниксор, возмущенный, ходил по комнате и говорил:
— Это неслыханно! Это самое подлое и низкое преступление. Обворовывать своих же товарищей. Брать от них последний кусок хлеба. Это гадко!
Вдруг его речь прервал нечеловеческий вопль. Крик несся с лестницы. Викниксор помчался туда.
На лестнице происходила драка.
Всегда покорный Савушка вдруг забузил.
— Не пойду в изолятор. Сволочи, халдеи! Уйди, Сашкец, а то морду разобью!
Сашкец делал героические попытки обуздать Савушку. Он схватил его за талию, стараясь дотащить до изолятора, но Савин не давался.
В припадке ярости он колотил по лицу воспитателя кулаками. Сашкец посторонился и выпустил его. Савушка с громким воплем помчался к двери. В эту минуту в дверях показался Викниксор, но, увидев летящего ураганом воспитанника, отскочил — и сделал это вовремя. Кулак Савина промелькнул у самого его носа…
— А, Витя! Я тебя убью, сволочь! Дайте мне нож…
— Савин, в изолятор! — загремел голос заведующего, но это еще больше раззадорило воспитанника.
— Меня? В изолятор? — взвизгнул Савушка и вдруг помчался на кухню.
Оттуда он выскочил с кочергой.
— Где Витя? Где Витя? — Савушка был страшен. При виде мчащегося на него ученика, яростно размахивающего кочергой, Викниксору сделалось нехорошо.
Стараясь сохранить достоинство, он стал отступать к своей квартире, но в последний момент ему пришлось сделать большой прыжок за дверь и быстро ее захлопнуть.
Кочерга Савушки с треском впилась в высокую белую дверь.
Разозленный неудачным нападением, Савушка кинулся было на воспитателя, но ярость его постепенно улетучилась. Он бросил кочергу и убежал.
Через четверть часа Сашкец, с помощью дворника, нашел его в классе. Савушка, съежившись, сидел в углу на полу и тихо плакал.
В изолятор он пошел покорный, размякший и придавленный.
Педагоги не знали, что стряслось с Савиным. Они недоумевали. Ведь многих же сажали в изолятор, но ни с кем не было таких припадков буйства, как с Савушкой. Истину знали шкидцы. Они-то хорошо понимали, кто был виноват в преступлении Савина, и Слаенов все больше и больше чувствовал обращенные на него свирепые взгляды.
Страх все сильнее овладевал им. Он понимал, что теперь это не пройдет даром.
Тогда он вновь решил задобрить свою гвардию и устроил в этот вечер неслыханный пир: он поставил на стол кремовый торт, дюжину лимонада и целое кольцо ливерной колбасы. Но холодно и неприветливо было на пиршестве. Угрюмы были старшие.
А там наверху голодная Шкида паломничала к изолятору и утешала Савушку сквозь щелку:
— Савушка, сидишь?
— Сижу.
— Ну, ладно, ничего. Посидишь — и выпустят. Это все Слаенов, сволочь, виноват.
А Савушка, понурившись, ходил, как зверек, по маленькой четырехугольной комнатке и грозился:
— Я этому Слаенову морду расквашу, как выйду.
В верхней уборной собрались шкидцы и, мрачные, обсуждали случившееся.
Турка держал четвертку хлеба и сосредоточенно смотрел на нее. Эта четвертка — его утренний паек, который нужно было отдать Слаенову, но Турка был прежде всего голоден, а кроме того, озлоблен до крайности. Он еще минуту держал хлеб в руке, не решаясь на что-то, и вдруг яростно впился зубами в хлебную мякоть.
— Ты что же это? — удивился Устинович. — А долг?
— Не отдам, — хмуро буркнул в ответ Турка.
— Ну-у? Неужели не отдашь? А старшие?..
Да, старшие могли заставить, и это сразу охладило Турку. Теперь уже был опасен не Слаенов, а его гвардия. Он остановился с огрызком в раздумье — и вдруг услышал голос Янкеля:
— Эх, была не была! И я съем свою четвертку. А долг пусть Слаенов с Гоголя получит.
В зтот момент все притихли.
В дверях показался Слаенов. Он раскраснелся. И так всегда красное лицо пылало. Он прибежал с пирушки — на углах рта еще белели прилипшие крошки торта и таяли кусочки крема.
Слаенов почувствовал тревогу и насторожился, но решил держаться до конца спокойно.
Он подошел, пронизываемый десятками взоров, к Турке и спокойно проговорил:
— Гони долг, Турка. За утро.
Туркин молчал.
Молчали и окружающие.
— Ну, гони долг-то! — настаивал Слаенов.
— С Гоголя получи. Нет у меня хлеба, — решительно брякнул Турка.
— Как же нет? А утренняя пайка?
— Съел утреннюю пайку.
— А долг?
— А этого не хотел? — с этими словами Турка сделал рукою довольно невежливый знак. — Не буду долгов тебе отдавать — и все!
— Как это не будешь? — опешил Слаенов.
— Да не буду — и все.
— А-а-а!
Наступила тишина. Все следили за Слаеновым. Момент был критический, но Слаенов растерялся и глупо хлопал глазами.
— Нынче вышел манифест. Кто кому должен, тому крест, — продекламировал Янкель, вдруг разбив гнетущее молчание, и громкий хохот заглушил последние его слова.
— А-а-а! Значит, так вы долги платите?! Ну, хорошо…
С этими словами Слаенов выскочил из уборной, и ребята сразу приуныли.
— К старшим помчался. Сейчас Громоносцева приведет.
Невольно чувствовалось, что Громоносцев должен будет решить дело. Ведь он — сила, и если сейчас заступится за Слаенова, то завтра же вновь Турка будет покорно платить дань великому ростовщику, а с ним будут тянуть лямку и остальные.
— А может, он не пойдет, — робко высказал свои соображения Устинович среди всеобщего уныния. Все поняли, что под «ним» подразумевается Громоносцев, и втайне надеялись, что он не пойдет за Слаеновым.
Но он пришел. Пришел вместе со Слаеновым.
Слаенов гневно и гордо посмотрел на окружающих и проговорил, указывая пальцем на Туркина:
— Вот, Цыганок, он отказывается платить долги!
Все насторожились. Десяток пар глаз впился в хмурое лицо Цыгана, ожидая чего-то решающего.
Да или нет?
Да или нет?..
А Слаенов жаловался:
— Я пришел. Давай, говорю, долг, а он смеется, сволочь, и на Гоголя показывает.
Громоносцев молчал, но лицо его темнело все больше и больше. Узенькие ноздри раздулись, и вдруг он, обернувшись к Слаенову, скверно выругался.
— Ты что же это?.. Думаешь, я держиморда или вышибала какой? Я вовсе не обязан ходить и защищать твою поганую морду, а если ты еще раз обратишься ко мне, я тебя сам проучу! Сволота несчастная!
Хлопнула дверь, и Слаенов остался один в кругу врагов, беспомощный и жалкий.
Ребята зловеще молчали. Слаенов почувствовал опасность и вдруг ринулся к двери, но у двери его задержал Янкель и толкнул обратно.
— Попался, голубчик, — взвизгнул Турка, и тяжелая пощечина с треском легла на толстую щеку Слаенова.
Слаенов охнул. Новый удар по затылку заставил его присесть.
Потом кто-то с размаху стукнул кулаком по носу, еще и еще раз…
Жирный ростовщик беспомощно закрылся руками, но очередной удар свалил его с ног.
— За что бьете? Ребята! Больно! — взвыл он, но его били.
Били долго, с ожесточением, словно всю жизнь голодную на нем выколачивали. Наконец отрезвились.
— Хватит. Ну его к черту, паскуду! — отдуваясь, проговорил Турка.
— Хватит! Ну его! Пошли…
Слаенов, избитый, жалкий, сидел в углу у стульчака, всхлипывал и растирал рукавом кровь, сочившуюся из носа.
Ребята вышли.
Весть о случившемся сразу облетела всю Шкиду.
Старшие в нижней уборной организовали митинг, где вынесли резолюцию: долги считать ликвидированными, рабство уничтоженным — и впредь больше не допускать подобных вещей.
Почти полтора месяца голодавшая Шкида вновь вздохнула свободно и радостно.
Вчерашние рабы ходили сегодня довольные, но больше других были довольны старшие.
Сразу спал гнет, мучивший каждого из них. Они сознавали, что во многом были виноваты сами, и тем радостней было сознание, что они же помогли уничтожить сделанное ими зло.
Падение Слаенова совершилось быстро и неожиданно. Это была катастрофа, которой он и сам не ожидал. Сразу исчезли все доходы, сразу он стал беспомощным и жалким, но к этому прибавилось худшее: он не имел товарищей. Все отшатнулись от него, и даже Кузя, еще недавно стоявший перед ним на коленях, смотрел теперь на него с презрением и отвращением.
Через два дня из изолятора выпустили Савушку и сняли с него вину.
Школа, как один человек, встала на его защиту, а старшеклассники рассказали Викниксору о деяниях великого ростовщика.
Савушка, выйдя из изолятора, тоже поколотил Слаенова, а на другой день некогда великий, могучий ростовщик сам был заключен в изолятор, но никто не приходил к нему, никто не утешал его в заключении.
Еще через пару дней Слаенов исчез. Дверь изолятора нашли открытой. Замок был сорван, а сам Слаенов бежал из Шкиды.
Говорили, что он поехал в Севастополь, носились слухи, что он живет на Лиговке у своих старых товарищей-карманников, но все это были толки.
Слаенов исчез навсегда.
Так кончились похождения великого ростовщика — одна из тяжелых и грязных страниц в жизненной книге республики Шкид.
Долго помнили его воспитанники, и по вечерам «старички», сидя у печки, рассказывали «новичкам» бесконечно прикрашенные легенды о деяниях великого, сказочного ростовщика Слаенова.
Стрельна трепещет
Май улыбнулся. — Переселение народов. — Косецкий-фокусник. — На даче. — Солнечные ванны. — Кабаре. — Все на одного. — «Зеркало». — Стрельна трепещет. — История неудавшегося налета. — «Летопись» и разряды.
Первое мая.
Маленькую республику захлестнул поток звуков, знамен, людей и солнца.
С утра вокруг стен Шкиды беспрестанно перекатывались волны демонстрантов.
Никогда еще шкидцы не были так возбуждены. Они столпились у раскрытых окон и кричали демонстрантам «ура». Они сами хотели быть там и шагать рядами на площадь, но в этом году детей в демонстрацию почему-то не допустили.
Весна улыбалась первым маем. Первый май улыбался сайками. Белыми, давно не виданными сайками.
Их раздавали за утренним чаем. За обедом Викниксор сказал речь о празднике, потом шкидцы пели «Интернационал».
Вечером все от младшего до старшего ходили в город, смотрели иллюминацию, слушали музыку и толкались, довольные, в повеселевшей праздничной толпе.
Шкидцы радостно встретили весну, а еще радостней им стало, когда узнали, что губоно разыскало для своих питомцев дачу.
Когда окончательно стало известно, что для ребят отвоевана дача где-то в Стрельне и что пора переезжать, вся Шкида высыпала на улицу и наполнила ее воплем и гамом.
Переезжать нужно было трамвайным путем.
С утра мобилизованы были все силы.
Воспитанники вязали тюки белья, свертывали матрацы и переносили вниз кровати.
Ребята с рвением взялись за дело. Даже самые крохотные первоотделенцы прониклись важностью момента и работали не хуже больших.
— Эй, ты! — кричал маленький пузыреподобный Тырновский на своего товарища. — Куда край-то заносишь? Левей, левей. А то не пролезешь.
Они несли койку.
Внизу укладкой вещей занимались Янкель, Цыган и Япошка, а вместе с ними был граф Косецкий.
Граф Косецкий — халдей, но его молодость и чисто товарищеское отношение к ребятам сблизили с ним шкидцев. Графом Косецким его звали за спиной. Он был косым, отсюда и пошла эта кличка.
Завоевал Косецкий доверие у старших с первого дня.
Вот как это получилось.
Косецкий только что явился в школу и вечером стал знакомиться с учениками.
Сидели в классе. Косецкий долго распространялся о том, что он хороший физик и что он будет вести практические занятия.
— Это хорошо! — воскликнул в восторге Японец. — А у нас физических пособий до черта. Вон целый шкап стоит.
С этими словами он указал на шкаф, приютившийся в углу класса.
— Где? Покажите, — оживился Косецкий. Глаза его заблестели, и он кинулся к шкафу.
— Да он закрыт.
— Не трогайте, Афанасий Владимирович! Витя запретил его трогать!
Ребята сами испугались поведения Косецкого, а он, беспечно улыбаясь, говорил:
— Черт с ним, что ваш Витя запретил, а мы откроем и посмотрим.
— Не надо!
— Попадет, запоремся!
Однако Косецкий отвинтил перочинным ножичком скобу и, не тронув висячего замка, открыл шкаф.
Он вытащил динамо и стал с увлечением объяснять его действие.
В школе царила полная тишина.
Младшие классы уже спали, и только маленькая группа старшеклассников бодрствовала.
Ребята слушали объяснения, но сами тревожно насторожились, подстерегая малейший шорох.
Вдруг на лестнице стукнула дверь.
— Прячьте! Викниксор!
— Прячьте!
Динамо боком швырнули в шкаф, прикрыли дверь, едва успели всунуть винты и отскочили.
В класс вошел Викниксор.
Он делал свой очередной обход.
— А, вы еще здесь?
— Да, Виктор Николаевич. Договариваемся о завтрашних занятиях. Сейчас пойдем спать.
— Пора, пора, ребята.
Викниксор походил несколько минут по комнате, почесал за ухом, попробовал пальцем пыль на партах и подошел спокойно к шкафу.
Ребята замерли.
Взоры тревожно впились в пальцы Викниксора, а тот пощупал машинально замок — и, по близорукости не разглядев до половины торчащих винтов, вышел.
Вздох облегчения вырвался сразу у всех из груди.
— Пронесло!
Потом, когда уже улеглись в кровати, Цыган долго восторгался:
— Ну и смелый этот Косецкий. Я — и то сдрейфил, а ему хоть бы хны.
После этого случая Косецкий прочно завоевал себе доверие среди старших и даже сошелся с ними близко, перейдя почти на товарищеские отношения.
И вот теперь он вместе с ребятами весело занимался упаковкой вещей. В минуты перерыва компания садилась на ступеньки парадной лестницы и задирала прохожих.
— Осторожней, гражданин. Здесь лужа.
— Эй, торговка, опять с лепешками вышла. Марш, а не то в милицию сведем! — покрикивал Цыган.
Косецкий сидел в стороне и насвистывал какой-то вальс, блаженно жмурясь на солнце.
Наконец там, наверху в школе, все успокоились.
Вещи, необходимые на даче, были перетащены вниз.
Дожидались только трамвая.
Прождали целый день. Викниксор звонил куда-то по телефону, ругался, но платформу и вагон подали лишь поздно вечером, когда в городе уже прекратилось трамвайное движение.
Спешно погрузились, потом расселись по вагону, и республика Шкид тронулась на новые места.
У Нарвских ворот переменили моторный вагон с дугой на маленький пригородный вагончик с роликом. Места в этом вагончике всем не хватило, и часть ребят перелезла на платформы.
Зажурчали колеса, скрипнули рельсы, и снова понеслись вагоны, увозя стадо молодых шпаргонцев.
На платформе устроились коммункой старшие. Сидели, и под тихий свист ролика следили за убегающими деревянными домиками заставы.
Уже проехали последнее строение на окраине города, некогда носившее громкое и загадочное название «Красный кабачок», и помчались среди зеленеющих полей.
Трамвай равномерно подпрыгивал на скрепах и летел все дальше без остановок.
Шкидцам стало хорошо-хорошо, захотелось петь. Постепенно смолк смех, и вот под ровный гул движения кто-то затянул:
Высоко над нивами птички поют, И солнце их светом ласкает, А я горемыкой на свет родился И ласк материнских не знаю.Пел Воробей. Песенка, грустная, тихая, тягучая, вплелась в мерный рокот колес.
Сердитый и злобный, раз дворник меня Нашел под забором зимою, В приют приволок меня, злобно кляня, И стал я приютскою крысой.Медленно-медленно плывет мотив, и вот уже к Воробью присоединился Янкель, сразу как-то притихший. Ему вторит Цыган.
Влажный туман наползает с поля. А трамвай все идет по прямым, затуманившимся рельсам, и остаются где-то сзади обрывки песни.
Я ласк материнских с рожденья не знал, В приюте меня не любили, И часто смеялися все надо мной, И часто тайком колотили.Притихли ребята. Даже Япончик, неугомонный бузила Япончик, притаился в уголке платформы и тоже, хоть и фальшиво, но старательно подтягивает.
Летят поля за низеньким бортом платформы, изредка мелькнет огонек в домике, и опять ширь и туман.
Уж лето настало, цветы зацвели, И птицы в полянах запели. А мне умереть без любви суждено В приютской больничной постели.Вдруг надоело скучать. Янкель вскочил и заорал диким голосом, обрывая тихий тенорок Воробья:
Солнце светит высоко, А в канаве глубоко Все течет парное молоко-о-о…Сразу десяток глоток подхватил и заглушил шум трамвая. Дикий рев разорвал воздух и понесся скачками в разные стороны — к полю, к дачам, к лесу.
Сахар стали все кусать, Хлеб кусманами бросать, И не стали корочек соса-а-ать…— Вот это да!
— Вот это дернули, по-шкидски по крайней мере!
Вагоны, замедляя ход, пошли в гору.
С площадки моторного что-то кричала Эланлюм, но ребята не слышали.
Ее рыжие волосы трепались по ветру, она отчаянно жестикулировала, но ветер относил слова в сторону. Наконец ребята поняли.
Скоро Стрельна.
После подъема Янкель вдруг вытянул шею, вскочил и дико заорал:
— Монастырь! Ребятки, монастырь!
— Ну и что ж такого?
— Как что? Ведь я же год жил в нем. Год! — умилялся Янкель, но, заметив скептические усмешки товарищей, махнул рукой.
— Ну вас к черту. Если б вы понимали. Ведь монастырь. Кладбище, могилки. Хорошо. Кругом кресты.
— И покойнички, — добавил Япончик.
— И косточки, и черепушечки, — вторил ему, явно издеваясь над чувствительным Янкелем, Цыган — и так разозлил парня, что тот плюнул и надулся.
Трамвай на повороте затормозил и стал.
— Приехали!..
— Ребята, разгружайте платформу. Поздно. Надо скорее закончить разгрузку! — кричала Эланлюм, но ребята и сами работали с небывалым рвением.
Им хотелось поскорее освободиться, чтобы успеть осмотреть свои новые владения.
Втайне уже носились в бритых казенных головах мечты о далекой осени и о соблазнительной картошке со стрельнинских огородов, но первым желанием ребят было ознакомиться с окрестностями.
Однако из этого ничего не вышло. Весь вечер и часть ночи таскали воспитанники вещи и расставляли их по даче.
На рассвете распределили спальни и тут же сразу, расставив кое-как железные койки, завалились спать.
Дача оказалась славная. Ее почти не коснулись ни время, ни разруха минувших лет. Правда, местные жители уже успели, как видно, не один раз навестить этот бывший графский или княжеский особняк, но удовольствовались почему-то двумя — тремя снятыми дверьми, оконными стеклами да парой медных ручек. Все остальное было на месте, даже разбитое запыленное пианино по-прежнему украшало одну из комнат.
К новому месту шкидцы привыкли быстро. Дача стояла на возвышенности; с одной стороны проходило полотно ораниенбаумского трамвая, а с трех сторон были парк и лес, видневшийся в долине.
Рядом находился пруд — самое оживленное место летом. С утра до позднего вечера Шкида купалась. Иногда и ночью, когда жара особенно донимала и горячила молодые тела, ребята крадучись, на цыпочках шли на пруд и там окунались в теплую, но свежую воду.
Викниксор и здесь попытался ввести систему. С первых же дней он установил расписание. Утром гимнастика на воздухе, до обеда уроки, после обеда купание, вольное время и вечером опять гимнастика.
Но из этого плана ничего не вышло.
Прежде всего провалилась гимнастика, так как на летнее время, в целях экономии, у шкидцев отобрали сапоги, а без сапог ребята отказывались делать гимнастику, ссылаясь на массу битых стекол.
Уроки были, но то и дело к педагогам летели просьбы:
— Отпустите в уборную.
— Сидеть не могу.
Стоило парня отпустить, как он уже мчался к пруду, сбрасывал на ходу штаны и рубаху и купался долго, до самозабвения.
Лето, как листки отрывного календаря, летело день за днем, быстро-быстро.
Как-то в жаркий полдень, когда солнце невыносимо жгло и тело и лицо, Янкель, Японец и Воробей, забрав с собой ведро воды, полезли на чердак обливаться.
Но на чердаке было душно. Ребята вылезли на крышу и здесь увидели загоравшую на вышке немку.
— А что, ребята? Не попробовать ли и нам загорать по Эллушкиному методу? А? — предложил Янкель.
— А давайте попробуем.
Ребята, довольные выдумкой, моментально разделись и улеглись загорать.
— А хорошо, — лениво пробормотал Воробей, ворочаясь с боку на бок.
— И верно, хорошо, — поддержали остальные.
Их примеру последовали другие, и скоро самым любимым занятием шкидцев стали загорать на вышке.
Приходили в жаркие дни и сразу разваливались на горячих листах железной крыши.
Скоро, однако, эти однообразные развлечения стали приедаться воспитанникам.
Надоело шляться с Верблюдычем по полям, слушать его восторженные лекции о незабудках, ловить лягушек и червяков, надоело тенями ходить из угла в угол по даче и даже купаться прискучило.
Все больше и больше отлеживались на вышке. Младшие еще находили себе забавы, лазили по деревьям, катались на трамвае, охотились с рогатками на ворон, по старшие ко всему потеряли интерес и жаждали нового.
Когда-то в городе, сидя за уроками, они предавались мечтам о теплом лете, а теперь не знали, как убить время.
— Скучно, — лениво тянул Японец, переворачиваясь с боку на бок под жгучими лучами солнца.
— Скучно, — подтягивали в тон ему остальные. Все чаще и чаще собирались на вышке старшие и ругали кого-то за скуку.
А солнце весело улыбалось с ярко-синего свода, раскаляло железную крышу и наполняло духотой, скукой и ленью притихшую дачу.
— Ску-учно, — безнадежно бубнил Японец.
…Вечерело. Сизыми хлопьями прорезали облачка красный диск солнца. Начинало заметно темнеть. Со стороны леса потянуло сыростью и холодом. Шкидцы сидели на вышке и, притихшие, ежась от ветерка, слушали рассказы Косецкого о студенческой жизни.
— Бывало, вечерами такие попойки задавали, что небу жарко становилось. Соберемся, помню; сперва песни разные поем, а потом на улицу…
Голос Косецкого от сырости глуховат. Он долго с увлечением рассказывает о фантастических дебошах, о любовных интрижках, о веселых студенческих попойках. Шкидцы слушают жадно и только изредка прерывают речь воспитателя возгласами восхищения:
— Вот это здорово!
— Ай да ребята!
Сумерки сгустились. Внизу зазвенел колокольчик.
— Тьфу, черт, уже спать! — ворчит Воробей.
Ребята зашевелились. Косецкий тоже нехотя поднялся. Сегодня он дежурил и должен был идти в спальни укладывать воспитанников. Но спать никому не хотелось.
— Может, посидим еще? — нерешительно предложил Янкель, но халдей запротестовал:
— Нет, нет, ребята! Нельзя! Витя нагрянет, мне попадет! Идемте в спальню. Только дайте закурить перед сном.
Ребята достали махорку, и, пока Косецкий свертывал папиросу, они один за другим спускались вниз.
— Вы к нам заходите, в спальню побеседовать, когда младших уложите, — предложил Громоносцев.
— Хорошо, забегу
Уже внизу, в спальне, ребята, укладываясь, гуторили между собой:
— Вот это парень!..
Последнее время Косецкий особенно близко сошелся со старшими. Они вместе курили, сплетничали про зава и его помощницу. Теперь ребята окончательно приняли в свою компанию свойского Косецкого и даже не считали его за воспитателя.
Ночь наступила быстро. Скоро стало совсем темно, а ребята еще лежали и тихо разговаривали. Косецкий, уложив малышей, пришел скоро, сел на одну из кроватей, закурил и стал делиться с ребятами планами своей будущей работы.
— Вы, ребята, со мной не пропадете. Мы будем работать дружно. Вот скоро я свяжусь с обсерваторией, так будем астрономию изучать.
— Бросьте! — лениво отмахнулся Японец.
— Что это бросьте? — удивился Косецкий.
— Да обсерваторию бросьте.
— Почему?
— Да все равно ничего не сделаете, только так, плешь наводите. Уж вы нам много чего обещали.
— Ну и что ж? Что обещал, то и сделаю! Я не такой, чтобы врать. Сказал — пойдем, и пойдем. Это же интересно. Будем звездное небо изучать, в телескопы посмотрим…
— Есть что-то хочется, — вдруг со вздохом проговорил все время молчавший Янкель и, почему-то понюхав воздух, спросил Косецкого:
— А вы хотите, Афанасий Владимирович?
— Чего?
— Да шамать!
— Шамать-то… шамать… — Косецкий замялся. — Признаться, ребятки, я здорово хочу шамать. А что? Почему это ты спросил? — обратился он к Янкелю, но тот улыбнулся и неопределенно изрек, обращаясь неизвестно к кому.
— И это жизнь! Хочешь угостить дорогого воспитателя плотным обедом — и нельзя.
— Почему? — оживился Косецкий.
— Собственно, угостить, пожалуй, можно… но… — робко пробормотал Японец.
— Но требуется некоторая ловкость рук и так далее, — закончил Янкель, глядя в потолок.
— Ах, вот в чем дело! — Косецкий понял. — А где же это?
— Что?
— Обед.
— Обед на кухне!
Потом вдруг все сразу оживились. Обступили плотной стеной Косецкого и наперебой посвящали его в свои планы.
— Поймите, остаются обеды… Марта их держит в духовой… Сегодня много осталось. Спальня сыта будет, и вы подкормитесь. Все равно до завтра прокиснет… А мы в два счета, только вы у дверей на стреме постойте…
Косецкий слушал, трусливо улыбаясь, потом захохотал и хлопнул по плечу Громоносцева.
— Ах, черти! Ну, валите, согласен!
— Вот это да! Я же говорил, — захлебывался Янкель от восторга, — я же говорил: вы не воспитатель, Афанасий Владимирович, а пройдоха первостатейный.
Налет проводили организованно. Цыган, Японец и Янкель на цыпочках пробрались на кухню, а Косецкий прошел по всем комнатам дачи и, вернувшись, легким свистом дал знать, что все спокойно.
Тотчас все трое уже мчались в спальню, кто со сковородкой, кто с котлом.
Ели вместе из одного котла и тихо пересмеивались.
— Хе-хе! С добрым утром, Марта Петровна! За ваше здоровье!
— Хороший суп! Солидно подсадили куфарочку нашу, — отдуваясь, проговорил Косецкий, а Воробышек, деловито оглядев посудину, изрек:
— Порций двенадцать слопали.
Нести котлы обратно не хотелось, и лениво развалившийся после сытного обеда Косецкий посоветовал:
— Швырните в окно, под откос.
Так и сделали.
Сытость располагает к рассуждениям, и вот Янкель, кувырнувшись на кровати, нежно пропел:
— Кто бы мог подумать, что вы такой милый человек, Афанасий Владимирович, а я-то, мерзавец, помню, хотел вам чернил в карман налить.
— Ну вот. Разве можно такие гадости делать своему воспитателю? — улыбнулся благодушно Косецкий, но Япончик захохотал.
— Да какой же вы воспитатель?
— А как же? А кто же?
— Ладно! Бросьте арапа заправлять!
Косецкий обиделся.
— Ты, Еонин, не забывайся. Если я с вами обращаюсь по-товарищески, то это еще не значит, что вы можете говорить все, что вздумается.
Теперь захохотала вся спальня.
— Хо-хо-хо!
— Бросьте вы, Афанасий Владимирович. — Воспитатель! Ха-ха-ха! Вот жук-то!
А Япошка уже разошелся и, давясь от смеха, проговорил:
— Не лепи горбатого, Афоня. Да где же это видано, чтобы воспитатель на стреме стоял, пока воспитанники воруют картошку с кухни! Хо-хо-хо!
Косецкий побледнел. И, вдруг подскочив к Японцу, схватил его за шиворот:
— Что ты сказал? Повтори!
Япошка, под общий хохот, бессильно барахтаясь, пробовал увильнуть:
— Да я ничего!..
— Что ты сказал? — шипел Косецкий, а спальня, принявшая сперва выходку воспитателя за шутку, теперь насторожилась.
— Что ты сказал?
— Больно! Отпустите! — прохрипел Японец, задыхаясь, и вдруг, обозлившись, уже рявкнул: — Пусти, говорю! Что сказал? Сказал правду! Воруешь с нами, так нечего загибаться, а то распрыгался, как блоха.
— Блоха? А-а-а! Так я блоха?.. Ну хорошо, я вам покажу же! Если вы не понимаете товарищеского отношения, я вам покажу!.. Молчать!
— Молчим-с, ваше сиятельство, — почтительно проговорил Громоносцев. — Мы всегда-с молчим-с, ваше сиятельство, где уж нам разговаривать…
— Молчать!!! — дико взревел халдей. — Я вам покажу, что я воспитатель, я заставлю вас говорить иначе. Немедленно спать, и чтобы ни слова, или обо всем будет доложено Викниксору!
Дверь хрястнула, и все стихло.
Спальня придушенно хохотала, истеричный Японец, задыхаясь в подушке, не выдержал и, глухо всхлипывая, простонал:
— Ох! Не могу! Уморил Косецкий!
Вдруг дверь открылась, и раздался голос халдея:
— Еонин, завтра без обеда.
— За что? — возмутился Японец.
— За разговоры в спальне.
Дверь опять закрылась. Теперь смеялась вся спальня, но без Еонина. Тому уже смешно не было.
Минут через пять, когда все успокоились, Цыган вдруг заговорил вполголоса:
— Ребята, Косецкий забузил, поэтому давайте переменим ему кличку, вместо графа Косецкого будем звать граф Кособузецкий!
— Громоносцев, без обеда завтра! — донеслось из-за двери, и тотчас послышались удаляющиеся шаги.
— Сволочь. У дверей подслушивал!
— Ну и зараза!
— Сам ворует, а потом обижается, ишь гладкий какой, да еще наказывает!
— Войну Кособузецкому! Войну!
Возмущение ребят не поддавалось описанию. Было непонятно, почему вдруг халдей возмутился, но еще больше озлобило подслушивание у дверей.
Подслушивать даже среди воспитанников считалось подлостью, а тут вдруг подслушивает воспитатель.
— Ну, ладно же. Без обеда оставлять, да еще легавить! Хорошо же. Попомнишь нас, Косецкий. Попомнишь, — грозился озлобленный Цыган.
Тут же состоялось экстренное совещание, на котором единогласно постановили: с утра поднять бузу во всей школе и затравить Косецкого.
— Попомнишь у нас! Попомнишь, Кособузецкий!..
Спальня заснула поздно, и, засыпая, добрый десяток голов выдумывал план мести халдею.
* * *
Резкий звонок и грозный окрик «вставайте» сразу разбудил спальню старших.
— Если кто будет лежать к моему вторичному приходу, того без чаю оставлю! — выкрикнул Косецкий и вышел.
— Ага. Он тоже объявил войну, — ухмыльнулся Янкель, но не стал ожидать «вторичного прихода» халдея, а начал поспешно одеваться. Однако почти половина спальни еще лежала в полудремоте, когда вновь раздался голос Косецкого.
Он ураганом ворвался в спальню и, увидев лежащих, начал свирепо сдергивать одеяла, потом подлетел к спавшему Еонину и стал его трясти:
— Еонин, ты еще в кровати? Без чаю!
Япончик сразу проснулся. Он хотел было вступить в спор с халдеем, но того уже не было.
— Без чаю? Ну ладно! Мы тебе так испортим аппетит, что у тебя и обед не полезет в рот, — заключил он злорадно.
Спальня была возбуждена. Лишь только встали, сейчас же начали раскачивать сложную машину бузы.
Воробей помчался агитировать к младшим, те сразу же дали согласие. Главные агитаторы — Янкель, Японец и Цыган — отправились в третье отделение и скоро уже выступали там с успехом.
Война началась с утреннего умывания.
Косецкий стоял на кухне и отмечал моющихся в тетрадке.
Вдруг со стороны столовой показалась процессия. Шло человек пятнадцать, вытянувшись в длинную цепочку. Они бодро махали полотенцами.
Потом ребята стали важно проходить мимо халдея, выкрикивая по очереди:
— Здрав—
— ствуйте,
— Афа—
— насий
— Влади—
— мирович,
— граф
— Ко—
— со—
— бу—
— зецкий! — смачно закончил последний.
Халдей оторопел, дернулся было в расчете поймать виновника, но, вспомнив, что бузит не один, а все, сдержался и ограничился предупреждением:
— Если это повторится, весь класс накажу.
В ответ послышалось дружное ржание всех присутствующих:
— О-го-го! Аника-воин!
— Подожди. Заработаешь!
Несмотря на эти угрозы, Косецкий не отступился от своего. Еонин остался без чаю, и это еще больше озлобило ребят. Они начали действовать.
День выдался хороший. Солнце пекло как никогда, но у пруда стояло затишье. Обычного купания не было. Зато у перелеска царило необычайное оживление.
Проворные шкидцы карабкались по дубовым стволам за желудями, сбивали их палками, каменьями и чем только было можно.
Тут же внизу другая партия ползала по земле и собирала крепкие зеленые ядра в кепки, в наволочки и просто в карманы.
Зачем готовились такие запасы желудей, выяснилось немного позже.
Косецкий, довольный внезапной тишиной в школе, решил, что ребята успокоились. Откровенно говоря, он ожидал длительной и тяжелой борьбы и был чрезвычайно удивлен и обрадован, что все так скоро кончилось.
Тихо посвистывая, он вышел во двор, прошел к пруду и сел на берегу, жмурясь под ярким солнцем.
Ему вдруг захотелось выкупаться.
Недолго думая, он тут же разделся и бросился в воду.
Свежая влага приятно холодила тело. Косецкий доплыл до середины пруда и, как молодой, резвящийся тюлень, окунулся, стараясь достать до дна.
Наконец он решил, что пора вылезать, и повернул к берегу.
Вдруг что-то с силой стукнуло его по затылку. Боль была как от удара камнем. Косецкий оглянулся, но вокруг было все спокойно и неподвижно. Тут взор его упал на качающийся на поверхности воды маленький желтенький желудь.
«Желудем кто-то запустил», — подумал халдей, но новый удар заставил его действовать и думать быстрее.
Он поплыл к берегу.
Щелк. Щелк. Сразу два желудя ударили его в висок и в затылок. Положение становилось критическим.
«Нужно поскорее одеться. Тогда можно будет изловить негодяев», — подумал Косецкий. Однако размышления его прервал новый удар в висок, настолько сильный, что желудь, отлетев от головы, вдруг запрыгал по воде, а сам Косецкий пробкой выскочил на берег.
По-прежнему кругом стояла мертвая тишина.
— Погодите же! — пробормотал Косецкий и бросился к кустику, за которым лежало белье.
— О, черт!
Раз за разом в спину ему ударилось пять или шесть крепких как камень желудей.
«Скорей бы одеться», — подумал воспитатель, добежав до куста, и вдруг холодная дрожь передернула его тело.
Белья за кустом не было.
Косецкий, вне себя от ярости, огляделся вокруг, все еще не веря, что одежда его пропала.
Он остановился, беспомощный, не зная, что делать. Он чувствовал, что на него глядят откуда-то десятки глаз, наблюдают за ним и смеются.
Как бы в подтверждение его мысли, где-то поблизости прокатилось сатанинское злорадное гоготанье, и новый желудь шлепнулся в плечо халдея.
Теперь он понял, что началось сражение, исход которого будет зависеть от выдержки и стойкости той или другой стороны.
Лично для него начало не предвещало ничего хорошего.
Белья не было. Косецкий ужаснулся. Ведь он был беспомощен перед своими врагами. А между тем желуди все чаще и чаще свистели вокруг него.
Тогда халдей лихорадочно бросился искать белье. Он обшарил соседние кусты, стараясь не высовываться из-за зелени, служившей ему прикрытием, но белья не было. В отчаянии он выпрямился, но тотчас же снова присел. Добрый десяток желудей, как пули из пулемета, посыпались ему в спину.
Косецкому было и больно, и стыдно. Он, воспитатель, принужден сидеть нагишом и прятаться от мстительных воспитанников. Он знал, что так просто они его не отпустят.
Теперь он желал только одного: разыскать белье. Напрасно шарили глаза вокруг, белья не было. И вдруг радостный крик. Косецкий увидел белье, но уже в следующее мгновение он разразился проклятием:
— Сволочи! Негодяи!
Белье, сияя своей белизной, тихо покоилось на высоченном дереве.
«Что делать?!»
Ведь если лезть на дерево, то его закидают желудями, а палкой не достать. Чуть не плача, но полный решимости, он пополз по стволу. Но едва только выпрямился, как снова тело обожгли удары.
Бессознательно, руководимый только чувством самосохранения, Косецкий снова присел и услышал торжествующий рев невидимых врагов.
«А-а-а, смеются!»
Вопль отчаяния и злобы невольно вырвался из горла, и уже в следующее мгновение халдей, с решимостью осужденного на смерть, полез на дерево, осыпаемый желудями.
Кора до боли царапала тело, два раза желуди попадали в лоб и причиняли такую боль, что халдей невольно закрывал глаза и приостанавливал путешествие, но потом, собравшись с силами, лез дальше.
Наконец он у цели.
Обратно Косецкий не слез, а как-то бессильно сполз, поцарапав при этом грудь и руки, но удовлетворенный победой.
Однако с бельем ему еще пришлось помучиться. Рукава нижней рубашки и штанины кальсон оказались намоченными и туго завязанными узлом.
На шкидском языке это называлось «сухариками», и Косецкий долго работал и руками и зубами, пока удалось развязать намокшие концы.
Наконец он оделся и вышел на берег, ожидая нового обстрела, но на этот раз вокруг было тихо.
Вне себя от обиды и злобы халдей помчался на дачу, решив немедленно переговорить с заведующим, но и здесь его постигла неудача: Викниксор уехал в город.
Проходя по комнатам, Косецкий ловил насмешливые взгляды ребят и сразу угадал, что все они только что были свидетелями его позора.
Подошел обед, и здесь халдей вновь почувствовал себя в силе. Громоносцев, Еонин и еще пять — шесть воспитанников были лишены обеда.
После обеда шкидцы устроили экстренное собрание и, глубоко возмущенные, решили продолжать борьбу.
Теперь Косецкий, наученный горьким опытом, никуда не отлучался с дачи, но это не помогло. Снова началась бомбардировка. Стоило только ему отвернуться, как в спину его летел желудь. Он был бессилен и нервничал все больше и больше, а тут, как бы в довершение всех его невзгод, со всех сторон слышалась только что сочиненная ребятами песенка:
На березу граф Косецкий Лазал с видом молодецким, Долго плакал и рыдал, Все кальсоны доставал.Напрасно Косецкий метался, стараясь отыскать уголок, где можно было бы скрыться, везде его встречали желуди и песенка, песенка и желуди.
Он решил наконец отсидеться в воспитательской комнате и помчался туда. Вдруг взгляд его приковала стена.
На стене у входа в воспитательскую висел тетрадочный развернутый лист бумаги, вверху которого красовалось следующее:
Бузовик
Стенная газета
Орган бузовиков республики Шкид
Экстренный выпуск по поводу
косых направлений в Шкиде
Дальше замелькали названия: «Граф Косецкий», «Сенсационный роман», «Купание в пруду», «Долой графов».
В глазах халдея потемнело. Он сорвал листок с твердым намерением показать его Викниксору.
В комнате воспитателей Косецкого ожидал новый сюрприз.
Едва он открыл дверь, как прислоненная к косяку щетка и надетый на нее табурет с грохотом обрушились ему на голову.
Косецкий не выдержал. Слезы показались у него на глазах, и, повалившись на кровать, он громко зарыдал.
Скоро по Шкиде пронеслась весть: с Косецким истерика.
Янкель и Япошка — редакторы первой шкидской газеты «Бузовик» — приостановили работу на половине, не докончив номера.
Настроение сразу упало.
— Косецкий в истерике.
— Что-то будет?
Ребята ожидали грозы, но ничуть не боялись ее. Они чувствовали себя правыми.
Явилась Эланлюм.
— Что у вас вышло с Афанасием Владимировичем? — грозно спросила она, но, когда узнала, что Косецкий сам вел себя не лучше ребят, предложила замять всю историю и не доводить до сведения Викниксора.
На этом и порешили. Ребята выслали делегацию к халдею, и они помирились. До Викниксора дошел только маленький скомканный листок газеты «Бузовик».
* * *
На другой день Янкелю и Японцу сообщили, что их зовет Викниксор.
Прежде чем пойти к заву, ребята перебрали в уме все свои проступки за неделю и, не найдя ничего страшного, кроме замятого скандала с Косецким, бодро отправились в кабинет.
— Можно войти?
— Войдите. А, это вы!
Викниксор сидел в кресле. В руках он держал номер «Бузовика».
Ребята переглянулись и замерли.
— Ну, садитесь. Поговорим.
— Да мы ничего, Виктор Николаевич. Постоим. — Янкель тревожно вспоминал все ругательства по адресу Косецкого, которыми был пересыпан текст «Бузовика».
— Так вот, ребята, — начал Виктор Николаевич. — Я, как видите, имел возможность прочесть вашу газету. На мой взгляд, в ней один недостаток: она пахнет бульварщиной. Она груба, хотя, говоря откровенно, в ней есть немало и остроумного.
Викниксор вслух перебрал ряд удачных и неудачных заметок и, увлекшись, продолжал:
— Почему бы вам в самом деле не издавать настоящей, хорошей школьной газеты? Видите ли, я сам в свое время пробовал натолкнуть ребят на это и даже выпустил один номер газетки «Ученик», но воспитанники не отозвались, и газета заглохла. Вы, я вижу, интересуетесь этим, а поэтому валите-ка, строчите. Название, разумеется, надо переменить. Ну… ну… хотя бы «Зеркало»… и с эпиграфом можно: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива».
— Мы-то уж давно хотели, — вставил Японец.
— Ну, а коли хотели, то и делайте. Я даже рад буду, — закончил Викниксор.
Через четверть часа газетчики вышли из кабинета, нагруженные бумагой, чернилами, тушью, перьями, карандашами и красками.
Все случившееся было так неожиданно, что только у дверей спальни ребята опомнились и сообразили, в чем дело.
— Здорово вышло! — воскликнул восхищенный Янкель.
— Да, — протянул Япончик. — Ожидали головомойки, а получили поощрение…
На другой день на вышке готовился первый номер шкидской школьной газеты «Зеркало». Янкель, подложив под лист папку, разрисовывал заголовок. Япончик писал передовицу «от редакции». На краю крыши сидел согнувшись Цыган, вызвавшийся редактировать отдел шарад и ребусов. Тут же, впав в поэтический транс, Воробей строчил стихи о закате солнца — «На горизонте шкидской дачи…»
Покончив с заголовком, Янкель уселся рядом с Японцем, и вдвоем они принялись за составление стихотворной передовицы, в которой нужно было изложить программу нового органа.
Стишки были слабые, но начинающих стенгазетчиков они вполне устраивали, и поэтому Янкель немедля стал переписывать их в колонку стенгазеты.
Первый номер «Зеркала» вышел на другой день утром.
Редколлегия была в восторге и все время вертелась около толпы читающих шкидцев. Повесили номер в столовой. За обедом Викниксор в своей обычной речи отметил новый этап в жизни школы — появление «Зеркала», — передал привет сияющим редакторам и пожелал им дальнейших успехов.
Стенгазета понравилась всем, но больше всего Янкелю. Тот раз десять подкрадывался к ней, с тайным удовлетворением перечитывая свои стихи:
Наша «Зеркало»-газета — Орган школы трудовой, В ней хотим ребят потешить, Показать наш быт простой.Успех первого номера окрылил редакцию, и скоро выпорхнул номер второй, уже более обширный и более богатый материалами, за ним третий, четвертый.
Так из бузы, из простой шалости родилось здоровое начинание.
А лето незаметно меняло краски.
Уже предательски поблескивали робкие желтенькие листики на деревьях, и темными, слишком темными становились ночи.
К шкидской даче неслышно подкрадывалась осень…
* * *
Однажды случилась заминка с продуктами. То ли в складе оказалась недостача, то ли с ордерами запоздали, но следствием этого явилось резкое сокращение и так уже незначительного пайка.
Перестали совершенно выдавать к обеду хлеб, а вечернюю порцию сократили с четверти фунта до осьмушки.
Шкида погрузилась в уныние. Такой паек не предвещал ничего хорошего; к тому же, по слухам, увеличение предвиделось не скоро.
«Зеркало», развернувшееся к этому времени в газету большого формата, забило тревогу. Появились запросы, обращения к педагогическому совету с приглашением осветить через газету причину недостатка продуктов.
Викниксор вызвал редакторов и имел с ними по этому поводу беседу, результатом которой явилась большая статья-интервью, которая никого не насытила.
Шкидцев охватила паника, но, пока третье и четвертое отделения ломали головы, ища выхода, первое и второе уже нашли его и втихомолку блаженствовали.
Выход был прост. Подходила осень, по соседству находились огромные стрельнинские огороды, в которых поспевал картофель. Огороды почти не охранялись, и пронырливым малышам ничего не стоило устраивать себе ужин из печеного, вареного и даже жареного картофеля. Для этого ходившие в отпуск выклянчивали дома и привозили в Шкиду — кто жир, кто жировар, а кто и настоящее коровье масло.
Скоро примеру младших последовали и старшие.
Паломничество в чужие огороды росло и ширилось, пока не охватило всю школу.
Прекратились сразу жалобы на скверный паек, на жидкий суп, потому что картошка, хорошая, розовая, молодая картошка, насытила всех.
Жидкий суп становился густым, как только его разливали по тарелкам. Печеная картошка сыпалась в тощий тресковый бульон, и получалось довольно приличное питательное блюдо.
На даче печек не топили, топилась только плита, но вокруг было так много густых перелесков, что в печках нужды и не чувствовалось.
Лишь только солнце переставало светить и, побледневшее, окуналось в дымчатые дали горизонта, вокруг шкидской дачи вместе с поднимающимся туманом со всех сторон выпархивали узенькие, сизоватые струйки прозрачного дыма.
Они рождались где-то там внизу, в лесу, у выдолбленных старых пней и высохшей травы.
Маленькие костры весело мигали, шипели сырыми сучьями и манили продрогших в сыром тумане ночных похитителей стрельнинской картошки.
Те приходили партиями, выгружали добычу и пекли в золе круглые катышки, приносящие довольство и сытость.
С дачи эти дымки в долине были хорошо видны, но первое время на них не обращали внимания, пока однажды Викниксор, выглянув из окна кабинета, не обнаружил возле этих дымящихся костров движение каких-то загадочных существ и не отправился исследовать это таинственное явление.
Загадочные существа в лесу вовремя заметили его длинную фигуру и в панике скрылись в чащу, а он нашел только десятка полтора костров и горы сырой и печеной картошки. Вызвав воспитанников, Викниксор велел им перенести все найденное картофельное богатство в кладовую для общего котла, а сам остался тушить костры.
Потом он вернулся на дачу, заперся у себя в кабинете и задумался.
Собственно, думать много не пришлось. Ясно было, что костры разводили воспитанники для того, чтобы печь картошку, которую они же воровали с огородов.
Надо было принять меры.
Викниксор вызвал прежде всего Янкеля и Япончика, как представителей печати, и предложил им начать кампанию в «Зеркале» против воровства, но «печать» скромно потупила очи, и последующие номера газеты ни словом не заикнулись о картошке.
Тогда завшколой сам сказал нужное слово. Он предупредил воспитанников коротко и веско:
— Кто попадется в краже картошки с чужих огородов, тот немедленно переводится в лавру.
Угроза подействовала. Картошки стали воровать меньше, но зато ударились в близлежащие огороды за репой и брюквой.
Скоро разыгрался крупный скандал.
Пришли жаловаться. Сначала пришел один огородник, за ним второй… В общей сложности за три дня к Викниксору явилось шесть делегаций с категорическим требованием обуздать учеников
Викниксор издал вторичный приказ по школе, еще более грозный, и запугивал шкидцев до отказа.
То тут, то там стали раздаваться голоса:
— Ну ее к черту, эту картошку!
— Еще запорешься!
Правда, еще находились смельчаки, которые по-прежнему ходили на отхожие промыслы, но благоразумные постепенно отставали.
— Ша! Бросаем, пока не влопались.
Так же говорили Янкель и Япончик:
— Довольно. С завтрашнего дня ни одной картошки с чужих огородов. А сегодня… Сегодня надо сходить в последний раз.
И пошли.
Было это после обеда.
День выдался пасмурный и холодный. Только что прошел дождь, и трава была сырая, леденящая. Но Янкеля и Японца это не остановило.
Захватили по наволочке с подушек, решив набрать побольше.
Вышли на трамвайную линию и зашагали по шпалам.
Япончик ругался и подпрыгивал, согревая посиневшие ноги.
— Черт! В такую погоду — да картошку копать.
— Ничего не поделаешь. Последний раз, — успокаивал его Янкель.
Наконец пришли к цели. Огород был большой и знакомый. Стенгазетчики уже привыкли к нему, так как оттуда они не раз таскали картошку. С минуту ребята постояли на дороге, оглядываясь и набираясь сил, потом Янкель нагнулся и юркнул в ботву. За ним последовал Японец.
Сразу же оба выругались. Действительность превзошла все ожидания. Дождь оставил заметный след: в грядах стояли лужи, глинистая земля превратилась в липкую кашу.
Зато копать было легко. Прямо руками дергали ребята мокрую ботву, и она покорно вылезала вместе с целым гнездом картошки.
Работали молча, изредка вполголоса перекликаясь, чтобы не терять друг друга из виду, и наконец, когда наволочки вздулись до отказа и не могли больше вместить ни одной картофелины, ребята выползли на дорогу. Но тут, взглянув друг на друга, они не на шутку испугались. Чистенькие белые рубашки стали серыми от глины.
— Здорово обработались, — сокрушенно проговорил Янкель, но Япошка только свирепо взглянул на него и дал знак отправляться обратно.
Подходили к даче.
— Как бы не засыпаться! Мимо Витиных окошек идти надо. — предупредил Янкель, но Японец и тут проявил беззаботность.
— Пустяки. Он слепой. Не заметит.
Ребята благополучно дошли до веранды, как вдруг в дверях показался Викниксор.
Оба редактора юркнули под веранду и притаились.
Шаги приближались.
— Не заметил, — успокоил себя дрожащий Японец и вдруг сжался.
— Еонин! Вылезай немедленно! — раздался окрик сверху.
Оба молчали.
— Еонин! Ну живей!.. Кому я говорю!
— Вылезай, Япошка, — забеспокоился Янкель. — Запоролись, вылезай.
Тщедушное тельце Япончика показалось на свет, и, виновато моргая, он остановился перед Викниксором.
— А картошка где? — грозно спросил заведующий.
— Какая картошка?
— Доставай картошку, каналья! — заревел гневно Викниксор.
От слова до слова все это слышал Янкель, и, дрожа всем телом, он стал поспешно отсыпать картошку из наволочки; в голове его тем временем проносились мысли одна другой ужаснее.
«Засыпались… Позор… В лавру отправят… Прощай, Стрельна… Прощай, Шкида… и прощай… прощай, газета «Зеркало»!..
— Доставай картошку! — гремело наверху.
Потом Янкель услышал непривычно тихий голос Япончика:
— Сейчас, Виктор Николаевич. — И сам Еонин показался перед щелью. Янкель молча сунул ему в руки наполовину опустошенную наволочку, и тот полез обратно.
Наверху завозились, и две пары ног, дробно отстукивая по настилу веранды, удалились.
Янкель осторожно вылез и огляделся. В таком грязном виде идти в школу нельзя. Надо было вымыться и выстирать рубаху. Дрожа от холода, он помчался к пруду, скинул белье и стал стирать его, потом тщательно выжал и надел. От мокрой рубахи стало еще холодней. Зубы выбивали барабанную дробь. Янкель побегал, чтобы согреться и обсушить белье на теле, потом постарался придать себе беззаботный вид и, насвистывая, направился к даче.
У дверей его встретили ребята и предупредительно насовали в руки желудей.
— Скажи, что желуди собирал. Витя искал тебя.
Однако желуди не понадобились. Лишь только он пришел в столовую, на него наскочили воспитатели.
— Черных, в спальню немедленно.
— Зачем?
— Иди, не разговаривай.
В спальне сидел Викниксор. При виде Янкеля он нахмурился.
— Раздевайся и ложись.
Янкель не понял, зачем он должен ложиться, но понял, что запирательства не помогут.
— Где наволочка?
— Сейчас принесу, Виктор Николаевич.
Вместе с картошкой появилась на свет и грязная, замусоленная наволочка.
Потом редакторов раздели, попросту отняли штаны, заставив их таким образом лежать в кроватях под домашним арестом.
Летом это было очень тяжелым наказанием, но теперь на дворе уже бродила осень, и наказание подействовало мало.
Много передумали Японец и Янкель, лежа в кроватях. Днем к ним забегали и сообщали последние новости:
— Вас в лавру направляют!
— Викниксор выхлопатывает сопроводительные документы!
Новости были одна печальнее другой, и парочка приуныла. Потом постепенно к мысли об уходе привыкли. Горе стало казаться привычным, и преступники уже перестали считать себя шкидцами.
На третий или четвертый день ожидания Янкель предложил:
— Давай выпустим прощальный номер «Зеркала».
Японец согласился.
Нелегко было делать последнюю газету.
Японец написал забавный фельетон под названием «Гроза огородов». Читая, оба смеялись над злополучными похождениями двух бандитов, а когда прочли, задумались. Грустно стало.
Фельетон пустили гвоздем номера. Это было своевременно. Вопрос о переводе Янкеля и Японца был злободневным вопросом, и вопросом спорным. На педагогическом совете мнения разделились. Одни стояли за перевод ребят в лавру, другие за оставление.
Янкель украсил фельетон карикатурами, потом написал грустное лирическое стихотворение — описание осени. Принес стихотворение и Финкельштейн — Кобчик, — недавно появившийся, но уже знаменитый в Шкиде поэт.
Прибавили ряд заметок, и наконец прощальный номер вышел.
Об отъезде в газете не было ни слова, но номер вышел на этот раз невеселый.
Наконец наступил последний день.
Янкелю и Японцу выдали белье и велели собираться. Серое, тусклое утро стояло за окном, накрапывал дождь, но когда одетые в пальто и сапоги ребята уложили свои пожитки и вышли на веранду, вся Шкида дожидалась их там.
Ребята попрощались.
Вышел Викниксор, сухо бросил:
— Пошли.
Вот уже и Петергофское шоссе. Блестят влажные трамвайные рельсы. В последний раз оглянулись ребята на дачу, где оставили своих товарищей, халдеев и — «Зеркало», любимое детище, взращенное их собственными руками…
Сели в трамвай.
Всю дорогу Викниксор молчал.
У Нарвских ворот ребята вылезли, ожидая дальнейших распоряжений.
Викниксор, не глядя на них, процедил:
— Зайдем в школу.
Пошли по знакомым улицам. В городе осень чувствовалась еще больше. Панели потемнели от дождя и грязи, с крыш капала вода, хотя дождя уже не было.
Показалось знакомое желтое здание Шкиды. Сердца у ребят екнули.
Они прошли двор, поднялись по лестнице во второй этаж.
Дверь открыл дворник.
Шаги непривычно гулко отдавались в пустынных комнатах. Странно выглядели пустые, мертвые классы, где зимой ни одной минуты не было тихо, где постоянно был слышен визг, хохот, треск парт, пение.
Викниксор оставил ребят и прошел к себе в кабинет.
Янкель и Японец переглянулись. Жалко было расставаться со Шкидой, к которой они так привыкли, а теперь стало и совсем невтерпеж — особенно когда они увидели знакомые парты с вырезанными ножиком надписями «Янкель-дурак», «Япошка-картошка».
Оскорбительные когда-то слова вдруг приобрели необычайную прелесть.
Ребята долго разглядывали эти надписи. Потом Янкель умиленно произнес:
— Это Воробей вырезал.
— Да, это он, — мечтательно поддакнул Японец и вдруг посмотрел на товарища и сказал: — Давай попытаемся? Может, оставит.
Янкель понял.
Раздались шаги. Вошел Викниксор, Он деловито осмотрел комнату и сказал:
— Парты запылились. Возьмите тряпки и вытрите хорошенько.
Ребята кинулись на кухню, принесли мокрые тряпки и стали обтирать парты.
Кончив, твердо решили:
— Пойдем к Викниксору, попытаемся.
На робкий стук последовало:
— Войдите.
Увидев ребят, Викниксор встал.
— Виктор Николаевич, вы, может, оставите нас? — заканючил Янкель.
— Оставите, может? — как эхо повторил Еонин.
Викниксор строго посмотрел через головы ребят куда-то в угол, пошевелил губами и спокойно сказал:
— Да, я вас оставляю. За вас поручилась вся школа, а сюда я вас привез только для того, чтобы вы почистили помещение к приезду школы. Завтра она переезжает с дачи.
* * *
Шкида переехала с треском. Едва трамвайные платформы остановились у дома и ребята начали разгрузку, уличная шпана окружила их.
— Эге-ге! Приютские крысы приехали.
— Крысы приехали!
— Эй вы, голодные! Крысенята!..
Воробей возмутился и подскочил к одному, особенно старавшемуся.
— Как ты сказал, стерва? Повтори!
Тот усмехнулся и, заложив руки в карманы, поглядел в сторону своих.
— А вот как сказал, так и сказал.
— А ну, повтори!
— Голодные крысы!
В следующее мгновение кулак Воробья беззвучно прилип к носу противника. Брызнула кровь.
— А-а-а! Наших бить!
Шпана смяла Воробья, но подоспела выручка. Шкидцев было больше. Они замкнули круг, и началась драка. Шпана сразу же оказалась в невыгодном положении. Их окружили плотной стеной. Сперва они бились отчаянно храбро, но скоро из десятка храбрецов половина лежала, а вторая половина уже не дралась, а только заслонялась руками от сыпавшихся ударов.
— О-ой! Больно!
— Хватит!
— Не бейте!
Шкида уже не слышала стонов. Она рассвирепела, и десятки рук по-прежнему без жалости опускались на головы врагов.
Побоище прекратил Викниксор. Увидев из окна, что питомцы его дерутся, он выскочил, взбешенный, на улицу, однако при виде его шкидцы брызнули во все стороны, оставив на поле битвы лишь избитых противников и Воробья, который был здорово помят и даже не в силах был убежать.
Это событие имело свои последствия. Едва шкидцы устроились и расставили в здании мебель, как получился приказ заведующего: «Никого гулять не выпускать». Ребята приуныли, пробовали протестовать, но приказ отменен не был. А на следующий день законодательство республики Шкид обогатилось двумя новыми параграфами.
В этот день состоялось общее собрание, на которое Викниксор явился с огромной толстой книгой в руках.
Притихшая аудитория с испуганным видом уставилась на эту глыбу в черном коленкоровом переплете, а заведующий поднял книгу над головой, открыл ее и показал всем первый лист, на котором акварельными красками было четко выведено:
ЛЕТОПИСЬ ШКОЛЫ
ИМЕНИ ДОСТОЕВСКОГО
— Ребята, — торжественно начал Викниксор. — Отныне у нас будет школьная «Летопись». Сюда будут записываться замечания воспитанникам, все ваши проступки будут отмечаться здесь, в этой книге. Все провинности, все безобразия воспитанников будут на учете у педагогов; по книге мы будем судить о вашем поведении. Бойтесь попасть в «Летопись», это позорная книга, и нам неприятно будет открывать ее лишний раз. Однако сегодня же при вас я вынужден сделать первую запись.
Викниксор достал карандаш и, отчетливо произнося вслух каждое слово, записал на чистом, девственном листе:
«Черных уличен в попытке присвоить казенные краски».
Ребята притихли, и все взоры обратились на Янкеля. А Янкель опустил глаза, не зная, огорчаться ему или радоваться, что его имя первым попало в этот исторический документ.
Возражать Викниксору он не мог. Накануне, когда переносили вещи, Гришка с особенным рвением таскал по лестнице тюки с одеялами и подушками, связки книг, посуду и другое школьное имущество. В коридоре, у входа в учительскую, один из пакетов развязался и оттуда выпали два начатых тюбика краски. Будь это что-нибудь другое — может быть, Янкель и задумался бы, но перед этим соблазном его сердце художника устоять не могло. Он сунул тюбики в карман и в тот же миг услыхал над головой голос Викниксора.
— Что у тебя в кармане, Черных?
Янкелю ничего не оставалось делать, как извлечь из кармана злополучные тюбики.
Викниксор взял тюбики, брезгливо посмотрел на Черных и сказал:
— Неужели ты, каналья, успел забыть, что тебя только что простили и что тебе угрожал перевод в реформаторий?!
— Они сами упали, Виктор Николаевич, — пролепетал Янкель.
— Упали в карман?
Викниксор приказал Янкелю немедленно отправляться в класс. Просить извинения на этот раз Янкель и не пытался. Никому не сказав о случившемся, он прошел в класс и весь вечер пребывал в самом ужасном унынии. Но вот миновала томительная бессонная ночь, наступил следующий день, и Янкель начал понемногу успокаиваться: может быть, Викниксор в суматохе забыл о нем? Оказалось, однако, что Викниксор не забыл. И теперь Янкель сидел под устремленными на него взглядами ребят и думал, что отделался он, пожалуй, дешево.
А Викниксор записью в «Летопись» не ограничился. Расхаживая по столовой с толстенной книгой в руках, он, чтобы внушить трепет и уважение к этой книге, растолковывал воспитанникам смысл и значение только что сделанного замечания.
— Вот я записал Черных, ребята: Черных хотел присвоить краски. Эта запись останется в «Летописи» навсегда. Кто знает, может быть, когда-нибудь впоследствии Черных сделается знаменитым художником. И вот он будет сидеть в кругу своих знакомых и почитателей, и вдруг появится «Летопись». Кто-нибудь откроет ее и прочтет: «Черных уличен в попытке присвоить казенные краски». Тогда все отшатнутся от него, ему скажут: «Ты вор — тебе нет места среди честных людей».
Викниксор вдохновляется, но, вдруг вспомнив что-то, оставляет бедного Янкеля в покое и говорит:
— Да, ребята, я отвлекся. Кроме «Летописи», у нас вводятся также и разряды. Вы хотите знать, что это такое? Это, так сказать, мерка вашего поведения. Разрядов у нас будет пять. В первом разряде будут числиться те ученики, которые в течение месяца не получат ни одного замечания в «Летописи». Перворазрядник — это примерный воспитанник, образец, на который все мы должны равняться. Он будет среди прочих в положении привилегированном. Перворазрядники беспрепятственно пользуются установленным отпуском, в вакационные часы они свободно ходят на прогулку, перворазрядники в первую очередь ходят в театры и в кинематограф, получают лучшее белье, обувь и одежду.
— Аристократия, одним словом, — с ехидным смешком выкрикнул с места Япошка.
— Да, если хочешь — это аристократия. Но аристократия не по крови, не наследственная, не паразитическая, а получившая свои привилегии по заслугам, добившаяся их честным трудом и примерным поведением. Желаю тебе, кстати, Еонин, стать когда-нибудь таким аристократом.
— Где уж нам уж, — деликатно ухмыльнулся Японец.
— Теперь выясним, что такое второй разряд, — продолжал Викниксор. — Второй разряд — это ученики, не получившие замечания в течение недели. Второй разряд тоже пользуется правом свободных прогулок и отпусков, все же остальное он получает во вторую очередь, после перворазрядников. Для того чтобы попасть в первый разряд, нужно месяц пробыть во втором без замечания. Третий разряд — это середняки, ребята, получившие одно или два не очень серьезных замечания, но третий разряд уже лишается права свободных прогулок, третьеразрядники ходят только в отпуск. Из третьего разряда во второй воспитанник переводится в том случае, если в течение недели у него не было замечаний, если же есть хоть одно замечание, он по-прежнему остается в третьем.
Шкидцы сидели придавленные и ошарашенные. Они не знали, что эта громоздкая на первый взгляд система очень скоро войдет в их повседневный быт и станет понятной каждому из них — от первоклассника до «старичка».
А Викниксор продолжал растолковывать новый шкидский «табель о рангах»;
— Теперь дальше. Все, кто получил свыше трех замечаний за неделю, попадают в штрафной разряд — четвертый — и на неделю лишаются отпусков и прогулок. Но… — Викниксор многозначительно поднял брови. — Но если за неделю пребывания в штрафном, четвертом разряде воспитанник не получит ни одного замечания, он снова поднимается в третий. Понятно?
— Понятно, — отозвались не очень дружные голоса.
— А пятый? — спросил кто-то.
— Да, ребята, — сказал Викниксор, и брови его снова поползли вверх. — Остается пятый разряд. Пятый разряд — это особый разряд. В него попадают воры и хулиганы. Кто проворуется, того мы не только лишаем на месяц отпусков и прогулок, мы изолируем его от остальных воспитанников, а в тетрадях его будет стоять буква «В».
Янкель похолодел. Безобидное замечание в «Летописи» вдруг сразу приобрело страшный, угрожающий смысл. Он плохо слышал, о чем говорил Викниксор дальше. А тот говорил много и долго. Между прочим, он объявил, что, кроме общих собраний, в школе учреждаются еще и еженедельные классные, на которых воспитатели в присутствии учеников будут производить пересортировку в разрядах. Тут же были установлены дни — особые для каждого класса, — когда должна происходить эта пересортировка.
И вот в ближайшую пятницу в четвертом отделении состоялось собрание, на котором отделенный воспитатель Алникпоп объявил, кто в какой разряд попадет. Большинство, не успевшее еще заработать замечаний, оказалось во втором разряде. В списке третьеразрядников числились Янкель и Воробей. В четвертый разряд попал Япошка, умудрившийся за неделю получить пять замечаний, и все «за дерзость и грубость». Тут же на собрании он заработал новое замечание, так как публично назвал новую викниксоровскую систему «халдейскими штучками».
Янкель, к удивлению товарищей, ликовал. Зато рвал на себе волосы от обиды и негодования бедный Воробышек, получивший единственное замечание «за драку на улице», за ту самую драку, в которой он и без того потерпел самый большой урон.
Остальные ждали, что будет дальше, куда понесет их судьба и собственное поведение: наверх или вниз?
С «Летописью» — зоркой, как часовой, — начала свой новый учебный год Шкида.
Лето прошло…
Кауфман фон Офенбах
Шкида на досуге. — Барон в полупердончике. — Воспоминания бывшего кадета. — О Николае Втором и просвирке с маслом. — Кауфман. — Держиморда, любящий кошек.
В классе четвертого отделения слабо мерцают угольные лампочки… Но стенам прыгают серые бесформенные тени.
У раскаленной печки сидят Мамочка, Янкель и Цыган. Они вполголоса разговаривают и, по очереди затягиваясь папиросным окурком, пускают дым в узкое жерло топки.
Пламя топящейся печки бросает на их лица красный заревой отсвет.
Остальные шкидцы разбрелись по разным углам класса; обладающие хорошим зрением читают, другие бузят — возятся, третьи, прикрывшись досками парт, дуются в очко. Горбушка играет с Воробьем в шахматы, получает мат за матом и по неопытности не ведает, что Воробей его надувает.
Данилов и Ворона, усевшись на пол у классной доски, нашли игру, более для себя интересную — «ножички», — бросают по очереди перочинный нож.
— С ладошки! — кричит Ворона и подбрасывает нож.
Нож впивается в зашарпанную доску пола.
Потом бросает Данилов. У него — промах.
— С мизинчика! — снова кричит Ворона и опять вбивает нож.
Сделав несколько удачных бросков, он разницу прощелкивает Данилову по лбу крепкими, звонкими щелчками. Широкоплечий Данилов, нагнув голову, тупо смотрит в пол, при каждом щелчке вздрагивает и моргает.
В классе не шумно, но и не тихо, — голоса сливаются в неровный гул…
Заходит воспитатель… Он нюхает воздух, замечает дым и спрашивает:
— Кто курил?
Никто не отвечает.
— Класс будет записан, — объявляет халдей и выходит.
После его ухода игры прекращаются, все начинают скулить на тройку, сидящую у печки. Те в свою очередь огрызаются на играющих в очко.
Золотушный камчадал Соколов, по кличке Пьер, кончив чтение, подходит к играющим в шахматы и начинает приставать к Воробью.
— Уйди, — говорит Воробей.
— Никак нет-с, — отвечает Пьер.
— В зубы дам.
— Дай-с.
Но щуплый Воробей в зубы не дает, а углубляется в обдумывание хода.
Пьеру становится скучно, он садится за парту и, пристукивая доской, начинает петь:
Спи, дитя мое родное, Бог твой сон хранит… Твоя мама-машинистка По ночам не спит. Брат ее убит в Кронштадте, Мальчик молодой…В это время в классе появляется Викниксор. Все вскакивают. Картежники украдкой подбирают рассыпавшиеся по полу карты, а Янкель, не успевший спрятать папиросу, тушит ее носком сапога.
Вместе с Викниксором в класс вошел здоровенный детина, одетый в узкий, с золотыми пуговицами, мундирчик… Мундир у детины маленький, а сам детина большой, поэтому рукава едва доходят ему до локтя, а на животе отсутствует золотая пуговица и зияет прореха.
— Новый воспитанник, — говорит Викниксор. — Мстислав Офенбах… Мальчик развитой и сильный. Обижать не будете… Правда, мальчик?
— У-гу, — мычит Офенбах таким басом, что не верится, будто голос этот принадлежит ему, а не тридцатилетнему мужчине.
— Мальчик, — насмешливо шепчет кто-то, — ничего себе мальчик. Небось сильнее Цыгана…
Когда Викниксор уходит, все обступают новичка.
— За что пригнали? — любопытствует Япошка.
— Бузил… дома, — басит Офенбах. — Меня мильтоны вели, так бы не пошел.
Он улыбается. Улыбка у него детская, не подходящая к мужественному, грубому лицу.. Сразу все почему-то решают, что Офенбах хотя и сильный, но незлой.
— Сколько тебе лет? — спрашивает Цыган, уже почуявший в новичке конкурента по силе.
— Четырнадцать, — отвечает Офенбах. — Сегодня как раз именинник… Это мне мамаша подарочек сделала, что пригнала сюда.
Он осматривает серые стены класса и грустно усмехается.
— Ничего, — говорит Японец. — Подарочек не так уж плох… Сживемся.
— Неужели тебе четырнадцать лет? — задумчиво говорит Янкель. — Четырнадцать лет, а вид гужбанский — прямо купец приволжский какой-то.
— И верно, — говорит Воробей. — Купец…
— Купец, — подхватывает Горбушка.
— Купец, — ухмыляется Офенбах, не ведая, что получает эту кличку навеки.
— А что это у тебя за полупердончик? — спрашивает Янкель, указывая на мундир.
— Это — кадетская форма, — отвечает Купец. — Я ведь до революции в кадетском учился. В Петергофском, потом в Орловском.
— Эге! — восклицает Янкель. — Значит, благородного происхождения?
— Да, — отвечает Купец, но без всякой гордости, — благородного… Отец мой офицер, барон остзейский… Фамилия-то моя полная — Вольф фон Офенбах.
— Барон?!. — ржет Янкель. — Здорово!..
— Да только жизнь-то моя не лучше вашей, — говорит Купец, — тоже с детства дома не живу.
— Ладно, — заявляет Япошка. — Пускай ты барон, нас не касается. У нас — равноправие.
Потом все усаживаются к печке.
Купец садится, как индейский вождь, посредине на ломаный табурет.
Он чувствует, что все смотрят на него, самодовольно улыбается и щурит и без того узкие глаза.
— Значит, ты тово… кадет? — спрашивает Янкель.
— Кадет, — отвечает Купец и, ухмыляясь, добавляет: — Бывший.
Несколько мгновений длится молчание. Потом Мамочка тонким, пискливым голосом спрашивает:
— У вас ведь все князья да бароны обучались… Да?
— Фактически, — басит Купец, — все дворянского звания. Не ниже.
— Ишь ты, — говорит Воробей. — Князей, значит, видел. За ручку, может быть, здоровался.
— И не только князей. Я и самого Николая видел.
— Николая? — восклицает Горбушка. — Царя!
— Очень даже просто. Он к нам в корпус приезжал, а потом я его часто видел, когда в дворцовой церкви в алтаре прислуживал. Эх, жисть тогда была — малина земляничная!..
Купец вздыхает:
— Просвирками питался!
— Просвирками?
— Да, просвирками, — говорит Купец. — Вкусные просвирки были в дворцовой церкви, замечательные просвирки. Напихаешь их, бывало, штук двадцать за пазуху, а после с товарищами жрешь. С маслом ели. Вкусно…
Он мечтательно проводит рукою по лбу и снова вздыхает:
— Только засыпался очень неприятно!
— Расскажи, — говорит Японец.
— Расскажи, расскажи! — подхватывают ребята.
И Купец начинает:
— Обыкновенно я, значит, в корпус таскал просвирки, — там их и шамали… А тут пожадничал, захватил маслица, думаю — в алтаре, где-нибудь в ризнице, позавтракаю. Ну вот… На амвоне служба идет, дьякон «Спаси, господи, люди…» запевает, а я перочинный ножичек вынул и просвирочки разрезаю. Нарезал штук пять, маслом намазал, склеил, хотел за пазуху класть, а тут, значит, батюшка, отец Веньямин, входит, чтоб ему пусто… Ну я, конечно, все просвирки на блюдо и глаза в потолок. А он меня на дворцовую кухню за кипятком для причастия посылает. Прихожу оттуда с кипятком — нет просвирок, унесли уже. Сдрейфил я здорово. Все сидел в ризнице и дрожал. А потом батя входит. В руках просвирка. Рука трясется, как студень. «Это что такое? — спрашивает. — А?» Ну, безусловно, меня в три шеи, и в корпусе, в карцере, двое суток пропрел. Оказывается, батя Николаю, самодержцу всероссийскому, стал подавать просвирку, а половинка отклеилась — и на пол… Конфузу, говорят, было… Потеха!
Ребята хохочут. В это время трещит звонок.
— Спать хряемте, — говорит Воробей.
— Что это? — удивляется Купец. — Так рано спать?
— Да, — отвечает Японец. — У нас законы суровые. Хотя не суровее, конечно, кадетских, а все-таки…
В спальне вспоминают, что Купец не получил от кастелянши постельное белье. Кастелянша работает до шести часов, и позже белье не получить.
— Пустяки, — говорит Японец. — Соберем с бору по сосенке… Выспится.
Коек пустых много, собирают белье: кто подушку, кто одеяло, кто простыню дает. Из подушек делают матрац, и постель у Купца получается не хуже, чем у других.
Купец укладывается, завертывается в серое мохнатое одеяло и басит:
— Спокойной ночи, робя!
Потом засыпает, храпит, как боров, и не слышит приглушенных разговоров ребят, которые тянутся за полночь…
Утром дежурный проходит по спальне, звонит в серебристый колокольчик. Воспитанники вскакивают, быстро одеваются и бегут в умывальню. Когда вся спальня уже на ногах, все постели убраны, одеяла сложены вчетверо и лежат на подушках, дежурный замечает, что новый воспитанник четвертого отделения спит.
Дежурный — первоклассник Козлов, маленький, гнусавый, — бежит к офенбаховской кровати и звонит над самым ухом Купца. Тот просыпается, вскакивает и недоумевающе смотрит в лицо дежурного.
— Ты чего, сволочь?
— Вставай, пора… Все уже встали, чай идут пить.
Купец скверно ругается, снова залезает под одеяло и поворачивается спиной к Козлову.
— Да вставай же! — тянет Козел.
Ему попадет, он получит запись в «Летопись», если не все воспитанники будут разбужены.
— Вставай, ты… — гнусит он.
Купец внезапно вскакивает, сбрасывает с себя одеяло и с размаху ударяет Козла по щеке. Козел взвизгивает, хватается за щеку и, выбегая из спальни, кричит:
— Накачу! Будешь драться, сволочь!
Но жаловаться Козел не идет — фискалов в Шкиде не любят.
Через минуту Козел возвращается в спальню с Японцем, призванным для воздействия на Купца.
— Эй, барон, вставай! — говорит Японец, дергая Купца за плечо.
Купец высовывает голову из-под одеяла.
— Пошли вы подальше, а не то…
Но он уже проснулся.
— Что будите-то? — хмуро басит он. — Который час?
— Восемь, начало девятого, — отвечает Японец.
— Черт, — тянет Купец, но уже добродушно. — Раненько же вас поднимают. У нас в корпусе и то полдевятого зимой будили.
— Ладно, — говорит Японец, — вставай.
— А я вот раз дядьку избил, — вспоминает Купец. — Кузьмичом звали. Уж зорю проиграли, а я сплю… Он меня будит. А я ему раз — в ухо…
Купец мечтательно улыбается и высовывает из-под одеяла ноги.
— Идем умываться, — говорит Японец, когда Купец, напялив мундирчик, застегивает сохранившиеся на нем золотые пуговицы.
В умывальне домываются лишь два человека. Костец стоит у окна и отмечает в тетрадке птичками вымывшихся.
— Как фамилия? — спрашивает он у Купца, потом добавляет: — Сними куртку.
Купец нехотя снимает мундир и нехотя, лениво ополаскивает лицо и шею.
Халдей осматривает вымывшегося для первого раза снисходительно и ставит в тетрадь птичку.
— Ну, ребята, — говорит после чая товарищам Японец. — Барон-то наш — вышибалистый… Держимордой будет, хотя и добродушен.
А добродушие Купца выясняется в тот же день.
Купец идет в гардеробную получать белье. Там он снимает с себя кадетский мундир и потрепанные брюки клеш и облачается в казенное — холщовые рубаху и штаны.
Кастелянша Лимкор (Лимонная корочка) или Амвон (Американская вонючка) — старая дева, любящая подчас от скуки побеседовать с воспитанниками, — расспрашивает Купца о его жизни.
— Животных любишь? — спрашивает она, сама страстно обожающая собак и кошек.
— Люблю, — отвечает Купец. — Я всех животных люблю — и собак, и кошек, и людей.
Амвон рассказывает об этом воспитателям, а те товарищам Купца.
За Купцом остается репутация сильного, вспыльчивого, но добродушного парня.
В Шкиде, а особенно в четвертом отделении, он получает диктаторские полномочия и пользуется большим влиянием в делах, решающихся силой. Однокашники зовут его шутливо-почтительно Купа, а воспитатели — «лодырем первой гильдии».
Учиться Купец не любит.
Пожар
Юбилейный банкет. — Уголек из буржуйки. — Живой покойник. — Руки вверх. — Драма с дверной ручкой. — Обгорелое детище. — Новое «Зеркало».
Десять часов вечера. Хрипло пробрякали часы. Звенит звонок.
Утомленная длинным, слепым зимним днем с бесконечными уроками и ноской дров, Шкида идет спать.
Затихает здание, погружаясь в дремоту.
Дежурная воспитательница — немка Эланлюм — очень довольна. Сегодня воспитанники не бузят. Сегодня они бесшумно укладываются в постели и сразу засыпают. Не слышно диких выкриков, никто не дерется подушками, все вдруг стали послушными, спокойными и тихими…
Такое настроение у воспитанников бывает редко, и Эланлюм чрезвычайно рада, что это случилось как раз в ее дежурство.
Ее помощник — воспитатель, полный, белокурый, женоподобный мужчина, по прозвищу Шершавый, — уже спит.
Шершавый — скверный воспитатель из породы «мягкотелых». Он благодушен, не быстр в движениях и близорук, — это позволяет шкидцам в его присутствии бузить до бесчувствия.
Сегодня Шершавый утомлен. Он не только воспитатель, но и фельдшер, лекпом, лекарский помощник. Сегодня был медицинский осмотр, и Шершавый очень устал, перещупав и перестукав полсотни воспитанников.
Шершавый спит, но Эланлюм не сердится на него. Ей кажется, что она и без помощника уложила всех спать.
Эланлюм смотрит на часы — четверть одиннадцатого. Она решает еще раз обойти здание, заходит в четвертый класс и застревает в дверях.
Весь класс сидит на партах. Вид у ребят заговорщицкий.
При входе немки все вскакивают и замирают, потом к ней подходит Еонин и с не свойственной ему робостью говорит:
— Элла Андреевна, сегодня мы справляем юбилей — выход двадцать пятого номера «Зеркала». Элла Андреевна, мы бы хотели отпраздновать это важное для нас событие устройством маленького банкета и поэтому всем классом просим вас разрешить нам остаться здесь до двенадцати часов. Мы обещаем вам вести себя тихо. Можно?
Глаза всего класса впились в воспитательницу.
Немка растрогана.
— Хорошо, сидите, но чтобы было тихо.
Она уходит. В классе начинаются приготовления. Выдвинут на середину круглый стол, уставленный скромными яствами, средства на которые собирались всем классом в течение двух недель. Мамочка ставит на стол чайник с кипятком и, расставив кружки, развязным голосом говорит:
— Прошу к столу.
Ребята чинно рассаживаются за столом. Янкель пробует сказать речь:
— Братишки, итак, вышел двадцать пятый номер нашего «Зеркала»…
Он хочет продолжать, но не находит слов. Да и без слов все ясно. Он достает из парты комплект «Зеркала» и раскладывает его по партам. Двадцать пять номеров пестрой лентой раскинулись на черном крашеном дереве, двадцать пять номеров — двадцать пять недель усиленного труда, — это лучше всяких слов говорит об успехе редакции.
Класс с уважением смотрит на газету, класс разглядывает старые номера, как какую-нибудь музейную реликвию. Только Купец не интересуется «Зеркалом»; забравшись в угол, он расправляется с колбасой. Он тоже взволнован, но не газетой, а шамовкой.
Потом ребята вновь усаживаются за стол, пьют чай, хрустят галетами, едят бутерброды с маслом и колбасой.
В классе жарко.
Поставленная на время холодов чугунка топится с утра дровами, наворованными у дворника. От чая и от жары все размякли и, лениво развалившись, сидят, не зная, о чем говорить.
Третьеклассник Бобер, случайно затесавшийся на банкет, начинает тихо мурлыкать «Яблочко»:
Эх, яблочко на подоконничке, В Петрограде появилися покойнички.Но «Яблочко» — не очень подходящая к случаю песня. Ребятам хочется спеть что-нибудь более торжественное, величавое, и вот Янкель затягивает школьный гимн:
Мы из разных школ пришли, Чтобы здесь учиться, Братья, дружною семьей Будем же труди-и-ться.Ребята подхватывают:
Бросим прежнее житье, Позабудем, что прошло. Смело к но-о-вой жизни! Смело к но-о-овой жизни!Один Купец не поет. Он считает, что греться у буржуйки гораздо приятнее. Улыбаясь широкой улыбкой, он сидит около пузатой железной печки, помешивая кочергой догорающие угли и головешки.
— Мамочка, сходи посмотри, который час, — говорит Янкель.
Но в эту минуту дверь отворяется и входит Эланлюм.
— Пора спать, ребята. Уже половина первого.
Никто не возражает ей. Шкидцы вскакивают. Бесшумно расставляются по местам столы, табуретки и стулья, убираются остатки юбилейного ужина, складывается на железный поднос посуда. Янкель бережно и любовно укладывает в свою парту виновника торжества — комплект «Зеркала» — и вместе с другими на цыпочках идет к выходу.
В дверях его останавливает Эланлюм. Кивком головы она показывает на чугунку.
Янкель возвращается. Наспех поковыряв кочергой и видя, что головешек нет, он закрывает трубу.
Выходя из класса, он замечает, что на полу у самой стены прижался крохотный уголек, случайно выскочивший из чугунки. Надо бы подобрать или затоптать его, но возвращаться Янкелю лень.
«Авось ничего не случится. Погаснет скоро», — мысленно решает он и выходит из класса.
В спальне тихо. Все спят. Воздух уже достаточно нагрелся и погустел от дыхания, но почему-то теплая густота делает спальню уютней. Пахнет жильем.
Слабо мерцает угольная лампочка, свесившаяся с потолка, настолько слабо, что через запушенные инеем окна виден свет уличного фонаря, пробивающийся в комнату и освещающий ее.
В спальне тихо.
Изредка кто-нибудь из ребят, самый беспокойный, увидев что-то страшное во сне, слабо вскрикнет и заворочается испуганно на кровати. Потом вскинет голову, сядет, увидит, что он не в клетке с тиграми, не на уроке математики и не на краю пропасти, а в родной шкидской спальне, и вновь успокоится.
И в комнате опять тихо.
* * *
Янкель проснулся, перевернулся на другой бок, зевнул и огляделся. Было еще темно. Все спали, так же бледно светила лампочка, но фонарь за окном уже не горел.
«Часа три — четыре», — подумал Янкель и собирался уже опять уткнуться в подушку, как вдруг его внимание приковало маленькое сизое облачко вокруг лампочки.
«Что за черт, кто бы мог курить в спальне», — невольно мелькнуло в голове.
Но думать не хотелось, хотелось спать. Он опять укрылся с головой одеялом и притих.
Вдруг из соседней комнаты кто-то позвал воспитателя, тот повертелся на кровати и, кряхтя, поднялся.
— Кто меня зовет? — прохрипел Шершавый, болезненно морщась и хватаясь за голову.
Кричал Газенфус — самый длинный и тощий из всех шкидцев и в то же время самый трусливый.
— Дым идет откуда-то! Воспитатель, а даже не посмотрит — откуда, — надрывался он.
Теперь заинтересовался дымом и Янкель и тоже набросился на несчастного фельдшера:
— Что же вы, дядя Володя, в самом деле? Пойдите узнайте, откуда дым.
Но Шершавый расслабленно простонал в ответ:
— Черных, видишь, я болен. Пойди сам и узнай.
Янкель разозлился.
— Идите вы к черту! Что я вам — холуй бегать?
Он решительно повернулся на бок, собираясь в третий раз уснуть, как вдруг дверь с треском распахнулась — и в спальню ворвалось густое облако дыма. Когда оно слегка рассеялось, Янкель увидел Викниксора. Тот тяжело дышал и протирал глаза. Потом, оправившись, спокойным голосом громко сказал:
— Ребята, вставайте скорее.
Однако говорить было не нужно. Половина шкидцев уже проснулась и, почуяв неладное, торопливо одевалась. Викниксор, увидев полуодетого Янкеля, подозвал его и тихо сказал:
— Попробуй пройти к Семену Ивановичу, к кладовой. Дыму много. Возьми подушку.
Янкель молча кивнул и, схватив подушку, двинулся к двери.
— Ты куда? — окликнул его одевавшийся Бобер.
И, сразу поняв все, сказал:
— Я тоже пойду.
— Пойдем, — согласился Янкель.
Спальня уже гудела, как потревоженный улей. Будили спавших, одевались.
Подходя к двери, Янкель услышал за спиной голос недовольного Купца. Его тормошили, кричали на ухо о пожаре, а он сердито, истерично смеялся.
— Уйдите, задрыги! О-го-го! Не щекочите! Отстаньте!
Натягивая на ходу свой нарядный, принесенный «с воли» полушубок, Бобер нагнал Янкеля.
— Ну, пойдем.
— Пойдем.
Они переглянулись. Потом Янкель решительно дернул дверь и вышел, наклоняя голову и закрывая подушкой рот.
Сразу почувствовался противный запах гари. Дым обступил их плотной стеной.
Держась за руки, они на ощупь вышли в зал. Янкель открыл на минуту глаза и сквозь жуткий мрак увидел едва мерцающий глазок лампочки.
Обычно светлый зал теперь был темен, как черное покрывало.
Ребята миновали зал, свернули в коридор, по временам открывая глаза, чтобы ориентироваться по лампочкам. От дыма, пробивавшегося сквозь подушку, начало першить в горле, глаза слезились. Было страшно идти вперед, не зная, где горит.
— А вдруг мы идем на огонь?
Но вот за поворотом мелькнул яркий свет, дыму стало меньше. Эконом уже стоял у дверей, встревоженный запахом гари.
— Пожар, Семен Иванович! — разом выкрикнули Янкель и Бобер, с жадностью глотая свежий воздух. — Пожар!
Эконом засуетился.
— Так что же вы! Бегите скорей в пожарную команду. Погодите, я открою черную лестницу.
Звякнула цепочка. Ключ защелкал по замку, прыгая в дрожащих руках старика.
— Пойдем? — спросил Янкель, нерешительно поглядывая на Бобра.
— Конечно. Надо же!
Если не считать подушки, которую Янкель держал в руках, на нем была только нижняя рубашка, пара брюк и незашнурованные ботинки. Он минуту потоптался, поглядывая на одежду товарища. Облаченному в полушубок Бобру колебаться было нечего.
— Идти или не идти?
Янкель хотел было отказаться, но потом решил:
— Ладно. Пойдем.
Быстро сбежали по лестнице, татарин-дворник Мефтахудын открыл ворота, и ребята выскочили на Курляндскую.
— Поглядим, где горит! — задыхаясь, крикнул Янкель.
Вышли на середину улицы и, поглядев в окна, ахнули.
Четыре окна нижнего этажа школы, освещенные ярко-красным светом, бросали отсвет на снег.
Янкель завыл:
— Наш класс. Сгорело все! «Зеркало» сгорело!
И, ни слова больше не сказав, оба шкидца ринулись во мрак.
Несмотря на мороз и на более чем легкий костюм, Янкель почти не чувствовал холода. Только уши пощипывало.
Вокруг царила тишина, на улицах не видно было ни души — было время самой глубокой ночи.
Бежали долго по прямому, как стрела, Старо-Петергофскому проспекту. Проскочили мимо ярко освещенной фабрики. Потом устали, запыхались и перешли на быстрый шаг.
Обоих мучил вопрос: что-то делается там, в Шкиде?
Вдруг Янкель, не убавляя хода, шепнул Бобру:
— Ой, гляди! Кто-то крадется.
Оба взглянули на развалины дома и увидели серую тень, спешившую перерезать им дорогу. Бобер побледнел.
— Живые покойники! Полушубок снимут.
— Идем скорее, — оборвал Янкель. Ему-то бояться было нечего. Пожалуй, он ничем не рисковал, так как вряд ли какой бандит решится снять последнюю рубаху, и притом нижнюю, грязную и старую.
Стиснув зубы и скосив глаза, шкидцы прибавили шагу, с намерением проскочить мимо зловещей тени, но маневр не удался.
Из-за груды кирпичей с револьвером в руках появился человек в серой шинели.
— Стой! Руки вверх!
Ребята остановились и послушно подняли руки. Солдат, не опуская револьвера, спросил, подозрительно оглядывая шкидцев:
— Куда идете?
У Бобра прошло чувство страха, и он, почуяв, что это не налетчик, бодро сказал;
— В пожарную часть.
— Откуда?
— Из интерната. Пожар у нас.
Серая шинель минуту нерешительно потопталась, потом, спрятав револьвер и уже смягчаясь, пробурчала:
— Пойдемте. Я вас провожу.
По дороге разговорились — человек с револьвером оказался агентом.
— А я вас, чертенята, за налетчиков принял, — засмеялся он.
— А мы — вас, — осмелев, признался агенту Янкель.
— Меня?!
— Да. Мы думали, что вы — живой покойник.
— Ну, этих субчиков в Питере уже не осталось. Всех давно выловили, — сказал чекист. Тут он обратил внимание на жалкий костюм Янкеля, скинул шинель и сказал:
— На, накинь, а то простудишься.
Пришли в часть. Едва успели подняться на второй этаж и сообщить о пожаре, как ребят уже позвали вниз.
Там уже мелькали ярко-рыжие факелы, блестели медные пожарные каски, хрипели гривастые лошади.
Пожарные посадили ребят на возок, и вся часть рванулась вперед, разрывая сгустившуюся ночную тишину звоном, перепевом сигнального рожка, хрястом подков и лошадиным ржанием.
Когда подъехали к школе, там уже стояла довольно большая толпа зевак.
Почти одновременно приехала еще одна пожарная часть. Янкель и Бобер по черной лестнице потопали было наверх, но эконом выгнал их, несмотря на самые горячие протесты.
В это время в спальне разыгрывалась трагедия.
Много времени прошло, пока удалось разбудить спящих, а когда все наконец проснулись, в комнате уже стоял густой дым. Он пробивался из всех щелей, быстро заполняя помещение.
Началась паника. Кто-то из малышей заплакал. Треснуло где-то выдавленное стекло.
Ребята вдруг все сразу забегали, громко закричали, заметались. В этот момент распахнулась дверь и в спальню ворвалась Эланлюм.
— Дети! Берите подушки. Все ко мне!
Как стадо баранов к пастуху, прихлынули к немке воспитанники, ожидая от нее чуда, и даже Купа, нерешительно почесав затылок и спокойно докурив папироску, приблизился к ней.
Эланлюм повысила голос, стараясь перекричать гудевшую массу.
— Закройте рты подушками. Все идите за мной. Чтобы не растеряться, держитесь друг за друга.
Пожар разрастался. Это было видно по дыму, густому-густому и черному. Эланлюм раскрыла двери настежь и смело вышла навстречу черной завесе.
За ней двинулись остальные.
Идти было недалеко. Нужно было лишь свернуть направо, сделать три шага по площадке лестницы и открыть дверь в квартиру немки, где имелся выход на другую лестницу.
Уже вся школа толпилась на лестничной площадке, нетерпеливо дожидаясь, когда откроют заветную дверь, но передние что-то замешкались.
Искали ручку — медную дверную ручку — и не находили. Десятки рук шарили по стенам, хватаясь за карнизы, мешая друг другу, — ручки не было.
Искали на ощупь. Открытые глаза все равно мало помогли бы — дым, черный как сажа, слепил глаза, вызывая слезы.
Послышались сдавленные выкрики:
— Скорей!
— Задыхаемся!
Кто-то не выдержал, закашлялся и, глотнув дым, издал протяжный вопль. Стало страшно.
Купец, мрачно стоявший у стенки, наконец не выдержал и, растолкав сгрудившихся на лестнице товарищей, медленно провел рукой по стене, нащупав планку, опять провел и наткнулся на ручку.
Брызнул яркий свет из открытой двери, и обессилевшие, задыхающиеся шпингалеты, шатаясь, ввалились в коридор. Эланлюм пересчитала воспитанников. Все были на месте.
Она облегченно вздохнула, но тут же опять побледнела.
— Ребята! А где воспитатель?
Мертвым молчанием ответили ей шкидцы.
— Где воспитатель? — снова, и уже с тревогой, переспросила немка.
Тогда Купец, добродушно улыбнувшись, сказал:
— А он там в спальне еще лежит, чудак. Охает, а не встает. Потеха!
Эланлюм взвизгнула и, схватившись за голову, кинулась в дымный коридор по направлению к спальне. Минут через пять раздался громкий стук в дверь.
Когда шкидцы поспешили открыть ее, им представилось невиданное зрелище.
Немка волокла за руку Шершавого, а тот бессильно полз по полу в кальсонах и нижней рубахе. Язык у него вылез наружу, в глазах светилось безумие — он задыхался.
Общими усилиями обоих втащили в коридор. Шершавый безжизненно упал на пол, а Эланлюм, тяжело дыша, прислонилась к стене.
Через минуту она уже оправилась, и снова голос ее загремел под сводами коридора:
— Все на лестницу! На улицу не выходите. Все идите в дворницкую к Мефтахудыну.
Ребята высыпали во двор, но к дворнику никто но пошел. Забыв о запрете, все выскочили на улицу.
Дрожа от холода, шкидцы уставились на горящие окна, страх прошел, было даже весело.
А у забора стояли Япончик и Янкель и чуть не плакали, глядя на окна.
Вот зазвенело стекло, и пламя столбом вырвалось наружу, согревая мерзлую штукатурку стены.
За углом запыхтела паровая машина, начавшая качать воду, надулись растянутые по снегу рукава.
Мимо пробежали топорники, слева от них поднимали лестницу, и проворный пожарный, поблескивая каской, уже карабкался по ступенькам вверх. Жалобно звякнули последние стекла в горящем этаже; фыркая и шипя, из шлангов рванулась мощная струя воды.
— Наш класс горит. Сволочи! — выругался Цыган, подходя к Японцу и Янкелю.
Но те словно не слышали и, стуча зубами от холода и возбуждения, твердили одно слово:
— «Зеркало»!
— «Зеркало»!
А Янкель иногда сокрушенно добавлял:
— Моя бумага! Мои краски!
— Марш в дворницкую! — вдруг загремел голос Викниксора над их головами.
В последний раз с грустью взглянув на горящий класс, ребята юркнули под ворота.
Там уже толпились полуодетые, дрожащие от холода шкидцы.
Дворницкая была маленькая, и ребята расселись кто на подоконниках, кто прямо на полу. С улицы доносился шум работы, и шкидцам не сиделось на месте, но у дверей стоял Мефтахудын, которому строго-настрого запретили выпускать учеников за ворота.
Мефтахудын — татарин, добродушный инвалид, беспалый, — приехал из Самары, бежал от голода и нашел приют в Шкиде. До сих пор ребята его любили, но сегодня возненавидели.
— Пусти, Мефтахудын, поглядеть, — горячился Воробей.
Ласково отпихивая парня, дворник говорил, растягивая слова:
— Сиди, поджигала! Чиво глядеть? Нечиво глядеть. Сиди на месте.
То и дело то Эланлюм, то Викниксор втискивали в двери новых и новых воспитанников, пойманных на улице, и снова уходили на поиски.
Ребята сидели сгрудившись, угнетенные и придавленные. Сидели долго-долго. Уже забрезжил в окнах бледный рассвет, а шкидцы сидели и раздумывали. Каждый по-своему строил догадки о причинах пожара:
— Жарко чугунку натопили в четвертом отделении, вот пол и загорелся.
— Электрическую проводку слишком давно не меняли.
— Курил кто-нибудь. Чинарик оставил…
Но настоящую причину знал один Янкель: маленький красный уголек все время то потухал, то вспыхивал перед глазами.
Наступило утро.
Уехали пожарные, оставив грязные лужи и кучи обгорелых досок на снегу.
Печально глядели шесть оконных впадин, копотью, дымом и гарью ударяя в нос утренним прохожим.
Сгорели два класса, и выгорел пол в спальне.
Утром старшие ходили по пепелищу, с грустью поглядывая на обгорелые бревна, на почерневшие рамы и закоптелые стены. Разыскивали свои пожитки, стараясь откопать хоть что-нибудь. Бродили вместе с другими и Янкель с Японцем, искали «Зеркало», но, как ни искали, даже следов обнаружить не могли.
Они уже собирались уходить, как вдруг Янкель нагнулся над кучей всякого горелого хлама, сунул в эту кучу руку и извлек на свет что-то бесформенное, мокрое и лохматое.
Замелькали исписанные печатными буквами знакомые листы.
— Ура! Цело!
С величайшими предосторожностями, чуть ли не всем классом откапывали любимое детище и наконец извлекли его, но в каком виде предстало перед ними это детище! Обгорели края, пожелтела бумага. Полному уничтожению «Зеркала» помешала вода и, по-видимому, обвалившаяся штукатурка, придавившая шкидскую газету, и заживо похоронившая ее в развалинах.
Редакция ликовала.
Потом Викниксор устроил собрание, опрашивал воспитанников, интересовался их мнением, и все сошлись на одном:
— Виновата буржуйка.
Тотчас же торжественным актом буржуйки были уничтожены по всей школе.
* * *
Дня через два третий и четвертый классы возобновили занятия, перебравшись во вновь оборудованные классы наверху. Классы были не хуже прежних, но холодно и неприветливо встретили воспитанников новые стены. И не скоро привыкли к ним ребята.
Янкель и Японец как-то сразу вдруг утратили любовь к старому «Зеркалу» и смотрели на него, как на калеку, с отвращением.
Долго не могли собраться с духом и выпустить двадцать шестой номер газеты, а потом вдруг, посовещавшись, решили:
«Поставим крест на старом «Зеркале».
Недели через две вышел первый номер роскошного многокрасочного журнала «Зеркало», который ничем не был похож на своего хоть и почтенного, но бесцветного родителя.
А республика Шкид, покалеченная пожаром, долго не могла оправиться от нанесенной ей раны, как не может оправиться от разрушений маленькая страна после большой войны.
Ленька Пантелеев
Мрачная личность. — Сова. — Лукулловы лепешки. — Пир за счет Викниксора. — Монашенка в штанах. — Один против всех. — «Темная». — Новенький попадает за решетку. — Примирение. — Когда лавры не дают спать.
Вскоре после пожара Шкидская республика приняла в свое подданство еще одного гражданина.
Этот мрачный человек появился на шкидском горизонте ранним зимним утром. Его не привели, как приводили многих; пришел он сам, постучался в ворота, и дворник Мефтахудын впустил его, узнав, что у этого скуластого, низкорослого и густобрового паренька на руках имеется путевка комиссии по делам несовершеннолетних.
В это время шкидцы под руководством самого Викниксора пилили во дворе дрова. Паренек спросил, кто тут будет Виктор Николаевич, подошел и, смущаясь, протянул Викниксору бумагу.
— А-а-а, Пантелеев?! — усмехнулся Викниксор, мельком заглядывая в путевку. — Я уже слыхал о тебе. Говорят, ты стихи пишешь? Знакомьтесь, ребята, — ваш новый товарищ Алексей Пантелеев. Между прочим, сочинитель, стихи пишет.
Эта рекомендация не произвела на шкидцев большого впечатления. Стихи писали в республике чуть ли не все ее граждане, начиная от самого Викниксора, которому, как известно, завидовал и подражал когда-то Александр Блок. Стихами шкидцев удивить было трудно. Другое дело, если бы новенький умел глотать шпаги, или играть на контрабасе, или хотя бы биография у него была чем-нибудь замечательная. Но шпаг он глотать явно не умел, а насчет биографии, как скоро убедились шкидцы, выудить из новенького что-нибудь было совершенно невозможно.
Это была на редкость застенчивая и неразговорчивая личность. Когда у него спрашивали о чем-нибудь, он отвечал «да» или «нет» или просто мычал что-то и мотал головой.
— За что тебя пригнали? — спросил у него Купец, когда новенький, сменив домашнюю одежду на казенную, мрачный и насупившийся, прохаживался в коридоре.
Пантелеев не ответил, сердито посмотрел на Купца и покраснел, как маленькая девочка.
— За что, я говорю, пригнали в Шкиду? — повторил вопрос Офенбах.
— Пригнали… значит, было за что, — чуть слышно пробормотал новенький. Кроме всего, он еще и картавил: вместо «пригнали» говорил «пгигнали».
Разговорить его было трудно. Да никто и не пытался этим заниматься. Заурядная личность, решили шкидцы. Бесцветный какой-то. Даже туповатый. Удивились слегка, когда после обычной проверки знаний новенького определили сразу в четвертое отделение. Но и в классе, на уроках, он тоже ничем особенным себя не проявил: отвечал кое-как, путался; вызванный к доске, часто долго молчал, краснел, а потом, не глядя на преподавателя, говорил:
— Не помню… забыл.
Только на уроках русского языка он немножко оживлялся. Литературу он знал.
По заведенному в Шкиде порядку первые две недели новички, независимо от их поведения, в отпуск не ходили. Но свидания с родными разрешались. Летом эти свидания происходили во дворе, в остальное время года — в Белом зале. В первое воскресенье новенького никто не навестил. Почти весь день он терпеливо простоял на площадке лестницы у большого окна, выходившего во двор. Видно было, что он очень ждет кого-то. Но к нему не пришли.
В следующее воскресенье на лестницу он уже не пошел, до вечера сидел в классе и читал взятую из библиотеки книгу — рассказы Леонида Андреева.
Вечером, перед ужином, когда уже возвращались отпускники, в класс заглянул дежурный:
— Пантелеев, к тебе!
Пантелеев вскочил, покраснел, уронил книгу и, не сдерживая волнения, выбежал из класса.
В полутемной прихожей, у дверей кухни, стояла печальная заплаканная дамочка в какой-то траурной шляпке и с нею курносенькая девочка лет десяти — одиннадцати. Дежурный, стоявший с ключами у входных дверей, видел, как новенький, оглядываясь и смущаясь, поцеловался с матерью и сестрой и сразу же потащил их в Белый зал. Там он увлек их в самый дальний угол и усадил на скамью. И тут шкидцы, к удивлению своему, обнаружили, что новенький умеет не только говорить, но и смеяться. Два или три раза, слушая мать, он громко и отрывисто захохотал. Но, когда мать и сестра ушли, он снова превратился в угрюмого и нелюдимого парня. Вернувшись в класс, он сел за парту и опять углубился в книгу.
Минуты через две к его парте подошел Воробей, сидевший в пятом разряде и не ходивший поэтому в отпуск.
— Пожрать не найдется, а? — спросил он, с заискивающей улыбкой заглядывая новенькому в лицо.
Пантелеев вынул из парты кусок серого пирога с капустой, отломил половину и протянул Воробью. При этом он ничего не сказал и даже не ответил на улыбку. Это было обидно, и Воробей, приняв подношение, не почувствовал никакой благодарности.
* * *
Быть может, новенький так и остался бы незаметной личностью, если бы не одно событие, которое взбудоражило и восстановило против него всю школу.
Почти одновременно с Пантелеевым в Шкиде появилась еще одна особа. Эта особа не числилась в списке воспитанников, не принадлежала она и к сословию халдеев. Это была дряхлая старуха, мать Викниксора, приехавшая к нему, неизвестно откуда и поселившаяся в его директорской квартире. Старуха эта была почти совсем слепа. Наверно, именно поэтому шкидцы, которые каждый в отдельности могли быть и добрыми, и чуткими, и отзывчивыми, а в массе, как это всегда бывает с ребятами, были безжалостны и жестоки, прозвали старуху Совой. Сова была существо безобидное. Она редко появлялась за дверью викниксоровской квартиры. Только два-три раза в день шкидцы видели, как, хватаясь свободной рукой за стену и за косяки дверей, пробирается она с какой-нибудь кастрюлькой или сковородкой на кухню или из кухни. Если в это время поблизости не было Викниксора и других халдеев, какой-нибудь шпингалет из первого отделения, перебегая старухе дорогу, кричал почти над самым ее ухом:
— Сова ползет!.. Дю! Сова!..
Но старуха была еще, по-видимому, и глуховата. Не обращая внимания на эти дикие выкрики, с кроткой улыбкой на сером морщинистом лице, она продолжала свое нелегкое путешествие.
И вот однажды по Шкиде пронесся слух, что Сова жарит на кухне какие-то необыкновенные лепешки. Было это в конце недели, когда все домашние запасы у ребят истощались и аппетит становился зверским. Особенно разыгрался аппетит у щуплого Японца, который не имел родственников в Петрограде и жил на одном казенном пайке и на доброхотных даяниях товарищей.
Пока Сова с помощью кухарки Марты священнодействовала у плиты, шкидцы толпились у дверей кухни и глотали слюни.
— Вот так смак! — раздавались голодные завистливые голоса.
— Ну и лепешечки!
— Шик-маре!
— Ай да Витя! Вкусно питается…
А Японец совсем разошелся. Он забегал на кухню, жадно втягивал ноздрями вкусный запах жареного сдобного теста и, потирая руки, выбегал обратно в коридор.
— Братцы! Не могу! Умру! — заливался он. — На маслице! На сливочном! На натуральненьком!..
Потом снова бежал на кухню, становился за спиной Совы на одно колено, воздымал к небу руки и кричал:
— Викниксор! Лукулл! Завидую тебе! Умру! Полжизни за лепешку.
Ребята смеялись. Японец земно кланялся старухе, которая ничего этого не видела, и продолжал паясничать.
— Августейшая мать! — кричал он. — Порфироносная вдова! Преклоняюсь…
В конце концов Марта выгнала его.
Но Японец уже взвинтил себя и не мог больше сдерживаться. Когда через десять минут Сова появилась в коридоре с блюдом дымящихся лепешек в руках, он первый бесшумно подскочил к ней и так же бесшумно двумя пальцами сдернул с блюда горячую лепешку. Для шкидцев это было сигналом к действию. Следом за Японцем к блюду метнулись Янкель, Цыган, Воробей, а за ними и другие. На всем пути следования старухи — и в коридоре, и на лестнице, и в Белом зале — длинной цепочкой выстроились серые бесшумные тени. Придерживаясь левой рукой за гладкую алебастровую стену, старуха медленно шла по паркету Белого зала, и с каждым ее шагом груда аппетитных лепешек на голубом фаянсовом блюде таяла. Когда Сова открывала дверь в квартиру, на голубом блюде не оставалось ничего, кроме жирных пятен.
А шкидцы уже разбежались по классам.
В четвертом отделении стоял несмолкаемый гогот. Запихивая в рот пятую или шестую лепешку и облизывая жирные пальцы, Японец на потеху товарищам изображал, как Сова входит с пустым блюдом в квартиру и как Викниксор, предвкушая удовольствие плотно позавтракать, плотоядно потирает руки.
— Вот, кушай, пожалуйста, Витенька. Вот сколько я тебе, сыночек, напекла, — шамкал Японец, передразнивая старуху. И, вытягивая свою тощую шею, тараща глаза, изображал испуганного, ошеломленного Викниксора…
Ребята, хватаясь за животы, давились от смеха. У всех блестели и глаза, и губы. Но в этом смехе слышались и тревожные нотки. Все понимали, что проделка не пройдет даром, что за преступлением вот-вот наступит и наказание.
И тут кто-то заметил новичка, который, насупившись, стоял у дверей и без улыбки смотрел на происходящее. У него одного не блестели губы, он один не притронулся к лепешкам Совы. А между тем многие видели его у дверей кухни, когда старуха выходила оттуда.
— А ты чего зевал? — спросил у него Цыган. — Эх ты, раззява! Неужели ни одной лепешки не успел слямзить?!
— А ну вас к чегту, — пробормотал новенький.
— Что?! — подскочил к нему Воробей. — Это через почему же к черту?
— А потому, что это — хамство, — краснея, сказал новенький, и губы у него запрыгали. — Скажите — гегои какие: на стагуху напали!..
В классе наступила тишина.
— Вот как? — мрачно сказал Цыган, подходя к Пантелееву. — А ты иди к Вите — накати.
Пантелеев промолчал.
— А ну, иди — попробуй! — наступал на новичка Цыган.
— Сволочь такая! Легавый! — взвизгнул Воробей, замахиваясь на новенького. Тот схватил его за руку и оттолкнул.
И хотя оттолкнул он не Японца, а Воробья, Японец дико взвизгнул и вскочил на парту.
— Граждане! Внимание! Тихо! — закричал он. — Братцы! Небывалый случай в истории нашей республики! В наших рядах оказалась ангелоподобная личность, монашенка в штанах, пепиньерка из института благородных девиц…
— Идиот, — сквозь зубы сказал Пантелеев. Сказано это было негромко, но Японец услышал. Маленький, вечно красный носик его еще больше покраснел. Несколько секунд Еошка молчал, потом соскочил с парты и быстро подошел к Пантелееву.
— Ты что, друг мой, против класса идешь? Выслужиться хочешь?
— Ребята, — повернулся он к товарищам, — ни у кого не осталось лепешки?..
— У меня есть одна, — сказал запасливый Горбушка, извлекая из кармана скомканную и облепленную табачной трухой лепешку.
— А ну, дай сюда, — сказал Японец, выхватывая лепешку. — Ешь! — протянул он ее Пантелееву.
Новенький отшатнулся и плотно сжал губы.
— Ешь, тебе говорят! — побагровел Еонин и сунул лепешку новенькому в рот.
Пантелеев оттолкнул его руку.
— Уйди лучше, — совсем тихо сказал он и взялся за ручку двери.
— Нет, не смоешься! — еще громче завизжал Японец. — Ребята, вали его!..
Несколько человек накинулись на новенького. Кто-то ударил его под колено, он упал. Цыган и Купец держали его за руки, а Японец, пыхтя и отдуваясь, запихивал новенькому в рот грязную, жирную лепешку. Новенький вывернулся и ударил головой Японца в подбородок.
— Ах, ты драться?! — заверещал Японец.
— Вот сволочь какая!
— Дерется, зануда! А?
— В темную его!
— Даешь темную!..
Пантелеева потащили в дальний угол класса. Неизвестно откуда появилось пальто, которое накинули новенькому на голову. Погасло электричество, и в наступившей тишине удары один за другим посыпались на голову непокорного новичка.
Никто не заметил, как открылась дверь. Ярко вспыхнуло электричество. В дверях, поблескивая пенсне, стоял и грозно смотрел на ребят Викниксор.
— Что здесь происходит? — раздался его раскатистый, но чересчур спокойный бас.
Ребята успели разбежаться, только Пантелеев сидел на полу, у классной доски, потирая кулаком свой курносый нос, из которого тоненьким ручейком струилась кровь, смешиваясь со слезами и с прилипшими к подбородку остатками злополучной лепешки.
— Я спрашиваю: что здесь происходит? — громче повторил Викниксор. Ребята стояли по своим местам и молчали. Взгляд Викниксора остановился на Пантелееве. Тот уже поднялся и, отвернувшись в угол, приводил себя в порядок, облизывая губы, глотая слезы и остатки лепешки. Викниксор оглядел его с головы до ног и как будто что-то понял. Губы его искривила брезгливая усмешка.
— А ну, иди за мной! — приказал он новенькому.
Пантелеев не расслышал, но повернул голову в сторону зава.
— Ты! Ты! Иди за мной, я говорю.
— Куда?
Викниксор кивком головы показал на дверь и вышел. Не глядя на ребят, Пантелеев последовал за ним. Ребята минуту подождали, переглянулись и, не сговариваясь, тоже ринулись из класса.
Через полуотворенную дверь Белого зала они видели, как Викниксор открыл дверь в свою квартиру, пропустил туда новенького, и тотчас высокая белая дверь шумно захлопнулась за ними.
Ребята еще раз переглянулись.
— Ну уж теперь накатит — факт! — вздохнул Воробей.
— Ясно, накатит, — мрачно согласился Горбушка, который и без того болезненно переживал утрату последней лепешки.
— А что ж. Накатит — и будет прав, — сказал Янкель, который, кажется один во всем классе, не принимал участия в избиении новичка.
Но, независимо от того, кто как оценивал моральную стойкость новичка, у всех на душе было муторно и противно.
И вдруг произошло нечто совершенно фантастическое. Высокая белая дверь с шумом распахнулась — и глазам ошеломленных шкидцев предстало зрелище, какого они не ожидали и ожидать не могли: Викниксор выволок за шиворот бледного, окровавленного Пантелеева и, протащив его через весь огромный зал, грозно зарычал на всю школу:
— Эй, кто там! Староста! Дежурный! Позвать сюда дежурного воспитателя!
Из учительской уже бежал заспанный и перепуганный Шершавый.
— В чем дело, Виктор Николаевич?
— В изолятор! — задыхаясь, прохрипел Викниксор, указывая пальцем на Пантелеева. — Немедленно! На трое суток!
Шершавый засуетился, побежал за ключами, и через пять минут новенький был водворен в тесную комнатку изолятора — единственное в школе помещение, окно которого было забрано толстой железной решеткой.
Шкидцы притихли и недоумевали. Но еще большее недоумение произвела на них речь Викниксора, произнесенная им за ужином.
— Ребята! — сказал он, появляясь в столовой и делая несколько широких, порывистых шагов по диагонали, что, как известно, свидетельствовало о взволнованном состоянии шкидского президента. — Ребята, сегодня в стенах нашей школы произошел мерзкий, возмутительный случай. Скажу вам откровенно: я не хотел поднимать этого дела, пока это касалось лично меня и близкого мне человека. Но после этого произошло другое событие, еще более гнусное. Вы знаете, о чем и о ком я говорю. Один из вас — фамилии его я называть не буду, она вам всем известна — совершил отвратительный поступок. Он обидел старого, немощного человека. Повторяю, я не хотел говорить об этом, хотел промолчать. Но позже я оказался свидетелем поступка еще более омерзительного. Я видел, как вы избивали своего товарища. Я хорошо понимаю, ребята, и даже в какой-то степени разделяю ваше негодование, но… Но надо знать меру. Как бы гнусно ни поступил Пантелеев, выражать свое возмущение таким диким, варварским способом, устраивать самосуд, прибегать к суду Линча, то есть поступать так, как поступают потомки американских рабовладельцев, — это позорно и недостойно вас, людей советских, и притом почти взрослых…
Оседлав своего любимого конька — красноречие, — Викниксор еще долго говорил па эту тему. Он говорил о том, что надо быть справедливым, что за спиной у Пантелеева — темное прошлое, что он — испорченный улицей парень, ведь в свои четырнадцать лет он успел посидеть и в тюрьмах, и в исправительных колониях. Этот парень долго находился в дурном обществе, среди воров и бандитов, и все это надо учесть, так сказать, при вынесении приговора. А кроме того, может быть, он еще и голоден был, когда совершил свой низкий, недостойный поступок. Одним словом, надо подходить к человеку снисходительно, нельзя бросать в человека камнем, не разобравшись во всех мотивах его преступления, надо воспитывать в себе выдержку и чуткость…
Викниксор говорил долго, но шкидцы уже не слушали его. Не успели отужинать, как в четвертом отделении собрались старшеклассники.
Ребята были явно взволнованы и даже обескуражены.
— Ничего себе — монашенка в штанах! — воскликнул Цыган, едва переступив порог класса.
— Н-да, — многозначительно промычал Янкель.
— Что же это, братцы, такое? — сказал Купец. — Не накатил, значит?
— Не накатил — факт! — поддакнул Воробей.
— Ну, положим, это еще не факт, а гипотеза, — важно заявил Японец. — Хотелось бы знать, с какой стати в этой ситуации Викниксор выгораживает его?!
— Ладно, Япошка, помолчи, — серьезно сказал Янкель. — Кому-кому, а тебе в этой ситуации заткнуться надо бы.
Японец покраснел, пробормотал что-то язвительное, но все-таки замолчал.
Перед сном несколько человек пробрались к изолятору. Через замочную скважину сочился желтоватый свет пятисвечовой угольной лампочки.
— Пантелей, ты не спишь? — негромко спросил Янкель. За дверью заскрипела железная койка, Но ответа не было.
— Пантелеев! Ленька! — в скважину сказал Цыган. — Ты… этого… не сердись. А? Ты, понимаешь, извини нас. Ошибка, понимаешь, вышла.
— Ладно… катитесь к чегту, — раздался из-за двери глухой, мрачный голос. — Не мешайте спать человеку.
— Пантелей, ты жрать не хочешь? — спросил Горбушка.
— Не хочу, — отрезал тот же голос.
Ребята потоптались и ушли.
Но попозже они все-таки собрались между собой и принесли гордому узнику несколько ломтей хлеба и кусок сахару. Так как за дверью на этот раз царило непробудное молчание, они просунули эту скромную передачу в щелку под дверью. Но и после этого железная койка не скрипнула.
* * *
Разговорчивым Ленька никогда не был. Ему надо было очень близко подружиться с человеком, чтобы у него развязался язык. А тут, в Шкиде, он и не собирался ни с кем дружить. Он жил какой-то рассеянной жизнью, думая только о том, как и когда он отсюда смоется.
Правда, когда он пришел в Шкиду, эта школа показалась ему непохожей на все остальные детдома и колонии, где ему привелось до сих пор побывать. Ребята здесь были более начитанные. А главное — здесь по-хорошему встречали новичков, никто их не бил и не преследовал. А Ленька, наученный горьким опытом, уже приготовился дать достойный отпор всякому, кто к нему полезет.
До поры до времени к нему никто не лез. Наоборот, на него как будто перестали даже обращать внимание, пока не произошел этот случай с Совой, который заставил говорить о Пантелееве всю школу и сделал его на какое-то время самой заметной фигурой в Шкидской республике.
Ленька попал в Шкиду не из института благородных девиц. Он уже давно не краснел при слове «воровство». Если бы речь шла о чем-нибудь другом, если бы ребята задумали взломать кладовку или пошли на какое-нибудь другое, более серьезное дело, может быть, он из чувства товарищества и присоединился бы к ним. Но когда он увидел, что ребята напали на слепую старуху, ему стало противно. Такие вещи и раньше вызывали в нем брезгливое чувство. Ему, например, было противно залезть в чужой карман. Поэтому на карманных воров он всегда смотрел свысока и с пренебрежением, считая, по-видимому, что украсть чемодан или взломать на рынке ларек — поступок более благородный и возвышенный, чем карманная кража.
Когда ребята напали на Леньку и стали его бить, он не очень удивился. Он хорошо знал, что такое приютские нравы, и сам не один раз принимал участие в «темных». Он даже не очень сопротивлялся тем, кто его бил, только защищал по мере возможности лицо и другие наиболее ранимые места. Но когда в класс явился Викниксор и, вместо того чтобы заступиться за Леньку, грозно на него зарычал, Ленька почему-то рассвирепел. Тем но менее он покорно проследовал за Викниксором в его кабинет.
Викниксор закрыл дверь и повернулся к новенькому, который по-прежнему шмыгал носом и вытирал рукавом окровавленное лицо. Викниксор, как заядлый Шерлок Холмс, решил с места в карьер огорошить воспитанника.
— За что тебя били товарищи? — спросил он, впиваясь глазами в Ленькино лицо.
Ленька не ответил.
— Ты что молчишь? Кажется, я тебя спрашиваю: за что тебя били в классе?
Викниксор еще пристальнее взглянул новенькому в глаза:
— За лепешки, да?
— Да, — пробурчал Ленька.
Лицо Викниксора налилось кровью. Можно было ожидать, что сейчас он закричит, затопает ногами. Но он не закричал, а спокойно и отчетливо, без всякого выражения, как будто делал диктовку, сказал:
— Мерзавец! Выродок! Дегенерат!
— Вы что ругаетесь! — вспыхнул Ленька, — Какое вы имеете право?.
И тут Викниксор подскочил и заревел на всю школу:
— Что-о-о?! Как ты сказал? Какое я имею право?! Скотина! Каналья!
— Сам каналья, — успел пролепетать Ленька.
Викниксор задохнулся, схватил новичка за шиворот и поволок его к двери.
Все остальное произошло уже на глазах ошеломленных шкидцев.
* * *
Ленька третьи сутки сидел в изоляторе и не знал, что его судьба взбудоражила и взволновала всю школу.
В четвертом отделении с утра до ночи шли бесконечные дебаты.
— Все-таки, ребята, это хамство, — кипятился Янкель. — Парень взял на себя вину, страдает неизвестно за что, а мы…
— Что же ты, интересно, предлагаешь? — язвительно усмехнулся Японец.
— Что я предлагаю? Мы должны всем классом пойти к Викниксору и сказать ему, что Пантелеев не виноват, а виноваты мы.
— Ладно! Дураков поищи. Иди сам, если хочешь.
— Ну и что? А ты что думаешь? И пойду…
— Ну и пожалуйста. Скатертью дорога.
— Пойду и скажу, кто был зачинщиком всего этого дела. И кто натравил ребят на Леньку.
— Ах, вот как? Легавить собираешься?
— Тихо, робя! — пробасил Купец. — Вот что я вам скажу. Всем классом идти — это глупо, конечно. Если все пойдем — значит, все и огребем по пятому разряду…
— Жребий надо бросить, — пропищал Мамочка.
— Может быть, оракула пригласить? — захихикал Японец.
— Нет, робя, — сказал Купец. — Оракула приглашать не надо. И жребий тоже не надо. Я думаю вот чего… Я думаю — должен пойти один и взять всю вину на себя.
— Это кто же именно? — поинтересовался Японец.
— А именно — ты!
— Я?
— Да… пойдешь ты!
Сказано это было тоном категорического приказа.
Японец побледнел.
Неизвестно, чем кончилась бы вся эта история, если бы по Шкиде не пронесся слух, что Пантелеев выпущен из изолятора. Через несколько минут он сам появился в классе. Лицо его, разукрашенное синяками и подтеками, было бледнее обычного. Ни с кем не поздоровавшись, он прошел к своей парте, сел и стал собирать свои пожитки. Не спеша он извлек из ящика и выложил на парту несколько книг и тетрадок, начатую пачку папирос «Смычка», вязаное, заштопанное во многих местах кашне, коробочку с перышками и карандаши, кулечек с остатками постного сахара — и стал все это связывать обрывком шпагата.
Класс молча наблюдал за его манипуляциями.
— Ты куда это собрался, Пантелей? — нарушил молчание Горбушка.
Пантелеев не ответил, еще больше нахмурился и засопел.
— Ты что — в бутылку залез? Разговаривать не желаешь? А?
— Брось, Ленька, не сердись, — сказал Янкель, подходя к новенькому. Он положил руку Пантелееву на плечо, но Пантелеев движением плеча сбросил его руку.
— Идите вы все к чегту, — сказал он сквозь зубы, крепче затягивая узел на своем пакете и засовывая этот пакет в парту.
И тут к пантелеевской парте подошел Японец.
— Знаешь, Ленька, ты… это самое… ты — молодец, — проговорил он, краснея и шмыгая носом. — Прости нас, пожалуйста. Это я не только от себя, я от всего класса говорю. Правильно, ребята?
— Правильно!!! — загорланили ребята, обступая со всех сторон Ленькину парту. Скуластое лицо новенького порозовело! Что-то вроде слабой улыбки появилось на его пересохших губах.
— Ну, что? Мировая? — спросил Цыган, протягивая новичку руку.
— Чегт с вами! Миговая, — прокартавил Ленька, усмехаясь и отвечая на рукопожатие.
Обступив Леньку, ребята один за другим пожимали ему руку.
— Братцы! Братцы! А мы главного-то не сказали! — воскликнул Янкель, вскакивая на парту. И, обращаясь с этой трибуны к новенькому, он заявил: — Пантелей, спасибо тебе от лица всего класса за то… что ты… ну, ты, одним словом, сам понимаешь.
— За что? — удивился Ленька, и по лицу его было видно, что он не понимает.
— За то… за то, что ты не накатил на нас, а взял вину на себя.
— Какую вину?
— Как какую? Ты же ведь сказал Вите, будто лепешки у Совы ты замотал? Ладно, не скромничай. Ведь сказал?
— Я?
— Ну да! А кто же?
— И не думал.
— Как не думал?
— Что я, дурак, что ли?
В классе опять наступила тишина. Только Мамочка, не сдержавшись, несколько раз приглушенно хихикнул.
— Позвольте, как же это? — проговорил Янкель, потирая вспотевший лоб. — Что за черт?! Ведь мы думали, что тебя за лепешки Витя в изолятор посадил.
— Да. За лепешки. Но я-то тут при чем?
— Как ни при чем?
— Так и ни при чем.
— Тьфу! — рассердился Янкель. — Да объясни ты наконец, зануда, в чем дело!
— Очень просто. И объяснять нечего. Он спрашивает: «За что тебя били? За лепешки?» Я и сказал: «Да, за лепешки…»
Пантелеев посмотрел на ребят, и шкидцы впервые увидели на его скуластом лице веселую, открытую улыбку.
— А что? Газве не пгавда? — ухмыльнулся он. — Газве не за лепешки вы меня били, чегти?..
Дружный хохот всего класса не дал Пантелееву договорить.
Был заключен мир. И Пантелеев был навсегда принят как полноправный член в дружную шкидскую семью.
Узелок его с перышками, кашне и постным сахаром был в тот же день распакован, и содержимое его легло по своим местам. А через некоторое время Ленька и вообще перестал думать о побеге. Ребята его полюбили, и он тоже привязался ко многим своим новым товарищам. Когда он немного оттаял а разговорился, он рассказал ребятам свою жизнь.
И оказалось, что Викниксор был прав: этот тихенький, неразговорчивый и застенчивый паренек прошел, как говорится, огонь, воду и медные трубы. Он рано растерял семью и несколько лет беспризорничал, скитался по разным городам республики. До Шкиды он успел побывать в четырех или пяти детдомах и колониях; не раз ему приходилось ночевать и в тюремных камерах, и в арестных домах, и в железнодорожных Чека… За спиной его было несколько приводов в угрозыск[[39]].
В Шкиду Ленька пришел по своей воле; он сам решил покончить со своим темным прошлым. Поэтому прозвище Налетчик, которое дали ему ребята вместо не оправдавшей себя клички Монашенка, его не устраивало и возмущало. Он сердился и лез с кулаками на тех, кто его так называл. Тогда кто-то придумал ему новую кличку — Лепешкин…
Но тут опять произошло событие, которое не только прекратило всякие насмешки над новеньким, но и вознесло новообращенного шкидца на совершенно недосягаемую высоту.
* * *
Как-то, недели за две до поступления в Шкиду, Ленька смотрел в кинематографе «Ампир» на Садовой американский ковбойский боевик. Перед сеансом показывали дивертисмент: выступали фокусники, жонглеры, похожая на рыбу певица в чешуйчатом платье спела два романса, две девушки в матросских штанах сплясали матлот, а под конец выступил куплетист, который исполнял под аккомпанемент маленького аккордеона «частушки на злобу дня». Ленька прослушал эти частушки, и ему показалось, что он сам может написать нисколько не хуже. Вернувшись домой, он вырвал из тетради листок и, торопясь, чтобы не растерять вдохновение, за десять минут набросал шесть четверостиший, среди которых было и такое:
Курсы золота поднялись По причине нэпа. В Петрограде на Сенной Три лимона репа.Все это сочинение он озаглавил «Злободневные частушки». Потом подумал, куда послать частушки, и решил послать их в «Красную газету». Несколько дней после зтого он ждал ответа, но ответ не последовал. А потом события Ленькиной жизни завертелись с быстротой американского боевика, и ему уже было не до частушек и не до «Красной газеты». Он забыл о них.
Скоро он очутился в Шкиде.
И вот однажды после уроков в класс четвертого отделения с шумом ворвался взволнованный и запыхавшийся третьеклассник Курочка. В руках он держал скомканный газетный лист.
— Пантелеев! Это не ты? — закричал он, едва переступив порог.
— Что? — побледнел Ленька, с трудом вылезая из-за парты. Сердце его быстробыстро заколотилось. Ноги и руки похолодели.
Курочка поднял над головой, как знамя, газетный лист.
— Ты стихи в «Красную газету» посылал?
— Да… посылал, — пролепетал Ленька.
— Ну, вот. Я так и знал. А ребята спорят, говорят — не может быть.
— Покажи, — сказал Ленька, протягивая руку. Его обступили. Буквы в глазах у него прыгали и не складывались в строчки.
— Где? Где? — спрашивали вокруг.
— Да вот. Ты внизу смотри, — волновался Курочка. — Вон, где написано «Почтовый ящик»…
Ленька нашел «Почтовый ящик», отдел, в котором редакция отвечала авторам. Где-то на втором или третьем месте в глаза ему бросилась его фамилия, напечатанная крупным шрифтом. Когда в глазах у него перестало рябить, он прочел:
«АЛЕКСЕЮ ПАНТЕЛЕЕВУ. Присланные Вам «злободневные частушки» — не частушки, а стишки Вашего собственного сочинения. Не пойдет».
На несколько секунд похолодевшие Ленькины ноги отказались ему служить. Вся кровь прилила к ушам. Ему казалось, что он не сможет посмотреть товарищам в глаза, что сейчас его освистят, ошельмуют, поднимут на смех.
Но ничего подобного не случилось. Ленька поднял глаза и увидел, что обступившие его ребята смотрят на него с таким выражением, как будто перед ними стоит если не Пушкин, то по крайней мере Блок иди Демьян Бедный.
— Вот так Пантелей! — восторженно пропищал Мамочка.
— Ай да Ленька! — не без зависти воскликнул Цыган.
— Может, это не он? — усомнился кто-то.
— Это ты? — спросили у Леньки.
— Да… я, — ответил он, опуская глаза — на этот раз уже из одной скромности.
Газета переходила из рук в руки.
— Дай! Дай! Покажи! Дай позексать! — слышалось вокруг.
Но скоро Курочка унес газету. И Ленька вдруг почувствовал, что унесли что-то очень ценное, дорогое, унесли частицу его славы, свидетельство его триумфа.
Он разыскал дежурного воспитателя Алникпопа и слезно умолил отпустить его на пять минут на улицу. Сашкец, поколебавшись, дал ему увольнительную. На углу Петергофского и проспекта Огородникова Ленька купил у газетчика за восемнадцать тысяч рублей свежий номер «Красной газеты». Еще на улице, возвращаясь в Шкиду, он раз пять развертывал газету и заглядывал в «Почтовый ящик». И тут, как и в Курочкином экземпляре, черным по белому было напечатано: «Алексею Пантелееву…»
Ленька стал героем дня.
До вечера продолжалось паломничество ребят из младших отделений. То и дело дверь четвертого отделения открывалась и несколько физиономий сразу робко заглядывало в класс.
— Пантелей, покажи газетку, а? — умоляюще канючили малыши. Ленька снисходительно усмехался, доставал из ящика парты газету и давал всем желающим. Ребята читали вслух, перечитывали снова, качали головами, ахали от изумления.
И все спрашивали у Леньки:
— Это ты?
— Да, это я, — скромно отвечал Ленька.
Даже в спальне, после отбоя, продолжалось обсуждение этого из ряда вон выходящего события.
Ленька засыпал пресыщенный славой.
Ночью, часа в четыре, он проснулся и сразу вспомнил, что накануне произошло что-то очень важное. Газета, тщательно сложенная, лежала у него под подушкой. Он осторожно достал ее и развернул. В спальне было темно. Тогда он босиком, в одних подштанниках, вышел на лестницу и при бледном свете угольной лампочки еще раз прочел:
«Алексею Пантелееву. Присланные Вами частушки — не частушки, а стишки Вашего собственного сочинения. Не пойдет».
Так в Шкидской республике появился еще один литератор, и на этот раз литератор с именем. Прошло немного времени, и ему пришлось проявить свои способности уже на шкидской арене — на благо республики, которая стала ему родной и близкой.
О «Шестой державе»
Рассуждения о великом и малом. — 60 на 60. — Скандал с последствиями. — «Комариное» начало. — Горбушкина лирика. — Расцвет «шестой державы». — Три редактора.
Кто поверит теперь, что в годы блокады, голодовки и бумажного кризиса, когда население Совроссии читало газеты только на стенах домов, в Шкидской маленькой республике с населением в шестьдесят человек выходило 60 (шестьдесят) периодических изданий — всех сортов, типов и направлений?
Случилось так.
Выходило «Зеркало», старейший печатный орган Шкидской республики. Крепко стала на ноги газета, аккуратно еженедельно появлялись ее номера на стенке, и вдруг пожар уничтожил ее.
Газета умерла, но на смену ей появился журнал. Тот же Янкель печатными буквами переписывал материал, тот же Японец писал статьи, и то же название осталось — «Зеркало». Только размах стал пошире.
И никто не предполагал, что блестящему «Зеркалу» в скором времени суждено будет треснуть и рассыпаться на десятки осколков и осколочков.
Катастрофа эта произошла из-за несходства взглядов двух редакторов журнала. Не поладили Янкель с Япончиком.
Япончик — журналист серьезный, с «направлением». Япончику не нравится обычный еженедельный ученический журнал, освещающий жизнь и быт школы в стихах и рассказах. Нет, Япончик мечтает из «Зеркала» сделать ежемесячник, толстый, увесистый и солидный журнал со статьями и рефератами по истории, искусству, философии. Япончик гнет все время свою линию, и лицо журнала меняется. Количество страниц увеличивается до тридцати, потом журнал становится двухнедельным, потом десятидневным, а школьная хроника и юмор изгоняются прочь. Им не место в «умном» журнале. Зато Еонин пишет большой исторический труд с продолжениями: «Суд в Древней Руси».
Увесистый труд разделен на три номера «Зеркала» и в каждом номере занимает от пятнадцати до двадцати страниц.
Янкель окончательно забит: он превращается в ходячую типографию. Ему остается только техническая часть: печатать, рисовать и выпускать номер. Но Янкелю очень скучно без конца переписывать статьи о Древней Руси. Он знает прекрасно, что никто не прочтет их, кроме автора и несчастного типографа. Янкель выбился из сил. Тридцать страниц аккуратно переписать печатными буквами, разрисовать, прибавить виньетки, и все — за шесть-восемь дней. Тяжело! Янкель отупел от технической работы. Она ему опротивела.
Выпустив семь номеров журнала, Янкель призадумался. Ему также хотелось творить — писать стихи, рассказы, сочинять веселые фельетоны из школьной жизни, а времени не хватало. Япончик съел время «Древней Русью». Тогда Янкель решил отступиться от журнала, бросить его. «Ну его к черту!» — подумал он, что относилось в равной степени и к Японцу, и к суду Древней Руси.
Несколько дней Янкель не брался за журнал. «Зеркало» лежало на столе, до половины исписанное, а вторая половина улыбалась чистыми листами. Японец злился и нервничал. У него уже были готовы три новые статьи, а Янкель только ходил да посвистывал.
Приближался срок выхода журнала. Наконец Японец не выдержал и решительно подошел к Янкелю:
— Писать надо. Журнал пора выпускать.
Янкель поморщился, потянулся и сказал спокойно:
— А ну его к черту. Неохота!
— Как это неохота?
— А так. Очень просто. Неохота — и все.
Япончик разозлился.
— Ты вообще-то будешь работать или нет?
Но Янкель так же спокойно ответил:
— А тебе-то что?
— Как что? Ты редактор или не редактор?
— Ну, редактор.
— Работать будешь?
— Неохота.
— Значит, не будешь?!
— Ну и не буду.
— Почему?
— Надоело.
Японец покраснел, пошмыгал носиком.
— Ну, валяй как хочешь, — сказал он, надувшись и отходя в сторону.
Тихо посмеивался класс, наблюдая, как распри разъедают крепкую редакцию.
С тех пор «Зеркало» больше не выходило. Республика осталась без прессы. Даже Викниксор встревожился — приходил, спрашивал: почему? Но ребята отнекивались, мялись, обещали, что скоро опять будет все по-прежнему. Однако прежнее ушло навсегда. Неделю редакторы наслаждались покоем, ходили на прогулки вместе с классом, а потом вдруг и тому и другому стало скучно, словно не хватало чего. Приуныли.
Объединяться вновь уже ни тому, ни другому но хотелось. Опротивели друг другу. И класс стал замечать, как, уткнувшись в бумажные листы, каждый за своей партой, снова зацарапали по бумаге Янкель и Япончик. Заинтересовались: что это вдруг увлекло так обоих?
Однажды после уроков Янкель, сидевший около печки, оживился.
Достал веревку, заходил вокруг печки, что-то вымерил, высчитал, потом вбил между двумя кафельными плитками пару гвоздей и натянул на этих гвоздях веревку.
— Ты это зачем? — удивлялись ребята, но Гришка улыбался многозначительно и говорил загадочно:
— Не спешите. Узнаете.
Потом он долго рисовал акварельными красками какой-то плакат и наконец торжественно наклеил это произведение на печку около своей парты. Яркий плакат, в углу которого было изображено какое-то носатое насекомое, гласил:
Издательство «Комар»
Пониже Янкель пристроил вторую вывеску:
Редакция еженедельного юмористического журнала
«КОМАР»
А где-то сбоку прилепилась третья:
Типография издательства «КОМАР»
Тут же на веревке был торжественно вывешен первый номер сатирического и юмористического журнала «Комар», форматом в тетрадочный лист и размером в восемь страничек.
— Это что же такое? — спрашивали ребята, с любопытством рассматривая и ощупывая работу Янкеля. Тот улыбался и снисходительно объяснял:
— А это новый журнал «Комар». Еженедельный. Выходит, как «Огонек» или «Красная панорама», раз в неделю и даже чаще.
— А почему он такой тоненький? — пробасил Купец, с презрением щупая четыре листа журнала.
— Тоненький? Потому и тоненький, что не толстый, — огласил свою первую остроту редактор юмористического журнала.
Читали «Комара» всем классом — понравился. Только Япончик даже взглядом не удостоил новый журнал, он сидел, уткнувшись в парту, и, шмыгая носом, что-то быстро писал. Японец решил во что бы то ни стало осуществить свою идею о толстом ежемесячнике и на другой день после выхода «Комара» дал о себе знать. Повсюду на стенах — в залах, в классах и даже в уборных — появились неумело, от руки написанные объявления:
ВНИМАНИЕ!!!
Организуется новое книгоиздательство
«ВПЕРЕД»
В скором времени выходит №1 ежемесячного
журнала «ВПЕРЕД»
В журнале постоянно сотрудничают Г. Еонин,
К. Финкельштейн, Н. Громоносцев и др.
Кроме ежемесячника «Вперед» книгоиздательство
выпускает еженедельную газету «Неделя»
Газета выходит при участии
Н. Громоносцева, К. Финкельштейна, Г. Еонина и др.
ЧИТАЙТЕ!! ЧИТАЙТЕ!!!
ЧИТАЙТЕ!!!
СКОРО!
СКОРО!
СКОРО!
Новое издательство заработало энергично, и в тот же день появился первый номер «Недели». Неказистый вид этой новой газеты возмещался богатством ее содержания и обилием сотрудников, которые обещали выступать на ее страницах. Среди сотрудников, скрывавшихся под таинственным шифром «и др.», находился и новичок Пантелеев: в первом номере были опубликованы его знаменитые «злободневные частушки», столь легкомысленно отвергнутые в свое время «Красной газетой». Япончик торжествовал. Теперь он с удвоенным рвением взялся за подготовку ежемесячника. Размах был грандиозный. Номер решили выпускать в шесть или семь тетрадей толщиной, с вкладными иллюстрациями.
Янкелю оставалось только злиться. Он был бессилен перещеголять новое издательство. Он был один.
Все чаще и чаще прибегали из других классов к Япончику с вопросами:
— Скоро «Неделя» выйдет?
— «Вперед» скоро появится?
И Япончик, горделиво скосив глаза на Янкеля, нарочно громко говорил:
— Газета и журнал выходят и будут выходить своевременно, в объявленные сроки!
Однако Черных решил не сдаваться, он долго обдумывал создавшееся положение и твердо решил: «Буду бороться. Надо почаще выпускать «Комара»…»
Началась горячка. Ежевечерне после невероятных дневных трудов Янкель с гордостью вывешивал на веревочку у печки все новые и новые номера. Улучшил технику, стал делать рисунки в красках и добился своего. Ребятам надоело дожидаться толстого ежемесячника, они все больше привыкали к «Комару». Уже вошло в привычку утром приходить в четвертое отделение и читать свежий помер журнала. «Комар» победил. Но Янкелю эта победа досталась недешево. Он осунулся, похудел, потерял сон и аппетит…
Через неделю вышел второй номер Еошкиной «Недели». На этот раз газета не привлекла внимания читателей, так как была без рисунков и написана от руки карандашом. Зато неудача Япончика повлекла за собой неожиданные последствия.
Всю неделю Купец ходил погруженный в какие-то размышления, а когда увидел серенькую и неприглядную Япошкину газетку, громогласно на весь класс заявил:
— Какого черта! И я такую выпущу. И даже лучше. И даже не газету, а журнал!
Заявление Купца было неожиданным — тем более что всего десяток дней назад он смеялся над чудаками редакторами:
— Охота вам время терять, кедрилы-мученики! Ведь денег за это не платят.
И вдруг Купец — редактор журнала «Мой пулемет» — собирает штат сотрудников. «Мой пулемет», по заявлению редактора, называется так потому, что будет выходить очень часто, как пулемет стреляет. Тотчас же вокруг нового органа создалось ядро журналистов из малоизвестных начинающих литераторов — Мамочки и Горбушки, — а скоро и Ленька Пантелеев порвал с Япончиком и также перешел в молодое, но многообещающее издательство Купца. «Мой пулемет» пошел в гору.
Уже беспрерывно выходили три органа: «Комар» Янкеля, «Неделя» Японца и «Мой пулемет» Купца, но ни один из них не отвечал требованиям Цыгана.
— Что же это за издания, сволочи! Ни ребусов, ни задач не помещают. Барахло!
Цыган был полон негодования. Он пробовал ввести свой отдел во всех трех органах, но ему везде вежливо отказывали. Тогда Громоносцев внес свое предложение в издательство «Вперед», где был одним из редакторов и деятельным сотрудником:
— Ребята, Япончик, Кобчик! Предлагаю в журнале ввести отдел «Головоломка». Я буду редактором.
Поэт Костя Финкельштейн — Кобчик — запротестовал первый:
— Не надо. У нас журнал научно-литературный, солидный ежемесячник. Не надо.
— Не стоит, — подтвердил и Японец, чем окончательно вывел из себя любителя шарад и головоломок.
— Хорошо, — заявил тот. — Не хотите — не надо. Обойдусь и без вас.
Цыган вышел из редакции «Вперед», и в скором времени в «Комаре» появилось объявление:
На днях выходит новый журнал шарад, ребусов
и загадок
«ГОЛОВОЛОМКА»
Редактор-издатель Н. Громоносцев
«Головоломка» вышла на другой день. Потом столь же неожиданно Мамочка и Горбушка вышли из состава купцовского «Пулемета» и начали издавать свои собственные журналы. Мамочка выпустил журнал с умным названием «Мысль», а как лозунг поставил вверху первой страницы известный афоризм Цыгана, впервые изреченный им на уроке русского языка. Когда Громоносцева спросили, что такое мысль, он, нахально улыбаясь, ответил: «Мысль — это интеллектуальный эксцесс данного индивидуума». С тех пор это нелепое изречение везде и всюду ходило за ним, пока наконец не запечатлелось в виде лозунга над высокохудожественным Мамочкиным органом.
Горбушка, презиравший рассуждения о высоких материях, был больше поэтом и назвал свой журнал исключительно поэтично:
ЗОРИ
Однако Горбушка при всех своих поэтических талантах был безграмотен и уже с первого номера скандально опростоволосился.
На первой странице Горбушкина издания по случаю бывшего месяца три назад спектакля красовался рисунок из пушкинского «Бориса Годунова».
Рисунок Горбушки изображал Японца в роли Годунова, с большим жезлом в руке.
Но не рисунок заставил всю школу покатываться со смеху, а пояснительная надпись под ним:
Юлыстрация к трогедие «Борис Гадунв».
Горбушка умудрился в пяти словах сделать семь ошибок и здорово поплатился.
Поэтичные «Зори» читали все и не потому, что шкидцев очень уж интересовала поэзия, их читали как хороший юмористический журнал, и даже Янкель обижался:
— Сволочь этот Горбушка… Конкурент.
Особенно доставалось Горбушкиной лирике. Она вызывала такой дружный смех, какому могли позавидовать самые остроумные фельетоны «Комара».
Но Горбушка никак не мог понять, над чем смеются шкидцы, и был оскорблен. Еще бы! Над созданием своего журнала он просиживал ночи, в стихи вкладывал всю душу, и, по его мнению, получалось очень красиво. Горбушка был лирик от природы, но лирику он понимал по-своему. По его словам, «лирика — это когда от себя писать и когда скучно писать». Писал он свои скучные стихи только тогда, когда его наказывали; вот одно из его стихотворений:
Дом желтый наш дряхлый и старый, Все время из труб идет дым. Заведущий — славный наш малый, Но скучно становится с ним. Мне стало все жальше и жальше Смотреть из пустого окна. Умчаться бы куда подальше, Где новая светит земля.Но стоило только Горбушке поместить это стихотворение в своих «Зорях», как уже вся школа покатывалась от хохота, а «Комар» в новом отделе «По шкидским журналам» безжалостно издевался над Горбушкиной лирикой:
«По-видимому, поэт Горбушенция — очень наблюдательный человек, недаром он подметил такое замечательное явление, как «все время из труб идет дым». Мы боимся одного: как бы не пошел дым из другого какого места, например, из «Зорь» или из Горбушкиной головы, которому пустое дело «смотреть все жальше и жальше из пустого окна». Кроме того. Горбушке хочется «умчаться куда подальше». Мы с удовольствием исполним его желание и посылаем милого поэта «куда подальше». Живи себе там, Горбушечка, да стишки пописывай».
Однако Горбушка остался тверд, лирических упражнений не оставлял и регулярно выпускал «Зори».
Уже шесть журналов выходило в одном только четвертом отделении. Такое обилие печатных органов обратило на себя внимание всей школы и еще больше прославило старшеклассников.
В первую очередь, конечно, новой журнальной эпидемией заинтересовался Викниксор.
Однажды, придя в класс, он произнес блестящую речь о том, что школьная журналистика — это очень и очень хорошо, что журналы развивают способности, расширяют кругозор, прививают навыки, вырабатывают стиль, будят воображение и т.д. и т.п. Под конец Викниксор заявил, что в скором времени в школе откроется музей, в котором в качестве самых главных экспонатов будут храниться эти журналы. Кроме того, Викниксор обещал оказывать содействие журналистам канцелярскими принадлежностями и в подтверждение своих слов в тот же день выдал Янкелю краски и бумагу.
Щедрость Викниксора удивила и ободрила ребят, и уже на следующее утро появились три новых журнала: «Всходы», «Вестник техники» и «Клоун». «Всходы» Воробья мало чем отличались от Горбушкиных «Зорь», разве лишь тем, что ошибок было меньше. «Клоун» оказался интересен только для педагогов, так как издавал его самый ленивый и неразвитой четвертоотделенец Пьер, вечно находившийся в состоянии оцепенения и оживлявшийся лишь три раза в день — за обеденным столом. Когда педагоги узнали, что Пьер — Соколов — издает журнал, они пришли удостовериться, удивленно осмотрели сопевшую, склоненную над бумагой голову парня и задали, не без робости, несколько наводящих вопросов:
— Соколов! Ты что это делаешь?
Соколов важно надулся и отвечал, не поднимая головы:
— Журнал.
— Что журнал?
— Издаю.
— А как он называться будет?
— «Клоун».
— А почему «Клоун»?
Тут Пьер окончательно выдохся и на этот вопрос, как и на все последующие, ответить уже не мог.
Третий журнал, «Вестник техники», поразил всех. По Шкиде пошли толки и догадки:
— Что за «Вестник техники»?
— Кому он нужен?
— Мы же не занимаемся техникой.
— Зачем он нам?
Недоумевающих нашлось много, и самым удивительным казалось то, что «Вестник техники» издает Ленька Пантелеев, человек, никакого отношения к технике не имеющий. Думали, что это какая-нибудь шутка, розыгрыш, ждали, что скоро под этим туманным названием появится еще один конкурент «Комара». Шкидцы готовы были посмеяться над новыми стихотворными произведениями именитого сатирика, ждали и новых «Злободневных частушек», но самое смешное заключалось в том, что журнал действительно от начала до конца был посвящен технике. Журнал вышел и быстро завоевал популярность у читателей, хотя в нем не было ни частушек, ни стихов, ни рассказов, ни солидных профессорских статей о суде в Древней Руси. Редактор «Вестника техники» оказался неплохим журналистом. Он понял, что читательский рынок в Шкиде забит литературно-художественными изданиями, что беллетристикой читателя уже не проймешь, — и решил искать новый тип журнала. Его собственные познания в технике ограничивались умением свинтить электрическую лампочку на чужой лестнице, но зато он догадался привлечь к журналу тех ребят, которые интересовались техническими и научными вопросами, и таких, которые получали «пятерки» по физике. В первом номере «Вестника техники» были напечатаны статьи «Как самому провести электричество», «Техника Великого немого», «Будущее радио». В отдел «Смеси» издатель переписал из старых и новых журналов всякую занимательную всячину. А на последних страницах расположился отдел «Наука и техника в Шкиде», где среди прочего скромно притулилась заметка следующего содержания:
Деревянные клише
Г. Черных и Л. Пантелеев изобрели новый легкий способ изготовления клише для постоянных заголовков и виньеток из дерева. Способ прост и доступен каждому. Берется гладкая деревянная дощечка, и на ней ножом вырезается нужная фигура, затем ее смазывают чернилами и печатают. Новые клише уже с успехом применяются для заголовков в издательстве «Комар» и для объявлений в нашем журнале.
Количество журналов с шести подскочило до девяти, но эпидемия журналистики еще не кончилась, она только начиналась.
* * *
Из четвертого отделения зараза уже просочилась в третье. Следом за старшими потянулись и младшие. Устинович начал издавать первый крупный журнал третьего отделения — «Медвежонок». Горячка охватила и остальных его одноклассников. Скоро третье отделение имело целый ряд журналов, из которых особенно выделялись «Звезда», «Красная заря», «Туман» и «Вестник».
Наступила очередь второго отделения. Эпидемия распространялась. Малышам понравилась затея старших, и скоро весь второй класс неутомимых бузовиков и драчунов засел за изготовление журналов. К длинному списку выходящих органов прибавился ряд новых названий: «Маяк», «Красный школьник», «Летопись». Когда об этом узнали в четвертом отделении, кто-то пошутил:
— Теперь не хватает только, чтобы еще и в первом отделении взялись за журналы.
Шутка оказалась пророческой. Через пару дней маленький Кузя принес старшим показать свой журнал «Гриб» и рассказал, что у них уже издаются журналы «Солнышко», «Мухомор», «Красное знамя».
Вдобавок ко всему педсовет вынес постановление об издании в каждом классе одного официального классного журнала — дневника.
Республика Шкид все делала стихийно, нервно, порывисто. Запоем бузили, запоем учились и так же, запоем, взялись за издание журналов.
Сначала все шло хорошо. Воспитатели были довольны.
Не шумели по окончании уроков воспитанники, никто не носился по залу, никто не катался на дверях и на перилах, не дрался и не бузил.
Отзвенит звонок, но парты остаются по-прежнему занятыми, только крышки хлопают да изрезанные черные доски дрожат.
Ученики сидят скромно, разговаривают шепотом.
В классе тихо. Только перья поскрипывают да шелестят бумажные листки.
Десятки голов склонились над партами. Творят и печатают, рисуют и пишут.
Это готовятся журналы.
Зараза заползла во все уголки.
Журналов стало так много, что не находится уже читателей на них. Все пишут — читать некогда. Но каждому лестно, чтобы его журнал читали. Каждый старается сделать свои журнал поярче, позаманчивее. Для этого требуется не только талант, но и время. А времени не хватает, поэтому издательская деятельность не прекращается и во время уроков.
* * *
Звенит звонок. В четвертый класс входит Сашкец, но его появление остается незамеченным. Сашкец разгневан. Он не любит, когда его предмет — историю — не учат.
— Класс, встать! — гремит голос дяди Саши.
Класс, хлопая крышками парт, поднимается. Лица у ребят такие, словно их только что разбудили.
— Класс, садись! Убрать со столов бумагу и прочее лишнее и не относящееся к предмету.
Сашкец садится за стол, раскладывает книги, потом вскидывает вверх голову и, проведя рукой по намечающейся повыше лба лысине, испытующе осматривает застывшие фигуры учеников.
— Сегодня мы кратко вспомним пройденное. Пускай нам Черных расскажет, что он знает про Ивана Грозного.
Но Черных не слышит. Он усердно работает над очередным номером «Комара». До истории ли Янкелю? Сашкец замечает его склоненную над партой голову и уже сурово окрикивает:
— Черных!
— Что, дядя Саша? — спохватывается тот.
— Расскажи про Ивана Грозного. Я прошлый раз вам обстоятельно все повторил, поэтому вы должны знать.
Но Янкель вспоминает только, что и прошлый раз он писал «Комара». Надо вывертываться.
— Дядя Саша, я плохо помню.
— Не дури.
— Честное слово. Знаю только, что он кошек в окно швырял, а больше не запомнил.
Сашкец удручен.
— Садись, — бросает он хмуро, потом идет к Офенбаху и застает того на месте преступления.
— Ты что делаешь?
— Пишу, — невозмутимым басом отвечает Купец.
— Покажи.
— Да-а. А вы отнимете.
— Покажи, тебе говорят!
Купец с гордой улыбкой вытаскивает сырой от акварельных красок номер «Пулемета».
— Вот. Журнал свой пишу.
Сашкец в ярости порывается отнять журнал и, не справившись с Купцом, ограничивается звонкой фразой:
— Я тебя запишу в «Летопись» за то, что занимаешься посторонними делами в классе.
Он идет к учительскому столу, но, пока идет, замечает, что то же самое происходит и на остальных партах. Тогда халдей пускается на крайность.
— Ребята, я запишу весь класс за невнимательное отношение к уроку.
Однако и эта, сильная в обычные дни, угроза на этот раз не действует. Урок тянется нудно и вяло. Ученики отвечают невпопад или вовсе не отвечают. После звонка Сашкец в канцелярии жалуется:
— Невозможно работать. Эти журналы всю дисциплину срывают!
А в классе кавардак.
В одном конце Японец ругается с Цыганом за право обладания художником Янкелем. Янкель должен нарисовать картину Японцу для «Вперед», то же самое просит сделать и Цыган, который выпускает «Альманах лучших произведений Шкиды».
В другом углу слышен визг поэта Финкельштейна. Это Купец собирает материал для своего «Пулемета».
— Дашь стишки? — рычит он. — Дашь или нет?
— Нету у меня стихов, — защищается Костя.
— Врешь, есть! Не дашь, буду мучить, Костенька!
— Не надо, Купа. Больно.
— А дашь стихи?
— Дам, дам…
— Ну то-то.
Купец, удовлетворенный, отпускает Финкельштейна и наседает на Янкеля.
— Дашь рассказ или нет?
Опять писк:
— Занят!
— Дашь или нет?
— Дам!
Купца бросили все сотрудники, вот он и придумал этот простой способ выжимания материала.
У окошка, зарывшись в «Красную газету», сидит Пантелеев. Он мучится, он хочет сделать свой «Вестник техники» настоящим журналом. Для этого все налицо, но нет объявлений, а для объявлений он оставил обложку. Ленька уже обегал все журналы, собрал несколько объявлений, но этого мало, остаются еще два уголка.
— Эх! — сокрушенно вздыхает он. — Тут бы петитом или нонпарелью парочку штучек пустить — и ладно.
Вдруг он находит материал в «Красной газете» и мгновение спустя уже выводит: «Требуются пишмашинистки в правление АРА…»
В эту минуту в класс врывается маленький Кузя из первого отделения и прямо направляется к Янкелю.
— Ну? — вопросительно смотрит тот, отрываясь от рисования.
Кузя возбужденно говорит:
— Согласен!
— Идет, — коротко отвечает Черных. Оба летят в первое отделение. Там кучка любопытных уже дожидается их.
— Значит, как уговорились, — говорит Янкель. — Поэму на шестьдесят строк я вам напишу сейчас, а нож перочинный вы мне отдаете по сдаче материала. Идет?
— Идет, идет, — соглашаются малыши.
Янкель садится и с места в карьер начинает писать поэму для «Мухомора».
Писать я начинаю, В башке бедлам и шум. Писать о чем — не знаю, Но все же напишу…Перо бегает по бумаге, и строчки появляются одна за другой.
Первоклассники довольны, что и у них сотрудничают видные силы. Правда, поэма стоила перочинного ножа, который перешел в виде гонорара в карман Янкеля, но видное имя что-нибудь да значит для журнала!
Через полчаса Янкель уже выполнил задание. Поэма в шестьдесят строк сдана редактору, а именитый литератор мчится дорисовывать рисунок.
Тихо в школе, никто не бегает в залах, никто не катается на дверях и перилах, никто не дерется, все заняты делом.
* * *
Три месяца школа горела одним стремлением — выпускать, выпускать и выпускать журналы. Три месяца изо дня в день исписывались чистые листы бумаги четкими шрифтами, письменной прописью и безграмотными каракулями.
У каждого журнала свое лицо.
Один редактор помещает рассказ в таком стиле:
МЕДВЕДЬ
Рассказ
Была холодная ночь. Вокруг свистала вьюга. Красноармеец Иван Захаров стоял на посту. Было холодно. Вдруг перед Иваном набежал медведь — и прямо к нему. Иван хотел убежать, но он вспомнил о врагах, которые могут сжечь склады с патронами. Он остался. Медведь подбежал близко, но Иван вынул спички и стал зажигать их, а медведь испугался и стоял, боясь подойти к огню. А утром медведь убежал, а Иван спас склады.
Рассказ написал Кузьмин.
А другой редактор и поэт пишет так:
Я смотрю на мимозы, Я вздыхаю душистые розы, Взор очей мой тупеет, Предо мной все темно, Солнце греет, Природу ласкает. Как люблю я тебя С твоим взором.У третьего редактора совсем другие настроения:
Грянь, набат громозвонный, Грянь сильней. Слушай, люд миллионный, Песню дней. Крепче стой, пролетарский Фабрик край, Потрудись ты, бунтарский, В Первый май. Пусть звенит и гремит Молот твой. Праздник Май гимн творит Трудовой.Три месяца бесновалась республика Шкид, потом горячка стала постепенно утихать: как звезды на утренней заре, гасли один за другим «Мухоморы», «Клоуны», «Факелы», «Всходы» и другие газеты и журналы. Ребята устали. Викниксор вовремя подсказал им хорошую идею: пора издавать большую общешкольную стенную газету. И вот появляется «Горчица», здоровая, крепкая ученическая газета, где материал собран со всей школы, со всех отделений, где пишет не один редактор, а пятнадцать — двадцать корреспондентов.
Из шестидесяти изданий остается четыре.
Игра замирает, давая место серьезной работе, а от прежнего увлечения остается след в школьном музее, в виде полного комплекта всех изданий.
«Дзе, Кальмот и Ко»
Грузинский князь Георгий Джапаридзе. — Личное дело Михаила Королева. — Корыстный характер. — Колониальный спекулянт. — Таинственный узелок и балалайка, — Талон №234. — Дзе и Кальмот. — Жвачный адмирал. — Голый барин. — Кубышка.
Четверка пришла с Сергиевской. Сергиевская была интернатом с дурной славой. Попасть на Сергиевскую считалось несчастьем.
Там в интернате царила железная казарменная дисциплина… Воспитанники сидели в душных комнатах и гуляли редко, да и то лишь с надзирателями. Наказания за проступки, придуманные завом, не поддаются описанию. Одно из них было такое.
Воспитанника, совершенно нагого, сажали в темный карцер, который по приказу изобретательного садиста был превращен в уборную. Наказанный просиживал в карцере без хлеба и воды по три, по четыре дня, валялся в нечистотах, задыхался в скверных испарениях.
Сергиевка так прославилась, что на нее обратили внимание судебные власти.
После громкого и скандального процесса интернат расформировали. Находившихся в нем подростков распихали по разным приютам.
Четверка попала в Шкиду.
Самый старший, Джапаридзе, — сын грузинского князя, морского офицера.
У Джапаридзе типичное грузинское лицо: крупный орлиный нос, оттопыренные уши и белоснежные неровные зубы.
Детство свое Джапаридзе, по семейной традиции, должен был провести в корпусе. Там он почти два года учился искусству командовать и хорошим манерам. Корпус привил ему любовь к военной выправке, чистоте костюма, спартанству. Но корпус же изломал его душу, сделал его лживым, скрытным и обманщиком.
Корпус в семнадцатом году закрыли, кадетов попросили выйти вон. Джапаридзе пожил дома, проворовался и пошел скитаться по интернатам и детдомам. Вышибали из одного интерната — он шел в другой. Так докатился до Сергиевской. На Сергиевской жил два года и, издерганный, уставший в пятнадцать лет, нашел тихую пристань в республике Шкид.
У Королева голова совершенно круглая, щеки одутловатые и румяные. Полная невысокая фигура, римский нос и слегка курчавая голова придают ему сходство с патрицием времен Юлия Цезаря.
Королев — незаконнорожденный. В анкете «Личного дела Михаила Королева» в графе «Занятие родителей» сказано: «Рожден вне брака».
В старое николаевское время для «рожденных вне брака» был один путь — воспитательный дом, приют и ремесленная школа.
Королев с малых лет скитался по приютам. За это время его «личное дело» разбухло: каждый интернат давал ему свою характеристику…
Одна из них, написанная казенным языком старого педагога-чиновника, характеризует Королева как «мальчика с довольно прочно укрепившейся привычкой лениться». На шести листах пожелтевшей канцелярской бумаги описываются последствия этой «привычки»:
«В результате знания мальчика в настоящее время оказываются столь слабыми, что он не может быть переведен в класс «Д» и ему в возрасте почти пятнадцати лет приходится вторично слушать детский элементарный курс, то есть в то время, когда в нем уже в достаточной степени пробудились физические потребности взрослого человека и окрепла привычка весело и праздно проводить время, на удовлетворение чего, конечно, направлены все помыслы и желания этого мальчика уже теперь».
Дальше описываются способы «удовлетворения потребностей взрослого человека»:
«Сильно развитые в нем привычки курить, лакомиться и т.д. довели его до пути легкого раздобывания средств и предметов потребления для удовлетворения этих потребностей, в силу чего, конечно, он стал постоянно замечаться в проступках корыстного характера: срезывание проводов и других принадлежностей арматуры электрического освещения, отвинчивание дверных ручек, присваивание мелких инструментов в сапожной мастерской и т.п. Все эти предметы направлялись им на базар для обмена на папиросы и лакомства».
Детдом переезжает на дачу, в колонию, где
«надзор и работа над Королевым, естественно, затруднялись и осложнялись по местным условиям. Порочные наклонности этого мальчика проявились самым резким образом: близость деревни, процветание там товарообмена, затруднительность ежеминутного учета наличия воспитанников создавали благоприятную к тому почву. Здесь Королев, вопреки выраженному ему лично запрету, стал постоянно убегать в деревню и возвращаться в школу лишь поздно ночью; в деревне он стал обменивать на продукты находящиеся на руках или похищенные им у товарищей казенные вещи, особенно полотенца; жертвами его спекуляции сделались даже няни, к которым он сумел подладиться под видом желания услужить им: у одной он взял деньги на селедку и принес ей за это стакан молока, уверяя, что селедка оказалась червивая; от другой, получив деньги на табак и папиросы, ничего ей за них не принес, обещая вознаградить ее в будущем, — оказалось, что папиросы выкурил сам…»
За эти деяния Королева из колонии отправили к матери в Питер.
«Но он, пользуясь слабостью матери и подделав отпускной билет, возвращается с откуда-то добытой им балалайкой и узлом тряпья обратно на место расположения колонии; минуя интернат, пробирается в деревню, выменивает привезенные с собой вещи и возвращается затем в Петроград…»
Составлявший характеристику воспитатель-чиновник не знал, где скитался выгнанный за воровство Мишка Королев… Не знал, откуда Мишка добыл балалайку и «узел тряпья»… Королев все лето «гопничал», ездил по железным дорогам с солдатскими эшелонами, направлявшимися на фронт. Там он и слямзил балалайку.
Это характеристика не Сергиевского интерната. Это характеристика нормального детского дома. Заканчивалась она просьбой перевести Королева в «одну из школ для трудных в воспитательном отношении детей в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет».
Просьба была удовлетворена.
Королева переслали в «сивую» Сергиевскую, как неодушевленный предмет, по «сопроводительному талону» №234.
«При сем препровождается Михаил Королев, 14 лет».
И доставивший его на место получил квитанцию «в том, что Королев Михаил, 14 лет, принят».
Сергиевская дала о нем не менее блестящую характеристику:
«Мальчик безусловно способный, но ленивый и иногда просто сонный, способный дремать во время уроков. Дисциплине подчиняется не всегда, очень упрям, порою вызывающе дерзок и груб. В школе пробыл год и за это время несколько раз попадался в крупном и мелком воровстве, взломе замков и в самовольных отлучках из школы. В классе невнимателен, во время уроков занимается посторонними книгами, часто балагурит и этим мешает занятиям других. К товарищам относится хорошо и пользуется у них авторитетом. Со старшими развязно-внимателен или угрюмо-замкнут, считает себя весьма самостоятельным. Курит, замечен не раз в карточной игре. К матери относится внимательно».
Последний аттестат Королеву был дан «Детским обследовательским институтом психоневрологической академии». Отзыв, подписанный профессором психиатрии Грибоедовым, гласит:
«Королев Михаил страдает остро протекающей неврастенией на почве, повидимому, умственного переутомления. Летом страдает бессонницей, не спит совсем по две ночи подряд. Королев нуждается в отдыхе, водо-свето— и воздухолечении, каковое может быть проведено в Воспитательно-клиническом институте для нервных больных».
Но «водо-свето— и воздухолечения» Королев не получил. Сергиевская рассыпалась, и он попал в Шкиду.
В Шкиде две первые характеристики не подтвердились. Королев не воровал, вел себя прилично и бузил в меру. Незаметно было в нем также и следов «умственного переутомления».
Лишь в одном отзыв профессора Грибоедова оказался правильным. Мишка Королев страдал неврастенией и бессонницей.
В эти бессонные ночи он безумствовал, был сам не свой. Ругал воспитателей последними словами, балагурил, плакал… А выспавшись, «опохмелившись», каялся и снова становился «нормально-дефективным».
Таков Королев Михаил.
Третий тип — Старолинский.
Он — низенького роста. Лицо у него совсем детское, а манера одеваться и фигура делают его похожим на старорежимного гимназистика. У Володьки Старолинского отца не было, были лишь мать и отчим, ломовой извозчик. Старолинский тоже неврастеник. Страдает клептоманией; когда находят припадки, ворует что попало; кроме того, он самый неисправимый картежник…
На Сергиевскую Старолинский попал, как и товарищи его, за воровство и в Шкиду пришел со скверной репутацией.
Четвертый — Тихиков.
Сергиевская его характеризует так:
«Тихиков Евгений — мальчик из интеллигентной семьи, круглый сирота, имеет дядю. Тихиков — очень способный мальчик, все усваивает легко и хорошо занимается, но не чужд лени. К товарищам относится хорошо, но держится несколько особняком. Не терпит общих прогулок и всегда под каким-нибудь предлогом старается остаться дома. Со старшими сдержан, возражает всегда логично и почти не грубит. В классе сидит прилично. Курит, порой увлекается карточной игрой, не чужд спекуляции, но вообще мальчик любознательный, отзывчивый, серьезный и несколько замкнутый».
У Тихикова треугольная голова, высокий лоб, коротенькая, нескладная фигура. В Шкиде до конца дней своих Тихиков оставался замкнутым, бузил редко.
Четверка пришла в Шкиду крепко спаянной в неделимый союз. Думали сообща отстаивать свои интересы. Наученные опытом Сергиевской, не ожидали встретить хороший прием.
Но ошиблись. Встретили их очень хорошо, как впрочем, встречали и всех других.
С первого же дня Джапаридзе, как самый развитой, примкнул к «верхам». Узнав, что в Шкиде издаются журналы, он заявил о своем желании издавать журнал «Шахматист». Вероятно, узрев в этом какую-либо для себя выгоду, Янкель заключил с ним сламу.
Королев вошел в сламу с Купцом, а Старолинского взял под свое покровительство Пантелеев.
Лишь один Тихиков остался без друзей закадычных. Вечно сидел он за партой, читал Майн Рида или Жюля Верна и что-то все время жевал… Жевал, пережевывал, отрыгал и икал. За это впоследствии он получил кличку Жвачное.
Четверка принесла с собой старые клички: Королев — Флакончик, Старолинский — Мальчик, Тихиков — Адмирал, а Джапаридзе — кличку непечатную.
В Шкиде лишь одному Тихикову удалось сохранить прозвище Адмирал, остальных переименовали в первый же день их прихода.
— Джапаридзе — слишком длинно, — заявил Японец. — А похабных кличек мы не даем. Поэтому назовем тебя просто Дзе.
— Ваше дело, — согласился грузин, — Дзе так Дзе.
Старолинского тот же Японец назвал почему-то Голым барином. Звали его впоследствии Голый барин, Барин, Голый, и просто Голенький.
Королева прозвали Кальмотом за то, что он вместо «кусок» говорил «кальмот»:
— Дай мне кальмот хлебца.
Или:
— Одолжи кальмотик сахарина.
Одновременно с Сергиевской четверкой пришел в Шкиду и Кубышка, бесшумный человечек с пухлым лицом и туманным прошлым.
Саша Пыльников
Косталмед, действует. — На гимнастику, живо! — Исцеление прокаженных. — «Альте камераден». — Мюллеровская гимнастика. — Манна небесная на классной печке. — Парень с бабьим лицом. — Туфля. — Жест налетчика. — Недотыкомка.
Прозвенел звонок, кончилась перемена. В класс четвертого отделения вошел Косталмед, он же Костец.
— На гимнастику, живо!
Ребята нехотя поплелись из класса.
— Живо! — подгонял Костец, постукивая круглой полированной палочкой.
Когда все вышли из класса, за партами остались сидеть Японец и Янкель.
— А вы что? — подняв брови, спросил Костец.
— Не можем, — скривив лицо, проговорил Японец. — У нас ноги болят.
Больные шкидцы по приказанию Викниксора освобождались от гимнастики.
— Покажите, — сказал Костец.
Японец, прихрамывая, подошел к воспитателю и поднял босую ногу. Нога на пятке пожелтела, вздулась, и в самом центре образовалось отвратительное на вид нагноение.
— Нарыв в последней стадии, — стонущим голосом отрекомендовал Японец. — В уборную еле хожу, не только что на гимнастику.
— Ладно, оставайся, — сказал Костец. — А ты? — обратился он к Янкелю.
Янкель чуть ли не на четвереньках подполз к халдею.
— Сил нет, — прохрипел он. — Замучила, чертова гадина.
Он загнул брюки. На изгибе колена и дальше к бедру проходил страшный, красный с синеватыми прожилками шрам.
— Где это тебя угораздило? — поморщившись, спросил Костец.
— Дрова пилил, — ответил Янкель. — Пилой. Ходить не могу, дядя Костя, тем более упражнения делать.
— Оставайся, — согласился Костец и вышел из класса.
Когда он вышел, Янкель, плотно закрыв за ним дверь, сказал:
— Ну, брат, сейчас, пожалуй, можно и вылечиться.
С этими словами он подошел к своей парте, загнул брюки и, помусолив ладонь, одним движением руки смыл страшную рану.
То же самое сделал и Японец.
Исцелившись, оба уселись за парты. Японец вынул книгу, а Янкель — начатый журнал.
Этот способ отлынивания от гимнастики был придуман Янкелем; он же, обладая способностями рисовальщика, художественно разрисовывал, за небольшую плату, язвы, раны, опухоли и прочее.
Костец верил, что эти болезни — настоящие. И сейчас, когда воспитатель поднимался наверх в гимнастический зал, его душа под грубой казарменной оболочкой халдея была преисполнена состраданием к несчастным мученикам.
А в гимнастическом зале уже собрались ребята. Когда вошел Костец, они визжали, возились и слонялись без дела по большому залу.
— Ста-новись! — закричал Костец.
Ребята зашевелились, как муравьи, и в конце концов выстроились по ранжиру в прямую линию.
Первым с правого фланга стоял Купец, за ним Цыган, Джапаридзе и Пантелеев. За Пантелеевым обычно становился Янкель, сейчас же место оставалось свободным, и Костец скомандовал:
— Сомкнись!
Шеренга сомкнулась.
— Равнение на… пра-во!
Все головы, за исключением головы Воробья, повернулись в правую сторону, Воробей же задумался и прослушал команду.
— Воробьев, выйди из строя, — приказал Косталмед.
Воробей вышел.
— Имеешь запись в «Летопись», — сообщил Костец и добавил: — Стань на место.
Добившись, чтобы шеренга выстроилась в идеально прямую линию, Костец повернул ее направо.
Третьеклассник Бессовестин, хорошо игравший на рояле и благодаря этому плохо учившийся, уселся за пианино.
— Шагом марш! — скомандовал Костец.
Бессовестин заиграл старинный марш «Альте камераден», и под звуки марша три десятка босых ног заходили вдоль стен зала.
Шли гуськом. Впереди выступал Купец: шел он лучше всех, имел выправку, полученную еще в корпусе. Не успевая в других предметах, Купец страстно любил гимнастику.
Остальные шли не так молодцевато, лишь Пантелеев, Дзе и Цыган подделывались под Купца, хотя и не совсем удачно. Зато Воробей, получивший запись в «Летопись», бузил. Он шел не в ногу, растягивал интервалы и, очутившись за спиной Костеца, показывал ему кукиш или язык.
— Левой, левой, — командовал Костец, отстукивая такт полированной палочкой. — Левой, левой. Раз, два, раз, два…
Осеннее солнце тускло отражалось в паркетных квадратах и белыми пятнышками бегало на выкрашенных под мрамор стенах…
— На-а гимнастику… выходи!
Купец, дойдя до середины стены, круто повернул налево.
У противоположной стены шеренга разошлась через одного в разные стороны и сошлась уже парами, а затем четверками.
— Стой! Отделение, разом-кнись!
Отделение разомкнулось.
Ребята расположились на квадратах паркета, как фигуры на шахматной доске.
— Вольно!
Купец выставил ногу вперед, руки заложил за спину. Остальные стали как попало. Большинство принялось подтягивать спустившиеся во время маршировки брюки, поправлять ремни, сморкаться и кашлять.
— Смирно! Первое упражнение! На-чи-най!
Бессовестин заиграл вальс.
Под такт костецовской палочки ребята принялись выделывать сокольские упражнения, потом мюллеровские упражнения, потом шведскую гимнастику.
* * *
— Шамать хотца, — сказал Японец, захлопнув книгу.
Янкель перевел взгляд с лошади, которую он рисовал, на Японца и ответил:
— Да-с, пожрать бы не мешало.
— У тебя нет?
Янкель махнул рукой.
— В четверг-то… Было бы, брат, так давно бы нажрался.
Он уныло заглянул в пустой ящик парты, потом пошманал по чужим партам, — везде было пусто.
— Хоть бы корочку где найти.
Вдруг Японец хлопнул себя по лбу.
— Идея! Помнишь, Курочка рассказывал, что у них в классе, на печке…
Янкель вскочил.
— И правда, идея!..
Оба подскочили к печке и взглянули наверх.
— Эх, черт, — вздохнул Янкель, — как бы туда залезть?
— Вали, подсади меня. Я тебе на плечу стану.
— Идет.
Янкель нагнулся и уперся руками в колени. Японец взобрался к нему на плечи.
— Еще немного поднимись.
Янкель стал на цыпочки.
— Хватит!
Японец уцепился руками за карниз печки и заглянул в пыльное углубление.
— Ну как? — спросил Янкель, разглядывая грязный пол.
Японец минуту копошился, потом раздался радостный возглас:
— Есть!
— Что?
— Булка белая… еще булка… кусок сахару… хлеб… Да тут целый склад огрызков.
— Вали, кидай!
На пол упало что-то тяжелое, твердое как камень. Потом посыпался каменный дождь…
Посыпались заплесневелые, окаменевшие остатки завтраков, которые сытые ученики коммерческого училища забрасывали когда-то на печку. Последний огрызок — булка с прилипшим к ней и затвердевшим, как каменный уголь, куском колбасы — ударился о пол. Японец уже собирался спрыгнуть с Янкелевых плеч, когда раздался окрик:
— Это что такое?!
Янкель от неожиданности вздрогнул и опустил руки. Пирамида рухнула. В дверях класса стоял Викниксор. Рядом с ним стоял парнишка лет пятнадцати с широким бабьим лицом, торчащими в стороны жесткими волосами, одетый в серую куртку и подпоясанный ремнем с серебряной гимназической пряжкой.
— Что это такое? — повторил Викниксор. — Где класс?
— На гимнастике, — тихо ответил Янкель.
— А вы что?
— Ноги болят, — чуть ли не шепотом проговорил Янкель.
Викниксор нахмурился.
— Ноги болят? Вот как… А на печку зачем лазили? Лечиться?
Противники мюллеровских упражнений и шведской гимнастики молчали.
— Оба в пятом разряде, — объявил Викниксор. — А сейчас марш наверх.
Товарищи в сопровождении Викниксора и незнакомца с бабьим лицом поднялись наверх. В гимнастическом зале ребята опять маршировали. Бессовестин играл марш на мотив известной песни:
По улицам ходила Большая крокодила, Она, она Голодная была.При появлении Викниксора Костец скомандовал:
— Стой! Смирно!
Ребята остановились. Викниксор подошел к Костецу и громко спросил:
— Почему Черных и Еонин оставались в классе?
— Они больны, Виктор Николаевич, — ответил воспитатель.
Викниксор нахмурился.
— Неправда, они совершенно здоровы.
— Не может быть, Виктор Николаевич! Я сам видел…
— А я вам говорю, что они здоровы.
Потом Викниксор повернулся к классу.
— Ребята, Еонин и Черных переводятся в пятый разряд за симуляцию болезни и отлынивание от занятий. Пусть это послужит вам уроком. В следующий раз больные должны представлять удостоверение лекпома.
Янкель и Японец уже стали в строй. У дверей остался стоять незнакомый парнишка в серой куртке.
Викниксор вспомнил о нем и отрекомендовал:
— А это ваш новый товарищ Ельховский Павел… Ельховский, — обратился он к новичку, — стань в ряды.
Новичок смущенно и нерешительно подошел к строю.
— Стань по ранжиру, после Черных, — сказал Костец.
Строй разомкнулся, и Ельховский стал в спину Янкелю. Сзади него оказался Японец.
Викниксор вышел из зала, зачем-то вызвав и Костеца.
— Как тебя зовут, сволочь? — спросил Японец у новенького.
— Почему сволочь? — удивился тот. Голос у него оказался тонким и каким-то необыкновенно писклявым.
— Почему сволочь? — переспросил Японец. — Да потому, что, гадина, мы из-за тебя засыпались. Не приди ты, ничего бы не было.
— Не логично, — пропищал Ельховский. — Я не виноват, что так случилось.
— «Не логично»… А тут изволь в пятом разряде сиди, — вмешался Янкель, не успевший даже подзавернуть хлебных огрызков и предвкушавший удовольствие просидеть без отпуска, а следовательно, и впроголодь, в течение пяти недель.
В зал вошел Костец. Был он хмур и насуплен, — по-видимому, получил от начальства выговор.
— Смирно!
Снова класс заходил вкруговую по залу. Снова из-под пальцев Бессовестина полились звуки марша:
Увидела француза И хвать его за пузо, — Она, она Голодная была.Японец злился. Он чувствовал, что сам виноват в случившемся, но, желая выместить на ком-нибудь злобу, стал преследовать новичка Ельховского. Он наступал новичку на ноги, отчего у того сваливались тряпичные домашние туфли, и украдкой шпынял его кулаком в спину… Ельховский сперва решил не обращать внимания на выходки Японца, но, когда эти выходки стали переходить меру, он запищал:
— Отстань!
Японец еще больше обозлился и с силой наступил на ногу новичка. Ельховский дернул ногой, застежка туфли лопнула, и туфля осталась на полу.
Выходка Японца была бы замечена, и он был бы еще больше наказан, не прозвени в этот самый миг звонок.
Ребята, наблюдавшие еще во время маршировки за преследованием Японцем новичка, обступили Ельховского.
Тот сидел на корточках, склонившись над разорванной туфлей. Лицо его сжалось в гримасу: казалось, что вот-вот он расплачется.
Но он не заплакал. Вместо этого он стал чихать. Чихал он как-то особенно, корчил лицо, жмурился, и звук чоха у него получался какой-то необыкновенно нежный:
— Апсик!..
Чихал он часто, с определенными промежутками. Ребята окружили его и смотрели с недоумением и любопытством.
— Что это с ним? — испуганно спросил Японец.
— Чихает, — ответил Янкель.
— Вижу, что чихает, а зачем чихает?
— Так, должно быть, привычка… наследственность.
— Чихун, — сказал кто-то.
Купец нагнулся и больно щелкнул Ельховского в затылок. Тогда выступил Ленька Пантелеев.
— Чего издеваетесь над человеком? — сказал он. — Тебя небось, Купец, не мучили, когда новичком был?!
Класс расхохотался.
— И смешного ничего нет, — покраснев, заявил Пантелеев. — Нечего хвастаться своей гуманностью, хорошим отношением к новичкам, когда сами их бьете… Разве не правда?
Никто не ответил. Все молчали, молчание же, как известно, служит знаком согласия.
Ельховский тем временем напялил искалеченную туфлю, поднялся, чихнул в последний раз и, тоскливо оглядев ребят, остановил признательный взгляд на Пантелееве.
В коридоре, когда ребята расходились по классам, Пантелеев подошел к новичку.
— Будем сламщиками, — сказал он. — Сламщиками у нас зовут друзей. Будем друзьями… Идет?
Ельховский не ответил, только кивнул головой. Пантелеев протянул сламщику руку, тот крепко пожал ее.
* * *
Панька Ельховский родился в Смоленске.
Панькин отец, учитель начальной городской школы, принадлежал к числу тех людей, которых не любит начальство. Начальство не любит людей слишком умных, замкнутых и свободомыслящих. Панькин отец был умный и свободомыслящий: он принадлежал к местному социал-демократическому кружку. За это он был отстранен от должности учителя, проще сказать — изгнан. Он целиком отдал себя революционному делу, семья же голодала, дети росли. Отец искал работы, но не мог найти ее. Мать стирала в господских домах, мыла полы. Детство Паньки — нерадостное детство.
В 1917 году Панькиного отца убили на улице казаки. Панька жил с матерью, потом мать отдала его в приют; там он пробыл до 1921 года. Потом старший брат Паньки, краском, поехал в Питер в Военную академию, а через полгода выписал в Петроград и семью — мать, сестру и братишку Паньку. Панька пожил с месяц, не больше, дома и забузил, забузил отчаянно, так как был истериком. Брат попробовал воздействовать на него сам — не помогло; тогда он обратился в отдел народного образования. И Панька попал в Шкиду.
Шкида его встретила недружелюбно, но потом, узнав поближе, полюбила крепко, пожалуй крепче, чем кого-либо. Он был парень добрый, необыкновенно отзывчивый, по-шкидски честный, а главное — любил бузить. Буза же была, как известно, культом поклонения шкидцев.
На другой день после прихода Ельховского Шкида должна была совершить еженедельное паломничество в баню. Все четыре отделения выстроились в зале, устроили перекличку. Не хватало одного новичка. На его розыски был послан Алникпоп. Через минуту он вернулся и, подойдя к Викниксору, что-то сказал ему. Викниксор покраснел, сорвался с места и побежал в четвертый класс. Панька Ельховский сидел на новом своем месте, за партой Пантелеева, и читал книгу. При входе Викниксора он даже не поднял головы. Викниксор мгновение стоял ошеломленный, потом закричал:
— Встать!
Ельховский посмотрел на него, отложил книгу, но не встал.
— Встать, тебе говорят! — уже заревел завшколой.
— Чего вы кричите-то? — не повышая голоса, проговорил Панька и встал, держась руками за крышку парты.
— Ты почему не идешь наверх? — гневно спросил Викниксор, подходя к Панькиной парте. Тот, не двинувшись с места, ответил:
— А что мне там делать?
— Что делать? В баню идти, вот что. Все уже собрались, а ты тут прохлаждаешься. Не думай, что ты здесь можешь делать что хочешь… Пожалуйста, не рассуждай, а марш наверх!
— Ничего подобного, — ответил Панька и, сев за парту, углубился в чтение.
Викниксор, как тигр, кинулся к нему и впился руками в плечи.
— Нет, ты пойдешь, скотина! — заревел он и вытащил Паньку из-за парты.
Панька стал отбиваться. На шум сбежались воспитатели и ребята.
— Я тебе покажу!.. — кряхтел Викниксор и пытался вытолкнуть Паньку в коридор. Тот вырвался красный, взлохмаченный.
— Подлец! — заорал он, потом сморщил лицо и заплакал.
Викниксор, тоже красный и помятый, поднял голову и, отдуваясь, прошипел:
— Пятый разряд!
Потом вышел из класса.
Этот случай создал славу новичку. Никто не понимал, почему он отказался идти в баню и забузил, но это, по шкидскому мнению, и было верхом геройства: бузить ради бузы. С этого момента никто уже не думал обижать его, хотя обидеть его мог всякий. Был он мягкотел и лишь в редких, неизвестно чем вызванных случаях делался вспыльчив и груб, да и то лишь по отношению к начальству.
В те дни четвертое отделение увлекалось книгами Федора Сологуба. В одном из романов этого некогда известного писателя выведен женоподобный мальчик Саша Пыльников. Японец указал товарищам на сходство Ельховского с этим типом. Паньку прозвали Сашей Пыльниковым, взамен утвердившегося было прозвища Чихун…
Впоследствии звали его еще и Недотыкомкой, Бебэ, Почтелем, но обычно звали Сашкой. Многие даже не знали, что настоящее его имя — Павел.
Улиганштадт
Лингвистическая справка. — О гостинице на Дуврском шоссе. — Улигания. — Географическое положение. — Политический строй. — Диктатор Гениальный. — Наркомбуз. — Мирная жизнь империи. — Война. — Мобилизация. — Волнения в колониях. — Летучий отряд. — Революция. — Амнистия. — СССР в Шкиде.
Слово «хулиган» — происхождения английского. В старой Англии, как говорит легенда, в начале девятнадцатого века проживало семейство Хулигэн. Владели эти Хулигэны постоялым двором на Дуврском шоссе. На постоялом дворе останавливались лорды, графы, купцы с континента и просто заезжие, люди. Легенда рассказывает страшную вещь: ни один человек, приютившийся под кровлей гостиницы Хулигэн, не вышел оттуда. Семейство Хулигэн заманивало гостей, грабило и убивало их.
И когда раскрылась страшная тайна постоялого двора, когда королевский суд, пропрев в горностаевых мантиях восемь суток подряд, вынес семье убийц смертный приговор, — имя Хулигэн стало нарицательным. Хулигэнами стали называть убийц, воров и поджигателей.
Попав в Россию, слово «хулигэн» видоизменилось в «хулигана».
А в Шкиде рыжая немка Эланлюм, обозлившись на бузил-старшеклассников, кричала, по немецкой привычке проглатывая букву «х»:
— Улиганы!
И стало в Шкиде прозвище «улиган» таким же местным и таким же почетным, как и «бузовик».
Племя улиган росло и ширилось и в конце концов превратилось в государство Улиганию.
* * *
Столица Улигании — Улиганштадт, сиречь четвертое отделение. Улиганштадт — город большой, по сравнению с прочими. Улицы — проходы между парт — широкие, и названия у них громкие: Бузовская, Волынянская, Улиганская. Главная же улица — Клептоманьевский проспект. На Клептоманьевском проспекте размещены дома — парты — всех городских и государственных деятелей. Там находится особняк диктатора и городского головы Улиганштадта — Купы Купича Гениального. Городской голова живет вместе с секретарем и адъютантом своим, виконтом де Буржелоном, в просторечии Джапаридзе. Министерства, штаб — все помещается на Клептоманьевском проспекте.
Остальные улицы менее шикарны. На них разместились рядовые граждане. В Японском квартале живет японский консул Ео-Нин и прочие японские граждане в лице новичка Нагасаки.
Основание Улиганштадта относится к временам не столь отдаленным. В Шкиде была буза. Бузили все, бузили с жаром, наказания сыпались на головы шкидцев, а они бузили. Четвертое отделение не выбиралось из пятого разряда. Японец однажды сказал:
— Бузить бесцельно не годится. Давайте организуемся и оснуем республику.
Мысль пришлась по вкусу.
Сразу же было организовано новое правительство.
Диктатором назначался могучий Купец-Офенбах. Полномочия его ограничивались Советом Народных Комиссаров. Наркомы были следующие: наркомвоенмор — Янкель, наркомпочтель — Пыльников и наркомбуз — Японец. Диктатор назначил начальником государственной милиции и главкомом колониальных войск Пантелеева. Улигания объявила младшие классы колониями и назвала их: третий класс — Кипчакией, второй — Волынией и первый — Бужландией.
В первый же день основания Улигании диктатор, он же городской голова столицы, созвал пленум Совнаркома. «В его роскошном особняке, — как сообщала местная газета «Известия Улигании», — собрались все сиятельные лица города. Купа Купич торжественно объявил об открытии города и предложил наркомам довести до сведения граждан, что соблюдение порядка и муниципальных правил ложится на ответственность домовладельцев».
В тот же день дома украсились дощечками с номерами и названиями улиц. Общественная жизнь сразу же закипела в молодом государстве.
На второй день наркомбуз Японец, он же Буза Бузич Безобразников, подал в Совнарком проект конституции:
КОНСТИТУЦИЯ
ВСЕСИЛЬНОЙ БУЗОВОЙ ИМПЕРИИ УЛИГАНИИ
Состав империи
1. В состав Империи входят четыре государства: Улигания, Волыния, Кипчакия и Бужландия
2. Государство Улигания является центральным, господствующим, объединяя периферию и давая ей законы и управление.
3. Управление Империей вручается диктатору, наделенному королевскими правами, — его сиятельству Купе Купичу Гениальному. Помощь в управлении диктатору проводится Советом комиссаров и всеми гражданами, назначенными в помощь диктатору им самим. Управление колониями вручается вице-губернаторам, назначенным центральной властью Империи — диктатором и Совнаркомом.
4. Военными силами Империи (государственной милицией, военными частями и колониальными армиями) ведает нарком по военным и морским делам, командование же ими вручается Главштабу в лице главкома и начмила.
5. Религия в Империи не преследуется. Правительство (Совнарком) должно быть клерикальным Культ поклонения Улигании — Буза. Вводится Народный комиссариат Бузы, комиссаром которого назначается потомственный почетный бузовик Буза Бузич Безобразников.
6. Столица Улигании — Улиганштадт. В ней сосредоточиваются все органы управления Империи и центральная военная власть.
7. Национальные права граждан Империи разделяются так: улигане, коренные жители Империи, обладают всеми правами, туземцы колониальных стран им подчинены.
8. Гражданином Улиганштадта может быть всякий, пробывший в нем не менее 48 часов.
9. Все граждане Империи, улигане и жители колоний обязаны бороться с врагами Империи — халдеями. Оказывающий содействие халдеям объявляется изменником и преследуется органами милиции для предания суду диктатора Империи.
10. Также караются законом все выступления и начинания, направленные к свержению или подрыву существующего в Империи строя.
Конституция была принята Совнаркомом и утверждена диктатором. Находившаяся в ведении наркомвоенмора и в то же время книгоиздателя Янкеля газета «Известия Улигании» поместила конституцию на первой полосе. В этом же номере «Известии» был помещен национальный гимн Улигании, утвержденный властями. Его пели на мотив «Гаудеамуса»:
Улиганштадт, Улиган, Смерть несешь ты для полян. Разойдитесь вы, халдеи, Дайте путь нам поскорее, Улигания идет. Мы — империи сыны, Дети Купы-сатаны, Правит нами мудро он, Он — второй Наполеон, Он — глава Улиганштадта. Мы возьмем врагов за хвост, Станет править Школимдост[[40]]. Завоюем все колоньи И халдеев Вавилоньи Всех сожмем мы в свой кулак.Городской голова созвал общее собрание граждан города Улиганштадта и там сказал речь, простую, но трогательную:
— Ребята, то есть граждане. Вот я, диктатор и городская голова, говорю вам… Мы, четвертое отделение, то есть, виноват, Улигания… мы должны все силы свои положить на то, чтобы сделать свой кл… город неприступным для халдеев и прочих врагов. И в то же время сделать его благоустроенным. Приложим свои силы на это благоустройство. Мы, власти, будем вам горячо благодарны… Ей-богу!..
Эта речь была целиком приведена в «Известиях», только последнее выражение «ей-богу» было заменено «ей-бузе».
Речь возымела свое действие: призыв к благоустройству города нашел живой отклик в сердцах как рядовых граждан, так и государственных чиновников. Всем участкам земли, строениям и окружающим местностям были присвоены названия…
Выложенная белым кафелем печка была объявлена Храмом Бузы. Две классные двери были переименованы в арки — одна в Арку Викниксора I, другая в Арку Эланлюм. Городской сад — плевательница — был назван Алникпопией. Это показывает, что при всей ненависти улиган к халдеям они сохранили уважение к выдающимся лицам этого вражеского государства.
В пустом книжном шкафу сосредоточились городская больница, аптека и военный госпиталь. Заведовать этими учреждениями взялся Воробей, поэтому больница и аптека были названы его именем. Другой пустующий шкаф с железной сеткой вместо стекол сделался государственной тюрьмой. Из других учреждений следует отметить певческую капеллу имени Кобчика-Финкельштейна и Народный университет Бузы.
К крану водопровода, неизвестно для каких целей проведенного в класс, начальник милиции Пантелеев приделал плакатик с надписью:
КАНАЛОЛИЗАЦИЯ
Это значило — канализация. Управление канализацией не знали, кому вручить, и вручили Пыльникову — наркомпочтелю.
Жизнь Улигании шла своим чередом, мирная жизнь свободной страны… На классных уроках выражали ярый протест халдеям, устраивали обструкции, получали пятые разряды и изоляторы, а империя цвела.
Однажды «Известия» подняли кампанию за устройство памятника Бузе.
«Стыдно подумать, — говорила газета, — что столица такой могущественной державы, как Улигания, не имеет ни одного памятника. У нас нет даже своего герба».
Эта статья больно уколола наркомбуза Безобразникова. На другой же день в редакцию газеты им были представлены проекты герба и памятника. Рисунок герба изображал разбитое стекло, из которого просовывался толстенный кулак. Под гербом стоял девиз: «In Busa veritas» — «Истина в Бузе». Проект памятника изображал постамент, испещренный лозунгами и мыслями гениальных людей империи. На постаменте стоял громадный кулак.
Проекты пришлись по вкусу властям, герб был утвержден и объявлен государственным, постройку памятника поручили художникам Янкелю, Воробью и Горбушке. Делали они его из бумаги, картона и глины, делали два дня.
На третий день состоялось торжественное открытие памятника. Вот как описывает этот факт имперская пресса в лице «Известий»:
«На площади Бузы собралось все население города, все жители пришли сюда, чтобы отпраздновать этот торжественный момент в истории Империи. Памятник Великой Бузы возвышался среди площади, покрытой холстом, около него стоял караул из представителей высшей военной власти — гг. наркомвоенмора Янкеля и начмила Л. Пантелеева, облаченных в парадную форму. В 6 час. 27 мин. на площадь прибыл его сиятельство диктатор Империи Купа Купич Гениальный. Его несли на носилках два раба из племена бужан. В свите его сиятельства, прибывшей вместе с ним, находились виконт де Буржелон и г. Б. Безобразников. В 7 час. 30 мин. по городскому времени под салют, проведенный местным миллионером г. Башкломом, холст памятника был сорван, и взорам присутствующих представилось прекрасное зрелище. На кубическом пьедестале высился огромный кулак — символ мощи Империи, кулак, так похожий на кулак его сиятельства. Толпы народа кричали «виват» и под дружное пение имперского гимна расходились с площади. Вечером в особняке е. с. Гениального был устроен банкет и концерт с участием капеллы им. Кобчика».
Улигания процветала. Улиганштадт достиг верхов благоустройства и хозяйственного богатства. Муниципалитет готовился к постройке городского театра, когда страшный удар поразил империю.
Улигании была объявлена война, и объявил ее не кто другой, как президент могущественной республики, Халдейской республики Шкид, — Викниксор.
Объявление войны произошло в несколько странной форме. В Улиганштадт вошла секретарша и супруга президента вражеской республики Эланлюм и заявила:
— Кончайте эту волынку. Побузили и хватит.
Конечно, это не означало объявления войны. Это заявление просто указывало, что империя должна сдаться, рассыпаться, погаснуть… Это было хуже войны. Сдаться без боя, умереть, не испробовав вражеского пороха, не лучше, чем погибнуть в борьбе. Улигания приняла вызов и объявила:
— Война до победного конца!
Город украсился национальными флагами (на черном фоне белый кулак), «Известия» протрубили страшную новость.
Был созван экстренный пленум Совнаркома, на котором выступили с горячим призывом к борьбе диктатор и наркомбуз. Решили объявить мобилизацию. В тот же день на улицах города появились листовки-приказы:
ПРИКАЗ №1
Народного комиссара военных и морских дел
Наркомвоенмор сообщает гражданам Империи, что всесильной Империи Улигании объявлена война халдеями.
Улигания должна с честью выйти из этой войны.
Вперед за правое дело Великой Бузы!
В Бузе обретешь ты право свое!
Да здравствует и живет в веках Улиганская Империя! Наркомвоенмор Г. Янкель.
ПРИКАЗ №2
От начальника имперской милиции и главкома колониальных войск
Главное Управление военными силами Империи в лице начмила и главкома, ввиду объявления войны, объявляет мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат все граждане Улигании, как города Улиганштадта, так и городов Кипчакославля, Волынграда и Бужебурга. Явка для регистрации — штаб туземной армии, управляемой имперским наместником.
За неявку к призыву виновные будут подвергаться военно-полевому суду. Начмил и главкомколвойск Пантелеев.
ПРИКАЗ №3
по г. Улиганштадту
От начмила и городского магистрата
Город Улиганштадт объявляется на военном положении. Вход и выход из города допускается лишь по получении пропуска в магистрате у городского головы.
Городской голова К. Гениальный.
Начмил Л, Пантелеев.
Мобилизация в Улиганштадте прошла организованно и без эксцессов. В главный штаб явилось двенадцать человек. Все они были зачислены в списки армии и получили «форму» — картонный значок с гербом империи и бумажный кивер с кокардой, которые изготовлялись на приспособленном для производства военного снаряжения газовом заводе миллионера Башклома.
«Известия», находившиеся на содержании у правительства, дали неверный отчет о ходе мобилизации, превратив двенадцать человек в двенадцать тысяч.
В Улиганштадте мобилизация прошла спокойно, зато в колониях провести призыв было не так легко. Наркомвоенмор Янкель имел с главковерхом Пантелеевым секретное совещание, на котором было решено назначить наместников колониальных государств. Составили список: от Килчакии — Курочка, от Волынии — Баран и от Бужландии — Калина. Список передали диктатору, тот утвердил его. Через наркомпочтель послали телеграммы с вызовом наместников. Наместники прибыли в Улиганштадт одновременно. Диктатор встретил их ласково, устроил угощение из чая с сахарином и черным хлебом и уполномочил их провести мобилизацию и агитировать за военную кампанию на своей родине.
Наместники уехали.
Через некоторое время от них получилось сообщение, что мобилизацию удалось провести не самым лучшим образом.
«В Кипчакии положение с призывом ужасное, — писал наместник Курочка, — мобилизуемые дезертируют из частей или же просто не являются на призыв. Из собранных 23 человек только 10 являются надежными на случай сражения с врагами»
От наместника Барана поступила телеграмма такого же рода:
«Положение аховое Дезертируют почти все призывники. Замечена провокационная работа халдеев»
От Бужландии же наместник писал:
«Прошу меня не считать наместником. Избит».
Такие сообщения мало могли порадовать Улиганию. Но улигане не знали о положении дела в колониях. «Известия» молчали по тайному приказу Совнаркома. Поэтому в Улигании царил бодрый патриотический дух.
Однажды, когда улиганская армия собралась на площади Бузы для прохождения обычной воинской подготовки, туда прибыл наркомвоенмор.
— Друзья, — сказал он, — требуется сформировать отряд для подавления бунта в колониях. Кто пойдет?
Это сообщение ударило как гром, но тем не менее лес рук поднялся. Наркомвоенмор был растроган.
— Не так много, — сказал он, — пяти человек вполне достаточно.
Пять человек получили название Летучего отряда и были под управлением самого главкома Пантелеева отправлены в Бужландию.
Отряд вышел из города вооруженный острыми, отточенными стеклом палками. Вместе с отрядом в Бужландию отправился корреспондент «Известий», наркомпочтель Пыльников. Через полчаса после ухода Летучего отряда в редакцию газеты поступило сообщение, что отряд разбит, но тем не менее удалось запугать бужан и заставить их не выступать на стороне халдеев в случае разгара войны. Вскоре вернулся и самый отряд. У двоих были разбиты носы, у Пантелеева разорвана рубаха и сорван главкомовский значок.
В Совнаркоме состоялось совещание. Постановили наградить всех участников сражения орденами Бузы, а Пантелеева представить в кавалеры ордена Имперской Мощи и произвести в генералы.
Тем временем в соседней Кипчакии дело шло на свой лад. Диктатор Улигании и Совнарком не знали, что назначенный ими наместник Курочка — изменник, что готовится бунт.
* * *
В Улиганштадт вошел Алникпоп.
— По местам. Начинается урок.
— К че-орту!..
— Начнем сражение, — сказал диктатор секретарю де Буржелону, тот передал приказание в Совнарком. Оттуда был спешно послан курьер в колонии с приказом выступать туземным армиям.
В свою очередь начмил собрал гарнизон. Летучий отряд во главе с Пантелеевым подошел к Алникпопу.
— Вы арестованы, — заявил Пантелеев, положив руку на плечо халдея.
— Что-о? — заревел Алникпоп.
— Вы арестованы как халдей, представитель вражеской страны.
Алникпоп пытался выбежать из класса, но отряд окружил его.
В это время за Аркой Викниксора I, переименованной в Арку Войны, показался отряд кипчаков, предводительствуемый Курочкой.
— Марш назад! — закричал Алникпоп.
Отряд из двадцати человек молча прошел в Улиганштадт и выстроился на площади Бузы.
— Смирно, — скомандовал Курочка. Затем в сопровождении одного солдата он прошел во дворец диктатора.
— Имею честь вас арестовать, — заявил он Гениальному.
Тот выпучил глаза.
— Как?
— Вы арестованы!
Могучего быкообразного Купца выволокли на площадь. Там собралось все население города. Курочка вышел на середину площади, взобрался на памятник Бузе, сделанный из двух табуретов, и сказал:
— От имени всей республики Шкид объявляю государственный переворот в империи Улигании. Довольно страна находилась под игом диктатора. Объявляю свободную Советскую Республику.
Улиганская армия пыталась сопротивляться — несколько солдат бросились на Курочку, но кипчакский отряд моментально навел спокойствие в городе. Это показало, что как армия, как физическая сила, Кипчакия была авторитетнее Улигании.
Переворот произошел. Алникпопа отпустили. Все государственные деятели Улигании были арестованы и сидели в государственной тюрьме. Тем временем создавалось новое правительство. Был созван первый Совет народных депутатов, на заседании которого была официально провозглашена Улиганская Свободная Советская Республика. Конституция, пущенная целиком в новой газете «Свободная Улигания», объявляла, что отныне все государства являются самостоятельными и отделяются от бывшей империи. В вышедшем в тот же день втором номере «Свободной Улигании» от имени Совета объявлялась амнистия всем заключенным имперцам.
Большинство рядовых граждан Улиганштадта признало новую власть.
Памятник Бузе был снят.
Затем кипчакская армия оставила город. Улигании было предоставлено право самоопределения.
Уроков, конечно, в этот день не было. Халдеи, напуганные рассказом Алникпопа, боялись заглянуть в четвертое отделение.
* * *
За вечерним чаем Викниксор, мило улыбаясь, заявил:
— Ребята, как мне стало известно, вы играете в гражданскую войну. Я знаю, что это интересная игра, на ней вы учитесь общественной жизни, ото пойдет впрок, когда вы окажетесь за стенами школы. Но все же, в конце концов, увлекаться этим нельзя. Надо учиться. У вас, как я знаю, произошла социальная революция. Поздравляю и предлагаю вам объединиться вместе с «халдеями» в один союз, в Союз Советских Республик. Согласны? Кроме того, в честь такого события объявляю амнистию всем пятиразрядникам.
Громкое «ура» встретило слова Викниксора.
На этом кончилась великая шкидская буза.
Шкида снова перешла с военного положения на мирное. Снова в классах Алникпоп читал русскую историю, Эланлюм — немецкий язык и два раза в неделю Костец, постукивая палочкой, кричал:
— На гимнастику — живо!
Лотерея-аллегри
Асси в классе. — Скука. — Карамзин и очко. — Эврика! — Идея Джапаридзе. — Лотерея-аллегри. — В отпуск. — Шкида моется. — «Оне Механизмус». — Тираж. — Печальный конец. — Казначей-растратчик. — Игорная горячка. — Довольно!
Капли осеннего дождя бьют по стеклу окон — туб-туб-туб-туб.
Три часа дня, а в классе полуваттные лампочки борются с сумерками.
Лекция русского языка. Читает Асси.
Асси — халдей; голова въехала в плечи, он в ватном промасленном пальто. Карманы пальто взбухли… По слухам, в карманах кусочки хлеба, которые Асси собирает на ужин. Голос Асси звучит глухо, неслышно:
— Карамзин… Сентиментализм… Романтизм…
Улигане сидят по партам, но никто не слушает Асси. Японец фальшиво поет:
Асси в классе, А в классе бузаси, В классе бузаси, Бедненький Асси.Кальмот, взгромоздившись с нотами на парту, бубнит:
— Кальмот виндивот виндивампампот, захотел виндивел виндивампампел, хлебца виндивебца виндивампампебца.
В углу Барин и Пантелеев.
— Бей!
— Семь… Дама… Казна!
— Девки!
— Мечи!
Дуются в очко. Никто не слушает Асси.
Скука…
Голос Асси, как из могилы:
— «Бедная Лиза»… Вкусы господствующего класса… Эпоха…
Голос Асси, заикающийся и глухой.
Скука!..
Асси в классе, А в классе бузаси, В классе бузаси, Бедненький Асси.Купец сгреб в охапку Жвачного адмирала.
— Замесить колобок?
Ладонь проезжает по треугольной голове Адмирала, ерошит и без того взъерошенные волосы…
Скучно!..
— «Бедная Лиза». Начало девятнадцатого века… «Пантеон словесности»… «Бедная Лиза»…
Асси в классе, А в классе бузаси, В классе бузаси, Бедненький Асси.— Воробей виндивей виндивампампей, дурак виндивак виндивампампак…
— Бей!
— Картинка… Лафа!
— Ну?
— Очко!..
— Мечи!
— Замесить колобок?
Асси в классе, А в классе…Скука, тоска.
И вдруг голос Джапаридзе:
— Придумал! Ура!
…бузаси.Упала на пол пиковая десятка, ладонь Офенбаха застыла в центре адмиральского треугольника. И голос Асси становится громким и слышным:
— С тысяча семьсот семьдесят четвертого года Николай Михайлович Карамзин предпринял издание «Московского журнала», в коем помещал свои «Письма русского путешественника». С тысяча семьсот девяносто пятого года Николай Михайлович…
— Идея! — закричал опять Джапаридзе.
Тридцать глаз обернулись в его сторону.
— Что?
— Какая?
— А ну, не тяни! Говори!
Джапаридзе ставит вопрос ребром:
— Скучно?
Полтора десятка глоток:
— Скучно.
Обросший бородавками палец Джапаридзе поднимается вверх.
— Лотерея-аллегри.
И снова голос Асси уходит в могилу.
— С тысяча восемьсот третьего года-да… Государства Российского-го… Императорский историограф-раф…
Класс уподобился развороченному муравейнику.
Унылая песня Японца переходит на бешеный темп:
Асси в классе, А в классе бузаси, В классе бузаси, В классе бузаси Асси! Асси…Класс взбесился. Скуки нет — какая скука, если в каждой голове клокочет мысль:
— Лотерея-аллегри!
Долой скуку! Не надо карт, колобков и фальшивого тенора Япошки!
— Даешь лотерею-аллегри!
В дверь класса просовывается рука с колокольчиком. Рука делает ровные движения вверх-вниз, вверх-вниз, колокольчик дребезжит некрасивым, но приятным для слуха звоном.
Асси захлопывает томик истории словесности Солодовникова, голова уходит еще глубже в плечи, руки тонут в разбухших карманах, и Асси — незаметно в общем шуме — выходит из класса.
И сразу же у парты Джапаридзе оказываются Янкель, Пантелеев и Японец.
— Даешь?
— Даешь!
Генеральный совет заседает:
— Ты, я, он и он… Компания. Идет?
— Идет.
— Лотерея-аллегри. Черти! И не додумался никто!
— Прекрасно.
— Лафузовски.
— Симпатично.
— А вещи?
— Какие? Ах, да… Наберем кто что может…
Янкель:
— Я в отпуск пойду, принесу прорву.
— И я, — говорит Пантелеев.
Японец, захваченный идеей, решается на подвиг, на жертву.
— Все. Бумаги сто двадцать листов, карандаши… Все для лотереи-аллегри.
Джапаридзе — автор идеи — кусает губы… Он в пятом разряде и в отпуск идти не может.
— Я дам, что смогу, — говорит он.
Завтра суббота — отпуск. Сегодня день самый скучный в неделе, но скуки нет — класс захвачен идеей, которая, быть может, на долгое время заполнит часы досуга Улигании. И Джапаридзе, гордо расхаживая по классу, поднимая вверх толстый, обросший бородавками палец, говорит:
— Я!
* * *
В году триста шестьдесят пять дней, пятьдесят две недели.
Каждый день каждой недели в Шкиде звонят звонки. Они звонят утром — будят республику, звонят к чаю, к урокам, ко сну… Но лучший звонок, самый приятный для уха шкидца, — это звонок в субботу, по окончании уроков. Кроме конца уроков, он объявляет отпуск.
Обычно кончились уроки — все остаются по классам, на местах; сейчас же Шкида напоминает сумасшедший дом, и притом — буйное отделение.
В классе четвертого отделения кутерьма.
— Мыть полы! — кричит Воробей, староста класса.
И эхом откликается:
— Мыть полы!
— Полы мыть! Кто?
В руках у Воробья алфавитный список класса.
— Один с начала, один с конца: Еонин, Черных, Пантелеев и Офенбах.
— Не согласен!
— Буза!
— Я мыл в прошлый раз!
— К че-орту!
Скульба, пререкания, раздоры…
Пантелеев, Янкель и Купец не имеют желания мыть полы — им в отпуск… Купец тотчас же «откупается», то есть находит себе заместителя.
— Кубышка!..
Пухленький Кубышка — Молотов — вырастает как из-под земли.
— Моешь пол?
— Сколько?
— Четвертка.
— На псул!
— А сколько?
— Фунт.
Отдать фунт хлеба за мытье пола Купцу не улыбается, но желание поскорее попасть в отпуск побеждает.
Купец за фунт хлеба желает получить максимум удовольствия. Здоровенный щелчок по лбу Кубышки:
— Получи в придачу.
Янкель и Пантелеев бесятся.
— Да как же это?.. Ведь в отпуск… А лотерея-аллегри?
Джапаридзе — председатель лотерейной компании — решается:
— Черт с вами!.. Хряйте… Мы с Японцем осилим. Верно?
— Верно!
Лица Пантелеева и Янкеля расцветают.
— Лафа.
По лестнице наверх. В спальне забирают одеяла, постельное белье — и в гардеробную. У гардеробной хвост. Шкидцы, идущие в отпуск, пришли сдать казенное белье и получить пальто и шапки.
— В очередь! В очередь! Куда прете?
— Пошел ты!..
Физическая сила и авторитет старшеклассников берут верх — улиганштадтцы без очереди входят в гардеробную.
Там властвуют Лимкор и Горбушка — гардеробный староста.
— Прими, Горбушенция.
Горбушка преисполнен достоинства.
— Подожди.
Белье сдано, получены пальто и ситцевые шапки, похожие на красноармейские шлемы.
— В халдейскую!
В канцелярии Алникпоп, дежурный халдей, взгромоздив на нос пенсне, важно восседает на инвалидном венском стуле.
— Дядя Саша, в отпуск идем. Напишите билеты.
Халдей внимательно просматривает «Летопись». Янкель и Пантелеев — во втором разряде, пользуются правом отпуска. Он достает из стола бланк и пишет:
«Сим удостоверяется, что воспитанник IV отд. школы СИВ им. Достоевского отпущен в отпуск до понедельника 20 октября сего года».
Формальности окончены, долг гражданина республики исполнен.
— Дежурный, ключ!
И на улицу.
* * *
А Шкида начинает мыться.
Хитроумный Кубышка получил фунт хлеба, а полов не моет. Он поймал первоклассника Кузю.
— Вымой пол.
— Что дашь?
— Хлеба дам.
— Сколько?
— Четвертку.
Молчаливый кивок Кузи завершает сделку. Кубышка идет в класс, усаживается на Янкелеву парту и вынимает из нее недоступные обычно выпуски «Ната Пинкертона» и «Антона Кречета». Он заработал три четверти фунта хлеба и может отдохнуть.
Японец и Дзе, не обладая излишками хлеба, принуждены честно выполнить геройски принятую на себя обязанность.
Идут на кухню. Ведра и тряпки предусмотрительно расхватаны, приходится ждать, пока кто-нибудь кончит мытье.
Получив наконец ведра и наполнив их крутым кипятком, товарищи поднимаются наверх.
Там Аннушка, старшая уборщица, командует и распределяет участки для мытья.
— Вымойте Белый зал, — говорит она.
Еонин и Джапаридзе спускаются вниз и проходят в Белый зал.
Зал большой, — страшно браться за него. По положению надо мыть тщательно, промывать два раза и вытирать паркетные плиты насухо, чтобы не было блеска.
Но улигане, оставшись вдвоем, решают дело иначе.
— Начинай!
Японец берет ведро, нагибает его и бежит по залу. Вода разливается ровными полосками. За Японцем на четвереньках бежит Дзе и растирает воду. Через пять минут паркетный пол темнеет и принимает вид вымытого.
— Готово.
Товарищи усаживаются к окну. Джапаридзе закуривает и, затягиваясь, осторожно пускает дым по стене.
Просидев срок, который нужен для хорошего мытья, идут в канцелярию.
— Дядя Саша, примите зал.
Сашкец идет в зал, близоруко, мельком осматривает пол и возвращается в «халдейскую».
Японец и Дзе идут в класс, растопляют печку и, греясь у яркого огня, болтают о лотерее-аллегри и ждут понедельника.
* * *
В сумраке октябрьского утра Ленька Пантелеев бежал из отпуска в Шкиду. Обутые в рваные «американские» ботинки ноги захлебывались грязью, хлопали по лужам, стучали на неровных плитах тротуаров.
На улицах закипала дневная жизнь, открывались витрины магазинов, и из лавок «Продукты питания» вырывался на улицу запах теплого ситного, кофе и еще чего-то неуловимого, вкусного.
Ленька бежал по улице, боясь опоздать в Шкиду. У Покровки в витрине ювелирного магазина попались часы. Ленька взглянул и похолодел. Пять минут одиннадцатого, а в Шкиду надо было поспеть к первому уроку, к десяти.
Он прибавил ходу и крепче сжал объемистый узел, наполненный вещами, предназначенными для лотереи-аллегри.
Были в нем: «Пошехонская старина» Салтыкова, ржавые коньки, гипсовый бюст Льва Толстого, ломаный будильник, зажигалка и масса безделушек, которые Ленька частью выпросил, частью стянул у сестренки.
— Начались уроки? — спросил Пантелеев, когда ему, запыхавшемуся и усталому, кухонный староста Цыган открыл дверь.
— Начались. — ответил Цыган.
— Давно?
— С полчаса.
«Влип, — подумал Пантелеев. — Какой еще урок, неизвестно… Если Сашкец или Витя, то гибель — пятый разряд!»
Боясь попасться на глаза Викниксору или Эланлюм, он, крадучись, пробрался к классу, прильнул ухом к замочной скважине и прислушался. Сердце его радостно запрыгало. Через дверную щель глухо доносились отрывистые реплики:
— Карамзин… Тысяча восемьсот третий год… Наталья, боярская дочь…
Ленька приоткрыл дверь и спросил:
— Можно?
— Пожалуйста, — ответил Асси, — войдите.
Он был единственный халдей, который называл шкидцев на «вы». Ленька вошел в класс. При виде его, несущего узел, класс загромыхал.
— Ай да налетчик!
— Браво!
— Ура!
Ленька прошел к своей парте, уселся, отдышался и стал развязывать узел. Тотчас же к нему подсели Японец и Джапаридзе.
— Ну, показывай.
Пантелеев выложил на скамейку парты принесенные вещи.
— А Янкель пришел? — спросил он.
— Нет еще, — ответил Японец, перелистывая «Пошехонскую старину».
Парту Пантелеева обступили Воробей, Горбушка и Кальмот.
— Ну, хряйте, хряйте, — прогнал их Ленька, — нечего глазеть. Тут профессиональная тайна.
Любопытные отошли. Ленька засунул вещи в ящик парты, отложив отдельно принесенные продукты: хлеб, сахар, кусок пирога и осьмушку махорки.
В это время в класс ворвался раскрасневшийся и вспотевший Янкель. В руках он нес огромный, перевязанный бечевкой пакет. Улигания встретила его еще более громким «ура».
Янкель бросился на свою парту и, отдуваясь, протянул:
— Фу ты, я-то думал — у нас Гусь Лапчатый, а тут…
Асси, на минуту притихший, бубнил, спрятав голову в плечи:
— Карамзин — выразитель эпохи… Разбирая его произведения в хронологическом порядке, мы…
Затрещал звонок. Асси, не докончив фразы, поднялся и выкатился из классной.
— Компания, сюда! — закричал Японец.
Четверка собралась у пантелеевской парты. Янкель притащил свой пакет и, развернув его, выложил десятка два разных книг, уйму вставочек, статуэток, палитру красок и комплект «Нивы» за 1909 год. Притащил свои вещи к пантелеевской парте и Японец. Дал он сто двадцать листов писчей бумаги, которую копил в течение целого года, и дюжину фаберовских карандашей.
Джапаридзе снял и отдал обмотки. Носить обмотки в Шкиде считалось верхом изящества и франтовства; взнос Джапаридзе поэтому был очень ценен.
Когда все вещи были собраны, Янкель предложил:
— Приступим к технической части. Надо составить каталог.
Стали составлять список вещей. Первым номером записали коньки:
1. Первосортные беговые коньки «Джексон».
Вторым записали обмотки Дзе:
2. Прекрасные суконные обмотки последнего лондонского образца.
Третьим прошел трехсантиметровый бюст Толстого «почти в натуральную величину»…
Дальше оценка вещей стала затруднительна.
Вынули будильник. Будильник оказался лишь пустой жестяной коробкой с циферблатом, но без механизма.
— Идея, — сказал Японец. — Пиши: «Изящные часы-будильник «Ohne Mechanismus».
— Это что значит? — спросил Дзе. — Уж больно звучно.
— Это значит, что часы без механизма… А ребята не поймут — подумают, что фирма «Оне Механизмус».
Потом записали «Полный комплект журнала «Нива» за 1909 год в роскошном коленкоровом переплете», ломаный десертный ножик под громким названием «дамасский кинжал вороненой стали», зажигалку и «Пошехонскую старину».
Затем стали записывать мелочь — статуэтки, карандаши, вставочки. Под конец пустили бумагу:
51. Прекрасная веленевая бумага 5 л.
52 ……………………………
53 ……………………………
Всего набралось 70 номеров.
— Почем же будем продавать билеты? — спросил Пантелеев.
— Я думаю, две порции песку, или полфунта хлеба, или пять копеек золотом, — сказал Японец.
Янкель подсчитал в уме и заявил:
— Невыгодно… Три рубля пятьдесят копеек золотом всего получается. Не окупит дела. Одни коньки два рубля стоят.
— Пустых ведь не будем делать, — сказал Дзе.
— Нет, пустых не надо.
Решили устроить маленькую перетасовку. Вместо пяти листов бумаги написали два листа. Получилось сто тридцать номеров.
Составив каталог, начали изготовлять билеты. Янкель сделал образец:
БИЛЕТ
№1
на право участия в розыгрыше
ЛОТЕРЕИ-АЛЛЕГРИ
Казначей
При помощи Пантелеева и Дзе Янкель отпечатал их сто тридцать штук.
— А кто у нас будет казначеем? — спросил Пантелеев. — Я думаю — Янкель…
— К черту! — заявил Японец. — Лучше Дзе.
Согласились на Дзе. Новоиспеченный казначей принялся подписывать билеты. До вечера работали — описали билеты, наклеивали номерки к вещам и, отгородив кафедрой угол класса, расставляли вещи по полкам пустующего книжного шкафа.
А утром во вторник улигане, явившись после чая в класс, узрели на остове кафедры огромный плакат:
ВНИМАНИЕ!!!
КАЖДЫЙ СОЗНАТЕЛЬНЫЙ
ШКИДЕЦ
МОЖЕТ ВЫИГРАТЬ:
КОНЬКИ «ДЖЕКСОН»,
СУКОННЫЕ ОБМОТКИ,
БУДИЛЬНИК «OHNE MECHANISMUS»
и
массу других полезных и дорогих вещей, если он
приобретет БИЛЕТ на право участия в
ЛОТЕРЕЕ-АЛЛЕГРИ
Билет стоит:
2 песка
1/2 ф. хлеба
5 коп. золотом
Билеты продаются у казначея Тиражной комиссии Г. ДЖАПАРИДЗЕ
ТАМ ЖЕ ПОЛНЫЙ СПИСОК ВЕЩЕЙ
Тиражная Комиссия Еонин, Пантелеев, Джапаридзе и Черных
У плаката собралась огромная толпа. Весть о лотерее облетела всю республику. Сашкецу, пришедшему в четвертое отделение читать лекцию, с трудом удалось разогнать орду кипчаков, волынян и бужан.
На уроках царило возбуждение, и даже Викниксору, читавшему улиганам древнюю историю, трудно было подчинить дисциплине возбужденную массу. После звонка, Викниксор полюбопытствовал, чем взбудоражен класс. Кто-то молча указал на кафедру, кричащую плакатом.
Викниксор, читая плакат, улыбался, прочитав, нахмурился.
— Надо было у меня разрешение взять, а потом уже объявление вешать, — сказал он.
Выскочил Янкель.
— Извините, Виктор Николаич… Не подумали…
— Ну ладно, — добродушно улыбнулся завшколой, — бог с вами… Развлекитесь.
Потом, подумав, вынул из кармана портмоне и сказал:
— Дайте-ка мне на счастье парочку билетов.
Класс дружно загромыхал аплодисментами. Джапаридзе вручил Викниксору два первых билета.
После уроков класс снова заполнился шкидцами. Приходили уже с продуктами: хлебом, сахарным песком, а кто и с деньгами, принесенными из дому. Большинство покупало по одному-два билета, некоторые платили по соглашению с комиссией сахарином, папиросами или чем другим; кухонный староста Громоносцев, обладавший хлебными излишками, ухлопал десять фунтов хлеба, купив двадцать билетов.
— Коньки выиграть хочу, — заявил он. — И обмотки выиграю.
Пришедшего после обеда Асси насильно заставили купить пять билетов. К вечеру было продано сто два билета. Парта Джапаридзе разбухла от скопившихся в ней, на ней и под ней хлеба и сахарного песку. Кроме того, в кармане у Дзе похрустывало лимонов сорок денег.
На другой день вечером в Белом зале должен был состояться тираж.
* * *
В Белом зале собралась вся Шкида.
Посреди зала стоял стол, уставленный разыгрываемыми вещами, рядом другой стол, и на нем ящик со свернутыми в трубочки номерами. Шкида облепила столы и стоящую около них Тиражную комиссию.
— В очередь! — закричал Японец.
Шкида вытянулась в очередь. Первым стал Викниксор, за ним халдеи, потом воспитанники.
— Тираж лотереи-аллегри считаем открытым, — объявил Джапаридзе.
Викниксор, улыбаясь, засунул руку в ящик и вынул два билета. Развернули, оказались номера шесть и шестьдесят девять.
Джапаридзе посмотрел в список:
— Дамасский кинжал вороненой стали и лист бумаги.
Бумагу Викниксор взял, от «кинжала» же отказался, как только взглянул на него.
Потом вынимал билет Сашкец. Вытянул он два листа бумаги. Асси вытянул четыре порции бумаги и книгу «Как разводить опенки в сухой местности». Косталмеду достался карандаш, которым он тотчас же записал расшалившегося в торжественный момент тиража второклассника Рабиндина, носившего прозвище Рабиндранат Тагор.
Потом стали вытягивать билеты воспитанники.
Купец, мечтавший выиграть обмотки, вытянул будильник «оне механизмус». В первый момент он было обрадовался… Но, получив в руки часы и осмотрев их, он пришел в неописуемую ярость.
— Убью! — закричал он. — Аферисты, жулики, мошенники!..
Тираж на время приостановился. Тиражная комиссия, сгрудившись у стены, мелко дрожала, как в лихорадке. Накричавшись, Купец с остервенением бросил «оне механизмус» на пол и вышел из зала.
Тираж возобновился.
Коньки выиграл Якушка, самый крохотный гражданин республики. Обмотки достались Голому Барину.
Тираж подходил к концу, когда в зал ворвался Цыган. Как староста, он был занят на кухне и только что освободился.
— Даешь коньки! — закричал он.
— Уже… готовы, — ответил кто-то.
— Как то есть готовы?
— Выиграны.
— А обмотки?
— Выиграны.
— А, сволочи!.. — закричал Цыган и подскочил к столу с намерением вытащить двадцать билетов.
Но билетов в ящике оказалось лишь двенадцать — восемь штук загадочным образом исчезли.
И все доставшиеся Цыгану билеты оказались барахлом: десять — бумага, один — книжка «Кузьма Крючков» и один — безделушка — слон с отбитым хоботом.
— Сволочи! — закричал Цыган. — Сволочи, мерзавцы!.. Жульничать вздумали!.. Аферу провели!.. Хлеб у людей ограбили!..
Он схватил стол, с силой кинул его на пол и бросился к Тиражной комиссии. Комиссия рассыпалась. Лишь один Янкель, не успевший убежать, прижался к стене. Громоносцев кинулся на него и так избил, что Янкель два часа после этого ходил с завязанной щекой и вспухшими глазами. Но только два часа.
Через два часа Янкель уже разгуливал веселый и бодрый. В Янкелевой голове назревала блестящая, по его мнению, мысль. Он решил возместить убытки, понесенные им от Цыгана. Для этой цели он о чем-то долго шептался с Джапаридзе.
Японец и Пантелеев убирали зал; убрав, пошли в класс. Первое, что поразило их при входе, это лицо Джапаридзе — бледное, искаженное страданием.
— Что такое? Говори! — закричал Японец, почувствовав беду.
— Хлеб, — прошептал Дзе, — хлеб, сахар… все…
— Что?
— Похитили… украли…
— Как… Дочиста?
— Нет… вот кальмот.
Джапаридзе вынул из парты горбушку хлеба фунтов в пять.
Пантелеев и Японец переглянулись и вздохнули.
— А деньги? — спросил Японец.
Дзе на мгновение задумался. Потом вывернул почему-то один правый карман и ответил:
— И деньги тоже украли.
Пантелеев и Японец взяли горбушку хлеба и вышли из класса.
— Ну и сволочи же, — вздохнул Японец.
— Д-да. — поддакнул Пантелеев.
Растратчик Джапаридзе тем временем давал взятку изобретательному Янкелю, или, проще, делился с ним растраченным капиталом — хлебом, сахаром — и лимонами.
Так кончилась первая «лотерея-аллегри».
* * *
Но пример нашел отклик…
Скоро Купец в компании с Цыганом и Воробьем устроили такую же лотерею. Лотерея прошла слабо, но все же дала прибыль. Это послужило поводом к развитию игорного промысла в четвертом отделении.
Новичок Ельховский — Саша Пыльников — придумал новую игру — рулетку, или «колесо фортуны». Пантелеев, имевший по прошлому знакомство с марафетными играми, научил товарищей играть в «кручу-верчу» и в «наперсточек». Четвертое отделение превратилось в настоящий игорный притон. Дошло до того, что не стало хватать игроков, все сделались владельцами «игорных домов». Сидит каждый у своей игры и ждет «клиентов». Наскучит — подойдет к соседу, сыгранет и зовет его к себе… За старшими потянулись и младшие. Игры стали устраивать и в младших отделениях…
Но скоро лотерейная горячка в Шкиде прошла. Потянуло к более разумному времяпрепровождению.
Кончился период бузы, на Шкиду нашло желание учиться.
«Даешь политграмоту»
О комсомоле. — «Даешь политграмоту». — Человек в крагах. — Богородица. — Конституция 1871 года. — В клубах табачных. — Настоящий политграмщик.
Часто улигане спрашивали президента своей республики Викниксора:
— Виктор Николаевич, почему у нас в школе нельзя организовать комсомол? Объясните…
Президент хмурил брови и отвечал, растягивая слова;
— Очень просто… Наша школа дефективная, почти что с тюремным режимом, а в тюрьмах и дефективных детдомах ячейки комсомола организовывать не разрешается…
— Так мы же не бузим!
— Все равно… Пока полного исправления не достигнете, нельзя. Выйдете из школы, равноправными гражданами станете — можете и в комсомол, и в партию записываться.
Вздыхали граждане дефективной республики Шкид и мечтали о днях, когда станут равноправными гражданами другой республики — большой Республики Советов.
А пока занимались политическим самообразованием. Читали Энгельса и Каутского, Ленина и Адама Смита. Некоторое время все шло тихо.
Но вот однажды поднялась буря, Шкида выкинула лозунг: «Даешь политграмоту!»
Послали к Викниксору делегацию.
— Хотим политграмоту как предмет преподавания наряду с прочими — историей, географией и геометрией.
Викниксор почесал бровь и спросил:
— Очень хотите?
— Очень, Виктор Николаевич… И думаем, что это возможно.
— Возможно, да не просто, — сказал он.
— Вы уж нажмите там, где требуется…
— Хорошо, — пообещал Викниксор, — нажму, подумаю и постараюсь устроить.
* * *
Тянулись дни, серые школьные будни. Осень лизала стекла окон дождевыми каплями, и вечерами в трубах печей ветер пел дикие и унылые песни…
В эти дни уставшие от лета и бузы шкидцы искали покоя в учебе, в долгих часах классных уроков и в книгах, толстых и тонких, что выдавала Марья Федоровна — библиотекарша — по вторникам и четвергам.
А политграмота, обещанная Викниксором и не забытая шкидцами, знать о себе ничего не давала; молчал Викниксор, и не знали ребята, хлопочет он или нет.
Но однажды пришла политграмота. Она пришла в образе серого заикающегося человечка. У человечка была бритая узкая голова, френчик синий с висящими нитками вместо пуговиц и на ногах желтые потрескавшиеся краги.
Человек вошел к улиганам в класс и сказал, заикаясь:
— Б-буду у вас читать п-политграмоту.
Дружным «ура» и ладошными всплесками встретила человечка в крагах Улигания. Долгожданная политграмота явилась.
Человечек назвался:
— Виссарион Венедиктович Богородицын.
Это рассмешило.
— Политграмота — и вдруг Богородицын!
— Богородица…
Стал человек в крагах Богородицей с первого же урока в Шкиде.
Начал урок с расспросов:
— Что знаете?
Большинство молчало. Японец же, встав, сказал, шмыгнув носом:
— Порядочно.
— Что есть Ресефесере?
— Российская социальная федеративная республика! — крикнул Воробей.
— Правда, молодец, — похвалил, заикаясь, лектор.
Ребята засмеялись.
— А что есть Совет?
— Власть коммунистическая.
— Правда, — опять сказал халдей.
А Японец, уже переглянувшись с Кобчиком, шептал:
— Липа… Лектор хреновый!
Потом обратился к Богородице:
— Можно вам вопросы задавать? Такая система лучше, я думаю, будет.
— Правда. Задавайте.
Японец, подумав, спросил:
— Когда принята наша конституция?
Сжались брови на узком лбу Богородицы, задумался он… Сразу же поняли все, что и в самом деле «липа» он, что случайно попал в Шкиду и политграмоты сам не знает.
— Конституция? — переспросил он. — А разве вы сами не знаете?
— Знали бы, так не спрашивали.
— Конституция принята в тысяча восемьсот семьдесят первом году в Стокгольме.
Прыснул Японец, прыснули за ним и многие другие.
— А когда Пятый съезд Советов был?
— Ну, уж это-то вы должны знать.
— Не знаем.
— В девятнадцатом году.
— А не в восемнадцатом?
Покраснел Богородица-политграмщик, опустил глаза.
— Знаете, так нечего спрашивать.
— А конституция не на Пятом съезде была принята?
Еще больше покраснел Богородица, съежился весь… Потом выпрямился вдруг.
— Какая конституция?
— Эрэсэфэсэрская.
— Так бы и говорили. Я думал, вы не про эту конституцию говорите, а про первую, что в девятьсот пятом году…
Понятно стало, что Богородица — не политграмота, что снова отходит от Шкиды заветная мечта. Стали бузить, вопросы задавать разные по политграмоте, издеваться.
— Что такое империализм?
— Не знаете?! Всякий ребенок империализм знает. Это — когда император.
— А кто такой Хрусталев-Носарь?
— Генерал, сейчас за границей вместе с Николаем Николаевичем.
До звонка потешались улигане над Богородицей, человечком в потрепанных крагах, а когда вышел он под зюканье и хохот из класса, загрустили:
— Дело — буза… Политграмота-то хреновая.
— Да… Порадовались раненько.
А вечером Викниксор, зайдя в класс, выслушивал ребят.
— Плох, говорите?
— Безнадежен, Виктор Николаевич.
— Слабы знания политические?
— Совсем нет.
Задумался Викниксор.
— Дело неважно.
— Где вы его только выкопали? — полюбопытствовал Ленька Пантелеев.
— В Наробе… случайно. Спрашивал я там о политграмоте — нет ли педагога на учете. А тут он, Богородицын этот, подходит: могу, говорит, политграмоту читать… Ну, я и взял на пробу.
— Пробы не выдержал, — ухмыльнулся Янкель.
— Да, — согласился завшколой. — Пробы не выдержал… Поищем другого.
Больше Богородицын не читал в Шкиде политграмоту. Ушел он, не попрощавшись ни с кем, метнулся желтыми потрескавшимися крагами и исчез…
Может быть, сейчас он читает где-нибудь лекции по фарадизации или по прикладной космографии… А может быть, умер от голода, не найдя для себя подходящей профессии.
* * *
В табачном дыму расплывались силуэты людей.
Пулеметом стучал ремингтон, и ундервуд, как эхо, тарахтел в соседней комнате.
Кто-то веселым, картавящим на букве «л» голосом кричал кому-то:
— Товарищ, вы слушаете?.. Отдайте, пожалуйста, в комнату два. Товарищ…
А тот, другой, таким же веселым голосом отвечал издалека:
— Два? Спасибо…
В комсомольском райкоме работа кипела.
В табачном дыму мелькали силуэты людей. На стенах с ободранными гобеленами белели маленькие, написанные от руки плакатики:
СЕКРЕТАРЬ
АГИТОТДЕЛ
КЛУБКОМИССИЯ
Викниксор шел по плакатикам, хватаясь руками за стены, потонув в клубах дыма. Но все же отыскал плакатик с надписью: «Политпросвет».
Под плакатиком сидел человек в кожаной тужурке, с бритой головой, молодой и безусый.
— Меня, товарищ?
— Да, вас. Вы по политпросвету?
— Я. В чем дело?
— Видите ли… Я заведующий детдомом… У нас ребята — шестьдесят человек… хотят политграмоту. Не найдется ли у вас в комитете человечка такого — лектора?
Политпросветчик провел рукой по высокому, гладкому лбу.
— Ячейка или коллектив у вас есть?
— Нет. В том-то и дело, что нет… У нас, надо вам сказать, школа тюремного, исправительного типа — для дефективных.
— Ага, понимаю… Беспризорные, стало быть, ребята, с улицы?..
— Да. Но все же хотят учиться.
— Минутку.
Политпросветчик обернулся, снял телефонную трубку, нажал кнопку.
— Политшкола? Товарищ Федоров, нет ли у тебя человека инструктором в беспризорный детдом? Найдется? Что? Прекрасно…
Повесил трубку.
— Готово. Оставьте адрес, завтра пришлем.
* * *
Пришел он в Шкиду вечером.
В классе улиган, погасив огонь, сидели все у топившейся печки; отсвет пламени прыгал по стенам и закоптелому после пожара потолку… Из печки красным жаром жгло щеки и колени сидевших…
Он вошел в класс, незаметно подошел к печке и спросил:
— Греетесь, товарищи?
Обернулись, увидели: человек молодой, невысокий, волосы назад зачесаны, в руках парусиновый портфель.
— Греемся.
— Так… А я к вам читать политграмоту пришел… Инструктором от райкома.
Не кричали «ура» теперь шкидцы, знали — обманчива политграмота бывает…
— Садитесь, — сказал Янкель, освободив место на кривобоком табурете.
— Спасибо, — ответил инструктор. — Усядемся вместе.
Сел, погрел руки.
— Газеты читаете?
— Редко. Случайно попадет — прочтем, а выписывать — бюджет не позволяет.
— Все-таки в курсе дел хоть немножко? О четвертом съезде молодежи читали?
— Читали немного.
— Так. А о приглашении на Генуэзскую конференцию делегации от нашей республики?
— Читали.
— Ну а как ваше мнение: стоит посылать?
Разговорились этак незаметно, разгорячились ребята — отвечают, спорят, расспрашивают… Не заметили, как время ко сну подошло…
Уходя, инструктор сказал:
— Я у вас и воспитателем буду, заведующий попросил.
Вот теперь закричали «ура» улигане, искренне и дружно.
А потом уже в спальне, раздеваясь, делились впечатлениями…
— Вот это — парень! Не Богородица, а настоящий политграмщик.
Мечта шкидская осуществилась — политграмоту долгожданную получили.
Учет
Десять часов учебы. — Новогодний банкет. — Шампанское-морс, — Спичи и тосты. — Конференция издательств. — Учет. — Оригинальный репортаж. — Гулять!
В этом году зима выдалась поздняя. Долго стояла мокрая осень, брызгалась грязью, отбивалась, но все же не устояла — сдалась. По первопутку неисправимые обыватели тащили по домам рождественские елки. Елочные ветки куриным следом рассыпались по белому снегу; казалось, что в городе умерло много людей и их хоронили.
На рождество осень дала последний бой — была оттепель. В сочельник, канун рождества, колокола гудели не по-зимнему, громыхали разухабистым плясом. Не верилось, что декабрь на исходе, казалось, что пасха — апрель или май.
А двадцать пятого декабря, на рождество, ртуть в Реомюре опустилась на десять черточек вниз, ночью метелью занесло трамвайные пути и улицы побелели.
В Шкиде рождества не справляли, но зиму встретили по-ребячьи радостно. Во дворе малыши, бужане и волыняне, играли в снежки, лепили бабу. И даже улигане, «гаванские чиновники», как звала их уборщица Аннушка, даже улигане не усидели в классе и вырвались на воздух, чтобы залепить друг другу лицо холодным и приятным с непривычки снегом.
Вечером за ужином Викниксор говорил речь:
— Наступила зима, а вместе с нею и новый учебный год. С завтрашнего дня мы кончаем вакационный период учебы и переходим к настоящим занятиям С завтрашнего дня ежедневно будет по десять уроков. С десяти часов утра до обеда — четыре, после обеда отдых, потом опять четыре урока до ужина и после ужина два урока.
Лентяи вздохнули, четвертое же отделение рвалось к учебе и было радо.
Викниксор походил, заложив руки за спину, по столовой, собрался уже уходить, потом, вспомнив, вернулся.
— Да. Первого января у нас учет…
Это сообщение вызвало всеобщие радостные возгласы.
«Учетом» в Шкиде называлась устраиваемая несколько раз в году проверка знаний, полученных в классе.
Обычно к учету готовились заблаговременно. Преподаватели каждого предмета давали ученикам задания, по этим заданиям составлялись диаграммы, схемы, конспекты, устраивались подготовительные учеты-репетиции. Но спешное зазубривание курса не практиковалось, и вообще подготовка к учету не носила характера разучиваемого спектакля. Просто как следует готовились к торжеству.
То же самое было и на этот раз.
Уже на следующее утро, составив план выступлений по своим предметам, воспитатели ознакомили с ним учеников.
Шкида крякнула, поплевала на руки и засела за работу.
В четвертом отделении ребята с разрешения Викниксора сидели в классе до двенадцати часов.
Японец, Цыган и Кобчик по заданию Эланлюм переписывали готическим шрифтом на цветных картонах переведенный ими коллективно отрывок из гетевского «Фауста».
Янкель делал плакаты для украшения зала в день торжества. Воробей, Горбушка и еще несколько человек ему помогали.
Пантелеев писал конспект на тему «Законы Дракона» по древней истории, Кальмот и Дзе — о Фермопильской битве, о Фемистокле и Аристиде.
Саша Пыльников разрабатывал диаграмму творчества М. Ю. Лермонтова в период с 1837 по 1840 год и писал о байроновском направлении в его творчестве. Тихиков и Старолинский рисовали географические, экономические и политические карты РСФСР.
Все были заняты.
Подготовка тянулась целую неделю.
* * *
Новый год, по неокрепшей традиции, встречали торжественно всей школой.
В большой спальне днем были убраны койки, поставлены столы и скамейки. Вечером в одиннадцать с половиной часов все отделения под руководством классных надзирателей поднялись наверх в спальню.
На столах, покрытых белыми скатертями, уже стояли яства: яблочная шарлотка, бутерброды с колбасой и клюквенный морс, которым изобретательный Викниксор заменил новогоднее шампанское.
Отделения разместились за четырьмя столами. Дежурные разлили по кружкам «шампанское-морс» и уселись сами. Скромное угощение казалось изголодавшимся шкидцам настоящим пиром.
Викниксор в своей речи отметил успехи за год и пожелал, чтобы к следующему году школа смогла выпустить первый кадр исправившихся воспитанников.
Обыкновенно к ораторским способностям Викниксора шкидцы относились сухо, сейчас же растрогались и долго кричали «ура».
Затем выступили с ответными тостами воспитанники. От улиган говорили Японец и Янкель.
Когда первое возбуждение улеглось, выступил новый халдей, политграмщик Кондуктор. Настоящее имя его было Сергей Семенович Васин. Кондуктором прозвали его за костюм — полушубок цвета хаки, какие носили в то время кондукторы городских железных дорог.
Кондуктор встал, откашлялся и сказал:
— Товарищи, я здесь в школе работаю недавно, я плохо знаю ее. Но все-таки я уже почувствовал главное. Я понял, что школа исправила, перевела на другие рельсы многих индивидуумов. Мое пожелание, чтобы в будущем году школа Достоевского смогла организовать у себя ячейку комсомола из воспитанников, уже исправившихся, нашедших дорогу.
Этот спич, произнесенный наскоро и несвязно, был встречен буквально громом аплодисментов и ревом «ура».
В час ночи банкет закрылся. Вмиг были убраны столы, расставлены кровати, и шкидцы стали укладываться спать. Японец пригласил на свою постель Янкеля, Пантелеева и Пыльникова.
— Мне нужно с вами поговорить, — сказал он.
— Вали.
— Завтра учет, — начал Японец. — Мы должны выпустить учетный номер какого-либо издания.
В четвертом отделении в то время выходило четыре печатных органа: журналы «Вперед», «Вестник техники», «Зеркало» и газета «Будни».
— Согласны, ребята, что экстренный номер нужен?
— Согласны, — ответил Янкель. — Я предлагаю выпустить однодневку сообща.
— Идея! — воскликнул Пантелеев.
— Никому и обидно не будет, — подтвердил Сашка Пыльников, соредактор «Будней».
Решили выпустить газету «Шкид». Ответственным редактором назначили Янкеля, секретарские и репортерские обязанности взял на себя Пантелеев.
* * *
Утром занятий в классах не было. Вся школа под руководством Косталмеда и Кондуктора работала над украшением здания к торжеству. Из столовой и спален стаскивали в Белый зал скамейки, украшали зеленью портики сцены; зеленью же увили портреты вождей революции, развешенные по стенам, громадный портрет Достоевского и герб школы — желтый подсолнух с инициалами «ШД» в центре круга. Вдоль стен расставили классные доски, оклеенные диаграммами и плакатами, на длинных пюпитрах раскладывались рукописи, журналы, тетради и другие экспонаты учета.
В двенадцать часов прозвенел звонок на обед. Обедали торопливо, без бузы и обычных скандалов. Когда кончили обед, в столовую вошел Викниксор и скомандовал: «Встать!»
Ребята поднялись. В столовую торопливыми шагами вошла пожилая невысокая женщина, закутанная в серую пуховую шаль.
— Лилина, — шепотом пронеслось по скамьям.
— Здорово, ребята! — поздоровалась заведующая губоно. — Садитесь. Хлеб да соль.
— Спасибо! — ответил хор голосов.
Ребята уселись. Лилина походила по столовой, потом присела у стола первого отделения и завязала с малышами разговор.
— Сколько тебе лет? — спросила она у Якушки.
— Десять, — ответил тот.
— За что попал в школу?
— Воровал, — сказал Якушка и покраснел.
Лилина минуту подумала.
— А сейчас ты что делаешь в школе?
— Учусь, — ответил Якушка, еще больше краснея. Лилина улыбнулась и потрепала его, как девочку, по щеке.
— А ты за что? — обратилась она к Кондрушкину, тринадцатилетнему дегенерату с квадратным лбом и отвисшей нижней челюстью.
— Избу поджег, — хмуро ответил он.
— Зачем же ты ее поджег?
Кондрушкин, носивший кличку Квадрат, тупо посмотрел в лицо Лилиной и ответил:
— Так. Захотелось и поджег.
Подошел Викниксор.
— Этот у нас всего два месяца, — сказал он. — Еще совсем не обтесан. Да ничего, отделаем. Вот тоже поджигатель, — указал он на другого первоклассника — Калину. — Этот уже больше года у нас. За поджог в интернате переведен.
— Зачем ты сделал это? — спросила Лилина.
Калина покраснел.
— Дурной был, — ответил он, потупясь.
Поговорив немного, Лилина вместе с Викниксором вышла из столовой. Немного погодя к столу четвертого отделения подсел Воробей, бывший в то время кухонным старостой.
Он был красен, как свекла, и видно было, что ему не терпится что-то рассказать.
— Здорово! — проговорил он наконец. — Чуть не влип.
— Что такое? — спросил Японец.
— Да Лилина… Не успел дежурный дверь отворить — влетает на кухню:
— Староста?
— Староста, говорю.
— Сколько сегодня получено на день хлеба?
А я, признаться, точно не помню, хотя в тетрадке и записано.
— Два пуда восемь фунтов с половиной, говорю — наобум, конечно.
Она дальше:
— А мяса сколько?
— Пуд десять, говорю.
— Сахару?
— Фунт три четверти.
— Молодец, говорит, — и пошла.
Все расхохотались.
— Ловко! — воскликнул Янкель. — Ай да Воробышек!
После обеда воспитатели скомандовали классам «построиться» и отделениями провели их в Белый зал. Там уже находилось человек десять гостей.
От губоно, кроме Лилиной, присутствовали еще два человека — от комиссии по делам несовершеннолетних и от соцвоса. Кроме того, были представители от шефов — Петропорта, от Института профессора Грибоедова и несколько студентов из Института Лесгафта.
Шкидцы, соблюдая порядок, расселись по местам. Впереди уселись малыши; четвертое отделение оказалось самым последним. Янкель и Пантелеев притащили из класса бумагу и чернила и засели за отдельным столом редакции.
На сцену вышел Викниксор.
— Товарищи! — сказал он. — Сейчас у нас состоится учет, учет знаний наших, учет проделанной работы. Давайте покажем присутствующим здесь дорогим гостям, что мы не даром провели время, что нами что-то сделано… Откроем учет.
Слова Викниксора были встречены аплодисментами со всех скамеек.
— Первым будет немецкий язык, — объявил Викниксор, уже спустившись со сцены и заняв место в первом ряду, по соседству с гостями.
На сцену поднялась Эланлюм.
— Сейчас мы продемонстрируем наши маленькие успехи в разговорном немецком языке, потом покажем сценку из «Вильгельма Телля». Ребята, — обратилась она к четвертому отделению, — пройдите сюда.
Японец, Цыган, Кобчик, Купец и Воробей гуськом прошли на сцену и стали лицом к залу.
Эланлюм обвела взором вокруг себя и, не найдя, по-видимому, ничего более подходящего, ткнула себя пальцем в нос и спросила у Купца:
— Вас ист дас?
Купец ухмыльнулся, смутился. Он был по немецкому языку последним в классе.
— Нос, — ответил он, покраснев.
Гости, а за ними и весь зал расхохотались. Эланлюм расстроилась.
— Хорошо, что хоть вопрос понял, — сказала она. — Еонин, — обратилась она к Японцу. — Вас ист даст? Антворте.
— Дас ист ди назе, Элла Андреевна.
— Гут. Вас ист дас? — обратилась она к Цыгану, указав на окно.
— Дас ист дас фенстер, Элла Андреевна, — ответил Цыган, снисходительно улыбнувшись. — Вы что-нибудь посерьезнее, — шепнул он.
— Нун гут… Вохин геест ду ам зоннабенд? — обернулась Эланлюм к Воробью.
Воробей знал, что Эланлюм спрашивает, куда он пойдет в субботу, знал, что пойдет в отпуск, но ответить не смог. За него ответил Еонин.
— Эр гейт ин урлауб.
— Гут, — удовлетворившись, похвалила немка.
Так, перебрасывая с одного на другого вопросы, она демонстрировала в течение пятнадцати минут «успехи в разговорном немецком языке».
Потом тем же составом воспитанников была показана сценка из пьесы «Вильгельм Телль» на немецком языке. Гости от «Вильгельма Телля» пришли в восторг, долго аплодировали.
За немецким языком шел русский язык. Гости и педагоги задавали воспитанникам вопросы, те отвечали.
Потом шли древняя и русская истории, политграмота, география и математика.
Пантелеев и Янкель все это время усиленно работали у себя в «походной редакции». Когда Викниксор объявил о перерыве и все собрались вставать, на сцене появился Янкель.
— Минутку, — сказал он. — Только что вышел экстренный номер газеты, висит у задней стены, желающие могут прочесть.
Все обернулись. На противоположной стене прилепился исписанный печатными синими буквами лист бумаги. Наверху, разрисованный красной краской, красовался заголовок:
«Шкид»
Однодневная газета, посвященная учету
Гости и шкидцы обступили газету. Передовица, написанная Японцем, разбирала учет как явление нового метода педагогики.
Дальше шел портрет Лилиной в профиль и стихи Пыльникова, посвященные учету:
Мы в учете видим себя, Учет — термометр наш. Науку, учебу любя, Мы грызем карандаш. Кто плохо учился год, Тому позор и стыд. Эй, шкидский народ, Не осрами республику Шкид!За стихами шла хроника учета. О каждом предмете был дан отдельный отзыв. Читающие были поражены последней рецензией:
«Показанная последним блюдом гимнастика под руководством К. А. Меденникова прошла прекрасно. Хорошая, выдержанная маршировка, чисто сделанные упражнения. Поразила присутствующих своей виртуозностью и грандиозностью пирамида, изображавшая в своем построении инициалы школы — ШКИД».
Все много смеялись, так как гимнастики еще не было.
Лилина подошла к Янкелю.
— Как же это вы умудрились, товарищ редактор, дать отзыв о том, чего еще не было? — улыбнувшись, спросила она.
Янкель не смутился.
— А мы и так знаем, — сказал он, — что гимнастика пройдет хорошо. Заранее можно похвалить.
Гимнастика действительно прошла хорошо. Упражнения были сделаны чисто, и пирамида «поразила присутствующих своей виртуозностью».
На этом учет закончился. Гости разъехались. Викниксор собрал школу в зале и объявил:
— Все без исключения — в отпуск. Не идущие в отпуск — гулять до двенадцати часов вечера.
Старое здание школы дрогнуло от дружного ураганного «ура».
Шкида бросилась в гардеробную.
Шкида влюбляется
Весна и математика. — Окно в мир. — Дочь Маркони. — Неудачники. — Смотр красавиц. — Победитель Дзе. — Кокетка с подсолнухами. — Любовь и мыло. — Конец весне.
— Воробьев, слушай внимательно и пиши: сумма первых трех членов геометрической пропорции равна двадцати восьми; знаменатель отношения равен четырем целым и одной второй, третий член в полтора раза больше этого знаменателя. Теперь остается найти четвертый член. Вот ты его и найди.
Воробей у доски. Он берет мел и грустно обводит глазами класс, потом начинает писать формулу. Педагог ходит по классу и нервничает.
— И вы решайте! — кричит он, обращаясь к сидящим. — Нечего головами мотать.
Но класс безучастен к его словам. Лохматые головы рассеянны. Лохматые головы возбуждены шумом, что врывается в окна бурными всплесками. На улице весна.
Размякли мозги у старших от тепла и бодрого жизнерадостного шума, совсем разложились ребята.
— Ну же, решай, головушка, — нетерпеливо понукает педагог застывшего Воробья, но тот думает о другом. Ему завидно, что другие сидят за партами, ничего не делают, а он, как каторжник, должен искать четвертый член. Наконец он собирает остатки сообразительности и быстро пишет.
— Вот.
— Неправильно, — режет халдей.
Воробей пишет снова.
— Опять не так.
— Брось, Воробышек, не пузырься, опять неправильно, — лениво тянет Еонин.
Тогда Воробей, набравшись храбрости, решительно заявляет:
— Я не знаю!
— Сядь на место.
С облегченным вздохом Воробышек идет к своей парте и, усевшись, забывает о математике. По его мнению, гораздо интереснее слушать, как на парте сзади Цыган рассказывает о своих вчерашних похождениях. Во время прогулки он познакомился с хорошенькой девицей и теперь возбужденно об этом рассказывает.
Его слушают с необычайным вниманием, и, поощренный, Цыган увлекся.
— Смотрю, она на меня взглянула и улыбнулась, я тоже. Потом догнал и говорю: «Вам не скучно?» — «Нет, говорит, отстаньте!» А я накручиваю все больше да больше, под ручку подцепил, ну и пошли.
— А дальше? — затаив дыхание спрашивает Мамочка.
Колька улыбается.
— Дальше было дело… — говорит он неопределенно.
Все молчат, зачарованные, прислушиваясь к шуму улицы и к обрывкам фраз математика.
Джапаридзе уже несколько раз украдкой приглаживает волосы и представляет себе, как он знакомится с девушкой. Она непременно будет блондинка, пухленькая, и носик у нее будет такой… особенный.
На Камчатке Янкель, наслушавшись Цыгана, замечтался и гнусавит в нос романс:
Очи черные, очи красные, Очи жгучие и прекрасные,— Черных, к доске!
Как люблю я вас…— Черных, к доске!
Грозный голос преподавателя ничего хорошего не предвещает, и Янкель, очнувшись, сразу взвешивает в уме все шансы на двойку. Двойку он и получает, так как задачу решить не может.
— Садись на место. Эх ты, очи сизые! — злится педагог.
Звонок прерывает его слова. Сегодня математика была последним уроком, и теперь шкидцы свободны, а через час первому и второму разряду можно идти гулять.
Едва захлопнулась дверь за педагогом, как класс, сорвавшись с места, бросается к окнам.
— Я занял!
— Я!
— Нет, я!
Происходит горячая свалка, пока все кое-как не устраиваются на подоконниках.
Лежать на окнах стало любимым занятием шкидцев. Отсюда они жадно следят за сутолокой весенней улицы. Они переругиваются со сторожем, перекликаются с торговками, и это им кажется забавным.
— Эй, борода! Соплю подбери. В носу тает, — гаркает Купец на всю улицу.
Сторож вздрагивает, озирается и, увидев ненавистные рожи шкидцев, разражается градом ругательств:
— Ах вы, губошлепы проклятые! Ужо я вам задам.
— О-го-го! Задай собачке под хвост.
— Дядя! Дикая борода!
На противоположной стороне стоят девчонки-торговки; они хихикают, одобрительно поглядывая на ребят. Шкидцы замечают их.
— Девочки, киньте семечка.
— Давайте деньги.
— А нельзя ли даром?
— Даром за амбаром! — орут девчонки хором.
Закупка подсолнухов происходит особенно, по-шкидски изобретательно. Со второго этажа спускается на веревке шапка, в шапке деньги, взамен которых торговка насыпает стакан семечек, и подъемная машина плывет наверх.
В разгар веселья в классе появляется Косталмед.
— Это что такое? — кричит он. — А ну, долой с подоконников!
Сразу окна очищаются. Костец удовлетворенно покашливает, потом спокойно говорит:
— Первый и второй разряды могут идти гулять.
Классы сразу пустеют. Остающиеся с тоской и завистью поглядывают через окна на расходящихся кучками шкидцев. Особой группой идут трое — Цыган, Дзе и Бобер. Они идут на свидание, доходят до угла и там расходятся в разные стороны.
В классе тишина, настроение у оставшихся особенное, какое-то расслабленное, когда ничего не хочется делать. Несколько человек — на окнах, остальные ушли во двор играть в рюхи. Те, что на окнах, сидят и мечтают, сонно поглядывая на улицу. И так до вечера. А вечером собираются все. Приходят возбужденные «любовники», как их прозвали, и наперебой рассказывают о своих удивительных, невероятных приключениях.
* * *
Уже распустились почки и светлой, нежной зеленью покрылись деревья церковного сада. На улицах бушевала весна. Был май. Вечерами в окна Шкиды врывался звон гитары, пение, шарканье множества ног и смех девушек.
А когда начались белые ночи, к шкидцам пришла любовь.
Разжег Цыган, за ним Джапаридзе. Потом кто-то сообщил, что видел Бобра с девчонкой. А дальше любовная горячка охватила всех.
Едва наступал вечер, как тревога охватывала все четвертое отделение. Старшие скреблись, мылись и чистились, тщательно причесывали волосы и спешили на улицу. Лишение прогулок стало самым страшным наказанием. Наказанные целыми часами жалобно выклянчивали отпуск и, добившись его, уходили со счастливыми лицами. Не останавливались и перед побегами. Улица манила, обещая неиспытанные приключения.
Весь Старо-Петергофский, от Фонтанки до Обводного, был усеян фланирующими шкидцами и гудел веселым смехом. Они, как охотники, преследовали девчонок и после наперебой хвалились друг перед другом.
Даже по ночам, в спальне, не переставали шушукаться и, уснащая рассказ грубоватыми подробностями, поверяли друг другу сокровенные сердечные тайны.
Только двоих из всего класса не захватила общая лихорадка. Костя Финкельштейн и Янкель были, казалось, по-прежнему безмятежны. Костя Финкельштейн в это время увлекался поэтическими образами Генриха Гейне и, по обыкновению, проморгал новые настроения, а Янкель… Янкель грустил.
Янкель не проморгал любовных увлечений ребят, он все время следил за ними и с каждым днем становился мрачнее. Янкель разрешал сложную психологическую задачу.
Он вспомнил прошлое, и это прошлое теперь не давало ему покоя, вырастая в огромную трагедию.
Ему вспоминается детский распределитель, где он пробыл полгода и откуда так бесцеремонно был выслан вместе с парой брюк в Шкиду.
В распределителе собралось тогда много малышей, девчонок и мальчишек, и Янкель — в то время еще не Янкель, а Гришка — был среди них как Гулливер среди лилипутов. От скуки он лупил мальчишек и дергал за косы девчонок.
Однажды в распределитель привели новенькую. Была она ростом повыше прочей детдомовской мелюзги, черненькая, как жук, с черными маслеными глазами.
— Как звать? — спросил Гришка.
— Тоня.
— А фамилия?
— Маркони, — ответила девочка, — Тоня Маркони.
— А вы кто такая? — продолжал допрос Гришка, нахально оглядывая девчонку. Новенькая, почувствовав враждебность в Гришкином поведении, вспыхнула и так же грубо ответила:
— А тебе какое дело?
Дерзость девчонки задела Гришку.
— А коса у тебя крепкая? — спросил он угрожающе.
— Попробуй!
Гришка протянул руку, думая, что девчонка завизжит и бросится жаловаться. Но она не побежала, а молча сжала кулаки, приготовившись защищаться, и эта молчаливая отвага смутила Гришку.
— Руки марать не стоит, — буркнул он и отошел.
Больше он не трогал ее, и хотя особенной злости не испытывал, но заговаривать с ней не хотел.
Тоня первая заговорила с ним.
Как-то раз Гришку назначили пилить дрова. Он пришел в зал подыскать себе помощника и остановился в нерешительности, не зная, кого выбрать. Тоня, стоявшая в стороне, некоторое время глядела то на Гришку, то на пилу, которую он держал в руках, потом, подойдя к нему, негромко спросила:
— Пилить?
— Да, пилить, — угрюмо ответил Гришка.
— Я пойду с тобой, — краснея, сказала Тоня. — Я очень люблю пилить.
Гришка, сморщившись, с сомнением оглядел девочку.
— Ну, хряем, — сказал он недовольно.
Полдня они проработали молча. Тоня не отставала от него, и совсем было незаметно, что она устала. Тогда Гришка подобрел.
— Ты где научилась пилить? — спросил он.
— В колонии, на Помойке. — Тоня рассмеялась и, видя, что Гришка не понимает, пояснила: — На Мойке. Это мы ее так — помойкой — прозвали… Там только одни девочки были, и мы всегда сами пилили дрова.
— Подходяще работаешь, — похвалил Гришка.
К вечеру они разговорились. Окончив пилку, Гришка сел на бревно и стал свертывать папироску. А Тоня рассказывала о своих проделках на Мойке. И тут Гришка сделал открытие: оказывается, девчонки могли рассказать много интересного и даже понимали мальчишек. Тогда, растаяв окончательно, Гришка распахнул свою душу. Он тоже с гордостью рассказал о нескольких своих подвигах. Тоня внимательно слушала и весело смеялась, когда Гришка говорил о чем-нибудь смешном. Гришка разошелся, совершенно забыв, что перед ним девчонка, и, увлекшись, даже раза два выругался.
— Ты совсем как мальчишка, — сказал он ей.
— Правда? — воскликнула Тоня, покраснев от удовольствия. — Я похожа на мальчишку?.. Я даже курить могу. Дай-ка.
И, выхватив из рук Гришки окурок, она храбро затянулась и выпустила дым.
— Здорово! — сказал восхищенный Гришка. — Фартовая девчонка!
— Ах, как я хотела бы быть мальчишкой. Я все время думаю об этом, — сказала печально Тоня. — Разве это жизнь? Вырастешь и замуж надо… Потом дети пойдут… Скучно…
Тоня тяжело вздохнула. Гришка, растерявшись, потер лоб.
— Это верно, — сказал он. — Не везет вам, девчонкам.
Через неделю они уже были закадычными друзьями.
Тоня много читала и пересказывала Гришке прочитанное. Гришка, признававший только детективную, «сыщицкую» литературу, был очень удивлен, узнав, что существует много других книг, не менее интересных. Правда, герои в них, судя по рассказам Тони, были вялые и все больше влюблялись и ревновали, но Гришка дополнял ее рассказы уголовными подробностями.
Рассказывает Тоня, как граф страдал от ревности, потому что графиня изменяла ему с бедным поэтом, а Гришка покачает головой и вставит:
— Дурак!
— Почему?
— По шее надо было ее.
— Нельзя. Он любит.
— Ну, так тому бы вставил перо куда следует…
— А она бы ушла с ним. Граф ревновал же.
— Ах, ревновал, — говорит Гришка, смутно представляя себе это непонятное чувство. — Тогда другое дело…
— Ну вот, граф взял и уехал, а они стали жить вместе.
— Уехал? — Гришка хватается за голову. — И все оставил?
— Все.
— И мебели не взял?
— Он им оставил. Он великодушный был.
Гришка с досадой крякает.
— Балда твой граф. Я бы на его месте все забрал: и кровать бы увез, и стол, и комод, — пусть живут как знают…
Иногда они горячо спорили, и тогда дня мало было, чтобы вдоволь наговориться.
— Знаешь, — сказала однажды Тоня, — приходи к нам в спальню, когда все заснут. Никто не помешает, будем до утра разговаривать…
Гришка согласился.
Целый час выжидал он в кровати, пока угомонятся ребята и разойдутся воспитательницы, потом прокрался в спальню девчонок. Тоня его ждала.
— Полезай скорей, — шепнула она, давая место.
И, закрывшись до подбородков одеялом, тесно прижавшись друг к другу, они шептались.
— Знаешь, кто мой отец? — спрашивала тихонько Тоня.
— Кто?
— Знаменитый изобретатель Маркони… Он итальянец…
— А ты русская. Как же это?
— Это мать у меня русская. Она балерина. В Мариинском театре танцевала, а когда отец убежал в Италию и бросил ее, она отравилась… от несчастной любви…
Гришка только глазами хлопал, слушая Тоню, и не мог разобраться, где вранье, где правда. В свою очередь, он выкладывал Тоне все, что было интересного в его скудных воспоминаниях, а однажды попытался для завлекательности соврать.
— Отец у меня тоже этот, как его…
— Граф?
— Ага.
— А как его фамилия?
— Дамаскин. Тоня фыркнула.
— Дамаскин… Замаскин… Таких фамилий у графов не бывает, — решительно сказала она.
Гришка очень смутился и попробовал выпутаться.
— Он был… вроде графа… Служил у графа… кучером…
Тоня долго смеялась над Гришкой и прозвала его графским кучером.
Гришка привык к Тоне, и ему было даже скучно без нее.
И неизвестно, во что бы перешла эта дружба, если бы не беда, свалившаяся на Гришку. Но, как известно, Гришка здорово набузил, и вот в канцелярии распределителя ему уже готовили сопроводительные бумаги в Шкид.
Последнюю ночь друзья не спали. Гришка, скорчившись, сидел на кровати около подруги.
— Я люблю тебя, — шептала Тоня. — Давай поцелуемся на прощанье.
Она крепко поцеловала Гришку, потом, оттолкнув его, заплакала.
— Брось, — бормотал растроганный Гришка. — Черт с ним, чего там…
Чтобы утешить подругу, он тоже поцеловал ее. Тоня быстро схватила его руку.
— Я к тебе приду, — сказала она. — Поклянись, что и ты будешь приходить.
— Клянусь, — пробормотал уничтоженный и растерянный Гришка.
Утром он уже был в Шкиде, вечером пошел с новыми друзьями сшибать окурки, а через неделю огрубел, закалился и забыл клятву.
Но однажды дежуривший по кухне Горбушка, необычайно взволнованный, ворвался в класс.
— Ребята! — заорал он, давясь от смеха. — Ребятки! Янкеля девчонка спрашивает. Невеста.
Класс ахнул.
— Врешь! — крикнул Цыган.
— Врешь, — пролепетал сидевший в углу Янкель, невольно задрожав от нехорошего предчувствия.
— Вру? — завопил Горбушка. — Я вру? Ах мать честная! Хряй скорее!..
Янкель поднялся и, едва передвигая онемевшие ноги, двинулся к дверям. А за ним с ревом и гиканьем сорвался весь класс.
— Амуры крутит! — ревел Цыган, гогоча. — Печки-лавочки! А ну поглядим-ка, что за невеста!
Орущее, свистящее, ревущее кольцо, в котором, как в хороводе, двигался онемевший от ужаса Янкель ввалилось в прихожую. Тут Янкель и увидел Тоню Маркони.
Она стояла, прижавшись к дверям, и испуганно озиралась по сторонам, окруженная пляшущими, поющими, кривляющимися шкидцами. Горбушка дергал ее за рукав и кричал:
— Вон он, вон он, твой Гриха!
Тоня бросилась к Янкелю как к защитнику. Янкель, взяв ее руку, беспомощно огляделся, ища выхода из адского хоровода.
— Янкель с невестой! Янкель с невестой! — кричали ребята, танцуя вокруг несчастной парочки.
— Через почему такое вас двое? — пел петухом Воробей в самое ухо Янкелю.
— Дю-у-у! — вдруг грохнул весь хоровод. Тоня, взвизгнув, зажала уши. У Янкеля потемнело в глазах. Нагнув голову, он, как бык, ринулся вперед, таща за собой Тоню.
— Дю-у-у! — стонало, ревело и плясало вокруг многоликое чудовище. Янкель пробился к дверям, вытолкнул Тоню на лестницу и выскочил сам. Кто-то напоследок треснул его по шее, кто-то сунул ногой в зад, и он как стрела понесся вниз.
Тоня стояла внизу на площадке. Губы ее вздрагивали. Она стыдилась взглянуть на Янкеля.
Янкель, почесывая затылок, бессвязно бормотал о том, что ребята пошутили, что это у них такой обычай, а самому было и стыдно и досадно за себя, за Тоню, за ребят.
Разговор так и не наладился. Тоня скоро ушла.
Две недели вся школа преследовала Янкеля. Его вышучивали, над ним смеялись, издевались и — больше всего — негодовали. Шкидец — и дружит с девчонкой. И смех и позор. Позор на всю школу.
Янкель, осыпаемый градом насмешек, уже жалел, что позволил себе дружить с девчонкой.
«Дурак, баба, нюня!» — ругал он себя, с ужасом вспоминая прошлое, но в глубине осталась какая-то жалость к Тоне.
Многое передумал Янкель за это время и наконец принял твердое решение, как и подобало настоящему шкидцу.
Через две недели Тоня снова пришла в Шкиду. Она осталась на дворе и попросила вызвать Гришу Черных.
Янкель не вышел к ней, но выслал Мамочку.
— Вам Гришу? — спросил, усмехаясь, Мамочка. — Ну, так Гриша велел вам убираться к матери на легком катере. Шлет вам привет Нарвский совет, Путиловский завод и сторож у ворот, Богомоловская улица, петух да курица, поп Ермошка и я немножко!
Мамочка декламировал до тех пор, пока сгорбившаяся спина девочки не скрылась за воротами.
Вернувшись в класс, он доложил:
— Готово… На легком катере.
— Молодец Янкель! — восхищались ребята. — Как отбрил.
Янкель улыбался, хотя радости от подвига не чувствовал. Честь Шкиды была восстановлена, но на душе у Янкеля остался какой-то мутный и грязный осадок.
А вот теперь, через два года, Янкель снова вспомнил Тоню.
На его глазах ломались традиции доброго старого времени. То, что тогда было позором, теперь считалось подвигом. Теперь все бредили, все рассказывали о своих подругах, и тот, у кого ее не было, был самый несчастный и презираемый всеми.
«За что же я ее тогда?» — с горечью думал Янкель, и едкая обида на ребят разъедала сердце. Ведь это из-за них он прогнал Тоню, а теперь они сами делали то же, и никто не смеялся над ними.
Янкель ходил мрачный и неразговорчивый. Думы о Тоне не выходили из головы, и с каждым днем сильнее росло желание увидеть ее, пойти к ней.
Однажды Янкель открыл свою тайну Косте Финкельштейну.
Костя выслушал его и, щуря темные подслеповатые глаза, важно сказал:
— По-моему, тебе надо сходить к ней.
— Ты думаешь? — обрадовался Янкель.
— Я думаю, — сказал Костя.
* * *
Наступал вечер. Шкидцы торопливо чистились, наряжались, нацепляли на грудь жетоны и один за другим убегали на улицу, каждый к своему заветному уголку.
Только Костя не торопился. Он доставал из парты томик любимого Гейне, засовывал в карман оставшийся от обеда кусок хлеба и уходил.
Косте еще не довелось мучиться, ожидая любимую где-нибудь в условном месте, около аптеки или у ларька табтреста. Костино сердце дремало и безмятежно отстукивало секунды его жизни.
Костя любил только Гейне и сквер у Калинкина моста.
Скверик был маленький, грязноватый, куцый, обнесенный жидкой железной решеткой, но Косте он почему-то нравился.
Каждый день Костя забирался сюда. Здесь, в стороне от шумной улицы, усевшись поудобнее на скамье, он доставал хлебную горбушку, раскрывал томик стихов и углублялся в чтение.
Стоило только Костиным глазам скользнуть по первым строчкам, как все окружающее мгновенно исчезало куда-то и вставал новый, невиданный мир, играющий яркими цветами и красками.
Костя поднимал голову и, глядя на темнеющую за решеткой Фонтанку, вдохновенно декламировал:
Воздух свеж, кругом темнеет, И спокойно Рейн бежит, И вечерний отблеск солнца Гор вершины золотит…Костя поднимал голову и в экстазе глядел, любовался серенькой Фонтанкой, которая в его глазах была уже не Фонтанка, а тихий широкий Рейн, лениво играющий изумрудными волнами, за которыми чудились очертания гор и…
На скале высокой села Дева — чудная краса, В золотой одежде, чешет Золотые волоса…Костя жадно глядел вдаль, стараясь разглядеть в тумане эту скалу, и искал глазами Лорелею, златокудрую и прекрасную. Искал долго и упорно, затаив дыхание.
Но Лорелеи не было. На набережной слышался грохот телег, ругались извозчики.
Тогда Костя уныло опускал голову, чувствуя, как тоска заползает в сердце, и снова читал. И опять загорался, ерзал, начинал громко выкрикивать фразы, перевертывая страницы дрожащими от возбуждения пальцами, и снова впивался глазами в серую туманную даль.
И вдруг однажды увидел Лорелею.
Она шла от Калинкина моста прямо к скверику, где сидел Костя. Легкий ветерок трепал ее пышные золотистые волосы, и они вспыхивали яркими искорками в свете заходящего солнца.
Правда, на Лорелее была обыкновенная короткая юбка и беленькая блузка, но Костя ничего не видел, кроме золотой короны на голове. Костя по причине плохого зрения не мог даже разглядеть ее лица.
Он сидел неподвижный, с засунутым в рот куском хлеба, и с замиранием сердца следил за светловолосой незнакомкой. Она медленно прошла до конца сквера, так же медленно вернулась и села против Кости, положив ногу на ногу.
Придушенный вздох вырвался из Костиной груди. Он бессильно отвалился на спинку скамьи, не переставая таращить глаза на златокудрую девушку.
Да, вихрем проносилось в Костином мозгу, Лорелея! Именно такой он и представлял ее… Эти чудные волосы, эта пышная корона, окружающая прекрасное, царственное лицо…
Что лицо прекрасно, Костя не сомневался, хотя, сощурившись, видел перед собой только мутный блин.
Забыв о книге, Костя сидел, не спуская глаз с незнакомки, и слушал, как сердце колотилось в груди. Несколько раз он с усилием отводил взгляд, пытаясь сосредоточиться на стихах, но напрасно. Через минуту он снова глядел на нее, а мысли неслись бурным потоком, перескакивая одна через другую.
— Что делать? — бормотал возбужденный Костя. — Как поступить?
Он не может так уйти. Он должен подойти к ней и сказать…
«Что сказать?» — в двадцатый раз с досадой спрашивал он себя.
Прошло полчаса, а Костя все сидел, метал огненные взгляды в сторону незнакомки и обдумывал, как лучше заговорить с ней.
— Лорелея, — шептал он умиленно, — я иду к тебе, Лорелея…
Но Лорелея вдруг встала, отряхнула платье и, неторопливо шагая, вышла из сквера.
Сразу померкла радость. Стало скучно и холодно. В сквер ввалилась компания пьяных, распевавших во все горло:
На банане я сижу, Чум-чара-чура-ра…Костя захлопнул книжку, поднялся и уныло заковылял к выходу…
На следующий день Костя был угрюм и рассеян. На уроках сидел задумчивый, вперив глаза вдаль. Слушал невнимательно, что-то бормоча себе под нос, а на русском языке, когда дядя Дима спросил, какое произведение является наилучшим в творчестве Сейфуллиной, Костя рассеянно сказал:
— Лорелея.
— Лорелея? — переспросил дядя Дима.
Все захохотали. Костя сконфузился.
— Я сказал «Виринея», — поправился он.
— Это он Гейне зачитался! — закричали ребята.
Но едва кончились уроки, Костя ожил. Схватив книжку, он первый выскочил из класса. Ребята еще только начинали чиститься, а Костя уже шагал по Старо-Петергофскому проспекту.
Вот и мост. Костя добежал до сквера, беспокойно оглядывая скамьи, и вдруг радостно задрожал.
«Здесь, — чуть не закричал он, увидев огненную шапку. — Она пришла, Лорелея пришла!»
Он ринулся к скверу. Бухнувшись на свою скамью, в безмолвном восторге уставился он на Лорелею. Умилялся, восторгался, готов был кричать от радости.
Пришла! Она заметила его. Какое чудесное, безмолвное свидание!
Но напрасно убеждал он себя подойти к незнакомке. Проклятая робость сковала все члены.
Опять битых полчаса просидел Костя. Уже стемнело, а он все сидел как приклеенный, чуть не плача с досады.
И опять так же внезапно Лорелея встала и пошла к выходу.
Еще не зная, что будет делать, он вскочил. Вдруг что-то белое выпало из рук незнакомки.
Платок!
Сердце Кости екнуло. Перед глазами вихрем пронеслись прекрасные сцены: пажи, рыцари, дамы, оброненный платок…
Костя кинулся к белевшему на дороге комочку, быстро схватил и развернул его.
Это была обертка от карамели. На бумажке танцевала рыжая женщина, и внизу было написано: «Баядерка».
Поздно ночью, ворочаясь в кровати, Костя меланхолично шептал:
Что бы значило такое, Что душа моя грустна?Потом достал из кармана брюк бумажку, тщательно разгладил ее и долго рассматривал рыжую баядерку. Ему казалось, что это не конфетная обертка, а портрет самой незнакомки.
Осторожно, чтобы не смять, он положил бумажку под подушку и, счастливо улыбаясь, заснул.
На другой день Костя снова был в сквере. И еще раз был. И еще… Незнакомка всегда словно ожидала его. А он, протосковав на скамье целый вечер, уходил домой, так и не решаясь заговорить с ней.
Уроками он совсем перестал интересоваться, писал стихи или мечтал. Даже к Гейне охладел.
Шкидцы ссорились, расходились, заводили новые любовные интрижки, а странный Костин роман, казалось, еще только начинал разворачиваться.
* * *
Костя вошел в сквер. Костя сел на свое место против Лорелеи и, раскрыв для приличия книгу, стал довольно смело поглядывать на незнакомку.
Он уже привык к ней. Сегодня он твердо решил заговорить с ней и тогда… Но к чему заглядывать в будущее?
Костя захлопнул книжку и решительно поднялся. Он уже шагнул к Лорелее, мысленно подготовляя фразу, которая сразу бы открыла ей его намерения. Он не хулиган и не намерен нанести ей какое-либо оскорбление.
Но тут Костя остановился.
Широкоплечий парень в полосатой майке, покачиваясь, подошел к незнакомке…
— Ну, цаца! — расслышал Костя грубый окрик, за которым последовало продолжительное и замысловатое ругательство.
Костя похолодел. Он слышал, как тихо вскрикнула Лорелея. Он уже ясно слышал грубую перебранку, глухой голос парня и выкрики незнакомки, причем голос незнакомки оказался не таким серебристым, каким он представлялся Косте.
Костя еще не знал, как поступить, и стоял в нерешительности, как вдруг парень, выругавшись, замахнулся на незнакомку.
— А-а-а! Убивают! — закричала девушка.
— Стой! — заорал Костя, прыгнув к парню и хватая его за руку. — Ни с места!
Парень отступил на шаг, стараясь вырваться, но Костя продолжал его держать и, повышая голос, кричал:
— Как ты смеешь! Негодяй!
Собралась толпа любопытных. Парень испуганно оглядывался по сторонам. Костя, торжествующий, обернулся к Лорелее.
— Не бойтесь! — сказал он, но тут же голос его осекся. Костя в безмолвном ужасе попятился. Он впервые увидел близко Лорелею, о которой так пламенно мечтал долгими бессонными ночами. Но что это за Лорелея! На него глянуло тупое раскрасневшееся лицо, изрытое оспой и окруженное рыжими растрепанными волосами. В довершение всего от этой особы исходил густой запах спирта.
Костя стоял окоченев, не в силах выдавать ни слова, а вокруг беспокойно спрашивали:
— Что? Что случилось?
— Да вот, — говорил, оправившись, парень, — я с бабой стою тихонько, разговариваю, а он драться лезет…
— Неправда, граждане, — наконец выговорил Костя.
— Как неправда? — вдруг взвизгнула Лорелея и, прижавшись к парню, закричала, указывая на Костю: — Он, хулюган черномазый. Мы разговаривали, а он…
— За это морды бьют, — сказал кто-то.
— Я заступиться хотел! — выкрикнул Костя.
— Я вот покажу тебе, как заступаться! — гаркнул парень, осмелев и наступая на Костю. — Я тебе дам, понт паршивый!
— И правильно будет, — поддакнул опять кто-то. — Учить таких…
Костя беспомощно огляделся и, видя угрожающие лица, направился к выходу.
— Вали, вали! — кричали вслед. — Поторапливайся!
Костя не торопясь, понурившись брел к дому…
* * *
Несколько дней Янкель думал о Тоне, и, чем дальше, тем больше он убеждался: Костя прав.
«Надо сходить», — решил он наконец. К тому же и тоска одолела. До смерти захотелось увидеть черноглазую девочку.
И Янкель пошел.
Распределитель помещался недалеко от Шкиды, на Курляндской улице. Трехэтажное здание окружал небольшой садик.
Перед калиткой Янкель остановился, чувствуя, как замирает сердце. Во дворе несколько девочек в серых казенных платьях играли в лапту.
«А может, ее нет здесь? Перевели куда-нибудь?» — подумал Янкель не то тревожно, не то радостно и, толкнув калитку, вошел в сад.
— Ай, мальчишка! — вскричала одна из девочек. Они бросили игру и остановились, издалека разглядывая его.
— Ты зачем здесь? — крикнула другая, курносая, воинственно размахивая лаптой.
Янкель перевел дух и сказал:
— Мне надо Тоню, Тоню Маркони.
— Тосю? — разом выкрикнули девчонки и побежали к лестнице, крича: — Тося, Тося, выходи! К тебе пижончик.
Янкель стоял ни жив ни мертв. В эту минуту он уже раскаивался, что пришел, и понял, что затеял безнадежное дело. Оробев, он взглянул было на калитку, но знакомый голос пригвоздил его к месту.
— Что вы орете? Как не стыдно! — услышал он и сразу узнал голос Тони. Девочки примолкли и расступились. Янкель увидел ее, выросшую и изменившуюся. Тоня подходила к нему.
Вот она остановилась, оглядела Янкеля с головы до ног, удивленно подняла брови. Она не узнала Гришки.
— Вам что? — строго спросила она.
Янкель растерялся окончательно. Все обращения, которые он придумывал по дороге, словно от толчка выскочили из головы.
— Здравствуй, Тоня, — пролепетал он. — Не узнаешь?
Девочка минуту пристально смотрела на Янкеля, и вдруг яркий румянец залил ее лицо.
«Узнала», — радостно подумал Янкель.
— Тоня! — заговорил он вдохновенно. — Тоня, а ведь я не забыл своей клятвы… Ты видишь…
Тоня молчала, только лицо ее странно подергивалось, будто она готова была расплакаться. Янкель запнулся на минуту и сбился…
— А ты… ты помнишь клятву? — смутившись, спросил он.
Тоня минуту помолчала, словно раздумывая, потом, качнув головой, тихо сказала:
— Нет, я ничего не помню…
— Ну да, — недоверчиво протянул Янкель. — А как по ночам болтали, не помнишь?
— Нет…
— А про папу своего американца-изобретателя тоже не…
Внезапно Янкель замолчал и с испугом поглядел на Тоню. Девочка стояла бледная, кусая губы, и с ненавистью смотрела на него. Казалось, сейчас она закричит, затопает, обругает его.
— Тося! — позвал чей-то тонкий голос. — Открой библиотеку…
— Сейчас! — крикнула Тоня, и, когда снова повернулась к Янкелю, лицо ее было уже спокойно.
— Слушайте, — сказала она тихо. — Убирайтесь вон отсюда.
— Убираться? — спросил Янкель. — Отсюда?
Улыбка еще блуждала на его физиономии, когда он ошалело повторял:
— Значит, совсем?.. Убираться?
— Да, совершенно.
— Окончательно?
Янкель очутился за калиткой.
— А клятва? — дрогнувшим голосом спросил он, подняв глаза на Тоню. И на секунду что-то хорошее мелькнуло на ее лице, но тотчас же исчезло.
— Поздно вспомнил, — сказала она тихо. — Все кончено.
— Совсем?
— Навсегда.
Янкель уныло вздохнул.
— Ламца-дрица! — сказал он с грустью, потом плюнул на носок сапога и тихо заковылял прочь.
* * *
Янкель медленно шел, раздумывая о случившемся. У школы его окликнула знакомая торговка конфетами.
— Гришенька, — кричала девчонка. — Хочешь конфетов?
— Давай, — сказал Янкель и, не глядя, протянул руку.
Эта девчонка уже давно заигрывала с ним, но Янкель не обращал на нее внимания.
Девчонка выбирала конфеты, а сама поглядывала на Янкеля и тараторила не переставая.
Янкель не слушал ее. Внезапно новая мысль осенила его.
— Хорошо! — сказал он. — Пусть отвергает, мы не заплачем.
Он быстро взглянул на девчонку и спросил:
— Хочешь, гулять с тобой буду?
Девчонка зарделась.
— Да ведь если нравлюсь…
— Неважно, — сказал Янкель. — Завтра в семь. — И пошел в школу.
— Кобчик вешается! — крикнул Мамочка, едва Янкель показался в дверях.
— Где???
— В уборной. Закрылся, кричит, никого не подпускает…
Янкель побежал наверх. Оттуда доносился отчаянный шум. Когда они вбежали в класс, там происходила свалка. Ребята вытащили Костю из уборной. Он брыкался и кричал, чтобы его отпустили. Потом вырвался и полез в окно. Его держали, а он, отбиваясь, исступленно вопил:
— Пустите, не могу!
— Костя, ангелок, успокойся.
— Не успокоюсь!..
Долго болтались Костины ноги над Старо-Петергофским проспектом, но все же ребята одолели его и втащили обратно.
Костя притих, лишь изредка хватался за голову и скрипел зубами.
Поздно вечером Янкель и Костя сидели в зале.
— Плюнь на все, — утешал Янкель, — девчонок много. Я вон себе такую цыпочку подцепил, конфетками угощает.
Янкель вынул горсть конфет. Костя протянул было руку, но тотчас отдернул. На карамели плясала рыжая баядерка.
— Не ем сладкого, — сказал он, морщась. Потом, поглядев на Янкеля, спросил:
— А ты был у своей?
— Я? — удивился Янкель, — У кого это? Уж не у той ли, о которой рассказывал?
— Ну да, у той…
— Вот чудак! — захохотал Янкель. — Вот чудак! Очень мне надо шляться ко всякой. Не такой я дурак.
А немного помолчав, грустно добавил:
— Ну их… Женщины, ты знаешь, вообще какие-то… непостоянные…
* * *
Весна делала свое дело. В стенах Шкиды буйствовала беспокойная гостья — любовь.
Кто знает, сколько чернил было пролито на листки почтовой бумаги, сколько было высказано горячих и ласковых слов и сколько нежнейших имен сорвалось с грубых, не привыкших к нежности губ.
Даже Купа, который был слишком ленив, чтобы искать знакомств, и слишком тяжел на подъем, чтобы целые вечера щебетать о всякой любовной ерунде, даже он почувствовал волнение и стал как-то особенно умильно поглядывать на кухарку Марту и чаще забегать на кухню, мешая там всем.
— Черт! — смеясь, ругалась Марта, но не сердилась на Купу, а даже наоборот, на зависть другим стала его прикармливать. Купа раздобрел, разбух и засиял, как мыльный шар.
Янкель же, словно мстя старой подруге, с жаром и не без успеха стал ухлестывать за торговкой конфетами и даже увлекся ею.
Теперь все могли хвастать своими девицами по праву, и все хвастали. А однажды сделали смотр своим «дамам сердца».
По понедельникам в районном кино «Олимпия» устраивались детские сеансы, в этом же кино в майские дни начальство решило устроить большой районный детский праздник.
Так как при кино был сад, решили празднество перенести на воздух.
К этому дню готовились долго и наконец известили школы о дне празднования. Празднество обещало быть грандиозным. Шкида не на шутку взволновалась. Влюбленные парочки, разумеется, сговорились о встрече в саду и теперь готовились вовсю.
Наконец наступил этот долгожданный день.
После уроков ребят одели в праздничную форму, заставили получше вымыться и наконец, построив в пары, повели в сад.
Шкида явилась туда в самый разгар сбора гостей и едва-едва удерживалась в строю, но приказ Викниксора гласил: «Не распускать ребят раньше времени», и халдеи выжидали.
Праздник начался обычным киносеансом в театре. Показывали кинодраму, потом комическую и видовую, а после сеанса ребята заметили исчезновение из театра пятерых «любовников». Однако очень скоро их нашли в саду.
Все они были с подругами и прогуливались, гордо поглядывая на товарищей. Это было похоже на конкурс: чья подруга лучше? В этом соревновании первенство завоевал Джапаридзе. Черномазый грузин закрутил себе такую девицу, что шкидцы ахали от восхищения:
— Вот это я понимаю!
— Это да!
— Вот так синьорита Маргарита!..
Невысокая, с челкой, блондинка, по-видимому, была очень довольна своим кавалером, жгучим брюнетом, и совершенно не замечала его хитростей. А Дзе нарочно водил ее мимо товарищей и без устали рассказывал смешные анекдоты, отчего ротик девочки все время улыбался, а голубые глаза сверкали весело и мило.
Она оказалась лучшей из всех шкидских подруг, и Янкель, очарованный ее красотой, невольно обозлился на свою пару, курносую, толстую девицу, беспрерывно щелкавшую подсолнухи, которые она доставала из платка, зажатого в руке.
«Ну что за девчонка?» — злился Черных, чувствуя на себе насмешливые взгляды ребят. Наконец, не выдержав, он силой увлек ее за деревья и остановился, облегченно вздыхая.
— Давай, Маруся, посидим, отдохнем, — предложил он.
— Ой, нет, Гришенька, — кокетливо запищала толстуха, — от чего отдыхать-то? Я не устала, я не хочу. Скоро ведь танцы будут. Пойдем, Гришенька…
И она опять повисла на руке своего кавалера. Гришенька скрипнул зубами и, с толстухой на буксире, покорно потащился туда, где ярко сияли электрические фонари и где в большой деревянной «раковине» военные музыканты уже настраивали свои трубы и кларнеты.
Скоро в саду начались танцы. Мягко расползались звуки вальса по площадке, и пары закружились в несложном па. Стиснув зубы, закружился и Янкель со своей немилой возлюбленной.
* * *
Пример заразителен. Праздник помог почти всем шкидцам отыскать себе «дам», результатом чего явилось около двадцати новых влюбленных»
Влюбленных было легко распознать. Они были смирны, не бузили, все попадали в первый или второй разряд и все стали необычайно чистоплотны.
Обычно так трудно было заставить ребят умываться, — теперь они мылись тщательно и долго. Кроме того, Шкида заблестела проборами. Причесывались ежеминутно и старательно.
Такая же опрятность появилась и в одежде. Республика Шкид влюбилась.
Не обошлось и без трагических случаев. Бобра однажды из-за подруги побили, так как у этой подруги уже был поклонник, ревнивый и очень сильный парень, который не замедлил напомнить о себе и свел знакомство с Бобром на Обводном канале.
После этого Бобер целую неделю не выходил на улицу, одержимый манией преследования.
Цыган также много вытерпел, так как его девочка любила ходить в кино, а денег у него не было, и приходилось много и долго ее разубеждать и уверять, что кино — это гадость и пошлость.
За любовь пострадал и Дзе. Ради своей возлюбленной он снес на рынок единственное свое сокровище — готовальню, а на вырученные деньги три дня подряд развлекал свою синеглазую румяную подругу из нормального детдома.
Весна бежала день за днем быстро и незаметно, и Викниксор, поглядывая на прихорашивающихся ребят, озабоченно поговаривал:
— Растут ребята-то. Уже почти женихи. Скоро надо выпускать, а то еще бороду отрастят на казенных хлебах.
* * *
В любовных грезах шкидцы забыли об опасностях и превратностях судьбы, но однажды смятение и ужас вселились в их размягченные сердца.
Викниксор пришел и сказал:
— Пора стричь волосы. Лето наступает, да и космы вы отрастили — смотреть страшно. Грязь разводите!
Слова простые, а паники от них — как от пожара или от наводнения.
Волосы стричь!
— Да как же я покажусь моей Марусе, куцый такой?
Увлекшись сердечными делами, ребята забыли о стрижке, хотя и знали, что это было в порядке вещей, как и во всех других детских домах.
И вот однажды за ужином было объявлено: завтра придет парикмахер.
Однако старшие решили отстоять свои волосы. Созвали негласное собрание и послали делегацию, чтобы просить разрешения четвертому и третьему отделениям носить волосы. Викниксор смягчился, и разрешение было дано, но лишь одному четвертому отделению, и при условии, чтобы ребята всегда держали волосы в порядке и причесывались. На другой день им выдали гребни, которые при детальном обследовании оказались деревянными и немилосердно драли на голове кожу. Однако и деревянные гребни были встречены с радостью.
— Наконец-то мы — взрослые.
— Даешь прическу!
Но скоро злосчастные волосы принесли новое горе. Часто на уроке за трудной задачей шкидец по привычке лез пятерней в затылок, и в результате голова превращалась в репейник, а халдей немедленно ставил на вид небрежный уход за прической. Старшие оказались между двух огней. Лишиться волос — лишиться подруги, оставить волосы — нажить кучу замечаний.
Но недаром гласит русская пословица, что, мол, голь на выдумки хитра. Дзе дал республике изобретение, которое обеспечило идеальный нерассыпающийся пробор. Изобретение это демонстрировалось однажды утром, в умывальне.
— Способ необычайно прост и легок, — распространялся Джапаридзе, стоя перед толпой внимательно слушавших его ребят. Потом он подошел к умывальнику и с видом фокусника начал объяснять изобретение наглядно, производя опыт над собственной головой.
— Итак. Я смачиваю свои взбитые волосы обыкновенной сырой водой без каких-либо примесей.
Он зачерпнул воды из-под крана и облил голову.
— Затем гребнем я расчесываю волосы, — продолжал он, проделывая сказанное. — А теперь наступает главное. Пробор готов, но прическу надо закрепить. Для этого мы берем обыкновенное сухое мыло и проводим им по пробору в направлении зачеса, чтобы не сбить прически. Через пять минут мыло засохнет, и ваш пробор никогда не рассыплется.
Изобретение каждый испытал на себе, и все остались довольны. Правда, было некоторое неудобство. От мыла волосы слипались, на них образовывалась крепкая кора, и горе тому, кто пробовал почесать зудевший затылок. Рука его не могла проникнуть к нужному месту. Кора мешала. Преимущество же было в том, что раз зачесанная прическа держалась весь день, а кроме того, придавала волосам особый, блестящий вид.
Шкида засверкала новыми проборами, и вновь все тревоги были забыты. А под окнами на теплых и пыльных тротуарах снова нежно заворковали парочки голубков.
Но изобретению Дзе не дали хода. Кто-то рассказал об этом Викниксору, а тот из предосторожности решил посоветоваться с врачом. Врач и погубил все.
— От таких причесок беда. Насекомые разводятся. Вы запретите им это проделывать, а то вся школа обовшивеет.
Этого было вполне достаточно, чтобы на другой день привилегированных старших парикмахер без разбора подстриг под «нулевой». Вместе с волосами исчезла и любовь. Никто не пошел вечером на свидание с девицами, и те, прождав напрасно, ушли.
Республика Шкид проводила весну, солнце уже пригревало по-летнему, и у ребят появились другие интересы.
Так как на лето школа осталась на этот раз в городе, надо было искать курорт, и его после недолгих поисков нашли в Екатерингофском парке на берегах небольшого пруда, около старого Екатерининского дворца. Сюда устремились теперь все помыслы шкидцев: к воде, к зелени, к футболу, и здесь за беспрерывной беготней постепенно забывались теплые белые весенние ночи, нежные слова и первые мальчишеские поцелуи.
На смену любви пришел футбольный мяч, и только Джапаридзе нет-нет да и вспоминал с грустью о голубоглазой блондинке из соседнего детдома, и даже, пожалуй, не столько о ней, сколько о загубленной своей готовальне, новенькой готовальне с бархатным нутром и ровненько уложенными блестящими циркулями. Только Дзе грустно вспоминал весну…
Крокодил
Племянник Айвазовского. — Крррокодил. — Карандаши. — «Крыть». — Коварный толстовец. — Плюс на минус = 0. — Индульгенции.
Он вошел в канцелярию, снял поблекшую фетровую шляпу, поправил завязанный на шее бантом шарф и отрекомендовался:
— Сергей Петрович Айвазовский, племянник своего дяди — Айвазовского — того самого, что «Девятый вал» написал и вообще…
Пришел просить места. Долгая безработица истрепала нервы, измучила голодом, холодом и тоской безделья… Айвазовский решил обратиться в дефективный детдом.
Викниксор просмотрел рекомендацию губоно и, просматривая, мельком оглядел Айвазовского.
Был он довольно высокого роста, широк в плечах, а гордое, с поднятым носом, лицо заставляло предполагать твердый и сильный характер.
— Хорошо, — сказал Викниксор. — Я приму вас штатным воспитателем; но, кроме того, нам нужен преподаватель рисования… Вы могли бы?..
— Я племянник Айвазовского, — с гордостью ответил тот. — А кроме того, я окончил Академию художеств. Я…
— Прекрасно, — оборвал завшколой. — Вы зачислены в штат. Завтра вы дежурите с двух часов дня. Надеюсь, вы сумеете подойти к воспитанникам.
— О! — воскликнул Айвазовский. — Это я сумею сделать… У меня есть опыт… Я…
Похоже было, что он хотел добавить — «племянник Айвазовского», но не сказал этого, не успел: в коридоре затрещал звонок, возвещая о конце урока, и канцелярия заполнилась педагогами и воспитателями.
Айвазовский помял шляпу, посмотрел на разговорившегося с другими Викниксора, хотел было протянуть руку, потом раздумал и, сказав: «До завтра», вышел из канцелярии, поблескивая золоченым пенсне на задранном вверх носу.
На другой день после уроков в класс четвертого отделения вошел Викниксор в сопровождении Айвазовского.
Воспитанники встали.
— Ребята, — проговорил Викниксор, — вот ваш новый воспитатель… Художник. Очень хороший человек… Надеюсь, что сойдетесь с ним…
Когда Викниксор вышел из класса, ребята обступили нового воспитателя.
Тот, в свою очередь, сжав под мышкой портфель, рассматривал через пенсне своих новых питомцев. В классе он почему-то сразу возбудил смешливое настроение.
— Как имя твое, о пришелец, новый воин из стана халдеев? — притворно торжественным тоном вопросил Японец.
— Меня зовут Сергей Петрович, — ответил воспитатель. — А фамилия моя Айвазовский.
— Айвазовский! — раздались возгласы. — Не художник ли?
— Да, художник, — вскинув голову, ответил халдей. — Я племянник своего дяди Айвазовского, который написал «Девятый вал» и другие картины.
— Здорово! — воскликнул Янкель.
Ребята еще плотнее обступили нового воспитателя.
Тот уселся за пустую парту и положил перед собой портфель.
— А вы что делаете? — спросил он. — Чем занимаетесь в свободное время?
— Халдеев бьем, — пробасил Купец.
— Что? — переспросил Айвазовский.
— Халдеев бьем, — повторил Офенбах. — Бузим, в очко дуемся…
— Да-а, — протянул Айвазовский, не понявший сказанного Купцом. — А я, — сказал он, — иначе с вами занятия поведу. У меня своя система воспитания.
— Какая же у вас система? — спросил кто-то.
— Может, расскажете? — попросил Янкель.
— У меня система следующая: я сам провожу с воспитанниками часы их досуга, читаю им вслух, играю…
В толпе ребят кто-то хихикнул.
— Интересно, — сказал Янкель. — Что ж, вы сегодня и приступите к воспитательной работе?
— Да, я думаю.
«Племянник своего дяди» порылся в портфеле и вытащил какую-то книжку.
— Я прочту вам сейчас интересную вещь, — сказал он. — Я хорошо читаю; кончил, между прочим, декламационные курсы…
— Валите, читайте, — перебил Ленька Пантелеев.
Айвазовский положил книгу на стол.
— Это что? — спросил Япошка и, взглянув на заглавие, громко расхохотался.
— «Крокодил» Корнея Чуковского, — прочел он. — Ловко!
Класс задрожал от смеха.
Воспитатель недоумевающе оглядел смеющихся и спросил:
— Вы чего смеетесь? Это очень интересная книга.
— Ладно, читайте! — снова закричал Пантелеев.
Айвазовский встал, поставил ногу на скамейку парты и, закинув голову, начал:
Жил да был крокодил, Он по Невскому ходил, Папиросы курил, По-турецки говорил… Кр-ро-кодил, Кррро-кодил Крррокодилович…Читал он эти детские юмористические стихи с таким пафосом, так ревел, произнося слово «крокодил», что слушать без смеха было нельзя. Ребята заливались.
Айвазовский обиженно захлопнул книгу.
— Что смешного? — сказал он задрожавшим от обиды голосом. — Вы глупые мальчишки и не понимаете поэзии.
— Вали, читай! — кричали ребята. — Читайте, Сергей Петрович!
Похмурившись немного, воспитатель перевернул страницу и продолжал чтение. Каждый раз, как он декламировал: «Кр-ро-кодил, кррро-кодил, Крррокодилович», стекла в классе дрожали от неудержимого, буйного, истерического смеха.
Когда он кончил, Японец вскочил на парту и произнес:
— Внимание! Традиции и обычаи Улиганской республики в частности и всей Шкиды в целом требуют, чтобы каждому новому шкидцу или халдею давалась кличка. Настоящий новоиспеченный халдей не является исключением и ждет своего боевого крещения. Думаю, что имя Крокодил больше всего подойдет к нему.
— Браво! — закричали ребята и наградили Япошку аплодисментами.
Потом каждый счел долгом подойти к Айвазовскому, похлопать его по плечу и сказать:
— Поздравляю, Крокодил Крокодилович.
Воспитатель сидел, растерянно разглядывая облепившие его лица. Он не знал, что делать, или же просто не сумел проявить свой прекрасный воспитательский опыт.
Так началась педагогическая карьера Крокодила Крокодиловича Айвазовского, племянника своего дяди, великого морского пейзажиста Айвазовского. С первых же дней он потерял у воспитанников авторитет…
— Барахло, — сказали шкидцы.
* * *
Первый урок рисования состоялся на другой день в четвертом отделении. Крокодил вошел в класс и, пройдя к учительскому столу, поставил на него карельской березы ящичек с карандашами и вылитый из гипса усеченный конус.
При его входе встало человек пять, остальные решили испытать отношение нового педагога к дисциплине и остались сидеть. Крокодил никому замечания не сделал, а, выложив из ящика груду разнокалиберных карандашных огрызков, сказал:
— Возьмите себе по карандашу.
Каждый подошел к столу и выбрал огрызок подлиннее и получше. На столе осталось еще штук двадцать пять карандашей.
Япошка, страдавший какой-то чувственной любовью к предметам канцелярского обихода — карандашам, перьям, бумаге, — подмигнул Янкелю и, вздохнув, шепнул:
— Смачно. А?
— Д-да, — поддакнул Черных, жадно оглядев карандашную груду.
— Приготовьте бумагу, — скомандовал преподаватель.
— Новое дело, — возмутился Воробей. — Что мы, свою бумагу будем портить, что ли?
— Факт, — поддержал Пантелеев. — Тащите из халдейской — там этого добра имеется.
— Верно? — спросил Крокодил. — У вас такой порядок?
— А то как же иначе.
Крокодил пошел в канцелярию.
Не успела захлопнуться дверь, как Япошка, Янкель, а за ними и все остальные ринулись к столу.
Через секунду от карандашной груды на столе осталась жалкая кучка в пять–шесть самых плохих, рвущих бумагу карандашей.
Возвратившись с бумагой, Крокодил не заметил расхищения. Он роздал бумагу и, поставив на верх классной доски усеченный конус, предложил воспитанникам нарисовать его.
Имевшие склонность к изобразительным искусствам принялись рисовать, а остальные, вынув из парт книжки, углубились в чтение.
Книги читали самые разнохарактерные.
Янкель мысленно перенесся в Нью-Йорк и там на Бруклинском мосту вместе с «гениальным сыщиком Нат Пинкертоном» сбрасывал в воду Гудзонова пролива двенадцатого по счету преступника…
Японец переходил от аграрной революции к перманентной и, не соглашаясь с Каутским, по привычке даже в уме пошмыгивал носом…
Пантелеев сочувственно вздыхал, ощущая острую жалость к коварно обманутой любовником бедной Лизе, а Джапаридзе дрался в горячей схватке на стороне отважных мушкетеров, целиком погрузившись в пухлый том романа Дюма…
Класс разъехался в разные части света: кто к индейцам в прерии, кто на Северный полюс. Звонка не услышал никто, и к настоящей жизни из мира грез призвал лишь возглас Крокодила:
— А где же карандаши?
Никто не ответил.
— Где же карандаши? — повторил педагог.
Опять никто не ответил. Воспитанники разбрелись по классу и не обращали внимания на воспитателя.
— Отдайте же карандаши! — уже с ноткой отчаяния в голосе прокричал Крокодил.
— Пошел ты, — пробасил Купец, — не зевай, когда не надо.
Ребята рассмеялись.
— Не зевай, Крокодил Крокодилович, — сказал Сашка Пыльников и хлопнул воспитателя по плечу.
— Ах, так! — закричал Крокодил. — Так я вам замечание запишу в «Летопись». Мне Виктор Николаевич сказал: будут шалить — записывайте.
— Ни хрена, — возразил Ленька Пантелеев. — Всех не перепишете.
— Нет, перепишу, — ответил уже дрожавший от негодования Крокодил. — Я вам коллективное замечание напишу… Колл-лективное замечание! — повторил он и, осененный этой мыслью, сорвался с места и, схватив усеченный конус и пустой ящичек, выбежал из класса.
«Коллективное замечание» он действительно записал:
«Воспитанники четвертого отделения похитили у преподавателя карандаши и отказались их возвратить, несмотря на требования учителя».
Викниксор заставил класс возвратить карандашные огрызки и оставил все отделение на два дня без прогулок.
Класс озлобился.
— Ябеда несчастный! — кричал Японец в набитой до отказа верхней уборной.
— Ябеда! Фискал! Крокодил гадов!
— Покрыть его!.. — предложил кто-то.
— Втемную!
— Отучить фискалить!
Решили крыть.
Вечером, когда Айвазовский вошел в класс, ему на голову набросили чье-то пальто, кто-то погасил электричество, затем раздался клич:
— Бей!
И с каждой парты на голову несчастного халдея полетели тяжеловесные книжные тома.
Кто-то загнул по спине Айвазовского поленом. Он закричал жалобно и скрипуче:
— Ай! Больно!
— Хватит! — крикнул Японец.
Зажгли свет. Крокодил сидел за партой, склонив голову на руки. Со спины у него сползало старое, рваное приютское пальто.
Злоба сразу прошла, стало жалко плачущего, избитого халдея.
— Хватит, — повторил Япошка, хотя уже никто не думал продолжать избиение.
Айвазовский поднял голову. Лицо сорокалетнего мужчины было мокро от слез. Жалость прошла, стало противно.
— Тьфу… — плюнул Купец. — Как баба какая-то, ревет. А еще халдей… У нас Бебэ и тот не заплакал бы. Таких только бить и надо.
Айвазовский жалко улыбнулся и сказал:
— Ладно, пустяки.
Стало еще жалостнее… Стало стыдно за происшедшее…
— Вы нас простите, Сергей Петрович, — хмуро сказал Японец. — Запишите нам коллективное замечание для формы, а как человек — простите.
— Ладно, — повторил Крокодил. — Я вас прощаю и записывать никого не буду.
— Вот это человек, — сказал Пантелеев. — Бьют его, а он прощает. Прямо толстовец какой-то, а не халдей.
Айвазовский встал.
— Ну, я пойду…
Дойдя до дверей и открыв их, он вдруг круто обернулся и, побагровев всем лицом, закричал:
— Я вам покажу, дьяволы!.. Я вам… Сгною! — проревел он и выбежал из класса.
* * *
Поведение Айвазовского возбуждало всеобщую злобу. Случай с «христианским прощением» нашел отклик: Крокодила покрыли и в третьем отделении.
Кипчаки избили его основательно и, когда он попытался разыграть и у них умилительную сцену «всеобщего прощения», добавили еще и «на орехи». Били не книгами, а гимнастическими палками и даже кочергой. На оба отделения градом сыпались замечания, все воспитанники этих отделений не выходили из четвертого и пятого разрядов.
В ответ на усиление наказаний разгоралась и большая буза… Крокодил не успевал отхаживать синяки.
В «Летописи» тех дней попадались записи такого рода:
«Еонин и Королев не давали воспитанникам старшей группы покоя: в продолжение нескольких часов кричали, смеялись, разговаривали, всячески ругали воспитателя, называя его всевозможными эпитетами, особенно Королев, который неоднократно подходил к койке воспитателя, стараясь его ударить, придавить и т.п.».
Или:
«Пантелеев в спальне говорил Еонину, спрашивая у него: «Дай мне сапог, я хочу ударить им в воспитателя»
Или:
«Кто-то из воспитанников бросил сапогом в воспитателя при общем и единодушном одобрении учеников старшей и третьей группы».
Обилие замечаний в «Летописи» заставило задуматься педагогический совет школы, в частности и самого Викниксора. Нужно было найти что-нибудь, что бы отвлекло воспитанников от бузы и помогло им выйти из бесконечного пятого разряда.
И Викниксор придумал.
Однажды за ужином он заявил:
— Ребята… До сих пор у нас были только плохие замечания… Сейчас мы вводим и хорошие замечания… каждый ваш хороший поступок будет записываться в «Летопись». Плюс на минус равняется нулю… Хорошее замечание уничтожает плохое.
Шкида радовалась, но недолго.
Вскоре оказалось, что хороший поступок — определение неясное.
В тот же день Офенбах, полгода не бравший в руки учебника географии, вызубрил наизусть восемнадцать страниц «Европейской России».
Хорошего замечания он не получил, так как оказалось, что учить уроки — вещь хорошая, но не выдающаяся, учиться и без замечаний надо… Все упали духом, а Офенбах, не имея сил простить себе сделанной глупости, со злобы избил Крокодила.
Тогда Викниксор нашел выход.
— Поступком, который заслуживает хорошего замечания, — сказал он, — будет считаться всякая добровольная работа по самообслуживанию — мытье и подметание полов, колка дров и прочее.
Шкида взялась за швабры, пилы и мокрые тряпки, принялась «заколачивать» хорошие замечания.
Воспитатели записывали замечания часто без проверки. Это навело хитроумного и изобретательного Янкеля на идею.
Однажды он подошел к Крокодилу и сказал:
— Запишите мне замечание — я уборную вымыл.
Айвазовский тотчас же сходил в канцелярию и записал:
«Черных добровольно вымыл уборную».
Янкелю это понравилось. Через полчаса он опять подошел к Крокодилу.
— Запишите — я верхний зал подмел.
Крокодил недоверчиво посмотрел на воспитанника, но все-таки пошел записывать. Янкель, обремененный десятком плохих замечаний, обнаглел.
— Я и нижний зал подмел! — крикнул он вслед уходящему Айвазовскому. — Запишите отдельно.
Монополизировать изобретение Янкелю не удалось. Скоро вся Шкида насела на Крокодила. В день он записывал до пятидесяти штук хороших замечаний.
Шкида выбралась из пятого разряда и уже подумывала пробираться к первому, когда Викниксор, заметив злоупотребления с Крокодилом, запретил последнему записывать кому-либо «плюсные» замечания.
К этому времени относится и появление «индульгенций».
Вечно избиваемый, оплеванный Крокодил дошел до последней степени падения. Когда его избивали, он просил, умолял, чтобы его не били, извинялся…
— Извиняюсь, — говорил он воспитаннику, который из юмористических побуждений наступал ему на ногу.
Держал он себя кротко и плохие замечания записывал лишь в крайних случаях.
Тогда Еошка придумал следующую вещь.
— Мы знаем, — сказал он, — что вам записывать плохие замечания велит Викниксор, — иначе бы вы не стали халдейничатъ, побоялись…
— Да, ты прав, я принужден записывать, — согласился Айвазовский.
— А поэтому, — заявил Японец, — я предлагаю следующее: за каждое ваше замечание вы будете выдавать нам бумажку, индульгенцию, предъявитель которой может вас в любой момент избить без всякого с вашей стороны противоречия.
Не смевший пикнуть в присутствии Купца Крокодил беспрекословно согласился.
Каждый раз, записав замечание, он выдавал записанному им воспитаннику бумажку такого содержания:
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ
Предъявитель сего имеет право избить меня в любой день и час, когда я свободен и не в канцелярии.
С. П. Айвазовский.
Текст и форму индульгенции составил Японец. Он же первый получил индульгенцию, но избивать Крокодила не стал и бумажку спрятал.
Айвазовский вошел в класс.
— К вам дело, — заявил Японец.
— Какое дело? — спросил Крокодил, усаживаясь на свое место.
Японец подошел к нему, вынул из кармана пачку бумажек и, сосчитав их, положил на стол.
— Двадцать восемь штук, сэр, — сказал он.
— Это что? — прошептал Крокодил, побледнев.
— Индульгенции, милый друг, индульгенции, — ответил Японец. — Ну-ка, подставляй спину.
Педагог, не сказав ни слова, с тоской посмотрел на Купца и нагнул спину. Под дружный хохот класса Японец отстегал двадцать восемь ударов.
За ним вышел Цыган.
— У меня меньше, — сказал он, — двадцать шесть штучек только.
Он отхлопал свои двадцать шесть ударов.
Потом вышел Купец. При виде его Крокодил задрожал.
— Ну, — пробасил Купец, — нагинайся.
Он ударил кулаком по спине несчастного халдея.
Крокодил взмолился:
— Не так сильно. Больно ведь!
Все сгрудились около стола… Офенбах замахивался в восьмой раз, когда возглас у дверей заставил ребят обернуться:
— Довольно!
У стены стоял Викниксор. Он стоял уже больше минуты и с изумлением смотрел на творящееся.
— Довольно, — повторил он, — сядьте на места.
Потом, взглянув на оправлявшего пальто Крокодила, он сказал:
— Вы мне нужны — на минутку…
Айвазовский встал и вышел за Викниксором из класса.
Больше Шкида его не видала.
Преступление и наказание
Весна на крыше. — Вандалы. — Генрих Гейне. — Засыпались. — На гопе. — Мефтахудын в роли сыщика. — Золотой зуб и английские ботинки.
Солнечные зайчики бегали по стенам. В открытое окно врывался и будоражил молодые сердца шум весенней улицы. Сидеть в четырех стенах было просто невозможно.
Сашка Пыльников и Ленька Пантелеев вышли во двор.
На дворе кипчаки играли в лапту, и рыжая Элла, примостившись на бревне, читала немецкий роман.
На дворе было хорошо, но сламщикам хотелось уйти от шума, где-нибудь полежать на солнышке и поговорить.
— Полезем на крышу, — предложил Сашка.
По мрачной, с провалами, лестнице они взобрались на крышу полуразрушенного флигеля. После темного чердака резкий свет заставил их зажмурить глаза.
— Вот это — лафуза, — прошептал Сашка.
На крыше только что стаял снег. Лишь местами в тенистых прикрытиях он серел небольшими пятнами… Ржавое железо крыши еще не успело накалиться, но было теплым и приятным, как плюш.
Товарищи легли на скате, упершись ногами в края водосточного желоба и заложив руки за голову… Ленька закурил. Минут пять лежали молча, не шевелясь. Умильно улыбались и, как котята, жмурились на солнце.
— Хорошо, — мечтательно прошептал Сашка. — Хорошо. Так бы и лежал и не вставал.
— Ну нет, — ответил Пантелеев, — я бы не согласился лежать все время. В такой день побузить хочется — руки размять…
Он вдруг выпрямился и, нагнувшись к Сашке, ударил его широкой ладонью по животу. Сашка завизжал, завертелся, как вербная теща, и, схватив за шею Пантелеева, повалил его на себя.
Равные силы сверстников заставили их минут десять бороться за первенство. Наконец Пыльников победил. Прыгая около лежащего на лопатках Пантелеева, он кричал:
— Здорово! В один хавтайм уложил чемпиона мира.
Пантелеев улыбался широкой калмыцкой улыбкой и хрипел:
— Нечестно. На шею надавил, а то бы…
Лежать уже не хотелось… Меланхоличность Сашки сошла на нет, и он уже отплясывал гопака по дряблой крыше флигеля.
Под ногу ему подвернулся камень. Сашка схватил его и, размахнувшись, пустил в небо. Острый камень со свистом проделал параболу, скрылся из глаз и упал где-то далеко, на чужом дворе.
— Смачно! — воскликнул Ленька и принялся искать камень, чтобы не ударить лицом в грязь. Камня на крыше не оказалось, и Ленька полез через слуховое окно на чердак. Через минуту он вернулся с полным подолом красного кирпичного щебня.
— А ну-ка?! — Черная точка взлетела к небу и погасла. За ней другая…
— Так кидаться неинтересно, — сказал Сашка. — Надо цель какую-нибудь найти.
Он подошел к краю крыши и заглянул вниз.
Внизу узкий проход между двумя стенами занимала помойная яма. Параллельно флигелю вытянулось одноэтажное здание домовой прачечной.
Солнце ломало лучи о высокий остов флигеля и золотило верхние рамы окон.
Сашка минуту посидел на корточках, как зачарованный глядя на сверкающие стекла, потом протянул руку, взял камень и, не сходя с места, бросил им в стекло.
Стекло треснуло, зазвенело и рассыпалось тысячами маленьких брильянтиков.
Сашка поднял голову. Ленька стоял возле него и, не сводя глаз, молча смотрел на зияющий оскал свежей пробоины. Потом он взял камень, нацелился и выбил остаток стекла верхней рамы.
…Кидали долго, ни на минуту не останавливались, бегали на чердак за свежим запасом щебня, бросали целые кирпичи. Когда в окнах прачечной не осталось ни одного стекла, товарищи переглянулись.
— Ну, как? — глупо спросил Ленька.
— Дурак! — буркнул Сашка, заглядывая вниз.
Солнце, как и раньше, улыбалось широкой приветливой улыбкой, в воздухе играла весна, но на крыше почему-то стало неуютно; уже не хотелось валяться на скате и прижиматься щекой к плюшу.
— Хряем вниз, — сказал Пыльников.
Когда они спускались по мрачной лестнице, Ленька выругался и сказал:
— Наплевать… Не узнают… Никто не видел.
Сашка ничего не ответил, только вздохнул. Никем не замеченные, они вышли во двор. Малыши все еще играли в лапту. Серый мяч, отлетая от плоской доски, прыгал в воздухе. Эланлюм сидела на бревнышке и, отложив книгу, мечтательно рассматривала барашковое облачко на синем небе. Ленька и Сашка подошли к ней и, попросив разрешения, уселись рядом на пахучую сосновую поленницу.
— Где вы были? — проницательно оглядев питомцев, спросила Элла.
Ленька перекинулся взглядом с Сашкой и ответил:
— В классе, Элла Андреевна.
— В классе? Что же вы там делали?
— Ельховский пыль стирал. Он дежурный, а я… — Ленька вдруг притворно смутился.
— А ты что?
— А я… я, Элла Андреевна, сейчас над переводом из Гейне работаю…
Эланлюм удивленно вскинула глаза, потом улыбнулась.
— Правда? Гейне переводишь? Молодец. Ну что ж, выходит?
Пантелеев заврался.
— Очень даже выходит. Я уже сто двадцать строк перевел.
Он чувствовал, что Сашка смотрит на него и делает какие-то знаки глазами, но повернуться не мог.
— Я вообще немецким языком очень интересуюсь, — продолжал он. — Прямо, вы знаете, как-то… очень люблю немецкий.
Вестфальское лицо Эланлюм расцвело.
— Я и из Гете переводы делаю, Элла Андреевна.
Для Эланлюм этого было достаточно.
— Ты должен показать мне все эти переводы. И почему вообще ты раньше не показывал их мне?
Пыл разглагольствования внезапно сошел с Леньки… Он вдруг ни с того ни с сего насторожился и, пробормотав: «Кажется, Япошка зовет» — быстрыми шагами пошел со двора.
За ним ринулся и Сашка.
Когда они поднимались по лестнице в Шкиду, Сашка спросил:
— Зачем ты врал о всяких Гейне и Гете? И откуда ты выкопаешь переводы?
Ленька не знал, зачем он врал, и не знал, откуда выкопает переводы.
— Скажу, что сжег, — успокоил он сламщика.
В классе никого не было, кроме Япошки и Кобчика. Они ходили в Екатерингоф купаться. Пришли мокрые и веселые. Сейчас приятели сидели за партой и о чем-то беседовали. Япошка, по обыкновению, шмыгал носом и размахивал руками, а Кобчик возражал без горячности, но резко и визгливо.
— Ты плохо знаешь немецкий язык, поэтому не можешь судить! — кричал Япошка.
— И все-таки повторяю: Гейне непереводим, — визжал Финкельштейн.
Сашка и Ленька прислушались. И тут говорят о Гейне.
— Хочешь, докажу, что можно перевести Гейне так, что перевод будет не хуже оригинала? — объявил Японец.
Пантелеев сорвался с места и подскочил к нему.
— Слабо, — закричал он, — слабо перевести сто строчек Гейне и немножко Гете!
Японец удивленно посмотрел на него и, шмыгнув носом, ответил:
— На подначку не иду.
— Ну, милый… Еоша… — взмолился «налетчик».
Он рассказал товарищу о том, как он заврался перед Эланлюм, и о том, как важно для него выпутаться из этого неприятного положения.
Япошка забурел.
— Ладно, — сказал он, — выпутаемся. Переведу… Для меня это — пара пустяков.
Для Пантелеева снова солнце стало улыбаться, он снова услышал уличный шум и почуял весну. Вместе с ним расцвел и Сашка.
После, в компании Воробья и Голого Барина, они ходили в Екатерингоф, купались, смотрели на карусели, толкались в шумной веселой толпе гуляющих и пришли в школу прямо к вечернему чаю.
О происшествии на крыше вспомнили, лишь укладываясь спать. Расшнуровывая ботинок, Ленька нагнулся к Пыльникову и шепнул:
— А стекла?..
Сашка ответить не успел. Дежурный халдей Костец громовыми раскатами своего львиного голоса разбудил всю спальню:
— Пантелеев, не мешай спать товарищам!
Когда Костец, постукивая палочкой, пошел в другую спальню, Сашка высунулся из-под одеяла и прохрипел:
— Ерунда.
* * *
На другой день погода изменилась. Ночью прошла гроза, утро было радужное, и солнце заволакивали бледно-серые тучи. Но чувствовалась весна.
Пыльников и Пантелеев встали в прекрасном настроении.
За чаем Японец не на шутку ошарашил сидевшего с ним рядом Пантелеева:
— А я перевел сто двадцать строк, — шепнул он.
— Когда? — позабыв нужную предосторожность, чуть не закричал Ленька.
— Утром, — ответил Японец. — Встал в семь часов и перевел… И из Гете два стихотворения перевел…
После чая Япошка передал Пантелееву три листа исписанной бумаги. Пантелеев тотчас же засел за переписку перевода, дабы почерк не дал повода к сомнению в его самодеятельности.
Ленька сидел у окна. Гейне вдохновил его, взбудоражил его творческую жилку. Ему захотелось самому написать что-нибудь. Окончив переписку, он засмотрелся на улицу. На углу улицы рыжеусый милиционер в шлеме хаки улыбался солнцу и стряхивал дождевые капли с непромокаемого плаща. Чирикали воробьи, и под лучами солнца сырость тротуаров стлалась легким туманом.
Леньке захотелось описать эту картину красиво и жизненно. И он написал как мог:
Голосят воробьи на мостовой, Смеется грязная улица… На углу постовой — Мокрая курица. Небо серо, как пепел махры, Из ворот плывет запах помой. Снявши шлем, на углу постовой Гладит дланью вихры. У кафе — шпана: — Папирос «Зефир», «Осман»! Из дверей идет запах вина. У дверей — «Шарабан». Лишь одни воробьи голосят, Возвещая о светлой весне. Грязно-серые улицы спят И воняют во сне.Потом он показал это стихотворение товарищам и Сашкецу. Всем стихотворение понравилось, и Янкель взял его для одного из своих журналов.
Пыльников утро провел в музее — составлял таблицу архитектурных стилей. Ионические и коринфские колонны, портики, пилястры и абсиды увлекли его… Ни он, ни Пантелеев ни разу за все утро не вспомнили о прачечной и о разбитых стеклах.
Гроза разразилась в обед.
Если говорить точнее, первые раскаты этой грозы прокатились еще за полчаса до обеда. По Шкиде прошел слух, что в прачечной неизвестными злоумышленниками уничтожены все стекла. В эту минуту двое сердец тревожно забились, две пары глаз встретились и разошлись.
А за обедом, после переклички, когда дежурные разносили по столам дымящиеся миски пшенки, в столовую вошел Викниксор.
Он вошел быстрыми шагами, оглядел ряды вставших при его появлении учеников, ни на ком не остановил взгляда и сказал:
— Сядьте.
Потом нервно постучал согнутым пальцем по виску, походил по столовой и, остановившись у стола, по привычной своей манере растягивая слова, произнес:
— Какие-то канальи выбили все стекла в прачечной.
Глаза всех обедающих оторвались от стынущей пшенной каши и изобразили знак вопроса.
— Вышибли стекла в пяти окнах, — повторил Викниксор. — Ребята, это вандализм. Это проявление дегенератизма. Я должен узнать фамилии негодяев, сделавших это.
Ленька Пантелеев посмотрел на Сашку, тот покраснел всем лицом и опустил глаза.
Викниксор продолжал:
— Это вандализм — бить стекла, когда у нас не хватает средств вставить стекла, разрушенные временем.
Еле досидев до конца обеда, Сашка позвал Леньку:
— Пойдем поговорим.
Они прошли в верхнюю уборную. Там никого не было. Сашка прислонился к стене и сказал:
— Я не могу. Мы действительно были скотами.
— Пойдем сознаемся, — предложил Пантелеев и закусил нижнюю губу.
Пыльников секунду боролся с собой. Он надулся, зачем-то потер щеку, потом взял Леньку за руку и сказал:
— Пойдем.
По лестнице наверх поднимался Викниксор. Когда он прошел мимо них, Пантелеев обернулся и окликнул:
— Виктор Николаевич. Викниксор обернулся.
— Да?
Отвернувшись в сторону, Пантелеев сказал:
— Стекла в прачечной били мы с Ельховским.
Наступила пауза.
Викниксор молчал, ошеломленный слишком скорым признанием.
— Прекрасно, — произнес он, подумав. — Можете оба отправляться домой, ты — к матери, а ты — к брату.
Ударил гром.
Сашка подошел к окну, закрыл лицо руками и съежился.
— Виктор Николаевич! — визгливо прокричал он. — Я не могу идти. У меня мать больная… Я не могу.
Пантелеев стоял возле Сашки, стиснув зубы и руки.
— Извините, Виктор Николаевич… — начал было он.
— Нет, без извинений. Отправляйтесь вон из школы, а через месяц пусть зайдут ваши матери. Скажите спасибо, что я не отправил вас в реформаторий.
И, повернувшись, он зашагал в апартаменты Эланлюм.
Пантелеев проводил его взглядом и, хлопнув по плечу Сашку, сказал:
— Идем, Недотыкомка.
* * *
— Домой я идти не могу, — сказал Сашка.
— И мне не улыбается, — хмуро пробасил Пантелеев.
Они сидели во дворе, на сосновой поленнице, где накануне разговаривали с Эланлюм.
День клонился к концу. Серые тучи бежали по небу, обгоняли одна другую и рассыпались мелкими каплями дождя.
Сашка сидел, как женщина, сомкнув колени и подперев ладонью щеку. На коленях у него лежал маленький серый узелок.
В узелке было два носовых платка, книжка афоризмов Козьмы Пруткова и первый том «Капитала».
Сашка сжал руками узелок, поднял голову и вздохнул.
— Чего вздыхать? — сказал Ленька. — Вздохами делу не поможешь. Надо кумекать, что и как. Домой ведь не пойдем?
— Нет, — вздохнул Сашка.
— Ну, так надо искать логова, где бы можно было кимарить.
— Да, — согласился Сашка.
Товарищи задумались.
— Есть, — сказал Ленька. — Эврика! Во флигеле под лестницей есть каморка, хряем туда…
Они встали и пошли к флигелю. В лестнице, по которой они вчера поднимались на крышу, несколько ступенек провалилось, и образовалась щель.
Товарищи пролезли через нее и очутились в узкой темной каморке. Ленька зажег спичку… Желтоватый огонек млел и мигал в тумане. Оглядев помещение, товарищи поежились.
Кирпичные стены каморки были слизисты от сырости… Коричневый мох свисал с них рваными клочьями… На полу были навалены старые матрацы, рваные и грязные… Ноги вязли в серой, слипшейся от сырости мочале…
— Комфогт относительный, — сказал Пантелеев, и, хотя произнес он это с усмешкой, голос его прозвучал глухо и неприятно.
— Противно спать на этой гадости, — поморщился Сашка и ткнул ногой в мочальную груду.
— Что же делать? Ничего, брат, привыкай.
Ленька, которому приходилось в жизни ночевать и не в таких трущобах, подав пример, подавил отвращение и опустился на мокрое, неуютное ложе.
За ним улегся и Сашка.
Немного поговорили. Разговоры были грустные и все сводились к безвыходности создавшегося положения.
Потом заснули и проспали часов шесть. Разбудили яркий свет и грубый голос, будивший их. Сламщики очнулись и вскочили.
В отверстие на потолке просовывалась чья-то голова и рука, державшая фонарь.
— Вставай, вставай! Ишь улыглысь…
Это был Мефтахудын.
Товарищи окончательно проснулись и сидели, уныло позевывая.
— Жалко тебе, что ли? — протянул Ленька.
— Ны жалко, а ныльзя… Выктор Николайч сказал: обыщи вэсь дом, если сыпят — витащи.
— Сволочь, — пробурчал Сашка.
— И ваабще здесь спать нельзя.
— Почему нельзя? — спросил Пыльников.
— Сыпчики ходят.
— Какие сыпчики? — удивился Сашка.
— Сыпчики… С шпалырами и вынтовками.
— Сыщики, наверное, — решил Ленька. — Он нас запугать хочет. Нет, Мефтахудын, — обратился он к сторожу. — Мы отсюда не уйдем… Идти нам некуда.
Мефтахудын немного посопел, потом голова и рука с фонарем скрылись, и сапоги татарина застучали по лестнице вниз.
Товарищи снова улеглись. Засыпать было уже труднее. В каморку пробрался холод, сламщики дрожали, лежа под Сашкиным пальто и под двумя рваными, мокрыми тюфякями.
— Разведем огонь, — предложил Ленька.
— Что ты! — испугался Пыльников. — Тут солома и все… Нет, еще пожар натворим.
— Глупости.
Ленька вылез из-под груды матрацев и принялся расчищать мочалку, пока не обнажился грязный каменный пол.
Тогда он положил на середину образовавшегося круга небольшой пучок мочалы и зажег спичку. Просыревшая насквозь мочала не зажигалась.
— У тебя нет бумаги? — спросил Пантелеев.
— Нет, — ответил Сашка, — у меня книги, а книги рвать жалко.
Ленька порылся за пазухой и вытащил бумажный сверток.
— Это что? — спросил Сашка.
— Генрих Гейне, — протянул Ленька жалким голосом и в темноте грустно улыбнулся.
Он скомкал один лист и поджег его. Пламя лизнуло бумагу, погасло, задымилось и снова вспыхнуло.
— Двигайся сюда, — сказал Ленька.
Сашка подвинулся.
Они сожгли почти весь перевод Гейне, когда на лестнице раздались шаги. Ленька обжег ладони, в мгновение погасив костер.
В отверстие снова просунулась рука с фонарем и на этот раз уже две головы. Раздался голос Сашкеца:
— Эй вы, гуси лапчатые! Вылезайте!
Пыльников и Пантелеев прижались к стене и молчали.
— Ну, живо!
— Лезем, — шепнул Ленька.
По одному они вылезли через отверстие на лестницу. Вылезли заспанные и грязные, облипшие мокрой мочалой и соломой.
Ничего не сказали и стали спускаться вниз.
Сашкец и Мефтахудын проводили их до ворот. Сашкец стоял, всунув рукав в рукав, и ежился.
— Нехорошо, дядя Саша, — сказал Пыльников.
— Что ж делать, голубчики. — распоряжение Виктора Николаевича, — ответил Алникпоп. И, затворяя калитку, добавил: — Счастливо!
На улице было холодно и темно.
Фонари уже погасли, луны не было, и звезды неярко мигали в просветах туч.
Сашка и Ленька медленно шли по темному большому проспекту. Прошли мимо залитого огнями ресторана.
— Сволочи, — буркнул Сашка.
Это относилось к нэпманам, которые пировали в этот поздний ночной час.
Ребята уже чувствовали голод.
Дошли до Невского. На Невском ночные извозчики ежились на козлах.
— Идем назад, — сказал Ленька.
— Стоит ли? — протянул Сашка. — Все равно спать не дадут.
— Ни черта, идем.
Снова пришли к зданию Шкиды.
Предусмотрительный Мефтахудын закрыл ворота, пришлось пролезать сквозь сломанную решетку, запутанную колючей проволокой.
Никем не замеченные, залезли под лестницу и заснули.
* * *
Утром по привычке проснулись в восемь часов. Когда вышли во двор, в Шкиде звонили к чаю. Нежаркое солнце отогревало землю, роса на траве испарялась легким туманом.
За дровами, с веревкой и топором в руках, вышел Мефтахудын. Он вытер ладонями лицо, посмотрел на восток и зевнул.
Увидев мальчишек, подошел.
— Что, в флыгэли начивали?
— Нет, — испугался Сашка. — Нет. Мы не в флигеле…
Мефтахудын засмеялся.
— Знаем я, сам видел, как лезли.
Потом посмотрел на небо и добавил:
— А минэ што — жалко, что ли. Я свой дэла сдэлал.
Ленька хлопнул татарина по плечу.
— Знаю!
Когда Мефтахудын ушел, он предложил:
— Пойдем в Шкиду…
Они поднялись в школу и прошли на кухню… Староста и дежурный напоили их чаем, позвали Янкеля и Япошку.
— Ну как? — сочувственно спросил Японец.
— Плохо, — ответил Ленька. — Больше гопничать нельзя. Холодно.
— Д-да, — протянул Янкель. — А вы все-таки поскулите у Викниксора, — может, разжалобится.
Напившись чаю, сламщики, по совету товарищей, пошли к заведующему.
— Войдите! — крикнул он, когда они постучались к нему.
Ребята вошли и остановились у дверей.
— Вам что?
— Простите, Виктор Николаевич…
— Нет… Я сказал: из школы вон. Мне таких мерзавцев не нужно.
Повернулись, чтобы уйти.
— Впрочем… Если вставите стекла, то…
— То?
— То… Можете через месяц вернуться в школу.
— Спасибо, Виктор Николаевич.
Вышли… Сделалось совсем грустно и тяжело.
— Это что же значит? — проговорил Ленька. — Если не вставим стекла, так и совсем можем не являться? Так, что ли?
— Видно, так, — вздохнул Пыльников.
— Надо мыслить, где достать денег. Стекла вставлять, как видно, придется.
Они снова вышли во двор.
— Идем на улицу, — сказал Сашка.
Прекрасный весенний день не доставил им обычного удовольствия. Шли медленно — куда глаза глядят.
— Что-нибудь надо продать, — сказал Сашка.
— Да, — согласился Пантелеев. — Надо что-нибудь продать… А что?
Оба задумались.
Шли мимо Юсупова сада.
— Зайдем, — предложил Ленька.
Зашли, уселись на скамейку…
В саду весна чувствовалась ярче, чем на улице. Набухали почки, и на берегу освободившегося от льда пруда пробивалась первая травка.
Сламщики сидели и думали.
— У меня есть одна вещица, — покраснев, заявил Ленька.
— Какая вещица?
— Зуб.
Он снял кепку и, отогнув подкладку, вытащил оттуда что-то маленькое, завернутое в бумажку.
— Золотой зуб, — повторил он. — Я его осенью в Екатерингофе нашел… Думаю, что можно продать.
Сашка улыбнулся.
— Зачем же ты его столько времени берег?
Ленька покраснел еще больше.
— Глупо, конечно, — сказал он, — но говорят, что зуб приносит счастье.
— Счастье, — усмехнулся Сашка. — Много он тебе счастья принес.
Ленька решил продать зуб.
— А я что продам? — сказал Пыльников.
Он развязал узелок. Вынул марксовский «Капитал».
— Дадут что-нибудь?
Ленька взглянул на заглавие.
— Думаю, что не дешевле моего зуба стоит.
Сашка перелистал страницу. Потом положил книгу обратно в узелок.
— Нет, — сказал он, — Маркса продавать не могу… Я лучше сапоги продам.
Ботинки у него были новенькие, английские. Брат зимой привез, когда приезжал навещать.
— Продам, — решил Сашка.
Он тут же снял ботинки и завернул их в узелок.
— Идем, — сказал он.
Они вышли из сада. Сашка с прошлого лета не ходил босиком и сейчас шел неуверенно, подпрыгивая на острых камнях.
Сперва зашли в ювелирный магазин.
Толстый еврей-ювелир долго рассматривал зуб, сначала простым, затем вооруженным глазом, потом посмотрел на парней и спросил:
— Откуда у вас это?
— Нашли, — ответил Ленька.
Ювелир минуту раздумывал, потом бросил зуб на чашку миниатюрных весов и, не спрашивая о пене, вынул и положил перед товарищами бумажку в пять лимонов.
— Мало, — сказал Пантелеев.
Ювелир взял бумажку, чтобы спрятать.
— Ладно, давай, — проговорил Ленька и, спрятав дензнаки в карман, вместе с Сашкой вышел из магазина. — Спекулянт чертов! — буркнул он.
Из магазина пошли на Александровскую толкучку, где за десять лимонов продали первому попавшемуся маклаку Сашкины английские ботинки.
В Шкиду поехали на трамвае: устали за сутки и имели возможность позволить себе такую роскошь.
К Викниксору в кабинет вошли без всякой робости.
— Опять? — спросил тот. — В чем дело?
— Получите за ваши стекла, — сказал Ленька и выложил перед завшколой пятнадцать миллионов рублей.
Викниксор посмотрел на деньги, присел к столу и написал расписку.
— Возьмите, — хмуро сказал он.
Потом смягченным тоном добавил:
— Через месяц приходите.
Сламщики вышли.
— Куда идти? — тихо спросил Сашка.
— Домой, — ответил Ленька, — больше идти некуда.
Сходили в класс, попрощались с товарищами и разошлись — один на Мещанскую, другой на Васильевский остров.
«Юнком»
Три тени. — Череп во тьме. — Заседание в подполье. — Блуждающий огонек. — Тревога Мефтахудына. — Облава. — «Юнком». — Ищейки из ячейки. — Кто кого. — «Зеленое кольцо».
— Т-сс. Тише.
— Ни звука.
Три тени, бесшумно скользя, вышли на парадную лестницу и минуту прислушивались. В Шкиде было тихо. Ребята уже спали, и только изредка тишину нарушал шорох возившейся под полом крысы.
— Ну, идем. Нас уже ждут, — опять раздался шепот, и три таинственные фигуры начали спускаться по лестнице, осторожно держась за перила и стараясь не производить шума.
Мелькнул просвет парадной двери, выходившей на улицу, но за ненадобностью давно уже и наглухо закрытой.
Таинственные фигурки минуту потоптались на месте, словно совещаясь, и, наконец, решившись, стали так же бесшумно прокрадываться под темный свод лестницы. Непроницаемая безмолвная мгла поглотила загадочных пришельцев. Они шли на ощупь, держась за холодные выступы ступеней и удаляясь все дальше от света. Тусклым просвет парадных дверей поблек вдали, и зеркальные окна замутились и посерели, едва виднеясь мертвыми матовыми пятнами. Вдруг передняя тень вздрогнула и отпрянула назад.
— Смотрите!
Прямо со стены глядело на них страшное, квадратное, бледно светящееся, словно фосфорическое, пятно:
Пришельцы прижались к противоположной стене. Но тут один из них, самый храбрый, рассмеялся и сказал:
— Ведь это ж трансформаторная будка. Чего вы сдрейфили?
Почти тотчас откуда-то сбоку из темноты раздался глухой голос.
— Пароль?
— Четыре сбоку! — ответила первая тень.
— Ваших нет! Проходите, — донеслось снова из темноты, и перед таинственными пришельцами раскрылась дверь в слабо освещенное помещение.
Это был дровяной сарай Мефтахудына, куда он складывал дрова, перед тем как распределять их по печкам.
И сейчас еще в сарае было немного дров, разложенных рядами у стенок. На одной из этих поленниц сидели три темные сгорбившиеся фигуры.
При появлении новых пришельцев сидевшие приветствовали их громкими криками:
— Урра! Пришли. Пыльников! Кобчик!
— Кубышка, и ты?!
— А что я — рыжий, что ли? Я тоже хочу работать в вашей организации!
В сарае шесть человек расселись на дровах и, закрыв плотно двери, замерли.
Кроме пришедших там были Янкель, Японец и Пантелеев, совсем недавно вернувшийся в Шкиду после скандального изгнания из школы за битье стекол.
Ребята посовещались минуту, потом Японец встал и заговорил, подняв руку:
— Внимание. Сегодня мы открываем второе собрание нашей подпольной организации РКСМ, но так как у нас есть два новых члена, коими являются Кубышка и Кобчик, то я кратко изложу им нашу программу и причины, побудившие нас затеять это дело.
Японец откашлялся.
— Итак, товарищи, вы знаете, что наша Шкида считается домом для дефективных, то есть почти тюрьмой, поэтому ячейку комсомола нам открыть нельзя. Но среди нас есть желающие подготовиться к вступлению в комсомол по выходе из Шкиды… Вот для этого, то есть для изучения политграмоты и основ марксизма, мы и основали этот подпольный кружок. К сожалению, мы не имеем руковода, опытного и деятельного, как Кондуктор, который, как вы знаете, уехал от нас уже три, если не четыре, месяца назад на работу в деревню. Вы знаете также, что мы много раз просили Викниксора выхлопотать нам нового политграмщика, но до сих пор он, как известно, и в ус не подул. Нам осталось одно: заниматься самим. Мы не знаем, как посмотрел бы на это дело Викниксор, а кроме того, и не хотели затягивать дела переговорами, поэтому и решили открыть этот нелегальный кружок. Пока у нас занятия узкоспециальные, сейчас мы проходим историю революционного движения среди молодежи, а дальше будет видно.
Япошка замолчал и обвел взглядом окружающих. Потом, смахнув рукой пот с лица, он перешел к лекции. Как самый осведомленный и начитанный, он взял на себя роль лектора и работал очень добросовестно, тщательно подготовляясь к каждой лекции.
— Итак, пойдем дальше. В прошлый раз мы с вами разбирали зарождение Союза молодежи и дошли вплоть до раскола буржуазного «Труда и света». Теперь мы проследим зарождение и постепенный рост нашего Союза рабочей молодежи…
Аудитория слушала. Пятеро ребят с бритыми головами жадно уставились на лектора и затаив дыхание ловили слова. Угольная лампочка, облепленная наросшей паутиной, словно улыбалась близоруким глазом, слабо освещая «подпольную организацию» и облупившиеся стены.
* * *
Следующий сбор был назначен на двенадцать часов ночи — излюбленное время всех заговорщиков.
Летний день для Шкиды утомителен. Слишком много движения, слишком много уроков, а кроме того, охота и выкупаться сходить, и поиграть в рюхи или в футбол. В результате к вечеру полная усталость. Спальни сразу же погрузились в сон, и не успел дежурный воспитатель затворить за собою дверь, как снова забегали по старому зданию таинственные тени.
Ночной дежурный — Янкель. Он свободно выпускает из здания «заговорщиков» и последним уходит сам.
На этот раз сбор происходил в развалинах двухэтажного дома во дворе. Под лестницей, в каморке, где еще совсем недавно скрывались Пантелеев и Пыльников, светлячками вспыхнули огоньки. Тени собирались опять.
— Пароль?
— Деньги ваши!
— Будут наши! Проходи, — слышится голос невидимого стража.
Сегодня пришел новый член организации — Воробей. В кружке уже семь человек.
— Как бы не засыпаться! Слишком много коек пустует, — высказывает опасение Янкель, но под негодующие окрики он вынужден замолчать.
— Сегодня, товарищи, мы перейдем к разбору Третьего съезда, который знаменует собой новый поворот к мирному строительству.
Кружок притих и внимательно слушал, сбившись вокруг мерцающей свечки.
Ночь выдалась мягкая, но с ветерком.
Мефтахудын сидел в дворницкой, повторял наизусть русскую азбуку, иногда сбиваясь и заглядывая в букварь. Наконец он поднялся, потянулся, зевнул, оглядел кровать и стены.
— Пора спать, — громко произнес он и вышел во двор, чтобы сделать последний в этот день обход. В подворотне тихо посвистывал теплый ветер. Он словно целовал, ласкал огрубевшие, покрытые жесткой щетиной щеки Мефтахудына… Татарин размяк, умилился, пришел в восторг:
— Ай да пагодка! Якши! От-чень карашо.
Пребывая в этом восторженном настроении, он тихо зашагал по двору, осматривая двери и мурлыкая под нос родную песню:
Ай джанай Каласай. Сэкта, сэкта Менела-а-ай.Вдруг Мефтахудын смолк и насторожился, уставившись испуганными глазами в развалины. Оттуда глухо доносились голоса. Татарин подошел ближе к полуразвалившейся двери и вдруг отскочил:
— Эге-ге! Бандиты!
Голоса, доносившиеся из сырого помещения, показались ему незнакомыми, грубыми и даже страшными. В довершение всего из всех щелей двери сочился бледный, дрожащий свет. Мефтахудын минуту постоял, соображая, потом неслышно отошел от двери и заспешил обратно в школу. Так же торопливо он вбежал по черной лестнице наверх и помчался к Викниксору. Минуту спустя заведующий и Алникпоп, дежуривший в эту ночь, спускались по черной лестнице и сопровождавший их Мефтахудын возбужденно рассказывал:
— Гляжу, свет, слышу — бал-бал-бал. Эге, думаю, субчики, бандиты. Мефтахудына — нет, не проведешь. И к вам бежал, скоро-скоро.
Педагоги и дворник осторожно подкрались к разрушенному дому. Викниксор вошел первый, поднялся на несколько ступеней и, заглянув в сырой коридор, замер от удивления.
Прежде всего он увидел возбужденное лицо Япончика, освещенное желтым светом свечки, потом уже разглядел других. Викниксор прислушался.
— Одной из главных задач Четвертого съезда Союза молодежи было улучшение экономического положения рабочих-подростков. На заводах шли массовые сокращения молодежи, как малоквалифицированной силы. Нужно было забронировать подростков, поднять квалификацию. На это главным образом и обратил внимание Четвертый съезд РКСМ.
Вдруг речь Япончика перебил знакомый бархатный голос:
— Позвольте, вы что тут делаете?
Семь голов повернулись, и семь пар глаз впились в темноту, из которой выплыло сердитое лицо Викниксора.
Кто-то сразу понял, что запоролись, и крикнул:
— Спасайся!
Кто-то из кружковцев бросился к дыре в лестнице, но тотчас же отпрянул назад. Оттуда, улыбаясь, выглядывало скуластое лицо Мефтахудына.
— Попались, субчики!
Ребята остановились в растерянности, не зная, куда податься.
— Что вы тут делаете? — так же сердито повторил Викниксор.
— Ничего… так… тепло… ну, мы и вышли посидеть… — растерянно лепетал Япончик, теребя листы истрепанного учебника политграмоты.
Викниксор заметил книгу и, взяв ее из рук растерявшегося лектора, задумчиво перелистал, потом коротко бросил:
— Идите спать!
Опустив головы, подпольщики один за другим прошли мимо Сашкеца, а тот укоризненно качал головой и бормотал:
— Ах, гуси лапчатые… Ах, гуси!..
* * *
На другой день Викниксор все знал. Достиг он этого самым несложным путем: пришел в класс и стал расспрашивать. Собственно, ребятам скрывать было нечего, и только испуг и необычайная обстановка обескуражили их ночью, но сегодня они все спокойно рассказали и даже сами смеялись вместе с заведующим над своей «подпольной работой».
Потом Викниксор весь день ходил задумчивый, а вечером неожиданно сообщил классу:
— Я протестовать и не думаю даже. Наоборот, охотно иду вам навстречу. Вы не имеете права создать ячейку РКСМ, но вы можете организовать свой кружок, свою ячейку местного характера, в которой, не будучи членами комсомола, вы, однако, наравне со всем Союзом будете вести учебу и даже больше того — вы как передовые поведете по пути коммунистического воспитания всю школу. Организуйтесь, придумайте кружку название и беритесь за дело. Помещение у вас будет. В ваше распоряжение я отдаю наш музей. Кстати, вы можете заодно взять на себя попечение и о самом музее — подбирать экспонаты, охранять их и так далее…
Шкидский музей родился уже давно и как-то незаметно, после бешеной журнальной лихорадки, которой перехворала вся Шкида. Журналы эти были первыми вкладами в музей. Потом туда стали попадать наиболее выдающиеся ученические работы, хранился там и показательный учетный материал. Вскоре материала скопилось немало.
В тот же вечер, по уходе Викниксора, ребята созвали экстренное собрание.
— Ребята! — ораторствовал Японец. — Задачи нашего коллектива, нашей ячейки, остаются прежние, что и в подполье, но теперь прибавляются новые: вовлечение других и развертывание работы в общешкольном масштабе. Надо придумать название кружку.
— Красная звезда!
— Знамя!
— Коммунар!
— Юный коммунар!
— Правильно! Во! Юный коммунар! И сократить в Юнком.
— Сократить в Юнком! Правильно!
Голоса разделились. Проголосовали. Большинство оказалось за Юнком. Тут же избрали редколлегию для своего органа, в которую вошли Японец, Янкель и Пантелеев.
А на следующее утро уже вышел первый номер стенгазеты «Юнком» с передовицей, извещавшей об открытии новой организации. В этой пространной декларации говорилось о многом, а в конце крупным шрифтом был объявлен призыв о вступлении в Юнком. Но начало оказалось тяжелым. Скоро юнкомцам, еще не завоевавшим авторитета в школе, уже пришлось проводить один из пунктов своей программы. В этой программе, среди прочего, они заявили, что будут бороться с воровством в школе.
Мелкие кражи в Шкиде совершались довольно часто. То полотенце исчезнет, то наволочка пропадет.
И вот исчезли сапоги. Когда утром шкидцы по обыкновению вскочили по звонку с постелей, второклассник Андронов сделал печальное открытие.
— Ребята, у меня сапоги тиснули, — скорбно проскулил он, болтая босыми ногами.
Спальня загудела.
— Врешь!
— Сам заначил!
За чаем Викниксор грозил и стыдил ребят, а потом вдруг обратился к старшим:
— Вот первое боевое крещение Юнкома. Юнкомцы — это сознательные, передовые ученики. Сейчас вы и должны доказать свою сознательность. Я не буду искать преступника. Вы сами найдете его и сами его осудите, а чтобы я знал о том, что долг свой вы выполнили, представьте мне украденные сапоги.
Юнкомцы встревожились, но, обсудив, согласились с предложением Викниксора. Хочешь не хочешь, а надо было бороться с воровством.
Сперва попробовали воздействовать на массы сознательностью, но Шкида дала Юнкому отпор — не потому, что поддерживала воров, а просто невзлюбила юнкомцев, считая их выскочками и подлизами. Тем более что нашлись подстрекатели в лице Цыгана, которого юнкомцы обошли при создании организации, и новичка — силача Долгорукого.
Оба они подружились и теперь вместе решили показать Юнкому свою силу. Цыган ехидно наблюдал за тщетными стараниями юнкомцев убедить ребят искать вора и посмеивался. Попытка организовать ребят, вовлечь их в организацию, юнкомцам не удалась, однако они решили добиться своего.
— Что же делать? — уныло бурчал Янкель.
— Как что? Будем сами искать, — загорячился Джапаридзе, только что вступивший в Юнком и теперь решивший проявить себя.
Дзе поддержал и Воробей, сразу же вдохновившийся идеей сыска.
— Факт, будем сами искать. Все печки обыщем, а найдем.
Делать ничего не оставалось, и ребята бросились на поиски.
Начали с верхнего этажа. Неистовавшая пара особенно старалась.
— Посмотри в отдушину, — деловито говорил Воробышек.
Дзе залезал рукой, долго шарил и вынимал вместо сапог груду сажи.
Тем временем отношение школы к юнкомцам все ухудшалось. Кто-то перелицевал слово «ячейка» в «ищейка», и несчастных «сознательных», лазивших по печкам, дразнили ищейками. Однако к вечеру сапоги нашлись. Нашли их внизу в камине. После ужина ребята собрались в помещении Юнкома и совещались.
— Плохо дело.
— Да, большинство против.
— Надо, братцы, найти способ завоевать и перетянуть массы на свою сторону.
Вдруг раздался стук в дверь. Японец, предусмотрительно заперший дверь на ключ, подошел и, взявшись за ручку, спросил:
— Кто там?
— Открой! — послышался голос Цыгана.
Япошка нерешительно оглянулся на ребят.
— Не открывай! — рассвирепел Янкель.
— Он нас, паскуда, травил сегодня. Скажи ему, что не желаем с ним разговаривать.
— Правильно! — поддержали и остальные, но Цыган стучался и злобно кричал. Потом он ушел, а минуту спустя вернулся с Долгоруким. Оба начали изо всех сил ломиться в дверь.
— Открывай, сволочи, а то изобьем всех! — кричал разъяренный Цыган, но Юнком твердо решил выстоять осаду. Вся ячейка дружно уперлась в дверь и стойко выдерживала натиск. Наконец, видя бесполезность борьбы, Цыган отступил, а затем и совсем ушел.
Джапаридзе первый облегченно вздохнул.
— Ну и дела! Надо что-нибудь предпринять.
— Есть, — оживился Пыльников.
— Что есть?
— Придумал!..
— Да что ты придумал?
— Создадим юнкомскую читальню для всех ребят.
— Идея!
— Книги наскребем ото всех понемногу.
Идея вдохновила ячейку, и все работали со старанием. Неделю спустя, вернувшись из отпуска, Янкель притащил около пуда старых журналов, которые он собирал еще с дошкидских времен. Пантелеев принес почти такую же по весу пачку книг самого разнообразного характера, начиная с детских сказок и кончая Плутархом и другими историческими трудами. Все это тщательно рассортировали и, прибавив несколько личных книг Финкельштейна, Пыльникова и Японца, разложили на большом столе. А за вечерним чаем Янкель встал и, обращаясь к ребятам, пригласил желающих провести время за полезным чтением. Комната Юнкома, как брюхо голодного, проглатывала одного за другим воспитанников. Скоро все места были заняты. Юнкомская читальня понравилась многим. Тут стояла мягкая мебель и чувствовался не только уют, но и комфорт, который так стремились создать устроители. Тут и там слышались разговоры:
— Неплохо.
— Что неплохо?
— Юнкомцы-то, я говорю, устроились.
— Да. И почитать есть что.
Журналы и книги читались бойко, нарасхват, и скоро читальню полюбили. Правление Юнкома, назвавшее себя Цека, уже задумывалось о расширении работы. Скоро стал расти и коллектив ячейки. Приходили записываться не только из третьего, но из второго и даже из первого отделения. Пора было браться за серьезную работу, и тогда было созвано большое открытое собрание ячейки, на котором присутствовало семнадцать членов и кандидатов «Юного коммунара».
На этом собрании был окончательно утвержден Центральный комитет, вернее, президиум, в который вошли старейшие члены и устроители — Япошка, Пантелеев, Пыльников, Кобчик и Янкель. Тут же все члены были разбиты на две группы слушателей политграмоты — младшую и старшую. Руководом для обеих групп остался Японец. Потом кто-то внес новое предложение: Юнком должен взять на себя и трудовое воспитание шкидцев. Было решено организовать трудовые субботники: по переноске дров, очистке панелей, уборке мусора, пилке дров и т.д. Предложение приняли единогласно и в первую же субботу его осуществили, причем к работе привлекли и беспартийных ребят.
Работали ребята не за страх, а за совесть, только оппозиция по-прежнему ехидно подсмеивалась. Ввиду большой популярности Юнкома выступать открыто она не решалась, но все же старалась хоть чем-нибудь уязвить юнкомцев. Ярых оппозиционеров было только трое: Цыган, Долгорукий и Бессовестин, давно уже прозванный Бессовестным, но Юнком не боялся их. Он окреп и качественно и количественно.
— А ну, братва, поддай! — покрикивал Джапаридзе, пыжась над тяжелым бревном, и братва поддавала, и бревна исчезали в сарае. Субботник прошел с подъемом, и это еще больше подхлестнуло ребят.
Солнечный июль катился цветными днями, но юнкомцам некогда было упиваться солнцем. Работа захватила крепко и надолго. Юнком разросся. Один за другим вырастали новые кружки. Появился кружок рисования, за ним литературный, политический; кроме того, еженедельно читалась устная газета. Но ярче всего расцвел Юнком, когда в Шкиду пришел новый педагог и воспитатель Дмитрий Петрович Тюленчук. Сперва его ребята не приняли, показалось, что он строг и сух. Кроме того, он был хромой, а для жестоких питомцев это давало еще больше поводов смеяться над ним.
На первых порах за танцующую походку его прозвали «Рубль двадцать», но потом, когда пригляделись ближе и полюбили его, не называли его иначе как дядя Дима.
Тюленчук был украинец, тихий и чуть сентиментальный. Он любил свою родину и свой предмет — русский язык. В работе Юнкома он принял самое деятельное участие, и в скором времени литкружок Юнкома сделался наиболее мощным из всех кружков. Кружковцы сперва вели работу замкнутую, втихомолку, а когда окрепли и спаялись, вынесли ее напоказ всей школе.
Литкружок стал устраивать регулярные собрания, на которых члены кружка зачитывали свои произведения. Стали выходить литературные альманахи. За альманахами появились литературные суды над героями классических произведений, а в довершение всего литгруппа Юнкома открыла издательство и дала кружку название «Зеленое кольцо».
«Зеленое кольцо» — это не просто красивые слова, это аллегория. Содружество — кольцо молодых, зеленых литераторов. И тут осуществилась мечта Японца о хорошем литературном журнале.
«Зеленое кольцо» предприняло издание толстого литературно-художественного ежемесячника «Аргонавты». А через некоторое время вышел и первый выпуск библиотечки «Зеленое кольцо» с поэмой Пантелеева о блокаде и голоде.
«Лондон — Чикаго Без остановок» — Четок и звонок Клич реклам…Так начиналась эта поэма, носившая название «Мы им». За этим выпуском последовали и другие…
Юнком твердо стал на рельсы. Оживилась комната Юнкома. Кружки занимались одновременно в четырех углах, а посередине, за столом, уткнувшись в книги, сидели любители чтения. И, как тогда, в темную ночь, в ночь рождения подпольной коммунистической организации, слышались обрывки речи, но уже не придушенные и тихие, а звонкие и свободные:
— Второй конгресс Коминтерна… Двадцатый год.. Тридцать семь стран…
И слушатели, затаив дыхание, внимательно вслушивались в слова лектора.
— Хорошо, — говорил Пантелееву размякавший в такие минуты Янкель, совсем недавно сделавшийся его сламщиком.
— Хорошо, — подтверждал Ленька, оглядывая чистенькую веселую комнатку.
— Коминтерн… Условия вступающим партиям… Разложения не должно быть… Пропаганда…
Бьются новые слова и глубоко западают в мозг юнкомцев. Густо алеет красное знамя школы, поставленное в угол, покрытое чехлом, и подмигивает весело желтенький подсолнух с двумя буквами «ШД» — герб республики Шкид.
Содом и Гоморра
Безвластие. — Сивер Долгорукий. — Ост-инд-кофе. — Первый налет. — Кутеж. — Босиком на форде. — Два юнкомца и Пирль Уайт. — Содом и Гоморра.
Викниксор уехал в Москву на какой-то съезд работников соцвоса. Управление республикой перешло к Эланлюм. Хотя она и была человеком с сильным характером, но все же она была женщиной. Шкидцы сразу же это поняли, и поняли по-своему. Они забузили. Женщина, по их мнению, была существом куда более безвольным, чем мужчина, да еще такой мужчина, как Викниксор. И этого было достаточно, чтобы Шкида закуролесила.
Сначала особой бузы не было, просто расхлябалась дисциплина: позже ложились спать, опаздывали в столовую и на уроки, чаще грубили воспитателям. Но вскоре нашлись ребята, которые поняли, что из положения можно извлечь выгоду. Коноводом оказался недавно пришедший в Шкиду Сивер Долгорукий…
Происхождения он был, по шкидским масштабам, высокого — сын артиста, а внешности самой грубой, почему и получил в Шкиде прозвище Гужбан.
Гужбан родился в интеллигентной семье — отец, мать и сестра его, как сказано выше, были артистами. Привыкнув к свободной жизни богемы, родители отдали сына с самых малых лет в приют для детей артистов. Там Сивер пробыл до девятилетнего возраста и уже успел показать свою натуру. В «артистическом» приюте он воровал, хулиганил. Его перевели в Царское Село, в приют классом ниже. Там он показал себя вовсю, воровал уже запоем: у начальства, у прислуги и даже у товарищей. Учился в Царскосельской гимназии, но учиться не любил, лодырничал и притом проявил воровские способности. Из первого же класса его выгнали. Вскоре и из приюта выгнали — перевели в другой приют, для дефективных…
Случилось это уже после революции. К этому времени Сивер Долгорукий успел навеки потерять отца, мать и сестру. Отец умер, а мать и сестра уехали неизвестно куда, забыв о нем, — может быть, в горячке, а может быть, и намеренно. Долгорукий пошел по дефективным приютам, из каждого вылетал за воровство, в некоторых как будто остепенялся, но, не выдержав и проворовавшись, шел дальше. Побывал в лавре и в конце концов каким-то образом попал в Шкиду. Сюда пришел он с репутацией «безнадежного», но Викниксор принял его, так как не считал, что можно говорить о безнадежности парня, которому только-только исполнилось пятнадцать лет. Впрочем, возраст Долгорукого всегда и для всех оставался загадкой. Говорил он, что ему пятнадцать лет, а по виду казалось не меньше восемнадцати. Проверить же было невозможно — метрики Долгорукого были утеряны, так что весьма вероятно, что в летах он привирал, — может быть, для того, чтобы оттянуть срок подсудности. Во всяком случае, он пришел с очень плохой славой, сразу же в Шкиде начал бузить, воровать, а тут подвернулось «безвластие», и он полностью показал свою натуру.
* * *
Гужбан был в сламе с Цыганом. Цыган, сам будучи парнем развитым, любил дружить с ребятами младших классов, и притом очень часто с отъявленными бузотерами. Может быть, рассчитывал уберечь их от окончательной порчи, хотя и сам он в моральном отношении не был особенно устойчив. Гужбан был хитрым и в то же время сильным. Только перед ним стушевывался Цыган. Долгорукий сумел подчинить его своей воле.
Однажды после уроков Гужбан зашел в четвертое отделение и позвал Цыгана:
— Идем, мне надо с тобой поговорить.
Цыган встал и вышел из класса. Они прошли в верхний зал и уселись на подоконник.
— В чем дело? — спросил Цыган.
Гужбан осмотрелся вокруг и, прищелкнув языком, таинственно пробасил:
— Дело… Заработать можно.
— На чем?
Гужбан еще раз предусмотрительно оглянулся.
— Кофе… — зашептал он. — Голый барин бачил… Пеповский кофе… на дворе. Там мешок стоит. Голый с Козлом дырку проколупали, фунта два в карманах унесли и чухонке за двадцать лимонов боданули… Слыхал?
— Слыхал… Ну так что же?
Гужбан нагнулся к самому уху Громоносцева.
— Кофе-то, он — дорогой…
— Ну так что ж? — повторил Цыган.
— В мешке небось на целый миллиард его!..
Цыган вздрогнул, потом побледнел.
— Понимаю, — прошептал он. — Но я не хочу, честное слово, Гужбан, я этого больше не хочу…
— Дурак. Счастье в рожу прет, а он — «не хочу».
— Засыплемся ведь…
— Ни псула. В том-то и дело, что обделаем так, что и следа не оставим. Уж поверь.
Цыган стоял, облокотившись на подоконник, кусая губы и бегая взором по полу.
— Когда же? — спросил он.
— Ночью. Тут на арапа нельзя взять, надо с хитростью.
Цыган уже согласился, а согласившись, вошел в азарт.
— Кто да кто? — проговорил он. — Вдвоем неловко, надо шайкой. Голый и Козел уже в курсе, я думаю — их взять в сламу.
— Идет.
Сламщики отыскали Старолинского и первоклассника Козла. Объяснив без обиняков сущность дела, они сразу же встретили согласие.
Только Голый барин слегка сопротивлялся, как до этого сопротивлялся Цыган, но и он, по своему безволию, уже через полминуты вошел в шайку.
Товарищи тут же распределили роли. Цыган и Гужбан делают дело, другие два — зекают.
План похищения кофе разработали подробно, над этим долго размышляли в разрушенном сарае на заднем дворе.
* * *
В большой школьной спальне было тихо. Изредка поскрипывала дверца электрического вентилятора да храпели воспитанники, каждый по-своему — кто с присвистом, кто хрипло, кто нежно и ровно. Угольная лампочка, застыв, не мигала…
За стеной, в квартире Эланлюм, саксонские куранты пробили два часа. В тот же момент в разных углах спальни четыре головы приподнялись над подушками и прислушались. Остальные ребята лежали не двигаясь и храпели, как прежде. Тогда четыре человека, неслышно спрыгнув на пол, крадучись пробрались к дверям и вышли в коридор.
— Вниз, — шепнул Гужбан.
Сошли по парадной лестнице вниз, к запасному выходу из швейцарской. Но двери, обычно закрываемые лишь на засов, были теперь заперты на ключ.
— Чертова бабушка! — выругался Цыган.
— Ни хрена, — ответил Гужбан. — Хряем наверх, через выходную дверь.
— А ключ?
Гужбан не задумывался.
— Хряемте наверх. Подкупим дежурного и баста… Когда придем, говорите, что в уборную шли, завернули покурить.
Но хитрости не потребовалось. На кухне горел свет, тараканы бегали по выложенным кафелем стенам, и мерно тикали часы. Дежурный Воробей сидел у стола, положив голову на руки. Гужбан один прошел на кухню и, подойдя на цыпочках к Воробью, заглянул ему в лицо… Воробей спал. Гужбан тихо открыл ящик стола и, вынув большой, надетый на проволочное кольцо ключ, так же осторожно закрыл ящик и вышел из кухни…
Осталось открыть выходную дверь. Это было нетрудно. Четыре парня спустились по лестнице во двор.
Ночь была жаркая. Пахло гнилым деревом и землей. В шкидских окнах было темно. Лишь наверху в мансарде, где жил Алникпоп, теплилась мигающим огоньком керосиновая горелка. Где-то на улице проехала извозчичья пролетка, гулко отщелкали подковы по мостовой, и снова замерла ночь.
— Тссс… — прошипел Гужбан, и видно было, как в темноте блеснули стиснутые белые зубы.
Крадучись по стене, прошли к дверям, ведущим в магазин ПЕПО. У железных дверей стоял, как ненужная вещь, мешок. Цыган нагнулся и прочел при свете фонаря:
— «Бритиш… ост-инд-кофе». Кофе! — чуть не закричал он. — И верно — кофе, елки-палки!
— Тише ты, цыганская морда! — прошипел Долгорукий. — Живо! Барин, Козел, на стрему!.. Голый на забор, Козел к лестнице!
Сам он схватил мешок с одного конца. Цыган впился пальцами в другой. С тяжелой пятипудовой ношей они побежали к забору.
За забором находился завод огнетушителей, отделяемый от улицы полуразрушенным одноэтажным зданием, бывшим когда-то заводским складом.
— Лезь на забор! — приказал Цыгану Гужбан. — И ты, Голый!
Громоносцев и Старолинский взобрались на невысокий деревянный забор, утыканный острыми гвоздями. Держаться на этих гвоздях было нелегко. Гужбан напряг мускулы и, подняв мешок, подал его товарищам.
— Держите, затыки, — прохрипел он. — Осторожно!..
Потом залез сам на забор и, прислушавшись, скомандовал:
— Бросай!
Тяжелая туша мешка ударилась о груду угольного щебня. За мешком спрыгнуло на землю три человека. Они минуту сидели молча, ощупывая продранные штаны, потом схватили мешок и поволокли его в развалины склада. Там зарыли мешок, засыпали щебнем и с теми же предосторожностями отправились в обратный путь.
Воробей все еще крепко спал, поэтому положить ключ в ящик стола было делом мгновения. Не замеченные никем, прошли в спальню, разделись и заснули.
Продать кофе взялся Гужбан, имевший на воле связь со скупщиками краденого.
* * *
— Пейте, товарищи, пейте, растыки грешные!
Пили, плясали, пели…
Трещали половицы, трещали головы, в ушах трещало, шабашом кружило в глазах.
— Пейте! — кричал Гужбан. — Пейте, браточки!..
Сидел Гужбан на березовом полене, суковатом, с обтертой корой. Цыган развалился на полу в позе загулявшего в волжских просторах Стеньки Разина. Тут же были Козел, Барин, Купец, Бессовестный, Кальмот, Курочка и два юнкомца — два юнкомца, поддавшиеся искушению, подкупленные юнкомцы — Пантелеев и Янкель.
Справляли успех дела.
Гужбан загнал кофе за восемьсот лимонов, а восемьсот лимонов и в те дни были суммой немалой, тем более в Шкиде, сидевшей на хлебе — фунтовом пайке, на пшенке и тюленьем жире.
Деньги поделили не поровну. Гужбан взял триста лимонов, Цыган двести, а Голому и Козлу по полтораста отмерили. А в честь успеха дела задали кутеж, кутеж, по шкидским масштабам, необыкновенный.
Дело не раскрылось совсем. В школе о нем не узнали. Пеповцы решили, должно быть, что кофе украли налетчики с воли, а заглянуть наверх не додумались.
А шайка, заполучив большие деньги, не зная, куда их деть, кутила…
— Пейте, задрыги!
Ящики пива на полу, четверть самогона на столе, сделанном из поленьев, колбаса, конфеты, бисквиты, шоколад…
В комнате ломаного флигеля, в комнате, заложенной дровами, — кутеж…
— Пей!
Многие пили впервые…
Пили и блевали тут же у поленницы — рядом с шоколадом и бисквитами «Альберт»…
— Спой, голубчик, — обнимал Гужбан Бессовестного, — Володька, черт, спой, прошу тебя… Песен хочу!
Пел Бессовестный голосом мягким и красивым:
Позарастали стежки-дорожки, Где проходили милого ножки, Позарастали мохом-травою, Где мы гуляли, милый, с тобою.Янкель и Пантелеев — в углу. Сидели тихо, не шевелясь. Хмель расползался по телу, сердце стучало от хмеля. От хмеля ли только? От стыда стучало сердце и ныло.
«Юнком, коммунары… Продались… Эх, жисть-жестянка!..»
Выпив же самогона, повеселели. Стыд прошел, хмель же не проходил… Пели, обнявшись, деланным басом Пантелеев и природным тенором Янкель:
На пятнадцать лимонов устрою дебош, Эй, Гужбан, пива даешь!Купец, надрызгавшись, валялся на полу, сгребал Старолинского, щекотал.
— Голенький, дай лимончик.
Давал ему Барин лимончики. Жалко, что ли, когда их в кармане сто штук!..
Звенели от пляски остатки оконных стекол, и текло пиво, смешиваясь с блевотиной, под поленницу березовую.
Идет мой милый с города пьяный, Стук-стук в окошко, я, твой коханый. С кровати встала, дверь отворила, Поцеловала, спать положилаПел Бессовестный, обнимал Бессовестного Гужбан — сын артиста, — смеялся и плакал.
— Володька… Пой! Пой, растыка! Талант сжигаешь… Хо-хо-аааа!..
Потом обнимал Цыгана, целовал, шептал:
— Морда цыганская, дружище!.. У меня отец и мать сволочи, один ты друг. А я съехал, скатился к чертям…
Пили, пели, плясали…
Потом всей компанией, босой, рваной и пьяной, пошли гулять… По улице шли — смеялись, кричали, ругались, а Бессовестный шел наклонив голову и по просьбе Гужбана пел:
— Не ходи, милый, с городу пьяный, Тебя зачалит любой легавый. — Милая Дуся, я не боюся, Если зачалят, я откуплюся.У Калинкина моста стоял автомобиль, дрянненький фордовский автомобиль, тонконогий, похожий на барского мальчика, короткоштанного, голоколенного.
— Мотор! — закричал Гужбан. — Мотор! В жисть не ездил на моторе.
— Сколько до Невского? — обратился он к шоферу.
Шофер — латыш или немец — поглядел с удивлением и ужасом на босых, лохматых парней и крикнул:
— Пошел потальше, хуликан!..
— Сколько? — рассвирепев, прокричал Гужбан, выхватывая из кармана пачку лимонов.
Шофер торопливо осмотрелся по сторонам, открыл дверцу автомобиля.
— Сатись… Пятьдесят лимоноф…
— Лезь, шпана! — закричал не задумываясь Гужбан.
Полезли босые в кожаную коляску автомобиля фордовского. Уселись. Ехали недолго, по Фонтанке. На Невском шофер дверцу отворил:
— Фылезай.
Вылезли, бродили по Невскому…
Ели мороженое с безвкусными вафлями (на вафлях надписи — «Коля», «Валя», «Дуня»), ели яблоки, курили «Трехсотый «Зефир» и ругались с прохожими.
Потом пошли оравой в кино. Фильм страшный — «Таинственная рука, или Кровавое кольцо» с Пирль Уайт в главной роли.
Смотрели, лузгали семечки, сосали ириски и отрыгали выпитым за день самогоном и пивом.
Домой в школу возвращались поздно, за полночь… Заспанный Мефтахудын открывал ворота, ругался:
— Сволочи, секим башка… Дождетесь Виктыр Николаича.
Ночной воспитатель записал в «Летопись»:
«Старолинский, Офенбах, Козлов, Бессовестин, Пантелеев, Черных и Курочкин поздно возвратились с прогулки в школу, а воспитанники Долгорукий и Громоносцев не явились совсем».
Гужбан и Цыган в школе не ночевали, они ночевали на Лиговке…
* * *
Янкель и Пантелеев стояли опустив головы, не смотрели в глаза. Цекисты, сгрудившись у стола, дышали ровно и впивались взорами в обвиняемых…
Рассуждали:
— Сами признались. Снисхождение требуется.
— Факт. Порицание вынесем, без огласки.
И в сторону двух:
— Смотрите!..
Янкель и Ленька взглянули в глаза Японцу.
— Япошка!.. Честное слово… Сволочи мы!..
* * *
У Гужбана деньги вышли скоро… Казалось только, что трудно истратить восемьсот миллионов, а поглядишь, в день прокутил половину, там еще — и ша! — садись на колун. А сидеть на колуне — с махрой, с фунтяшником хлеба — после шоколада, кино, ветчины вестфальской и автомобиля — дело нелегкое.
Гужбан задумался о новом. Новое скоро придумал и осуществил.
Темной ночью эта же компания взломала склад ПЕПО, что помещался на шкидском же дворе. Сломали филенки дверные, пролезли, вынесли ящик папирос «Осман», филенки забили.
Снова кутили.
На полу, в коридорах, классах и спальнях школы — всюду валялись окурки с золотым ободком, «Осман» курила вся школа, и на колуне никто не сидел: щедрым себя показал Гужбан с миллиарда.
Случилось еще — ушли в отпуск лучшие халдеи — Косталмед и Алникпоп. Эланлюм растерялась совсем, уже не могла вести управление, сдерживать дисциплиной Содом и Гоморру…
Пошло безудержное воровство. Крали полотенца, одеяла, ботинки.
Юнком пытался бороться, но при первой же попытке подручные Гужбана избили Финкельштейна и пригрозили Пантелееву и Янкелю рассказать всей Шкиде про кофе и Пирль Уайт.
Как-то пришел к Пантелееву Голый барин. Дружен был он с Пантелеевым, любил его и говорил по-человечески.
— Боюсь я, Ленька, — сказал он. — Наши налет на «Скороход» готовят, надо сторожа убить… Ей-богу… Мне убивать…
Бледнел гимназистик Голенький, рассказывая.
— Мне. Да я… После придет в столовую Викниксор да скажет: «Кто убил?» — так я бы не вытерпел, истерика бы со мной случилась, закричал бы…
Голый плакал грязными слезами, морщил лицо, как котенок…
— Ладно, — утешал Пантелеев, — не пропал ты еще… Вылезешь…
А раз сказал:
— Записывайся в Юнком.
Удивился Голый, не поверил.
— А разве примут?
— Попробуем.
Свел Ленька Барина на юнкомское собрание, сказал:
— Вот, Старолинский хочет записаться в Юнком. Правда, он набузил тут, но раскаивается, и, кроме того, у нас не комсомол, организация своя, дефективная, и требования свои.
Приняли в кандидаты. Стаж кандидатский назначили приличный и обязали порвать с Гужбаном.
Но Гужбан не остыл. Сделав дело, он принимался за другое. Покончив с ПЕПО, вывез стекла из аптекарского магазина, срезал в школьных уборных фановые свинцовые трубы. Однажды ночью пропали в Шкиде все лампочки электрические — осрамовские, светлановские и дивизорные — длинные, как снаряды трехдюймового орудия.
Зараза распространялась по всей Шкиде. Рынок Покровский, уличные торговки беспатентные трепетали от дерзких мальчишеских налетов.
Это в те дни пела обводненская шпана песню:
С Достоевского ухрял И по лавочкам шманал… На Английском у Покровки Стоят бабы, две торговки, И ругают напропад Достоевских всех ребят, С Достоевской подлеца — Ламца-дрица а-ца-ца…Это в те дни школа, сделав, казалось, громадный путь, отступила назад…
Первый выпуск
В ветреную ночь. — Без плацкарты и сна. — В Питере. — Эланлюм докладывает. — У прикрытого абажура. — Остракизм. — Нерадостный выпуск. — Снова колеса тарахтят.
Волком выла за окном ветреная ночь, тарахтели на скрепах колеса, слабо над дверью мигала свеча в фонаре. Рядом в соседнем купе — за стеной лишь — кто-то без умолку пел:
Выла вьюга, выла, выла, Не было огня-а-а, Когда мать роди-ила Бедново миня…Пел без умолку, долго и нудно; и поздно, лишь когда в Твери стояли — паровоз пить ушел, — смолк: заснул, должно быть… За окном завывала на все голоса ветреная ночь, а в купе храпели — студент с завернутыми в обмотки ногами, дама в потрепанном трауре и уфимский татарин с женой. Храпели все, а татарин вдобавок присвистывал носом и во сне вздыхал.
Викниксору спать не хотелось. Днем он немного поспал, а сейчас сидел не двигаясь в углу, в полумраке, и, прикрывшись от фонарных лучей, думал…
Мысли ползли неровные, бессвязные, тянулись туда, в ту сторону, куда вертелись колеса вагонов, — к Питеру, к Шкиде.
За месяц съезда еще больше полюбил Викниксор Шкиду, понял, что Шкида — его дитя, за которым он хочет и любит ходить. Что-то там? Хорошо ли все, не случилось ли чего? Знает Викниксор, что все может случиться: Шкида — ребенок-урод, положиться на него трудно. А сейчас и момент опасный выдался: много «необделанных», новых дефективников пришло перед самым Викниксоровым отъездом…
— Что-то там?..
Думал Викниксор… А потом задремал. Снились — Минин на Красной площади, «Летопись», Эланлюм, ребята в школьной столовой за чаем, вывеска на Мясницкой — «Главчай», докладчик бритый, с усами вниз, на съезде соцвоса и Шкида опять — Японец с гербом-подсолнухом в руках, Юнком…
Потом смешалось все. Вывеска на Мясницкой попала в «Летопись», «Летописью» размахивал бритый докладчик соцвоса, в школьную столовую вошел каменный Минин… Заснул Викниксор.
Разбудил студент:
— Вставайте, товарищ… Питер.
Вставать не хотелось. Зевая, спустил ноги, поднял свалившееся на пол пальто…
Когда вышел на площадь, — радость забилась в груди. Теплым, родным показалось все — питерские извозчики, газетчики, носильщики. И даже Александр III с «венцом посмертного бесславья» показался красавцем.
Над Петроградом встало утро.
Было не жарко. Викниксор хотел сесть в трамвай, но трамвай долго не шел, и он решил идти пешком. Снял пальто и пошел по Лиговке, по Обводному к школе. Пуще прежнего беспокоил вопрос: что-то там?
На Обводном, у электрической станции, катали возили по сходням на баржу тачки с углем. Викниксор постоял, посмотрел, как черный уголь, падая в железное брюхо баржи, сверкал хрустальными осколками, посмотрел на воду, блестевшую накипью нефти, потом вспомнил — что-то там? — и зашагал быстрее.
Солнце упрямо лезло вверх, было уже жарко, золотая сковородка стояла теперь у Ново-Девичьего монастыря.
* * *
Эланлюм сидела, Викниксор стоял, хмурился, слушал. В глазах его уже не было улыбки.
— Ах, Виктор Николаевич, я из сил выбилась, я ничего не могла сделать, я устала…
Викниксор стоял, облокотившись на шифоньерку. Молчал. Слушал. Эланлюм рассказывала:
— Этот Долгорукий… Он неисправим, он рецидивист, он страшный…
Викниксор молчал. В глазах его улыбка становилась растерянной, грустной, почти отчаянной.
Долго потом сидел у себя в кабинете за массивным столом и, прикрыв абажур, думал.
«…Долгорукий безнадежен?.. Не может быть, что в пятнадцать лет мальчик безнадежен… Что-то не использовано, какое-то средство забыто…»
Открыл ящик стола, вынул папку коричневую с надписью: «Характеристики вков».
Отыскал и отложил одну.
…Сивер Долгорукий… Вор. Воровал в приюте для детей артистов, воровал у товарищей… Детдом №18… Воровал… Детскосельская гимназия. Воровал, выгнан… Учился плохо… Институт для дефективных подростков… Воровство, побег… Лавра…
А все-таки что-то еще не использовано. Что же?!
И вот нашел, вспомнил забытое. Трудовое воспитание!
Труд, физический труд… Он в мастерских и цехах фабричных, у домны, у плуга, у трактора «Фордзон». Он — лучший воспитатель на земле, он сможет сделать то, чего не смогли сделать люди с книгами…
К нему решил обратиться Викниксор за помощью, когда дело казалось уже безнадежным.
В тот же день, усталый, метался он из губоно в земотдел, из земотдела в профобр. Доказывал, убеждал, а убедив, возвращался в Шкиду и, поднимаясь по лестнице, напевал:
Путь наш длинен и суров, Много предстоит трудов, Чтобы выйти в люди.За вечерним чаем Викниксор, хмурясь, вошел в столовую.
— Здравствуйте.
— Здрасти, Виктор Николаевич, — ответили глухим хором.
Сидели, ждали. Знали, что Викниксор что-нибудь скажет, а если скажет, то нерадостное что-нибудь.
Молчали. Дули в кружки горячего чая, жевали хлеб. Маркс — портрет над столом волынян — впивался взором в мрачные зрачки Федора Достоевского. Ребята смотрели на Викниксора. Викниксор молчал. Пар туманом плыл над столами…
Наконец Викниксор сказал:
— Сегодня — общее собрание.
Кто-то вздохнул, кто-то спросил:
— Когда?
— Сейчас же… После чая.
Кончили чай, отделенные дежурные убрали посуду, смели хлебные крошки с обитых черной клеенкой столов. Викниксор поднялся, постучал пальцем по виску и заговорил, растягивая слова, временами повышая голос, временами опуская его до шепота:
— Ребята! Вы знаете, о чем я буду говорить, о чем я должен говорить, но чего не скажу. Вы знаете: за мое отсутствие в школе произошли вещи, никогда раньше не имевшие случая… Все, что случилось, зафиксировано в «Летописи»… Школа превратилась в притон воришек, в сборище опасного в социальном отношении элемента… Это только кажется, но это не так. Я верю, что школа осталась той же, подавляющее большинство вас изменилось к худшему лишь постольку, поскольку отошло от уровня… Но это пустяки. Это можно исправить. Виною всему группа…
Викниксор посмотрел в сторону Долгорукого. За Викниксором все взоры обратились в ту же сторону. Гужбан съежился и опустил глаза.
— …Группа, — повторил Викниксор, — группа негодяев, рецидивистов, атаманов… Такими я считаю…
Все насторожились. Создалась тишина, мрачная, тяжелая тишина.
— …Долгорукого, Громоносцева, Бессовестина. Их я считаю в условиях нашей школы неисправимыми. Единственное, что я мог для них придумать, это трудовое воспитание. Они переводятся в Сельскохозяйственный техникум, в Петергофский уезд. Я надеюсь, что там, в мирной обстановке сельского хозяйства, в постоянном физическом труде, они исправятся. Я надеюсь…
Слова Викниксора прервали дикие грудные всхлипы, крикливые стоны. Показалось, что ветер завыл в трубе и, хлопая вьюшками, рвется наружу…
Это рыдал Цыган. Рыдал, уткнувшись лицом в сложенные руки, дергал плечами. Рыдал первый раз в Шкиде. Потом закричал:
— Не хочу! Не хочу в сельский техникум… Учиться хочу… на профессора. На математический факультет хочу. А свиней пасти не желаю…
И снова рыдал, дергал плечами… Потом притих.
Викниксор подождал немного, прошелся из конца в конец столовой и продолжал:
— Громоносцев хочет учиться, но учиться он не может. Человек этот морально слаб. Из него выйдет негодяй, а образованный негодяй во сто раз хуже необразованного. Если труд его исправит, — он сможет вернуться к книгам. Поэтому, повторяю, лучшего выхода я не вижу. Дальше… Остальные должны быть наказаны, и за них мы возьмемся своими силами. Вы должны сами выявить из своей среды воров. Для этой цели мы прибегнем — к остракизму…
Загудела столовая, зашумела, как лес осеннею ночью… Кто-то закричал:
— Долой!
Кто-то зашикал и криком же ответил:
— Правильно! Даешь остракизм!
Викниксор, любивший оригинальное, залез в глубокую древность, вытащил оттуда остракизм и сказал: «Шкидцы, вот вам мера социальной защиты, вот средство от воров, патент на которое я, к сожалению, взять не могу, так как он уже взят две с половиной тысячи лет тому назад в Афинах…»
* * *
Дежурный воспитатель Амебка нарезал шестьдесят листков бумаги и роздал их по столам.
— Каждый должен написать три фамилии, — сказал Викниксор, — фамилии тех, кого он считает наиболее опасными. Получивший более пяти листков переводится из школы в другое заведение, больше трех — получает пятый разряд и букву «В» (вор), получивший более одного листка переводится разрядом ниже того, в котором находится в настоящий момент. Пишите, но — смотрите, будьте справедливы, не сводите счетов с недругами, не вымещайте злобу на невиновных… Пишите!..
Столовая снова загудела и тотчас же погрузилась в молчание. Медленно заходили карандаши по бумаге, заскрипел графит… Сидели, обдумывали, прятали, прикрывали рукой листки…
Написав, каждый сворачивал листок в трубочку и отдавал дежурному. Дежурные относили бумажные «остраконы» к воспитательскому столу и складывали их в припасенный для этой цели ящик. Наконец, когда в ящике скопилось ровно шестьдесят листков, Викниксор встал и заявил:
— Приступим к выяснению результатов. Выберите контролеров.
Контролерами избрали Курочку, Японца, Кобчика и Мамочку. Японец притащил из класса лист писчей бумаги и чернила и уселся рядом с Викниксором для подсчета голосов. Тогда Викниксор вытащил из ящика первый листок…
Снова тишина, жуткая и тяжелая.
Викниксор развернул листочек и прочел:
— «Громоносцев, Долгорукий, Устинович».
Развернул второй листок.
— «Долгорукий, Громоносцев, Федулов».
Развернул третий.
— «Долгорукий, Козлов, Петров».
Четвертую записку столовая встретила жутким смехом:
— «Боюсь писать — побьют».
Около двадцати листков оказались незаполненными, — вероятно, по той же причине.
Кончив чтение записок, Викниксор совместно с контролерами занялся подсчетом голосов. Результаты оказались такими: Долгорукий — тридцать шесть, Громоносцев — тридцать, Козлов — двадцать шесть, Устинович — тринадцать, Бессовестин — семь… Старолинский получил три голоса. Купец — два. Янкель и Пантелеев — по одному.
Викниксор сообщил:
— В сельскохозяйственный техникум переводятся не три человека, а четыре. А именно — Долгорукий, Бессовестин, Громоносцев и Устинович. Козлов, как не подходящий по знаниям к техникуму, переводится на Тарасов или на Мытненку…
Козлов заплакал. «Тарасов» и «Мытненка» были распределители, откуда прямая дорога вела в лавру.
— Общее собрание закрыто, — объявил Викниксор.
Ребята поплелись из столовой.
Когда все вышли, за столом остался один Цыган. Он сидел, уткнувшись лицом в сложенные руки, и всхлипывал.
* * *
Через несколько дней состоялся «первый выпуск». Он прошел без помпы. За обедом Викниксор смягченным тоном сказал напутственную речь выпускникам. Все смирились с перспективой ухода из школы: Долгорукий — по привычке скитаться с места на место, Устинович — по врожденному хладнокровию, а Бессовестин был даже немного рад переводу в Сельскохозяйственный техникум, так как любил крестьянскую жизнь. Лишь один Громоносцев до конца оставался хмур, ни с кем не разговаривал, и часто слышали, как он по ночам плакал…
После обеда выпускники, распрощавшись с товарищами и халдеями, отправились на Балтийский вокзал, к пятичасовому поезду на Нарву. Провожали их Янкель, Пантелеев, Японец и Дзе.
Шли по Петергофскому, потом свернули на Обводный. Выпускники, одетые в полученное из губоно «выпускное» — суконные пальто, брюки и гимнастерки, — несли на плечах мешки с бельем и прочим небогатым имуществом.
Громоносцев, окруженный товарищами по классу, шел позади.
— Что, Коля, неохота уходить? — спросил Янкель.
Цыган минуту молчал.
— Убегу! — воскликнул он вдруг глухим голосом. — Честное слово, убегу… Не могу.
— Полно, Цыганок, — ласково проговорил Японец. — Обживешься. Пиши чаще, и мы тебе будем писать. Конечно, уходить не хочется, все-таки три года пробыли вместе, но…
Дальше Японец не мог говорить — что-то застряло в горле.
Каждый старался утешить Цыгана, как мог.
На вокзале выпускников ожидал вернувшийся недавно из отпуска Косталмед. Он усадил их в вагон, вручил билеты и, простившись, ушел в школу.
Провожающие до звонка оставались в вагоне с выпускниками. Когда на перроне прозвенел второй звонок, товарищи переобнимались и перецеловались друг с другом. Громоносцев опять заплакал. Заплакали и Японец с Пантелеевым.
— Счастливо! — крикнул Янкель, выходя из вагона. — Пишите!..
— Будьте счастливы! — повторили другие.
Поезд тронулся. Изгнанники сидели молча. Говорить было не о чем, вспоминать о прошлом было страшно и больно, нового еще не было.
В купе было душно, пахло стеариновым нагаром и нафталином. Тарахтели на скрепах колеса, в окне плыли березы, и казалось, что не березы, а люди бежали, молодые резвые девушки в белых кружевных платьях.
Раскол в Цека
Киномечты. — Принципиальный вопрос. — Курительный конфликт. — «День». — Быть или не быть. — Раскол в Цека. — Борьба за массы. — Перемирие.
Уже час ночи. Утомившиеся за день шкидцы спят крепким и здоровым сном. В спальне тихо. Слышно только ровное дыхание спящих. В раскрытые окна врывается ночной ветерок и освежает комнату.
Все спят, только Ленька Пантелеев и Янкель, мечтательно уставившись в окно, шепотом разговаривают. Сламщикам не спится. Их кровати стоят как раз у окна, и прохладный воздух освежает и бодрит разгоряченные тела.
— Ну и погодка, — вздыхает Янкель.
— Да, погодка что надо, — отвечает Пантелеев.
Янкель минуту молчит и чешет голову, потом вдруг неожиданно говорит:
— Эх, Ленька! Сказать тебе? Задумал я одну штуку!..
— Какую?
— Ты только не смейся, тогда скажу.
— Чего же смеяться, — возмущается Пантелеев. — Что же мы — газве не сламщики с тобой?
— Правда, — говорит Гришка. — Мы с тобой вроде как братья.
— Конечно, бгатья. Ну?
— Что ну?
— Какую штуку?
— Есть у меня, понимаешь, мечта одна, — тихо говорит Янкель, умиленно глядя на кусочек неба, виднеющийся из-за переплета окна. — Хочу я, брат, киноартистом сделаться.
Пантелеев вздрагивает и быстро поднимает голову над подушкой.
— И ты?
— Что и ты?
— И ты об этом мечтаешь?
— А разве и ты? — изумился Янкель, и Пантелеев смущенно признается:
— И я. Только я хочу режиссером быть. Артист из меня не получится. Я в Мензелинске пробовал… Дикция у меня неподходящая.
— А у меня какая? Подходящая? — интересуется Гришка, имеющий довольно смутное представление о том, что такое дикция и с чем ее кушают.
— У тебя — хорошая, — говорит Пантелеев. — Ты все буквы подряд произносишь. А я картавлю…
Даже в темноте видно, как покраснел Ленька. Янкелю делается жалко сламщика.
— Ничего, — говорит он, утешая друга, и, помолчав, великодушно добавляет: — Зато я рисовать не могу. Я — дальтоник.
Это почище дикции. Пантелеев сражен. Минуту он молчит и соображает, потом спрашивает:
— Руки трясутся?
— Нет, руки не трясутся, а я в красках плохо разбираюсь. Не отличаю, где красная, где зеленая. А вообще, ты знаешь, это здорово, что у нас одна мечта с тобой.
— Еще бы, — соглашается Пантелеев. — Вдвоем легче будет. Ведь я, ты знаешь, давно уже думал: как выйду из Шкиды, — так сразу в Одессу на кинофабрику. Попрошусь хоть в ученики и буду учиться на режиссера.
— А меня возьмешь?
— Куда?
— В Одессу.
— Чудила. Я тебя не только в Одессу, я тебя на главную роль возьму.
— А какие ты фильмы ставить будешь?
— Ну, это мы подумаем еще. Революционные, конечно…
— Вроде «Красных дьяволят»?
— Хе! Получше еще даже.
Янкель уже загорелся.
— А ты знаешь, ведь это не так сложно все. Выйдем из Шкиды, получим выпускное и — айда на юг. Эх, даже подумать приятно!.. Солнце… пальмы там всякие… виноград… Черное море… Шиково заживем, Ленька, а?
У Янкеля, за всю жизнь не выезжавшего из Питера дальше Лигова и Петергофа, представление о юге самое радужное. Умудренный жизненным опытом Ленька несколько охлаждает его пыл.
— А деньги? — спрашивает он, иронически усмехаясь.
— Какие деньги?
— Как какие? А на что жить будем? Да и на дорогу… Ведь зайцами небось не поедем.
— А что? Разве трудно?
— Нет, с меня хватит, — говорит мрачным голосом Ленька.
Янкель задумывается, сраженный вескими аргументами сламщика. Он пристально смотрит в окно, за которым синеет ночное питерское небо, и вдруг радостно вскрикивает:
— Эврика!
— Ну?
— Деньги надо копить.
— Спасибо! Весьма вам благодарен. Очень остроумная идея.
— А что? Конечно, остроумная. Начнем копить сейчас же, с этой минуты. Глядишь, к выходу и накопим изрядную сумму.
Янкель приподнимается, стаскивает с табуретки свои штаны и деловито роется в карманах. Потом извлекает оттуда две бумажки и показывает сламщику.
— Вот. От слов перехожу к делу. Вношу первый вклад. У меня два лимона есть. Если и у тебя есть, — давай в общую кассу.
Пантелеев вносит в общую кассу три миллиона.
— Начало положено, — торжественно заявляет Янкель, засовывая пять миллионов рублей в обшарпанный спичечный коробок.
Для пущей торжественности сламщики закрепляют свой союз крепким рукопожатием.
И долго еще шелестят в тишине приглушенные голоса, долго не могут заснуть сламщики и все говорят, строят планы и мечтают. Изредка в их речь врывается лай собаки, свист милиционера или пьяный шальной выкрик забулдыги, которого хмель завел в неизвестные ему края.
* * *
Все чаще и чаще замечали шкидцы, как уединяются и шепчутся между собой сламщики Янкель и Пантелеев. Сядут в углу в стороне от всех и долго о чем-то говорят, горячо спорят. Сперва не обращали внимания. Ведь сламщики все-таки, мало ли у людей общих дел. Но дальше стало хуже — парочка совсем одичала, отдалилась от коллектива, и дошло до того, что ни тот ни другой не являлись на заседание Цека.
В Цека было всего пять человек, и отсутствие почти половины цекистов, конечно, было замечено. Ребята возмутились и сделали сламщикам выговор, но те и к этому отнеслись совершенно равнодушно.
Все больше и больше отходили Янкель и Пантелеев от Юнкома. «Идея» захватила целиком обоих. Уже не раз Япончик напоминал Янкелю:
— Пора бы «Юнком» выпускать. Две недели газета не выходит. На собрании взгреют.
Но Янкель выслушивал его рассеянно. Говорил, глядя куда-то в сторону:
— Ладно, сделаем как-нибудь.
Оба сламщика стали необычайно рассеянны и сварливы. Уже давно оба перестали ходить на занятия Юнкома, и по-прежнему их головы были заняты только одним: набрать денег к выходу, уехать на юг, на кинофабрику.
Вечерами сидели в уголке и мечтали.
А в Юнкоме тем временем росло недовольство, глухое, но грозное.
— Что же это? Долго будет так продолжаться?
— Работу подрывают.
— Недисциплинированные члены!
— А еще в Цека забрались!
Ячейка волновалась.
Однажды на общем собрании юнкомцев обсуждался вопрос о новых членах. Среди вновь вступавших было много недозревших, которым необходимо было присмотреться, прежде чем самим работать в Юнкоме. При обсуждении кандидатур большинство Юнкома высказалось в этом духе. Другая же сторона — Янкель, Пантелеев и примкнувший к ним Джапаридзе — яростно отстаивала противоположную линию.
— Вы неправы, товарищи, — горячился Гришка. — Вы неправы. Наша организация сама по себе несовершенна и не узаконена. Мы еще сами незрелые.
— Как сказать. Может быть, Черных о себе говорит, — ядовито вставил Японец.
— Нет. Я не только о себе говорю, а говорю о всех. Мы незрелы, но все же развиты более остальных, и наша прямая задача — как можно больше вовлекать новых членов, пусть даже малоподготовленных, но желающих работать. И именно здесь, у нас, в организации, они будут шлифоваться.
— Кто же их будет отшлифовывать? — пискнул Финкельштейн ехидно.
Янкеля передернуло.
— Конечно, не Кобчик, социальные взгляды которого в первобытном состоянии, — отпарировал он. — Новых членов будет отшлифовывать среда и общее стремление к одной цели. Пример такой шлифовки у нас уже есть.
— Укажи! — крикнул кто-то из сидевших.
— И укажу, — разгорячился Янкель. Потом он обернулся к Пантелееву: — Ленька, расскажи про Старолинского.
Ленька поднялся, шмыгнул носом и проговорил:
— Факт. Старолинский отшлифовался. От долгоруковских похождений до Юнкома путь далекий. Однако вы все знаете, что этот путь он прошел хорошо. Взгляните на Старолинского — вот он сидит. Разве можно теперь поверить, что Старолинский тискал кофе? Нельзя. Старолинский сейчас у нас лучший член. О чем же говорить-то?
Вид смущенного Старолинского на минуту убедил всех в правоте меньшинства. Однако выступившие вслед за тем Еонин и Пыльников с треском разрушили все доводы Янкеля и Пантелеева.
Собрание единодушно постановило:
«Прием членов ограничить. Каждый вступающий вновь должен выдержать месяц испытательного срока, затем месяц кандидатуры с рекомендациями трех членов и наконец месяц учебной подготовки».
Огорченное провалом меньшинство голосовало против, а потом, взобравшись на подоконник, вытащило из карманов папироски и отказалось принимать дальнейшее участие в собрании.
— Это неправильно. Это же обессиливание ячейки, насильственный зажим, — горячился разнервничавшийся Янкель, злобно обкусывая кончик папиросы и сплевывая прямо на улицу. Дзе и Пантелеев поддакивали ему. После этого обсуждался вопрос об Октябрьском спектакле. Когда все высказались, Еонин сделал попытку примирить меньшинство.
— Эй вы, на окне! Как ваше мнение о проведении вечера?
— Мы воздерживаемся от мнений, — буркнул Пантелеев.
— И предпочитаете курить?
— Хотя бы так.
Японец взволновался, потом притворно равнодушно заявил:
— Между прочим, мне кажется, надо обдумать вопрос о курении в Юнкоме. И вообще стоит ли членам нашей организации курить?
— Ишь гусь, — злобно хихикнул Янкель. — Сам не куришь, так под нас подкапываешься. Номер не пройдет. Решайте не решайте, а курить будем.
— Как решим, — протянул Японец.
Дальше Янкель не выдержал и вышел за дверь, за ним последовал и Пантелеев, а Дзе, минуту постояв в нерешительности, погасил о подошву окурок и сел за стол. На повестку дня был поставлен вопрос о курении. Большинством голосов постановили: в помещении Юнкома не курить.
* * *
— Не курить, значит! Ну что ж, ладно, не будем курить в Юнкоме, — посмеивался Пантелеев, читая протокол собрания, вывешенный на стене.
— Это нарочно. В пику нам. Японец свое влияние и силу показать хочет. Предостерегает нас, — бормотал Янкель.
Постановление разъярило обоих. Сламщики настолько разгорелись боевым задором, что даже забыли о своей идее.
— Надо бороться. Пусть они знают, что и мы имеем право говорить. Мы им покажем, что они неправы, — горячился Янкель.
— Правильно, — согласился Пантелеев. — Мы должны говорить. А говорить веско и обдуманно можно только через печатный орган, следовательно…
— Ну?
— Следовательно…
Янкель насторожился.
— Ты хочешь сказать: следовательно, нужно издавать орган, через который мы можем говорить с Юнкомом?
— Да, друг мой, ты прав, — заключил Пантелеев, снисходительно улыбаясь.
Янкель задумался, усиленно почесывая ногтем переносицу, потом попробовал протестовать:
— А «Юнком» как? Ведь и «Юнком» я же издаю. Следовательно…
— Да, опять следовательно… Следовательно, нужно либо бросить его, либо совместить с новым изданием. Да чего ты беспокоишься? Совместишь. А новый орган нам необходим.
— Да, ты прав.
Вечером в углу, в стороне от класса, сидели оба и что-то яростно строчили.
Никто не обращал внимания на притихших сламщиков, но Японец, хорошо знавший характер обоих, уже забеспокоился, чувствуя, что готовится что-то недоброе. Он несколько раз пытался пронюхать, что замышляют оппозиционеры, но ничего не смог выпытать и стал ждать, предварительно уведомив о готовящемся своих сторонников.
— В случае если что особенное, — сразу по коммунистической тактике! С корнем вырвем разлагающий элемент.
— Ясно, — пискнул Финкельштейн.
— Правильно, — поддакнул Пыльников, а потом, сморщившись, нерешительно добавил: — Только жалко, Еончик, ребята дельные.
— Какие бы они ни были, но, если они мешают нам, мы должны их обезвредить, — сурово отрезал Еонин, и его маленькая фигурка дышала такой решимостью, что Пыльников, при всей своей симпатии к парочке бузотеров, не в силах был протестовать.
А утром вышла в свет новая газета — «День». В передовице сообщалось о том, что газета выходит не регулярно, а по мере накопления материала, но что линия газеты будет строго выдержана. В газете каждый может выступать с обсуждением и критикой всех школьных мероприятий.
«Все могут писать и свободно высказываться на страницах нашей газеты. «День» будет следить за всем и все обсуждать», — громко повествовала передовица, а чуть пониже шла статья, содержание коей всколыхнуло весь Юнком. Статья содержала ряд резких выпадов против руководства Юнкома. Собственно, Юнкому был посвящен весь номер, за небольшим исключением, и даже карикатура высмеивала манию секретаря Юнкома писать протоколы. На рисунке был изображен Саша Пыльников, в одной руке держащий папироску, а в другой кипу протоколов и спрашивающий сам себя: «Что вреднее — курение табака или писание протоколов?»
Такой резкий выпад оппозиции возмутил Юнком и особенно Сашу — Бебэ, который чрезвычайно обиделся. Больше всего возмутило ячейку то, что под газетой стояло: «Редактор: Пантелеев, издатель: Черных». Это был открытый вызов.
Еще не было случая, чтобы члены Юнкома выступали против своего коллектива, и вдруг такая неожиданность. Решили созвать расширенный пленум. Ввиду важности вопроса пришлось отменить трудовой субботник. Предстояла горячая схватка.
— Смотрите, ребята, не сдавай! — волновался Японец, когда собрались все выделенные делегаты.
— Мы идем за комсомолом. Мы должны решать по-большевистски. Либо за, либо против — и никаких гвоздей.
Уже пленум был в сборе. Собралось семь человек. Не было только Янкеля и Леньки. За ними послали, и минуту спустя оба они, насупившись, вошли в комнату и сели. Япончик открыл заседание и взял слово.
— Сегодня, товарищи, мы вынуждены были неожиданно для всех созвать совещание, поводом к которому послужил выход газеты «День» — газеты, которую вдруг, без согласования с нами, начали издавать наши же товарищи из Цека. Газета «День» выпущена с явной целью подорвать авторитет Юнкома. Положение создается очень опасное. Мы будем говорить прямо. «День», если не совсем, то наполовину, может разложить нашу организацию, так как, я еще раз говорю, против Юнкома выступают сами юнкомцы — члены Цека. Мы-то, конечно, знаем, что за члены Цека Черных и Пантелеев, мы-то помним их веселые оргии с Долгоруким, но массы этого не знают, и массы будут им верить, так как печать — самое убедительное средство борьбы, а Янкель и Пантелеев, мы должны признаться, самые талантливые шкидские журналисты.
Япончик на минуту остановился, наблюдая за действием своих слов, но тут же увидел безнадежность положения. Лесть его не подействовала. Сламщики, по-видимому, даже и не думали о раскаянии. Оба они сидели и нахально-дерзко оглядывали противников.
Тогда Япончик перешел к делу.
— Ребята, надо ставить вопрос ребром. Либо Черных и Пантелеев должны будут немедленно прекратить издание своей газеты и выпустить очередной номер «Юнкома», в котором публично признают свои ошибки, либо…
— Что — либо? — со зловещим хладнокровием спросил Янкель.
— Либо мы будем принуждены обнародовать прошлое членов Цека, снять их с постов и… если не совсем… то хоть на месяц исключать из Юнкома. Мы должны держать твердую дисциплину.
— Ну и держите себе, братишки! — истерично выкрикнул Янкель. — «День» мы не прекратим, наоборот, мы его сделаем ежедневным. Прощайте.
Дверь хрястнула за сламщиками. И тотчас Юнком поставил вопрос об исключении Янкеля и Пантелеева. Постановление провели и сламщиков исключили. Тут же была выбрана новая редколлегия, которой поручили экстренно выпустить номер «Юнкома» с опровержением. Воробья назначили издателем, Пыльникова — редактором. Едва разошелся пленум и опустел Юнком, новая редколлегия уже взялась готовить номер, и на другой день с грехом пополам «Юнком» вышел.
Две недели республика Шкид жила в лихорадке, наблюдая за борьбой двух течений. На стороне Юнкома был завоеванный ранее авторитет, на стороне сламщиков — техника, умелое направление газеты и симпатии тех ребят, которых Японец и его группа не пускали в Юнком.
Янкель и Пантелеев после выхода нового «Юнкома» развили бешеные темпы. «День» стал ежедневной газетой, а впоследствии к нему прибавился еще и вечерний выпуск.
Новый «Юнком» был слишком медлителен и слаб, чтобы бороться с газетой, вдруг сразу получившей такое распространение и популярность. Дела в ячейке шли все хуже. «День» медленно, но верно вдалбливал шкидцам, что линия Юнкома неправильная, а сам Юнком мог только на митингах парировать удары оппозиции, так как орган их не в силах был поспеть за органом сламщиков. Массы отходили от Юнкома, стали недоверчивы, и только читальня по вечерам помогала Юнкому бороться с Янкелем и Пантелеевым, но и та висела на волоске. Юнкомцам было хорошо известно, что три четверти всех книг в читальне принадлежит оппозиции и что рано или поздно читальню разорят.
И это случилось. Раз вечером в Юнком вошли Янкель и Пантелеев. Был самый разгар читального вечера.
Десятки шкидцев сидели за столами и рассматривали картинки в журналах и книгах. Янкель остановился у двери, а Пантелеев подошел к Японцу и с изысканной корректностью произнес:
— Разрешите взять наши книги?
Японец побледнел.
Он ждал этого давно, но теперь вдруг струсил. Разгром читальни отнимал последнюю возможность привлечь и удержать массы. Однако надо было отдать.
— Берите, — равнодушно бросил он, но Пыльников, стоявший рядом, услышал в голосе Еонина необычайную для него дрожь.
— Берите, — повторил Японец.
Под хихиканье и насмешки над обанкротившимся руководством сламщики отбирали свои книги, но теперь их уже не интересовало падение и гибель Юнкома и брали они свое только потому, что для пополнения своего «южного фонда» решили загнать книги на барахолке.
Воевать сламщикам надоело. Они снова вспомнили свою идею и отвели в газете целую полосу под отдел «Кино», где помещали рецензии о фильмах и портреты известных киноартистов.
Юнком получил передышку и стал выправляться.
«Шкидино»
Микроб немецкого ученого. — Микроб залетает в Шкиду. — Трест «Шкидкино». — Первый сеанс. — Коммерческий расчет. — Печальная ликвидация фирмы.
Какой-то ученый, не знаем, в шутку или серьезно, заявил, что им открыт новый микроб, cino, который, попадая в человеческий организм, заставляет человека страдать манией киноактерства.
По всей вероятности, вышеописанный микроб кино залетел в Шкиду и забрался в податливые организмы Янкеля и Пантелеева. Мания киношества, прекратившая было свое действие во время разлада в Цека, снова дала себя чувствовать…
В один из понедельников два старших класса школы ходили в кинематограф — в «Олимпию», что на Международном проспекте. Смотрели какой-то чепуховый американский боевик с традиционными ковбоями, драками, погонями и поцелуями. Янкель и Пантелеев вернулись из кино возбужденные.
— Эх, мать честная, — вздохнул Янкель, — так бы и поскакал через прерию с баден-паулькой на затылке и с маузером в руках.
— Да, — ответил Пантелеев, за последнее время переменивший желание стать режиссером на решение сделаться киноартистом. — Да. А я бы сейчас… знаешь… я бы хотел в павильонной ночной съемке пришивать из-за угла какого-нибудь маркиза.
— Очень уж мы долго идею свою осуществить не можем, — снова вздохнул Черных, — да и забыли о ней.
— Эх, Одесса-мама… А знаешь что? Не лучше ли нам в Баку поехать? Там Перестиани…
— Нет, он не в Баку. Он в Тифлисе. Впрочем, съездим и в Баку. И в Тифлис смотаемся. Погоди, вот скопим два червонца…
— А сейчас что? Не могу я, Янкель, ждать… Честное слово.
— Дурак. Нервный какой! Что же делать — без гамзы ведь далеко не уедешь. Здесь нам, что ли, фильмы ставить?
Ленька Пантелеев вдруг просиял.
— Идея! — вскричал он. — Почему бы нам не устроить свое кино?!
— Ты что, с ума сошел? — сочувственно полюбопытствовал Янкель.
— Нисколько. И тебе не советую с ума сходить, а лучше послушай…
— Слушаю, — сказал Янкель.
* * *
Во всех классах висели небольшие плакатики, написанные от руки акварельными красками:
ВНИМАНИЕ!!!
в пятницу в 8 часов
в белом зале
СОСТОИТСЯ ПРОСМОТР ФИЛЬМЫ
«ПУПКИН У РАЗБОЙНИКОВ»
1-я серия из цикла
«Приключения Антона Пупкина»
ПЕРВАЯ ПОСТАНОВКА ФИРМЫ
ШКИДКИНО
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ
Шкидцы недоумевали. Никто не знал, чья это выдумка, что это за «Шкидкино», все непонимающе переспрашивали:
— Шкидкино? Что за черт? Ты не знаешь?
— Не знаю. Витя, наверно, аппарат где-нибудь выкопал.
— Волшебный фонарь, должно быть.
— Не… Это юнкомцы туманные картины — анатомию всякую — показывать будут.
— Анатомию! Дурак! При чем же Пупкин и анатомия?
— Пупкин? Пупок…
— Ну и еще раз дурак!
— А я так думаю — все это для бузы сделано, издевается кто-нибудь, вот и все…
— Посмотрим.
До пятницы Шкида находилась в неведении. В пятницу вечером еще с семи часов в Белый зал потянулись шкидцы. Зал был полуосвещен. Сцену закрывал темный занавес, и за него до поры до времени никого не пускали. Когда кто-нибудь пытался приоткрыть занавес и заглянуть вглубь, сердитый голос Пантелеева, находившегося где-то за кулисами, тотчас окрикивал:
— Куда лезешь? Тегпенья нет подождать, что ли? Бгысь!
Ровно в восемь часов на авансцену за занавес вышел Янкель.
— Товарищи, — сказал он. — Прошу внимания. Сейчас вы увидите фильму «Пупкин у разбойников» — первую постановку объединенного треста «Шкидкино». Просьба соблюдать тишину, так как до сведения Викниксора не доведено, а он, как вам известно, находится в двадцати ярдах отсюда. Прошу подняться на сцену, где временно помещается наш кинотеатр.
Проговорив это, Янкель распахнул край занавеса. Шкидцы полезли на сцену. Там было совершенно темно. За кулисами слышались постукивания молотка и ругань Пантелеева.
— Что за буза? — прошептал кто-то. — Где же тут кинтель?
Кто-то выразил сомнение в реальности кино, кто-то заскулил:
— Ну что же, начинайте!..
В этот момент на одной из стен сцены вспыхнул квадратный глазок дюйма в три в длину и ширину. Шкидцы радостно заголосили.
— Гляди-ка! И правда… Зажглось!
Кинематограф Пантелеева и Янкеля отличался своеобразным устройством. Экрана как такового не существовало. Через проекционное окошко проходила длинная бумажная лента с отдельными «кадрами» — рисунками, освещаемая сзади сильной электрической лампой. Смотреть приходилось отходя от глазка не дальше чем на два-три шага…
Но шкидцы не были требовательны, а кроме того, зрелище, устроенное сламщиками, было тем конем, которому в зубы не смотрят. Поэтому сдержанными, но единодушными аплодисментами встретили шкидцы первый титр:
ПУПКИН У РАЗБОЙНИКОВ
Фильма в 3-х частях
Сценарий Ал. Пантелеева
Режиссер Гр. Черных
шкидкино
Дождавшись, чтобы все прочли эту надпись, Пантелеев передернул ленту дальше. Следующий «кадр» изображал толстую физиономию человека, под которой красовались стихи:
Прекраснейший в мире человек Вызывает всюду смеха стон. С соломенной шляпой на голове Вылезает Пупкин Антон.Дальше был изображен Пупкин, сидящий на скамейке сада за чтением газеты.
Как-то в сумерки, летом, Лет тому пять назад, Захватив от скуки газету, Забрался Антоша в сад.На увлекшегося чтением Пупкина набросились вылезшие из кустов разбойники. Связав беднягу вдоль и поперек толстенным канатом, они стащили его в свое логово и, бросив в подвал, ушли. Пупкин различными ухищрениями, какие часто практикуются в детективных фильмах, выбрался на волю и —
Снова Антон Митрофанович Пупкин, Щеки надув и поджавши губки, Свободен, беспечен, могуч и здоров, Как двадцать быков и пятнадцать коров.КОНЕЦ
Демонстрация «фильмы» тянулась не более трех минут, но шкидцы были в восторге. Выразив свои чувства аплодисментами, они уже собирались расходиться, когда «экран» снова вспыхнул, извещая, что «сейчас пойдет видовая из жизни школы Достоевского». «Видовая» оказалась удачно зарисованными Янкелем сценками школьной жизни в различных ее моментах — в классе, в столовой, в спальне, за пилкой дров — и отдельными типами халдеев и шкидцев.
Ребята расходились, очень довольные сеансом.
— Вот это я понимаю, — говорил Купец, — это тебе не Юнком!
Через два дня Шкидкино поставило новый фильм — «Пупкин попадает в лавру», — в котором остроумно показывались приключения Пупкина среди преступного мира Петрограда.
Программа менялась каждые два дня… Однажды, когда режиссер и сценарист находились в «кинотеатре» за просмотром только что изготовленного фильма «Антон Пупкин в прериях», Янкель сказал:
— Знаешь что, а мы бы могли извлекать пользу из своего кино!
— Как то есть пользу? — удивился Пантелеев.
— Да так… не вечно же нам с Шкидкино валандаться? Идеал-то наш Госкино…
— Ну так что ж?
— Давай устроим платное кино.
Пантелеев задумался.
— Хреновина. Заскулят еще.
— Ни псула. Две копейки золотом назначим, — это недорого.
«Пупкин в прериях» шел уже в условиях коммерческого расчета. Платность заметно отразилась на посещаемости. В первый раз пришло лишь десять человек, во второй и того меньше — всего шесть или семь.
— Да, действительно хреновина, — согласился Янкель. — Надо, знаешь, что-то придумывать.
И сламшики придумали.
Обычно перед демонстраций нового фильма давались анонсы в афишах и плакатах, развешивавшихся в классах, а на этот раз маленькие афишки раздавались по рукам:
СЕГОДНЯ
в 8 часов веч. в Шкидкино идет новая фильма —
только для взрослых
ПУПКИН ДОН-ЖУАН
В первый раз за долгое время Белый зал был переполнен. Явно неприличную ленту шкидцы смотрели смакуя и гогоча.
На следующий день после постановки «Дон-Жуана» в газете «Юнком» появилась статья:
ОБ ОДНОЙ КИНОФИЛЬМЕ
Два товарища, бывшие некогда членами Юнкома и даже его Центрального комитета и исключенные за неподчинение дисциплине, в настоящее время занимаются делами, недостойными даже их. Они устроили игрушечный кинематограф, в котором показывают безобразные картины, и притом за плату. Не видим нужды говорить о разлагающем действии этого «Шкидкино» на воспитанников младших отделений, а просто заявляем: администрация, прикрой лавочку.
Викниксор прочитал статью, призвал к себе «кинематографистов» и заявил:
— Если еще раз повторится такая штука, будете оба переведены в лавру. А пока получите по пятому разряду на брата и — налево кругом!..
Бумажная панама
Сарра Соломоновна. — Бумага и лимоны. — По листику в фонд. — Законы Российской империи. Панама. — Караван невольников. — Червонцы сделаны.
У Сарры Соломоновны не ларек, а целый кондитерский магазин. Целый день Сарра Соломоновна стоит, обложенная банками с монпансье, леденцами, пряниками и шоколадом…
— Мадам! — кричит Сарра Соломоновна. — Мадамочка, вы не забыли купить конфет для вашего милого мальчика?
Дела у Сарры Соломоновны идут хорошо… Каждый день ее брат Яша привозит на маленькой тележке полные банки сластей, а вечером увозит их почти пустыми. У Сарры Соломоновны поэтому всегда довольный вид. Целый день и зиму и лето она стоит за своим ларьком и кричит:
— Гражданин? Почему бы вам не купить плитку шоколада для вашей симпатичной жены?
Пантелеев и Янкель познакомились с Саррой Соломоновной, покупая у нее четвертку сахарного песку.
Янкель вдруг спросил:
— Вы что, ларек домой на ночь увозите?
Сарра Соломоновна инстинктивно вздрогнула. Вопрос ей показался странным — и даже страшным.
«Это, наверное, налетчики, — подумала она. — Уж не хотят ли они ограбить мой ларек?»
— Нет, — сказала она. — Ларек я сдаю на хранение одному очень честному и сильному мужчине… Он же его и увозит на своей собственной тележке.
— А сколько вы ему платите? — полюбопытствовал Пантелеев.
Сарра Соломоновна вздохнула:
— Ой, не говорите, сколько я ему плачу… Я ему плачу пятьдесят миллионов в месяц…
— Здорово! — невольно воскликнул Янкель.
— Ну и сволочь же, — прошипел Пантелеев.
— А зачем вам это знать? — спросила Сарра.
— Мы вам будем носить ларек за двадцать миллионов, — сказал Пантелеев.
Сарра Соломоновна недоверчиво посмотрела на ребят, но все же согласилась.
— Хорошо, носите, — сказала она, — хотя это и очень подозрительно, но вы берете дешевле, и притом у меня на собственной квартире ларек будет сохраннее… Этот рыжий человек недавно сломал мне навес.
С этого дня Черных и Пантелеев каждодневно к семи часам вечера являлись на рынок и уносили в один присест нетяжелые сравнительно части ларька Сарры Соломоновны. Потом, войдя к ней в доверие, они помогали ее брату Яшке перевозить и товар.
Однажды Сарра Соломоновна сказала:
— Ой, вы бы знали, мальчики, как трудно сейчас работать торговцу… Как все дорого — патенты, налоги… Бумага оберточная и та дорогая. Ой, какая дорогая бумага, дороже, чем сам товар…
— Почем же теперь бумага? — из учтивости поинтересовался Янкель.
— Не говорите, вздохнула Сарра Соломоновна. — Тридцать миллионов пуд.
Когда товарищи, перетащив ларек на квартиру Сарры Соломоновны, на Екатерининский канал, возвращались в школу, Пантелеев сказал:
— Знаешь что, у меня явилась идея. Давай копить бумагу…
— Что-о? — закричал Янкель.
— Будем копить бумагу, — повторил Пантелеев. — Пуд скопить не так долго, если собирать даже старые тетради и газеты; а пуд стоит два рубля золотом, это все-таки прибавит к нашему фонду…
— А и правда, — призадумался Янкель. — Давай попробуем, — может быть, от этого приблизится срок осуществления нашей идеи, — улыбнулся он.
— Баку… — мечтательно прошептал Пантелеев.
С того же дня они начали собирать бумагу… Первым долгом собрали все старые, исписанные тетради и газеты. Оказалось не так много — четверть фунта всего. За неделю скопили двенадцать фунтов.
— Э, да это долгая волынка, — вздыхал Янкель.
Но все-таки не прошло и месяца, как они скопили пуд шесть фунтов бумаги, которую снесли к Сарре Соломоновне и продали ей за двадцать пять лимонов. Кроме того, они получили от Сарры Соломоновны и месячную плату за переноску ларька. В их «фонде» уже скопилось около пяти рублей золотом.
А тут еще подвернулся этот случай…
Однажды Янкель менял в библиотеке книги… Он лазил по пыльным полкам, отыскивая «Голод» Кнута Гамсуна… Библиотекарша Марья Федоровна сидела за столом, принимала и обменивала книги другим улиганам. Янкель был скрыт от нее шкафами. Он забрался по стремянке на самую верхнюю полку — в надежде хоть там отыскать нужную книгу. Но на верхней полке, больше других пыльной и даже затянутой паутиной, он наткнулся на книги, не пригодные к чтению современной молодежи…
Это были «Свод законов Российской империи» и «Правительственный вестник» за 1896 год. Таких книг на полке было больше ста штук.
Янкель вытащил один из томов «Свода законов». В книге, не очень объемистей, было фунтов десять веса… Янкель, недолго думая, огляделся и сунул «Свод» за пазуху, под кушак. Не замеченный Марьей Федоровной, он вышел из библиотеки и прошел в класс.
— Прибавление к фонду, — сказал он Пантелееву, сидевшему за партой и старательно рисовавшему очень плохого ковбоя.
Пантелеев взял книгу и, перелистнув, спросил:
— Где ты выкопал эту рухлядь?
— Рухлядь, а стоит денег, и немалых, — ответил Черных. — Я ее слямзил в библиотеке. Таких книг там тьма, и лямзить их легко.
Пантелеев задумался.
— Вот что, — сказал он. — Лямзить незачем. У меня явилась мысль, благодаря которой мы сможем самым честным путем сделаться богачами.
— Честным путем богачами? — удивился Янкель.
— Да. То есть честным наружно. В сущности, это будет афера панама…
Янкель заинтересовался:
— Ну, ну, валяй дальше.
Пантелеев перелистнул страницу.
— Видишь, тут очень много чистых листов… Ты поймай Викниксора и покажи ему книгу…
— Показать книгу? Да ты что — сдурел?
— Засохни… Покажи Викниксору и попроси у него разрешения взять эту «ненужную рухлядь» для использования на журналы.
Янкель подумал минутку и просиял:
— Понимаю!..
Немного погодя в класс зашел Викниксор. Он разговорился с ребятами, кого-то обещал записать, кому-то приказал сдать в гардеробную пальто. Когда он собирался покидать класс, к нему приблизился Черных.
— Виктор Николаевич, — потупившись, сказал он. — У меня к вам просьба.
— В чем дело?
Янкель вытащил книгу.
— Вот… В библиотеке я нашел книги старые, «Свод законов», они сейчас никому не нужны… Можно мне взять для рисования? Там их немного…
— Гм… Рисовать, говоришь? Что ж, возьми. И правда — древность никому не нужная.
Лишь Викниксор вышел из класса, Янкель и Пантелеев бросились в библиотеку и, сняв с полки штук десять книг, потащили их к выходу.
— Ребята, вы куда? — закричала Марья Федоровна.
— В класс, — небрежно бросил Янкель. — Нам Виктор Николаевич позволил.
Воспитательница проводила их удивленным взглядом. Вечером она справилась у Викниксора, тот подтвердил слова Янкеля.
А Янкель и Пантелеев за какую-нибудь неделю натаскали из библиотеки около десяти пудов бумаги. Бумагу они стаскивали во двор и прятали под лестницей флигеля.
Наконец, решив, что и натасканного довольно, они прекратили «честное расхищение» и задумались о способе переправки груза на Покровский рынок.
— Надо нанять ребят, — предложил Пантелеев.
Они подыскали в младших классах десять человек, согласившихся снести бумагу за небольшое вознаграждение на рынок.
* * *
Проходившие в тот вечер по Старо-Петергофскому проспекту граждане в ужасе шарахались в сторону при виде вереницы парнишек, спокойно тащивших на бритых головах бумажные кипы.
— Господи! — закричал кто-то. — Да что же это, никак негры идут, караван невольников со слоновой костью?!
— Не беспокойтесь, — ответил Янкель полным достоинства голосом. — Это не негры. У негров физиономии черные, а у этих товарищей самые обыкновенные.
— Не создавайте панику, — присовокупил Пантелеев.
Пантелеев и Янкель шли впереди «каравана», изредка помогая уставшему «невольнику» и принимая от него груз.
Караван без особых происшествий дошел до Покровки. Там грузовладельцы распорядились, чтобы бумагу сложили на парапет церковной ограды, приказали зорко зекать, а сами пошли подыскивать покупателей.
Покупатели нашлись очень скоро. Три пуда купила Сарра Соломоновна, остальные семь разошлись в момент по ларькам мясного отдела рынка.
У сламщиков на руках оказалась невиданная ими ранее сумма — двести шестьдесят лимонов. Шестьдесят лимонов они великодушно отдали грузчикам и с тем отпустили их…
Оставалось лишь купить червонцы.
Пошли к валютчикам, которые в те дни буквально залепляли все входы и выходы рынка. Курс червонца равнялся восьмидесяти миллионам рублей дензнаками; они приобрели два червонца. Две заветные белые бумажки очутились у них в руках.
Остальные деньги они в тот же день прокутили — сходили в кино, закупили папирос, колбасы и хлеба.
Два же червонца до поры до времени заначили крепко и надежно. «Идея» могла быть осуществлена в любую минуту.
Спектакль
Октябрь в Шкиде. — «Город в кольце». — Десять американских одеял. — Венки с могил. — Последняя репетиция. — Спектакль. — Шпионка в штанах. — Ужин.
Столовая ревела, стонала, надрываясь десятками молодых глоток:
— Накормим гостей!
— Из пайка уделим!
— Угостим!
Столовая ревела вдохновенно, азартно, единодушно. Наконец Викниксор поднял руку и наступила тишина.
— Значит, ребята, решено. Всех гостей мы будем угощать. Чем? Это обсудит специально выделенная комиссия. На угощение придется уделить часть вашего пайка, но мы постараемся сделать это безболезненно. Значит, на выделение продуктов из пайка все согласны?
— Согласны!
— Уделим!
— Угостим гостей!
Столовая ревела, стонала, надрывалась.
Это были предпраздничные дни Великой Октябрьской революции. Республика Шкид решила с помпой провести торжество и для этого торжественного дня поставить спектакль. Для гостей, родителей и знакомых, не в пример прочим школам, единогласно постановили устроить роскошный ужин. Поэтому-то так азартно и ревела республика, собравшись в столовой на обсуждение этого важного вопроса.
— Уделим! Уделим! — кричали со всех сторон, и кричали так искренне и единодушно, что Викниксор согласился.
Шкида перед праздником наэлектризована.
В столовой еще не отшумело собрание, а в Белом зале, на самодельной сцене, уже собрались участники завтрашнего спектакля.
Идет репетиция. Завтра праздник, а пьеса, как на грех, трудная во всех отношениях. Ставят «Город в кольце». Вещь постановочная, с большим количеством участников, с эффектами. Конечно, ее уже урезали, сократили, перелицевали. Из семи актов оставили три, но и эти с трудом влезают в отпущенные Викниксором сорок минут.
— Черт! Пыльников, ведь ты же шпионка, ты — женщина. На тебе же платье будет, а ты — руки в карманах — как шпана, разгуливаешь, — надрывается Япончик, главреж спектакля.
Пыльников снова начинает свою роль, пищит тоненьким бабьим голоском, размахивает ни к селу ни к городу длинными красными руками, и Япончик убеждается, что Сашка безнадежен.
— Дурак ты, Саша. Идиот, — шепчет он, бессильно опускаясь на табуретку. Но тут Саша обижается и, перестав пищать, грубо орет:
— Иди ты к чертовой матери! Играй сам, если хочешь!
Япончику ничего не остается, как извиниться, иначе ведь Сашка играть откажется, а это срыв. Прерванная репетиция продолжается.
— Эй, давай первую сцену! Заговор у белых.
Выходят и рассаживаются новые участники. В углу за кулисами возится Пантелеев. Он завтехчастыо. На его обязанности световые эффекты, а как их устроить, если на все эффекты у тебя всего три лампочки, — это вопрос. Пантелеев ковыряется с проводами, растягивая их по сцене. Играющие спотыкаются и ругаются.
— Какого черта провода натянули?
— Убери!
— Что тут за проволочные заграждения?!
Но Япончик успокаивает актеров.
— Ведь надо, ребята, устроить. Надо, без этого нельзя. — И любовно смотрит на согнувшегося над кучей проволоки Леньку. Япончик радуется за него. Ведь сламщики — Ленька и Янкель — опять стали своими, юнкомскими. Правда, в Цека их еще не провели, но они уже раскаялись:
— Виноваты, ребята, побузили, погорячились.
Япончик помнит эти слова, сказанные открыто на заседании Цека. Не забыл он и о том, что и ему тоже пришлось признать свою ошибку: вопрос о членстве в Юнкоме решен компромиссно — в организацию «Юных коммунаров» принимают теперь каждого, за кого поручится хотя бы один член Цека.
* * *
— Янкель, а в чем мне выходить? Ты мне костюм гони, и чтоб обязательно шаровары широкие, — гудит Купец, наседая на Янкеля. Он играет в пьесе себя самого, то есть купца-кулака, и поэтому считает себя вправе требовать к своей особе должного внимания.
— Ладно, Купочка, достанем, — нежно тянет Янкель, мучительно думая над неразрешенным вопросом, из чего сделать декорации. Завтра уже спектакль, а у него до сих нор нет ни костюмов, ни декораций.
Янкель — постановщик, но где же Янкелю достать такие редкие в шкидском обиходе вещи, как телефон, винтовки, револьвер, шляпу? Но надо достать. Янкель отмахивается от наседающих актеров. Янкель мчится наверх — стучит к Эланлюм.
— Войдите.
— Элла Андреевна, простите, у вас не найдется дамской шляпки? А потом еще надо кортик для спектакля, и еще у вас, я видел, кажется, висел на стене штык японский…
Эланлюм дает и штык, и кортик. Эланлюм любит ребят и хочет помочь им. Все она дает, даже шляпу нашла, кругленькую такую, с цветочками.
От Эланлюм Янкель тем же аллюром направляется к Викниксору.
— Виктор Николаевич, декораций, бутафории нет. Виктор Николаевич, вы знаете, если бы можно было взять из кладовки штук десять американских одеял! А?
Викниксор мнется, боится: а вдруг украдут одеяла, но потом решает:
— Можно. Но…
— Но?..
— Ты, Черных, будешь отвечать за пропажу.
Янкелю сейчас все равно, только бы свои обязанности выполнить, получить.
— Хорошо, Виктор Николаевич. Конечно. Отвечаю.
Через десять минут под общий ликующий рев Янкель, кряхтя, втаскивает на спине огромный тюк с одеялами. Тут и занавес, и кулисы, и декорации.
— Братишки, а зал-то! Зал! Ведь украсить надо, — жалобно причитает Мамочка. Все останавливаются.
— Да, надо.
Ребята озадачены, морщат лоб — придумывают.
— Ельничку бы, и довольно.
— Да, ельничку неплохо бы.
— Ура, нашел! — кричит Горбушка.
— Ну, говори.
— Ельник есть.
— Где?
Весь актерский состав вместе с режиссерами и постановщиками уставился в ожидании на Горбушенцию.
— Где???
— Есть, — торжествующе говорит тот, подняв палец. — У нас есть, на Волковском кладбище.
— Дурак!
— Идиот! — слышатся возбужденные голоса, но Горбушка стоит на своем:
— Чего ругаетесь? Поедемте кто-нибудь со мной, ельничку привезем до чертиков. Веночков разных.
— Но с могил?
— А что такого? Неважно. Покойнички не обидятся.
— А ведь, пожалуй, и впрямь можно.
— Недурно.
— Едем! — вдруг кричит Бобер.
— Едем! — заражается настроением Джапаридзе. Все трое испрашивают у воспитателя разрешение и уезжают, как на подвиг, напутствуемые всей школой. Остающиеся пробуют работать, репетировать, но репетиция не клеится: все помыслы там, на Волковом. Только бы не запоролись ребята.
Ждут долго. Кальмот чирикает на мандолине. Он выступает в концертном отделении, и ему надо репетировать свой номер по программе, но из репетиции ничего не выходит. Тогда, бросив мелодию, он переходит на аккомпанемент и нудно тянет:
У кошки четыре ноги-и-и, Позади ее длинный хвост. Но трогать ее не моги-и-и За ее малый рост, малый рост.А в это время три отважных путешественника бродили по тихому кладбищу и делали свое дело.
— Эх и веночек же! — восхищался Дзе, глядя на громадный венок из ели, перевитый жестяной лентой.
— Не надо, не трогай. Этот с надписью. Жалко. Будем брать пустые только.
На кладбище тихо. На кладбище редко кто заглядывает. Время не такое, чтобы гулять по кладбищенским дорожкам. Шуршит ветер осенний вокруг крестов и склепов, листочки намокшие с трудом подкидывает, от земли отрывает, словно снова хочет опавшие листья к веткам бросить и лето вернуть.
Ребятам в тишине лучше работать. Уже один мешок набили зеленью, венками, веточками и другой стараются наполнить. Забрались в глушь подальше и хладнокровно очищают крестики от зелени.
— И на что им? — рассуждает Дзе. — Им уже не нужно этих венков, а нам как раз необходимо. Вот этот, например, веночек. Его хватит всего Достоевского убрать. И на Гоголя останется… Густой, свежий, на весь зал хватит.
Мешки набиты до отказа.
— Ну, пожалуй, довольно.
— Да… Дальше некуда. Вон еще тот прихватить надо бы, и совсем ладно.
Нагруженные, вышли где-то стороной, оглянулись на крестики покосившиеся и пошли к трамваю. Приехали уже к вечеру, вошли в зал и остановились, ошеломленные необычайным зрелищем.
За роялем сидел воспитатель и нажаривал краковяк, а Шкида, выстроившись парами, переминалась с ноги на ногу и глядела на Викниксора, который стоял посреди зала и показывал на краковяка:
— Сперва левой, потом правой. Вот так, вот так!
Викниксор заскользил по паркету, вскидывая ноги.
— Вот так. Вот так. Тру-ля-ля. Ну, повторите.
Шкида неловко затопала ногами, потом подделалась под такт и на лету схватила танец.
— Правильно. Правильно. Ну-ну, — поощрял Викниксор.
Ребята вошли во вкус, а Кубышка, старательно выделывая кренделя своими непослушными ногами, даже запел:
Русский, немец и поляк Танцевали краковяк.В самый разгар общего оживления распахнулись двери зала и послышался голос Джапаридзе:
— А мы зелень принесли!
— Ого!
— Ура! Даешь!
Пары сбились, и все бросились к пришедшим.
Развязывая мешки, Дзе спросил:
— А что это Викниксор прыгает?
— Дурак ты! Прыгает!.. Он нас танцам к завтрашнему вечеру учит, — обиделся Мамочка.
Зелень извлекли при одобрительном реве и тут же начали украшать зал. Уже наступил вечер, а ребята все еще лазали с лестницей по стенам, развешивали длинные гирлянды из ели и украшали портреты писателей и вождей зелеными колкими ветками.
— Ну вот, как будто и все.
— Да, теперь все.
Белый зал стал праздничным и нарядным, из казенного, сверкающего чистотой и белизной помещения он превратился в очень уютную большую комнату.
— Пора спать, — напомнил воспитатель, и через минуту зал опустел.
* * *
Утро особенно, по-праздничному шумно разгулялось за окном. Звуки оркестра, крики, говор разбудили шкидцев. Просыпались сами и заражались настроением улицы. За утренним чаем Викниксор сказал небольшую речь об Октябрьской революции, потом от Юнкома говорил Еонин, а затем все встали и дружно пропели сперва «Интернационал», потом шкидский гимн.
День начался сутолокой. В зале шла последняя, генеральная репетиция, в кухне готовился ужин гостям. В канцелярии стряпались пригласительные билеты и тут же раздавались воспитанникам, которые мчались к родителям, к родственникам и знакомым.
Шкида стала на дыбы.
Подошло время обеда, но как-то не обедалось. Ели нехотя, занятые разговорами, взволнованные. Старшие, не дообедав, ушли на репетицию, младшие, рассыпавшись по школе, таскали в зал стулья и скамейки и устанавливали их рядами. Шкидцы сияли, и Викниксор был вполне доволен, видя отражение праздника на их лицах.
Часа в четыре актеры кончили репетицию.
— Довольно прилично, — заключил критически Япончик, потом скомандовал:
— Час отдыху. А затем — гримироваться!
Декорации также были готовы. Американские одеяла оказались хорошим подспорьем, и маленькая подкраска цветными мелками дала полную иллюзию комнаты. Установили стол и стулья, на сцену повесили карту.
В пятом часу начали собираться гости. Специально откомандированный для этой цели отряд шкидцев отводил их в комнату для ожидания, и там они сидели до поры до времени со своими родственниками-учениками.
На сцене тем временем шли последние приготовления. Притащили обед — суп и несколько булок из порций, предназначавшихся гостям. Все это требовалось в первом действии. Кулак, хозяин дома, должен был угощать на сцене участников белого заговора.
За кулисами гримировались, когда пришел Викниксор и озабоченно бросил:
— Пора начинать!
— Мы готовы, — раздалось в ответ. Пять минут спустя зазвенел звонок, призывающий занять места. Сгрудившись у занавеса, ребята смотрели в щелку, как заполнялось помещение. Народу пришло много. При виде рассаживающихся гостей Японец заволновался, скрипнул зубами и неопределенно процедил:
— Ну, будет бой. Не подпакостить бы, ребятки.
— Не подпакостим. Япончик, — ухмыльнулся Купец, что-то прожевывая. — Не бойся, не подпакостим…
Грянул второй звонок. Зал зашумел, заволновался и стал затихать. С третьим звонком судорожно дернулся занавес, но не открылся. Зрители насторожились и впились глазами в сцену. Занавес дернулся еще два раза и опять не раздвинулся. В зале наступила тишина. Все с интересом следили за упрямым занавесом, а тот волновался, извивался, подпрыгивал, но пребывал в прежнем замкнутом положении. Кто-то в зале посочувствовал:
— Ишь ты, ведь не открывается.
Вдруг из-за сцены донеслось приглушенное восклицание:
— Дергай, сволочь, изо всей силы. Дергай, задрыга!
Что-то треснуло, занавес скорчился и расползся, открывая сцену. Зрители увидели комнату и стол посредине, вокруг которого шумели заговорщики.
Спектакль начался.
На сцене собралось довольно необычное общество.
За столом сидел Купец в каком-то старомодном сюртуке или в визитке и в широченных синих шароварах. Возле него восседала какая-то не то баба, не то дамочка. Определить социальную принадлежность этой особы было затруднительно, потому что она была как бы склеена из двух разных половинок: верхняя часть, вполне отвечавшая требованиям спектакля, изображала интеллигентную особу в шляпе с пером, а нижнюю она как будто заняла у какой-то рязанской крестьянки в ярком праздничном платье с разводами. Однако с таким раздвоением личности зрители скоро свыклись, так как и другие заговорщики выступали в не менее фантастических костюмах, а главный вдохновитель белых, французский дипломат, в подтверждение своей буржуазной сущности имел всего-навсего один довольно помятый цилиндр, которым он и жонглировал, прикрывая шкидские брюки из чертовой кожи и холщовую рубаху.
Действие проходило мирно, и Японец уже начал было успокаиваться, как вдруг на сцене произошло недоразумение.
Кулак по ходу пьесы возымел желание угостить заговорщиков и, воодушевившись, позвал кухарку.
— Эй, Матрена! Неси на стол! — густейшим басом заговорил Купец.
В ответ — гробовое молчание.
— Матрена, подавай на стол!..
Опять молчание. Заговорщики смущенно заерзали, смущение проникло и в зрительный зал. Зрители заинтересовались упрямой Матреной, которая с таким упорством не откликалась на зов хозяина, и затаив дыхание ждали.
Купец побледнел, покраснел, потом в третий раз гаркнул, уже переходя границы текста из пьесы:
— Матрена! Ты что ж, дурак, принесешь жрать или нет?
Вдруг за кулисами что-то завозилось, потом тихий, по внятный голос выразительно прошипел:
— Что же я тебе вынесу, дубина? Слопал все до спектакля, а теперь просишь.
В зале хихикнули. Япончик побледнел и помчался на другую сторону сцены. Там, у кулисы, стояла растерявшаяся кухарка — Мамочка.
— Неси, сволочь! Неси пустые тарелки, живо! — накинулся на нее Японец.
Между тем Купец, не имея мужества отступить от роли, продолжал заунывно взывать:
— Матрена! Подавай на стол, Матрена! Неси на стол.
Весь зрительный зал сочувствовал Офенбаху, попавшему в глупое положение, и вздох облегчения пронесся в рядах зрителей, когда одноглазая Матрена, гремя пустой посудой, показалась наконец на сцене. Спектакль наладился. Играли ребята прилично, и зрители были довольны.
Во втором действии, однако, опять произошла заминка.
В штаб красных пришла шпионка. Сцена изображала сумерки, когда Саша Пыльников, облаченный в шляпу с пером, таинственно появился перед зрителями. Он прошипел дьявольским голосом о конце владычества красных и подбежал к карте.
— Ага, план наступления, — хрипло пробормотал он.
Зрители притаились, зорко наблюдая за коварной лазутчицей из стана белых. Тут Саше понадобилось достать коробок и, чиркнув спичкой, при ее свете разглядывать план. И вот, в решительный момент он вдруг вспомнил, что спички находятся под юбкой, в кармане брюк.
Саша похолодел, но раздумывать было некогда, и, мысленно обозвав себя болваном, он полез в карман. Зал ахнул, испуганный таким неприличным поведением шпионки. Но тотчас же все успокоились, узрев под юбкой знакомые черные брюки.
Инцидент прошел благополучно, но, продолжая играть свою роль, Саша вдруг услышал за кулисами весьма отчетливый голос Япончика:
— Разве не говорил я, что Саша — круглый идиот?
Третье действие прошло без всяких осложнений, и пьеса кончилась.
Концертное отделение отменили, так как Кальмот разнервничался и порвал все струны на мандолине, а его номер был главным.
После спектакля гостей повели к столу, где их ожидали ужин и чай с бутербродами и булками.
И тут шкидцы показали свою стойкость. Они проголодались, но держались бодро. Трогательно было наблюдать, как полуголодный воспитанник, глотая слюну, гордо угощал свою мамашу:
— Ешь, ешь. У нас в этом отношении благополучно. Шамовки хватает.
— Милый, а что же вы-то не едите? — спрашивала участливо мать, но сын твердо и непринужденно отвечал:
— Мы сыты. Мы уже поели. Во! По горло…
Пир кончился. За время ужина зал очистили от мебели, и под звуки рояля открылись танцы.
Шкидцы любили танцевать — и танцевали со вкусом, а особенно хорошо танцевали сегодня, когда среди приглашенных было десять или двенадцать воспитанниц из соседнего детдома. Все они были нарасхват и танцевали без отдыха.
Вальс сменялся падепатинером, падепатинер тустепом, а тустеп снова вальсом.
Скользили, натирали пол подметками казенной обуви и поднимали целые тучи пыли.
Перевалило за два часа ночи, когда Викниксор замкнул наконец на ключ крышку рояля.
Гости расходились, младшие отправились спать, а старшие, выпросив разрешение, шумной, веселой толпой пошли провожать воспитанниц.
Вместе с ними вышли Янкель и Пантелеев. Они взяли у Викниксора разрешение уйти в отпуск и были довольны необычайно.
На улице было не по-осеннему тепло.
У ворот парочка отделилась от остальных и не спеша двинулась по проспекту. Хрустела под ногами подмерзшая вода, каблуки звонко отстукивали на щербатых плитах. В три часа на улице тихо и пустынно, и сламщикам особенно приятна эта тишина. Сламщикам хорошо.
Все у них теперь идет так ладно, а главное — у них есть два червонца, с которыми они в любой момент могут тронуться в Одессу или в Баку на кинофабрику.
Подмерзшие лужи похрустывают под ногами.
Кой-где еще вспыхивают непогашенные иллюминации Октябрьского праздника.
Кой-где горят маленькие пятиугольные звезды с серпами и молотами.
Тихо…
Птенцы оперяются
Из отпуска. — Янкель в беде. — Едем! — Разговор в кабинете. — Последнее прости. — Птенцы улетели.
Цыпленок жареный, Цыпленок пареный Пошел по Невскому гулять. Его поймали, Арестовали И приказали расстрелять.Янкель не идет, а танцует, посвистывая в такт шагу.
Что-то особенно весело и легко ему сегодня. Не пугает даже и то, что сегодня — математика, а он ничего не знает. Заряд радости, веселья от праздника остался. Хорошо прошел праздник, и спектакль удался, и дома весело отпускное время пролетело.
Я не советский, Я не кадетский, Меня нетрудно раздавить. Ах, не стреляйте, Не убивайте — Цыпленки тоже хочут жить.Каблуки постукивают, аккомпанируя мотиву, и совершенно незаметно проходит Янкель захолодевшие изморозью утренние сонные улицы. Кончился праздник. На мостовой уже видны новые свежие царапины от грузных колес ломовых телег, и люди снова бегут по тротуарам, озабоченные и буднично серые. Янкель тоже хочет настроиться на будничный лад, начинает думать об уроках, но из этого ничего не выходит — губы по-прежнему напевают свое:
Цыпленок дутый, В лапти обутый, Пошел по Невскому гулять.Вот и Шкида.
Бодро поднялся по лестнице, дернул звонок.
Ах, не стреляйте, Не убивайте…— А-а-а! Янкель! Ну, брат, ты влип!
Цыпленки тоже хочут жить…Янкель оборвал песню. Что-то нехорошее, горькое подкатилось к гортани при виде испуганного лица дежурного.
— В чем дело?
— Буза!
— Какая буза? Что? В чем дело?
Янкель встревожен, хочет спросить, но дежурный уже скрылся на кухне…
Побежал в класс. Открыл двери и остановился, оглушенный ревом. Встревоженный класс гудел, метался, негодовал. Завидев Янкеля, бросились к нему:
— Буза!
— Скандал!
— Одеяла тиснули.
— Викниксор взбесился.
— Тебя ждет.
— Ты отвечаешь!
Ничего еще не понимая, Янкель прошел к своей парте, опустился на скамью. Только тут ему рассказали все по порядку. Он ушел в отпуск, сцена была не убрана, одеял никто кастелянше не сдал, и они остались висеть, а вчера Викниксор велел снять одеяла и отнести их в гардероб. Из десяти оказалось только восемь. Два исчезли бесследно.
Новость оглушила Янкеля. Испарилось веселое настроение, губы уже не пели «Цыпленка». Оглянулся вокруг. Увидел Пантелеева и спросил беспомощно:
— Как же?
Тот молчал.
Вдруг класс рассыпался по местам и затих. В комнату вошел Викниксор. Он был насуплен и нервно кусал губы. Увидев Янкеля, Викниксор подошел к нему и, растягивая слова, проговорил:
— Пропали два одеяла. За пропажу отвечаешь ты. Либо к вечеру одеяла будут найдены, либо я буду взыскивать с тебя или с родителей стоимость украденного.
— Но, Виктор Ник…
— Никаких но… Кроме того, за халатность ты переводишься в пятый разряд.
Тихо стало в классе, и слышно было, как гневно стучали каблуки Викниксора за дверью.
— Вот тебе и «цыпленок жареный», — буркнул Японец, но никто не подхватил его шутки. Все молчали. Янкель сидел, опустив голову на руки, согнувшись и касаясь горячим лбом верхней доски парты. Лица его но было видно.
* * *
Стояли в уборной Янкель и Пантелеев. Янкель, затягиваясь папироской, горячо и запальчиво говорил:
— Ты как желаешь, Ленька, а я ухожу. Проживу у матки неделю, соберусь — и тогда на юг. Больше нечего ждать. Сидеть в пятом разряде не хочу — не маленький.
— А как же Витя? Думаешь, отпустит? — сказал Пантелеев.
— А что Витя? Пойду к нему, поговорю. Он поймет. Дело за тобой. Говори прямо, останешься или тоже… как сговорились?
На несколько секунд задумался Пантелеев.
Гришкины глаза тревожно-вопросительно впились в скуластое лицо товарища.
— Ну как?
— Что «как»? Едем, конечно!..
Облегченный вздох невольно вырвался из груди Янкеля.
— Давай руку!
— Айда к Викниксору! — засмеялся Пантелеев.
— Айда! — сказал Янкель.
Шли, не слышали обычного шума, не видели сутолоки, беготни малышей, вообще ничего вокруг не видели. Остановившись передохнуть у дверей Викниксоровой квартиры, невольно поглядели на сцену, снова оголенную, и Янкель скрипнул зубами.
— Сволочи. Это новички сперли, не иначе. Наши ребята не способны теперь на это.
— Ну ладно, идем.
Вошли в знакомый, до мельчайших подробностей примелькавшийся за долгое пребывание в школе кабинет и остановились перед заведующим.
Викниксор сидел у стола, надвинув на глаза картонный козырек, и читал. Подняв козырек, он поглядел на ребят.
— В чем дело?
Янкель выступил вперед и заговорил нетвердым, но решительным голосом.
— Виктор Николаевич, — сказал он, — мы хотим уйти из школы!.. Да, мы хотим уйти из школы, потому что мы уже выросли.
Викниксор сбросил козырек и с чуть заметной усмешкой с ног до головы оглядел ребят, будто желая удостовериться, действительно ли они выросли. Перед ним стояли те же ребята, даже на лицах мелькало легкое волнение, обычное при разговоре с воспитателем, но в голосе Гриши Черных, воспитанника четвертого отделения, Викниксору послышались новые, неслыханные нотки.
Мужественно говорил Гриша Черных:
— Виктор Николаевич, ей-богу, мы выросли. Когда я пришел в школу, мне было тринадцать лет. Я многого не понимал. Десять уроков в день я истолковывал как наказание. Тогда мне казалось, что уроки и изолятор — одно и то же. Тогда я боялся изолятора. Теперь мне шестнадцать лет, и я не могу мириться с узкими рамками школьного режима. Да, не могу… При всем моем уважении к изолятору, к пятому разряду и к вам, Виктор Николаевич…
— Да, и к вам, Виктор Николаевич, — поддакнул Пантелеев, и Викниксор, взглянув на Леньку, вспомнил, вероятно, как два с половиной года назад он разговаривал с этим парнем — здесь, в этом кабинете, у этого же стола.
— И к Элле Андреевне, — перечислял Янкель, — и к дяде Саше, и к «Летописи», и к урокам древней истории. Мы очень благодарны школе Достоевского. Она многому нас научила. Но мы выросли. Мы хотим работать. Мы чувствуем силы…
И Янкель вытянулся, бессознательно расправляя грудь, а Пантелеев сжал кулаки и согнул руку, словно хотел показать Викниксору свои мускулы.
Оба застыли, ожидающе глядя на Викниксора.
Викниксор сидел задумавшись, а на лице его играла еле заметная, понимающая улыбка. Потом он встал, прошелся по комнате и еще раз посмотрел на обоих воспитанников долгим, внимательным взглядом.
— Вы правы, — сказал он.
Янкель и Пантелеев вздрогнули от радостного предчувствия.
— Вы правы, — повторил Викниксор. — Сейчас я услышал то, что хотел через полгода сам сказать вам. Теперь вижу, что немножко ошибся во времени. Вы выправились на полгода раньше. Вы правы. Школа приняла вас воришками, маленькими бродягами, теперь вы выросли, и я чувствую, что время, проведенное в шкоде, для вас не пропало даром. Уже давно я заключил, что вы достаточно сильны и достаточно переделаны, чтобы вступить в жизнь. Я знаю, что теперь-то из вас не получится паразитов, отбросов общества, и поэтому я спокойно говорю вам: я не держу вас. Я хотел через полгода сделать выпуск, первый официальный выпуск, хотел определить выпускников на места, но вы уходите раньше. Что ж, я говорю — в добрый путь. Идите! Я не удерживаю вас… Однако, если вам будет трудно устроиться, приходите ко мне, и я постараюсь помочь вам найти хорошую работу. Вы стоите этого. А американские одеяла забудем. Юнкомцы приходили ко мне, ручались за вас и обещали разыскать вора.
* * *
Об уходе сламщиков Шкида узнала только через два дня, когда Янкель и Пантелеев пришли со склада губоно с выпускным бельем, или с «приданым», как называли его шкидцы. На складе они получили новенькие пальто, шапки, сапоги и костюмы и теперь, получив в канцелярии документы, зашли попрощаться с товарищами.
В классе шел урок истории.
Дядя Саша, как всегда, притворно сердито покрикивал на воспитанников и читал очередную лекцию по повторному курсу истории с упором на экономику. Сламщики вошли в класс и остановились. Потом Янкель подошел к Сашкецу и тихо проговорил:
— До свидания, дядя Саша. Мы уходим. Может, когда еще и встретимся…
— Ну что ж, ребятки, — сказал, поднимаясь, Алникпоп. — Конечно, встретимся. А вам и верно пора… пора начинать жить. Вон ведь какие гуси лапчатые выросли.
Он улыбнулся и протянул сламщикам руку.
— Желаю успехов. Прямой вам и хорошей дороги!..
— Спасибо, дядя Саша.
Урок был сорван, но Сашкец не сердился, не кричал, когда ребята всем классом вышли провожать товарищей. И тем, кто уходил, и тем, кто оставался, жалко было расставаться. Ведь почти три года провели под одной крышей, вместе бузили и учились, и даже ссоры сейчас было приятно вспомнить.
У выходных дверей остановились.
— Ну, до свидания, — буркнул Японец, хлопая по плечам сламщиков. — Топайте.
Носик его покраснел.
— Топайте, черти!..
— Всего хорошего вам, ребята!
— Вспоминайте Шкиду!
— Заглядывайте. Не забывайте товарищей!
— И вы не забывайте!..
Улигания сбилась в беспорядочную груду, все толкались, протискивались к уходившим, и каждый хотел что-нибудь сказать, чем-нибудь выразить свою дружбу.
Вышел дежурный и, лязгая ключом по скважине, стал открывать дверь.
— Ну, — сказал Янкель, берясь за дверную ручку, — не поминайте лихом, братцы!..
— Не помянем, не бойтесь.
— Пгощайте, юнкомцы! — крикнул Пантелеев, улыбаясь и сияя скулами. — Пгощайте, не забудьте найти тех, кто одеяла пгибгал!..
— Найдем! — дружно гаркнули вслед.
— Найдем, можете не беспокоиться.
Сламщики вышли. Хлопнула выходная дверь, брякнула раза три расшалившаяся цепочка, и, так же лязгая ключом по скважине, дежурный закрыл дверь.
— Ушли, — вслух подумал Японец и невольно вспомнил Цыгана, тоже ушедшего не так давно, вспомнил Гужбана, Бессовестного — и вслух закончил мысль: — Ушли и они, а скоро и я уйду! Дядя Саша, а ведь грустно все-таки, — сказал он, вглядываясь в морщинистое лицо халдея. Тот минуту подумал, поблескивая пенсне, потом тихо сказал:
— Да, грустно, конечно. Но ничего, еще увидитесь. Так надо. Они пошли жить.
Последние могикане
Марш дней. — Тройка фабзайцев. — Приходит весна. — Уходит Дзе. — Купец в защитной шинели. — Письмо от Цыгана. — Турне сламщиков. — Новый Цека и юные пионеры. — Еще два. — Последний абориген. — Даешь сырье.
Бежали дни… Не бежали: дни умеют бегать, когда надо, сейчас же они шли вымеренным маршем, шагали длинной, ровной вереницей, не обгоняя друг друга.
Как и в прошлом году, как и двести лет назад, пришел декабрь, окна подернулись узорчатой марлей инея, в классах и спальнях начали топить печи, и заниматься стали до десяти часов в день…
Потом пришел январь. В ночь на первое января, по достаточно окрепшей традиции, пили клюквенный морс, заменявший шампанское, ели пирог с яблочным повидлом и говорили тосты. В первый день нового года устроили учет: как и в прошлом году, приезжала Лилина и другие гости из губоно, Петропорта и соцвоса, говорили речи и отмечали успехи, достигнутые школой за год. В четвертом отделении возмужалые уже шкидцы проходили курс последнего класса единой школы, готовились к выпуску. Верхи поредели. Не было уже Янкеля, Пантелеева и Цыгана. В январе ушли еще трое — Воробьев, Тихиков и Горбушка. Их, как не отличавшихся особенными способностями и тягой к умственным наукам, Викниксор определил в фабзавуч одной из питерских типографий. Жили они первое время в Шкиде, потом перебрались в общежитие.
В феврале никто не ушел.
Никто не ушел и в марте.
Март, как всегда, сменил апрель. В городских скверах зазеленели почки, запахло тополем и вербой, на улицах снег делался похожим на халву. В середине апреля четвертое отделение лишилось еще одного — Джапаридзе. Не дождавшись экзаменов и выпуска, Дзе ушел к матери — помогать семье. Викниксор отпустил его, найдя, что парень выровнялся, жить и работать наверняка может и обществу вреда не принесет.
Уходили старые, приходили новые. Четвертый класс пополнялся слабо, младшие же чуть ли не каждый день встречали новичков — с Мытненки, из лавры, из «нормальных» детдомов и с улицы — беспризорных. Могикане уходили, оставляя традиции и давая место новому бытовому укладу.
В мае сдал зачет в военный вуз Купец — Офенбах. Карьера военного, прельщавшая шкидского Голиафа еще в приготовительных классах кадетского корпуса, снова соблазнила его. Он был счастлив, что сможет служить в Красной Армии. Через две недели после ухода из Шкиды Купа явился одетый в новенькую шинель с голубыми обшлагами и в шлеме с сияющей улыбкой заявил:
— В комсомол записался. Кандидатом.
От бычьего лица его веяло радостью. И после этого он часто наведывался в школу…
В мае же получили письмо от Громоносцева:
«Дорогие товарищи — Японец, Янкель, Пантелеев, Воробей, Кобчик и дры и дры!
Собрался наконец вам написать. Часто вспоминаю я вас и школу, но неправы вы будете, черти, если подумаете, что я несчастлив. Я счастлив, товарищи, лучшего я не могу желать и глуп был, когда плакал тогда на вокзале и в вагоне. Викниксор хорошо сделал, что определил меня сюда. Передайте ему привет и мое восхищение перед его талантом предугадывать жизнь, находить пути для нас.
Наверно, вы удивлены, чем я счастлив, что хорошего я нашел здесь? Долго рассказывать, да и боюсь — не поймете вы ни черта, не сумею я рассказать всего. Действительно, первые два месяца жизнь в техникуме доставляла мне мучения. Но мучиться долго не дали… Завалили работой. Чем ближе к весне, тем работы больше. Я увлекся и не заметил, как полюбил сельское хозяйство, крестьянскую жизнь.
Удивляетесь? Я сам удивляюсь, когда есть время, что за такой срок мои взгляды переменились. Как раньше я ненавидел сельский труд, в такой же степени сейчас влюблен в сеялки, молотилки, в племенных коров и в нашу маленькую метеорологическую станцию. Сейчас у нас идет посев, засеваем яровое. Я, как первокурсник, работаю не в поле, а в амбарах по разборке и рассортировке зерна. Эта, казалось бы, невеселая работа меня так увлекла, что и сказать не могу. Я уже чувствую, что люблю запах пшеничной пыли, удобренного поля, парного молока…
Недавно я работал на маслобойке. Работа эта для меня ответственная, и дали мне ее в первый раз. Я не справился, масло у меня получилось дурное. Я всю ночь проплакал, — не подумайте, что мне попало, нет, просто так, я чувствовал себя несчастным, оттого что плохо успел в любимом деле.
И еще чем я счастлив — эта учеба. Я не думал, когда ехал сюда, что здесь, кроме ухода за свиньями, занимаются чем-нибудь другим. Нет, здесь, а тем более зимой, я могу заниматься общеобразовательными науками, вволю читать книги.
Теперь — главное, о чем я должен вам сказать, не знаю, как бы поделикатнее выразиться. Одним словом, братья улигане, ваш друг и однокашник Колька Цыган разучился воровать. Правда, меня не тянуло к этому в последнее время и в Шкиде, но там случай наталкивал, заставлял совершать незаконное. Сейчас же ничто не заставит меня украсть, я это чувствую и верю в безошибочность этого чувства…
Я оглядываюсь назад. Четыре года тому назад я гопничал в Вяземской лавре, был стремщиком у хазушников. Тогда моей мечтой было сделаться хорошим вором, шнифером или квартирником. Я не думал тогда, что идеал мой может измениться. А сейчас я не верю своему прошлому, не верю, что когда-то я попал по подозрению в мокром деле в лавру, а потом и в Шкиду. Ей, Шкиде, я обязан своим настоящим и будущим.
Я записался в комсомол, уже состою действительным членом, пройдя полугодовой стаж кандидата. Уже выдвинулся — назначен инструктором кружка физической культуры. Так что за будущее свое я не боюсь — темного впереди ничего не видно.
Однако о себе, пожалуй, достаточно. Бессовестный и Бык тоже очень изменились внутренне и внешне. Бессовестный растолстел — не узнаете, если увидите, — и Бык тоже растолстел, хотя казалось, что при его комплекции это уже невозможно. Здесь его, между прочим, зовут Комолым быком.
Гужбана же в техникуме уже нет. У него, представьте, оказались способности к механике, и его перевели в Петроград, куда-то на завод или в профшколу — не знаю… Я рад, что он ушел. Он — единственный человек на свете, которого я искренне ненавижу.
У нас в техникуме учатся не только парни, но и девушки. Я закрутил с одной очень хорошенькой и очень умной. Думаю, что выбрал себе «товарища жизни». Мечтаем (не смейтесь, ребята) служить на благо обществу, а в частности советской деревне, рука об руку.
Пишу вам и не знаю — все ли, с кем заочно говорю, еще в Шкиде. Пишите, как у вас? Что делаете? Что нового?
Остаюсь старый шкидец, помнящий вас товарищ
Колька Цыган».
Тогда же получили письмо от Янкеля и Пантелеева. Они писали из Харькова, сообщали, что совершают поездку по южным губерниям корреспондентами какого-то киножурнала. Письмо их было коротко — открытка всего, — но от него веяло молодой свежестью и радостью.
В июне состоялся пленум Юнкома. В то время в Юнкоме уже числилось тридцать членов. На пленуме выступил Японец.
— Товарищи, — сказал он, — я буду говорить от лица основателей нашей организации, от лица Центрального комитета. В комитете уже не хватает троих, остались лишь я да Ельховский. Скоро уйдем и мы. Ставлю предложение — переизбрать Цека.
Предложение приняли и избрали новый Цека, переименовав его в Бюро. Председателем Бюро выбрали Старолинского — Голого барина.
В начале июля в Шкиде с разрешения губоно и губкома комсомола организовалось ядро юных пионеров, в которое на первых порах было принято всего шесть человек — наиболее окрепшие из малышей…
В августе ушли из школы Кальмот и Саша Пыльников. Кальмот уехал к матери. Пыльников сдал экзамен в Педагогический институт.
Последним уходил Японец.
Он пытался вместе с Сашей попасть в Педагогический, но не был принят за малый рост, недостаточно внушительный для звания халдея. Но в конце концов ушел и Японец. Нашел место заведующего клубом в одном из отделений милиции.
Так рассыпалось по разным городам и весям четвертое отделение, бывшее при основании Шкиды первым. Старые, матерые шкидцы ушли, на их место пришли новые.
Машина всосала следующую партию сырья.
Эпилог, написанный в 1926 году
Со дня ухода последнего из первых прошло три года.
Не так давно мы, авторы этой книги, Янкель и Пантелеев, были на вечере в одном из заводских клубов. Там шла какая-то современная пьеса. После последнего акта, когда зрители собирались уже расходиться, на авансцену вышел невысокого роста человек с зачесанными назад волосами, в черной рабочей блузе, с красным значком на груди.
— Товарищи! — сказал он. — Прошу вас остаться на местах. Предлагаю устроить диспут по спектаклю.
Сначала мы не обратили на человека в блузе внимания, услыхав же голос и взглянув, узнали Японца. После диспута пробрались за кулисы, отыскали его. Он вырос за три года не больше чем на полдюйма, но возмужал и приобрел какую-то артистическую осанку.
— Япончик! — окликнули мы его. — Ты что здесь делаешь?
Встретив нас радостно, он долго не отвечал на вопрос, шмыгал носом, хлопал нас по плечам, потом сказал:
— Выступаю в роли помощника режиссера. Кончаю Институт сценических искусств. А это — практика.
Кроме того, Японец служит завклубом в одном из отделений ленинградской милиции, ведет работу по культпросвету.
От Японца мы узнали и о судьбах Пыльникова и Финкельштейна. Саша Пыльников, некогда ненавидевший халдеев и все к халдеям относящееся, сейчас сам почти халдей. Кончает Педагогический институт и уже практикуется в преподавательской работе.
Поэт Финкельштейн — Кобчик — учится в Техникуме речи, тоже на последнем курсе.
Купца мы встретили на улице. Он налетел на нас, огромный, возмужалый до неузнаваемости, одетый в длинную серую шинель, в новенький синий шлем и в сапоги со шпорами. На левом рукаве его красовались какие-то геометрические фигуры — не то квадраты, не то ромбы. Он — уже краском, красный офицер.
На улице же встретили мы и Воробья. Он бежал маленьким воробышком по мостовой, обегая тротуар и прохожих, сжимая под мышкой портфель.
— Воробей! — крикнули мы.
Он был рад видеть нас, но заявил, что очень спешит, и, пообещав зайти, побежал. День спустя он зашел к нам и рассказал о себе и о некоторых других шкидцах.
Работает он в типографии вместе с Кубышкой, Мамочкой, Горбушкой и Адмиралом. Все они комсомольцы и все активисты, сам же Воробей — секретарь коллектива. От Воробья же мы узнали о Голом барине и Гужбане. Голенький работает на «Красном треугольнике», Гужбан — на «Большевике».
И совсем уж недавно, совсем на днях, в нашу комнату ввалился огромный человек в непромокаемом пальто и высоких охотничьих сапогах. Лицо его, достаточно обросшее щетиной усов и бороды, показалось нам тем не менее знакомым.
— Цыган?! — вскричали мы.
— Он самый, сволочи, — ответил человек, и уже по построению этой фразы мы убедились, что перед нами действительно Цыган.
Он — агроном, приехал из совхоза, где работает уже больше года, в Питер по командировке. Ночевать он остался у нас.
Вечером, перед сном, мы сидели у открытого окна, говорили вполголоса, вспоминали Шкиду. Осенние сумерки, сырые и бледные, лезли в окно. В окно было видно, как на заднем дворе маленький парнишка гонял железный обруч, за забором слышалось пение «Буденного» и смех.
— А где теперь Бессовестный и Бык?
— Они еще в техникуме. В последнем классе.
— Изменились?
— Не узнаете!
Цыган минуту помолчал, смотря на нас, потом улыбнулся.
— И вы изменились. Ой, как изменились! Особенно Янкель. На «Янкеля» уж совсем и не похож.
— А Ленька на Пантелеева похож?
Цыган засмеялся.
— Шкида хоть кого изменит.
Потом прикурил погасшую цигарку махры, пустил синее облако за окно в густые уже сумерки…
— Помните? — сказал он и, наклонив голову, вполголоса запел:
Путь наш длинен и суров, Много предстоит трудов, Чтобы выйти в люди.Примечания
Школа, о которой идет речь в этой повести, существовала на самом деле. Она была открыта в 1920 году на Старо-Петергофском проспекте (ныне проспект Газа), дом 19, в здании бывшего коммерческого училища. Назначение школа имела особое: это был интернат с закрытым режимом для малолетних правонарушителей, для трудных и беспризорных ребят.
«Республика Шкид» написана в соавторстве с Г. Белых (1906–1938) в необычайно короткий срок — за два-три месяца.
Первыми редакторами «Республики Шкид» стали С. Маршак и Е. Шварц. Книга вышла в начале 1927 года, ее появление стало событием в литературной жизни, она имела огромный читательский успех.
Вокруг повести завязалась полемика. На педагогических диспутах и в литературной критике много спорили о том, удачен или неудачен педагогический метод заведующего школой Викниксора, рассматривать ли книгу как документ-дневник школы имени Достоевского, где каждый факт абсолютно достоверен, или как художественное произведение, авторы которого имели право на домысел, на обобщение, на вольное изображение событий?
Н. К. Крупская увидела в жизнеописании республики Шкид черты дореволюционной бурсы. Отрицательно отозвался о педагогическом методе Викниксора А. С. Макаренко.
Иную точку зрения на «Республику Шкид» высказал М. Горький. Под свежим впечатлением от прочитанной книги он много раз пишет о ней в 1927 году: С. Н. Сергееву-Ценскому, М. М. Пришвину, К. А. Федину, А. С. Макаренко, колонистам в Куряж, дважды самим авторам, уделяет ей большое место в статье «Заметки читателя». С особым удовольствием Горький сообщает колонистам, что авторы книги — такие же в недавнем прошлом ребята, как и они, — «написали и напечатали удивительно интересную книгу и сделали ее талантливо, гораздо лучше, чем пишут многие писатели зрелого возраста».
Сам прошедший суровую школу, Горький находит в «Республике Шкид» отклик своему выстраданному опыту, своим убеждениям: «Для меня эта книга — праздник, она подтверждает мою веру в человека, самое удивительное, самое великое, что есть на земле нашей».
Повесть и прежде всего образ заведующего школой, президента республики Шкид Викниксора, помогли Горькому представить себе деятельность А. С. Макаренко. В письме к нему Горький сопоставляет двух педагогов, занимающихся одним и тем же делом: «…мне кажется, что Вы именно такой же большой человек, как Викниксор, если не больше него, именно такой же страстотерпец и подлинный друг детей…».
Не только для Горького, но и в сознании многих поколений читателей, деятелей педагогической науки, литературоведов президент республики Шкид существовал лишь как Викниксор. За последние годы усилиями литературной и педагогической критики, усилиями учеников и коллег многое сделано для того, чтобы дать всестороннюю оценку деятельности Виктора Николаевича Сороки-Росинского как выдающегося педагога, определить его несомненный вклад — практика и теоретика работы с трудными детьми — в развитие советской педагогической науки.
В. Н. Сорока-Росинский (1882–1960) окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. Параллельно он занимался проблемами педагогики и психологии и прошел курс психопатологии под руководством академика Бехтерева.
К тому времени как он стал заведующим школой имени Достоевского, он имел уже пятнадцатилетний стаж педагогической работы и был автором многих серьезных исследований по вопросам школы, обучения и воспитания детей. Руководство этим интернатом для трудных детей в суровые годы войны, разрухи и голода было, вероятно, самым значительным делом его жизни. Мечтая о том, чтобы его питомцы стали полноправными гражданами, В. Н. Сорока-Росинский хотел, прежде всего, дать им образование, хотел пробудить у них интерес к учебе. Десять — двенадцать уроков в день! Это может показаться неправдоподобным. Но шкидцы понимали: учиться — значит «выйти в люди»; учиться — значит «добыть себе путевку в жизнь». Это стало их девизом, это звучало в их гимне. Культ учебы, поощрение литературной игры, издание рукописных газет и журналов — все это позволило впоследствии С. Маршаку сопоставить эту школу полутюремного режима с Царскосельским пушкинским Лицеем.
В конце жизни В. Н. Сорока-Росинский работал над книгой «Школа Достоевского». Она опубликована с сокращениями в издательстве «Знание» (М., 1978). В ней он представил картину жизни школы имени Достоевского и рассказал о своей педагогической деятельности, о своих коллегах по трудному делу воспитания бывших правонарушителей.
В. Н. Сорока-Росинский высоко оценил повесть своих воспитанников. С большой симпатией писал он об авторах, которые «вовсе не претендовали на роль летописцев школы Достоевского» и смело соединили «факты с вымыслом и прозаическую действительность с поэтической фантазией» («Школа Достоевского». «Вечерняя красная газета», 1927, 20 мая).
Первое издание «Республики Шкид» вышло с иллюстрациями Н. Тырсы. До 1937 года она выдержала десять изданий только на русском языке. Долгое время затем, без малого четверть века, «Республики Шкид» не было в книжном обращении. Появление повести в 1960–1961 годах («Советский писатель», 1960, Детгиз, 1961) можно считать вторым ее рождением. Готовя издание книги после такого большого перерыва, Л. Пантелеев проделал серьезную работу над текстом, заново (в третий раз) написал главу о Леньке Пантелееве, точнее расставил кое-где педагогические акценты. К новому изданию написал предисловие С. Маршак.
В 1966 году вышел фильм «Республика Шкид» (режиссер Г. Полока, в роли Викниксора снимался С. Юрский).
Размышляя, какой должна быть книга, которую бы разыскивали ребята, зачитывали ее до дыр и без которой не мыслили бы своего существования, С. Михалков называет два произведения — «Республика Шкид» и «Дневник Кости Рябцева»: этим книгам было суждено «стать в известной степени основанием, фундаментом советской литературы для подростков». Замечательную силу этих книг Михалков видит в том, что они объясняют подростку его собственный мир и его самого. Вот почему, продолжает он, «каждому поколению, как воздух, как хлеб нужны и свое «Отрочество», и свое «В людях», и своя «Республика Шкид», и свой «Дневник Кости Рябцева»…».
«Республика Шкид» перешагнула через десятилетия. Можно без преувеличения сказать: она стала одной из самых любимых и популярных книг современной молодежной читательской аудитории. Повесть переведена на многие языки мира.
Г. Антонова, Е. Путилова
Григорий Белых, Алексей Пантелеев Шкидские рассказы
Последние халдеи
От авторов
Что такое «халдей»?
Эти очерки о «халдеях» написаны вскоре после выхода в свет «Республики Шкид». В то время автор мог и не объяснять читателю, что такое «халдей» и с чем его кушают. Человек, который учился в советской школе в первые годы революции, хорошо запомнил эту жалкую, иногда комичную, а иногда и отвратительную фигуру учителя-шарлатана, учителя-проходимца, учителя-неудачника и горемыки… Именно этот тип получил у нас в Шкиде (да, кажется, и не только у нас) стародавнее бурсацкое прозвище халдей.
А нынешнее поколение читателей знает, вероятно, куда больше о мамонтах или о бронтозаврах, чем о халдеях.
В современной советской школе халдеев нет. Есть неважные педагоги, есть очень плохие, но настоящего, чистокровного халдея я не встречал уже очень давно.
Подлинные халдеи сошли со сцены истории лет сорок назад, и, пожалуй, их последняя, их лебединая песня прозвучала как раз в республике Шкид, в той самой школе для беспризорных, которая дала мне путевку в жизнь и воспеть которую мне уже некоторым образом привелось.
Халдеи — совсем особая порода учителей. За несколько лет существования Шкидской республики их перебывало у нас свыше шестидесяти человек. Тут были и церковные певчие, и гувернантки, и зубные врачи, и бывшие офицеры, и бывшие учителя гимназии, и министерские чиновники… Не было среди них только педагогов.
Это люди, которых работать в детский дом гнали голод и безработица. Особенно яркие монстры запомнились мне. О них я и рассказал в этих беглых заметках. Пусть поживут они на страницах этой книги, как живет в музее чучело мамонта или скелет ихтиозавра.
Банщица
Ребята нашего класса славились многими качествами. Были среди нас великие бузотеры, были певцы, балалаечники и плясуны. Многие хорошо и даже замечательно играли в шахматы, многие увлекались математикой и техникой, но больше всего в нашем четвертом отделении было поэтов.
Уж не знаю почему и отчего, но «писателем» становился каждый, кто попадал в наш класс. Одни писали стихи, другие — рассказы, а некоторые сочиняли романы побольше, чем «Война и мир» или «Три мушкетера».
Писали все: и те, кто увлекался математикой, и те, кто играл в шахматы, и плясуны, и балалаечники, и самые тихонькие гогочки, и самые отчаянные бузовики и головорезы.
Мы много читали, любили хорошую книгу и русский язык.
Но вот с преподавателями русского языка нам не везло.
Целую зиму, весну и лето «родного языка» совершенно не было в расписании наших уроков. Викниксор, наш заведующий, ежедневно почти ездил в отдел народного образования, высматривал там разных людей и людишек и все не мог отыскать подходящего. Печальный, он возвращался домой, в школу, и сообщал нам, что «сегодня еще нет, но завтра, быть может, и будет». Обещали, дескать, прислать хорошего преподавателя.
Это «завтра» наступило лишь осенью, в августе месяце.
Однажды открылась классная дверь и вошла огромного роста женщина в старомодном шелковом платье с маленькими эмалевыми часиками на груди. Лицо у нее было широкое, красное, нос толстый, а прическа какая-то необыкновенная, вроде башни.
– Здравствуйте, дети! — сказала она басом.
– Здравствуйте, — ответили мы хором и чуть не расхохотались, потому что в Шкиде никто никогда не называл нас «дети».
– Я буду преподавать у вас русский язык, — сказала она.
– Замечательно, — ответили мы.
– Сядьте, — сказала женщина.
Мы сели. Халдейка походила по классу и раскрыла какую-то книгу.
– Читайте по очереди.
Она положила раскрытую книгу на парту перед Воробьем и сказала:
– Читай ты.
Воробей выразительно прочел:
– «Стрекоза и Муравей», басня Крылова.
– Фу ты! — воскликнул Японец. Мы тоже зафыркали и недоумевающе переглянулись. Мы ожидали, что нам покажут что-нибудь более интересное. «Стрекозу и Муравья» мы зубрили наизусть еще три-четыре года назад.
Воробей стал читать:
Попрыгунья-стрекоза
Лето красное пропела,
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
– Дальше, — сказала преподавательница и передвинула книгу.
Теперь запищал Мамочка:
Помертвело чисто поле,
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол и дом.
– Дальше, — сказала халдейка.
Хрестоматия переходила с парты на парту. Мы читали один за другим нравоучительную историю стрекозы, которая прыгала, прыгала и допрыгалась.
Мы читали покорно и выразительно; лишь Японец, когда очередь дошла до него, заартачился.
– Да что это?! — воскликнул он. — Что мы — маленькие, приготовишки какие-нибудь?
– А что? — покраснела халдейка. — Вы это знаете?
Она посопела своим толстым носом и перелистнула страницу.
– Читайте.
Растворил я окно, стало грустно невмочь,
Опустился пред ним на колени…
– Читать мы умеем, — сказал Японец. — И даже писать умеем. Вы нас, пожалуйста, с литературой познакомьте.
– «Растворил я окно» — тоже литература, — сказала халдейка.
– Плохая, — сказал Японец.
– Ты меня не учи, я не маленькая, — сказала великанша, вспыхнув, как девочка.
– Вы нам о новейших течениях в литературе расскажите! — воскликнул Японец. — Вот что!
– Не смей выражаться! — закричала халдейка.
– Как «выражаться»? — испугался Японец.
– Ты выразился, — ответила халдейка.
– Ребята! — воскликнул Японец. — Я выразился?
– Определенно нет!
– Нет! — закричали мы.
– Не выразился!..
– Выразился, выразился! — в гневе закричала страшная женщина. — Что это такое значит «течения»? Объясни, пожалуйста.
– Фу ты! — сказал Японец.
– Читайте, — сказала халдейка.
Купец забасил:
И в лицо мне дохнула весенняя ночь
Благовонным дыханьем сирени.
– Фу ты, — повторил Японец. — Ну расскажите нам про Маяковского, Федина, Блока…
– Не говори гадостей! — закричала мегера.
– Гадостей?!
– Да, да, гадостей. Что значит «блок»? Я не обязана знать вашего дурацкого воровского языка.
Японец встал, медленно подошел к двери и, отворив ее, прокричал:
– Вон!
Халдейка выпучила глаза. Мы нежно, любовно смотрели на Японца. Это было так на него похоже. Он весь горел в своем антихалдейском гневе.
– Вон! — закричал Японец. — Вам место в бане, а не в советской школе. Вы — банщица, а не педагог.
Великанша встала и величественно пошла к дверям. В дверях она обернулась и почти без злобы, надменно проговорила:
– Увидим, кто из нас банщица.
Не увидели. Исчезла. Растворилась, как дым от фугасной бомбы.
Господин академик
И опять мы остались без русского языка. И снова мы одолевали Викниксора мольбами найти нам преподавателя.
Викниксор ворчал.
– Найдешь вам, — говорил он. — Ведь вы лучшего преподавателя, вы академика, мирового ученого в могилу вгоните.
– Не вгоним, — обещали мы. — Честное слово, не вгоним.
Мы обещали, что будем сидеть на уроках русского языка, как самые благонравные институтки, мы обещали никогда не бузить, не ругаться и не смеяться над новым преподавателем, даже если он окажется каким-нибудь необыкновенно смешным, даже если у него будет два носа, или хвост, или овечьи рога.
Ради русского языка и русской литературы мы готовы были идти на любые жертвы.
Викниксор поворчал, поворчал, но смилостивился, поискал и нашел нам преподавателя.
Это был очень хороший, знающий свое дело педагог. Степенный, седенький, в золотых очках, он и правда был похож на академика. Так — Академиком — мы его и прозвали. Он пробыл у нас полтора или два месяца и за это короткое время успел прочитать курс русской литературы восемнадцатого, девятнадцатого и начала двадцатого века. Мы радовались этой удачной находке, мы стойко держали слово, данное Викниксору, и вели себя на уроках Академика так, что нам и в самом деле могли позавидовать самые скромные институтки.
И вдруг случилось большое несчастье.
Такое несчастье могло случиться только в нашей стране, в Советском Союзе.
Однажды во время письменной работы, когда мы слегка разнервничались и расшумелись, Академик поднял голову от книги, которую читал, и сказал:
– Нельзя ли потише, господа.
Мы вздрогнули. Мы сразу даже и не поняли, что случилось.
Потом Горбушка, не выдержав, закричал:
– Господ нету! Не царское время…
– Действительно, — сказал Японец.
Мы с удивлением смотрели на Академика.
Академик смутился, привстал и поправил очки.
– Прошу прощения, — сказал он. — Это как-то нечаянно вырвалось. Честное слово. Извините, господа.
Мы не могли уже больше сдержать своего негодования. Позабыв обещание, данное Викниксору, мы стали орать, улюлюкать, топать, как бывало на уроках самого ненавистного халдея.
Академик заерзал на стуле и покраснел.
– Товарищи, — сказал он, — я — старый человек. Мне очень трудно отвыкнуть от старых бытовых выражений. Вы должны извинить меня.
После уроков, оставшись наедине, мы долго судачили: как нам быть?
– Ребята, — сказал Японец, — придется простить ему его старость и политическую косность. Иначе — простимся с литературой. Решайте.
– Ладно. Черт с ним, — решили мы.
Мы простили ему его старость и политическую косность. Мы терпеливо сносили, когда на уроках он проговаривался словом «господа». Мы только морщились. А он, спохватившись, всякий раз извинялся перед нами. И это выглядело очень жалко и гнусно, и наше уважение к Академику постепенно меркло.
Теперь мы вели себя на его уроках уже не так смирно. Академику приходилось туго. Но он терпел. В то время была большая безработица среди педагогов, и Академик не мог не дорожить службой в Шкиде, где, кроме жалованья, воспитатели получали богатый «дефективный» паек.
Он продолжал читать курс русской литературы. И мы по-прежнему жадно глотали все, что он рассказывал нам — о Чехове, о Толстом, о Горьком, Бальмонте, Блоке…
Но вот однажды, рассказывая нам о творчестве Льва Толстого, Академик сказал:
– Государь император с интересом следил за деятельностью Толстого.
– Какой «государь император»? — воскликнули мы.
– Государь Николай Александрович, — сказал Академик, — Николай Второй.
– Николай Кровавый? — сказал Японец. — Или Николай Палкин? Выражайтесь точнее!
Академик опять покраснел.
– Товарищи, — начал он, — я — старый человек. Я не…
– Да, да! — закричал Японец. — Вы старый человек, Эдуард Константинович, а мы новые. Как видно, старые птицы не могут петь новых песен. Что ж делать! Адью! Нам придется расстаться.
– Что?! — попробовал возмутиться Академик. — Как вы сказали? Повторите!
Но «академический» тон ему не помог. Когда мы решали «вон» — это было свято.
Академика сняли с работы административным путем по ходатайству нашего класса.
Мы проводили его — честное слово — с сожалением. Нам не хотелось расставаться с хорошим преподавателем. Ведь мы опять оставались без русского языка.
Графолог
Этот маленький человек пришел на урок в пальто, как будто предчувствовал, что является ненадолго.
Снял у дверей галоши и мило улыбнулся.
– Здравствуйте!
– Здравствуйте, — довольно приветливо ответили мы.
Он взобрался на кафедру, ласково и внимательно оглядел сквозь очки класс и тихо сказал:
– Вы знаете, кто я?
– Догадываемся, — ответили мы.
В нашем классе давно уже не было преподавателей анатомии, биологии и русского языка, и вот мы наперебой стали высказывать свои предположения:
– Анатомик!
– Биолог!
– Русский!
– Я — графолог, — сказал человек.
Этого мы не ожидали.
– Это что же такое — «графолог»? — спросил Воробей.
– А вот что, — сказал человек, — я по почерку, по начертанию букв и прочих графических знаков определяю характер человека и его склонности.
– Здорово! — закричал Мамочка.
– А шпаги глотать вы умеете? — спросил Японец.
– Нет, не умею, — ответил человек. — Я — графолог. По почерку я узнаю людей злых и мягких. Я угадываю тех, кто склонен к путешествиям, и тех, кто не любит излишних движений и пертурбаций.
Мы радостно ржали.
– Фокусник! — заливался Янкель. — Ей-богу, фокусник!
– Хиромант! Гадалка! — визжал Японец.
Человек, все так же улыбаясь, порылся в карманах пальто и вытащил оттуда какой-то конверт.
Мы замерли.
– Вот, — сказал он, вытряхивая из конверта на кафедру кучу квадратных билетиков. — Я дам каждому из вас по такому билетику и попрошу написать какую-нибудь фразу. Кто что пожелает. Содержание и смысл не имеют значения.
– Послушайте, — сказал Японец. — Зачем все это?
– Ага, — улыбнулся графолог, — вы любознательны, молодой человек, это похвально. Прежде чем приступить к воспитательской работе, я должен изучить аудиторию. Моя наука, графология, помогает мне в этом. Возьмите билетики, мальчики.
Мы кинулись на приступ кафедры и расхватали билетики нашарап. После этого быстро, как никогда, мы расселись по своим партам.
– Пишите, — сказал графолог.
– Что хочешь писать? — закричал Купец.
– Что угодно, — ответил графолог.
И мы постарались. В самом деле, что можно было ожидать от дефективных шкетов? Что, помуслив карандаши и поскоблив затылки, они напишут нежным, изящным почерком:
«Луна сияла в небесах»?
Или:
«Я люблю мою маму»?
Записки, поданные графологу, были сплошь непристойные. Вычурные ругательства не помещались на маленьких квадратиках. Специалисты по ругани делали переносы и дописывали слишком сложные предложения на оборотной стороне бумаги.
– Прекрасно, прекрасно, — сказал графолог, собирая записки в груду. Вы слишком прилежны. Всё? — спросил он.
– Всё, — ответили мы.
Поправив очки, он начал читать. Уже на четвертой записке он так покраснел, что мы испугались. Так умеют краснеть только девочки и некоторые мальчики, которых часто дразнят и бьют. Взрослых людей мы не видели этаких.
Проглядев еще две-три записки, графолог поднял глаза.
Мы испугались.
– Ну вот, — сказал он. — Все это нужно, пожалуй, показать вашему директору. Он, мне думается, лучше сумеет определить ваши характеры и ваше поведение. Но вы не ошиблись, — вдруг улыбнулся он. — Я — фокусник.
– Видите эту груду бумажек? — сказал он. — Она есть!
Загадочно улыбаясь, он снова полез в карман и вытащил оттуда что-то.
Всё больше и больше пугаясь, мы вытянули шеи, приподнялись над партами. Вытащи он из кармана змею или живого зайца, мы бы не испугались больше. Мы чувствовали себя как в цирке, где все невозможное возможно.
Но он вынул — спички.
Размашисто чиркнув, он подпалил бумагу.
Пламя скользнуло по белому вороху, потекло к потолку и проглотило наш страх.
– Теперь ее нет, — раздался голос графолога.
– Ур-ра-а-а! — закричали мы. — Ура! Ура!
Голубоватый дым рассеялся над кафедрой.
Человек у дверей надевал галоши.
– До свиданья, — сказал он и скрылся.
Мисс Кис-Кис
По-видимому, эту барышню долго и основательно пугали. Добрые люди наговорили ей ужасов про дефективных детей. Перед этим она прочла не одну и не две книжки про беспризорников, которые сплошь убийцы и поджигатели, которые разъезжают по белому свету в собачьих ящиках, ночуют в каких-то котлах и разговаривают между собой исключительно на жаргоне.
Барышня подготовилась.
Пока Викниксор знакомил нас с нею вечером после ужина, мы насмешливо разглядывали это хрупкое, почти неживое существо. Когда же Викниксор вышел, со всех сторон посыпались замечания:
– Ну и кукла!
– Скелет!
– Херувимчик!
– Мисс Кис-Кис…
Барышня покраснела, потупилась, закомкала платочек и вдруг закричала:
– Ну, вы, шпана, не шебуршите!
От неожиданности мы смолкли.
Барышня сдвинула брови, подняла кулачок и сказала:
– Вы у меня побузите только. Я вам… Гопа канавская!..
– Что? — закричал Японец. — Как? Что такое?
Он вытаращил глаза, схватился за голову и закатился мелким, пронзительным смехом. Японец дал тон. За ним покатился в безудержном хохоте весь класс. Стены задрожали от этого смеха.
Барышня громко сказала:
– Вы так и знайте, меня на глот не возьмете. Я тоже фартовая.
Она усмехнулась, харкнула и сплюнула на пол. Молодецки пошатываясь, она зашагала по классу.
– Шухер, — сказала она, — хватит вам наконец филонить. Ты что лупетки выкатил? — обратилась она к Японцу.
Тот, не ответив, еще оглушительнее захрюкал.
– Послушай! Подхли сюда! — закричала она тогда.
Согнувшись от смеха, Японец выбрался из-за парты и прошел на середину класса. Мы придушили смех.
– Ты что гомозишь, скажи мне, пожалуйста? — обратилась воспитательница к Японцу.
– Ась? — переспросил Японец. — Что?
– Ты это вот видел? — сказала барышня и поднесла к самому носу Японца маленький смешной кулак.
– Это? — спросил Японец и, деланно изумившись, воскликнул: — Что это такое?
– Видел? — угрожающе повторила барышня.
– Ребята! — воскликнул Японец и вдруг цепко схватил руку несчастной барышни повыше кисти. — Ребята! Что это такое? По-моему, это — грецкий орех или китайское яблоко…
Мы выскочили из-за своих парт и обступили халдейку.
– Пусти! — закричала она, задергалась и сделала попытку вырваться. Но Японец крепко держал ее руку. — Пустите, мне больно. Мне больно руку…
Японец злорадно хихикал. Мы тоже смеялись и кричали наперебой:
– Лупетка!
– Ангел!
– Мадонна Канавская!
Барышня вдруг заплакала.
Японец разжал ее руку, и мы, замолчав, расступились.
Подергиваясь хрупким нежным тельцем, барышня вышла из класса.
Мы были уверены, что не увидим ее больше.
И вдруг на другой день, после ужина, она опять появилась в нашем классе.
– Здорово! — сказала она, улыбаясь. — Что зекаете? Охмуряетесь?
Снова посыпались невпопад блатные словечки. Снова несчастная барышня разыгрывала перед нами роль фартовой девчонки, плевала на пол, подсвистывала, подмигивала и чуть ли не матерно ругалась.
Советы добрых людей не пропали даром. Барышня решила не поддаваться «на глот» и вести себя с дефективными по-дефективному. Сказать по правде, на нас уже действовала ее система, и мы вели себя несколько тише.
– В стирки лакшите? — спросила она.
– Лакшим, — ответили мы.
– Клёво, — сказала она.
Мы не знали, что значит «лакшить в стирки».
– По-сецки поете? — спросила она.
– Поем, — ответили мы. И тоже не знали, что значит «по-сецки».
– И в печку мотаем, — сказал Японец. — И в ширму загибаем. И на халяву канаем.
– Ага! — сказала барышня. — Клёво!
Она была необычайно довольна и счастлива, что сумела найти общий язык с необузданными беспризорниками. Она ходила по классу, как дрессировщик ходит по клетке с тиграми. Тигры сидели смирнехонько и ждали, что она будет делать дальше.
Дальше, на следующий вечер, она принесла какой-то коричневый ящичек и поставила его на стол.
– Давайте займемся делом, — сказала она.
– Клёво! — ответили мы хором.
Барышня посвистала чего-то, потерла лоб, почесала затылок и спросила:
– Кто из вас умеет читать?
Мы не обиделись.
– Я немножко умею, — сказал Янкель.
– Прекрасно, — сказала воспитательница. — Канай ко мне.
Янкель подошел к учительскому столу. Халдейка открыла ящик и стала вынимать оттуда какие-то веревочки, карточки и деревянные кубики. На кубиках были оттиснуты буквы русского алфавита.
– Ты знаешь, какая это буква? — спросила барышня, взяв со стола кубик с буквою «А».
– Знаю, — ответил Янкель. — Как же… Отлично знаю… Это «Гы».
– Ну что ты, — поморщилась барышня. — Это «А».
– Может быть, — сказал Янкель. — Извиняюсь, ошибся.
– А это какая? — спросила барышня, поднимая кубик с буквою «Б».
– Это «Гы», — сказал Янкель.
– Опять «Гы». А ну-ка, подумай хорошенько.
– «Гы», — сказал Янкель.
– Нет, это «Б». А это какая?
– Дюра, — сказал Янкель.
Мы дружно захохотали.
Внезапно открылась дверь, и в класс вошел Викниксор. Как видно, он долго стоял у дверей и слушал.
– Товарищ Миронова, — сказал он. — Прошу вас собрать ваши вещи и пройти в канцелярию.
Барышня торопливо сложила свои веревочки, кубики и картонки в ящик и с ящиком под мышкой покинула класс.
Из школы она навсегда исчезла.
Откуда-то стороной мы узнали, что в начале 1922 года она поступила в китайскую прачечную на должность конторщицы или счетовода.
Маруся Федоровна
Другая барышня оставила о себе более приятную память. Это была такая же хрупкая барышня, такое же ходячее растение, готовое улететь при первом порыве ветра, но почему-то с первого взгляда она полюбилась нам, и ее появление не вызвало смеха в классе.
– Как вас зовут? — спросили мы.
– Маруся, — ответила барышня, а потом, спохватившись, добавила: — Федоровна.
Так и осталось за ней: «Маруся Федоровна».
Она читала ботанику. Скучнейшую, ненавистную, презренную ботанику по учебнику Кайгородова. Черт ее знает, чем и как околдовала нас Маруся Федоровна. Буйные, непоседливые на других уроках, на уроках ботаники мы сидели смирнехонько, и, что еще удивительнее, мы с интересом слушали всякие сказки про мотыльковые и губоцветные растения, вызубривали наизусть длиннейшие латинские названия и рисовали у себя в тетрадках лютики, пестики и усики.
Купец рисовал стеблевые усики дикого винограда! Было чему подивиться. При этом его никто не принуждал. Маруся Федоровна не умела не только настаивать, но и сердиться. Она смеялась, шутила, рассказывала всякую чепуху. И всякая чепуха приводила нас в восторг. В такой восторг приходили мы Первого мая, когда нам читали «амнистию» и выдавали по четверти плитки дешевого пищетрестовского шоколада. В такой восторг нас могла привести только жратва. А тут — пестики… Не будь мы шкидцами, мы поверили бы, что Маруся Федоровна — фея.
И вдруг она заболела.
Пришел Викниксор и сказал:
– Ребята, Мария Федоровна тяжело больна. У нее — рак желудка.
Она не приходила больше на урок с раскрашенными своими таблицами и с синим шарфом на плечах девочки. В наших тетрадках лютики и пестики остались недорисованными…
Японец и Янкель разузнали адрес и сходили проведать больную.
Она их с трудом узнала.
У нее исчезала память. Она забывала названия самых обыкновенных вещей.
– Мамочка, — обращалась она к старушке матери. — Дай мне, пожалуйста… ну, как это называется… такой кругленький… кружочек…
Мать не понимала. Суетилась. Шкидцы тоже не понимали и помогали суетиться. Маруся Федоровна плакала. Оказывалось потом, что ей понадобилось блюдечко.
Или она начинала говорить:
– Вот у нас в техникуме был сторож. Такой смешной-смешной. Его звали… не помню как. Он все рассказывал нам… все рассказывал…
Маруся Федоровна закрывала глаза.
– Не помню, — говорила она и опять плакала.
Маруся Федоровна очень страдала. Время от времени страшная боль начинала резать ее внутренности. Лицо ее искажалось, она закусывала губы, и, когда она разжимала их, на губах показывались капельки крови.
В минуты затишья она говорила:
– Мальчики… что вы так тихо сидите? Вам скучно сидеть? Скажите, сегодня тепло на улице?
– Тепло, — хрипели в один голос шкидцы.
– Солнышко? Да?
– Да.
– Это чудно!
Мать ходила по комнате в войлочных туфлях и все что-то передвигала: на столе, на комоде, на подоконниках.
– Мамочка, — говорила Маруся Федоровна, — ты бы угостила мальчиков… чем-нибудь.
Шкидцы упорно отказывались, когда старуха предлагала им чай или кофе с бутербродами, хотя при других обстоятельствах каждый из нас набросился бы на такую прекрасную жратву в любое время дня и ночи.
Японец и Янкель возвращались в Шкиду и сообщали нам безнадежные новости.
Мы мрачно переживали болезнь Маруси Федоровны. По-своему, грубо, но самым настоящим образом мы страдали эти долгие две недели.
Мы не стали тише. Наоборот, мы бузили ожесточеннее, чаще дрались и попадали в изолятор. На уроках мы яростнее преследовали нелюбимых педагогов. Мы выгнали из класса нового ботаника, несчастного старика в темных очках, как только он появился на пороге нашего класса.
Наконец пришел Викниксор и сообщил:
– Маруся Федоровна умерла.
Мы быстро, без всякого приказания встали, как будто в класс вошел самый строгий воспитатель или инспектор губоно.
Кобчик заплакал. Остальные стали сопеть и кусать губы.
Викниксор отпустил нас на похороны. Мы отправились всем классом.
Это было осенью в дождливый день.
Марусю Федоровну хоронили по-старому, по-церковному. Перед гробом шел маленький мальчик с серебряной иконкой в руках. Мать и другие родственники шли за колесами катафалка, плакали и стучали каблуками, а мы — босоногие шкеты — шли позади всех и несли огромный металлический венок, украденный нами ночью на Волковом кладбище с могилы генерал-лейтенанта Круглова.
Налетчик
В числе тех немногих наставников и преподавателей, которых мы по-настоящему любили и уважали, был Константин Александрович Меденников — «Косталмед», преподаватель гимнастики.
Мы действительно любили этого огромного бородатого атлета, гриве которого мог позавидовать берберийский лев, а голосу — архидьякон Успенского собора (говорят, что от одного возгласа этого дьякона в церкви становилось темно — гасли свечи).
Косталмеда, несмотря на его звероподобность, мы любили. Но это не значит, что мы любили гимнастику. Нет, надо сознаться, что энтузиастов гимнастики, охотников прыгать через кобылу или делать вольные упражнения с гирями, было у нас не слишком много. Купец, Джапаридзе, Пантелеев — вот и вся гвардия Косталмеда. Остальные — волынщики, симулянты, филоны, вшивая команда, как называл их в минуты гнева сам Косталмед.
Поэтому, когда мы узнали, что Косталмед заболел возвратным тифом, многие из нас вместе с жалостью и сочувствием к воспитателю почувствовали и некоторое облегчение, некоторую надежду на отдых.
Но эта надежда быстро исчезла, когда пришел Викниксор и заявил:
– Могу вас поздравить, ребята…
– С чем? С чем? — закричали мы.
Мы подумали, что Викниксор раздобыл для нас партию обуви или зимних пальто.
– Радуйтесь, — сказал Викниксор. — Я нашел заместителя Константину Александровичу. Теперь у вас будет преподаватель гимнастики. И преподаватель отличный. Прирожденный гимнаст.
Для многих из нас это звучало, как «прирожденный палач».
Гражданин Л., преподаватель гимнастики, появился у нас на следующее утро. Не успел еще он показаться нам на глаза, как откуда-то проник и быстро распространился слух, что новый халдей только что вышел из тюрьмы.
Вероятно, слух этот пошел из учительской, но до нас он дошел стороной, и, так как подробностей мы не знали и знать не могли, нам оставалось догадываться, предполагать и фантазировать.
За спиной нового воспитателя поговаривали, что Л. — один из уцелевших сподвижников легендарного питерского налетчика Леньки Пантелеева, бандит и разбойник. Другие смеялись над этими предположениями и уверяли, что Л. загримированный Антон Кречет, герой бульварных романов, которыми в то время зачитывались многие из нас. Горбушка же, наш поэт и гардеробный староста, додумался до совершенно туманных и непостижимых вещей. Он утверждал, что новый воспитатель только притворяется, что сидел в тюрьме, а на самом деле сидел не он, а Реджинальд Букендорф, известный лондонский поджигатель, а сам Л. вовсе не Л., а Нат Пинкертон.
Когда мы пытались слегка сомневаться в достоверности этих Горбушкиных домыслов, Горбушка не спорил. Он только говорил:
– А вы почитайте…
И, хмуро улыбаясь, он вытаскивал из парты пеструю замусоленную книжонку «Реджинальд Букендорф — неукротимый поджигатель». Мы читали и убеждались, что Горбушка прав: Реджинальд Букендорф действительно был поджигателем.
Как бы то ни было, над головой нового воспитателя с первого же дня его пребывания в Шкиде засиял ореол таинственности и легендарности.
Прозвище «Налетчик» сразу же утвердилось за ним. Это было почетное прозвище. Внешность его давала материал для других, более метких и обидных кличек. Мы могли бы назвать его, например, Кривоножкой, Сычом, Носорогом, Карликом… А назвали мы его Налетчиком, — это был очень высокий титул в нашей республике Шкид.
Налетчик не отличался атлетической внешностью. Это был невысокий, скорее даже низенький, широкоплечий человек с кривыми кавалерийскими ногами и очень длинным, гоголевским «птичьим» носом. Носил он защитный френч, блестящие черные сапоги и такие широкие синие галифе, что, когда ему приходилось проходить через одностворчатую дверь, он должен был или идти боком, или прижимать руками свои воздушные пузыри.
Преподавателем он оказался очень хорошим. Несмотря на свою неказистую фигурку, он был весьма ловок, уверен в движениях и даже изящен. А от нас он не требовал невозможного и занимался главным образом с болельщиками и чемпионами, оставляя остальных в покое. Вообще это был «свой парень», с которым можно было чувствовать себя свободным и непринужденным. Солдатская грубость манер и выражений его нам страшно нравилась.
– А ну, братва, — говорил он, бывало, — давай стройся. Довольно вола вертеть.
При этом он делал страшную бандитскую рожу, подмигивал нам и свистел, как заправский разбойник. А через минуту, вытянувшись во фронт, он уже кричал по-военному зычно и раскатисто:
– Сми-р-р-рна!
Признаться, мы были в восторге от нового преподавателя, а Купец и его компания просто души не чаяли в гражданине Л. и готовы были растаять от счастья.
– Вот это да! Вот это класс! Вот это гимнастика! — захлебывались они и с усиленным рвением прыгали через кобылу, таскали пудовые гири и, как императорские гвардейцы, маршировали по Белому залу со своим кривоногим полководцем.
Бузили мы на уроках Налетчика, пожалуй, не меньше, чем на других уроках. Но сам Налетчик относился к нашей бузе иначе, чем прочие халдеи. Он никогда не сердился, не выходил из себя, не кричал и не наказывал нас. Всякую, даже самую дерзкую выходку нашу он старался обратить в шутку. Когда, например, на уроке ему требовалось повернуть шеренгу налево, из раза в раз повторялась одна и та же история.
– Нале-е-е… — начинал команду халдей.
– …тчик, — отвечали мы хором. Получалось: «Налетчик».
– Еще пять таких «налетчиков», — говорил, усмехаясь, Налетчик, — и класс будет записан в журнал.
Мы свято держались этого условия и, повторив пять раз свою шутку, на шестой прикусывали языки.
В перемену мы обступали Налетчика.
– Виталий Афанасьевич, — просили мы его, — расскажите, за что вы в тюрьму попали.
Он вздрагивал каждый раз, и каждый раз это приводило нас в неописуемый восторг.
– Кречет! Кречет! — шептал Воробей.
– Притворяется, что Кречет! Пинкертон! — уверял Горбушка.
– Бандит! — всхлипывали мы.
– Куда? — усмехался Налетчик. — В тюрьму? Вот чепуха-то. Откуда вы взяли?
И, посмеявшись, он расталкивал нас и шел в канцелярию, насвистывая «Ойра-Ойра». Он делал вид, что ничуть не смущен, но мы-то отлично видели, как дрожат его руки и неестественно корежится спина.
– Легавых боится, — объяснял Цыган. И мы понимающе и сочувственно вздыхали и снова и снова строили самые невероятные предположения насчет загадочной личности Виталия Афанасьевича Л.
И вдруг Налетчик исчез. Он не пришел на один урок, не пришел на другой и не пришел на третий. Викниксор только хмурился и пожимал плечами, когда мы спрашивали у него, что случилось с Налетчиком. Другие халдеи тоже настойчиво отмалчивались.
– Болен, — решили самые трезвые из нас.
– Засыпался, — решил Цыган.
– В Англию уехал, — объявил Горбушка. — Получил депешу и уехал. Определенно…
Воробей молчал и улыбался, делая вид, что знает больше всех, но, по известным причинам, должен держать язык за зубами.
Мы ждали Налетчика, скучали без него, особенно Купец и компания, но постепенно нам надоело обсуждать его исчезновение, разговоры эти были бесплодны, и мы начинали уже его забывать. К тому же в начале июня пришел из больницы Косталмед, похудевший, осунувшийся, но по-прежнему грозный и похожий на льва. Грива его ничуть не поредела после тифа, и архидьяконский голос также ни чуточки не пострадал. Косталмед немедленно же приступил к исполнению своих обязанностей, и теперь мы уже боялись и думать о возвращении его заместителя.
– Хватит и одного, — говорили мы. — С двумя, пожалуй, и ноги протянешь.
Однажды летом мы играли на школьном дворе в лапту. С особенным неподражаемым шкидским хохотом (от которого звенели стекла и редкие птицы улетали повыше в облака) мы носились за маленьким арабским мячиком. Мы разыгрались, расшумелись и не заметили, как в одном из окон второго этажа, где помещался клуб, появилась фигурка Японца.
– Ребята! — кричал Японец, размахивая огромным газетным листом. Ребята! Сюда! Скорее!
Увидев его взволнованное лицо и не понимая еще, в чем дело, мы с мячиком и ракетками в руках побежали в клуб.
Японец стоял посреди комнаты и прятал за спиной номер «Известий». Щеки его горели, он волновался.
– Ну, что? — закричал Янкель. — Что-нибудь в Гамбурге? Да?
– Нет, не в Гамбурге, — ответил Японец.
– Где-нибудь революция? — спросил Воробей.
– Нет, не революция, — сказал Японец.
– Да ну тебя, — закричал Цыган. — Говори ты, в чем дело?
Японец вытащил из-за спины газету и, развернув ее, медленно и выразительно прочел:
– «Приговор по делу последышей белобандитов».
– Каких последышей? — возмутился Горбушка. — Надо же, а? Ты что ж это нас от игры оторвал? Очень нам интересно про каких-то последышей слушать.
– Действительно, — возмутились другие.
– Ша! — закричал Японец. — Слушайте, черти.
И, взобравшись на табурет, он прочел от начала до конца маленькую газетную заметку:
– «Сообщение РОСТА. В номере от 16 июня сообщалось о раскрытии контрреволюционной организации „Владимировцев“ в Петрограде. Группа деникинских офицеров во главе с Николаем Р., связавшись через посредство консульства одной из соседних лимитрофных держав с остатками штаба Деникиной добровольческой армии в Париже, занималась при содействии тех же дипломатических пособников экономическим, а отчасти и военным шпионажем. В феврале этого года группой „Владимировцев“ был совершен неудачный поджог на фабрике „Красный арматурщик“. Постановлением коллегии ГПУ от 18 июня с. г. все 14 членов контрреволюционной группы „Владимировцы“ приговорены к расстрелу. Приговор приведен в исполнение».
– Здорово! — сказал Цыган.
– Надо же, — повторил Горбушка. — Стоило из-за этого лапту бросать.
– В самом деле, — поддержал его Джапаридзе.
Нам тоже показалось, что не стоило бросать лапту из-за каких-то деникинских последышей.
Тогда Японец взял со стола другую газету и прочел заметку:
– «Сообщение РОСТА. ГПУ раскрыта контрреволюционная организация бывших деникинских офицеров. Во главе организации стоял известный монархист, член Государственной думы IV созыва Р. Правой рукой Р. состоял бывший кавалерийский офицер Л.».
Японец опустил газету.
– Л.! — воскликнул Цыган. — Это уж случайно не Налетчик ли?
– И не случайно, — ответил Японец. — Действительно, он.
– Брось ты, — сказал Цыган. — Совпадение, наверно.
– Ясно, что совпадение, — решили мы.
Тогда Японец пробежал глазами заметку и прочел из середины одну-единственную фразу:
– «Подсудимый Л. несколько месяцев работал в Василеостровском отделении Коммунального банка и в школе для дефективных подростков имени Достоевского».
Мы побледнели.
– Он, — сказал Воробей.
Несколько минут мы мрачно молчали. Наконец Воробей сказал:
– Вот сволочь-то, — сказал Воробей. — А мы его еще налетчиком называли!.. Своим парнем считали!..
Травоядный дьякон
Запомнился нам еще преподаватель рисования, Василий Петрович Сапожников.
Длинноволосый, похожий на дьякона, он почти целый месяц пробыл в республике Шкид и не получил от нас никакого прозвища. Лишь в последние дни дефективные граждане наградили Василия Петровича по заслугам. Досталось ему и от нас, и от младших ребят, и от самого Викниксора.
Пребывание Василия Петровича в школе такое продолжительное время могло бы показаться загадочным. Однако загадка эта не была хитрой. К рисованию и мы, и Викниксор относились без особого пыла, нам этот тихий преподаватель нисколько не мешал, а Викниксор, вероятно, думал, что все в порядке.
Василий Петрович приходил по вторникам и субботам в класс, здоровался, если была охота, а не то просто садился на свое место и говорил:
– Ну, дорогие друзья, приступайте к занятиям.
Сидел он откинувшись, полузакрыв глаза и почти не двигаясь. Изредка, словно очнувшись, он говорил:
– Рисуйте. Рисуйте.
– Что же нам рисовать? — спрашивали мы.
– Что хотите. Рисуйте зверей, насекомых, бабочек, травоядных.
Рисовать травоядных мы не умели и предпочитали писать стишки, дуться в очко, читать или рассказывать вполголоса анекдоты. Василий Петрович настойчивым не был и никогда нас не контролировал.
И вдруг в конце месяца он заявил:
– Устроим экзамен.
Особого переполоха это заявление не вызвало. Однако мы были порядочно удивлены, когда Василий Петрович собственноручно принес из канцелярии стопку бумаги, карандаши и резинки и, распределив все это по партам, внушительно объявил:
– Рисуйте!
– Что рисовать? — удивился кто-то. — Травоядных?
– Нет, — сказал Василий Петрович, — рисуйте меня.
– Да что вы! — воскликнул Японец, принимая слова Василия Петровича в шутку. — Да где нам! Да разве мы смеем!.. Разве мы можем!
– Молчать! — закричал вдруг Василий Петрович. — За месяц вы вполне могли научиться рисовать. Прошу у меня без шуток.
Он шумно придвинул к доске учительский стул и сел, закинув львиную гриву.
Некоторые из нас, обладавшие хоть какими-нибудь талантами в рисовании, постарались вывести греческий профиль Василия Петровича. Другие с грехом пополам, кое-как нарисовали нос, волосы и уши. А бедняга Японец, не умевший нарисовать даже домик с трубой, из которой клубится дым, пыхтел, пыхтел и начертил, наконец, какую-то картофелину — лицо, сбоку картофелину поменьше — нос и две не похожие одна на другую клюквины — глаза. По странной, как говорится, прихоти случая в этом натюрморте легко можно было узнать Василия Петровича.
Пришло время сдавать работы. Василий Петрович неторопливо собрал их в стопочку и стал проверять.
С одобрением он проглядел рисунки Янкеля, Воробья и Дзе. Усмехаясь и покачивая головой, перелистал несколько неудачных рисунков и вдруг остановился на работе Японца.
Лицо его под звериной гривой побагровело.
– Георгий Еонин! — воскликнул он. — Эта ваша работа?
– Моя, — ответил Японец без особой гордости.
– Прекрасно, — сказал халдей. — Вы будете записаны в «Летопись».
– За что? — закричал Японец.
Халдей не ответил, откинулся на спинку стула и, полузакрыв глаза, окаменел. Постепенно багровая краска его лица перешла в фиолетовую, потом в бледно-розовую, и наконец Василий Петрович успокоился. Успокоились и мы.
Прошло пятнадцать минут, прозвенел звонок, и мы уже забыли о странном обещании Василия Петровича. Но не забыл Японец. Недаром он так горячо ненавидел халдеев. Недаром он разрабатывал целую философскую теорию «о коварстве халдейском».
«Коварство халдеев коварству змеи подобно, — писал он однажды в своем журнале „Вперед“. — Есть змеи безвредные подобно ужу, но нет халдея беззлобного и честного. Поверю охотно, что удав подружился с ягненком, что волки и овцы пасутся в одной Аркадии, но никогда не поверю, чтобы живой халдей жил в мире с живым шкидцем».
И теперь он долго надоедал нам своим ворчанием.
– Запишет, подлец, — говорил он, угрюмо шмыгая носом. — Ей-богу, запишет. Головой ручаюсь, запишет.
– Да брось ты, — сказал Воробей. — Василий Петрович — и вдруг запишет. Мало ли что сгоряча сказал.
– Ясно, что сгоряча!
– Василий Петрович не запишет, — сказал Янкель.
– Василий Петрович добрый, — сказал Горбушка, — он мне три с минусом поставил.
Мы даже не утешали Японца. Настолько нелепыми нам казались его опасения.
Но он не успокоился. Как только выдался удобный случай, он проник в канцелярию и отыскал «Летопись». Вернулся он оттуда красный и возбужденный.
– Добрый?!! — закричал он страшным, плаксивым голосом. — Добрый? Не запишет? Кто сказал: «Не запишет»?
– А что такое? — полюбопытствовали мы.
– Подите посмотрите, — невесело усмехнулся Японец.
Всем классом мы отправились в канцелярию.
Толстая «Летопись» лежала на столе, раскрытая на чистой, только что начатой странице. Наверху, на самом видном месте, красовалось свежее, еще не просохшее замечание:
«Воспитанник Еонин во время урока намалевал отвратительную карикатуру на своего наставника».
От неожиданности мы не могли говорить.
– Черт! — вырвалось наконец у Цыгана. — Ну и тихоня!
– Ну и подлюга! — сказал Джапаридзе.
– Ну и гад! — сказал Янкель.
Японец стоял у дверей и с грустным, страдальческим видом разглядывал грязные ногти.
– Что же это такое, дорогие товарищи? — сказал он, чуть не плача. Разве есть такие законы, чтобы честного человека записывали только за то, что он рисовать не умеет?
– Нет! — закричали мы.
– Нету!
– Нет такого закона!
– Разве это возможно? — продолжал Японец. — Четырнадцатого классное собрание, и мне определенно опять в пятом разряде сидеть.
– Нет! — закричали мы. — Невозможно! Не будешь в пятом разряде сидеть.
Пришел бородач Косталмед и грозными окриками погнал нас из канцелярии.
Собравшись у себя в классе, мы долго и бурно совещались — что делать?
И выработали план борьбы.
Во вторник, двенадцатого числа, Василий Петрович в обычное время пришел на урок в класс. Он не заметил, что в классе, несмотря на весеннее время, топится печка и пахнет столярным клеем.
– Здравствуйте, друзья мои, — сказал он, улыбаясь и встряхивая гривой. Никто не ответил на его приветствие.
Улыбаясь, он сел на свое обычное место у классной доски.
– Приступите к занятиям.
Потом он откинулся на спинку стула, зажмурился и застыл.
Воробей шепотом скомандовал:
– Начинай!
Нагнувшись над партами, мы тихо и нежно завыли:
– У-у-у-у…
Василий Петрович не дрогнул.
– У-у-у-у! — загудел Купец.
Японец завыл еще громче.
Гудение нарастало. Как будто откуда-то издалека, из Белого зала, через коридор и столовую летела в четвертое отделение огромная туча пчел.
Василий Петрович не двигался.
– А-а-а! — заголосил Японец.
– Э-э-э-э! — заверещал Мамочка.
– О-го-го! — загоготал Джапаридзе.
– Му-у-у! — мычал и гудел весь класс. Теперь казалось, что уже не пчелы, а стадо диких зверей — леопарды, львы, тигры, волки, шакалы — с топотом ворвалось в класс, чтобы сожрать Василия Петровича.
Внезапно Василий Петрович открыл глаза и спросил:
– Да! Что-нибудь случилось?
На мгновение мы смолкли, а потом еще громче, еще дружней завыли, зафыркали, заулюлюкали.
Василий Петрович широко раскрыл глаза и продолжал улыбаться. Пущенный кем-то с «камчатки» мокрый комок промокательной бумаги смачно шлепнул ему в переносицу. Василий Петрович вздрогнул и перестал улыбаться. Второй комок мазнул его по губе. Василий Петрович вскочил. И тотчас сел снова.
Колченогий венский стул, добротно смазанный по спине и по сиденью столярным клеем, держал его за подол широкой толстовки.
Наш хохот оглушил Василия Петровича.
Он съежился, зажмурился и плотно прижался к спинке коварного стула. Целая батарея орудий начала палить в него клякспапирными бомбами. Он не успевал вздрагивать.
Огромная бомба, пущенная Купцом, ударила его в кончик носа. Нос задрожал и на глазах у нас посинел и распух. Несколько бомб застряло в звериной гриве. Василий Петрович сидел, похожий на даму, которая перед сном заплетает бумажками волосы.
Вдруг Василий Петрович снова вскочил и в бешенстве стал отдирать от себя стул. Он рычал, подпрыгивал и трясся, как боевой конь, раненный осколком снаряда. Он отбивался от стула локтями, и, когда тот чуть-чуть разжал свои объятия, Василий Петрович закружился, выделывая невероятные па, и стул закружился вместе с ним.
Продолжая орать и смеяться, мы все-таки немного пригнулись и съежились. Мы боялись, что стул, разлетевшись, снесет нам головы. И правда, выпустив Василия Петровича и отхватив порядочный кусок толстовки, стул пролетел над нашими головами и ударился где-то около печки. Дверцы печки раскрылись, и искры посыпались на пол. Василий Петрович стоял у стены, широко дыша и облизывая губы. Потом он потрогал распухший нос, прошипел: «Мерзавцы» — и большими шагами вышел из класса.
Сразу наступила тишина.
– Записывать пошел, — похоронным голосом сказал Янкель.
– И пусть, — проворчал Японец. — Ха-ха!.. Нашел, чем напугать.
– Тебе хорошо, — проворчал Мамочка, — тебе терять нечего.
– Дрейфишь? — сказал Японец.
Все остальные угрюмо молчали. Воробей подошел к распылавшейся печке, захлопнул дверцы и, грустно посвистывая, стал отдирать от сиденья стула клочки материала.
– Суконце-то аглицкое! — сказал Японец.
Никто не засмеялся, не улыбнулся. До перемены мы сидели мрачные, с томительным страхом ожидая появления Викниксора.
Прозвенели звонки, и Викниксор вошел в класс.
Мы встали.
– Сядьте, — сказал Викниксор.
Он походил по классу, нервно постукал себя по виску согнутым пальцем и остановился у классной доски.
– Ну вот, ребята, — сказал Викниксор. — На чем мы остановились в прошлый урок?
Как видно, он был приятно поражен, когда множество глоток радостно ответило на его невеселый вопрос:
– На Перикле! На Перикле!
– Правильно, — сказал Викниксор.
– Ура, — прошептал Воробей.
«Ура! Пронесло», — сияло на наших лицах.
Мы дружно, как никогда, отвечали на каверзные вопросы Викниксора. Путали Лизандра с Алкивиадом, олигархов с демократами и не очень смущались, когда Викниксор выводил у себя в тетрадке единицы и двойки.
Вели мы себя прекрасно, слушали новую лекцию внимательно, и Викниксор к концу урока повеселел и стал улыбаться добродушнее.
– Кстати, ребята, — сказал он, захлопнув, наконец, противную тетрадку. — В эту субботу уроков в школе не будет.
– Как? Почему не будет? — закричали мы, плохо скрывая радость.
– Наши славные шефы — Торговый порт — устраивают для нас экскурсию. В субботу шестнадцатого числа, сразу же после утреннего чая, первый, второй и третий разряды отправятся на Канонерский остров.
– А пятый? А четвертый? — закричали напуганные бузовики.
– Четвертый и пятый разряды останутся в школе. Они понесут заслуженную и узаконенную нашей конституцией кару. Смотрите, — улыбнулся Викниксор, ведите себя эти последние дни лучше. Выбирайтесь из пятого разряда. Любителям коллекционировать плохие замечания особенно советую поостеречься.
И он посмотрел в крайний угол класса, где сидели Японец, Воробей и многие другие. Японец сопел и мрачно пошмыгивал носом. Он все принимал на свой счет. Он чувствовал, что не выберется из пятого разряда и не пойдет на Канонерский остров.
А это было для него последним наказанием.
Прогулка в порт доставляла ему большую радость. Он не особенно любил купаться, играть в городки, лапту или футбол не умел, окурками не интересовался, и привлекали его эти прогулки исключительно возможностью увидеть иностранных моряков и при случае поговорить с ними на английском, немецком или французском языках, которыми в совершенстве и с гордостью владел Японец.
После звонка, когда Викниксор, пощелкивая себя по виску, вышел из класса, Японец поднялся и заявил:
– Пойду бить морду Сапожнику.
– Кому? — закричали мы.
– Сапожнику! Сапогу! Травоядному дьякону. Халдейскому Рафаэлю!
Целая серия новоизобретенных кличек посыпалась вдруг по адресу Василия Петровича. Сжимая тщедушные кулаки, Японец отправился разыскивать «Рафаэля». Но оказалось, что Василий Петрович сразу же после урока в третьем отделении ушел домой. К счастью для Японца, он на несколько минут опоздал со своей местью.
Ему оставалось ворчать, бубнить и ждать четырнадцатого числа, когда на классном собрании решались наши судьбы.
Наконец наступило четырнадцатое число. После ужина в нашем классе появился отделенный воспитатель Алникпоп и скомандовал:
– Встать!
С «Летописью» в руках торжественным, медленным шагом в класс вошел Викниксор.
– Классное собрание четвертого отделения считаю открытым, — объявил он и сел, положив толстую «Летопись» перед собой. — Александр Николаевич — секретарь, я — председатель. Повестка дня следующая: первый вопрос перевыборы комиссий, второй — поведение класса и разряды и, наконец, текущие дела.
Алникпоп отточил карандаш и сел писать протокол.
Без особого интереса мы начали выбирать хозяйственную комиссию, потом санитарную комиссию, потом гардеробного старосту.
Кто с ужасом, кто с нетерпением, кто с надеждой — мы ждали следующего акта этой церемонии.
– Поведение класса, — объявил Викниксор. И в наступившей тишине он стал перелистывать страшные страницы «Летописи».
– Коллективных замечаний нет. Ага… Замечательно! Будем подсчитывать индивидуальные.
И он начал читать вслух хорошие и плохие замечания, и каждое замечание отделенный воспитатель Алникпоп отмечал плюсом или минусом в алфавитном списке класса.
– Шестое число, — читал Викниксор. — «Тихиков добровольно вымыл уборную»…
Отыскав фамилию Тихикова, Алникпоп поставил плюс.
– Дальше, — читал Викниксор. — «Николай Бессовестин после прогулки не сдал кастелянше пальто». Верно, Бессовестин?
– Верно, — сознался Бессовестин.
Алникпоп вывел минус.
– Седьмое число. «Воспитанник Королев…» Это какой Королев? Из вашего отделения или из первого?
– А что такое? — поинтересовался Кальмот.
– «Воспитанник Королев работал на кухне».
– Я! Я! — закричал Кальмот. — Как же! Конечно, я…
– Извини, пожалуйста, — сказал Викниксор. — Я ошибся. Тут написано: «Королев ругался на кухне».
– Ругался? — сказал Кальмот и почесал затылок. Мы засмеялись невесело и неискренне, потому что у каждого на душе было очень скверно.
– Восьмое число, — читал Викниксор. — «Воспитанник Громоносцев разговаривал в спальне». «Воспитанник Пантелеев опоздал к обеду»… Девятое число. «Воспитанник Еонин намалевал отвратительную карикатуру на своего наставника».
– Ложь! — воскликнул Японец.
– Еонин, — сказал Викниксор. — Будь осторожнее в выражениях. Это замечание подписано Василием Петровичем Сапожниковым.
– Сапожников — негодяй!.. — закричал Японец.
Викниксор покраснел, вскочил, но сразу же сел и сказал негромко:
– Не надо истерики. У тебя всего одно замечание, и, по всей вероятности, мы переведем тебя в третий разряд.
– Ладно, — сказал Японец, засияв и зашмыгав носом.
– Вообще, ребята, — сказал Викниксор, — у вас дела не так уж плохи. Класс начинает заметно хорошеть. Например, десятого числа ни одного замечания. Одиннадцатого одно: «Старолинский ушел, не спросившись, с урока». Двенадцатого… Эге-ге-ге!..
Викниксор нахмурился, почесал переносицу и деревянным голосом стал читать:
– «Воспитанник Еонин во время урока приклеил воспитателя к стулу, причем оборвал костюм последнего».
Мы не успели ахнуть, как Викниксор перелистнул страницу и стал читать дальше:
– «Воспитанник Воробьев подстрекал товарищей к хулиганству и безобразию». «Воспитанник Офенбах мычал, делая вид, что сидит тихо». «Воспитанник Джапаридзе рычал на уроке». «Воспитанник Пантелеев гудел». «Воспитанник Финкельштейн гудел». «Воспитанник Еонин вскакивал и гудел громче всех».
Викниксор остановился, перевел дух и сказал громко:
– Это что же такое?
Потом он опять перевернул страницу и продолжал декламировать страшным голосом:
– «Воспитанник Громоносцев, слепив из бумаги твердую шишку, кинул ее в воспитателя». «Воспитанник Старолинский кидался бумажными шишками». «Воспитанник Офенбах нанес воспитателю увечье, при этом дико смеялся». «Воспитанник Финкельштейн смеялся». «Воспитанник Еонин злорадно смеялся и все время старался попасть воспитателю в рот». «Воспитанник Воробьев попал воспитателю в рот». «Воспитанник Бессовестин кидался». «Воспитанник Ельховский шумел». «Воспитанник Тихиков говорил гадости».
Викниксор читал и читал. Алникпоп не успевал ставить минусы. Мы сидели холодные ко всему и были не в силах кричать, возмущаться, протестовать. Мы ждали только, когда наступит конец этому подробному протокольному описанию нашей бузы.
– «Воспитанник Еонин назвал воспитателя неприличным словом». «Воспитанник Офенбах дважды выругался». «Воспитанник Воробьев издевался». «Воспитанники четвертого отделения коллективно приклеили воспитателя к стулу, после чего устроили нападение и нанесли тяжкие увечья, сопровождавшиеся смехом и шутками». Что это такое? — повторил Викниксор и с шумом захлопнул «Летопись». — Устраивать обструкции на уроках Сапожникова?! Может ли быть что-нибудь безобразнее? Василий Петрович работает в школе Достоевского целый месяц, и за это время у него не произошло ни одного столкновения с воспитанниками. Это идеальный человек и педагог.
– Идеальный халдей! — закричал Японец.
– Тихоня!
– Жулик!
– Пройдоха! — закричали мы.
Надо было ожидать, что Викниксор рассердится, закричит, заставит нас замолчать. Но он проговорил без гнева:
– Объясните, в чем дело?
Вышел Янкель.
– Расскажи, — сказал Викниксор, — что случилось?
– Видите ли, Виктор Николаевич, — начал Янкель, — Василий Петрович действительно пробыл у нас в школе целый месяц, но за этот месяц он ровно ни шиша не сделал.
– Выражайся точнее, — сказал Викниксор.
– Ни фига не сделал, — поправился Янкель. — На уроках он спал, и класс что хотел, то и делал. Рисовать никого не учил. Даже краски и карандаши никогда не приносил на урок. И вдруг на прошлой неделе он потребовал, чтобы мы нарисовали его собственную персону.
– Что-о?! — удивился Викниксор.
И Янкель подробно рассказал историю с Японцем. Рассказывал он смешно, и мы улыбались и хихикали.
– Прекрасно, — сказал Викниксор и защелкал себя по виску. — Но все-таки, ребята, это решительно не дает вам права устраивать вакханалии, подобные описанной здесь. — Викниксор похлопал по крышке «Летописи». — Весь класс переводится в пятый разряд, — объявил он. — В субботу экскурсия вашего класса в порт отменяется…
Мы взвыли:
– Виктор Николаевич! Несправедливо!
– Простите!
– Пожалуйста, Виктор Николаевич!
Викниксор поднял руку. Это обозначало: «Кончено! Разговор исчерпан».
Но тут, засверкав стеклами очков, выступил Александр Николаевич Попов, наш отделенный воспитатель.
– Виктор Николаевич, — сказал он. — Довожу до вашего сведения, что случаи, подобные этому, имели место и в других отделениях. Например, во втором отделении Сапожников записал четырех воспитанников за отказ рисовать его профиль. Третьего дня мне жаловался Володя Козлов из первого класса, будто бы Сапожников грозил сослать его в Лавру — за это же самое, за отказ рисовать профиль. Простите, но этот человек или ненормальный, или негодяй.
Викниксор насупился, помрачнел и барабанил по коленкоровой крышке «Летописи». Уши его шевелились. Это случалось всегда, когда он чересчур волновался.
– Прекрасно, — сказал наконец Викниксор. — Сапожников будет снят с работы. С этой минуты он уже не числится больше в наших штатах. — Побарабанив еще немного, Викниксор добавил: — Приговор отменяется.
Мы долго и дружно кричали «ура». Мы бесновались, вскакивали, хлопали в ладоши и за неимением шапок подкидывали к потолку свои книги, тетради и письменные принадлежности.
Наконец Викниксор поднял руку.
– Кончено. Разговор исчерпан.
В радужном, праздничном настроении мы приступили к «текущим делам».
Через два дня, в субботу, состоялась экскурсия на Канонерский остров. Утром после чая мы строились во дворе в пары, когда в воротах показалась величественная фигура Василия Петровича. Он приблизился к нам, улыбнулся и дружелюбно поклонился.
– Здравствуйте, друзья мои, — сказал он.
– До свиданья, друг мой, — ответили мы.
Мы могли бы ответить иначе, покрепче, но поблизости стоял Алникпоп и строго сверкал очками.
География с изюмом
Однажды в перемену к нам в класс ворвался третьеклассник Курочка.
– Ребята, послушайте, вы видели нового халдея?
– Нет, — сказали мы. — А что такое?
– Увидите, — засмеялся Курочка.
– А что такое? — поинтересовались мы. — Заика? Трехглазый? Двухголовый?
– Нет, — сказал Курочка. — Обжора.
– Ну-у, — разочарованно протянули мы. Потому что обжорство вовсе не казалось нам интересным, достойным внимания качеством. Мы сами прекрасно и даже мастерски умели есть. К сожалению, наши способности пропадали даром: наш ежедневный паек стоил всего двадцать четыре копейки золотом и очень легко умещался на самом дне самого мелкого желудка.
– Он у нас только что на уроке был, — продолжал Курочка. — Потеха!
– А что он преподает? — спросил Янкель.
– Что преподает? — переспросил Курочка. — А черт его знает. Ей-богу, не знаю.
Курочка добился своего. Мы с любопытством стали ждать появления нового халдея.
Он пришел к нам на четвертый урок.
Толстенный, бегемотообразный, он и без предупреждения развеселил бы нас. А тут, после загадочных рассказов Курочки, мы просто покатились со смеху.
– Наше вам! — прокричал Японец. — Наше вам, гиппопотам!..
Тряхнув двойным подбородком, новый халдей грузно опустился на стул, который, как нам показалось, жалобно застонал под его десятипудовой тушей.
Лицо халдея лоснилось и улыбалось.
– Смеетесь? — сказал он. — Ну, смейтесь. После обеда хорошо посмеяться.
– Мы еще не обедали! — закричал Мамочка.
– Нет? — удивился толстяк. — А когда же вы обедаете?
– После ужина.
– Шутишь, — улыбнулся толстяк. — Ужин бывает вечером, а обед днем. — Он хохотал вместе с нами.
– У нас, понимаете ли, свои обычаи, — сказал Цыган. — Представьте себе, мы обедаем в три часа ночи.
– Ну? — удивился халдей и, нахмурившись, добавил: — Я ведь узнаю, ты меня не обманешь…
– Почему вы такой толстый? — крикнул Горбушка.
– Толстый? — захохотал толстяк. — Это я-то толстый? Чепуха какая. Вот лет семь-восемь тому назад я действительно был толстый. — Он ласково погладил себя по животу. — Я тогда ел много.
– А сейчас?
– А сейчас мало. Сейчас я вот что ем каждый день. — Он придвинулся вместе со столом и стулом поближе к нам и стал считать по пальцам: — Утром четыре стакана чаю и два с половиной фунта ситного с изюмом.
– Так! — воскликнули мы.
– На завтрак одну или две котлетки, стакан молока и фунт ситного с изюмом.
– Так, — сказали мы.
– На обед, разумеется, супчик какой-нибудь, жаркое картофельное, манная каша, кофе и фунт-полтора ситного с изюмом.
– Так, — с завистью сказали мы.
– На ужин я пью чай и ем тот же проклятый ситный с изюмом. Перед сном выпиваю молока и ситного съедаю… самое большее с фунт.
– Бедняга! — воскликнул Янкель. — Как же вы только живете? Голодаете небось?
– Голодаю, — сознался халдей. — Если б я не голодал, я бы к вам в преподаватели не нанялся.
– Кстати, — сказал Янкель. — А что вы будете у нас преподавать?
– Эту… — сказал толстяк. — Как ее… Географию.
Он усмехнулся, проглотил слюни и продолжал:
– Вот раньше, до революции, я ел… Это да! Меня во всех петербургских кухмистерских знали. Не говоря уже про первоклассные рестораны — Кюба там, Донон, Медведь, Палкин, Федоров. Приду, а уж по всем столикам: «Суриков пришел!». Это я — Суриков… Моя фамилия. И не только гости, но и вся прислуга в лицо помнила. Сяду за стол, а лакей: «Что прикажете, господин Суриков?» или «Слушаю-с, господин Суриков». У Федорова даже блюдо особое было — «беф Суриков». Вам это интересно? — внезапно спросил Суриков.
– Интересно! Интересно!
– Ну, так я вам еще расскажу. Расскажу, как я на пари поспорил с одним сослуживцем в кухмистерской «Венеция» у Египетского моста. Поспорили мы на масленице, кто больше блинов съест. Багров говорит, что он, а я утверждаю, что я. И поспорили. И, как вы думаете, кто больше съел: я или Багров?
– Конечно, Багров! — закричал Янкель.
– Багров! — закричали мы.
– Багров? — воскликнул толстяк и подскочил на стуле. — Вы серьезно думаете, что Багров?.. Так я вам вот что скажу: Багров съел четырнадцать блинов, а я тридцать четыре… Это что, — перебил он самого себя. — Блины я не очень люблю, от них пить хочется. А вот сосиски — знаете? — с капустой. Я их съедаю без всякого спору, добровольно, по тридцать штук. В кухмистерской «Лондон» — знаете? — на Вознесенском я однажды съел восемнадцать или девятнадцать порций жареной осетрины. В трактире — не помню названия — в Коломенской части меня посетители бить хотели за то, что я все бутерброды с буфета сожрал. В трактире «Бастилия»…
Толстяк раскраснелся, глаза его налились жиром и страшно сверкали. Мы молча следили за выражением этих глаз. Странная злоба закипала в наших сердцах. Мы сильно хотели есть, как всегда хотели, нас ожидал невеселый обед из пшенного супа и гречневой размазни, а тут человек распространялся о жареной осетрине, сосисках и ситнике с изюмом, которым мы угощали себя только в мечтах, да и то с оглядкой.
– В трактире «Бастилия» на Васильевском острове я в девятьсот десятом году сожрал целого поросенка с кашей. В Петергофе, кажется на вокзале, таким же образом я съел целого жареного гуся. И после еще двух рябчиков съел. В девятьсот четырнадцатом году в ресторане Носанова, угол Морской и Невского, я съел на пари сотню устриц…
В класс вошел Викниксор. Толстяк оборвал себя на полуслове.
– Занимаетесь? — улыбнулся Викниксор.
– Занимаемся, — улыбнулся Суриков. — Интересуемся, кто чего знает. Хорошие, между прочим, у вас ребята.
– Да-а, — сказал Викниксор неопределенно.
– Итак, — сказал Суриков. — Вот вы… — он обратился к Японцу. — Чего, например, вы знаете по географии?
Японец встал и развязно прошел к доске.
– Знаю по географии очень много.
– Замечательно. Говорите.
– Вот, — сказал Японец, — Венеция находится у Египетского моста. Париж находится угол Морской и Невского. Лондон — не знаю, где находится, кажется, в Коломенской части.
– Еонин! — воскликнул Викниксор, не замечая, как покраснел преподаватель. — Ты забываешь, по-видимому, что я здесь и что тебе грозит изолятор и пятый разряд.
– Нет, — возразил Японец. — Напрасно обижаете, Виктор Николаевич. Я повторяю те сведения, которые сообщил нам в своей высоконаучной лекции товарищ преподаватель.
Викниксор посмотрел на Сурикова. Тот долго сопел и пыхтел и наконец выговорил:
– Я им рассказывал тут кое-что из своей жизни. А они, вероятно, подумали, что это география. Так сказать, номером ошиблись.
– Вот, дети, — обратился он к нам. — Знайте: Лондон находится в Англии. Так сказать, главный город.
Викниксор помрачнел, пожевал губами и хотел что-то сказать. Но тут зазвенел звонок, и несчастный толстяк был избавлен от позора публичного изгнания. Он ушел сам. Его не выгнали с треском, как выгоняли многих.
Магнолии
Он пришел в Шкид, когда все четыре класса сидели в большой школьной столовой за утренним чаем. Как только он в сопровождении Викниксора вошел в столовую, раздался хохот. Шкидцы не могли сдержать смеха при виде этого тщедушного плешивого человечка в высоких охотничьих сапогах, в которых целиком скрывались его короткие ноги. В руках он держал пожелтевший от времени тощий портфель. Сам он тоже был пожелтевший, поношенный и прокуренный. Пока Викниксор успокаивал своих развеселившихся питомцев, малыш теребил жидкую козлиную бороденку и, кротко улыбаясь, бегал глазами по лицам ребят. Когда те немного успокоились, Викниксор, по привычке растягивая слова, сказал:
– Ребята, вот вам новый воспитатель и преподаватель анатомии – Митрофан Семенович Лесников. Познакомьтесь.
Он указал рукой на человечка в охотничьих сапогах. Тот кашлянул в руку, подергал бороденку и глуховатым голосом повторил:
– Эге… Митрофан Семенович Лесников…
Викниксор показал новому воспитателю его место за столом четвертого отделения. Халдей уселся. Улигане с любопытством рассматривали его. Когда Викниксор ушел, вся столовая загудела, как улей. Малыши вставали, чтобы посмотреть на бородатого лилипута. Дежурный воспитатель Сашкец не мог успокоить столовую.
– Тише! – кричал он, стуча кулаком по столу. – Тише!.. Да тише же!..
Кто-то из улиган сказал:
– Лесничок!
– Кляузная Бородка! – закричал третьеклассник Турка.
Ребята снова захохотали.
«Лесничок» сидел улыбаясь и по-прежнему теребил свою «кляузную бородку».
– Вы что, анатомию читать будете? – обратился к нему Японец.
Лесничок вздрогнул.
– Эге… Анатомию читать буду.
– А почему у вас борода кляузная? – спросил Янкель.
Халдей застенчиво улыбнулся.
– Такая уж выросла, – сказал он.
Зазвенел звонок, объявляя о начале занятий. Шкидцы с шумом расходились по классам.
Первым уроком в четвертом отделении шла древняя история.
Нудно тянулся урок. Июньское солнце и летний уличный шум, врываясь в окна класса, манили на улицу. Лица и спины улиган потели, глаза тупо уставились в одну точку. Уши, как дырявая сеть, подхватывали и тотчас же выпускали обратно обрывки фраз:
– И вот демагоги… Заняв Мемфис, афиняне… И вот Перикл нашел выход…
А головы сверлила мысль:
«Выкупаться бы!».
О Лесничке уже забыли. Только Голый барин, обрывая крылья украдкой пойманной мухе, сказал, обращаясь к соседу своему, Леньке Вандалу:
– Смешной какой новый халдей!.. Верно?
Вандал – скуластый, густобровый парнишка – хмуро ответил:
– Сам ты смешной… Человек, видно, хороший, этот новый, а изведут – уж чувствую.
– Почему же не пошутить с чумовым? – усмехнулся Барин, принимаясь за мушиные ноги.
Шутки начались на втором уроке. Когда Лесничок вошел в класс, снова раздались смешки. Воспитатель прошел к учительскому столу, положил на него свой затрепанный тощий портфель и, откашлявшись, негромко сказал:
– Ну, здравствуйте!
– Наше вам с кисточкой! – крикнул Янкель. Остальные либо ничего не ответили, либо промычали нечленораздельное:
– Здрасти.
– Начнем урок, – сказал халдей, неловко усаживаясь на стуле. – Во-первых, я должен познакомить вас с моей системой преподавания. Никогда никого не принуждаю заниматься. Хочешь – учись, не хочешь – твое дело…
– Замечательная система! – воскликнул Японец.
Лесничок взглянул на Японца, в первый раз сделав серьезное лицо.
– Кроме того, я никого не наказываю, – сказал он. – Во всяком случае, я стараюсь избегать этого. Вы не маленькие приготовишки, которые раскаиваются, лишь поставленные в угол, вы – взрослые люди.
Взрослые люди не очень внимательно слушали преподавателя.
Сливались в гул разговоры, смех; на передней парте Жвачный Адмирал выстукивал на зубариках «Яблочко», на «камчатке» два потомственных лодыря дулись в очко. А Лесничок рассказывал о своей системе. Рассказав, снова осветил лицо своей кроткой улыбкой и сказал:
– Ну, а что вы знаете по анатомии?
Класс молчал.
– Ну, хотя бы вы?
Лесничок посмотрел на Японца. Японец неохотно поднялся и в ожидании вопроса раскачивал крышку парты. Крышка скрипела.
– Что такое анатомия? Знаете? – спросил воспитатель.
Класс по привычке насторожился, ожидая ответа товарища.
– Анатомия, – ответил Японец, – это наука о человеческом теле, о разных его частях. Части вашего тела – сапоги, борода и лысина. Это и есть анатомия.
Класс дружно гоготал.
Халдей улыбнулся.
– Очень интересная теория. Сядьте.
Все были крайне удивлены. Он и в самом деле никого не наказывал.
Он вызвал Янкеля:
– Знаете ли вы, из чего состоит наше тело?
– Знаю, – ответил Янкель. – Но только смотря какое тело. Например, ваше тело состоит из мешка, наполненного…
Это было уж слишком. Такая дерзость у другого халдея не прошла бы даром. Однако Лесничок, не меняя выражения лица, перебил Янкеля и сказал:
– Сядьте, пожалуйста.
Потом вызвал следующего.
Один Ленька Вандал, когда до него дошла очередь, отговорился незнанием.
Возвращаясь после урока из библиотеки, где он обменял Кнута Гамсуна на Германа Банга, Ленька натолкнулся на зрелище, заставившее его остановиться. По залу расхаживал новый воспитатель Лесничок, а по пятам за ним ходила орава малышей. Они толкали воспитателя, дергали его за края пиджака и недружным хором кричали:
Кляузная Бородка,
Какая у вас походка!
Лесничок, старичок,
Одолжите пятачок!
Лесничок как будто и внимания на них не обращал. Он ходил, заложив руки за спину, и улыбался.
Ленька не выдержал и кинулся к малышам.
– Эй вы, бужане! – закричал он. – Цыц по местам! Ну, что я вам сказал? Живо! – Ленька взял за плечи и толкнул к дверям двух-трех пацанов.
Остальные, поскуливая, разбежались.
Лесничок стоял и внимательно смотрел на Леньку. Внезапно Ленька смутился, улыбнулся и сказал:
– Вы со своей системой пропадете… Ей-богу…
Воспитатель не успел ответить. Мягко ступая тряпочными туфлями, Ленька направился к дверям. Он прошел в класс. Ребята сидели у открытого окна. Летний вечер отсветом зари ложился на их лица. Они о чем-то беседовали. Ленька прислушался.
– Побольше бы таких халдеев, – говорил Японец. – Это тебе не Косталмед какой-нибудь.
– Да, – сказал Воробей, – не чета Костецу… Давеча я иду из уборной, а в зубах папироса… Вдруг навстречу Кляузная Бородка… И что вы думаете? Ничего. Взглянул, улыбнулся…
– Надо ему завтра бучу устроить, – сказал кто-то.
Ленька громко кашлянул.
– Ребята, – сказал он.
Все повернулись в его сторону. Его скулы не то от зари, не то от волнения розовели.
– Ребята, – повторил он, – чем вам не понравился Митрофан Семенович? Чего вы, скажите, пожалуйста, лезете к нему?
– Интересно! – воскликнул Японец.
– Скажите, какой заступник нашелся! – пробасил Купец.
Ленька невесело усмехнулся.
– Человеческого обращения вы не понимаете, сволочи, – сказал он.
– Подумайте, – с ужимками пропел Янкель. – А тебе, мой дорогой, собственно, какое дело?
– А такое… – Ленька сделал шаг вперед. – Тогда я вам вот что скажу… Я не легавый, но… Я не позволю… никому не позволю измываться над Митрофан Семенычем. Кто полезет к нему – будет иметь дело со мной. Поняли?
Он хлопнул томиком Банга по подоконнику и прошел к своей парте. Ребята молчали… За окном звенели трамваи, шепеляво шипели шины авто.
– Исключительно оригинальная слама, – сказал Японец.
Все засмеялись.
– Кляузная слама, – добавил Янкель.
– Синьор Вандал, а где же ваш сламщик? – крикнул Воробей.
Ленька ничего не ответил. Его согнутая фигура в темном углу класса казалась застывшей.
Товарищи долго потешались над ним.
На другой день в одну из перемен Ленька поймал Лесничка на лестнице. Маленький халдей спускался в учительскую. На его сутулой спине красовалась нарисованная мелом рожа.
Ленька догнал его.
– Послушайте, – сказал он.
Лесничок остановился и посмотрел на воспитанника. На его лице промелькнула мина раздражения, которую он тотчас же сменил своей детской улыбкой.
– В чем дело?
Ленька не был разговорчив.
– У вас спина запачкана, – сказал он и принялся стирать мел.
– Ах, это, наверно, во втором классе. Ничего… Спасибо… Экие шалуны… – забормотал халдей.
– Так нельзя, – наставительно проговорил Вандал. – С вашей всепрощающей толстовской системой чахотку заработаешь.
– А что же мне делать?
– Ну что? Что все делают. Где надо – наказывать, не спускать каждую выходку. А этих бужан я ужо взгрею, – добавил Ленька.
Халдей взял его за руку, крепко пожал.
– Вы – хороший мальчик, – сказал он. – Как вас зовут?
– Вандал, – ответил Ленька. – Я уже намекнул ребятам, что мы с вами друзья, и думаю, что теперь в нашем классе шутить с вами побоятся…
Он не ошибся. На следующем уроке анатомии в четвертом классе ребята сидели более или менее спокойно. Вандал был сильный парень, его боялись и уважали. Но малышей, при всем их трепете перед улиганами, трудно было утихомирить. Они не прекращали своих шуток над Лесничком. Лесничок, послушавшись сламщика, сделал попытку их наказывать. Но из этого ничего не вышло. Он сам зачеркнул свои записи в «Летописи».
– Нет, не могу. Это идет вразрез с моей системой, – сказал он вечером Леньке.
Вандалу приходилось самому наказывать малышей. Он раздавал направо и налево щелчки, награждал густыми колобками, но чаще всего просто грозил.
Лесничок полюбил своего младшего товарища.
Однажды на прогулке в Екатерингофе он рассказал ему о себе.
– Я ведь не педагог по профессии, – улыбаясь, сказал он. – Я ботаник. В мирное время служил в Петербурге в Ботаническом музее, заведовал тропическим отделом. Всю жизнь провел с магнолиями и пальмами. Ухаживал за ними, любил их. В девятнадцатом году они замерзли.
Он замолчал.
– Ну, а дальше? – спросил Ленька.
– В том же году я потерял жену и дочь… Обе умерли от тифа. Я тоже болел, но выздоровел. Решил сделаться воспитателем. Прочел немало книг по педагогике и вот… Оставьте покурить.
Ленька протянул воспитателю дымящийся окурок. Сплюнул и сказал:
– Да, шкидцы не магнолии.
Как-то раз в воскресенье Шкида отправилась на Канонерский остров [1] . После обеда забрали с собой мешки с провиантом, построились в пары и двинулись в путь.
В Торговом порту взяли у коменданта пропуск и переправились на лодках через канал. Потом долго шагали по узкой дамбе в самый конец острова, на свое излюбленное место.
Шкидцы рассыпались по кустам: искали землянику, собирали громадные букеты полевых роз, которые за ненадобностью сейчас же выбрасывали.
Ленька сидел со своим сламщиком на ступеньках разрушенной беседки. Разговаривали, курили. Потом товарищи позвали Леньку играть в лапту…
Незаметно выплыла над заливом луна.
На песчаном морском берегу зажгли костер.
Продрогшие от позднего и лишнего купания, ребята толпились у костра. По очереди ходили собирать хворост. Когда пришла Ленькина очередь, он встал и, поднявшись на откос берега, отправился на другой край острова, на обросший густым кустарником берег морского канала.
Он собрал целую кучу хвороста и намеревался уже идти обратно, как вдруг услышал слабый вопль, за которым моментально последовал всплеск воды в канале. Тотчас же мимо Леньки промелькнули две темные фигуры. Ленька бросил собранный хворост и кинулся к каналу. С высоты обрывистого берега он увидел картину, заставившую его вздрогнуть. На гладкой поверхности воды, освещенной зеленоватой луной, барахтался человек. Течение его отнесло саженей на пять от берега. Ленька понял, что человек не умеет плавать, так как он часто и надолго с головой погружался в воду. В канале было очень глубоко, в нем боялись купаться даже самые отчаянные пловцы. Но раздумывать было некогда.
– Помогите! – что было сил закричал Ленька и кинулся головой вниз.
Вода проглотила его. Он камнем летел на дно, и прошло очень много секунд, пока ему удалось выбраться на поверхность. Утопавшего отнесло еще дальше от берега. Ленька поплыл к нему.
Разбрасываемые им брызги от лунного сияния казались искрами, слепили глаза; вода затягивала, кружила. Ленька плыл наугад, лишь изредка мелькало то тут, то там бесформенное тело утопавшего. Тогда Ленька менял направление и, напрягая последние силы, плыл.
Наконец он слышит барахтанье, слышит всплески. Он ныряет и схватывает под мышки извивающегося тяжелого человека. С этой ношей, тяжелой, как мешок с гирями, он плывет к берегу.
Далеко, далеко по берегу бегают люди, что-то кричат, откуда-то со стороны выплывает лодка.
Когда до берега остается не больше двух саженей, Ленька теряет сознание. Очнувшись, он видит, что лежит на полу в старой разрушенной беседке. Склонившись над ним, стоит Викниксор, вокруг толпятся ребята. Лица у всех испуганные, бледные. Ленька хочет о многом спросить, он подымает голову, но голова падает на деревянную ступеньку.
– Обоих вытащили? – шепчет он сухими губами.
– Да, – отвечает Викниксор, – Митрофан Семенович жив.
Ленька чувствует, как кровь бросается ему в лицо. Так вот кого он спас!
– Лесничок отогревается у костра, – говорит Японец. – Он ходил по берегу, любовался луной, поскользнулся и упал в воду. Вот чудак-то!
– Еонин, не забывайся, – строго говорит Викниксор.
Возвращались домой поздно. Шли медленно, усталые и голодные.
Сламщики шли позади всех. Лесничок сжимал руку Вандала.
Луна скрылась за тучами, все окружающее потеряло очертания, кусты и деревья стали черными и мрачными. С запада дул колкий ветер.
– А ведь вас столкнули с берега, – сказал Ленька. – Я видел, как кто-то пробежал в глубь острова… Я допытаюсь, кто это сделал. Негодяи!
– А ну их, – попытался улыбнуться Лесничок. – Бросьте… Они, вероятно, пошутили…
После этого случая кляузная слама превратилась в самую настоящую крепкую дружбу. Сламщики не могли жить один без другого. Ленька ждал дня, когда Лесничок дежурил по школе. Тогда вечерами они просиживали до звонка в Белом зале, тихо беседуя о чем-либо.
После случая на Канонерском острове ребята стали уважать дружбу этих двух и даже, пожалуй, полюбили Лесничка. Во всяком случае, его перестали дразнить и преследовать. Но сам Лесничок тяготился своей воспитательской деятельностью. Часто вздыхал, вспоминая о тропических своих пальмах, замерзших в девятнадцатом году.
И вот однажды сказал Лесничок Леньке:
– Письмо я получил из Киева от товарища университетского. Зовет. Работа там в коммунальных оранжереях есть. Что ты скажешь на это, друг Леня?
Целую минуту не мог ответить Ленька. Закусил до крови губу. Покраснел. Побледнел. Опять покраснел. Наконец проглотил слезы и ответил:
– Поезжайте, конечно. Это большое счастье… Вы должны ехать…
В этот вечер не было на свете человека несчастнее Леньки Вандала.
Это был последний день кляузной сламы.
Зеленые береты
Я никогда не был пионером, хотя по возрасту вполне мог не один год, а даже несколько лет носить красный галстук. И мало того, что я сам не состоял в пионерской организации, какое-то время я считал всех юных пионеров своими смертельными врагами.
Вот как это получилось.
В то лето Шкида почему-то не поехала на дачу. Все лето мы томились в городе.
Помню знойный июньский день, послеобеденный час, когда все окна во всех классах и спальнях настежь распахнуты и все-таки в помещениях нечем дышать. Озверелые от жары шкидцы, те, что за "хорошее" поведение оставлены без отпусков и прогулок, слоняются из комнаты в комнату, пытаются читать, лениво перекидываются в карты и на чем свет стоит ругают халдеев, по чьей милости они сидят в этот душный солнечный день взаперти.
Эх, хоть бы дождь пошел, хоть бы гром загремел, что ли!..
И вдруг — что такое? Кажется, и в самом деле гром? Нет, это не гром! Но за окнами что-то рокочет, погромыхивает, приближается... Постойте, братцы, да это же барабан!.. Барабанная дробь! Откуда? Что? Почему?
И тут мы слышим в соседней комнате, в столовой, чей-то ликующий голос:
— Ребята! Ребята! Зекайте! Бойскауты идут!
Мы кинулись к окнам. Облепили подоконники.
По Петергофскому проспекту — от Обводного канала к Фонтанке — не очень четким строевым шагом двигались под барабанную дробь человек тридцать мальчиков и девочек, в белых рубашках, в синих коротких штанах и юбках и с красными галстуками на шее. Под мышками они держали (как держат охотники ружья — дулом вниз) "посохи" — длинные круглые палки, с какими еще недавно по петроградским улицам разгуливали бойскауты. Только начальник этих ребят, длинноногий парень с бритой наголо головой, был без посоха, да маленький барабанщик, шагавший впереди всех, да знаменосец, выступавший за ним следом. На красном бархатном полотнище знамени мы разглядели слова:
...ЗАВОДА "КРАСНАЯ БАВАРИЯ"
Конечно, любоваться этим зрелищем молча шкидцы не могли. Не успел барабан приблизиться к нашим окнам, как кто-то из старшеклассников оглушительно свистнул. Из соседнего окна закричали:
— Дю!..
— Дю! Дю! — подхватили на всех шести подоконниках.
Белые рубахи продолжали свой мерный шаг, только маленький барабанщик, оглушенный разбойничьим свистом, вздрогнул, споткнулся и испуганно взглянул на наши окна.
— Эй, ты! Отставной козы барабанщик! — загоготали шкидцы. — Гляди, бубен свой потеряешь!
— Эй вы, голоногие!
— Гогочки!
— Голоштанники!
— Бойскауты недорезанные!..
Но тут за спиной у себя мы услыхали гневный окрик:
— Это что за безобразие?! Сию же минуту вон с подоконников!
В дверях класса, грозно поблескивая стеклами пенсне, стоял Викниксор. Однако на этот раз ни этот блеск, ни сердитый голос нашего президента не произвели на нас сильного впечатления.
— Виктор Николаевич! — позвал Янкель. — Идите сюда, посмотрите! Бойскауты идут!
Недоверчиво усмехнувшись, Викниксор подошел, ребята посторонились, и он, наклонившись, выглянул на улицу.
— Полно вам, какие это бойскауты! — сказал он. — Это не скауты, это юные пионеры.
Для многих из нас это было совсем новое, неслыханное слово.
Барабан стучал все тише и глуше, отряд голоногих приближался уже, вероятно, к Калинкину мосту, а мы обступили Викниксора и наперебой расспрашивали его: что это за новость такая — юные пионеры?
— Юные пионеры — это недавно созданная детская коммунистическая организация, — говорил Викниксор. — Пионер — это значит: следопыт, первооткрыватель, разведчик... Если вы не забыли Фенимора Купера, объяснять вам не надо...
Нет, мы, конечно, не забыли Фенимора Купера. Но Купер тут был ни при чем. И бойскауты тоже. Мы поняли, что эти ребята, над которыми мы только что так дико смеялись и вслед которым так неистово улюлюкали, — наши, советские ребята. Стало ли нам стыдно, не скажу, но помню только, что нам самим страшно захотелось повязаться галстуками и с палками в руках пройтись по улицам.
И вот за ужином, когда, набив животы пшенной кашей, мы допивали жиденькое, без молока и без сахара какао, встал Колька Цыган и попросил слова.
— Виктор Николаевич, — сказал он, — а нельзя ли и у нас тоже организовать отряд юных пионеров?
Викниксор нахмурился и зашагал по столовой.
— Нет, ребята, — сказал он после паузы, — у нас нельзя.
— Почему?
— А потому, что школа у нас, как вы знаете, тюремного или, точнее сказать, полутюремного типа...
— Ага!.. Понятно! Рылом не вышли! — крикнул кто-то за столом четвертого отделения.
Викниксор повернулся и поискал глазами виновного.
— Еонин, выйди из столовой, — сказал он.
— За что? — взъерепенился Япончик.
— Выйди из столовой, — повторил Викниксор.
— За что, я спрашиваю!
— За грубость.
— За какую грубость?! Я же, Виктор Николаевич, не про вас сказал "рылом не вышли". Это не вы, это мы рылом не вышли.
— Еонин, имеешь замечание в "Летописи", — так же невозмутимо объявил завшколой и, обращаясь к воспитанникам, продолжал: — Нет, ребята, как я уже объяснил вам, мы, к сожалению, не имеем права основать у себя в школе ни комсомольскую организацию, ни пионерскую...
На эту тему, как, впрочем, и на всякую другую, Викниксор мог говорить часами. Он долго растолковывал нам, почему мы, бывшие правонарушители, беспризорники, хулиганы, поджигатели и бродяги, не имеем права состоять даже в детской политической организации. Но мы не слушали Викниксора. Нам было неинтересно.
"Ладно, — думали мы. — Чего там. Нельзя так нельзя — не привыкать. Мало ли чего не разрешено делать нам, трудновоспитуемым шкетам. Жили без галстуков, проживем без них и дальше..."
Все мы быстро успокоились, и только Японец, которому и в самом деле влепили замечание в "Летопись", еще больше озлился и на халдеев и на пионеров. Стоило ему теперь увидеть из окна или на прогулке парнишку с красным галстуком, как Японец терял остатки самообладания и накидывался на юного пионера со всем пылом, на какой только был способен. Врать не буду часто и мы не отставали от нашего товарища. Может быть, тут играла роль зависть, то, что мы "рылом не вышли", а может быть, просто мы были в то время сорванцами, которые только и ждут случая, чтобы затеять драку или перебранку.
Однажды в воскресенье мы отправились всей школой на прогулку в Екатерингоф. Не знаю, что там сейчас, а в наше время это был довольно большой и довольно паршивый, грязный и запущенный парк. Через парк протекала речонка Екатерингофка, а подальше было что-то вроде увеселительного сада с маленьким ресторанчиком и с дощатой эстрадой, где по вечерам выступали борцы, куплетисты, фокусники и жонглеры. Днем эстрада не работала, сад был открыт для всех желающих, и мы, помню, всегда устремлялись в первую очередь именно туда, потому что в саду, на его посыпанных желтым песочком дорожках, в любое время дня и ночи можно было разжиться приличным окурком.
Но на этот раз нас ожидало в саду нечто куда более интересное, чем недокуренные нэпманские "Сафо" и "Зефир № 6". Неподалеку от входа, под открытым небом, за столиком буфета сидел и пил пиво могучего сложения усатый человек в просторном чесучовом костюме. Увидев этого богатыря, мы замерли. Кому из нас не приходилось видеть его — если не в кино, не в цирке и не на эстраде, то хотя бы на афишах и фотографиях! Да, сомнений не было: перед нами сидел "русский богатырь" Иван Поддубный, чемпион России по борьбе и поднятию тяжестей.
Окружив столик, мы застыли в благоговейном молчании. А он не смотрел на нас — привык, вероятно, к тому, что на него постоянно глазеют, — отхлебывал из кружки пиво и лениво заедал его моченым горохом.
Помню, мы обратили внимание, что железный стул, на котором сидел Поддубный, дюйма на четыре ушел в песок и продолжает туда погружаться.
— Весь уйдет, — прошептал одноглазый Мамочка.
— Не... весь не уйдет, — так же шепотом ответил Купец.
Завязывалось интересное пари. Но состояться ему было не суждено. Именно в эту минуту мы услыхали у себя за спиной душераздирающий вопль, оглянулись и увидели первоклассника Якушку, который со всех ног мчался от садовой калитки по направлению к нам. Он бежал, нелепо размахивая руками, и тоненьким голосом кричал:
— Ребята! Ребята! Скорей! Бегите! Пионеры Япончика бьют!..
Мы ахнули, переглянулись и, забыв Ивана Поддубного, с диким боевым кличем кинулись туда, куда указывал нам путь маленький Яковлев.
Он привел нас на берег Екатерингофки. И мы увидели такое, что заставило нас заскрипеть зубами.
Тщедушный Япончик катался по траве в обнимку с таким же тщедушным пареньком в пионерской форме, а несколько других пионеров кидались к нему, пытаясь оттащить его или ударить. Нам некогда было рассматривать, что там происходит, кто прав и кто виноват.
Раздался трубный голос Купца:
— Сволочи! Наших бить?!
И, зарычав, мы ринулись на выручку Японца.
Позже мы узнали, как было дело. Придя вместе со всеми в Екатерингоф, Японец в сад не пошел, а свернул в сторону и направился в свои любимые места — на берег речушки, где под сенью серебристой разлапистой ивы, среди пыльных лопухов и облетелых одуванчиков, так славно всегда мечталось и думалось. За поясом у Японца были припрятаны книга и тетрадка, он рассчитывал посидеть, почитать, посочинять стихи... И вдруг он приходит и видит, что на его месте, у той самой плакучей ивы, где он столько раз сидел и мечтал, стоит вытянувшись как солдат и приставив к ноге посох какой-то карапет с пионерским галстуком.
Япошка остановился и вперил в пионера гневный гипнотический взгляд. Это не подействовало, тот продолжал стоять как истукан.
Тогда Японец спросил, что ему здесь надо.
Пионер не только не ответил, но и бровью не повел. Потом-то выяснилось, что у них тут происходила какая-то военная игра и этот парень стоял на часах, а часовому, как известно, разговаривать с посторонними не полагается. Но Японец знать этого не мог. В первую минуту он опешил, потом рассвирепел, а потом, увидев, что перед ним стоит не человек, а статуя, осмелел и стал задевать пионера. После он клялся нам, будто не трогал этого парня, а только "словесно пикировал" его. Но мыто хорошо знали остроту Япошкиного языка и понимали, каково было пионеру от этой пикировки.
Одним словом, дело кончилось тем, что пионер слушал-слушал, терпел-терпел и наконец не вытерпел, оглянулся и без лишних слов хрястнул Японца своим посохом по шее.
Японец не отличался ни силой, ни храбростью, драться не умел и не любил, но тут то ли пионерский посох оказался чересчур крепким, то ли противник выглядел не таким уж страшным, только Японец не стал раздумывать, кинулся на маленького часового, сбил его с ног и стал дубасить своими жиденькими кулачками. Пионер по мере сил отвечал на удары. До последней минуты этот мужественный человек помнил, по-видимому, что он часовой, и дрался молча. Но когда Японец подобрался к его шее и стал душить его, часовой не выдержал, поднял голову и стал звать на помощь. Примчались другие пионеры, кинулись их разнимать. На шум прибежал гулявший поблизости Якушка. Через минуту появились мы.
Не знаю, чем бы все кончилось и какие размеры приняло бы это екатерингофское побоище, если бы на горизонте не возник длинноногий пионерский вожак. Мы услыхали трель его футбольного свистка и тут же увидели, как он мчится к реке на своих длинных, как у страуса, ногах.
— Ша! Ша! — кричал он, размахивая длинными руками. — Ребята, ша! Что тут происходит? Ша, я говорю!!
Пионеры оторвались от нападающих шкидцев, сбились в кучу.
— Костя, Костя, мы не виноваты, — загорланили они наперебой. — Это приютские на нас напали...
— Что-о-о? — закричал он и повернулся — не к нам, а к своим пионерам. Какие еще "приютские"? Что за выражение — "приютские"? Вы что, где — при капитализме живете?.. А ну, ребята, отсекните, — повернулся он к нам. Живо!.. Кому я сказал? Чтобы ноги вашей здесь не было...
Мы поняли его и почему-то беспрекословно послушались: повернулись и зашагали прочь.
И тут мы увидели нашу воспитательницу Эланлюм. Из-за кустов выглядывало ее красное, распаренное и разгневанное лицо. Как выяснилось, она все или почти все видела.
— Хороши! — сказала она, когда мы приблизились к кустам. — Нечего сказать, хороши! Фу! Стыд! Позор! Несмываемый позор на весь район! Разве с вами можно ходить в публичные места? С вами только на необитаемый остров можно ходить!
И, приказав нам построиться, Эланлюм объявила:
— А ну, быстро в школу! Обо всем будет доложено Виктору Николаевичу.
Мало того что мы должны были раньше времени прервать прогулку, не собрав ни одного окурка, не доглядев Поддубного и не насладившись другими прелестями Екатерингофа, нам еще, оказывается, грозил крупный разговор с Викниксором.
Всю дорогу мы ворчали на Японца. А он виновато усмехался, шмыгал носом и дрожащим от волнения голосом пытался объяснить нам, что он не виноват, что он только "словесно пикировал", а драться и не думал с этим голоногим...
Не знаю, что случилось: то ли Эланлюм не доложила все-таки заведующему о драке, то ли Викниксор из каких-то высших педагогических соображений решил не давать этому делу дальнейшего хода, только крупный разговор между нами так и не состоялся.
Зато состоялся другой разговор. После ужина Японец разыскал Пантелеева и Янкеля. Уединившись в верхней уборной, сламщики посиживали там и курили на двоих один чинарик.
— Ребята, — обратился к ним Японец каким-то необыкновенным, торжественным голосом, — у меня к вам серьезный разговор.
— Вали, — ответил несколько удивленный Янкель.
— Нет, только не здесь.
— А что? Тайна?
— Да. Разговор конфиденциальный. Давайте в Белый зал, там, кажется, сейчас никого нет.
Заинтригованные сламщики сделали по последней затяжке, заплевали окурок и спустились вслед за Японцем вниз. В дверях Белого зала Японец оглянулся и сказал:
— Только предупреждаю: не трепаться.
В самом дальнем углу зала он еще раз оглянулся, посмотрел даже для чего-то на потолок и только после всех этих мер предосторожности сказал:
— Вот какая у меня идея! Я много думал и пришел к такому решению: если мы не имеем права легально организовать у себя комсомольскую или пионерскую ячейку, значит...
— Значит? — насторожился Янкель.
— Самая элементарная логика подсказывает, что, если нельзя легальную, значит, нам остается основать нелегальную.
— Что — нелегальную? — не понял Пантелеев.
— Нелегальную организацию.
— Какую организацию?
— Юношескую... коммунистическую...
Шкидцы переглянулись. Хмыкнули. Улыбнулись. Идея явно понравилась.
— А нам по шапке не дадут? — сказал, подумав, Янкель.
— А у тебя что, такая уж роскошная шапка? От нас зависит, чтобы организация была хорошо законспирирована...
При таких обстоятельствах родился Юнком, подпольная организация Юных коммунаров. Это событие давно уже вошло в историю республики Шкид, о нем поведано миру на других страницах, и повторяться я не буду.
Напомню только, что при вступлении в организацию каждый новый член должен был давать клятву, обязываясь молчать и не выдавать товарищей. Принимали в организацию не всех. Прежде чем быть принятым, нужно было пройти серьезное испытание.
Несколько раз в неделю собирались юнкомовцы: где-нибудь в развалинах старого флигеля или в заброшенной швейцарской под парадной лестницей и при жидком свете свечного огарка вели конспиративные занятия. В подпольных кружках мы изучали историю Коммунистической партии и международного революционного движения. Изучали историю комсомола. Начали даже изучать политическую экономию.
Лекции нам читал самый начитанный из нас — Жорка Японец, и, говоря по правде, часто мы слушали его гораздо внимательнее, чем некоторых наших педагогов.
Мы были счастливы. Мы ходили по земле, преисполненные гордости от сознания, что за плечами у нас — страшная, волнующая тайна.
Когда под окнами нашего класса проходил теперь под барабанную дробь пионерский отряд с завода "Красная Бавария" или с "Путиловца", мы не свистели, не смеялись, не улюлюкали. Мы молча сверху вниз (и не только потому, что смотрели из окон, а они шагали по улице) взирали на них, переглядывались и снисходительно ухмылялись.
"Топайте, топайте, братишечки, — думали мы. — Наводите, пожалуйста, сколько угодно фасона вашими галстуками и палочками. У вас, милые детки, это все игра, забава, а у нас..."
"Эх, знали бы они!" — думали мы. И, по правде сказать, нам очень хотелось, чтобы они знали. Но пионеры, конечно, до поры до времени знать ничего не могли, хотя, как выяснилось потом, очень хорошо помнили о нашем существовании.
А выяснилось это таким образом. Однажды вечером несколько старшеклассников — Янкель, Купец, Пантелеев и Мамочка, — получив разрешение дежурного воспитателя, отправились в кино. Не успела эта четверка выйти на улицу и не успел дворник Мефтахудын закрыть за ними железные ворота, как с противоположной стороны Курляндской улицы ребят окликнули:
— Эй, достоевские!
Навстречу шкидцам шли два паренька и одна девочка в пионерских галстуках. Шкидцы переглянулись и нерешительно двинулись им навстречу.
На середине мостовой те и другие сошлись.
— Мы к вам, — сказала девчонка.
— Мерси! Бонжур! Силь ву пле, — ответил Янкель, галантно раскланиваясь и шаркая босой ногой.
— Чем мы заслужили такую честь? — пробасил Купец, тоже делая какой-то мушкетерский жест.
— Ладно, бросьте трепаться, — сказала пионерка. Она была чуть постарше и чуть повыше своих спутников. — Мы пришли по делу, — сказала она. — Только к вам очень трудно попасть. Стоим уж минут сорок.
— У вас все равно как... — начал один из пионеров, самый маленький, с белобрысым хохолком.
Но девчонка так ловко и так сильно пырнула его в бок, что он ёкнул и осекся. Мы поняли, о чем хотел сказать белобрысый: будто у нас как в тюрьме.
— Да, вы правы, сэр, — повернулся к нему Янкель. — К нам попасть нелегко. У нас привилегированное закрытое учебное заведение. Вроде Кембриджа или Оксфорда. Слыхали о таких?
— Ребята, мы к вам не шутки шутить пришли, а по делу, — сердито сказала девчонка. — Вы можете говорить по-человечески?
— О миледи, сделайте одолжение! — воскликнул Янкель.
— Тогда слушайте! Мы хотим взять над вами шефство и помочь вам организовать в вашем интернате пионерскую дружину.
Трепливое настроение сразу оставило шкидцев.
— Шефство? — переспросил Янкель, поскребывая в затылке. — Гм. Да. Это интересно. Но, между прочим, у нас уже есть шефы — Торговый порт.
— Да? А пионеры? Почему же вам шефы не помогли организовать пионерскую дружину? Мы лично вам с удовольствием поможем.
Что мы могли сказать этой девчонке? Что мы не имеем права состоять в детской политической организации? Что мы — малолетние преступники? Что у нас детдом с полутюремным режимом?
И тут нас выручил Мамочка. Вообще-то он, конечно, совершил преступление. Он нарушил или вот-вот готов был нарушить клятву.
— Спасибо, цыпочка! — пропищал он, игриво подмигивая пионерке своим единственным глазом. — Спасибо... У нас уже есть.
Шкидцы похолодели. Все взгляды устремились на Мамочку.
— Что у вас есть? — не поняла пионерка.
— Что надо, то и есть, — так же кокетливо ответил Мамочка.
— Пионерская организация? Дружина?
Мамочка метнул растерянный взгляд на товарищей. Но сейчас на него смотрели не товарищи, а три хищных зверя.
— Я спрашиваю: у вас что — пионерская организация есть?
— Ага, — с трудом выдавил из себя Мамочка. — Вроде.
Шкидцы заволновались.
— Ребята, пошли, опаздываем, — сказал Янкель.
И, помахав пионерам рукой, он первый зашагал в сторону Петергофского проспекта.
За углом шкидцы остановились. Купец грозно откашлялся.
— Ну, Мамочка, — сказал он после зловещей паузы, — имеешь.
— За что? — пролепетал Мамочка. — Я же ничего не сказал. Я только сказал "вроде"...
Обсудив на ходу этот вопрос, мы решили, что Мамочка заслужил пощаду. Ведь, в конце концов, он и в самом деле спас нас, выручил из очень трудного положения. А кроме того, мы очень спешили в кино. И посовещавшись, мы решили проявить на этот раз снисхождение и простили Мамочку.
А дня через два наша подпольная организация самым глупым образом провалилась. Дворник Мефтахудын, обходя поздно вечером школьную территорию, заметил в развалинах флигеля бледный дрожащий огонек, услышал доносившиеся из-под лестницы глухие голоса и, решив, что в развалинах ночуют бандиты, со всех ног кинулся за помощью к Викниксору.
Таким образом вся наша маленькая организация была захвачена на месте. Ни одному подпольщику не удалось скрыться.
Мы ждали жестокой расправы. Но расправы не последовало. Тщательно обдумав этот вопрос и обсудив его на педагогическом совете, Викниксор разрешил нашей организации легальное существование.
И вот наш Юнком из темного подполья вышел на солнечный свет...
Мы получили помещение — комнату, где находился раньше школьный музей. У нас появилась своя газета. Число членов Юнкома стало расти. Были утверждены новый устав и новая программа. Был избран центральный комитет. Открылась юнкомовская читальня.
Единственное, чего мы не имели, — это формы. Даже галстуков или значков каких-нибудь у нас не было.
Но вот как-то вечером, когда мы кончали ужинать, в столовую бодрым и даже молодцеватым шагом вошел Викниксор. Уже по одному виду его можно было догадаться, что он собирается сообщить нам нечто весьма приятное.
Так оно и оказалось. Походив по столовой и потрогав несколько раз мочку уха, Викниксор остановился, внушительно кашлянул и торжественно объявил:
— Ребята! Могу вас порадовать. Мне удалось раздобыть для вас через губернский отдел народного образования двадцать пар брюк и почти столько же беретов.
— Каких?
— Куда?
— В кино?
— В какое? — загалдели шкидцы.
— Не билетов, а беретов, — с благодушной улыбкой поправил нас Викниксор. — Бархатных беретов с ленточками... И главное — представьте себе! — оказалось, что эти ленточки наших национальных цветов!
Мы дружно закричали "ура", хотя далеко не все поняли, о каких ленточках и о каких национальных цветах говорит наш президент.
— Виктор Николаевич, — сказал, поднимаясь, Янкель, — а какие это наши национальные цвета?
— Эх, Черных, Черных, как тебе не совестно, братец! — добродушно ухмыльнулся Викниксор. — Неужели ты не знаешь своего национального флага? Цвета подсолнуха: черный и оранжевый!
Мы были заинтригованы. Поднялся невероятный галдеж. Шкидцы в один голос требовали, чтобы им показали эти береты с национальными ленточками цвета подсолнуха.
Улыбаясь, Викниксор поднял руку.
— Хорошо, — сказал он. — Дежурный, поднимись, пожалуйста, наверх и попроси у кастелянши от моего имени один берет.
Через две минуты дежурный вернулся и мы получили возможность воочию лицезреть этот оригинальный головной убор. Темно-зеленый бархатный или плюшевый берет с мохнатым помпончиком на макушке был действительно украшен сбоку двумя короткими георгиевскими ленточками.
Шкидцы молча и даже с некоторым страхом разглядывали и ощупывали это удивительное произведение швейного искусства, неизвестно как и откуда попавшее на склад губнароба. После того как берет побывал на всех четырех столах и снова очутился в руках Викниксора, тот сказал:
— Таких беретов мне удалось, к сожалению, получить только семнадцать штук. На всех, увы, не хватит. Я прикинул, каким образом распределить их между вами, и пришел к такому решению... Право носить береты мы предоставим лучшим из лучших, нашим передовым, нашему авангарду — членам Юнкома.
На этот раз никто не кричал "ура", даже юнкомовцы почему-то молчали, и никто не смотрел на них с завистью. Только какой-то новичок из второго отделения, обидевшись на Викниксора, крикнул:
— А мы что, рыжие?
— Нет, Петраков, — ласково сказал Викниксор, — ты не рыжий. Но ты еще не заслужил чести состоять в организации Юных коммунаров. Добивайся этого, и в один прекрасный день ты тоже получишь право носить форму.
Это слово заставило многих из нас вздрогнуть и насторожиться.
— Виктор Николаевич, — поднялся над столом Купец, — а что, разве это обязательно?..
— Что обязательно?
— Носить эти беретики?
— Да, Офенбах... разумеется, как и всякую другую форму.
Мы ясно представили себе Купца в этом детском головном уборчике с розовым помпоном на макушке, и нам стало не по себе. У многих из нас появились дурные предчувствия. И предчувствия эти, увы, очень скоро оправдались.
В тот же вечер Купец подошел к Янкелю и Японцу, обсуждавшим очередной номер юнкомовской газеты, и сказал:
— Вот что, робя... Вычеркивайте меня.
— Откуда? Что? Почему?
— Из Юнкома. Я выхожу, выписываюсь...
Напрасно мы уговаривали его: решение его было непоколебимо Купец навсегда был утрачен для нашей организации.
Остальные держались более или менее стойко.
Я говорю "более или менее", потому что ходить по улицам в этих гамлетовских головных уборах и в самом деле требовало немалой стойкости и геройства. Особенно если учесть, что ситцевые брюки, которые раздобыл для нас Викниксор, оказались самых фантастических расцветок: голубые, светло-зеленые, канареечно-желтые...
Куда там пионерам с их короткими штанами и кумачовыми галстуками! К пионерам в городе скоро привыкли. Одни смотрели на них с гордостью и любовью, другие — с затаенной ненавистью. Что касается юнкомовцев, то к их форме население Петрограда привыкнуть не могло. Не было случая, чтобы человек шел по улице и, повстречавшись с юнкомовцем, не вздрогнул, не оглянулся и не сказал ему вслед что-нибудь вроде: "Эва как вырядился, дурак!" или: "Ну и чучело с помпончиком!.."
Когда мы шли строем, было еще туда-сюда — в строю мы были солдатами, мы чувствовали локоть соседа, идти же в одиночку было нестерпимой пыткой.
И не все эту пытку выдерживали.
Не выдержал ее, между прочим, и одноглазый Мамочка.
Вот что случилось однажды в субботний вечер.
Три шкидца, три юнкомовца, три члена центрального комитета — Янкель, Японец и Пантелеев, — получив отпускные свидетельства, бодро и весело шагали по Петергофскому проспекту в сторону центра. Несколько опередив их, на другой стороне улицы шел Мамочка. Шел он тоже довольно быстро и тоже был в юнкомовском берете, но берет ему попался, как назло, очень большой, плоский, так что щупленький Мамочка был похож издали на какую-то сыроежку или поганку. Кто-то из юнкомовцев увидел его, ребята посмеялись, поострили немножко на Мамочкин счет и снова увлеклись беседой. Но тут Янкель, бросив рассеянный взгляд на противоположный тротуар, вдруг остановился и воскликнул:
— Ребята, постойте, а где же Мамочка?
Только что Мамочка был, и его не стало. Не было его ни впереди, ни сзади, ни слева, ни справа. Среди бела дня человек растворился, провалился сквозь землю, превратился в невидимку.
С разинутыми ртами шкидцы стояли на краю тротуара и смотрели. И тут их разинутые рты еще больше округлились. Ребята увидели Мамочку. Он вышел из какого-то подъезда, воровато оглянулся и быстро зашагал, почти побежал к трамвайной остановке. На стриженной под машинку Мамочкиной голове чернел узелок всегдашней его повязки. Берета на голове не было. Он явно перекочевал или в карман, или за пазуху.
Юнкомовцы мрачно переглянулись.
— Хорош гусь! — сквозь зубы проговорил Японец.
— Ах ты, ренегат паршивый! — воскликнул Янкель.
Не сговариваясь, юнкомовцы ринулись за своим слабохарактерным товарищем, но он, словно ожидая или предчувствуя погоню, прибавил шагу, и не успели шкидцы окликнуть его, как Мамочка вскочил на колбасу только что тронувшегося трамвая и был таков.
Откровенно говоря, мы не имели права слишком строго судить его. В душе каждый из нас хорошо понимал Мамочку. Но мы были руководители, вожди, и мы не вправе были прощать трусость и малодушие.
— Судить! — воскликнул Янкель.
— Исключить! — изрек Японец.
Третьему оставалось требовать разве что гильотины или расстрела.
Во всяком случае, в понедельник утром, по возвращении из отпуска, Мамочку ожидали весьма малоприятные вещи. Но в понедельник Мамочка в Шкиде не появился. Не вернулся он и во вторник. А в среду после обеда Викниксору позвонили по телефону из районного отделения милиции и сообщили, что его воспитанник Федоров Константин находится на излечении в хирургическом отделении Александровской городской больницы.
Взяв с собой двух старшеклассников, Викниксор сразу же поехал в больницу.
Мамочка лежал без сознания. Против обыкновения, повязка на его голове была не черная, а белая. Остренький Мамочкин носик еще больше заострился, губы запеклись.
У Мамочкиной постели сидел и писал что-то в блокноте работник милиции. Из-под белого халата выглядывали черная кожаная тужурка и деревянная кобура маузера.
Когда мы узнали, что в субботу вечером Мамочку, избитого до бесчувствия, привезли в больницу с Покровского рынка, нам стало не по себе. За что могли избить на рынке тринадцатилетнего приютского парня? По опыту мы знали, что только за воровство. Недаром в те годы окрестная шпана распевала песню:
На Английском у Покровки
Стоят бабы, две торговки,
И ругают напропад
Достоевских всех ребят...
Да, немало соблазнов таил в себе в те годы рынок, и немало было случаев, когда шкидцы, особенно новички, попадались на таких некрасивых занятиях, как бесплатное угощение орехами, яблоками, конфетами и т.п. Но юнкомовец?! Авангард школы...
— Нет, нет, — успокоил Викниксора сотрудник милиции, — ни о каком воровстве и речи быть не может...
То, что случилось с Мамочкой на Покровском рынке, получило тогда в городе довольно широкую огласку. Была даже статья в одной из петроградских газет, кажется в "Смене".
Держа путь на Малую Подьяческую, где проживал его старший, семейный брат, Мамочка проходил через Покровку. Пошел он прямо через рынок, наверное для того, чтобы сократить путь. В этот день брат обещал повести его в цирк, и Мамочка боялся опоздать.
Рынок уже закрывался, народ расходился, торговцы складывали свои лари и навесы.
И тут Мамочка увидел такое, что заставило его мигом забыть и о цирке, и о брате, и обо всем на свете.
Три молодых нэпмана, три красномордых подвыпивших мясника, обступили большой решетчатый ларь, в каких обычно торговцы держат арбузы, капусту или живую домашнюю птицу, и с диким пьяным хохотом тыкали в этот ящик палками и растрепанной дворницкой метлой.
— А ну говори, сопляк! — рычал один из них, самый краснощекий, высокий, в рыжем, замаранном кровью фартуке. — Говори... повторяй за мной: "Я индюк красные сопли".
Мамочка подошел ближе и с ужасом увидел, что в ящике, скорчившись, в неудобном положении сидит маленький белобрысый паренек в изодранной белой рубахе и в сбитом на сторону красном галстуке. В этом пацане Мамочка без труда узнал одного из тех, кто приходил в Шкиду брать над нами шефство.
— А ну повторяй! — наседали на мальчика рыночники. — Повторяй, тебе говорят: "Я индюк — красные сопли... отрекаюсь..."
— Отпустите меня! Я же опаздываю! — сдерживая слезы, из последних сил просил мальчик.
— Отрекайся, паскуда, хуже будет! А ну!..
И грязная метла снова полезла в лицо мальчику.
Мамочка не мог больше спокойно смотреть.
— Вы что делаете, гады?! — закричал он, кидаясь к мясникам.
Торговцы оглянулись и вытаращили глаза.
— А это еще что за козявка?
— Вы что, я говорю, измываетесь над парнем? Думаете, большие, так можно?!
— Ах ты лягуха безглазая! — зарычал детина в фартуке. — Ты что, тоже в ящик захотел? А ну давай лезь за компанию!
И он протянул свою толстую волосатую руку, чтобы схватить Мамочку за шиворот. Но Мамочка был не из таких. Он успел больно укусить мясника за руку, отскочил в сторону, развернулся и изо всех сил лягнул своего противника босой пяткой в живот.
Дальнейшего, как говорится, Мамочка не запомнил.
Три дюжих мясника-ярославца избили его так, что на нем живого места не осталось. В больницу Мамочку привезли почти без пульса. И в течение суток врачи не знали, выживет он или нет.
Никаких документов при Мамочке не нашли. Только на третий день агент угрозыска, изучая Мамочкину одежду, обнаружил в кармане ярко-желтых штанов зеленый бархатный берет, а в подкладке этого берета — сложенное в восемь раз удостоверение, из коего следовало, что Федоров Константин, 13 лет, воспитанник петроградской Школы социально-индивидуального воспитания им. Ф.М.Достоевского, направляется в домашний отпуск до 9 часов утра 14 августа 1922 года.
* * *
Спасибо докторам и сиделкам Александровской городской больницы. Они выходили Мамочку, спасли его жизнь.
Признаться, я совсем не помню, как и когда Мамочка вернулся в Шкиду. Кажется, после больницы он несколько недель провел дома, у брата. Не помню я также, что сделали с мясниками. Знаю, что их судили и осудили. Но как и на сколько — врать не хочу, не запомнил. Сказать по правде, нам тогда было не до этого: Юнком переживал смутные времена, начались раздоры в центральном комитете, и история с Мамочкой как-то сама собой отошла на задний план.
Но вот что мне хорошо запомнилось.
Славный сентябрьский денек. В классе четвертого отделения идет урок древней истории. Поскрипывая своими старыми, порыжелыми сапожками, Викниксор расхаживает по классу и с упоением повествует о немеркнущих подвигах спартанских воинов. Среди нас находится и Мамочка. Он сидит на своем обычном месте, на "Камчатке". Место это Мамочка упорно обороняет уже не первый год. Сколько ни уговаривают его халдеи пересесть поближе, он отказывается, уверяет, что на задней парте ему лучше видно. Но что ему лучше видно, об этом он, конечно, умалчивает. Все дело в том, что Мамочка — заядлый картежник...
День солнечный, мягкий. За раскрытыми окнами позванивают трамваи, громыхают тяжелые качки ломовиков, цокают копыта, с противоположного тротуара доносятся выкрики торговок семечками... Для нас все эти шумы сливаются в один однообразный рокот.
Но вот в эту скучную музыку улицы врывается что-то новое. Постойте, да это же, кажется, гром гремит! Нет, это не гром, это стучит барабан. Да, да, барабанная дробь. Она все ближе, ближе, она уже совсем близко, и вот, перекрывая барабан, на всю улицу, на весь город запел пионерский горн.
Нам уже не сиделось и не слушалось. С мольбой мы уставились на Викниксора:
— Виктор Николаевич, можно?
Викниксор походил по классу, потрогал мочку уха, похмурился, пожевал губами.
— Можно, — сказал он.
Мы бросились к окнам, облепили как мухи подоконники.
По улице от Обводного канала в сторону Калинкина моста шли пионеры. Это был тот же, знакомый нам отряд с завода "Красная Бавария", но теперь пионеров стало гораздо больше.
Барабан выстукивал четкую дробь, ребята по-солдатски отбивали шаг, пел, заливался серебряный горн, и пламенно, огненно горело над головами юных пионеров вишневое полотнище знамени.
На этот раз мы лежали совсем тихо.
А пионеры поравнялись с нашими окнами, и вдруг их долговязый вожатый забежал немножко вперед, повернулся лицом к отряду и взмахнул рукой. Барабан и горн одновременно смолкли, и все пионеры — а их было уже человек сто разом повернули головы в нашу сторону и, не сбивая шага, три раза подряд громко и дружно прокричали:
— Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра!!
Ошеломленные, мы застыли на своих подоконниках.
И тут Янкель оглянулся и сказал:
— Мамочка, дитя мое, а ведь ты знаешь — эти овации относятся к твоей особе.
Мамочка удивился, покраснел, вытянул шею и вдруг узнал в барабанщике, который все еще держал палочки поднятыми над барабаном, того самого белобрысого паренька с Покровского рынка. Не знаю, что почувствовал в эту минуту Мамочка. Но он понял, вероятно, что от него ждут какого-то отклика. И, покраснев еще гуще, он свесился вниз и крикнул своим писклявым, хриплым, не окрепшим после болезни голосом:
— Эй ты, голоногий, бубен потеряешь!..
После кое-кто уверял, что Мамочка дурак. Нет, дураком он, пожалуй, не был. Просто он был настоящий шкидец, не умел нежничать и не нашел никакого другого способа выразить свои чувства.
1961
ПРИМЕЧАНИЯ
ШКИДСКИЕ РАССКАЗЫ
В своей первой книге Л.Пантелеев не исчерпал запаса впечатлений, полученных за время пребывания в школе имени Достоевского.
ЗЕЛЕНЫЕ БЕРЕТЫ
События, описанные в рассказе, относят читателя к жизни Шкиды. Первая публикация: "Костер", 1962, № 1; затем в сб.: "Писатели — пионерам". М., Детгиз, 1962.
Г.Антонова, Е.Путилова
Павел Ольховский, Константин Евстафьев Последняя гимназия
ПРЕДИСЛОВИЕ
Со школой им. Достоевского (сокращенно ШКИД) мы познакомились по нашумевшему роману воспитанников этой школы Л. Пантелеева и Г. Белых.
Выходцы той же "Республики ШКИД" П. Ольховский и К. Евстафьев задумали продолжить жизнеописание школы, доведенное в "Республике ШКИД" только до 1923 года.
Таким образом "Последняя гимназия" является фактически продолжением романа Л. Пантелеева и Г. Белых.
Авторы "Последней гимназии" подошли значительно серьезней к теме. Если в романе тов. Пантелеева и Белых школа выглядит этаким "домом шалунов", правда трудновоспитуемых, но все же местом, где маленькие беспризорники безусловно превращаются в конце-то концов в полезных членов общества, то "Последняя гимназия" несравненно суровее разделывается со школой.
Роман т.т. Ольховского и Евстафьева явно задуман как разоблачительный документ. Роман беспощадно разбивает то несколько идиллическое впечатление, которое остается от книги "Республика ШКИД".
Таким образом, если первый роман о школе им. Достоевского грешил излишним затушевыванием подлинной действительности, то второй роман, наоборот, характерен подчеркнутым сгущением красок.
Т.т. Ольховский и Евстафьев несколько недооценили факта создания в Республике Советов в период голода и разрухи школы, рассчитанной на перевоспитание беспризорников.
Без средств, без педагогических кадров было затеяно труднейшее предприятие по переделке искалеченной природы одичавших беспризорников. Понятно, что тут было великое множество ошибок и основная та, что школа слишком уж походила на старую классическую гимназию.
Излишний упор авторов на личность заведующего школой может оставить впечатление, что тяжкий путь школы объясняется индивидуальными особенностями ее руководителя, тогда как причины эти более общие и более важные.
Если авторы "Республики ШКИД" в теплых тонах нарисовали образ Викниксора (так прозвала Шкида своего заведующего), то авторы "Последней гимназии" превратили его в упрямого, грубоватого человека, не умеющего ладить со своими буйным воспитанниками.
Разлад между Викниксором и школой объясняется и первую очередь тем, что педагогический опыт, полученный в буржуазной школе, давал злейшую осечку при применении к новому социальному материалу.
Большая ценность романа "Последняя гимназия" в том и состоит, что тут с большой рельефностью показан разрыв между буржуазной педагогической системой и новой социальной средой.
Педагогическое руководство делало все для превращения советской школы в чисто гуманитарный институт. Но институты, так любовно воспетые Чарской, не могли строиться на людском материале питерских беспризорников.
Дикая орда испорченных улицей ребят могла быть превращена в разумный коллектив только системой трудового воспитания. Но этого и не было в ШКИДе, где ребят заставляли по десять часов в сутки зубрить иностранные языки и упорно налегать на литературу.
Руководство школы неуклонно тормозило самодеятельность, срывало попытки ребят построить самоуправление и тем мешало выработке коллективистических навыков. Недаром заведующий школой, взамен созданного ребятами юнкома, советовал наподобие английских школ создать организацию только лучших учеников — тутеров. На этом примере ясно видно, как опыт буржуазной школы механически переносился в совершенно иную социальную среду.
Авторы "Последней гимназии" совершенно правы, когда указывают, что ШКИД это отнюдь не единичное, случайное явление. Таким тяжелым ухабистым путем развивались наши школы дефективных детей. Проблема перевоспитания беспризорников отнюдь еще не решена, и тем большее значение приобретает изучение психики трудновоспитуемого ребенка. "Последняя гимназия" дает для этого богатейшую галерею интереснейших типов.
Авторы склонны несправедливо отрицать то положительное, что дала школа им. Достоевского, несмотря на все свои огромнейшие недостатки. Т.т. Ольховский и Евстафьев не учитывают хотя бы тот разительный факт, что именно из этой школы вышли авторы двух чрезвычайно интересных литературных произведений.
Анатолий Горелов.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
После зимы, как известно, бывает весна и лето… Зимой и весной в школах занимаются, а летом ничего не делают.
Эту немудрую истину особенно твердо помнили в Шкиде (так сокращенно назывался детдом для дефективных: "Школа имени Достоевского" — Шкид), помнили не только одни воспитанники — шкидцы, но и воспитатели — "халдеи": программы летней школы загонялись в самые темные углы шкафов, об экскурсиях говорилось все туманней и туманней, хотя, впрочем, ребята и не пылали особенной охотой путешествовать.
В мае месяце халдеи начинали понемногу "смываться" и "сматываться", т.е. попросту говоря, уходить в отпуск, а шкидцы начинали "вертеть вола" или "трепаться", т.е. попросту говоря, ничего не делать.
Так начиналось лето.
В 1923 году все шло, как было заведено и положено по закону, но к августу тихое и беспорядочное благополучие все-таки нарушилось…
Половина воспитателей в это время была в отпуску; заведующий школой Виктор Николаевич (сокращенный предприимчивыми ребятами в Викниксора) уехал в Москву на сельскохозяйственную выставку, а шкидцы, наотдыхавшись за июнь и июль, принялись развлекаться.
Развлечения вначале были мирны и невинны. Носились ночами, закупавшись в одеяла, по школе, пугали и сбивали с ног халдеев, утраивали кошачьи концерты, плевали с самым добродушным видом из окон на прохожих или, наконец, крали из учительской "Летопись" — толстейшую книгу, куда записывались все проступки воспитанников, — и тащили ее жечь.
Но однажды в Шкиде исчезли все электрические лампочки. А на другой день из спальни пропало несколько пар сапог. Еще через день оказалась взломанной и обворованной кладовая. Потом с соседнего, закрытого в войну завода огнетушителей, пришел с милицией сторож разыскивать срезанные ночью провода и свинцовые трубы…
Шкидцы знали, что это работают со своими сламщиками — подручными из малышей — четверо старших ребят, приобретших впоследствии грозную кличку "особенных".
Эта четверка — Цыган, Бык, Гужбан и Бессовестин — сошлась между собой случайно, и общего у них ничего не было.
Цыган и Бессовестин — четвероклассники, умные и способные ребята, дельные ученики, впрочем, уже в возрасте и начинавшие скучать.
Гужбан, первый в Шкиде после Купца силач, высокий широкоплечий детина из третьего отделения, с узким лбом, заросшим черными жесткими волосами, с толстыми вывороченными губами и узловатыми по-обезьянне длинными лапами, всем обличьем похожий на ломовика, прехитрое и предобродушнейшее существо — недавно был прислан из пересыльной тюрьмы. Хотя на вид ему было лет восемнадцать, документы представил он на пятнадцатилетнего. Разница в три года, куда входили кражи, тюрьма, приводы — давала возможность спасаться как несовершеннолетнему от суда и заключения… В Шкиде Гужбан науками не интересовался, занимался через силу и больше думал насчет того, что плохо лежит…
Бык, тоже третьеклассник, ничем особенным, кроме силы, не отличался.
Эта четверка, после отъезда Викниксора в Москву, воспользовавшись временным беспорядком и замешательством, поворовывала. Сперва работали порознь, потом группой, потом со своими сламщиками. Работали не по-шкидски — широко, обделывали дела, которые подстать были и профессиональным скокарям. Этот "промысел" так захватил школу, что, пожалуй, половина всех шкидцев начала заниматься им…
Дошло до того, что даже Кося Финкельштейн, лирический поэт Кося, и тот увлекся этим прибыльным делом…
Однажды ночью, трясясь от страха и судорожно лязгая зубами, он перелез забор, вынеся в своих огромных поэтических штанах до полпуда скобленого свинца с завода огнетушителей.
2
В середине августа из санатории приехали шкидцы — четвероклассники: Иошка и Гришка Белых. Немного раньше вернулся oт родных Ленька Еремеев, куда он был на месяц сослан Викниксором после того, как, разыгравшись, переколотил однажды в прачечной стекла… Вся компания, которую делили еще Воробей и грузин Дзе, была между собой дружна, мнениями расходилась не очень и в первый же вечер собралась у Сашки в школьном музее (которым этот шкидец заведовал) и там, между прочим, зашел разговор о воровстве и о бузе…
Больше всех говорил Иошка. Остальные ребята отнеслись к школьным событиям довольно равнодушно, потому что и сами бузили, а Ленька в свое время даже организовал "таинственный орден летучих мышей" (задачи "ордена": закутавшись в одеяла, ордами носиться по школе, сбивая всех и вся с ног)…
Ленька с Воробьем, хваставшиеся вчерашней бузой, сначала сконфузились, когда Иошка сказал, что со всем происходящим сейчас в школе надо бороться, потом обозлились и начали с ним препираться. Однако сейчас же все объяснилось. Иошка привел несколько примеров, когда не только воруют, но и "наводят" на кражи, занимаясь скупкой вещей и выдачей денег под будущие удачи.
Летом того же года, среди шкидцев появился новый воспитанник — Вознесенский.
Новичок (про которого рассказывали, что он сын знаменитой балерины) прежде учился в балетной школе и был оттуда исключен за воровство.
Был он высоким шестнадцатилетним юношей, очень стройным, легким на ходу, с красивым девичьим лицом и длинными, слегка вьющимися волосами… В четвертом классе, куда его посадили, он держался скромно и незаметно, но через несколько дней сдружился и сблизился со многими из младших шкидцев. Потом поползли слухи, что он занимается скупкой краденого, "наводит" и сам ходит на "дела" и снабжает своих подручных деньгами "под сдачу". Потом стали обращать на себя внимание некоторые ненормальности и подозрительно-странные отношения с младшими ребятами. Впрочем, все было замаскировано, и о скупке краденого и обо всем прочем знали только по слухам. И выходило, что дела у Вознесенского во всех областях идут крупно и успешно.
На другой день после разговора в музее Дзе подошел вечером к Вознесенскому, заговорил с ним и за разговором как бы невзначай подвел его к дверям. Он неожиданно втолкнул своего собеседника в комнату и защелкнул за собой дверь.
В музее за длинным столом сидели Иошка, Гришка и Воробей. Сбоку Сашка приготовлял для протокола бумагу. Дзе и Ленька стояли возле Вознесенского…
– Тебя сейчас будет судить тайный трибунал, — сказали они и подтолкнули его к столу.
Иошка задавал вопрос, Сашка записывал.
Вознесенский спросил, в чем его обвиняют. Иошка начал перечислять, но при словах "развращение младших" обвиняемый подскочил и дал ему хлесткую пощечину. Тогда Дзе наотмашь ударил Вознесенского по лицу. Сашка вскочил из-за стола и замахал руками. Началась свалка.
Ночью приехал из Москвы вызванный тревожным письмом Викниксор. Днем было общее собрание, где он громил воров (на что, впрочем, "особенные" небрежно заметили: "пугает"), а вечером вызвал к себе в кабинет весь "тайный трибунал".
3
Викниксор кричал, что не потерпит у себя в школе никаких самосудов, и при этом тряс письмом, которое ему оставил Вознесенский, убежавший утром из Шкиды.
Когда Викниксор, накричавшись, замолчал, Иошка объяснил, что они хотели этими судами очистить школу от всей накопившейся за лето дряни. И хотели делать это, исключительно желая помочь выправить школу (вообще-то Иошка говорил долго, много, горячо и путано, но такова была основная его мысль).
Викниксор слушал удивленно. Потом обрадовался, захлопотал, усадил ребят и, забыв о Вознесенском, принялся обсуждать с ними планы общешкольной воспитательной работы. Проговорив до полночи, решили организовать кружок — ячейку школьного строительства под названием "Юный Коммунар", которое сейчас же сократили в "Юнком", а себя решили называть "юнкомцами".
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Иошка с Гришкой сидят в музее, переименованном теперь в клуб, на подоконнике и разговаривают…
Иошка — маленький человечек, босой и без пояса, одетый в донельзя затрепанные, обвисшие, черные штаны и в еще более затрепанную бывшую когда-то серой рубаху, которая сидит на нем теперь вроде капота на швабре. Рубаха расстегнута в вороте, откуда торчит худенькая шея, на которой покачивается маленькая головенка с тоненькими, растрепанными волосиками. Лицо у Иошки бледное, испитое, с большими черными глазами и с красным, как у пьяницы, крошечным пуговичным носиком. Говорит Иошка не по росту и виду зычно и смело, очень часто и много смеется, растягивая свой большой синеватый рот с неровными словно лошадиными зубами.
Гришка, его собеседник, лучший в Шкиде художник, имеющий, кроме имени, еще разнообразные клички в роде "Янкеля", "Подлого", "Тартюфа", слушает внимательно, изобразив на своем худощавом и подвижном лице неопределенную хитрую улыбку. Фигура у него подвижная и гибкая. Впрочем, сейчас, в шкидской коломянковой рубашке и штанах из чертовой кожи, он выглядит неуклюжим и горбатым.
– Юнкому есть где развернуться, — говорит Иошка, размахивая руками. — Мы должны работать, как работает комсомольская ячейка… И по программе и по тактике… Что раз наметили, от того уж не отступать, а вести до конца. Как вот: борьба с воровством и за школьное строительство… Конечно, умело только надо, особенно вначале…
– Правильно, — осторожно соглашается Гришка.
В глубине комнаты суетится, снимая со стен диаграммы и убирая со стола журналы, чтобы очистить помещение для клуба, заведующий музеем Сашка.
У нескладного Сашки широкое добродушное лицо и маленькие припухшие глазки. За последние месяцы он очень вытянулся и сейчас стыдится своего роста, постоянно стараясь спрятать длинные, с широкими ладонями руки, торчащие из коротких рукавов рубахи.
Еще только семь часов утра, но Шкида уже просыпается. Наверху в спальнях звенит звонок; слышно, как топают и возятся ребята; слышно, как в умывалке начинает гудеть пущенная из кранов вода; слышно, как в столовой гремят кружками и готовятся к чаю. Потом на несколько минут все затихает, и наконец снова слышится звонок: сейчас всем надо собраться в спальнях, построиться парами и идти и столовую.
После чая в музее собирается весь Юнком. Ребята заняты серьезной работой: Гришка вместе с Ленькой готовят газету, Дзе и Воробей пишут большой плакат "В новую жизнь через новую школу", Сашка протоколит вчерашнее "организационное" собрание, а Иошка сочиняет манифест.
– "Не запираться в отчужденную от масс секту… Юнкомцы должны быть впереди школы…" Правильно? — спрашивает он…
– Правильно.
– "Цель Юнкома состоит в содействии школьному строительству и активному участию в нем"… Правильно?
– Правильно!
– "Первоочередной своей задачей ячейка ставит искоренение воровства, хулиганства, картежничества и других проявлений и привычек преступного мира".
– Сегодня ночью опять трое засыпались, — перебивает его Ленька. — Слыхал? Фановые свинцовые трубы срезали. А в кладовой замок сбили.
– По этому случаю я напишу заметку, — прибавляет Гришка, не отрываясь от газеты, где он сейчас старательно разрисовывает заголовок. — А кому-нибудь надо нацарапать статью о кухонном старосте. Совсем зарвался, стерва! Видали, какие пайки хлеба он утром раздавал? С гулькин нос.
Иошка, торопливо закончив манифест, принимается за статью о кухонном старосте.
Когда весь материал будет готов, его отдадут Гришке, чтобы вписал в газету. И надо будет убирать музей под клуб.
Так незаметно прошел весь день. Ребята почти не вылезали из музея, появившись только за обедом и ужином. К вечеру главная работа была кончена. Шкидцы осмотрели готовую газету с манифестом и сообщением об организации Юнкома, вывешенную в столовой, и отправились гулять… В музее остался один Дзе, решивший не терять лишнего времени и принявшийся разрисовывать доску для объявлений.
2
Когда ребята вернулись в Шкиду и позвонили, двери им открыл сам Курочка, кухонный староста. Он хмуро оглядел их и, пропустив в темный и грязный шкидский коридор, запирая дверь, хмуро забубнил:
– Так-с… Здрасте, наше вам! Граблю, значит!…
Наверху в зале закричали:
– Ищейки пришли!
Ребята переглянулись.
– Это они про вас, — осклабился вдогонку староста: — про ячейку вашу, про Юнком…
На стене в столовой газеты уже не было, только грязные и оплеванные клочья ее валялись раскиданными по полу, а на том месте, где она висела, тянулась разухабистая карандашная надпись: "Бей ищеек"…
Ребята уже не смотрели друг на друга и пошли быстрее. Иошка толкнулся в музей. Двери были заперты.
Открывай! — крикнул Иошка. — Кто там? Чего заперлись?
– Не кричи! — ответил, открывая изнутри, Дзе. — Зачем кричишь?… Посиди на моем месте — и не так замкнешься…
Дзе рассказал, как после их ухода минут через двадцать в столовой зашумели (музей находился рядом со столовой, через комнату). Там собралась толпа, слышен был Курочкин крик:
– Свои же ребята по накатке пошли!
Орал Гужбан:
– Надо бить ищеек!
Потом рвали газету. Потом ломились в музей.
Дзе притаился, и шкидцы, решив, что там никого нет, разошлись.
Ребята молча прослушали этот рассказ. Того, что произошло здесь недавно, они никак не могли предполагать и теперь с крайним смущением переминались и переглядывались…
Неожиданно зазвонил звонок, вдалеке затопотали. — Пить чай!…
Юнкомцы беспомощно оглянулись на дверь. Сейчас надо было идти в столовую, показываться перед всеми и вообще что-нибудь делать.
Иошка молча прошелся по комнате и, повернувшись к ребятам, сказал:
– Надо собрание устроить… Постановили сегодня утром. Помните?
– Помним, — тоскливо отозвался Гришка. — Что ж из этого?
– Устроим это собрание открытым, позовем, на него всех желающих и поговорим об Юнкоме. Надо привлекать и остальных шкидцев.
Снова закричали "пить чай", но теперь уже близко, почти у самых дверей.
– Идем, — забеспокоился Сашка. — Идем, братцы, а то подумают, что мы прячемся.
В столовой — мрачной полутемной комнате с низким потолком, с длинными, расставленными четырехугольником столами, с портретами Маркса и Достоевского и с огромным плакатом-подсолнухом, эмблемой школы на стенах, — уже собрались все шкидцы. За столами было шумно и весело, но при появлении в дверях юнкомцев все вдруг стихло, потом раздался свист, топот.
Ищейки!… Накатчики!…
Ребята молча прошли на свои места и сели. Иошка остановился посреди столовой и поднял руку.
Столовая замолчала.
– После чая в музее состоится собрание, — бодро и
громко сказал Иошка. — Юнком приглашает всех желающих, которые хотят…
– Долой!
И — свист… топот…
Видно, как шевелятся Иошкины губы, но слов за шумом не слышно. Махнув рукой, он идет на свое место.
– Суки! — шепчет Ленька.
На собрание в музей никто не пришел. Ряд заранее приготовленных скамеек так и остался пустовать, и прежнее чувство страха, чувство неизвестности, беспокойство, сомнения — опять овладели юнкомцами. Они сидели не зажигая света и ко всему прислушиваясь. И когда по звонку надо было отправляться спать, никто не тронулся.
– Нас наверное отволохают в спальне, — предположил Дзе.
– Пускай попробуют, — крикнул Гришка. — И сами огребут не меньше, — крикнул надорванно, несмело и сам себе не поверил.
Но маленький воинственный Воробей взмахнул вытащенной откуда-то железной палкой от кровати.
– Я проломлю голову первому, кто сунется ко мне.
Иошка улыбнулся.
– Что ж… Вооружимся и мы, ребята…
В спальне, против ожидания, ничего не произошло. Вся шестерка имела достаточно внушительный вид, а начавшему приставать Бобру Воробей погрозил палкой…
Так прошел первый день существования Юнкома, первый день шкидской общественной организации.
3
Ионин, Ионин!…
Кричали с улицы.
Под окнами, задрав кверху голову, стоял человек с очень тоненькими ножками, которые на манер зубочисток, воткнутых в рыжие ботфорты, торчали из под долгополого пальто.
Он выпячивал шею и пискливым голосом взывал: — Ионин… Ионин!…
Через подоконник во втором этаже перевесилась лохматая Ленькина голова. Секунду он глядел вниз на человека, потом нырнул обратно.
– Иошка! Там тебя Богородица зовет.
– Слышу, — ответил Иошка…
Богородица был прежде воспитателем в Шкиде, и когда узнал, что через несколько недель его сократят, принялся собирать обличительный материал против Викниксора… А материал был: Иошка, одно время сильно недовольный, всячески поощрял Богородицу, обещал подписи, факты, показания.
Но Богородицу сократили раньше срока и теперь, в жажде отмщения, он стоял под окнами:
– Ионин!… Ионин!…
Иошка тоскливо оглядел ребят, как и вчера, с утра собравшихся в музей.
– За материалом пришел…
– Не давай, — всполошился Сашка. — Не надо, что ты… Ты же юнкомец!
Окошко тихонько прикрыли… Но Богородица оказался настойчивым, прошел в Шкиду, и несколько минут спустя в двери музея послышался осторожный стук.
В комнату просунулось испитое и вытянутое лицо уставного халдея.
– Можно? Здравствуйте, дорогие товарищи! Дело мое на мази-с, — заговорил Богородица, словно соблазняя и торопливо оглядываясь: — ему будет дан верный ход… Да-с… Верный ход… Я у прокурора был… В Губоно был… У следователя был… Все-с… все одобряют… Очередь, можно сказать, за вами… Документики-с… Фактики… подписи… Заявление у меня, кстати, приготовлено-с… Вам подписать, только подписать… Помните, обещали.
Иошка заулыбался, закивал с каким-то испуганным выражением.
– Как же, как же… Мы помним… Покажете заявление?
– Пожалуйста! — Богородица вынул из-за пазухи несколько больших листов бумаги и протянул их Иошке…
– Ого, да тут целое сочинение…
Богородица довольно хихикнул и потер руки.
– Все-с… Все описано в точности; и не подкопаешься.
Иошка держал в руках заявление, и испуг на его лице обозначился еще больше. Ему было совестно за себя, стыдно за Богородицу, за ребят, за всех, кто когда-то поощрял этого халдея на донос. Нужно было бы теперь сразу высказать ему свое нежелание, отшить его, но момент был упущен, заявление Иошка держал в руках и уже готов был подписать его, чтобы избавиться от кляузника…
Надо было решаться.
Иошка подумал и протянул заявление Леньке.
– Отнеси это.
Лицо Богородицы дрогнуло.
– Не беспокойтесь. Он снесет его подписать Косе Финкельштейну, тот наверху, — и чуть слышно, одними губами, что заметил только Ленька, Иошка добавил: — Викниксору…
О приходе Богородицы в Шкиду раньше всех узнали "особенные".
Они всегда вертелись на кухне и возле нее, и первые увидели входящего халдея. Они имели все основания радоваться успеху богородицыного дела. Ведь с приездом Викниксора исчезла почти всякая возможность заниматься по-прежнему воровством, промыслом, который давал независимость и деньги. А всякое вмешательство было бы для них полезно.
Впрочем, так рассуждал только один Цыган, самый умный и дальновидный из всех "особенных". Остальные просто злорадствовали и радовались, что Викниксору, их заклятому врагу и мучителю, придется плохо…
– Молодец Богородица, — говорили они. — Даром, что халдей, а сообразил… Здорово придумал.
Гужбан, колотя себя в грудь, убежденно прорицал:
– Теперь Вите гибель. Амба!… Вите теперь не жить, верьте слову, братишки.
Братишки верили. Всем почему-то представлялось, что "это" должно произойти сейчас, здесь, у этих дверей; здесь посрамится Викниксор, здесь выйдет Богородица, и здесь они увидят все, увидят редкое представление, увидят чудо…
И увидели.
Неожиданно у музея появился Викниксор.
Он распахнул дверь, взглянул на Богородицу и потом сказал:
– Вон!… Сию же минуту вон отсюда!
Викниксор стоял в дверях, заняв полпрохода и вытянув вперед руку.
У отставного халдея была лишь одна мысль: выскочить как можно быстрее в дверь, ставшую такой узенькой, — выскочить, чтобы эта вытянутая рука не опустилась ему на голову.
– Во-он! — затопал Викниксор, и Богородица стремительно вылетел из музея.
Он бежал не оглядываясь, путаясь ногами в пальто, промелькнул мимо "особенных" и скрылся.
А сзади, тяжело ступая, шел Викниксор, и летели клочья разрываемого им "доноса".
Юнкомцы хохотали до слез, смотря из дверей музея, как гонят по коридору халдея и выпроваживают на улицу. Но смех стал стихать; на лицах ребят появилось недоумение, потом испуг, страх, и дверь захлопнулась…
К музею шли "особенные". Их возмутило не то, что юнкомцы обманули Богородицу, — тот был халдей, и по отношению к нему, следовательно, все допустимо, — но ведь теперь он пришел как сообщник, как мститель, и его обманули, с головой выдав Викниксору. Теперь этот мститель гремит, выкатываясь по лестнице…
"Особенные" не выдержали; неприязнь к "ищейкам", "выскочкам", "подлизам", "накатчикам" и "лягавым" превратилась в ненависть.
– Открывайте, мать вашу, — закричал Гужбан, и дверь вздрогнула под его кулаками.
За дверями засуетились, задвигались, забегали. Гришка нетвердым голосом спросил:
– Ч-что тебе надо?
– Открывайте, суки!… Разговоры разговаривают… Ну?
– Не надо открывать, — взвизгнул Иошка.
Дверь загремела от посыпавшихся на нее ударов.
– Да что тебе надо, Гужа? — умоляюще прокричал Сашка.
– Разбить кой-кому харю.
– Кому?
– А тем сволочам, кто на Богородицу накатил.
– Н-не надо открывать! — разом крикнули и Иошка и Ленька. — Заприте дверь…
– Открывайте, паскуды! Хуже будет.
В музее не отвечали. Там торопливо возводили у дверей баррикаду, воздвигали огромную кучу, куда валили столы, стулья, скамейки. Валили витрины, тумбы, доски, валили ящики, экспонаты, книги, — а дверь грохотала, трещала, — за ней собралась толпа, пробовали вышибить кулаками, плечами, наваливались кучей, потом выволокли из класса парту, оттащили и с размаха хватили по дверям.
Дверь рухнула…
– Бей гадов!
– Ищейки!
– Бей!
Иошке досталось первому. Гужбан знал в кого метить, а кулак его был тяжел и грузен. Сашка отпрыгнул в сторону, но в него вцепился Бык, и они, колотя друг друга, визжа и царапаясь, покатились по пыльному полу. Воробей отбивался в углу, размахивая своей железной палкой.
Но уже от канцелярии, сверху, снизу, из классов, коридоров бежали любопытные.
Стоявший на стреме Козел свистнул, потом крикнул: "зекс", потом побежал в музей.
– Халдеи!…
Нападавшие разбежались.
Все случилось быстро и стремительно, и от момента когда упала дверь, не прошло и полминуты. Иошка поднялся с пола. Поднялся Сашка. У обоих были разбиты лица: у Иошки распухла и кровавилась губа. У Сашки стояли волосы, и синяком подмигивал глаз.
– Здорово! — выдавил из себя Сашка.
– Здорово! — согласился Иошка и сплюнул. На полу появилось кровавое пятнышко и что-то щелкнуло.
– Зуб.
Музей был разгромлен. Вся мебель лежала у порога, одним концом на нее упала сверху дверь, и кучами лежали разбросанные бумаги.
– Надо убрать, — глухо сказал Иошка и, сморщившись, схватился за губу. — И закрыть дверь… — И потом поговорить…
– Зачем потом? — удивился Дзе. — Сейчас говорить надо… Устраивай заседание.
У Иошки нестерпимо заныла губа, но он нашел силы сострить:
– Так как же заседать, братцы, когда сидеть не на чем?…
– Посидеть? — отозвался от порога Воробей, пробовавший закрыть полусбитые двери. — Пожалуйте! Сейчас устроим, — и начал оттаскивать из баррикады скамейку.- Садись.
Юнкомцы покорно сели на подставленную скамью. Воробей, после яростной обороны в углу, чувствовал себя героем и поэтому, взяв почин, заговорил:
– Молчите?… Хорошо?… Тогда я скажу… И скажу вот что: стукнули нам немножко, а уже из нас цыца поперла.
– Хороша цыца! — огрызнулся Сашка. — Вся школа бить поднялась! Цыца-а!
– А вы, дорогой Саша, закажите себе очки да получше, какие-нибудь с вентилятором… Вся школа!… Скажет тоже… Кто бил, видел?… Особенные — раз… сламщики — два!… Все… человек десять… А он — вся школа!…
– Ну и что из этого?
– Да ничего… Не вся школа…
– Стойте граждане, — вмешался оправившийся Иошка! — Помните, что мы вчера в манифесте написали: "Не запираться в отчужденную от масс секту. Юнкомы должны быть впереди школы". Помните!
– Помним… Как же!… — усмехнулся Гришка.
– Вот заперлись — нас и отколотили…
Ребята рассмеялись.
– Факт, — воодушевился Иошка. — Оттого и колотили. Сидим мы взаперти, будущая ячейка комсомола, и никто про нас ни черта не знает. А "особенные" и распускают разные слухи и агитируют против…
– Так что же делать? Созывать опять собрание, да?
– Да!
– Попробовали… Вчера… Много пришло?
– Не важно, — отмахнулся Иошка. — Надо так устроить, чтобы пришли… Да что тут разговаривать? Здесь дело ясное: ребят в Шкиде много, в комсомол хотят и комсомольскую ячейку поддержат. А они про нас ничего не знают. Пойдем к ним, поговорим, подготовим их — и префартовое получится собраньице… Факт!
– Факт, — согласился Воробей, — это верно… Наскребем в Юнком членов…
– Наагитируем, — строго поправил Сашка…
Агитировать пришлось осторожно и по одиночке. На счастье, "особенные" куда-то из Шкиды ушли, и юнкомцы получили возможность смело ходить по зданию. Не удалась разъяснительная кампания только Сашке: подбитый его глаз подмигивал так лукаво, что первый же шкидец, которого он остановил, вырвался и поскорее куда-то убежал.
Перед вечерним чаем устроили в музее собрание… Правда, громких о нем объявлений не было, но, тем не менее, ни одна скамейка не осталась пустовать. Пришло пятнадцать человек, что вместе со старыми юнкомцами составило почти треть всех шкидцев. Тут же окончательно оформили организацию, переименовали ее в коллектив и выбрали Центральный комитет, куда вошли Иошка, Сашка, Гришка и Ленька.
Собрание кончилось, когда в столовую собирались остальные шкидцы. Учредители Юнкома появились после всех, появились спокойно и довольно улыбаясь. Курочка, разжалованный из старост, ждал их выхода, и теперь, приставив к губам ладони, закричал:
– Ишейки пришли!
Рядом сидел Будок — новый комсомолец. Будок ударил Курочку по губам. Тот вскрикнул и кувыркнулся под стол. На голову ему вылили чай, и бывший староста взвился обратно. Столовая хохотала.
"Особенных" в этот вечер в столовой не было… Накануне у них вышло одно "дело", а сегодня они, обеспокоенные приездом Викниксора и Юнкомом, решили поскорее продать "фарт" и втихомолку кутнуть. Кутили весь вечер где-то на Обводном, пили, ночь провели, вытрезвляясь, в милиции, а когда утром вернулись в Шкиду, их уже поджидал Викниксор.
4
Будь они маленькими шкетами, он (Викниксор) изругал бы их, отхлестал по щекам и потом посадил в изолятор: и они лучше согласились бы теперь перенести эти пощечины, чем его жестокую и холодную речь.
– Мне все известно, — сказал он, — не отпирайтесь… Я хотел дать вам возможность доучиться — вы пошли воровать. Я предостерегал вас — вы сказали — "пугает"… С меня довольно. Ни одного часа вы не останетесь больше в школе. Мне воров и хулиганов не надо. В Лавру! [Лавра — распределитель, нечто вроде детской пересыльной тюрьмы. Теперь закрыта.]
И ушел… У Бессовестина, розовенького, кудрявого
паренька, задергались губы, и он отвернулся к стене. Остальные молчали. Отправление в Лавру пришло для них совсем неожиданно. Куда девалось Цыганово бахвальство, когда он говорил: "Наплевать!… В Лавру — так в Лавру!" Теперь он молчал, понимая, что их снова отбрасывают на то дно, откуда они с таким трудом поднимались. А им уже было по шестнадцати и семнадцати лет, они вышли из того возраста, когда можно еще вернуться в детдом. Все поняли, что это конец…
Их привели в узенькую светлую учительскую. За огромным столом сидел Сашкец, маленький, похожий на армянина халдей, уже выправлявший их препроводительные документы.
Он покачивал головой и бормотал: "Ах, гуси, гуси лапчатые, что наделали!"
"Особенные" даже теперь еще не осознали толком, что произошло с ними недавно. После буйного вечера и ночи, проведенной в загаженной камере, пахнущей испражнениями и креозотом, после бессонного валяния по липким и жестким нарам, после душной и сырой темноты им хотелось просто покоя: свалиться, заснуть, захрапеть.
Гужбан только — как показалось — на минутку закрыл глаза, и ему сразу же представилась полутемная камера… У решетки пьяный машет ручкою и плачет: "Мопра… спаси!…" А сзади кто-то краснорожий, с запухшим лицом хрипло спрашивает: "За что вкапался, парнишка?…" Голос звучит очень близко, над самой головой, похожий на голос Сашкеца…
– Подождите, ребятки; может, и не пошлют вас в Лавру. За вас юнкомцы хлопочут!…
Гужбан открыл глаза и зашептал:
– Только бы остаться… Только бы остаться…
– Что ты?
– Так…
– Пошли, что ли, — сказал Сашкец.
Ребята поднялись и двинулись за воспитателем.
Путь до музея показался новым и страшным, словно они шли к экзамену, который во что бы то ни стало надо выдержать и который решал судьбу. В дверях Цыган, шедший первым, остановился и перешагнул порог только когда его подтолкнули.
Думалось, что в музее собралась вся Шкида. И "особенные" поглядели на ряды ребят так, как будто хотели увидеть и своих — сламщиков. Но тех не было. Сидели все, которых "особенные" недавно называли "сознательными". У конца стола, против двери, стоял Иошка с почерневшей, запекшейся губой, которая особенно бросилась им в глаза, особенно Гужбану, как и Сашкин подмигивающий глаз.
Иошка стоял и спокойно глядел на вошедших. Рядом с ним сидел Викниксор, крепко опираясь локтями на ручки кресел. Бык, Цыган и Бессовестин стояли неподвижно, не решаясь выйти на середину комнаты. Сзади за спинами их неслышно шептал Гужбан:
– Только бы остаться… Только бы остаться… Только бы остаться…
А Викниксор не торопился начинать; он рассматривал свои руки, узкие, слегка пожелтевшие на кончиках пальцев, с ровно подстриженными розовыми ногтями, с обручальным кольцом на безымянном пальце.
– Мое решение неизменно, — медленно, словно с трудом отделяя слова, заговорил он. — Вы должны уйти из школы и уйдете. Вопрос только — куда?… Ваши поступки дают мне право отослать вас в Лавру. Но по ходатайству ваших товарищей я оставляю вас на две недели в школе. Вы используете это время для занятий, а я приложу все усилия, чтобы устроить вас в другие учебные заведения… Понятно?!
Цыган подумал, что надо бы хоть улыбнуться, но только задергал губой и выдавил:
– Спасибо!
– Не за что… У вас еще есть что-нибудь? - обратился заведующий к Иошке. Тот отрицательно мотнул головой. — В таком случае мне прибавить больше нечего.
– Кто желает еще говорить? — спросил Иошка. — Никто? Общее собрание членов Юнкома считаю закрытым.
Гужбан подошел к Иошке и, глядя и сторону, сказал, сдерживая свой бас:
– Ты… этого… ты прости меня… я тебя стукнул…
Иошка покраснел от удовольствия и махнул рукой.
– Стоит вспоминать…
А Сашка подмигнул им своим подбитым глазом.
Так прошли второй и третий день существования Юнкома, второй и третий день первой шкидской общественной организации. Но и четвертый и пятый и другие дни уже не нарушили начатой работы, не принесли никаких изменений, разве что в музее открылся клуб, и "особенные" через две недели уехали в Стрельну, куда выдержали экзамен в сельскохозяйственный техникум.
Воровство понемногу прекратилось, и за эти две недели пропало всего полпуда масла и два одеяла. По шкидски — сущие пустяки.
А в Шкиде появились новые халдеи, и начался учебный год.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Он пришел, как и все халдеи, внезапно: фигурой был коренаст, подстрижен в скобку, одет в зеленый полу-тулупчик, из тех, что носят кондуктора; так уже и хотели прозвать его Кондуктором, но насмешила фамилия, произнесенная выразительным свистом:
– С-селезнев.
Это было во время вечерних уроков, после обеда. Селезнев, отрекомендовавшись, прошелся, заложив в карманы руки, по классу, кашлянул и, став напротив Горбушки, гардеробного старосты и заики, спросил:
– Ну-с?… Что проходите?
Горбушка взметнулся с парты и, полный услужливой готовности, залепетал:
– Э… э… э… к… к… к…
– Коммунизм, что ли? — хотел допытаться Селезнев. Коммунизм, да?
Староста замотал головой.
– Эт-тот, как его… г… г… гг.
– Гуманизьм, — поднялся Голый Барин. — Гуммунизьм проходили…
– Гуманизьм, — обрадовался халдей. — А ты знаешь, что такое гуманизьм?
– Нет,- чистосердечно сознался Голый: — не знаю А что?
– Гуманизьм, это есть студия гуманорум…
До этого в классе мало кто обращал внимание на нового халдея, — шумели, разговаривали, — но теперь сразу притихли. Купец, который всегда читал на уроках, изумился внезапной тишине и, оторвавшись от книги, пнул в бок Адмирала.
– Что тихо?… Витя?…
– Не-е… Стюдия…
– Стюдия? — изумился Купец. — Ну?
– Ей-богу. Селезнев говорит.
– То есть как так студия? — спросил Иошка, явно издеваясь. — Почему вдруг студия?… И отчего студия?… — Непонятно!
Но Селезнев рылся торопливо в своем брезентовом портфельчике и потом выволок на свет трепаный учебник новой истории Иванова, где на одной из страниц в примечании говорилось, что слово гуманизм происходит от латинского "студия гуманорум".
– Паскудство, а не учебник, — покачал головой Иошка. — Что у вас другого не было, что ли?
– Тише, — остановил Селезнев. — Про гуманизьм это я вам между прочим… Я у вас буду преподавать главным образом политграмоту.
– Все едино, — согласились шкидцы. — Шпарьте политграмоту.
– Ну вот, — удовлетворенно вздохнул Селезнев. — Приготовьте тетрадки. Запишите. "Советская власть есть власть рабочих и крестьян…"
– Знаем, — ответили с парт.
– Тише… Написали?… пишите дальше: "Ленин есть вождь трудящегося пролетариата".
– Интересно, — подхватил Сашка. — Что это за "трудящийся пролетариат"?
Иошка же рассердился:
– Не буду я вам это писать.
– То есть как так?
– Да так!
А кто-то с задней парты, одержимый мрачным весельем, добавил:
– Корова пасху съела, тебе велела!
И здесь произошло нечто странное и необъяснимое с новым халдеем. Он затрясся, из розового превратился в красного и поросячьим голосом закричал:
– В-выйди вон!
Ребята так и шарахнулись на партах.
– Эпилептик, что ли? — с испугу предположил Иошка.
Халдей, не останавливаясь, кричал, поляскивая зубами.
– Да ладно, ладно… Успокойтесь…
– Выйди во-он!
Ребята топтались вокруг него, и, размахивая руками и перекрикивая друг друга, пытались втолковать ему, остановить его:
– Да замолчите! В чем дело, скажите нам?
Но халдей кричал.
– Да что мы вам сделали! Да хватит вам! Да будет!… Да замолчи ты, черт тебя побери!!!
Халдей кричал.
– Да кому выйти-то? — в отчаянии вцепился в него Адмирал.
Рев прекратился. Все стояли посреди класса, и только один Купец продолжал сидеть на своем месте.
Селезнев указал на Купца.
– Ты выйди.
Купец апатично поднял голову.
– Я выйди?… А этого не хотел? — и его самых оглушительных размеров кулак протянулся к носу Селезневa. Халдей открыл рот, но ребята кинулись к Купцу и поволокли его с парты.
– Скорей… Уходи к черту!… Уходи, Купа… Смотри, опять пасть разевает.
Купец, выругавшись, ушел. Селезнев успокоился.
– "Интернационал есть международное объединение рабочих всех стран".
Ребята молчали.
Однако не все шкидцы оказались такими слабонервными, как четвероклассники. У кипчаков. У кипчаков Селезнев, прокричавшись до хрипоты, в изнеможении свалился в стул, а младшие, проведав о странностях нового халдея, встретили его дружным воплем:
– Выйди вон!
Так утвердился Селезнев в Шкиде…
2
Для Гришки и Леньки дисциплина коллектива оказалась тягостной. Им скоро наскучило работать в юнкоме. Ленька уже успел провороваться. Гришка бузил и занимался производством порнографических открыток. Книги, пожертвованные ими в читальню, они взяли обратно, чтоб загнать на рынке. На лекциях хулиганили, подсмеиваясь, курили, не обращая внимания на постановления общих собрании, а когда им делали замечания, покрикивали:
– Ну, ну, молчи!… Не твое дело учить членов Цека…
Наконец у "членов Цека" потребовали объяснений. Гришка и Ленька дать их отказались. Состоялось собрание, и они ушли из организации.
Ушли озлобленные, с желанием отомстить.
На завтра на стене в столовой уже висела вновь родившаяся газетка "День", где Ленькиным фельетоном "Коллектив матерых матерщиков" против Юнкома открывалась кампания… Наряду с этим Гришка склонил Леньку вступить в его предприятие, носившее громкое название "Шкидкино", где предполагался "прокат порнографических туманных картин собственного производства…". Предприятие оказалось выгодным. Друзья бойко заторговали, но зато много шкидцев уже через несколько дней были кругом в долгу у ловких предпринимателей…
А Юнком медленно переживал кризис. Вначале казалось, что уход двух шкидцев, учредителей коллектива, развалит всю организацию, — на это и били ушедшие, об этом злорадно писал "День".
Но Юнком оправился, пополнился новыми членами; вместо громоздкого и медлительного "Ц. К." учредили президиум из троих человек: Иошки, Дзе и Сашки. А оправившись, — обрушился на врагов.
Первым своим постановлением обновленный коллектив прикрыл "Шкидкино", лавочку похабщины, которая окончательно превратилась теперь в гнездо вымогательства и ростовщичества.
Оставшиеся без доходов редактора, доведенные этим до бешенства, с новой силой ударили по Юнкому…
Коллектив решился и здесь. Многим, правда, было жалко расправляться с бывшими товарищами, но — так было нужно…
И в газете "Юнком" появилось обращение президиума:
"Юнкомы! Пора знать и действовать объединенно! Нельзя молчать в то время, когда твой коллектив изо дня в день систематически обливают помоями! Осколок нашего коллектива, пара саботажников, срывавших работу и с позором изгнанных, теперь осмеливаются оплевывать ту организацию, откуда их выставили. В своей газете они открыли травлю против Юнкома, организуя вокруг себя всю шипящую на коллектив сволочь, всех врагов дисциплины и общественности, всех, срывающих нашу работу.
"Довольно молчать Пусть вся школа знает, что это за птицы…
Бесшабашный срыв лекций, ломанье стульев, курение в клубе и постепенное превращение его в хлев и ночлежный дом — вот краткий перечень "развлечений" этих господ. Когда шли лекции, они кричали, возились, в читальне из стульев и плакатов устраивали крепости, которые тут же брались штурмом. Если их просили успокоиться, Еремеев кричал: "Выйди вон! Я — член Цека и помощник заведующего клубом". В дни основания Юнкома было постановлено устроить читальню, и Белых и Еремеев рьяно принялись за ее организацию, но в один прекрасный день коллектив нашел свои шкафы пустыми, потому что книги были разворованы и проданы этими шкидцами на рынке. На стене висели "правила пользования клубом", а в самом клубе школа могла наблюдать бой на книгах и игру на биллиарде развеселившихся членов Цека…
"Теперь они клянутся в своей газетке перебить всех Юнкомов и называют их подлецами и накатчиками. Помнится, когда в первые дни Юнкома Еремеев прекращал азартные игры, Белых не называл его подлецом и накатчиком. Но теперь они оба, объединившись, затянули эту мрачную песню после того, как получили по рукам.
Довольно!… Мы — коллектив школьного строительства, и не позволим срывать нашу работу подвывалам из "Дня"… Зарубите это себе где угодно, г.г. Белых и Еремеев… Революция не терпит предателей и сметает с дороги всех, кто ей мешает. Запомните это покрепче.
Президиум коллектива Юнком".
Экстренный выпуск "Дня" смог опять ответить на это обращение только бранью и обещанием переколотить всем морды. Но даже и этому никто в Шкиде уже не верил, и "День" кончился так же внезапно, как и начался. Его редактора, в конец скомпрометированные, без друзей, без доверия, без надежд, махнули на все рукой, мечтая только собрать денег и уехать на юг, на кинофабрику к Перестиани.
В ноябре, вскоре после этой склоки, с бывшими юнкомцами случилось еще одно и последнее несчастие: они засыпались с казенными американскими одеялами.
Это было темное дело, и никто не мог поручиться, Ленька ли с Гришкой тиснули одеяла, или у них украли. Викниксор не стал разбираться в подробностях и, будучи скор на расправу, вышиб обоих приятелей.
В другое время их уход был бы событием, но сейчас он прошел незаметно. Правда, на прощанье старым шкидцам стало грустно, но к вечеру уже все забылось и смешалось. Да и не было времени грустить, надо было работать, надо было готовиться к очередному учету.
Из кризиса Юнком вышел необычайно окрепшим и сильным. Бои с врагом сделали его уверенным и настойчивым. Ему уже тесно становилось в рамках внутришкольной организации и поэтому, когда заговорили об учете, коллектив решил выступить тоже.
Учеты бывали два-три раза в год. Шкиде они заменяли и экзамены, и выпуски, и акты, словом все, что может быть торжественного в учебе. Обычно устраивалась грандиозная выставка, перед гостями демонстрировали знания и достижения ребят, выступали ученики и педагоги, и отчитывалось школьное самоуправление…
На этом учете три четверти всего времени было посвящено Юнкому, настолько заполнил он собою шкидную жизнь. Были прочитаны доклады, устав, демонстрировались диаграммы, плакаты и наконец здесь, на учете, произвели выпуск политшколы коллектива, занимавшейся под руководством Иошки.
Гостей ошеломил этот фейерверк достижений, и никто не был удивлен, когда инспектор в ответной, посвященной юнкомцам, речи сказал:
– Если до сих пор мы воздерживались от организации у вас ячейки РКСМ, то теперь вы достойны ее… Вы заслужили право называться комсомольцами, и верьте нам, мы приложим все усилия, чтобы у вас был не коллектив "Юнком", а коллектив Коммунистического союза молодежи".
Этого Викниксор не ожидал…
3
Вечером после учета юнкомы отправились в общество Старый Петербург на лекцию… Впереди, размахивая руками, стремился Дзе с Воробьем и Голым, за ним Иошка и Сашка.
Шли по Садовой. Желтки фонарей плавали, отражаясь на мокрых панелях, по желобам струилась вода и порывистый осенний ветер бросал в лицо дождевые капли.
Но никто не обращал внимания па непогоду, все шли вперед, громко разговаривали, счастливые, полные радостных надежд. В общество Старый Петербург юнкомцы начали похаживать еще с лета. Летом Шкида изучала город; устраивали экскурсии, посещали дворцы и музеи. Во время этой работы и перезнакомились шкидцы с руководителями общества.
Старопетербуржцам пришлось по душе пылкое увлечение ребят прошлым, они стали звать их на свои доклады и лекции, и шкидцы зачастили. Им определенно нравился Петроград, а романтика прошлого, окутывавшая город, делала его еще более таинственным и привлекательным. Иошка, Кося и другие писали стихи о "камнем скованной Неве", о белых ночах, о тумане, в рассказах действовали таинственные рукописи, клады, сказания и описывался мрачный и великолепный город царей, город Петра и Медного Всадника — четвертый Рим.
Но рядом с этим с тем же увлечением подбирался и исследовался научный материал, который потом соединялся в сборники и доклады.
И здесь сказалась вся система шкидского образования. О том, что Петроград — индустриальный центр, город революции и строящегося социализма — даже не поминалось. Все изучение строилось только на внешнем обозрении города и любовании его красотами.
Понятно, что вскоре у шкидцев надо всем поднялось увлечение архитектурой. Началось оно собственно от Сашки. Этот шкидец любил архитектуру, ему доставляло удовольствие рассматривать красивый дом, он знал все стили, формы и приемы архитектуры и всегда безошибочно и точно определял их.
Это сделалось модой.
Ни один шкидец не мог пройти мимо более или менее заметного дома, чтобы не задрать голову не начать рассуждать о его стиле…
Сегодня юнкомы очень торопились: должен был читать сам Столпянский, и опоздать было бы преступно.
С Садовой они свернули на Вознесенский, но проезжавший мимо грузовик заставил их остановиться и подняться на панель.
На углу под фонарем пивной мальчик в рваной куртке продавал искусственные цветы. Огромный букет неестественной раскраски, яркий и пестрый, словно фантастический кочан, раскачивался в его руках.
– Стойте, — вдруг крикнул Иошка. — Стойте, ребята. Да ведь это Ленька. Честное слово, он… Ленька.
В оборванном скуластом шкете — продавце искусственных цветов — узнали старого шкидца.
– Здорово!
– Здравствуйте, — Ленька смущенно улыбался. Он похудел, почернел, выглядел устало и беспокойно, ребятам стало немножко жаль его.
– Торгуешь? — спросил Сашка.
– Да… Делать пока больше нечего.
– Гришка как?
– Он с газетами бегает… На остановке…
– А как же кинофабрика?… Помните, ехать собирались.
Ленька ничего не ответил. Ребята потоптались, помолчали, было неловко и не о чем говорить.
– Торгуешь, значит?
— Да.
– Так…
В пивной распахнулась дверь — к панели подкатил пролетка, и мужчина стал подсаживать в нее свою спутницу.
– Прощайте, ребята, — метнулся к извозчику Ленька, — надо торговать. Всего хорошего!…
– Всего! — ответили шкидцы.
Часы показывали без четверти восемь, надо было торопиться в Общество на лекцию.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
В школу имени Достоевского.
При сем Институт морально-индивидуально — социального воспитания проф. Подольского препровождает Евграфова Константина 13 лет.
Основание:
Подпись.
Костя Евграфов, худенький и сутулый парнишка, по кличке Химик-Механик, стоял в учительской Шкиды, терпеливо ожидая заведующего. Бумажку свою он отдал Сашкецу. Второй воспитатель, тоже черный, только помоложе и повыше, с прыщиком на носу, строго приказал:
– Сними шапку.
Химик торопливо стащил черный матерчатый треух, из-под которого показалась на свет большая лохматая голова с широкими оттопыренными ушами; вздернутый красный нос новичка обиженно и громко шмыгнул.
– Чуть не каждый день присылают нам таких сопляков, — раздраженно говорил высокий воспитатель. — Я прямо не знаю, что мы с ними будем делать.
– Что-нибудь сделаем, — скромно ответил Сашкец. — Куда же им деваться, малышам?…
– Да где же в школе этому огрызку, — высокий ткнул пальцем в сторону Химика, — выдержать в день десять уроков? Он же сразу обалдеет… Школа на отборных ребят рассчитана, на способных учеников, а не на остолопов.
– Надо приспосабливаться, Кирилл Иванович… Раньше Виктор Николаевич сам ребят по распределителям отбирал, а теперь всех их без отбора шлют, коллега…
– Порядочки, — злобно фыркнул высокий. — Через эти порядочки я поэтику не могу проходить дальше, у меня во втором классе по две ошибки в слове делают, а вы — порядочки.
– Ну что же делать, Кирилл Иванович, не гнать же их на улицу? Приспосабливаться нам с вами, выходит, надо, а не по-старому учить. Раньше у нас, говорю, отборный ученик был, таланты в некотором роде, а теперь середнячок идет, их и учить по-другому надо.
– Раньше драли их, чертей, так они и учились, — заметил дворник, укладывавший в печку дрова. — А то нынче разве наука? Баловство одно. Вы хошь бы их ремеслу учили, — сапоги шить…
– Что ты, Степан! — всполошился и взволновался Сашкец. — Это в приютах раньше одному ремеслу вместо наук учили, сапожников выпускали… И, конечно, правильно ты говоришь, что и били при этом.
– Бьют и нынче, — проворчал дворник: — а насчет наук, то раньше хоть по крайней мере сапожниками делали, а теперь у вас одни босяки выходят, беспризорники…
– Нет, то есть, как это нынче бьют? — придирчиво ввязался высокий воспитатель, ярко пылая своим багровым прыщиком. — Значит и теперь бьют, да? Значит, и у нас бьют, да? Значит, и мы бьем, да?
Про новенького все забыли.
Химик стоял, опустив глаза, с тупым и мрачным выражением, которое всегда бывало у него при встречах и разговорах с воспитателями.
Но ни одна подробность разговора не была упущена им. Он чутко прислушивался и все-таки никак не мог понять, что представляет собою Шкида.
– Это вам не старый режим! — кричал, пылая прыщиком, высокий воспитатель (дворник ожесточенно молчал). Это при старом режиме тиранствовали над воспитанниками, унижали и запугивали их, да-с… А нынче обращение всюду гуманное и человеческое, потому что воспитанники в некотором роде наши младшие товарищи, да-с…
Вдруг он замолчал. Дворник поднялся с полу и снял шапку.
В дверь вошел высокий пожилой человек, одетый в серый пиджак и синие кавалерийские рейтузы. У него было тяжелое худощавое лицо, маленькие глаза, блестящие за очками в роговой оправе, стриженные ежиком волосы и широкие, похожие на лопухи уши.
– Новенький?
– Да, Виктор Николаевич, — разом заговорили оба воспитателя. — Только что прислали, от профессора Подольского.
Виктор Николаевич взял из рук Сашкеца бумажку, быстро проглядел ее и уставился на Химика.
– Ты у меня смотри, каналья! — крикнул вдруг, багровея, заведующий. — Я, брат, не потерплю!… Я с тобой живо расправлюсь!
Викниксор подбоченился и топнул ногой (дворник расплылся в улыбке).
– Я тебя, голубчика насквозь вижу!… Ты так и знай, что воровства и хулиганства я не потерплю! Стой смирно! Выпрямься!… Вынь руки из кармана!… Ты у меня здесь по-другому заговоришь… Что?… Что ты там бормочешь?
– Я ничего… — потерявшись, прошептал Химик. Он никак не мог догадаться о причине гнева заведующего, зная за собой только одну вину: украденные у торговки по дороге в Шкиду две пачки папирос.
"Но как он узнал?" думал Химик.
– То-то, ничего. Если не нравится, можешь убираться на все четыре стороны. Я воров и хулиганов не держу!… — Викниксор закашлялся и приказал:
– Уведите!…
– А вы обратили внимание, Виктор Николаевич, — спросил в учительской Сашкец, — что новичок — инвалид?
– Нет, не заметил.
– У него нет левой руки.
Не успел Химик осмотреться в гардеробной, как воспитатель заторопил его, и они отправились в класс.
По первоначалу урок промелькнул быстро. Природовед — тусклое, обсыпанное пылью существо в пенсне и черной студенческой тужурке — громким и вялым голосом объяснял про хитиновый покров. Что такое хитиновый покров, — новичок, понять не успел, потому что урок кончился.
В перемену Химика окружили шкидцы и стали рассматривать. Кто-то спросил фамилию — Химик ответил. Он удивлялся, что к нему не пристают и не задирают. Потом сосед его по парте, маленький и пухленький шкидец, по прозвищу Мышка, стал рассказывав про Шкиду. Прозвали этого шкидца Мышкой за маленький рост, круглость и внешнюю тихость.
Тихостью в Шкиде называлось умение тихо и незаметно делать "дела", что весьма успешно он проделывал с викниксоровской мамашей.
Эта подслеповатая, еле двигающаяся старушка, прозванная шкидцами Совой, готовила обычно на общей кухне. Всегда околачивавшийся там, имевший пристрастие к еде, Мышка, когда видел, что готовится что-нибудь по его вкусу, тихонько исчезал из кухни и, притаившись в темной прихожей около викниксоровской квартиры, терпеливо поджидал Сову.
– Витенька, — входила к Викниксору старушка, — сядь, покушай котлетку! — и протягивала перед собой подносик.
Протягивала и не замечала своими уставшими жить глазами, что на подносике, кроме пустой тарелки, ничего больше не было, а Мышка в другом темном углу уже хрустел заботливо поджаренной котлеткой.
Ел осторожно, откусывая по маленькому кусочку — совсем по-мышиному…
Воспитателей Мышка величал халдеями, заведующего Викниксором, природоведа Амебой, а высокого воспитателя Кирилла Ивановича знал попросту Кирой.
Со следующего урока начались Химиковы мучения. Каждый преподаватель вызывал его к доске и заставлял отвечать. Химик поспешно вылезал из-за парты, выходил вперед, но молчал. Глаза были опущены вниз, и лицо принимало привычное выражение — мрачное и тупое.
Худшие ожидания новичка оправдывались: в Шкиде действительно учились много. До обеда он вытерпел четыре урока, а на седьмом (третьем после обеда) его начало мутить.
– Ну что, кончились? — спросил он у соседа, когда прозвенел звонок и ребята начали вытаскивать шапки.
– Ум-гу… Два часа до ужина гулять можно…
– А потом?
– Потом — ужин.
– Не-е… После ужина что?
– Уроки опять. До чая… — И Мышка, напялив шапку-треух, убежал, а Химик медленно поплелся в зал.
Ребят в школе уже не было. Кто ушел на двор, кто на улицу, кто на дальнюю прогулку. И в этой гулкой тишине пустынного здания новичок почувствовал себя уютнее.
Он два раза съехал по перилам, покатался на подметках по свеже-натертому паркету и пошел осматривать Шкиду.
Наверху ничего интересного не было, — детдом как детдом, только почище и поопрятнее, чем в институте у Подольского. Тянулись одной линией классы; умывалка, музей, спальни, гардероб.
Внизу тоже все, что полагается в детдомах; кухня, спальня мочевиков, учительская, столовая. За столовой — класс четвертого отделения и дальше еще комната с вывеской: "Коллектив Юнком. Клуб"…
Химик вернулся назад и стал на площадке.
Сбоку была какая-то дверь, за этой дверью еще дверь и коридор. Коридор освещало маленькое оконце. Оконце освещало двери маленького чуланчика, запертого висячим замком.
Химик быстро оглянулся и прислушался. Потом ловко и умело сбил замок и юркнул в чуланчик. Обшарить его было делом одной минуты, но там ничего, кроме старых войлоков, не оказалось.
"Запирают еще", подумал Химик, пряча за пазуху замок и осторожно выходя на лестницу.
Химик опять поднялся наверх и остановился в дверях пустого зала. Массивные ручки литой бронзы, изображавшие геральдических львов, заинтересовали его. Он осторожно погладил холодный металл. Подергав ручки в стороны, он посмотрел винты и быстро пошел к себе в класс. В классе новичок запрятал сбитый замок в угол своей парты, из парты достал отвертку и опять двинулся в зал.
Но там уже были шкидцы. Двое ребят медленно ходили по кругу и разговаривали. Один, волосатый, на длинных кривых ногах и в долгополом пальто, упрямо и без выражения убеждал своего соседа, которого звал Иошкой, что Пушкин — реакционный писатель. В доказательство долгополый блеющим голосом декламировал:
Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы
И на пирах разгульной дружбы
И в сладких таинствах любви.
Иошка звал своего соседа то Косей, то Козей, то Козьей Ножкой, нервно размахивал худыми руками и, брызжа слюной, доказывал, что Пушкин революционер.
В доказательство он читал:
О, юный праведник, избранник роковой,
О, Занд, твой век угас на плахе,
Но добродетели святой
Остался глас в казненном прахе.
В своей Германии ты вечной тенью стал,
Грозя бедой преступной силе,
И на торжественной могиле
Горит без подписи кинжал.
– 3адрыги, — забормотал Химик. — Не могли у себя в классе наговориться. Только с дела сбивают…
А Иошка с Косей ходили и спорили. Кося блеял как коза. Иошкин нос покраснел и походил на пуговку.
Но вот, наконец, парочка решительно направилась в коридор. Химик обрадовано вздохнул и сжал в кармине отвертку. В это время из других дверей выскочили в носках еще двое ребят — высокий черноглазый грузни и маленький, похожий на воробья паренек: они быстро разостлали коврик, поставили рейки и начали с разбега прыгать через веревку.
"Придется ночью ручки вывертывать!" — недовольно подумал Химик и, простояв еще немного, медленно возвратился в класс.
2
Короткий осенний день кончился. По классам зажглись лампы. Шел десятый урок, и в Шкиде было тихо.
Химик сидел за своей партой и тихонько, стараясь не привлекать внимания халдея, разбирал и рассматривал замок. Вообще на учителя сейчас мало обращали внимания. Кто незаметно рисовал, кто читал под партой книгу, кто просто дремал.
После чая Химик снова начал слоняться по школе. Он заметил, что очень много ребят идет в четвертое отделение и пошел за ними. Оказалось, что все шли дальше, в дверь под вывеской "Коллектив Юнком. Клуб".
Это была небольшая продолговатая комната в два окна, вся завешанная по стенам красными плакатами, рисунками и зеленью. Через комнату тянулся длинный, под зеленым сукном, стол, вокруг которого сидели и читали газеты шкидцы… Вдоль стен стояли столики. На них играли в шахматы, шашки и "тихие игры". Половину стены против окна занимал шкаф, полный книг, а на другой половине висел плакатик с надписью: "Президиум". Под плакатом находился письменный стол, в беспорядке обставленный стульями и заваленный бумагами и делами.
Здесь Химик увидел Викниксора.
Викниксор разговаривал со стриженным круглолицым шкидцем лет пятнадцати. Вспомнив утреннюю встречу, Химик беспомощно замигал и стал отходить обратно. Но круглолицый парнишка уже заметил новичка и, оставив Викниксора, подошел к двери.
– Не бойся, — сказал он Химику. — Входи, не опасайся. Тут все свои люди.
Химик потоптался па месте, исподлобья оглядывая шкидца. Потом кивнул на Викниксора.
– А вон… живоглот.
– Кто-о!…
– Живоглот, — шмыгнул носом Химик. — Викииксор ваш…
Шкидец поднял брови…
– Почему Живоглот и почему наш? — спросил он. — Ты ведь новенький, тебе от него попало, да? Ты чего-нибудь наделал уже!…
– Ничего я у вас не наделал, — обиженно зашмыгал носом Химик. — Я только утром пришел к вам, а он в учительской и давай на меня кричать… и ногами топал…
– Опять, — покачал головой шкидец. — Опять за старое принимается… Это у него привычка такая — новичкам бани устраивать. На испуг берет. Придется опять вопрос на президиуме поставить. Одернуть надо…
– Кого?!
– Да Викниксора! О ком же мы говорим?…
Химик выпучил на шкидца глаза и целую минуту не мог пошевелиться.
И когда шкидец пошел опять к столу президиума, Химик поплелся следом, забыв даже пошмыгать носом, до того он был огорошен.
Шкидца знали Сашкой. У стола его окружило несколько человек, начавших говорить о делах. Химик, чтобы не мешать, уселся рядом, прислушиваясь и оглядываясь.
Викниксор теперь разговаривал на другой стороне комнаты с Иошкой. В клубе на заведующего не обращали внимания, очевидно, считая его обычным посетителем. Но Химик всякий раз вздрагивал, когда острый за очками взгляд Викниксора останавливался на нем. Химик вздрагивал и отводил глаза на Сашку.
И вид спокойного сытенького шкидца, суетливо рассуждавшего о дисциплине, старостах, стенгазете, успокаивал его, хотя новичок по-прежнему все-таки ничего не понимал в окружавшем.
Удивляло его, например, что книги и игры ребята брали и ставили в шкаф обратно сами, а Сашка даже не обращал на это внимания.
Невольно вспоминал Химик институт Подольского, где, правда, клуба не было, но зато по четвергам устраивался "клубный день". Воспитательница Анна Петровна приносила в класс старые затрепанные игры "Вверх — вниз" и "Тише едешь — дальше будешь". Игры давались под расписку, с угрозами и предостережениями. Но все-таки всякий раз ребята что-нибудь воровали или портили. Анна Петровна поднимала крик, приходил сам профессор, и ребят наказывали. "Тут наверно игры у них свои собственные! — думал Химик. — Ну факт, что собственные… Не может быть, чтобы казенные… Только зачем они их потом прячут?"
Пришел высокий черноглазый грузин, тот, что прыгал в зале через веревку, и сразу закричал:
– Ну, братва, Иошка, Сашка давай заседать, что ли! Мне некогда.
Иошка оставил Викниксора, а Сашка, засуетившись, нагнулся к Химику.
– Вот что, — заговорил он: — у нас сейчас заседание президиума будет, а ты иди пока поиграй… Хочешь играть?…
– Хочу… Только… — запнулся Химик: — только у меня игр нет, и не умею.
– У нас игры казенные. А играть научишься… Будюк! — крикнул Сашка, обращаясь к костлявому рыжему шкидцу: — вот, возьми-ка новичка, займись с ним!
Будюк повел Химика к маленькому столику у стены и усадил его напротив себя. Кубышка — низенький и толстенький, с еле заметными монгольскими усиками шкидец, — сел как судья.
Игра была интересная. Двигались по квадратам миноноски, крейсера, дредноуты; взрывались мины, торпеды, подводные лодки. Два флота стояли против друг друга и сражались.
– Конец! — важно провозгласил Кубышка. — Будок победил.
– Д-да, — Химик огорченно шмыгнул носом. — Надо бы мне было тогда его крейсер топить, а я за дредноутом погнался.
– Стану я дредноуты тебе зря подставлять, — снисходительно процедил Будок. — Тут, брат, техника. Пока ты за дредноутом гонялся, моя подлодка твой тыл разгромила.
К игравшим подошел Сашка — заседание президиума кончилось, и ребята разошлись.
– Ну как? — спросил он позевывая. — Обыграли новичка?
– Нет, — возмутился Химики даже покраснел, — я сам ошибку сделал… Понимаешь, мне надо было его крейсер топить, а я дредноут захотел. Понимаешь?
– Нет, брат, не понимаю. Я не играю в игры.
– Жалко… Ты знаешь, обязательно эту игру выучи! Префартовая, ей-богу. Хочешь, выучу?
– Нет, уж потом как-нибудь. Играйте сами.
Когда прозвонили "спать" и шкидцы один за другим ушли в спальни, Химик все еще сидел за столом и рассматривал картинки в "Науке и технике". Сашка окликнул Химика и, потушив свет, они оба отправились наверх. Сашка остался в большой спальне, Химик прошел дальше в боковую первого отделения.
Ручек он ночью не отвинчивал.
3
Уроки следующего дня показались Химику менее тяжелыми. Ему выдали две тетрадки, карандаш, вставочку и велели учиться. Карандаш и тетрадку Химик сразу же обменял на шило, а вставочку за ненадобностью выкинул. Потом опять разбирал и свинчивал замок, а когда дневные занятия кончились снова пошел в зал.
За день Химик немного узнал ребят, но сойтись с ними не пытался. Он подождал, пока все разойдутся, покатался в зале по скользкому паркету, проехал два раза по перилам. Но скоро ему это наскучило, почему-то потянуло видеть Сашку.
В классе четвертого отделения было тихо. На учительском столике двое ребят играли в шахматы. На задних партах сидело еще трое: в самом углу здоровый детина, подпирая огромными кулаками голову, сосредоточенно читал толстую растрепанную книгу. На следующей парте сидел вчерашний высокий грузин и тоже читал; при этом он посвистывал и вертел между пальцами ножик; на третьей парте ближе к свету сидел Сашка и что-то переписывал в тетрадь.
– А-а, здорово!… — приветствовал он Химика. — Ну, садись, говори, рассказывай, как дела.
– Ничего дела, — ответил Химик и, оглянувшись, вынул из кармана пачку папирос, протянув ее Сашке. — Закуривай.
– Спасибо, — поблагодарил Сашка, беря две папиросы. — Вот сейчас допишу и пойдем в уборную…
Новичок махнул рукой.
– Кури, не бойся… Воспитателей нет.
– Дело, видишь ли, не в воспитателях, — спокойно, продолжая писать, отметил шкидец. — Вообще у нас в шкиде курить не запрещают, а только в уборных велят.
– Ну? удивился Химик, неужели не запрещают? А я-то, дурак, курю вчера в уборной и чуть шум — тарочку и карман: все штаны поспалил… У нас в институте кого увидят с папироской без обеда оставляют.
– А я слышал наоборот: там сами халдеи у вас на папиросы хлеб выменивают.
– Есть и такие… Пупок, например, воспитатель один, всегда домой по полпуда хлеба уносил. Хороший воспитатель!
– Ну это как сказать, — усмехнулся шкидец. — Такое барахло прямо с приплатой отдавать надо.
– А кто это? — тихонько спросил Химик. — Вон тот, что с Кубышкой играет, густоволосый?
– Володька… Голый Барин.
– Голый Барин… Почему Голый?
– А черт его знает, прозвали так. А тебя почему Химиком звать?
– Так… Механикой я очень интересуюсь, вообще техникой… меня и зовут все — Химик-Механик.
– Ага… Химик-Механик… Понятно. Да, между прочим, Дзе! — крикнул Сашка грузину на соседней парте: — Вот тот новичок, о котором вчера на президиуме толковали. Видишь, — опять обратился он к Химику, — президиум поручил Иошке поговорить сегодня с Викниксором, чтобы он эти свои приемчики отменил.
Здоровый детина в углу в это время оглушительно чихнул, потом поковырял в носу и перевернул страницу.
– Ничего себе стреляет, — хихикнул Химик. — Кто это?
– Купец.
– Настоящий купец?
– Ну нет, брат, подымай выше, — барон. Только вид у него действительно как у купца какого.
– А это кто? — указал на Дзе Химик.
– А это еще чином выше: князь грузинский, Джапаридзе. Ты с ним, пожалуйста, не ссорься, а то он тебя ножом зарежет!
При последних слонах Дзе самодовольно улыбнулся и еще быстрее завертел ножичком.
Парта, за которой сидел Сашка, напоминала книжный склад и мусорную кучу. Лежали старые газеты, тетрадки, валялись открытые и закрытые книги, цветистые толстые журналы высовываясь торчали из ящика.
– Химик осторожно наклонился и, отогнув страничку, заглянул внутрь.
– Бери, бери, вытаскивай, — поощрительно крикнул Сашка. — Вообще, бери и читай, что хочешь. Только обратно приноси. Это все казенные.
4
Химик каждый день ходил в клуб и постепенно привык к тому, что Сашка с ним все время разговаривает, расспрашивает и старается занять чем-нибудь интересным.
Но раз случилось, что шкидец почти не обратил внимания на новичка, а, суетливо потирая руки, крикнул: "Сейчас будет доклад", и убежал.
Таким невниманием своего нового друга Химик остался недоволен. Потом подумал, что доклад наверно штука хлопотливая и занятная, и стал дожидаться начала.
Особенных приготовлений в клубе не было, только ребят пришло больше, чем обычно, да еще — когда все места оказались занятыми — притащили из столовой две скамейки. Потом опять прибежал Сашка, внимательно осмотрелся и снова исчез.
Химик между тем пробился в первые ряды и спросил соседа:
– О чем доклад, не знаешь?
– О международном положении, — скороговоркой ответил тот. — Вон и объявление висит, прочти. Но в это время опять открылась дверь, и Сашка ввел за руку смущенного шкидца с красным веснушчатым лицом. Они оба прошли к маленькому столику, приготовленному заранее, и Сашка, суетливо высморкавшись, объявил:
– К порядку… Сейчас товарищ Федоров, ученик второго класса, сделает обзор международных событий. Прошу сидеть спокойно и приготавливать вопросы. После доклада будет собеседование. Ну, Федорка, начинай.
Сашка отошел и сел сбоку, а докладчик Федорка, зардевшись еще больше, несмело подошел к столику и начал разворачивать тетрадки.
– Товарищи, — решившись, наконец начал он. — Тот момент, когда мы… и когда вы, т. е. буржуазия… когда эти, как их, ну…
– Международные акулы, — со свистом прошептал Сашка…
– Международные акулы идут и наступают на эту, как ее, ну…
– Мозоль?…
Публика задвигалась и начала шуметь… Химику стало очень весело; он толкнул в бок соседа и захихикал. Докладчик, растерявшись, замолчал.
– Тихо, — обернувшись к Химику и каким-то новым незнакомым голосом крикнул Сашка: — Побузи у меня еще, живо вылетишь! Пришел слушать — слушай, а хихикать нечего! Вали дальше, Федорка!
Собрание успокоилось.
Химик в первую минуту испугался; потом неприятная и тяжелая злоба разом поднялась в нем, к лицу хлынула кровь и сильно застучала в висках. И он почувствовал, как уже весь дрожит от злости к этому спокойному круглолицему шкету. И странное дело, — он никогда раньше не чувствовал такого состояния, хотя с детства терпел и ругань, и издевательства, и побои. Теперь из-за одного только незначительного окрика, из-за нескольких незначительных слов уже до бесконечности, до боли, до бессознания ненавидел этого человека. И так велико было негодование Химика, что он всеми силами старался скрыть и не выдать его. К концу доклада он уже был спокоен.
– Ну, и ты тоже хорош, нечего сказать! — подошел вдруг и сел рядом Сашка. — Я думал, ты парень серьезный, книжки читаешь, а выходит — понятия в тебе еще мало.
– Понятиев хватает, — еле сдерживаясь и боясь заплакать, отвечал Химик; — а только ты кричать
не имеешь права. Ты не воспитатель, чтобы замечания делать.
Значит, по-твоему, нам надо и клубе халдеев держать, да? — настойчиво продолжал Сашка. — Значит товарищ тебе замечания не имеет права делать? Значит, если ты придешь в клуб и начнешь хулиганить…
– Я не хулиганил… Подумаешь, посмеяться нельзя.
– Нельзя. Очень даже нельзя. Ты думаешь, легко было заставить выступать этого Федорку? Ведь я с ним целую неделю бьюсь. Раза три репетировали, раза три он отказывался, пока не сделал доклад.
– Тоже доклад, — фыркнул Химик, — такой и я сделать могу.
– И сделай, в чем дело?
– Ну, и сделаю… А задаваться нечего! Думаешь, что завклуб, так и задаваться можно…
– Стой. Ты мне зубов не заговаривай. Значит, берешься сделать доклад. Так и запишем. Теперь скажи тему и когда будешь выступать?
Химик растерянно посмотрел на Сашку. Шутит он или нет? Сашка ждал ответа…
– Н-не… Я не знаю, — запинаясь пробормотал Химик. — Какой доклад?
– Самый обыкновенный, как Федорка делал. Впрочем, если сейчас не можешь сказать названия, — скажи завтра. Я подожду…
– Ладно, завтра скажу, — обрадовался отсрочке Химик. — Только…
– Что?
– Н-нет… Так, ничего, потом…
И ушел.
5
"Ну, и вкапался же я! — думал он, сидя в своем классе за партой. — А Сашка какой хитрый. Ишь, как разговор обернул: сделай, говорит, сам…"
От скуки Химик опять начал разбирать замок, не докончив, швырнул обратно в парту и задумался.
Потом достал Сашкины книжки, долго перелистывал, перескакивая со страницы на страницу, пока не вчитался.
Но и читать ему долго не пришлось. Заскрипела дверь, и в класс пришел тот, кого он меньше всего сейчас хотел видеть, — Сашка.
– Вот какое дело, Химик-Миханик, — заговори Сашка, — я для твоего доклада занимательную тему придумал. Ты ведь техникой интересуешься?
– Ну?
– Сделай доклад о Волховстрое. Тема — что надо. Ребята наши здорово этим интересуются, прямо толпою пойдут. А насчет материалов, возьми вот газету и вот еще эти. Читай, что карандашом обведено и выбирай самое главное. Потом скажи мне, и мы потолкуем. Идет? Теперь насчет сроку. Торопиться не надо и думаю, что недели тебе хватит.
– Хватит, — тоскливо ответил Химик. — Как раз!
– Ну вот и все. Работай.
Сашка ушел, а Химик посмотрел ему вслед, выругался и сунул газеты в парту.
На другой день, уже твердо решившись отказаться от доклада, Химик пошел в четвертое отделение. Сашки в классе не было, но на его парте сидел юнкомовский председатель Иошка, который гостеприимно закричал:
– Товарищ Евграфов! Ну что, как доклад, подвигается?
– Плохо, — растерявшись от неожиданности, соврал Химик: — я не знаю, как делать.
– А конспект у тебя написан? — деловито спросил Иошка. Нет? Как же можно без конспекта доклад делать. Напиши вначале конспект и план доклада… Газеты прочитал?
Прочитал, снова соврал Химик и покраснел. — Все…
Отлично! Теперь тебе конспектик составить легко… Сперва, значит, расскажи, кто и зачем решил строить Волховскую гидростанцию. Потом расскажи,
где и когда и в каких условиях начали строительство… Потом расскажи, в каком сейчас все положении. Не забудь заметить, сколько оно стоить будет государству. Ну, и наконец — когда строительство будет окончено и какую принесет пользу. Вот и все.
И все!?
– И все. Как раз что и надо… Особенно не расплывайся, говори поменьше, покороче. Понимаешь?
– Теперь-то я понимаю! А то…
– Что?…
– Нет, так… Ну, пока, пойду, всего…
* * *
В четверг весь вечер Химик читал газеты.
В пятницу говорил с Сашкой и начал конспект.
В субботу и воскресенье ходил в отпуск.
В понедельник проверял с Сашкой конспект, а вечером был на юнкомовском собрании и прислушивался, как надо говорить.
Во вторник ходил и готовился весь день, видел объявление: "В среду в 8 с половиной часов вечера в клубе состоится доклад на тему о Волховстрое. Докладчик тов. Евграфов".
В среду после уроков Химик пришел к Сашке и, захватив его, привел в клуб.
– Вот что, Сашка. Ты посиди вроде публики, а я тебе доклад сделаю. После ты скажешь, хорошо у меня выходит или нет.
* * *
Из клуба Химик выскочил веселый и даже засмеялся от удовольствия.
А наверху в зале натирали полы, и уборщица Аннушка чистила мелом дверные бронзовые ручки.
6
Вечером в клуб Сашка привел Химика за руку. В клубе горели все четыре лампочки и было полно ребят.
– К порядку, — высморкавшись, сказал Сашка.
Сейчас товарищ Евграфов, ученик первого класса, сделает доклад о Волховстрое. Прошу сидеть смирно и приготовлять вопросы. После доклада будет собеседование… — Ну, Химик; начинай.
Как он заговорил, Химик не помнил, но вдруг запутался где-то в словах.
"Ленин сказал… кооперация… плюс электрификация…"
В рядах громко засмеялись.
– Кипирация плюс электрификация…
– Тише! — обернувшись к остряку новым и незнакомым голосом крикнул Сашка. — Побузи еще у меня — живо вылетишь. Пришел слушать — слушай, а хамить нечего! Вали дальше, Химик…
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Викниксор сидел у стола, полуобернувшись к юнкомам, пришедшим говорить с ним о комсомоле. 0н ковырял в ухе, внимательно рассматривал найденное там и растирал в пальцах. Вид его был неопределенный и скорее недовольный; он наверное и не слушал Иошку потому что вдруг прервал его и, грузно повернувшись в кресле, заговорил:
– Да, комсомол — вещь хорошая, но не для нас…
Это озадачило ребят. Иошка переглянулся с юнкомцами и, стараясь говорить бодро, возразил:
– Почему? Ведь Юнком тоже комсомольская организация. Мы хотим только переименоваться…
– Ах, дело не в названии. Нашей школе вовсе не нужен комсомол. Юнком занимался и занимается школьным строительством. Комсомол займется политикой, а школе этого не надо.
– Но ведь и Юнком тоже занимался политикой?
– А кто говорит, что Юнком — совершенство. Нам нужна совсем другая организация… Такая организация, которая существует в английской школе. Там, например, есть объединения лучших учеников - тутеров. Тутеры помогают воспитателям в их работе, занимаются с отстающими, выясняют и пресекают проступки своих младших товарищей. У них есть свои выборные органы, спорткоманды, и всю работу они проводят в тесной связи со своими учителями.
– Знаете, Виктор Николаевич, — желчно произнес Иошка, по-нашему между комсомолом и вашими тутерами очень большая разница.
– Только та, что тутеры для нас нужнее.
– И потом, — вмешался Сашка, — тутеры у нас не пройдут. Это же накатчики. Их бить будут.
Викниксор замолчал. Секунду он что-то обдумывал и наконец осторожно сказал:
– Конечно. Их бы били… Но после Юнкома… мне казалось… я думал… этого уже не будет…
– Значит, что же… Значит, вы хотели, чтобы Юнком подготовил почву для тутеров?
– Нет… Я думаю… я предполагал… я был уверен, что вы постепенно придете к сознанию необходимости подобной организации. Я… стремился к этому…
Вдруг Викниксор спохватился:
– Это, конечно, между нами.
– Мы понимаем, — мрачно ответил Иошка.
– А если все-таки нам лучше комсомол?
– Ваше дело. Вам обещали — идите, хлопочите.
2
– Ну что ты теперь на это скажешь, Иошка, а? Что ты теперь скажешь?
– Что скажу, — Иошка остановился, шумно втянул в себя воздух и огорченно взглянул на Сашку: — Ничего, брат, не скажу.
– Нет, но ты пойми, что это значит: это же обман, уловка, гибель! — Сашка суетился около Иошки, забегал вперед и заглядывал ему в лицо: — Это же политика…
– И никакой тут нет политики. Просто у Викниксора в грудях бушуют чувства, — он и проговорился.
ГЛАВА ШЁСТАЯ
1
Вечерние уроки кончились, Шкида пьет чай.
В полутемной, мрачноватой столовой, со всех концов сплошь заставленной столами, по вечернему невесело — шумно и тоскливо. Только у окон, где сидит четвертое отделение, оживленно разговаривают Фока, Дзе и Иошка. Беседой, впрочем, назвать этот разговор будет трудно: ребята попросту подтрунивают над халдеем, пока тот, не выдержав, смывается.
– Ох, и скучно же сегодня, ребята, — зевая говорит Фока и отирает платком рот.
– Что бы придумать такое? — он неопределенно щелкает пальцами и вдруг оживляется: — Хотите анекдот, мальчики?
– Даешь, — радуются "мальчики".
– Ладно… Получила старушка одна от сына письмо… — начинает нарочито-небрежным тоном Фока, — из-за границы…
Ребята хохочут. Сашка недовольно чмокает и качает головой.
– А вот еще, как три еврея с Раковским во Францию ездили, — снова начинает Фока…
Сашка опять недовольно чмокает. — А! — кричит Иошка, — наш уважаемый Саша недоволен! Наш достопочтенный секретарь коллектива изволит хмуриться. Отчего это, Сашенька?
– Ты сам знаешь отчего, — огрызается Сашка. — Ты, председатель коллектива, и Дзе, член президиума, как последние обыватели все дни теперь трещите с Фокой и слушаете анекдоты. Противно.
– Подумаешь…- обижается Иошка. — Может, и мне прикажешь сидеть сложа губки бантиком, писать инструкции и говорить умные речи?
– Ты сам знаешь, что тебе делать… Ты — председатель Юнкома.
– Ну и молчи.
Иошка отворачивается хмурый. Фока смотрит на них со скрытой усмешкой.
– Что, Саша, — спрашивает он, — получил от начальства нагоняй?
Сашка, не отвечая, опускает глаза и зубами вгрызается в кружку.
Сашка помнит, как на другой день он, полный самых лучших чувств, подошел к новичку поговорить с ним о Юнкоме и как тот отшил его с самой разлюбезнейшей улыбкой. — И вообще, — добавил он под конец, — с комсомольскими и прочими организациями я никогда не имел дела и иметь не хочу.
И Иошка совсем изменился с тех пор, как подружился с Фокой, стал какой-то развязный, нахальный, расхлябанный; ходит с забубенным видом… и пахнет от него водкой. Над Сашкой, над его юнкомовской работой подшучивает… Теперь даже Дзе пристал к нему, юнкомовскую работу совсем забросили. На последнем заседании президиума Джапаридзе только зевал, а Иошка рассматривал оранжевый галстук, подаренный ему Фокой, предоставив Сашке решать дела. Сашка от работы не отказывается, — Юнком работает ровно и без перебоев, — но поведение двух "вождей" начинает внушать опасение. Надо как-нибудь поговорить с ними, предостеречь, а то — Сашка улыбается — хотел он на Фоку воздействовать, а тот, оказывается, уже Дзе с Иошкой к себе прибрал.
За столом хохотали во все горло, слушая очередной рассказ Фоки, как евреи на аэроплане летали. Купец под общий смех сгребает в охапку Финкельштейна и спрашивает:
– Хочешь, Кося, еврейский погром устрою. — Кося слабо отбивается, но в это время в столовую входит новая жертва, второй поддежурный халдей Селезнев…
– a! — кричит Иошка. — Наш дорогой, наш уважаемый товарищ Селезнев. Ура товарищу Селезневу… Гип, гип!
– Ур-ря! — раскатились четвероклассники.
– Ур-ря! Ур-ря! — зарявкала, очнувшись, вся столовая. — Ур-ря, Селезнев!…
Крик вышел таким сильным и страшным, что, казалось сам Достоевский на портрете замигал от страха глазами. А Селезнев закачался, из розового превратился в красного и что-то закричал. Наверное, свое "выйди вон". Но за шумом ничего не было слышно. Видели только его широкий, разинутый, как у дохлого карпа, рот…
Из учительской прибежал сам дежурный по школе Кира.
– Безобразие!- закричал он. — Встать! Прекратить чай! Сию же минуту по классам!
Но его тоже не слушали. По столам, как признаки приближающейся грозы, грохоча прокатились кружки, и неистовый крик "ур-ря" заставил Киру бежать за подкреплением.
Опять прокатилось "ур-ря", которое хором начали Иошка, Дзе и Фока. Потом они запели: "На бой кровавый" и принялись громоздить баррикады.
Это была кратковременная и беззлобная буза. Баррикады стояли только в столовой и коридоре. Правда, кто-то потушил свет, и в темноте взяли в плен Селезнева, которого замкнули, втолкнув и уборную. Но халдеи мужественно наводили порядок. Скоро опять загорелось электричество, бузить стало опасно, и баррикады опустели.
Это была кратковременная и беззлобная буза, но во время ее — как знал Сашка — юнкомцы пытались удержать бузовиков, и это им не без труда удалось бы сделать, если бы на баррикадах не стояли, сражаясь с халдеями, Иошка и Дзе…
2
В последние дни при работе в одиночку у Сашки накапливалось очень много дел, и ему помогали Воробей и Будок. Сейчас один переписывал протоколы, а второй под Сашкину диктовку быстро писал инструкцию.
Дверь отворилась.
– Надеюсь, еще можно? — На пороге, засунув руки в карманы и покачиваясь, стоял Иошка: — Войти разрешается?
– Иошка…
– Он самый. Собственной, чистопробной персоной. Ознакомьтесь вот с этим самым документом и прощайте!
Он выбросил из кармана сложенный лист бумаги и лихо повернувшись, ушел, засвистев "Пупсика".
В комнате пахнуло водкой, и Воробей с Будком подозрительно задвигали ноздрями.
Сашка развернул оставленную Иошкой бумагу.
Секретарю коллектива "Юнком"
Заявление.
"Настоящим имею честь довести до вашего сведения, что:
"1) В "Летописи" от вчерашнего числа появилась следующая запись: "Ионии за злостное и преднамеренное нарушение порядка в столовой исключается из Юнкома с переводом в четвертый разряд". Запись сделана на полях красными чернилами и снабжена пометкой: "на основании распоряжения зав-школой".
"2) Исходя из вышеизложенного, считаю свое дальнейшее пребывание в "Юнкоме" излишним.
С приветом Георгий Ионин.
"Целиком поддерживаю Иошку и тоже ухожу из "Юнкома"
Дзе.
Сашка положил бумагу па стол и задумался. Потом повернулся к Будку; тот вместе с Воробьем читал заявление.
– Я думаю, ребята, — сказал Сашка, почему-то отводя глаза в сторону, пора уже звонить на собрание.
Будок посмотрел на Сашку и хотел что-то сказать, но промолчал и вышел.
Обычно на собрание собиралось много и посторонних, но сейчас Сашка всех их выпроваживал:
– Закрытое, ребята, будет, — говорил он: -только одни юнкомцы могут присутствовать.
Шкидцы приставали к нему с расспросами, а он вместо ответа давал им Иошкино заявление.
– Ну, ладно, ребята, — сказал наконец Сашка. Кажется, все собрались. Начнем.
– Начнем, пожалуй, — тихонько пропел Воробей.
– Т-ш…
– К порядку. Дело, ребята, вот какое… да… Иошкино заявление все читали?
– Все-е…
– Вот я и хочу об этом заявлении говорить. Конечно, слов нет — последнее время он нервничал, здорово нервничал… Говоря по-нашему, бузил. А почему бузил? Потому что на Юнком идет наступление. Викниксор хочет всех нас в тутеров переделать!… Не смейтесь, — азартно прокричал Сашка. — Они, Викниксоры, хитрые…
– Постой, Сашка, — перебил его Будок. — Не заходись и не брызгайся… Об Иошкином с Дзе поведении давно надо было вопрос поднять. Что есть они в последнее время? Бузовики и разложившиеся юнкомцы. Они только позорят коллектив. И напрасно ты, Сашка, замазываешь это и про Викниксора нам заливаешь. Конечно, они твои друзья. Мы понимаем, что тебе неприятно обвинять их. Но если коллектив через это разлагается, — тут нужно определенно что делать: гнать всех бузовиков и хулиганов в три шеи.
– Верно, Будок! — закричали сразу несколько голосов. — Гнать их, сволочей, ко всем чертям! Опять в роде Гришкиной с Ленькой история. Дай мне слово, Сашка.
– Мне!
– Я раньше просил.
– Прошу слова!
– Тише! — крикнул Сашка. — Засохните. Меня, ребята, вам обвинять нечего. После вчерашнего я сам решил созвать вас на собрании и говорить об Иошкином и Дзе поведении. Но за несколько минут до начала я получил вот это заявление, которое заставило меня подумать совсем о другом… Но вы не дали мне сказать…
– Говори, говори…
– Тш-т.
– Так вот что. Будок верно сказал что Дзе с Иошкой сейчас вроде, как бы оторвались от Юнкома. Я сейчас о другом… Ведь мы, мы, то есть, Юнком наш, комсомольская организация, и кого хотим, того и принимаем к себе, — а халдейского согласия не требуем. Верно?… И вот коллектив наш потому халдеям и не нравится… Викниксор хочет тутеров заиметь, а не комсомол — сейчас во всю, можно сказать гадит. Иошка, например, — набузил вчера, а Витя уже забегает вперед и пишет в Летописи: "Ионина исключить!" Что мы должны сделать после этого? Исключить Иошку? На завтра такая же запись будет о Дзе — тоже исключим. Послезавтра еще о ком-нибудь. "Летопись" не мы пишем, — и будем исключать по викниксоровской указке, да? А потом через ту же Летопись он станет и другие отдавать приказания. Вот вам и готова тутерская организация. Пусть Иошка и Дзе набузили — это наше дело, хотим мы их исключим или нет. Сейчас надо обсудить поведение Викниксора и только после говорить об Иошке и Дзе. Правильно я рассуждаю, ребята?
– Правильно, Сашка!
– Тш-ш.
– Сейчас предлагаю поступить так. Мы вынесем резолюцию, где, во-первых, потребуем уничтожения этой записи в Летописи, во-вторых, сдерем с Викниксора обещание, что ничего подобного впредь не повторится. А в-третьих, потребуем оставить коллектив в покое. Если же он откажется, пригрозим, что все уйдем из Юнкома. Да я первый уйду и ни за что не останусь тутерствовать.
Сашка сел.
– Так что ж, товарищи, — после небольшого молчания заговорил Будок: — обсуждать здесь нечего. Будем делать, как Сашка сказал.
– Правильно!
– Голосуй!
– Чего голосовать!… Резолюцию писать надо.
– Даешь резолюцию!
Начали писать резолюцию. Но в самый разгар работы хлопнула дверь, и на пороге появился бывший юнком Костя Финкельштейн в своем долгополом пальто, в которое он драпировался на манер древнеримской тоги.
– Ребята, — блеющим голосом и серьезно сообщил он: — я подслушал, что вы собираетесь сражаться с Викниксором. Я хочу доказать, что я не трус и не шкурник, и опять пришел в Юнком. Я буду бороться вместе с вами, хотя мои убеждения и позволяют мне…
– Вот дурак-то! — вырвалось у Голого Барина…
– Глиста на Козьих ножках!
– Ребята, — опять тем же голосом и без всякого выражения начал Кося: — я подслушал, что вы собираетесь бороться с Викниксором, и я хочу доказать, что я не трус и не шкурник и пришел бороться вместе с вами, хотя мои убеждения и позволяют мне…
– Катись! — закричало сразу несколько человек. — Катись со своими убеждениями.
– Ребята, я подслушал, что вы собираетесь бороться с Викниксором, — тоном великомученика снова начал Кося, но докончить не успел.
Ребята вскочили с мест. Голый схватил Косю за шиворот, Воробей подал сзади, и великомученик с грохотом вылетел за двери.
Между тем резолюция была написана, одобрена и проголосована. Будка послали за заведующим.
Викниксор пришел недовольный, подозрительно оглядывая ребят.
Ему дали резолюцию.
Юнком притих.
Все смотрели, как бегают по строкам быстрые викниксоровы глаза, как он хмурится, жмурится, поднимает брови и сжимает губы.
Он кончил, сложил бумагу и оглядел собрание.
– Так. Дальше что?
И шкидцы растерялись. Почему-то думали, что Викниксор разозлится, раскричится, обзовет всех хамами, а тут…
– Дальше что?
Черт возьми, что же теперь? Два десятка ребят, заробев, опустили глаза и заерзали на стульях.
– Что же дальше — я вас спрашиваю? — крикнул Викниксор.
Сашка встал.
– Мы требуем выполнения нашей резолюции. Вот все.
– По-жа-луйста без хамства! Не требовать вы должны, а просить. Совсем у тебя стал недопустимый тон. И потом, что за глупое мальчишество — резолюция. Вы уже не маленькие и должны понимать, что Ионин, этот истерик и психоневротик, дальше не может оставаться в Юнкоме.
– Это наше дело, может он оставаться в Юнкоме или не может.
– Нет извините, пожалуйста. Я не могу допустить, чтобы в моей организации лучших учеников…
Сашка многозначительно присвистнул.
Викниксор дернулся в кресле.
– Прошу не перебивать! — крикнул он. — Мальчишки!… О чем это я?… Да, да, в организации лучших учеников я не потерплю хулиганов.
– Это внутреннее дело нашей организации.
– Я сказал.
– Мы тоже сказали.
Викниксор встал.
Викниксор нахмурился.
Викниксор сердится.
– Довольно этой комедии, — заговорил он. — Вы не хозяева в моей школе — прошу помнить. Кто не хочет оставаться — пусть уходит… Не беспокойтесь, у меня будет Юнком еще почище вашего…
– Хватит! — крикнул Будок. — Слышали!…
– Довольно!
– Долой!
Крик.
Свист.
Топот.
– Долой!
– Долой!
– Виктор Николаевич, если этим вы все уже высказали, нам остается только уйти. Верно я говорю ребята?
– Верно-о!
– Кончай разговоры.
– Уходи, ребята.
– Долой!
– Долой!
Викниксор с силой стукнул по столу кулаком. От удара заплясала по столу чернильница.
– Юнком распускается! — крикнул он. — Но вы еще мне вспомните об этом!
3
О конце Юнкома Шкида узнала просто.
За утренним чаем, во время раздачи хлеба, Воробей сам схватил понравившийся ему кусок.
– Положь, — крикнул дежурный, — чего хватаешь? А еще юнком…
Воробей отпихнул наседавшего дежурного и под злорадный смех столовой поднес ему к носу кулак.
– Едал — миндал… Вот тут тебе — юнком.
Но дежурный решил, что это просто стратегический прием, имеющий целью захват недозволенного куска, и поэтому продолжал ругаться, пока не вмешался Сашка.
– Катись, — крикнул Сашка: — катись к чертовой бабушке. Теперь юнкомов нет… Разогнали Юнком.
И новость понеслась по столам.
"У меня будет Юнком почище вашего".
Эту случайно оброненную фразу помнили и шкидцы,
помнил и Викниксор. Уже через день поползли таинственные слухи о возобновлении Юнкома, а через неделю за обедом в столовой Викниксор говорил ребятам о новой организации.
– Школой, — говорил он, — будет управлять объединение лучших учеников. Такими лучшими будут наши старосты, объединенные в совет под моим руководством.
Затем он очень подробно остановившись на задачах Совета старост (совстара), сравнив его с английской тутерской организацией, наказав во всем подражать ей и закончил так:
– Совстар должен стать своего рода парламентом.
Да, парламентом великой Шкидской республики и Викниксор — президент ее!
Он думал, что шкидцам интересна и понятна его идея, потому что его внимательно слушал бородатый Маркс, висевший на стене, и невозмутимо, казалось, разрешал:
"Валяй!"
И Викниксор валял.
* * *
"Открытие парламента состоялось в невероятно торжественной обстановке… Зал заседания был полон задолго до назначенного времени. Трибуна журналистов и галерея для публики не могли вместить всех желающих.
"Ровно в восемь часов в доме правительства появились министры: кухонный, гардеробный и амбулаторный. Вслед за ними прибыл сам президент, и заседание началось.
"Речь президента была обычно коротка и содержательна.
"Президент говорил о том, что лошадь кушает овес, Волга впадает в Каспийское море, у алжирского бея под самым носом шишка. Потом он даровал шкидцам основы народовластия, при условии, если они не будут бузить, воровать, драться, — а, наоборот, слушаться халдеев и т. д.
"После бурных оваций приступили к выборам президиума, сего высокопочтенного и высокоблагородного учреждения. При баллотировке подавляющим голосом Викниксора на пост председателя был избран лидер волынян-второклассников — человек высокого ума, волчьего аппетита и непередаваемого косноязычия. Секретарем теми же голосами был избран бужанин (первоклассник) Ганский. Этот почтенный деятель был видным литератором своего родимого края. Сочинения его всегда были образцом лаконизма и красноречия. Так "Слово о Полку Игореве", начинающееся "Не лепо ли нибяшеть, братья", он перевел "не лепите и не брешите, братцы", а картину "Марафонский бег" назвал "Марафетным бегом".
"Таковы, в кратких чертах, эти два великих человека, призванные управлять высшим законодательным учреждением Шкиды.
"Речь председателя (история дала ему прозвище "Балды"), в которой он благодарил за доверие депутатов, была достойна самого Цицерона. Она продолжалась всего пять минут, и им было сказано всего пять слов (включая междометия).
"- Бр-р-р-р-а-атцы! — говорил Балда! — И-й-йя… н-н-н-ничего) ннн-н-н-е-е-э-е-е-з-н-н -… ре-э-б-бя-я-а.
"Здесь эта речь была покрыта бурными аплодисментами, которые постепенно перешли в овацию. Все поднялись с мест и выражали свой восторг бросанием различных предметов (окурки, книги) в сторону председателя скромно вытиравшего пот с треугольного черепа.
"После этого сессии были предложены для обсуждения следующие вопросы:
"1. О починке носков.
"2. Об организации дежурств в уборных на предмет надзора за своевременным спуском воды.
"3. О раздаче носовых платков с меткой (первый сорт).
"4. О раздаче носовых платков без метки (низкий сорт).
"Обсуждение проходило в строго-деловом порядке.
"Как полагается, вставал председатель и вносил предложения:
– "Г-г-г-бу… н-н-н-бу… м-м-м-бу…
"3атем высказывались за и против, предложение голосовалось. В заключение г-н президент принимал или отвергал его. Конец заседания был омрачен некоторым скандалом. Лидер распущенного Юнкома, г-н Ионин, ворвавшись в зал заседания, с криком "тутеры" щелкнул председателя по затылку; председатель упал под стол. Личная гвардия г-на президента, состоящая из отборных халдеев, немедленно удалила бунтовщика из залы и дальше — в изолятор. Наконец вопросы все были исчерпаны. Президенту захотелось спать, и парламент разошелся на каникулы…"
Так изображалось это заседание подпольным сатирическим листком "Ап ендицит", который вышел после описанного и был составлен добрым десятком авторов.
Ни желания, ни охоты играть в парламент ни у кого из ребят не было…
Вскоре распались кружки, захирел клуб.
Пригласили было со стороны инструктора, явившегося в образе немолодой особы, поджарой как борзая сука, и сварливой, как примус.
Особь шкидцы прозвали "Клубничкой" и окончательно исчезли из клуба.
Он так и стоял закрытый, пыльный, пустой.
Но вот за оживление всей работы взялся неугомонный Селезнев.
5
КЛУБ ШКОЛЫ ИМ. ДОСТОЕВСКОГО
сегодня после вечернего чая состоится доклад т. Селезнева.
"Перспективы международного рабочего движения"
Вход свободный.
Вечером в клубе слышалось какое-то подозрительное движение и грохот. Завклуб Ганский самоотверженно таскал скамейки под ободряющий окрик Селезнева.
– Тащи еще! — покрикивал халдей. — Стоять ребятам придется. Народу ведь хлынет масса. Селезнев не ошибся.
Первыми хлынули старшие… Потом выскочил Дзе и понесся по зданию.
– Ребята! — орал он во все горло. — Хряй вниз! Клуб открыли… Селезнев там доклад говорит, честное слово.
Честное слово действовало. Забыв привычные дела, шкидцы бросали карты, мышеловки, захлопывали книги и кучами низвергались в клуб. Последним промчалось первое отделение во главе с Химиком и Мышкой.
Клуб уже не вмещал всех желающих. Докладчик стоял, ухватившись за стол, и, трясясь, кричал на аудиторию:
– Вы-ы-ыйди вон!…
Аудитория с гиком носилась по скамейкам и столам. Наиболее благоразумные поспешно опустошали шкаф с книгами. Остальные кричали, вопили, орали, швырялись газетами и, журналами. Фока втихомолку срывал со стены плакаты и портреты и подрисовывал Марксу усы. В углу курили, не обращая внимания на завклуба, истерически требовавшего:
– Оставь докурить, сволочь! Ну хоть раз курнуть дай…
Купец, развалясь на диване, властно приказывал: — Рассказывай!
– Рассказывай, — подхватывали шкидцы.
– Вали, Селезнев! Крой дальше!
– Вы-ы-ыйди во-он!… Я вас зап-зап-пишу! Я Викт-лаичу!… Я Губоно!… Я… ячейки…
– Попробуй только!
– Запиши!…
– Халдей несчастный!
– Совнарком яичный!
Собравшимся становилось все веселей и веселей. Начали раскидывать по сторонам скамейки, свалили стол, загородив халдею выход… Диким голосом и притопывая пел Иошка. Дзе размахивал ножиком. Фока вертел лохматым изодранным знаменем, норовя задеть по голове Селезнева. Вдруг потух свет, что-то посыпалось и загрохотало в темноте. Завыли, заорали на все голоса шкидцы. Кричал Ганский, которого закатывали в ковер. Кричал и рвался Селезнев, которого мазали сажей. В упоении ржал Купец:
– Вот буза-то!… Над-дай, ребята, над-дай!
Наиболее благоразумные уже выметались вон. В клубе накидывали на Селезнева скатерть. Катали по полу Ганского. Громоздили из скамеек и столов баррикады. Фока, надсаживаясь, хотел опрокинуть опустевший книжный шкаф и наконец свалил его в общую кучу. Селезнева тоже сбили с ног, наворотили и набросали сверху стульев, взявшись за руки, пронеслись в хороводе мимо и скрылись…
Начавшаяся в Шкиде буза заставила Викниксора созвать свой парламент раньше. На этот раз заседание было очень поспешное и не торжественное. Публики не было и старост было тоже немного.
Викниксор говорил зло и раздражаясь с каждым словом еще больше.
– Какие же вы старосты, если не можете справиться с бузой? Зачем тогда выбирали вас?… Школа бузит… Вчера, например, я слышал, здесь в клубе тоже была буза.
При этом лица ребят осветились улыбкой приятного воспоминания: они переглянулись и фыркнули.
– Молчать…- окончательно вышел из себя Викниксор. — Я предлагаю запретить доступ в клуб бывшим юнкомам; зачинщики бузы — это они… Кто против?… Нет?… Принимается…
Завклубом назначили Евсеева: возражать тоже никто не стал. Евсеев, тщедушный парнишка, с вечно мокрым носом и в меланхолически обвисших штанах, напуганный рассказами Ганского, своего предшественника, хотел отказаться, но его уже "проголосовали", и он покорился.
– Судьба.
Печально обстояло дело с замещением должностей. Число старост с каждым днем уменьшалось, старшие отказывались работать в самоуправлении, и оно разваливалось.
Наконец, решившись, Викниксор произнес в столовой речь.
– Они (т. е. старшие) не желают работать — прекрасно. У нас есть новые силы. — Свежие, неиспорченные бредовыми идеями ребята. Вот они (жест в сторону младших). Они создадут новое самоуправление. Они будут хозяевами школы.
Хозяева школы недовольно чавкали. Вечером Викниксор по одиночке вызывал их и назначал старостами.
Таким образом удалось сколотить школьное самоуправление. Шкидская демократия вновь была поднята на необходимую высоту. Не очень высоко, правда. Иначе — подними их высоко — они тебя за-панибрата сочтут. И крепко внушалось каждому вновь поступающему халдею:
– С ребятами не амикошонствовать: между воспитателем и воспитанниками должна быть стена.
Клуб работал с "перебоями". Евсеев, заслышав около него шаги, поспешно запирался и гасил свет.
Если это был кто из ребят, он отмалчивался. Если Викниксор — отпирал. Викниксор оглядывал пыльный клуб, пыльную мебель, пыльные груды журналов, шумно вздыхал и уходил.
Потом клуб стал "открываться" все реже и реже и наконец совсем закрылся.
Тутеры провалились.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Тр-рах!…
– Ах!…
Выстрел.
По лестнице, размахивая пистолетом, промчался Химик и юркнул за трансформатор. Из залы выбежал Сашкец. Схватившись за перила, он взглянул в пролет лестницы, где клубился еще пахнувший серый дым, но в ту же минуту за спиной один за другим грохнули еще два выстрела, и халдей, отпустив перила, пошел назад в залу.
И каждый, глядя на его фигуру, подумал бы, что выстрелы теперь в Шкиде обычное, приевшееся воспитателям явление. И еще представилось бы увидевшему, что Сашкец наверное думает: "Хорошо, по крайней мере, что они стреляют в воздух".
Притаившийся под лестницей Химик зашевелился. Поднял отброшенный в сторону "шпалер" — осмотрел, продул и спрятал в карман. Потом прислушался и, ухватившись за огромный рубильник, черневший на стенке трансформатора, с усилием оттянул его вниз. Щелкнула ослепительно белая искра, и вся Шкида погрузилась в темноту.
Пробиравшемуся по коридору Химику первой попалась кухарка, которая торопливо высказывала Амебке предположение, что на станции что-нибудь да лопнуло. Сверху спускался встревоженный Сашкец, из учительской на площадку лестницы перебирались халдеи, с тоненькой церковной свечкой, выпрошенной у мамаши, вышел Викниксор.
– Пробки? — деловито спросил он.
– Очевидно, — подскочил Амебка, — Очевидно, перегорели.
– Но, может быть, их вывинтили воспитанники? — заметил Сашкец.
– Это все равно! — оборвал Викниксор.
– Надо осмотреть пробки.
– Зачем смотреть? — сказал пришедший дворник. Это не пробки. Это рашпиль…
– Какой рашпиль?
– Тьфу, то-есть, напильник это…
– Может, рубильник?
– Во-во… Он самый… Ребята его в сторону отгинают, в бок… Я сам видел.
– Так сходите, посмотрите и поверните назад.
– Это вы сами поворачивайте! Я уже раз повернул, хватит! Я думал, это всем можно, — только взял, а он как вдарит, — даже искры посыпались и даже не отцепить.
– Довольно, — не выдержал Викниксор и сам пошел вниз. — Принесите лестницу и осмотрите пробки. Наверху раздался свист и грохот, питомцы, воспользовавшись удобным случаем, начали отводить свои дефективные души. И, забыв о рубильнике, Викниксор помчался наверх наводить порядок.
Халдеи вместе с дворником спустились к трансформатору, чиркали спичками, зажигалками и осторожно рассматривали рубильник.
– Подождите! — неожиданно радостно сказал Амебка и побежал наверх. Через минуту он появился снова, притащив за шиворот перепуганного шкидца Сухарика.
– Это ты, подлец, наверное свет погасил? — грозно говорил Амебка, подталкивая Сухарика к рубильнику. Ты и включи его. Слышишь!
Сухарик тоскливо огляделся — халдеи смотрели строго, и Амебка сверкал очками. Шкидец вздохнул и, ничего не поняв, повернул рубильник.
Вспыхнул свет.
– Ну иди, — разочарованно толкнул шкидца Амебка. — И смотри у меня. Я, брат, все-о знаю… Иди.
Сухарик поспешно и не рассуждая пропадает. Все расходятся. Кухарка — на кухню, дворник — в дворницкую, халдеи — в учительскую. Сашкец — наверх к притихшим, приструненным ребятам.
А Химик уже сходил в класс, посмотрел, как там делают самоделки-шпалеры, полюбовался в коридоре на ловлю мышей, зашел в уборную, где шла крупная игра в буру и штосс. Всюду скука, тоска, все давным-давно приелось и осточертело. Химик долго стоял в зале, раздумывал и, решившись, пошел к Сашке в музей.
После распада Юнкома и провала тутерской организации Сашка снова занял под музей пустующий, разгромленный клуб. И занял не только потому, что там теплей и уютнее и можно лучше расположить всю богатую коллекцию шкидских журналов, газет, альманахов, рисунков или удобней разбирать и классифицировать тщательно собранные архивы и документы, — а потому, что помещение музея само по себе возбуждало приятные воспоминания о прошлом. Все лучшие события школьной жизни начинались в музее, и его бессменный хранитель Сашка, прозванный "архивной крысой", часто иронически говорил, что шкидская история выходит из музея и потом опять — в документах, газетах, журналах — возвращается обратно.
И теперь грустно становилось ему, когда сравнивал он шкидское прошлое с серенькой, поганой действительностью. Не издается теперь в Шкиде ни газет, ни журналов, все меньше становится старых шкидцев. Нет Цыгана, Бессовестина, нет Леньки и Гришки. Остальные только и думают об уходе, либо бузят и пьянствуют с Фокой как Иошка и Дзе.
Когда Химик вошел в музей, Сашка сидел, не зажигая света, у топящейся печки и задумчиво глядел в огонь.
– Здорово! — сказал Химик. — Я к тебе. Почитать чего-нибудь не найдется?
– Посмотри там, на столе, — равнодушно ответил Сашка. — Выбирай что понравится.
Химик подошел к длинному широкому столу, где вперемежку с бумагами и архивными документами лежат книги. Книги скучные, политические, и шкидец, отобрав две тоненьких брошюрки, недовольно спросил:
– А других нет?… Научных…
– Нет… Были у меня научные книги, да пришлось летом загнать, чтобы заплатить Викниксору за разбитые стекла. Больше научных нет. А клубную библиотеку разграбили ребята.
Химик нехотя повертел книжки. Уходить ему не хотелось. Глаза его остановились на сашкиных ботинках.
– Неужели тут выдали?
– Братишка привез — односложно ответил Сашка. Помолчали.
– Та-ак, — протянул Химик, — Ну, я пойду.
2
За свою жизнь Химик испытал много перемен, но когда пробовал вспоминать свое прошлое, то только тусклая цепь приютов и детдомов с разными названиями и номерами вставала в его памяти. Да разве вспоминался еще первый из них, куда попал он семилетним мальчишкой. Там нашел Химик на помойке гранату, которой ему и оторвало потом руку.
Пережитое отучило его удивляться. И сейчас в Шкиде, когда разогнали Юнком, куда склонил его поступить Сашка, Химик удивился очень немного. Он мало что понял во всей этой истории и только недоумевал по поводу поведения Викниксора. Правда, юнкомы не были "четверошниками", той гвардией администрации, которая, как бывало в лавре, за лишнюю четверку хлеба становилась жандармами своих товарищей; юнкомы не были ни накатчиками, ни подлизами, ни лягавыми, они всегда бывали вместе с ребятами и руководили школой, но они и боролись с бузой, с воровством, с картами, боролись за дисциплину и старались поднять школу.
И Химик вспомнил, как глубоко подействовали на него вскользь брошенные иошкины слова: "Накатка — подлость. Дешевая вещь, если ты и защищаешь товарища, который делает что-нибудь нехорошее. А вот если ты при всех встанешь и скажешь ему, хотя тебе и тяжело будет сделать это, скажешь, что он делает неправильно, это будет самое лучшее из всего, что можно придумать".
И это, и еще многое другое, так поразившее своей простотой и необычностью, заставило Химика сблизиться с ребятами из коллектива и стараться быть похожим на них.
После разгона Юнкома он ощутил какую-то внутреннюю пустоту, будто оборвались все связи со старшими ребятами. Все порассыпались, занялись каждый собой, и даже Сашка, почти безвыходно целыми днями сидящий в музее, и тот мало обращал на Химика внимания.
И незаметно, постепенно забывалось все, что было недавно.
Опять появились в парте напильники и отвертки, опять начали привлекать внимание замки и дверные ручки, а тут еще вдруг группами стали приходить новички со своими твердо-укоренившимися понятиями и привычками — и Химик совсем забыл о том, что было недавно, совсем забыл о Юнкоме.
3
Из Института морально-индивидуально-социального воспитания, откуда раньше пришел Химик, прислали еще двух ребят — Арбузова и Старостина.
Шкидец обрадовался. Обрадовались и новички, встретив своего старого приятеля. Все уселись на подоконнике в зале, закурили и начали делиться новостями.
Плотный, черноволосый и очень спокойный Старостин рассказывал, что воспитатель Пупок поступил в ресторан официантом, Анна Петровна стала старшей воспитательницей, пришел новый завхоз — жулик.
Ну, а в остальном — все по-старому.
Закутывают ребят вместо наказания в мокрые простыни.
Профессор, как и раньше, велит называть себя папой, а свою жену — мамой, по прежнему кричит: "Я профессор, я все могу" и грозит бузовикам, что отправит их в сумасшедший дом.
По прежнему Анна Петровна объясняет ребятам, что их Институт — государство, где профессор — царь, воспитатели — министры, а они, детки, — русский народ.
– Стой! — прыская в ладошку, вмешивается вдруг второй новичок — Арбузов, маленький, вертлявый шкетик с длинным носиком и черными беспокойными глазками. — Там недавно история с профессором была. Потеха! Ребята засыпали его в чулане вдвоем с кухаркой, ну и надумали ее звать тоже мамой!
– Мам-мой?… — еле сдерживаясь от хохота, переспрашивает Химик.
– Гы-гы-гы!… — гогочет Старостин.
– Факт, мамой… Володька ему и брякни это, насчет мамы. Ну, тот, конечно, ему по кумполу и поволок в мокрую простыню закручивать. Потом вызвал скорую помощь и велел отвезти Володьку к Николаю-чудотворцу.
Ребята докуривают, и теперь наступает очередь Химика показывать новичкам Шкиду. Они проходят залу, идут по коридорам, в темных углах которых крысоловы-любители при помощи веревок и хлебных огрызков нехотя охотились все свободное время. Химик показывает классы и спальни и вскользь замечает, что в Шкиде недавно, совсем недавно было гораздо лучше.
Сопровождает ребят еще шкидец Мышка, нюхом почуявший обилие табаку у новичков…
4
Новички Арбузов и Старостин пришли в Шкиду больше по собственному желанию. В первый день они уже было раскаялись в этом, когда узнали, что в Шкиде каждодневно бывает по десяти уроков, Но, увидев, что уроки эти собственно липовые и что, сидя за партой, вовсе не обязательно слушать халдея и можно заниматься своими делами, новички успокоились и начали приспосабливаться.
Мышка, сдружившийся с Арбузовым, сразу свел его со шкидскими картежниками. Маленький, жуликоватый Арбуз, быстро смекнув, составил компанию. За уроками он проводил время в рисовании и краплении карт или в игре "по маленькой".
Старостин, спокойный и деловитый, попал в Шкиду по ошибке. Он больше подходил к ремесленной школе. Да и в Шкиду пришел он со всякими молоточками, напильниками, сверлами и прочим инструментом, и уже на второй день расположил к себе немку Эланлюм, вылудив и запаяв ей кастрюлю.
Учиться Старостину хотелось, но от десяти уроков он сразу же отупел и, забоявшись науки, махнул на нее рукой, решив, что лучше уж слесарить. Шкидцы первоклассники решили, что человек с такой фамилией обязательно должен быть старостой и выбрали его на эту должность. Старостин не отказывался, а деловито и спокойно принял власть, ключи от класса, журнал, став вечным, несменяемым старостой первого отделения.
Но ни с кем так не сдружился Химик и никто не был так заметен потом в Шкиде, как следующий новенький — Шурка Лепешин.
Дружба началась в изоляторе, куда нередко теперь попадал Химик и куда в первый же день посадили Лепешина.
Химик увидел перед собой тоненького, высокого подростка, аккуратно одетого, тщательно подстриженного, с умным миловидным лицом и темными мечтательными глазами.
Лепешин подождал, пока не закрылась дверь, потом погрозил кулаком невидимому халдею и, повернувшись к своему товарищу по заключению, недовольно проговорил:
– Воспитатели эти ваши! Тоже! Я им ножик не хотел отдавать, а они за шиворот и сюда! Порядочки…
Голос новичка был звонкий и ломающийся, как у маленького мальчика, хотя он всячески старался казаться серьезнее и взрослее, держал руки в карманах, поднимал плечи, хмурил тонкие брови и, сев на подоконник рядом с Химиком, важно вынул портсигар и предложил:
– Закуривай!…
Ребята закурили.
– За что попал? — затягиваясь, спросил Химик.
– За болезнь. Расширение зрачков на чужую собственность.
– Это у нас пустяки, Из дому привели или еще откуда?
– С Миллионной, с Глебовского приюта! — Лепешин сделал страшные глаза и, придвинувшись ближе, зашептал: — Нас там, как собак, — арапником бил заведующий!
– Знаю. И я там был. Заведующий там генерал бывший. Так у него со старого времени привычка драться осталась… Здесь, в Шкиде этой, тоже стукают, но меньше. Опасаются.
– Я ушами шевелить умею, — неожиданно сказал Лепешин и сейчас же густо-густо покраснел.
– Ну? — добродушно удивился Химик. — Да ты не смущайся. Шевельни разик…
Лепешин перекосил рот, задергал челюстями, и уши его действительно зашевелились.
Потом новичок долго рассказывал разные истории, которые он вычитал у Луи Вуссенара, Жаколио, Майн-Рида и Жюля Верна. Химик слушал, широко открыв рот и затаив дыхание. Оба были так увлечены, что совсем не обрадовались приходу Сашкеца, открывшего изолятор.
– Ну, выходите, товарищи, — мягко сказал халдей, — и больше не бузите…
– Гусь свинье не товарищ, — процедил вполголоса Химик и юркнул из изолятора.
– Евграфов! Вернись, хулиган! Повтори, что ты сказал?
– Дядя Саша, что вы! — струсил Химик. — Я только сказал, что гусь свинье не товарищ. А вас же Гусем-Лапчатым зовут, значит, я — свинья…
– Ну! ладно… то-то, — смягчился Сашкец: — смотри у меня. — И, забывшись, прибавил: — Смотри, Гусь-лапчатый!
Все шкидцы узнали, что новичок умеет шевелить ушами. В первый класс к Лепешину прибегали и просили "шевельнуть". Лепешин, краснея, отнекивался, но, втайне польщенный таким вниманием, скромно исполнял просьбу. К вечеру стало известно, что ушами умеет шевелить еще и Дзе.
Интерес к новичку упал.
Тогда Лепешин сказал, что у него дома есть велосипед. Но велосипед уже был и у Фоки, а недоверчивый Будок принялся даже утверждать, что лепешииский велосипед одна сплошная мифология. Новичок не сдавался и таинственно стал намекать, что у него есть еще одна замечательная вещь, которую он, возвратясь в понедельник из отпуска, непременно принесет в Шкиду…
Возвратясь из отпуска, Лепешин увел Химика и еще нескольких ребят в уборную и, таинственно оглянувшись, прошептал:
– Принес!
– Что?
– Шпалер…
Ребята сгрудились к новичку, тот осторожно вынул из кармана и показал всем тоненький пистолетик Монте-Кристо с тоненьким, как дудочка, дулом.
– Шпалер! — расхохотался Химик. — Клистир-ка какая-то! Барахло!…
– Как барахло? — побледнел Лепешин, — Его продать можно!
– В музей… Сходи к Сашке. Может, он для выставки купит…
Разочарованные шкидцы ушли, и в уборной остались только Химик да Лепешин. Химик долго смотрел на пистолетик и на убитого горем Лепешина и наконец задумчиво сказал:
– Дай-ка мне твой клистир до вечера. Осмотреть. Тут дело одно может выйти — пистолет понадобится…
Вечером Химик долго и подозрительно шептался со Старостиным. Потом тот вытащил все свои слесарные инструменты и, расположившись на парте, начал что-то резать, сверлить, паять и заколачивать… Химик уже вернул новичку его пистолетик, но на все вопросы многозначительно отвечал:
– Погоди. Завтра увидишь.
И завтра все объяснилось, Химик с толпой ребят ушел после уроков на двор и там, за сараями, в торжественной обстановке, вынул огромный шпалер-самоделку и оглушительно выстрелил в воздух.
Это событие открыло новую эру шкидской истории.
Изобретатели оружия — Химик и Старостин — были завалены заказами на шпалеры, потом открылись новые оружейные мастерские; потом уже каждый сам стал делать для себя оружие…
Много помогли усовершенствованию самоделок халдеи. Напуганные, они устраивали на первых порах целые облавы, и в учительской за короткое время скопилось столько оружия, что им по крайней мере можно было вооружить целую роту… Но все это привело только к тому, что ребята стали осторожнее, а самоделки усовершенствованней, дальнобойней и лучше.
Шкида поголовно вооружилась и пока еще только развлекалась, стреляя холостыми в воздух.
А новенькие все приходили и приходили…
Со своими твердо укоренившимися привычками и понятиями, они попадали у младших в знакомый им мир детдомовских немудреных традиций и взглядов.
Шкиду уплотняли. Из нее уже много повышибли старых воспитанников. И если раньше Викниксор сам отбирал в распределителях подходящих себе учеников, подбирал способных ребят, которые осиливали и которым интересна была и история, и литература, и языки, — то сейчас присылали в Шкиду всех подряд, обычное сырье из детдомов и детских тюрем.
И как-то забыли воспитатели, что у этих ребят и интересы другие, чем те, что были у старых, отобранных, способных учеников; почему-то считали, что новички тоже могут осилить и им будут очень интересны и история, и литература, и языки. И по прежнему преподносилось все это в лошадиных дозах, по десять уроков в день.
Новички, обалдев от десятиурочного дня, сразу же переставали учиться и принимались за карты, за ловлю крыс, за изготовление самоделок. Им было скучно и неинтересно в Шкиде, они хотели бы поработать и поучиться, но здешнее образование их совсем не захватывало, только вгоняло в тоску. А никакого труда и ремесла в школе не полагалось.
Пришло их много… Пришел Шенкевка, веселый и добродушный чухна; беленький и нежный Капаневич; важный и медлительный барон Розен.
Новичка Женьку долго не знали даже куда посадить. Этот черный и смуглый, как грек, очень здоровый, но потрепанный и поиздержанный жизнью юноша представил документы на пятнадцатилетнего, а по виду ему самое малое было годов восемнадцать. И никто не сомневался, что Женька пришел с "ксивой" и, скинув себе три наполненных кражами и приводами года, хотел спастись от суда и тюрьмы…
Учиться Женька не стал, завел себе отличную самоделку и начал ухаживать за кухаркой. А когда были перевыборы кухонного старосты, устроил так, что его выбрали на эту хлебную должность.
Потом пришли еще: Храпа, Сусликов, Семенов, Рыжик, пришел Верьховка, Касатка, Васильев, пришли Карпуха, Лапа, Аксенов, — пришли и прочно осели в первом и во втором отделениях.
Машина всосала следующую порцию сырья.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
Вечером, по всегдашнему обыкновению, в уборной шумно. В тусклом свете угольной лампочки вырисовываются оживленные лица ребят. Завитками плавает горький махорочный дым. От него скудеет и без того скудное освещение, и почти совсем пропадает в дыму отсыревший пятнами потолок.
Но шкидцам не привыкать. Еще ни один не принял да и не примет валета за короля и не перепутает девятки с десяткой.
Слышатся короткие, азартные отрывистые фразы:
– По банку!
– Прикупаю!
– Мажу десять?
– Очко!
– Бей!
Игра ведется обычно. Сначала под завтрашнюю пайку хлеба, потом под послезавтрашнюю. С тем, кто продул пайки на полгода или на год вперед, под хлеб не играют. Начинают играть под суп. Сначала под "густышку", потом под "водичку".
Подле играющих сидят, тоскливо наигрывая на зубариках, неудачники. Все, что можно, они уже проиграли.
В дверях появляется Химик.
– Раздвинься, братва, — кричит он, размахивая самоделкой. — Испытание шпалера новой -конструкции. — Пара шкидцев, пришедших в "казино" не для игры в карты, кубарем скатываются со стульчаков. Подтягивая штаны, они присаживаются к боковой стенке.
– Зря, — торопливо говорит Арбузов: — взбаламутишь халдеев, — запоремся мы тогда.
Его слова заглушает грохот от выстрела. Вся уборная в дыму…
Химик ушел, на стульчаках опять те же шкидцы. Арбузов банкует снова, все по-прежнему.
Но в дверь просовывается привлеченный выстрелом Сашкец.
– А ну, выходи! — кричит он. — Опять Владимирский клуб устроили? — И подозрительно разглядывает Арбуза. Арбуз прячет карты.
– Опять играл?
– Что вы, что вы, дядя Саша, — беспокоится тот. Благополучно проскочив мимо халдея, Арбуз говорит возмущенно:
– Ни тебе п-пакурить, ни оправиться!… Парядочки…
И на всякий случай прибавляет шагу. Сашкец может раздумать, обыскать и отнять карты. А карты у Арбуза настоящие, не то что у всех остальных шкидцев, которые делают себе их из бумаги и любовно зовут колотушками.
Через десять минут в уборной играют снова.
– Эх, ну и плохо же у вас, братцы, — бубнит новичок Мамонтов; он мал ростом, светлоглаз и похож на бычка: — не жизнь у вас, а гроб. В карты нельзя перекинуться… У нас, бывало, воспитатель подойдет, начнет разоряться, а мы ему в ответ: "В рыло не хочешь?"
– А он? — спрашивает кто-то, завистливо вздохнув.
– Что он? — отвечает Мамонтов. — Повертится, повертится, да и сам сунется к нам: "Что с вами, мерзавцами, делать? Давайте и мне карточку". А мы ему: "Постой сначала у дверей на стреме".
– Ну? — спрашивает опять тот же голос.
– Что ну? Стоит и стремит.
Игра приостанавливается. Все ждут, что еще скажет новенький. Но он молчит.
– Ну и жить вам шикарно было! — говорит восхищенно Кузя. — Только лепишь ты! Не верю, чтоб вы в карты резались, а халдей на шухере стоял. Это чтоб мы тут сидели, а Сашкец в зале стоял и Викниксора стремил! Да нас предупреждал!
– Паразитом я буду, если вру, — сердится Мамонтов. — У нас так всегда. А таких сволочей, как ваш Сашкец, мы возили почем зря, темную им делали. Помню одного — такая же задрыга, как и Сашкец, — сам маленький, а басит, глотка что у кита. На лестнице поймали. Воспитательница увидела, в бессознание упала. А мы и ее тоже, заодно, избили. И с лестницы скинули, этажом ниже. Вот потеха была!… — И Мамонтов смеется.
Смеется он странно, весело, как будто его щекочут, но -лицо остается по-прежнему неподвижным и хмурым. От его смеха делается жутко.
– А вам было что за это? — робко обрывает неприятную тишину Кузя.
Лицо Мамонтова темнеет.
– Раскассировали кого куда. А меня к вам.
Сизыми завитками плавает махорочный дым. В тусклом свете угольной лампочки вырисовываются ребяческие лица, серьезные и задумчивые. Все тускло, бледно и неестественно.
– А не плохо бы, братцы, — говорит Арбуз, взбудораженный рассказом новенького, — Сашкецу темную организовать… Замучил, задрыга, своей историей. А на кой кляп нам его история сда-лась!?…
– Верно… — подхватывает Якушка. — Давно Сашкеца крыть надо. Из-за него мы в пятых разрядах сидим и в кино не ходим. И обедаем мы после всех из-за проклятого Сашкеца. Бить его надо.
Неожиданно гаснет лампочка, и в уборней сразу делается темно и тихо. И сейчас же с грохотом хлопает выстрел, и ликующий голос Химика слышится из коридора:
– Хряй, братва, в залу! Там Сашкеца кроют!
2
По верхнему этажу, стекаясь в полнейшей темноте, двигались шкидцы. Иошка с Фокой тащили из столовой клеенку, чтобы набросить ее на халдея. Кузя с Якушкой шопотом переругивались из-за кочерги. Шикнули на заряжавшего свой шпалер Женьку. У каждого в руках было "холодное" оружие: веревки, палки, плевательницы.
Не отличавшийся храбростью Сашкец совершенно растерялся, когда вдруг потух свет и в него со всех сторон полетели куски штукатурки и хлебные корки.
Он притаился в углу между стеной и пианино, и шкидцы, не видя халдея, прекратили обстрел. И хотя в дверях с двух сторон слышался подозрительный шум и движение, Сашкец решил, что все кончилось и, зашевелившись, осторожно выглянул наружу. Но сейчас же рядом чей-то знакомый голос прошептал: "вот он", раздался визг, понеслись под ноги плевательницы, градом посыпались на лысеющий череп куски штукатурки, корки и дохлые крысы. Халдей заметался, побежал в коридор, чтобы прорваться на лестницу и к учительской, но там уже, в полнейшей темноте, на него накинули клеенку, сшибли с ног, огрели по спине кочергой, и вся толпа стеснившись, ожесточенно принялась дубасить несчастного воспитателя.
Вспыхнул свет.
Это Викниксор, спустившись к трансформатору, повернул выключенный рубильник.
Шкидцы разбежались.
3
У Дзе с утра болела голова. После уроков он сразу ушел в спальню и заснул.
Проснулся он от визга, свиста и грохота рядом в заде. Света не было… Дзе полежал еще немного и наконец осторожно выглянул из спальни в коридор. В ту же минуту вспыхнул свет, и шкидец увидел бросившихся врассыпную ребят и зашевелившийся под клеенкой на полу какой-то предмет. Предмет оказался Сашкецом. Поднявшийся с полу избитый и потрепанный воспитатель тоскливо взглянул на Дзе и вдруг, перекосившись от злобы и слез, закричал:
– А-а… это ты!… Это ты все, негодяй!… Ты!… Ты! Ты!…
– Что я? — растерялся Дзе.
– А вот увидишь! — всхлипнув, взвизгнул Сашкец и побежал вниз навстречу Викниксору.
4
Дзе знал, что про него в этой суматохе не забудут, и на другой день решил объясниться. Но его предупредили.
На первом же уроке в класс вошел Викниксор и, посмотрев на поднявшегося грузина, коротко приказал:
– Вот что, — убирайся домой…
– Это была ошибка, Виктор Николаевич, это было так,
– Довольно. У тебя хватает еще наглости не только хулиганить, но и врать…
Дзе вспыхнул:
– Позвольте…
– Я ничего не могу позволить. Я все знаю, и мне, известна ваша лисья манера отпираться…
– Вы не даете мне сказать, Виктор Николаевич…
– Я не хочу слушать хулигана.
– Ну, и черт с тобой! — заорал садясь и хлопая партой Дзе.
Викниксор от неожиданности шатнулся и, справившись с волнением, деланно-спокойно заговорил:
– По-жа-луй-ста, пожалуйста без грубостей… После всего этого ты, конечно, понимаешь…
– Понимаю, — огрызнулся шкидец, шаря в парте и вытаскивая свое барахло: — Не пой, чирий сядет. Без вас обойдемся.
Викниксор сдержался и, отойдя к двери, прикрикнул:
– Скорей убирайся.
– Успеешь! — процедил Дзе.
– Сволочь, — кинул Воробей, когда зав вышел. Ребята окружили Дзе. Никто не знал, за что его вышибают.
– За вчерашнее. За избиение! — говорил собираясь, Дзе. — Только напрасно все… А, впрочем, черт с ней, со Шкидой… Всех мало-по-малу вышибут. Сегодня меня, завтра вас.
Гурьбой провожали шкидцы до выхода. Долго невесело прощались.
Из канцелярии вышел Викниксор и раздраженно сказал:
– Дежурный… Выпустить вот этого!
Дверь отворилась.
– Всего.
Одним старым шкидцем в Шкиде стало меньше.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1
То ли пошли какие-нибудь слухи о шкидских непорядках, то ли, наоборот, начали толковать об его достижениях, или просто случайно, — но в Шкиду прислала своего сотрудника "Красная газета".
Это было утром, во вторник, в начале февраля месяца.
Сашка пошел с Химиком и Лепешиным в музей выбирать книги, но к ним вбежал красный и вспотевший Кира. Не говоря ни слова, воспитатель схватил стоявшую на виду швабру и пихнул ее за шкаф; потом опять метнулся к двери и, приятно улыбаясь, приветствовал:
– Пожалуйста, пожалуйста… это наш музей… Будьте любезны, посмотрите…
Корреспондент, обросший бородой, невзрачный и больной человек в солдатской шинели, с красным зазябшим носиком, проскочил мимо Киры и, суетясь и сбиваясь, закивал:
– Тэк-с, тэк-с… Очень приятно… Очень приятно… Очень приятно…
– А это, обратите внимание, наш бессменный заведующий музеем… Очень способный и умный ученик четвертого отделения. Подает большие надежды и, так сказать…
– Ага, ага… Тэк-с, тэк-с, тэк-с… Очень приятно, — лепетал, оглядываясь, корреспондент. — Это что у вас? Ах, да, музей… Тэк-с, тэк-с… И, что же это все ваше, ваши работы?
Шкидцев рассмешило, что оживленный и непринужденный Сашка необыкновенно вытянулся и чужим, официально-сухим голосом и словно давно заученное начал объяснять:
– Перед вашими глазами находится организованный недавно учащимися школьный исторический музей. Он, то есть музей должен показать и отобразить прошлое школы… Перейдем к обозрению отделов. Вот здесь витрины периодической печати: школьные газеты и журналы, вышедшие за последние три года.
– Что вы говорите? — изумился корреспондент. — Так много, и все это вы сами издавали?
– Да-с, — подскочил Кира: — это все ученики составляли… самостоятельно-с…
– В распоряжении музея, — продолжал Сашка
тем же неестественным голосом, — имеется 107 названий и 361 экземпляр. Это половина всех газет и журналов, издававшихся в школе. Все остальное находится в собственности издателей и редакторов.
– Поразительно, черч возьми! — бормотал корреспондент, суетливо хватаясь за журнал. — "Аргонавты"… Что это… Ведь это стихи…
Даль глядит очами хризолита,
Поле сон отмаливает рожью,
Небо — синий океан разлитый,
Разлитой огнем во славу божью…
– Стихи… Настоящие стихи… поразительно, поразительно!
Ночами хмельная река
Пойдет пениться хлестко
И ветер пьяный трепака
Отплясывать по перекресткам…
– Это вы сами писали?… Сами?… Гм!…
– Здесь, — продолжал Сашка, — расположены более солидные издания. Мы имеем здесь сборники, альманахи и книги отдельных авторов, наших учеников.
– Вот! — Кира протянул потрясенному корреспонденту небольшую изящную книжку. — Вот некоторым образом философское сочинение; тоже наш ученик написал.
– Что такое?… покажите, покажите!… "Мысли и афоризмы". Что такое?… "Человечество вечно, последовательно идеализирует"… Гм… гм… "Сейчас нет почвы для романтизма"… Правильно. Романтические герои… останавливали и укрощали взбесившихся лошадей, ну, а теперь как остановить взбесившийся автомобиль, да и не бесятся они вовсе…" Остроумно… Поразительно остроумно.
– Перейдем теперь к отделу живописи, — ровно и звучно продолжал Сашка: — у нас представлено здесь и масло, и акварель, и графика… Далее цикл, относящийся к изучению Петербурга. Внизу — все написанное по этому вопросу воспитанниками. Эта
витрина посвящена деятельности литературно-художественных объединений, в частности обществу "Земное Кольцо" и его издательству. Здесь, в этом шкафу, хранятся архивы и документы, относящиеся к истории школы… Здесь же, в музее, идет точная и подробная разработка их! Все исследования своевременно публикуются в органе музея "Исторический вестник". Вот, кстати, последний номер.
– Невероятно, невероятно, — лепетал совершенно растерявшийся и задавленный корреспондент.
На стенах висели великолепные портреты (несколько лет назад нарисованные учителями рисования). Из шкафов выглядывали солидные папки документов. На столах грудами громоздились газеты, журналы, книги, альманахи. Со страниц глядели поражающие слова, мысли, стихи.
– Романтизм… Человечество… Идеи… — лепетал корреспондент и вдруг взвизгнул: — Да ведь у вас не дефективный детдом, а академия! Да-с! У вас не ученики, а сплошь философы, поэты, ученые… Читатель обязательно должен познакомиться с вашими достижениями. Я подробно опишу школу имени Достоевского в газете.
Химик и Лепешин вздрогнули. Они быстро переглянулись и, сразу поняв друг друга, незаметно выскользнули из музея…
Через минуту школа заволновалась.
Огромная толпа бросивших свои уроки "философов, поэтов, ученых" сбежалась вниз, к музею. Халдеи сразу же куда-то исчезли. Корреспондента притиснули к стенке. В воздухе повисли жалобы, крик, мат…
– Что вы там музеи осматриваете? — кричал "академик" Будок. — Они так напоют вам, халдеи… Вы посмотрите лучше, что в школе творится… Житья никакого нет.
– Разрядами замучили…
– В изоляторах по неделям сидим…
– Бьют.
– Без обедов…
– Не раньше…
Почувствовавший опасность, корреспондент вытащил из-за пазухи огромный засаленный блокнот и, мелко трясясь и ничего не понимая, суетливо зачирикал на листках…
Но, должно быть, это не всем было видно: задние поднаперли на передних, передние поднаперли на корреспондента, — сбоку кто-то выстрелил. Корреспонденту показалось, что начинается восстание; он слабо закричал, начал пробиваться через толпу и, теряя по дороге листочки блокнота, кинулся к выходу.
– Что это такое? — спросил у Сашки проходящий учитель математик. — Все бросили уроки, побежали сюда, начали кричать и жаловаться… Почему это случилось?
– Накипело, дядя Миша, — ответил шкидец, — накипело у ребят и сорвалось.
2
На следующей перемене Химик увидел Сашку в зале. Сашка стоял у окна и рассказывал обступившим его ребятам про появление и исчезновение корреспондента.
– Наговорил я ему сорок бочек арестантов, он сразу и обалдел. Идет и обо все столы по очереди стукается… Ей-богу!…
Вдруг все в зале затихло.
Из двери прямо к кучке у окна шел Викниксор. Химик увидел его последним.
– Тш-ш…
– Ну-с, — иронически глядя на Сашку, проговорил заведующий: — объясни мне, сделай милость, что у тебя там накипело?
Толпа зашевелилась; некоторые злорадно, предчувствуя дешевое развлечение, засмеялись; некоторые робко попятились и начали пробираться к дверям.
Сашка стоял бледный.
– Я не понимаю вас.
– Вы изволили изъясняться в ваших чувствах в присутствии лиц, которые могут засвидетельствовать это. Впрочем, если вам по всегдашней вашей привычке благоугодно будет начать отпираться…
– Что вы хотите?
– Да что у тебя накипело, скажи мне… Ну, не смущайся, светик, не стыдись, подними глазки, стань ровненько и начинай…
– Хорошо! — Сашка сжал в карманах кулаки и поднял голову. — У меня накипело вот что. Всегда, как только кто-нибудь приходит в школу, вы водите и показываете музей и все хорошее… А обо всем скверном, которого у нас до черта, всегда молчите и замазываете…
– Постой. Во-первых, сегодня корреспондент пришел в мое отсутствие, а, во-вторых, где ты нашел плохое, что тебе не нравится?
По залу, весело разговаривая, прошли Иошка, Фока и третьеклассник Душка. Фока взглянул на толпу и улыбнулся…
– А Саша наш опять агитирует; теперь, кажется, добрался уже до Викниксора…
– Он неисправим! — пожал плечами Иошка.
– Разве это допустимо? — горячо говорил Сашка.
– И разряды, и "летопись", и изоляторы, и оставление без обедов, и многое другое… Что вы там тычете гостям музеи и журналы, почему вы не покажете им изолятор?
– Слушай, можно говорить, но нужно и следить за тем, что говоришь. И летопись, и разряды, и изолятор — это система… Наказания в дефективной школе необходимы — это истина непреложная…
– Допустим… Пусть наказания нужны… Но ведь в школе произвол, каждый воспитатель делает то, что он захочет…
– Каждый воспитатель действует на основании инструкции.
– А где она? — вырвалось неожиданно у Химика. Инструкция ваша?
– Инструкция в канцелярии, и показывать ее каждому сопляку мы не находим нужным. Но мы действуем, руководствуясь ею…
– Хорошо, — продолжал Сашка, — у вас есть общая инструкция, но ведь все-таки воспитатели, и руководясь ею, могут делать все, что им вздумается. Вот, например: идет шкидец и держит руки в карманах; один воспитатель и внимания на это не обратит, а второй возьмет и запишет: "нет такого закона — скажет, — чтобы руки в карманах держать". Или на подоконник сядет кто, — один воспитатель не запишет, а второй, запишет. "Это непорядок, — скажет, — я на основании инструкции должен за порядком следить, а раз его нарушают, должен записать" — и запишет; и прав… Нет, Виктор Николаевич, школьного основного закона у нас нет… А помните, вы же сами на древней истории, когда мы про Дракона и Ликурга учили, вы сами сказали, что закон, даже самый суровый, самый жестокий, лучше беззакония…
Когда Сашка говорил, в зале стало совсем тихо, и только слышался его одинокий, взволнованный голос… Викниксор молчал и был казалось, тронут горячностью шкидца.
Но перемена уже успела кончиться и дежурный начал звонить на урок.
Викниксор опустил свою ладонь на Сашкино плечо.
– Хорошо… Я буду помнить все, что ты сказал. Мы обсудим на педсовете вопрос об основном законе, о школьной конституции… И это хорошо, что ты горячился и высказал. Не забывай так делать и дальше… А теперь, — возвысил он голос, обращаясь к остальным, — идите в классы…
3
В представлении Химика халдеи были породой людей, которая действует всегда противно природе и здравому смыслу. И он, казалось, знал наверняка, как должен поступить халдей Викниксор при разговоре
с Сашкой: сначала обругать, потом закричать, вцепиться в загривок и поволочить в изолятор. Так делали все. И заведующий "Пешка" из детдома "Красный Молот", и заведующий генерал с Миллионной, и профессор Подольский в своем морально-социальном институте.
Викниксор так не сделал… Он не кричал на шкидца, а, наоборот, пообещал все запомнить и обсудить на педсовете. Он не потащил его в изолятор, а одобрил и похлопал по плечу. Он выслушал его и был взволнован.
Химик за свою жизнь стал двужильным человеком, и никакие чувства, а тем более халдейские, не могли прошибить его. А между тем, когда шедший с ним рядом Лепешин пробормотал с самым искренним недоумением, что ведь Викниксор-то оказывается парень что надо, Химик поддержал своего друга.
Они весь день порывались сходить к Сашке и поговорить с ним и о конституции, и о Викниксоре, но, как на зло, Лепешину подошла очередь дежурить по классу, а к Химику придрался извечный его враг Амебка и велел стоять после уроков в наказание. Потом был ужин и опять уроки, и только после вечернего чая смогли ребята попасть к Сашке.
И тут им не повезло: Сашка в музее был не один; рядом с ним у топящейся печки сидели Иошка и Душка, а на диване, привольно расположившись и не боясь измять свой новый коричневый костюм, курил Фока.
– Входите, входите, — крикнул Сашка, видя, что Химик и Лепешин хотели уже повернуть обратно. — У меня ведь сегодня званый вечер. Я вам утром и сказать не успел, чтобы вы меня поздравили… Мне сегодня стало 16 лет.
– Ну? — неизвестно отчего обрадовался Химик. — Ишь ты как… поздравляю.
– Поздравляю, — тихо сказал Лепешин и покраснел.
Самым неприятным для Лепешина было присутствие в музее Душки. Этот красивенький и похожий на куклу шкидец с синими женственными глазами и нежным лицом, — "Херувимчик" и "Душка" по прозванью всех окрестных марух и торговок семечками, сердца которых он покорял одним взглядом, — был самым отвратительным из шкидских ростовщиков. Он осторожно и с чисто паучьей вежливостью опутывал своих должников, нагонял и выколачивал огромные проценты, действуя где сам, где через подставных лиц, не стесняясь пускать в ход и ругань, и кулаки, и фискальство… Неизвестно, как он попал в Иошкину компанию, которую с легкой Сашкиной руки называли "золотой молодежью".
Может быть, привлекало присутствие блестящего, аристократичного Фоки; может быть, надоела своя ростовщическая брашка…
Как-то не верилось, глядя на него, что юноша с таким чистым и нежно-откровенным лицом мог изо дня в день подличать и заниматься грязными делами. Именно эта двойственность и свела с ним Иошку. Тот любил все необычное, странное и ненатуральное. Он часто подолгу и откровенно, во всех омерзительных подробностях расспрашивал Душку, — которого прозвал Дорианом Греем, — о его должниках, ссудах и процентах, хотя чаще всего тот просто отвечал: "Деньги не пахнут".
Сейчас Душка даже показался Лепешину еще более неприятным, чем обычно… Он видел, как этот шкидец затащил в уборную и колотил там своего одноклассника Федорку, вконец проигравшегося картежника, который безнадежно задолжал ему рубль… Душку боялись, хотя ни силой, ни храбростью он похвастаться не мог, а поддерживал уважение к себе хвастовством и рассказами шпанских историй, где обязательно участвовал он и трупы, ножи, шпалера, кровь… Его даже и звали за это: "два ножа и сбоку пушка".
– Ты определенно неисправим, Сашка, — раскачиваясь на стуле и кривя свой большой и некрасивый
рот, насмешливо говорил Иошка: — я слышал, что ты договорился с Викниксором до конституции… Ну, что ж, бог в помощь, в добрый час. А все-таки ты идиот, прости меня. Кого ты у нас насмешишь этой допотопщиной? Хочешь, расскажу тебе про нашу шкидскую демократию… Про остракизм наш знаешь? Приходит к Викниксору делегация, говорит: желаем искоренить воровство, созвать собрание, чтобы каждый подал записку с фамилией. Чья фамилия пять раз повторится, тот огребает лавру или реформаториум, знаешь это?… Ну так вот: против меня пятнадцать человек собралось. А Женька?… Купил себе за пуд хлеба должность старосты по кухне…
– Постой, — перебил Сашка. — Ведь ты говоришь о том, что есть сейчас, а я хочу, чтобы этой мерзости не было. Основной закон, устав школьный нам нужен сейчас как воздух… А демократия наша… ее надо направлять… Ею будет руководить группа передовых ребят, коллектив в роде юнкомовского.
– Да ты, ей-богу, чудак! — расхохотался Иошка.- Он хочет организовывать Юнком, а… Что вы на это скажете, банкир?…
– Черта с два, — хрипло ответил Душка. — Разгонят их, как и раньше разогнали. Нашли с кем дело иметь — с Викниксором, задрыгой чертовым…
– Нет, отчего же, — тряхнув белокурой головой и швырнув окурок, отозвался с дивана Фока. — Организация, вообще, вещь хорошая, только ее организовать уметь надо, со смыслом… Подпольная, например, организация. Вот как у нас в школе было общество "любителей выпить и закусить", лига "Железный крест" или еще "Союз святого Георгия-победоносца".
– Погоди ты со своими фашистиками, — улыбнулся Иошка. — Знаем ведь дела ваши: малышей чернилами пачкать да учителям смертные приговоры выносить.
– Ну нет, у нас и серьезное было… Например, борьба с еврейско-комсомольским засилием, борьба против революционных кампаний…
– И организация еврейского погрома, — саркастически подхватил Сашка. — Знаю, знаю… Сам ведь хвастался, как накануне Пасхи вывесили плакат: "Всем, всем, всем… Только у нас в ночь с субботы на воскресенье еврейский погром… Монопольно на весь Петроград"… Здорово…
– Подумаешь, — протянул Иошка: и пошутить уж нельзя… По-твоему, всем надо сидеть по музеям и греться у печки… Вообще, знаешь ли, у вас есть нехорошая манера все преувеличивать… Поколотят где нибудь жидка — "еврейский погром", разнесут ларек — "бунт", изволохают мильтона — "бандитизм"…
"Ничего себе рассуждает, — подумал Химик: — а еще председателем Юнкома был!…"
– Ты говоришь о ненормальностях, — загорячился Сашка, — и по своему обыкновению передергиваешь и съезжаешь на другое… А я все-таки скажу, что если у нас будет школьный устав, все эти ненормальности исчезнут. Наша школьная конституция…
– Конституция…- Ой, уморил!… Нашли халдеи дурака, который поверил им… А помнишь раз в третьем классе о конституции говорилось… Тоже Викниксор обещал подумать и обсудить. Верно — думали и рассуждали, только вместо конституции решили открыть второй изолятор… Получите, мол, пока каталажку, а об законах поговорим после…
Лепешин сидел и, расширив свои большие мечтательные глаза, жадно прислушивался. И только в мозгу неотступно почему-то вертелось название книжки "Оцеола, вождь семинолов".
Химику, наоборот, было скучно; он посидел, поболтал ногами и, заметя на столе книжку, взял ее… Стихи… Интересно.
Шуми, шуми с крутой вершины,
Не умолкай, поток седой,
Соединяй протяжный вой
С протяжным отзвуком долины…
– Ну ладно, — поднимаясь, проговорил Иошка: — сделали мы тебе именинный визит, поздравили, поговорили, а теперь и погулять хочется… Пойдем…
– С удовольствием, — быстро и радостно отозвался Сашка. — Со вчерашнего дня не был на улице… Смотрите, что это такое?… Химик зачитался Боратынским… Нравится тебе?…
– Нравится… Красиво написано…
– Так ты возьми… почитай еще… Да иду, иду — не тяните…
* * *
"А черт его знает, — размышлял над Боратынским Химик. -"А ведь и Сашка к ним в компанию втянется; ну факт, что втянется, раз гулять пошел…"
И вздрогнул.
– Хорошие ребята, — говорил рядом Лепешин, — Прямо фартовые даже.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
1
Все разговоры о "конституции" и школьном уставе обернулись самым странным и неожиданным образом.
На педсовете после краткого, викниксоровского сообщения поднялась целая буря.
Сашкец сказал, что если сейчас воспитанники проводят все время в бузе, занимаются воровством, картами, ловят и избивают воспитателей, то что же будет, если им дать конституцию?…
Кира добавил, что распущенность ребят дошла сейчас до такого предела, когда приходится думать только о введении новой, более жестокой системы наказаний:
– Не конституция им нужна, а арапник!…
Амебка, соглашаясь во всем с высказанными положениями, рекомендовал не откладывать дела в долгий ящик и немедленно перейти к обсуждению новых мер пресечения и наказания.
Эланлюм заметила, что в Шкиде к без того достаточно хорошее отношение и что давно пора усилить репрессивные меры.
Селезнев целиком поддерживал мнение всех "предыдущих товарищей".
Дядя Коля поддерживал мнение Селезнева.
Сашкец выступил вторично и внес проект резолюции: объявить непримиримую и усиленную борьбу с картами, бузой и воровством, ввести в школе особое положение, отменить прогулки и отпуска; произвести налеты на уборные и выловить всех злостных картежников; в течение месяца устроить остракизм; дать воспитателям право безапелляционного перевода в штрафные разряды; в случае переполнения изоляторов учредить еще один вспомогательный.
Костец заявил, что если будет введена конституция, он уйдет из Шкиды; Селезнев грозил месткомом. И упрямо защищавшемуся Викниксору ничего не оставалось, как сдаться. Резолюция Сашкеца была принята.
Тут наступил перелом.
Опять выступил Сашкец и, заметив, что следует только приветствовать своевременность постановки вопроса о школьном основном законе, прибавил:
– Когда школа будет усмирена и приведена в нормальное состояние, нужно и должно будет создать комиссию для разработки важнейших положений конституции.
Соответствующее дополнение было принято единогласно, и Викниксор велел вызвать из музея Сашку.
– Вот, — сказал Сашке заведующий: — ты можешь убедиться теперь, что мы всегда идем навстречу лучшим элементам школы. После того как школа будет замирена и выправлена, мы станем на путь самоуправления, законности, конституции; на путь, который…
– Ах, Виктор Николаевич, — перебил Сашка.- Не с того вы начинаете… Ведь ребятам и сейчас от разрядов да изоляторов не дохнуть, а вы хотите
новые наказания вводить… И вы ошибаетесь, если думаете, что это подействует на нас, нам теперь все нипочем: мы привыкли…
– Ну ладно, — поморщившись, махнул Викниксор. — Ладно, иди… Тебе нас учить нечему, мы знаем, что и как делать. Иди!
– Не понимает еще — добавил он, когда сконфуженный Сашка вышел.
– Да,-с усмешкой поддакнул Кира, -не педагог, сразу видно…
2
"В бузе, обретешь ты право свое".
"ВОЗРОЖДЕННЫЙ АППЕНДИЦИТ".
"Официальный орган Шкидского Общества любителей выпить и закусить".
№ 1
Улиганштадт.
Февраль 1924 года.
МАНИФЕСТ.
Дорогие товарищи.
Последние дни мы имеем некоторым образом возрождение и оживление нашей дорогой и уважаемой шкидской общественности. Прославленный в летописях нации великий ученый и политический деятель, директор государственного музея Шкиды, обратился к президенту республики г-ну Викниксору на предмет выдачи конституций. Вняв голосу общественности и по обсуждении этого вопроса с государственными чинами, президент приказал в двадцать четыре часа распубликовать все имеющиеся свободы и по расстрелянии донести. Когда свободы были вконец распубликованы, серый и некультурный народ наш начал кричать и выражаться. И мы, объявляя себя верными сынами Шкидского отечества, со всей ответственностью сказанного заявляем: "мало вас, чертей, драли, узнаете теперь свободу!" И с восторгом ждем того дня, когда конституция сделается наконец достоянием долготерпеливого нашего народа.
Любители выпить и закусить.
ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИЙ,
внесенной обществом в комиссию по выработке основного школьного закона.
1. Сим объявляется на территории Шкиды полная свобода.
2. Все шкидцы без различия возраста, роста и аппетита могут делать все, что им захочется.
3. Все воспитатели могут тоже делать все, что им захочется.
4. Для того чтобы шкидцы не делали все, что им захочется, учредить на предмет пресечения в каждом классе изолятор и приставить к нему по субъекту с Летописью.
5. В остальном порядок старый.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В помещении редакции сегодня вечером состоится закрытое собрание общества любителей выпить и закусить.
Доклад председателя общества Г. Ионина
"Практика самогоноварения".
Вход по членским билетам. Рюмки и приборы приносить с собой.
3
Речь Викниксора, посвященная генеральной чистке школы, на ребят не произвела никакого впечатления. И сказана-то она была наспех, торопливо, и в конце обеда — и поэтому сразу и забылась. Никто во всей Шкиде не думал, что халдеи серьезно готовят наступление.
Два налета — на верхнюю и нижнюю уборную — были произведены одновременно. Наверху удачи не было. С коридора кто-то успел крикнуть "зеке", кто-то, не растерявшись, перерезал провода, и в темноте карты, шпалеры и ножи побросали в стульчаки и залили водой.
Внизу шла крупная и азартная игра. Банк держал Голый Барин; играли: Арбуз, Женька и Душка. При появлении халдеев они успели бросить карты; Голый Барин, который стоял спиной к дверям, был схвачен прямо с колодой в руках. При обыске у него нашли нож, шпалер и банку с порохом. Потом шкидца отпустили, а обо всем происшествии пошли докладывать Викниксору.
"А чорт с ней, с запоркой! — думал, сидя в классе, Голый. — Пятым разрядом отгавкаюсь; месяц на улицу не пустят!
Голый ошибался.
Через несколько минут в класс пришел Викниксор.
– Ребята! — хмурясь сказал он. — В вашем классе есть преступники, картежники — майданщики. Ты, — обратился он к Голому, — сейчас пойдешь домой. Мне рецидивистов и атаманов не нужно… Убирайся сейчас же из школы и не задерживайся!
– Мне некуда идти.
– Домой.
– У меня нет дома…
– К матери…
– У меня нет матери.
Викниксор приподнял брови:
– У тебя есть мачеха.
– Она не примет меня к себе.
– Нас это не касается… Мы преступников в школе держать не можем.
– Мне некуда идти, Виктор Николаевич.
– Виктор Николаевич, — заговорил Иошка: — ему верно некуда идти. Нельзя же выгонять, ведь еще зима, куда же он пойдет?…
– а о чем он думал, картежничая… Вы со своим тюремным товариществом только разлагаете школу. Тебе говорят, — крикнул Викниксор: — уходи! Слышишь?
– Куда же? — криво и сдерживаясь, чтобы не всхлипнуть, спросил Голый. — Куда же идти? Воровать? В Фонтанку с Калинкина моста?…
– А это твое дело… Можешь с Калинкина, можешь с Обводного.
4
Когда железная проржавленная калитка, прогрохотав, закрылась за спиной, и холодный февральский ветер, засвистав, закрутился по темному иссугробленному переулку, подумалось: "Куда идти?"
Голый спрятал руки в рукава пальто, стоял, прислонясь в стенке дома, думал:
Куда идти?
В ночлежку — уже было поздно. И потом у него оставалось только тринадцать копеек денег; остальные были отобраны при обыске в уборной…
Шкидец поежился в споем легком пальтеце и медленно пошел вперед…
Магазины и лавки уже были закрыты. Порошивший снег летел на лицо сухой и непрерывной завесой. Блестящие фонари упирались в темноту конусом света. Был ветер, вечер, мороз. Улица быстро пустела.
Голый Барин прошел по Садовой до Покровского рынка и свернул там к Екатерининскому каналу. Он чувствовал, что коченеет, и шел быстрей и быстрей, пока не побежал… У Аларчина моста остановился, обессиленный и неприятно вспотевший. Он постоял немного, передохнул и повернул обратно. Но опять ветер и холод заставили ускорить шаг и побежать.
Он бегал взад и вперед по улицам, останавливался, тер уши и нос и не заметил, как снова очутился недалеко от Шкиды.
Ворота уже были заперты. Голый перелез забор со стороны переулка и тихонько пошел по двору. Школа спала, и все было заперто.
Голый поднялся по лестнице па самый верх и, свалившись на площадке у дверей чердака, заснул усталым и тяжелым сном.
Сашкец, сменившись с дежурства, пообедал, выспался, сходил в кино и, встретив там дядю Колю, просидел с ним до двенадцати часов в пивной.
Возвращаясь в Шкнду, он пробовал петь, заговаривал с прохожими и дал открывшему ему ворота дворнику на чай двугривенный.
Сашкец жил при школе, в мансарде рядом с чердаком. По лестнице он поднялся благополучно, но
на площадке у самых дверей запнулся и едва не упал.
– Гм, — бормотал халдей: — узел какой-то, тряпки… Нет, не тряпки… Человека кто-то положил… Подкидыш, что ли? Человека подкинули.
Он зажег спкчку и наклонился. Из темноты, освещенное прыгающим светом, выступило посиневшее и скрюченное лицо Голого Барина… Сашкец выронил спичку и торопливо зажег вторую. Потом быстро открыл дверь и втащил шкидца в комнату.
Голый проснулся на широком покойном диване, в странной комнате с низким и накренившимся потолком. Рядом топилась раскаленная докрасна чугунка и стоял Сашкец.
– Ну? — строго спросил халдей. — Ты как попал на лестницу?
Вместо ответа Голый заплакал.
– Ах ты боже мой! — поморщился Сашкец. — Заревел! Ты толком расскажи мне, а не реви…
– Выгнали… Викниксор выгнал… А куда я пойду.- у меня никого нет, только мачеха одна, да и та чужая…
– А за что выгнали?
– За карты… — всхлипнул шкидец:- В карты мы играли в уборной. Кто-нибудь накатил, нас и поймали.
Сашкец отошел к столу и задумчиво забарабанил пальцами… Потом посмотрел на часы и сказал:
– Сиди тут, грейся. Я к Виктору Николаевичу схожу; если он не спит, поговорю с ним.
Голый остался в комнате. Ни думать, ни желать ничего не хотелось. Смотрел на странный скошенный потолок, на странную низкую комнату, слушал, как гудит пламя в чугунке, и чувствовал холод в ногах от промерзших ботинок.
Сашкец вернулся скоро. Запер за собой дверь, снял галоши, разделся и подошел греть руки к чугунке…
На другой день Голого Барина приняли обратно. Сашкецом Викниксор был явно недоволен. И не скрывая этого, сказал, что тем более неуместны подобные ходатайства для воспитателя, предложившего резолюцию об усилении репрессий.
Отпуская добавил:
– Буду надеяться, Александр Николаевич, что подобных историй впредь с вами не повторится.
Известие о случившемся облетело всю Шкиду.
И Сашкец был разом вознагражден за все неудачи. Его воспитанники, кипчаки, клялись никогда не бузить на уроках истории, старательно учить ее и встретили и проводили Сашкеца аплодисментами и криками "ура". В столовой тоже аплодировали, кричали: "да здравствует дядя Саша", а Иошка торжественно пожал ему руку "от лица всей школы".
Учительская была недовольна, и естественник Амеба, отводя в сторону халдеев, жаловался, что Сашкец, "в поисках популярности, действует очень неполитично и разбивает единый воспитательский фронт…"
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
1
– Слышь, Розен! — крикнул Душка, мимоходом заглянув во второе отделение: — не отдашь сегодня трешку, завтра полтинник набавлю:
– Какую трешку? Я у тебя рубль брал.
– А ты считать умеешь?
– Умею…
– Рубль ты у меня когда брал?… В январе. А сейчас апрель кончается. Не отдашь сегодня трешки, завтра три с полтиной будет.
– Да ты что? с ума сошел? — удивляется "барон" Розен. — Два с полтиной на рубль насчитал.,. С Гоголя и получи!
– Как? — нахмурившись подходит к парте Душка: — как ты сказал, зануда? С Гоголя?… Не отдашь?
– Факт, не отдам… Три рубля! — В морду хочешь?
– Дай! — вскакивает "барон": — дай, попробуй.
Раздается звонкая оплеуха… Розен с воем хватается за покрасневшую щеку и падает обратно на парту…
– Ну? — спрашивает Душка. — Хватает? Будешь отдавать или нет?
– Уйди, — плачется Розен. — Откуда я тебе трешку возьму?
Новая оплеуха звонко отдается в классе, и снова воет "барон". Рисующий у окна худой и растрепанный новичок Андреев внезапно бросает краски и бледнеет.
– Оставь… Розена! — задыхаясь говорит он. — Под силу себе нашел, что ли?…
Это неожиданное вмешательство до того поражает Душку, что он действительно оставляет своего должника и глядит на Андреева.
– И ты, значит, в морду захотел?… Смотри, схлопочешь, паразит…
– Сам ты паразит, ростовщик чертов! Гадина ты!… Сука!… Сволочь! У нас таких гадов убивали прямо, в сортир головой сбрасывали…
– Сейчас по морде дам…
– А я тебе такого отвешу, что и не запросишь больше!
Синие душкины глаза становятся совсем темными; нежное, миловидное лицо белеет.
– Стыкнемся.
– Выходи.
Они становятся друг против друга. Худой и неуклюжий художник явно ощущает свое бессилие, глядя на ловкого красавичка-ростовщика. Душка, нахмуренный и злой, смотрит, куда бить… Противников сразу окружают ребята; лица всех мрачны я сосредоточены. Потом раздаются глухие крики:
– Дай ему, Андреев!
– Дай!
– Дай!
– Начни только!
– Не бойся!
– Не бойся, Андреев!
В комнате повисает страшная неощутимая угроза. Душка белеет до синевы и начинает отступать к двери… Чувствует, что сзади уже кто-то заходит… Сейчас -
– Душка! — слышится вдруг из коридора голос Фоки: — куда тебя черти занесли?… Ждать себя только заставляешь! Идем!…
2
Ваську Андреева прислали из провинциального реформаториума. Прислали потому, что он сам настойчиво просил отправить его в Питер, где хотел учиться рисованию…
Худой, длинный, неуклюжий, с растрепанными жидкими волосами, с папкой рисунков, с ящиком красок, Андреев появился в Шкиде в середине апреля. Его посадили во второй класс, и он, обосновавшись у окна, принялся за карандаши и краски, рисуя портреты ребят.
И шкидцы сразу прониклись почтением к новичку, хотя он не обращал никакого внимания на происходившее вокруг него, рисовал, читал и непонятно чудил.
Когда в Шкиде в первый раз с зимы открыли окна. Андреев поставил на подоконник стул и, усевшись на нем, принялся рисовать эскиз, поплевывая по привычке в сторону. Плевки шлепались на панель, на головы и лица прохожих, и вскоре внизу уже собралась и шумела достаточная толпа.
Тогда Андреев встал во весь рост на подоконнике и, вытянув руку, произнес:
– Умолкни, чернь непросвещенна! — и сбросил на улицу стул.
Озлобленная "чернь" не умолкла, а подступила к дверям и начала ломиться в Шкиду… Ребята сбегали в четвертое отделение, и там Фока, обличьем похожий на халдея, сошел вниз, открыл дверь и, приняв протянутый стулик, сообщил бушующим гражданам, что воспитанник сумасшедший, сейчас сидит в смирительной рубашке и будет отправлен в сумасшедший дом.
Этот-то Васька Андреев, после неудавшейся своей стычки с Душкой, увидел, что никто из ребят не расходится. Вполголоса начался разговор, и после недолгого препирательства решили крыть Душку вечером в спальне…
3
Почуявший недоброе Душка пришел в спальню не один, а в одно время с Фокой, Иошкой и своим другом по амурным делам третьеклассником Бобром.
На его кровати в ногах сидел Андреев, кругом в проходах и на постелях толпой громоздились ребята, в стороне стоял Купец, которого упросили перехлестнуться с Фокой, если тот станет заступаться за ростовщика.
И те, кто пришел с Душкой, сразу поняли, что если они помогут ему, — их будут крыть заодно: в спальне собралось человек семьдесят ребят — почти вся Шкида.
Душка увидел, как опустились глаза у Иошки, Фоки и Бобра, — они остановились у кроватей, не глядя на собравшихся, принялись торопливо раздеваться, а он продолжал идти к своему месту, навстречу толпе, навстречу темным ожидающим лицам, тяжелому болезненно-неизвестному страху.
Толпа расступилась перед ним и снова сомкнулась за спиной…
Навстречу встал Андреев. Рядом с ним оказался Розен с толстой, сложенной вчетверо велосипедной цепью, которую принес Лепешки в доказательство, что его велосипед не "мифология".
– Ну, — сказал Андреев, — теперь стакнемся? Душка опустил руку в карман, нащупывая нож.
– Я с тобой драться не буду,- тихо сказал он.
– Нет, будешь! — закричал, вспыхивая Андреев! — Будешь, гадюка, я тебя заставлю… Слышишь?…
– Я драться не буду…
– Будешь!…
– Не буду.
– Будешь!!!
Ребята сдвигались вокруг плотной непроходимой толпой. Розен вытягивал вперед велосипедную цепь. Иошка, дрожа, стаскивал и срывал одежду, срывал ботинки, спеша раздеться и броситься в кровать…
– Ну? будешь?
– Пойдем в класс… Один на один… Тогда буду. — Ага! — Закричали в толпе. — Испугался, сволочь!… Дай ему, Андрюшка…
– Дай!
– Начни только!
– Не бойся!…
Все ждали, чтобы Андреев "разжег темную". Но неожиданно Розен ударил по голове Душку велосипедной цепью; ростовщик закричал и, растопырив руки, упал на колени, уткнувшись лицом в постель.
Иошка судорожно натянул на уши одеяло и стиснул зубы…
Тишина раскололась ясным и спокойным вопросом:
– Что у вас здесь происходит? Почему все одеты и не в кроватях…
В дверях стоял Викниксор с дежурными воспитателями.
Все молчали. Никто не смотрел ни на заведующего, ни на поднимающегося с пола Душку. Викниксор махнул воспитателям, чтобы они вышли, прикрыл дверь и подошел к ребятам.
– Объясните мне все, что у вас здесь было; говорите, не бойтесь!…
Тогда один за другим шкидцы начали говорить,
И от злости, сдерживаемой ненависти, в пылу обиды на Душку наговорили таких дел, к которым он не имел никакого причастия. Но Душка боялся сказать слово и только тихо всхлипывал, держась рукой за окровавленный затылок.
– Хорошо, — сказал Викниксор, — мне теперь все ясно… Он виновен перед вами. Только незачем было устраивать избиение… Поступите с ним организованно…
– Мы и поступили организованно…
– Нет — мордобой тут ни к чему. За его поступки его надо судить… Устроим завтра собрание и сообща решим, что сделать…
– Соглашайтесь, ребята! — глухо проговорил с кровати Иошка. — Так, как Виктор Николаевич говорит, — лучше…
– Правильно, — поддержал его Лепешин. — Засудим эту сволочь завтра… Давай, Розен, цепь, ничего больше не будет…
Викниксор взял слово с ребят, что они не тронут Душку и ушел из спальни позвать воспитателей… Шкидцы медленно расходились…
– Счастье твое — сказал напоследок Андреев, — не приди Викниксор, быть тебе сейчас в лазарете…
4
Утром, после чая, в столовой выбрали товарищеский суд. Каждый должен был подать записку с фамилиями пяти кандидатов.
Большинством голосов были выбраны Сашка и Будок от старших и Андреев, Лепешин и Лапа от младших. Председателем утвердили Сашку как самого старшего из всех выбранных. Иошка заявил, что желает защищать подсудимого.
Первое заседание суда состоялось через полчаса в музее. Решено было, что Будок, Лепешин и Лапа произведут и закончат к вечеру сбор жалоб, а Сашка и Андреев составят обвинение… Вечером постановили
рассмотреть весь собранный материал и приступить, к душкиному допросу…
Судить вечером начали было в третьем классе, но собралась вся Шкида, мест нехватало и поэтому перешли в столовую.
Душка явился с забинтованной головой, робкий и присмиревший; нежное и красивое лицо его было исцарапано и побито, губы побелели и ссохлись… Он держался предупредительно-скромно и боязливо, совсем изменившийся со вчерашнего избиения. И когда Сашка сказал ему, что он имеет право отвести судей, которых считает пристрастными, Душка ответил, что верит всем ребятам. На вопрос Булка, что заставляло его заниматься ростовщичеством, дрожащим голосом отвечал, что это у него привычка, полученная в других детдомах.
После первого допроса суд ушел посовещаться и вынес предварительное решение, что во всяком случае Душке в Шкиде дальше оставаться будет нельзя…
Утром вызывали свидетелей, но Иошка перешел в наступление, говоря, что суду больше нечего делать, раз он постановил удалить Душку из школы… Спорили несколько часов, но разбирательство постановили продолжать…
Выяснилось, что Душка
в продолжение почти двух лет
занимался в школе ростовщичеством, давая деньги по двадцати процентов в неделю, и присчитывал эти проценты потом к долгу. Должники нарочно долго не предупреждались, чтобы долг успел побольше нарасти. Большинство учеников не в состоянии были вернуть его и из недели в неделю отдавали в уплату процентов все, что приносили из отпуска… Почти все младшие ученики были в долгу у Душки, и он выколачивал проценты угрозами и побоями… Осипов и Меркулов не выдержали и сбежали из Шкиды; ростовщик дал знать на волю шпане, и ребят на гопе избили до-полусмерти.
Выяснилось, что он содержал картежные майданы в верхней и нижней уборных, — давал деньги
большинству игроков — банкометов, благодаря чему все выигрыши поступали в его пользу… Для уплаты процентов и проигрышей принимались и вещи, и Душка сам указывал места, где можно раздобыть их. Все это сбывалось потом на сторону, скупщикам краденого.
Выяснилось, что все новички сразу же попадали в душкины руки…
Суслов, Капаневич, Розен, Верховский рассказали, что Душка в первый же вечер забрал у них вещи и, дав деньги, упомянул: "отдадите как-нибудь", а через месяц предупредил, чтобы отдали сейчас же и вдвойне…
Арбузов, Мамонтов и Васильев рассказали, как Душка вымогал у новичков разные вещи.
Но Душка теперь отрицал почти все и держался храбро. Видно было, что он уже сговорился со своим защитником. Иошка сбивал и изматывал вопросами свидетелей, требовал, чтобы суд разбирал только случаи ростовщичества, когда началось разбирательство продажи краденого, требовал поминутно вызова свидетелей с воли.
А между тем Шкида снова начала волноваться. Узнали стороной, что Фока с Иошкой ходили к Викниксору с просьбой прекратить суд, что заведующий отказал суду в требовании отвести от защиты Иошку и привлечь Фоку, Бобра и еще нескольких третьеклассников к ответственности за соучастие.
С утра третьего дня пополз по школе тревожный слух, что сегодня будут крыть Душку и его защитника. Иошка боялся выходить из класса, а Сашка пошел к Викниксору и просил посадить Душку в изолятор.
Весь день длились безрезультатные заседания… Окончательно запутанные судьи нервничали и злились на Иошку…
Наконец не выдержавший Андреев пригрозил защитнику "темной". Иошка потребовал занесения этого в протокол… Началась свалка…
Только в первом часу ночи вызвали Викниксора,
Иошку, из изолятора привели Душку и объявили решение:
"Товарищеский суд школы имени Достоевского считает доказанными все факты ростовщичества, вымогательства, краж, пособничества и паводки на воровство, скупки и продажи краденого, содержания картежных майданов и пр. В виду совершеннолетия обвиняемого и ответственности его перед законом РСФСР передать дело органам прокуратуры…"
Сашка читал глухо и однотонно и один раз бестолково сбился, когда Иошка прошелестел ему на ухо:
– Душка сегодня хотел повеситься…
Душка стоял опустив белую забинтованную голову и когда приговор прочитали, только устало шевельнул тонкими запекшимися губами;
– Правильно…
И Викниксор сказал тоже:
– Правильно!
* * *
Ночью Иошка с Фокой пробрались к изолятору, взломали замок и заранее с вечера открытым черным ходом вывели Душку на улицу.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
1
Глухое, давно сдерживаемое недовольство старшими наконец прорвалось.
Его, конечно, можно было потушить в самом начале, но уж очень заманчивым представлялось воспитателям разбить и расколоть на два лагеря школу, противопоставить друг другу старших и младших…
Шкида издавна делилась на четыре отделения, из которых четвертое и третье считались старшими, а второе и первое младшими. Это не были обычные школьные классы, в которых регулярно по весне происходят экзамены и переводы, — шкидцы сидели в своих
отделениях, куда их определял заведующий, — год, два, три, четыре, не переходя из одного в другое.
В первые годы сортировка ребят была равномерней и новичков в равной мере сажали во все классы…
В последнее время в старшие отделения из новичков никто не подходил, и все они оседали в первом и во втором отделениях…
И в то время, как младшие классы разрослись и пополнились, старшие не только остановились в росте, но потеряли Цыгана, Быка, Бессовестина, Гужбана, Леньку, Гришку, Дзе, еще нескольких человек и наконец Душку. Осталось всего двадцать два человека, десять в четвертом, двенадцать в третьем отделении, которых на лето решено было слить в одну группу.
Против этих двух десятков стояло шестьдесят семь человек младших.
И это была не детдомовская мелюзга, не мелочь, которую можно припугнуть и разогнать, а такие же ребята, как и в третьем и четвертом отделениях, не подошедшие туда только по знаниям, — сильные, изворотливые, отчужденные от старших и вдобавок вооруженные ножами и самоделками…
Работай по прежнему Юнком, он сумел бы переварить и во всяком случае сдержать всю новую массу. Теперь же новички сами обрабатывали неустойчивых младших шкидцев.
Случай с Душкой — третьеклассником — еще более обострил натянутые отношения между старшими и младшими. Знали, что Душка работал не один, что у него в классе есть еще двое помощников, видели, что с ним дружат и защищают его Иошка, Фока, Бобер… Догадывались, что именно Иошка, Фока, Бобер устроили ему побег…
Разговоры и толки становились день ото дня ожесточенней и грозней. Иошка никуда не мог показаться без Фоки, боялся избиений.
За Иошку, за Фоку, за Бобра, за Душку ненавидели
теперь всех старших… Спорили по уборным, по всем углам старшие с младшими и, часто забывая, что были недавно друзьями, хватались то за ножи, то за шпалера.
А в учительской спокойно и чинно собирались педсоветы и комиссии, распивались педагогические чаи и изредка с удовольствием замечалось, что вражда между старшими и младшими растет.
2
Началось с пустяка. Из-за кошки.
Белая толстая кошка вылезла, приятно облизываясь, из бетонной помойки и спрыгнула на землю. Мамонтов и Арбузов, игравшие в ножички, бросили игру и кинулись к кошке. Та заметалась во все стороны и наконец юркнула на лестницу в ломаный флигель…
Шкидцы пустились следом.
Через минуту с крыши постройки раздались веселые радостные голоса. Лениво слонявшиеся на дворе ребята, сорвавшись, побежали к флигелю, побежал и дядя Коля, дежурный халдей, пришедший на службу ради воскресенья пьяным…
– В перекидку кидай! — взволнованно закричал дядя Коля: — А то она, подлая, на ноги встанет и ухряет, стерва!
– Знаем! — ответили сверху: — Не убежит!
А день был ясный, теплый, солнечный… С улицы слышался праздничный звон трамвая, и стая голубей носилась над двором, перелетая с крыши на крышу.
Над флигелем завертелось в воздухе белое пятно и глухо, куском мяса ударилось в булыжник двора… Кошка попробовала подняться на перебитые лапы, но перевернулась на бок и задрожала… Шкидцы окружили издыхающее животное. Движения его становились все мельче и мельче, и из разбитого рта, вместе с капельками крови, вылетали хриплые, булькающие звуки, словно кошка захлебывалась водой.
Тогда из толпы выступил Верховка и прихлопнул ее по голове водопроводной трубой.
– Сволочи! — закричал с бревен у стены Будок: — задрыги чертовы!… За что кошку убили? Трогала она вас, да?…
Дядя Коля спохватился и, тряся своими широченными галифе, отошел в сторонку, а Будок спрыгнул с бревен и подошел к ребятам…
– Вам бы только мучить кого! — продолжал он, и его худощавое, в веснушках лицо подергивалось от отвращения. — Вам бы только избиения организовывать, черти…
– Им делать больше нечего, — поддержал с бревен Голый Барин и тоже подошел к толпе. Он взглянул на размозженную кошачью голову и отвернулся.- Сволочи вы, ребята!
– И ты тоже хорош! — огрызнулся Верховка, который прихлопнул кошку из жалости. — Тоже хорош, халдеям пятки лижешь.
– Я… — поперхнулся Голый и сжал кулаки.- Ну-ка повтори еще раз, что ты сказал!…
– Факт, лижешь! — крикнул, отступая, Верховка: — Сашкецу своему, зануде!
Про Сашкеца Верховка сказал нарочно, чтобы поддеть Голого… Так и вышло… Голый Барин побелел, закусил губу и изо всей силы саданул по скуле первоклассника.
Дальше все завертелось.
Верховка "слетел с катушек". Арбуз двинул по уху Будка, Будок Арбуза. Мамонтов с Калиной набросились на Голого. С бревен подхватились старшие, с задворок примчались младшие. Первые кричали: "наших бьют", вторые: "наших бьют"; началась свалка, которую прекратил только звонок на обед и появление Сашкеца.
3
– Как! — кричал в четвертом классе Иошка: — нас начали бить!… Нас?… Бить?… Младшие?… Эта
сволочь, которая смывается от затрещины. Давно им не попадало, что начали задирать нос. Они уж месяц ходят и грозят "избиениями", проучить их надо как следует.
– Избить! — рявкнул Купец: — Наших?., наш класс бить?… Убью первого!
– Правильно.
– Бить!
– А ведь их много, младших, — попытался говорить Фока. — В одиночку они, пожалуй, и нам накладут.
– Младшие?… Нам?… — возмутился Иошка. — Нам накладут?… Брось, Фока, проповеди разводить… Наш один с ихним десятком справится… Нечего разговаривать теперь с ними, а встретим — и прямо в морду…
– Правильно!
– Бить младших!
Усвоивший последнюю истину третьеклассник Щенок, вытянутый придурковатый парнишка с неестественно громадной головой и тупыми зеленоватыми глазами, взял в руки толстую суковатую палку и вышел из класса.
Через минуту с лестницы несся дикий истошный вой. Выбежавшие на помощь ребята увидели, как извивался и орал на ступеньках лестницы похожий сейчас на издыхающую кошку Сухарик, нещадно и методически избиваемый Щенком…
Их с трудом растащили. Сухарик встрепенулся и, вскочив на ноги, убежал. Шкидцы были смущены случившимся и старались не глядеть друг на друга. Даже воинственный Купец и тот пробасил:
– Дура!
Однако Щенок чувствовал себя героем. Громко рассказывал, хихикал, качая своей огромной, похожей на ветряную мельницу, головой, а, когда на него в классе перестали обращать внимание, снова тайком отправился наверх.
И сейчас же в столов-ой вырос и грохоча покатился гул, топот, удары, крик.
– Ребя… ребя… — а-а-а… — визжал Щенок. — Не буд… Ребя… ребя-а-а-а…
В столовой было темно. Посередине у стола возилась, и кого-то била под столом куча ребят. Из-под стола слышался надрывной, воющий визг:
– Ребя… ребя-а-а-а… Не б… ребя-а-а-а…
– Щенка бьют! — закричал Воробей. Старшие высыпали в столовую. Избивавшие Щенка разбежались, напоследок закидав под стол палки, швабры и кочерги. Из-под стола, не переставая выть, вылез Щенок; голова и нижняя губа его были рассечены; все лицо в ссадинах и синяках, рубаха изорвана в клочья и окровавлена…
– Кто бил? — спросил Иошка, хотя было ясно, что это младшие мстят за Сухарика. Щенок, не отвечая, продолжал выть…
И тогда Фока сказал, решительно застегивая пиджак:
– Надо организовать карательную экспедицию!…
Старшие выступили.
Первое отделение заперли на замок и у дверей поставили сторожевых. Второклассников загнали в класс и первым делом отобрали все ножи и шпалера. Потом началась расправа… Класс перегородили доской на две части, у доски стало трое "карателей", а остальные подгоняли к ним поочередно второклассников.
Первым был Купец. От его кулаков шкидец кувырком летел за доску; по дороге Воробей одним тычком хлестко расквашивал ему нос, а за доской Фока наводил окончательный лоск.
Покончив со вторым классом, каратели перешли в первый и там повторили точно такую же экзекуцию.
* * *
За вечерним чаем, ковыряя мизинцем в ухе, Викниксор говорил:
– Опять драки… Вечно не сидится этим младшим, вечно им надо с кем-нибудь воевать… Александр Николаевич, младших — без прогулок и без отпусков… Пусть образумятся.
4
Младшие не образумились…
Кося Финкельштейн, приходящий ученик, появлялся в Шкиде с чисто поэтической небрежностью раз или два в неделю. В это памятное июньское утро он беспечно шел по темному шкидскому коридору. Орава младших налетела на поэта, смяла, бросила на пол; кто-то хлестнул раза два по морде, а кто-то сразмаха саданул в спину ножом…
Кричавшего диким и нечеловеческим голосом Косю отыскали и перенесли в четвертое отделение старшие… Рана, правда, была неглубокой (ножу помешало толстое драповое пальто) и когда ее залили иодом, сразу перестала кровоточить, но уже сверху примчался третий класс. Купец рычал от злости, глядя на Косину спину, а Иошка схватил раненого Финкельштейна и голого, волосатого, трясущегося от холода поволок за собою по классу.
– Ребята, — визжал он, словно это не Финкельштейна, а его ударили ножом, — неужели не отомстим за Косю? Неужели будем смотреть, как обнаглевшие малыши избивают и убивают наших товарищей…
– Карательную экспедицию!
– К черту экспедицию!… Бить их!… Бить всех до потери сознания!
– Бить! — заревел Купец. — Собирайся, ребята!
Узнававший все шкидские новости последним, Сашка стоял в это время в музее и, оглядываясь на дверь, втихомолку забавлялся своим недавно сделанным шпалером. В маленьких его глазках светилось нескрываемое довольство; он то гордо поднимал шпалер, то запихивал его за пояс и с вывертом выхватывал обратно; то крался по музею, словно кого-то преследуя, то яростно размахивал своим оружием, воображая, что сидит на коне и отстреливается от невидимого противника.
Внезапно дверь распахнулась, и Сашка налетел с наведенной самоделкой на вошедшего Иошку, который
держал за руку полуголого, трясущегося от холода волосатого Финкельштейна.
– Сашка! — торжественно заговорил Иошка: — во время войны университеты и музеи закрываются. Пришло время, когда шкидские шпалера начинают сами стрелять. На нас напали. Класс требует, чтобы ты шел бороться заодно с ним.
– А что случилось? — заморгал Сашка.
– Сегодня утром твоего товарища чуть не убили… Посмотри на косину спину! Это сделали младшие.
– Младшие? — неожиданно для себя самого затрясся Сашка. — Младшие бьют наших?… Косю ножом?… Так бить же их, сволочей, надо!
– Бить! — подхватил Иошка…
– Бить! — неуверенно проблеял Финкельштейн…
Младшие, проведав, что их снова собираются громить, в перемену собрались в коридоре перед своими классами. Их было шестьдесят семь человек, они вооружились кусками штукатурки, палками, кусками проводов и веревками, на концах которых привязаны были железные гирьки; не разъединенные на два класса, они чувствовали себя раз в десять уверенней…
– Стой крепко! — подбодрял ребят Мамонтов.- А кто винта нарежет — удохаем потом до-смерти!
Два десятка ворвавшихся в коридор старших наткнулись на плотную, завывшую стену.
Но, к несчастью, первоклассники испугались мчавшегося впереди Купца и дрогнули, а Купцу еще кто-то засветил в глаз литой чугунной гирькой.
– Бей!… — заревел он, врезаясь в толпу, как бык, наклонив голову и расшвыривая своими огромными кулаками ребят. — Бей на мою голову!…
Справа от него двигался Фока, от тренированных боксерских кулаков которого младшие отлетали как мячики; за ними шли и лупили всех попадавшихся под руки остальные старшие. Узкий, темный коридор дал им неожиданное преимущество, и младшие побежали.
Остаток наиболее яростно оборонявшихся загнали
в первое отделение и начали избивать. Воющие младшие перелетали от одного карателя на кулаки другого. Фока наводил лоск, а Купец, поймав в углу Верховку, ударившего Финкельштейна ножом, уселся на нем и медленно, не слушая криков, гвоздил его по шее кулаками.
5
В Шкиде наступило видимое успокоение. После обеда все ребята выбрались на двор и, не обращая друг на друга внимания, принялись каждый по-своему развлекаться.
Тут же, на дворе, резвился сынишка Викниксора, Костя, или Кронпринц в словесном обиходе шкидцев. Этот кронпринц считал всех ребят своими рабами: дарил им пощечины, лягался, когда они проходили мимо, запускал камнями и землей, — словом, развлекался неудержимо.
Сейчас, наскучив возиться с песочком и лопаточками, он глядел на развалившегося с видом победителя на бревнах Купца, который подставил солнцу свое толстое лоснящееся лицо. Это лоснящееся лицо и привлекло внимание Кронпринца; он подошел ближе, наморщил свой лобик и, не говоря ни слова, с чисто-монаршей небрежностью отвесил крепкую оплеуху.
В следующий момент голова Кронпринца уже была зажата между коленями Купца, а сам шкидец неторопливо снимал ремень.
– Пусти! — утробно завизжал Кронпринц. — Я папе скажу, он тебя в изолятор посадит!… Пусти-и…
– Ах, сволочь! — искренне изумился Купец.- Такой плашкет и такая стерва? Вот тебе!… Вот тебе!… За оплеуху, за накатку! — добродушно приговаривал он, стегая воющего Кронпринца. — Для твоей же пользы пойдет, гаденыш… Ну, а теперь иди, накатывай…
Кронпринц, держась за ягодицы, плача побежал разыскивать отца.
– Попадет тебе, Купа! — встревоженно заговорил Голый Барин, на своей шкуре испытавший крутой нрав и скорую расправу Викниксора. — Выгонит ведь, смотри…
– А что ж? — лениво ответил, снова разваливаясь на бревнах, Купец. — Мне, по правде сказать, братишки, здесь порядочно, надоело, ей-богу!…
За ужином старшие лишились сразу четырех своих товарищей.
Во-первых, Купцу было велено немедленно убираться из Шкиды, а когда друзья выгоняемого Воробей и Кальмот подняли протестующий крик, взбешенный Викниксор выгнал и их. Во-вторых, он сказал Фоке:
– Вот что… твои родители просили отпустить тебя на лето из школы домой… Я не возражаю… Можешь сегодня и уезжать.
Обрадованный Фока, довольный предстоящей свободой, не докончив ужина, ушел сдавать казенное белье…
Провожали сразу всю четверку. Все четверо были настроены весело и бодро. Фока радовался отпуску, остальные… свободе…
– Ничего, ребята… — бодро говорил Купец.- Работку подыщем — работать будем… Я работать люблю, не бойсь. А спать теперь и на улице можно. Тепло…
6
Вечером Голый Барин принес из уборной новость, что младшие сговариваются напасть ночью и отомстить за поражение. Старшие стали подсчитывать свои силы: в четвертом классе осталось шесть человек, в третьем двенадцать — все народ жидкий и не крепкий, к дракам не приспособленный. Ушли Купец и Фока — первые силачи — и Воробей — великий драчун.
Старшим стало жутко; велели Сашке сходить наверх и пошпионить.
Через минуту шкидец вернулся расстроенный.
– Сговариваются о чем-то! — сообщил он. — Все во втором классе собрались.
– Ну, а дальше что?…
– Больше ничего не узнал. Кто-то к двери пошел, и я смылся…
– Может, нам у них шпиона завести? — предложил Червонец-Шамало, тощий и длинный дылда с пухлыми, толстыми губами. — Химик тут часто ходит, он не дерется из-за без руки, — может, согласится?
– Вряд ли, — промямлил Сашка: — они там сами предлагают Химику у нас пошпионить.
– Восемнадцать на шестьдесят семь, — рассуждал Иошка: — четверо на одного. Нет, ерунда — в открытую у нас ничего не выйдет. Надо всем толпой ходить, из класса не вылезать. В спальне они нас наверное не тронут, они сами в трех спальнях, пока соберутся, мы уже с класс выберемся…
* * *
Утром в умывальнике младшие встретили старших мокрыми, свернутыми в жгуты полотенцами, которые, как цепы, забарабанили по головам… Старшие побежали…
В столовой по какому-то поводу Викниксор заговорил о картах и воровстве. Второклассник Васильев, а за ним Розен и Верховка стали рассказывать, что они знают про проделки старших. На возмущенный Иошкин крик: "лягавый" — Верховка, оскалясь и нехорошо заблестев глазами, ответил:
– А буду говорить! Охота — и никто не запретит.
Тогда заговорили все, и старшие и младшие, и Викниксор за полчаса узнал столько, сколько не узнал бы за год, но младших было больше, говорили они больше и в конце-концов заведующий сказал:
– Мне теперь все ясно! Александр Николаевич, старших — без отпуска… Мы потом все разберем…
У себя в классах старшие поклялись отомстить фискалам. Вспомнили про отобранное во время карательных экспедиций оружие. Вытащили ножи, зарядили и спрятали в карманы шпалера. А младшие, прослышав
о планах врагов, вооружились кирпичами, палками, гирями. И неизвестно, какой жутью кончилось бы готовившееся побоище, если бы вечером в столовую не пришел озабоченный Викниксор.
– Вот что, ребята, завтра мы переезжаем на дачу в Павловск. В полдень приедут грузовики, а вы с утра приготовьте к укладке свои постели… Потом вот еще что. В старших классах осталось восемнадцать человек, поэтому все они будут объединены в одну группу. Кроме того, к ним переводятся десять человек из второго отделения. Андреев, Корницкий и еще другие. Я назову их после… А сейчас попьете чай и приметесь за укладку вещей.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
1
Тиха и пустынна сонливая Красноармейская улица, крайняя в Павловске. Дальше — казармы, бойня, кладбище, — то, чему, по старым понятиям, не место рядом с дворцами.
На улице пахнет сиренью и отсутствием канализации. У большой серой двухэтажной дачи валяется на траве английская безволосая свинья. Рядом привязана веревкой к колышку затрепанная грязная овца. Овцу изводит жара, ей скучно, хочется лечь на траву, но она боится свиньи.
В канаве, рядом с овцой, полощутся утки… На улице — никого; разве пройдет какой-нибудь мальчик в коротеньких штанишках и с марлевым сачком за плечами…
В полисаднике одноэтажной угловой дачи белокурая девочка катает желтое колесо. В конце улицы церквушка. Над церквушкой горячее неподвижное солнце.
Жара, лень, духота — дачный ненарушимый покой.
И вдруг картина меняется. По уснувшей улице вихрем закручивается пыль; свинья с визгом улепетывает
прочь; от овцы остается одна веревка. Желтое колесо падает на лужайку — белокурая девочка исчезает. И кажется, что даже разбуженное солнце торопливо спешит по небу.
Это приехали шкидцы.
Это они долбанули по пути свинью, это они обложили матом белокурую девочку, это они своим появлением так напугали грязную овцу, что она, вывихнув шею, оборвала веревку и унеслась на кладбище.
Шкидцы шагают строем, называющимся в Шкиде "парами"; все тащат узелки, свертки, палочки, тросточки и прочую дребедень. Впереди — Викниксор; сзади грохоча движутся грузовики.
Ворота большой двухэтажной дачи распахивает чья-то предусмотрительная рука. Вся процессия вваливается на двор; только один Химик не может удержаться и, приостановившись, швыряет в уток палкой.
Палка у Химика обыкновенная, о двух концах: одним концом прихлопывает утку, другим селезня.
На улице движение; из дач выглядывают испуганные сонные рожи, хлопают окна и двери, на соседнем дворе бегает толстоногая, с подоткнутым подолом баба и торопливо сдирает с веревок непросохшее белье…
Из калитки противоположной дачи выползает расхрабрившийся старичок. Он долго и пристально глядит из-под медных старинных очков на двухэтажную дачу и, решив, что прямой опасности нет, ставит складной стулик, кряхтя садится на него и выжидательно начинает всматриваться.
В ворота шкидской дачи с лязгом и грохотом вкатывались грузовики
Раз.
Два.
Три.
Четыре.
Пять.
Шесть.
Семь.
Все…
– А грузовик со жратвой?
– У него по дороге мотор испортился. Сейчас его на подводы перегружают…
Дикий вой, от которого трясется воздух, поднимается на дворе шкидской дачи.
Старичок бледнеет и, схватив свой стулик, тоскливо бежит туда, откуда появился.
Поздно вечером старичок видит из окна, как вышмыгивает однорукая фигурка и вытаскивает из канавы двух уток.
– Так и есть! — бормочет Химик. — Сдохли подлые! — И, швырнув утиные трупы под мостик, добавляет: — Все меньше шухера будет… В другой раз сразу брать надо…
2
Первую ночь на даче почти не спали… Было странно и приятно видеть мохнатые лапы деревьев, подступавших к самым окнам, прислушиваться к особой, не городской тишине, смотреть на особую, не городскую луну.
На рассвете удивило и обрадовало мычанье проходивших в поле коров, оглушительное щелканье кнута и звуки пастушеской жилейки.
И когда в восемь часов Эланлюм прошла по многочисленным комнатенкам дачи, ей уже нечего было делать. Все ребята встали и были одеты.
Водопровод на даче отсутствовал, и поэтому пошли, на реку купаться. Вернулись освеженные, бодрые, веселые: — по дороге Викниксор обещал со следующего утра молоко. С аппетитом набросились на чай, на хлеб, на ситный.
После чая собрались на дворе. Викниксор познакомил с планом летних работ.
– Работать придется все самим: пилить и колоть дрова, убирать двор, улицу, сад и прочее. Кроме того, придется носить воду. Сейчас в школе стало три группы
– каждая группа поочередно и будет дежурить. Уроков не будет, но будут кружки. Каждый может выбрать себе один или два кружка по желанию и в них заниматься.
– А если я ни в какой не хочу? — спросил Химик.
– Нет, — мотнул головой Викниксор: — все младшие в кружках должны работать обязательно. Старшим не обязательно, потому что они должны готовиться к осенним экзаменам в техникумы и вузы… Ну, а в остальном — порядок старый.
– А Летопись? — осторожно осведомился Кубышка.
– Летопись мы тоже с собой привезли. И вообще во всем остальном порядок прежний!
Викниксор уже собирался распустить ребят, но вдруг, что-то вспомнив, вздрогнул, улыбнулся и просветлел:
– Вот что, ребята. Дали нам дачу. Дали ее нам запущенную, грязную, — не дачу, а черт знает что… Так давайте, ребята, докажем, что она попала в надежные хозяйственные руки. Покажем, что мы не паразиты, не лодыри, а тоже можем трудиться… Давайте уберем всю грязь со двора, с огорода, с сада…
– Даешь! — подхватили ребята. — Только убирать нечем, Виктор Николаевич!
– А мы дадим лопаты… А не найдем лопат — и голыми руками поработать придеться, ничего не поделаешь…
3
Сашка накануне отъезда на дачу заболел и должен был остаться в городе. На пятый день к нему пришло от Иошки письмо.
"Здравствуй, дорогой друг Саша!
"Хотел тебе, болящему, написать длинное письмо о разных разностях, но некогда. Работаем. Кончили дачу убирать, надо за сад приниматься, — не окончили сад — огородом занялись. Работы уйма. В нашей группе десять новых ребят из второго отделения, — ребята все фартовые, особенно Андреев.
"Остальное время занимаюсь; осенью надо наконец оставлять школу… Помню, как удивился ты, когда узнал, что я хочу вместе с тобой поступать в педагогический техникум. Конечно, на педагога я похож мало, но быть им хочу по многим причинам.
"Шкида наша — обыкновенный дефективный детдом, что бы там ни говорили про "особенное" разные гости, корреспонденты и прочая шатия… Конечно, у нас не бьют, не колотят поминутно, как в остальных детдомах, у нас все устроено более утонченно и благопристойно: изолятор, "Летопись", пять тюремных разрядов и еще куча подобных скорпионов. Но результат как у нас, так и у других — один и тот же… И мне кажется, что все это лишнее. Я не раз говорил об этом и теперь решил сам стать педагогом и начать бороться со всей этой дурацкой системой.
"У наших халдеев какая-то подозрительная, прямо животная придирчивость. Например, позавчера вечером сидим на балконе и поем. Приходит Амебка. "Что такое?" Лунная соната. Записал, — дескать, "нет такого закона, чтобы песни петь". Голый Барин ругаться — доругался до четвертого разряда… В другой раз копали огород (а работать, заметь, взялись добровольно) и сели отдохнуть. Сейчас же, как из-под земли, Палач: "Почему остановились?" "Наше, — говорим, — дело. Хотим работаем, хотим — нет". Записал. "В школе, — говорит, — никто не может поступать самовольно". Опять стали ругаться — доругались до новых записей, бросили работу и ушли.
"А ведьмы уже и гряды поделали — хотели редиску сажать, а теперь и работать не хочется… Теперь уж на огороде обязательно заставляют работать, а мы не идем… Вырастет у них теперь редиска…
"А, впрочем, все это пустяки. Поправляйся скорей и приезжай.
Иошка.
"Еще одна интересная подробность. Воспитатели наши на даче самоопределились. У нас на дворе есть двухэтажный флигель, где живут служащие, туда, во второй этаж, натаскали мебели, поставили пианино, приспособили лампу с абажуром — получилась уютная комнатка, где по вечерам собираются и сплетничают халдеи. Словом — настоящий "халдейский клуб". Приедешь — увидишь.
"Наши тебе кланяются. И.".
4
Когда неделю спустя Сашка приехал в Павловск, то первых шкидцев увидел здесь, на вокзале. Шкидцы на Сашку внимания не обратили, а носились по платформе, хватаясь за вещи дачников и предлагая понести.
Дальше увидел Сашка шкидцев уже в парке. Это были Лепешин и Химик. Они со звоном и треском мчались на велосипеде по аллее навстречу Сашке; Лепешин бешено, изо всех сил работал педалями, Химик, подвизгивая от восторга, сидел впереди на раме.
Сашка по своей близорукости заметил их не сразу; когда они промчались, мимо, прищурясь, посмотрел вслед и хотел идти дальше.
Но раздался треск, похожий на револьверный выстрел. Велосипед перекувырнулся через себя, велосипедисты полетели в разные стороны. Сашка бросился на помощь.
– Вчера только из дома привез, — сообщил, поднявшись, Лепешин: — уж четвертый раз камера лопается…
– Не четвертый, а пятый! — поправил Химик: — Не велосипед, а машина адская… То цепь, то шина лопнет, то переднее колесо отвалится…
– Про колесо не ври, не отваливается, — обиделся Лепешин и, желая показать свою машину во всей красе, провел велосипед перед Сашкой.
Велосипед действительно был аховый. Колеса от самоката, шины в заплатках, а руль вывернут как оленьи рога. И не успел Сашка налюбоваться, как
Лепешин неожиданно взвалил велосипед на спину и побежал по аллее.
– Сторож идет, — пояснил Химик: — в парке кататься нельзя… Только ему не догнать!
И побежал вслед за Лепешиным.
У ворот шкидской дачи Сашку встретил Иошка. Начинавший в городе пижонить, ходивший в оранжевом галстуке, Иошка снова стал здесь обтрепанным, веселым, замухрышистым и от этого простым и близким.
Ребята сердечно поздоровались, уселись у ворот на бревнышко, и Иошка принялся рассказывать последние события.
– Понимаешь, вчера Викниксор с ума спятил… Кончили мы сад убирать — он и приходит. Не понравилось… "Нет, -говорит, — не то, не то, скучно, серо, не то, не то" и пальцами этак огорченно у Киры под носом защелкал, и вдруг, вдохновясь, заговорил басом: "Эти липы надо в белый цвет выкрасить, нет — в голубой, а зелень в красный — революционный, стремление ввысь, кверху" — и пальцами у Киры под носом щелкает. "Очень эффектно будет". У Киры глаза на лоб вылезли. "Никак, — говорит, — нельзя. Невозможно, Виктор Николаевич". — "Выкрасить" — завизжал Викниксор. Кира побежал за краской. Принес. Витя посмотрел на нее, понюхал и вдруг захотел сам лезть на дерево. Притащили стремянку; Викниксор поволокся на дерево; сидит там, как сыч, и по листьям шаркает краской. Шкидцы за верандой дохнут, заливаются. Прямо по траве катались, пока Вик всю краску не извел. "Завтра, — говорит, — докрашу". Слез, полюбовался и Киру толкает. "Крас-сота!". А ночью дождик прошел и всю краску смыл.
– Врешь! — захохотал Сашка.
– Можно и показать! — ответил Иошка. — Идем, увидишь. Все липы, которые он красил, завяли.
Ребята пошли в сад; липы действительно начинали вянуть. Земля вокруг них была, как кровью, окраплена брызгами краски.
– Ну, а насчет работы как? — спросил Сашка. — Ты писал, что здорово начинают прижимать.
– Нет, — махнул Иошка: — халдеи на первых порах нажимали было, а потом плюнули — забыли. Ничего теперь не делаем…
– А как у тебя с подготовкой к экзаменам?…
– Не подкачаем, готовимся вовсю. Я ведь тебе случайно попался на дороге — учиться шел на кладбище. Там удобней. Пойдем туда, там сейчас все наши…
Сашка согласился. Сбегали наверх в спальни, оставили там вещи и отправились к церкви.
А между тем на кладбище происходили события…
Углубленные в книги шкидцы, стараясь сосредоточиться, в продолжении часа упорно пытались вчитаться и что-нибудь усвоить из написанного. Из церкви тянулись разные мотивы: сперва протяжное "Спаси господи", потом веселое на манер частушки "Иже херувимы присвятую песнь припеваючи", потом еще что-то, пока Кубышка окончательно не вышел из терпения и не предложил бороться с поповским дурманом.
План борьбы был прост. Кубышка предлагал организовать добровольное общество "Доброкальций" и залепить "кальцем" всех святителей, нарисованных на церкви.
Кладбищенская трава, как известно, всегда отличается, густотой и сочностью. Кругом было много помета или "кальца", ласково названного так Кубышкой, который коровы оставляли на могилах взамен травы.
Через минуту ребята уже метались по кладбищу, а в иконописные лики святых летели и сочно шлепались крупные комья помета.
Сашка с Иошкой подоспели только к развязке.
На паперти стоял монах. Ветер шевелил его всклокоченные волосы и играл полами рваного подрясника, подпоясанного веревкой. Монах переводил горящие злобой глаза с поруганных святителей на ребят, потом вынул позеленевший восьмиконечный крест и, вскинув его над головой, крикнул:
– Пропади и рассыпься, нечистая сила!…
Шкидцы не дрогнули.
– Пропади, сгинь и рассыпься! — повторил дрогнувшим голосом монах и судорожно сотворил крестное знамение.
И нечистая сила действительно рассыпалась по погосту. Но, между прочим, не пропала и не сгинула, а деятельно начала собирать каменья…
Через четверть часа атакованный монах бомбой влетел в церковь. Выскочил он уже вооруженный не крестом, а огромным колом.
Нечистая сила в смятении отступила.
Из церкви победно грянуло "Взбранной воеводе победительная"…
* * *
Монах гнался за. ребятами до самой церковной границы. У границы остановился и долго грозил колом, уснащая свою речь отборнейшим церковно-славянским матом… Ребята матюгались более умеренно и грозили во время крестного хода напасть и перевымазать "кальцем" все иконы…
– Ну вот и позанимались, — облегченно проговорил Иошка: -теперь не обидно будет и выкупаться!
5
Фока оказался легок на помине и вечером приехал в Павловск.
Выпил он самую малость, но здесь ему попались старые друзья, и Фока нагрузился уже больше, чем полагается. Неизвестно, каким образом добрался он к ночи до Шкиды, но пришел уже без шапки, с галстуком, перевернутым на спину, бледный, растрепанный, в белом костюме, который стал за дорогу пегим и больше напоминал зебру.
На даче, в многочисленных комнатенках-спальнях, он запутался окончательно и, разъярясь, кинулся с кулаками на хихикавших ребят. Ребята моментально попрятались, и Фока, вспомнив "карательную экспедицию", начал гвоздить ни в чем неповинную кровать,
обливаясь горькими слезами и крича, что всех передушит…
– Шел бы ты лучше халдеев бить! — рассудительно посоветовал из-под кровати Андреев. Фока моментально остановился.
– Халдеев бить?… С-с удовольствием! — радостно икая, закричал он: — Где халд-деи?…
– Во флигеле на дворе! — предупредительно сообщили из шкафа…
Фока, подняв кулак и заплетаясь отяжелевшими ногами, загремел вниз по лестнице. Шкидцы бросились к окнам.
По двору, к халдейскому клубу несся Фока и кричал:
– Бей халдеев!
Из клуба вышел Бородка, недавно поступивший в школу воспитатель…
– Вы что? — испуганно спросил он, стремясь сохранить достоинство. — Вы пьяны?…
– Скройсь! — дико взревел Фока. Бородка, взвизгнув, метнулся в сторону и пропал где-то в темноте, на огородах. Осажденные халдеи крепко приперли дверь и повели переговоры.
Вначале Фока потребовал выдачи Селезнева. Кира радостно закричал:
– Нет Селезнева! В городе Селезнев!… Да ей-богу, в городе Селезнев!…
Фока замолчал, собирая растерянные мысли.
– Тогда ты выйди! — сказал он наконец. За дверями сразу затихло.
– Н-ну! — крикнул Фока, с размаху грохнув кулаком по двери. — В комнате засуетились, зашептались.
– Идите!…
– Нельзя!…
– Надо!…
– Невозможно!…
Наконец дверь приоткрылась, и несколько рук выпихнули Киру.
– Проводите меня до вокзала! — пролепетал Фока, прислоняясь к халдею. Кира осторожно взял шкидца под руку и повел.
По дороге Фоку развезло, одолевал сон; он вскрикивал, скрипел зубами и опять обвисал па кирином плече. До вокзала было далеко. Фока заснул, и осмелевший халдей решил просто бросить шкидца в канаву… Так он и сделал. Но сейчас же раздался дикий рев: "убью!" Над канавой взвилась перемазанная грязью фигура, и Кира опрометью кинулся к Шкиде.
Уже улегшиеся шкидцы услышали вой, потом грохот калитки, а когда подбежали к окнам, то увидели, как вокруг дома мчится Кира, преследуемый мокрым, облепленным тиной Фокой.
Несколько раз они обежали вокруг дачи, наконец, халдей, догадавшись, присел за куст и, пропустив мимо себя Фоку, полез на крышу сарая. А Фока, не найдя Киры, начал ломиться в халдейский клуб… Пара застигнутых там врасплох воспитателей с перепугу закричали "караул" и разбудили Викниксора.
– Что такое? — появился тот со свечкой. — Что за шум? — повторил он, подходя ближе и хватая Фоку за шиворот…
Фока размашисто дернулся, обернулся, но, увидев Викниксора, сразу обмяк и испуганно притих.
– Дык… и-ик… Я немножко пошутил…
Из окон торчали шкидцы, из дверей выглядывали халдеи, по крыше сарая неслышно пробирался Кира, на огородах маячил Бородка. Викниксор оглядел Фоку.
– Так. Значит, пошутил?… Ну, идем!…
Выведя Фоку за ворота, Викниксор поставил его на дорогу и подтолкнул в спину.
– Иди!
– И-ик, всего!…
Фока помахал ручкой и, качнувшись, задвигался вперед.
Викниксор закрыл калитку.
6
Фока, что называется, разжег… После его прихода шкидцы каждую ночь начали придумывать какое-нибудь увеселение. От старших эта мода перекинулась к младшим, и жизнь на даче стала определенно нескучной.
В одну ночь во всех спальнях было особенно оживленно…
Вначале в третьей группе Иошка долгой и горячей речью убеждал своих соотечественников объединиться в союз с другими отделениями. Соотечественники с восторгом ухватились за это предложение и послали к младшим делегатов…
Младшие немедленно крикнули "ура" и послали ответное посольство.
Тогда в третьей группе началось образование государства — начали выбирать президента. Система выборов была проста и несложна: все шкидцы подходили к кандидату в президенты Червонцу и поочередно щелкали его по носу.
В середине этой процедуры Червонец почему-то внезапно выразил желание отказаться от этой столь высокой обязанности, но шкидцы отказа не приняли и продолжали щелкать. И наверно бы набили президенту солидные украшения, но кто-то крикнул, что идет Викниксор, — и все разом бросились к кроватям.
Викниксор, ничего не различив в темноте, стукнулся лбом о дверь, помянул черта и, кликнув дежурного воспитателя, ушел за лампой.
Воспитатель, новичок Бородка, остался один, старательно вглядываясь в храпящую, орущую и воющую спальню. Шкидцы, изображая глубокий сон, надрывали глотки. Кто-то лаял, кто-то свистел, кто-то пел петухом, кто-то (якобы в бреду) явственно призывал: "Бей халдеев!".
Вдруг воспитатель побледнел, затрясся и хотел бежать: прямо на него плыло из темноты огромное белое и страшное привидение. Оно подошло совсем
близко и, хрюкнув, взвившись, обрушилось на Бородку, ударив какой-то деревяшкой по голове.
Халдей ринулся на лестницу. По лестнице поднимался Викниксор. Бородка опрокинул зава, и они оба покатились вниз.
Снизу послышались голоса: дрожащий и оправдывающийся халдея и деланно-спокойный Викниксора.
– Вот что… Идите спать… Завтра мы все разберем…
– Ну, ребята, — зашептал Голый Барин, смастеривший "привидение" из простыни и швабры: — чур не выдавать!…
– Не выдадим! — ответила спальня.
* * *
Бородка всю ночь видел кошмарные сны: во всех углах стояли и хрюкали привидения. Голый Барин спал прекрасно.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
1
Ночью Викниксор много думал… Утром, перед чаем, после переклички ребят не распустили по столовым, а велели ждать заведывающего. Впрочем, Викниксор вышел на двор почти сразу.
– Вот что, ребята, — заговорил Викниксор, не обращая внимания на хором приветствовавших его ребят: — мы приехали с вами на дачу отдыхать. Уроков у вас нет, есть только занятия по кружкам и экскурсии. Вы сыты, свободны, и казалось бы, что никаких эксцессов в школе быть не должно… А между тем заниматься вы не занимаетесь, по ночам буза, крик, шум, издевательство над воспитателями. Хорошо… Вам не спится — теперь спать будете отлично. Не хотите спокойно отдыхать — будете работать… Будете замащивать двор.
– Виктор Николаевич! — рассудительно сказал Старостин: — поработать мы можем. Только мостить двор не к чему. Камень опускаться будет и опять же — пользы никакой.
– А я тебя спрашиваю?! Подумаешь, инженер выискался… Итак: после чая разбиться на пятки и за работу…
Ребята заворчали, задвигались, но почему-то вместо возражений раздались придирчивые голоса:
– Чем работать?…
– А мы дадим носилки! — миролюбиво ответил Викниксор и вдруг закричал: — а не найдем носилок- и руками работать заставим!
Через час шкида поплелась работать. В полуверсте от дачи находилась облюбованная Викниксором старая кирпичная кладка; ребятам положено было выламывать там кирпич и тащить его на двор.
Первые дни работали с прохладцей; жулили, ругали Викниксора и принесенные кирпичи обязательно старались расколоть. Но когда халдеи начали назначать уроки по сорок, пятьдесят, сто кирпичей — ребята взвыли.
Наиболее предприимчивые скоропостижно заболевали, а Лепешин, староста по амбулатории, щедро измазывал всех иодом. Другие попросту обсчитывали халдеев, приносили одни, и те же кирпичи или, наконец, старались не попадаться на глаза воспитателям, проводить день на улице и в парке, появляясь на даче только в часы всеобщей жратвы…
Работа не подвигалась. Воспитатели, вконец измученные, обратились к Викниксору с требованием или прекратить мощение, или воздействовать на ребят; тот велел собрать всех шкидцев и спросил, почему они не работают.
– Скучно, Виктор Николаевич, — многоголосно отвечали ребята: — трудно — тяжело… Неинтересно…
– Это вам только кажется! — успокоил Викниксор. — Вот пойдемте-ка со мной вместе, я покажу вам, как надо работать.
Зав действительно пошел со шкидцами на "кирпичики", но не работал, а полдня надзирал за ребятами; возвращаясь на дачу, демонстративно захватил два кирпича, которые, впрочем, на дороге кинул в канаву.
После этого работа закипела. Халдеям был отдан приказ назначать ребятам урок: замостить камнем определенный кусок двора. Для приемки работы каждому из "надзирателей" выдали по складному аршину.
Лепешина с его должности сняли, а каждому симулянту дали по добавочному кирпичному уроку.
Никто из шкидцев не знал, для кого и для чего делает он эту тяжелую, неинтересную и изнурительную работу, но все смирились. По утрам на дворе крутилась пыль, слышался хруст разбиваемого кирпича, сдержанный мат шкидцев и окрики халдеев.
Большой, замащиваемый без плана двор, недавно уютный, с мягко-убитой песчанистой землей, теперь приобрел грязно предательский вид.
Неприготовленная почва не выдержала мостовой и начала повсюду оседать и горбатиться; битый кирпич сбивал и резал босые ноги шкидцев, а в дождливую погоду вода собиралась на дворе огромной непроходимой лужей, кирпичи вихлялись при каждом движении и брызгали во все стороны струйками грязи.
После каждого дождя снова начиналась нудная, неинтересная работа.
Снова кирпичом мостили двор.
Кирпич засыпали щебнем.
Щебень — землей.
Землю песком.
А двор упрямо горбатился, оседал, и в дожди снова с каждым разом непроходимей собиралась лужами вода…
И снова гнали ребят укладывать, кирпич, сыпать щебень, землю, песок и так без конца.
Но странное дело: тяжелый и бессмысленный труд этот объединил ребят. Вражда старших и младших как-то сразу и незаметно забылась. И даже вспоминали о ней с недоумением. Да и разницы никакой не было среди ребят теперь: одинаково корпели все над кирпичами, одинаково кляли халдеев и обкладывали матом Викниксора.
А тот, как ни в чем не бывало, проводил и внедрял
в сознание ребят трудовые навыки… Вначале ему пробовал было возражать Иошка, "вождь рабов", но Викниксор оборвал его, сказав, чтобы он не в свои дела не мешался.
– Помните, ребята, — говорил Викниксор расхаживая по двору: — истинный отдых человека в труде… И вот вам приятный, благодарный труд… Мостите двор, таскайте больше кирпича… Помните, что так учил нас наш великий учитель Ленин…
Тогда Иошка сложил и пустил песенку:
Тащи побольше кирпича -
Вот заветы Ильича…
Кто-то передал ее Викниксору, а вечером все шкидские художники были заняты рисованием по его заказу огромных агитационных плакатов, впоследствии до слез умилявших гостей:
"Тащи побольше кирпича -
Вот заветы Ильича!…"
Иошка сложил и пустил новую песенку, которую уже не воспроизводили плакаты:
– Тащи кирпич на двор! -
Кричит нам Викниксор.
– А где ж его нам взять?
Ах…
И за сим следовала звучная, но, к сожалению, непечатная рифма.
2
Своего Викниксор добился: в Шкиде стало тихо. В спальнях после работы не слышалось ни шуму, ни крику, ни возни, — не слышалось потому, что ребята в это время отправлялись громить окрестные огороды. Действовала здесь причина экономическая: от чрезвычайной работы у шкидцев появился невероятный аппетит, и пайка уже нахватало… Вот тут и помог поспевающий картофель, обильно уродившийся на павловских полях.
Рубахи шмыгающих вечером во двор ребят странным образом грузно раздувались у пояса, и с кухни тянуло удушливой гарью печеной картошки… Только один человек в Шкиде не радовался открывшейся доходной статье. Это был Лепешин, разжалованный амбулаторный староста. Лепешин ненавидел картошку и чем бывал голодней, тем противней она ему казалась. Он тоже участвовал в "набегах на плантации", но только с тем, чтобы яростно выдергивать и топить в канаве картофельные клубни.
Сейчас Лепешин вместе с толпой шкидцев сидит на дворе и с остервенением вдавливает в землю кирпичи. Недалеко от него пристроился Химик. Освобожденный от работы по причине своей инвалидности, он сидит у стены и при помощи солнца и исцарапанного увеличительного стекла выжигает на ней всякую похабщину.
Химик давно предложил своему другу использовать новые методы мщения: вместо того, чтобы тащиться за кирпичами на кладку, надо было просто выламывать их, незаметно от халдеев, тут же, на дворе, и перестаскивать на свой участок; щебень, как ненужную роскошь, вообще отменить и засыпать прямо песком…
Но и это упрощение не облегчает Лепешина. В животе у него урчит, и он поминутно сплевывает неприятную, густую слюну.
– Что сегодня на обед? — спрашивает он.
– Баланда с картошкой, — отвечает невозмутимо Химик, знающий "вкусы" своего приятеля.
– А на второе?…
– Селедка с картошкой…
– А на третье?
– Мордой об стол! — радостно ответил Химик и, увидев идущего Викниксора, спрятал стекло за пазуху и исчез…
Лепешин тяжело вздохнул, мечтательные глаза его потемнели, и он принялся доканчивать урок.
– Дядя Саша! — крикнул он через несколько минут: — примите работу, я кончил…
Сашкец немедленно подошел к шкидцу и тщательно обмерил аршином участок:
– Еще два кирпича положи и песочку подбавь… Жидковато у тебя что-то, слышишь?
– Слышу! — ответил Лепешин. Но со стороны кухни пахнуло ветром, и в воздухе пронесся ощутительный запах картофельной баланды… И на глазах изумленного халдея вежливый и мечтательный подросток вдруг отчаянно вскрикнул, засвистал, выругался матом и побежал за ворота.
– Куда, куда? — закричал Сашкец и, когда калитка с грохотом захлопнулась, добавил негромко, как заклинание: — Имеешь замечание и будешь без обеда!…
3
В лесу за водопадом, в самой гуще орехового кустарника горел костер. У костра на корточках сидел Химик, подбрасывал в огонь веточки и сосредоточенно глядел па сбитые горкой уголья… Из-за леса, с запада, понемногу усиливаясь, тянул густой балтийский ветер.
Химик подумал, высморкался и, вытянув палец, посмотрел на него.
"Балла три или четыре будет, — подумал Химик, вытирая пальцы о траву, — а то и все пять…"
Неожиданно почти рядом затрещали кусты, и на полянку выскочил бледный, с открытым ртом Лепешин. Рубаха его была вымазана кровью и испуганно трепыхалась по ветру, окровавлена была и правая рука, левая что-то прятала за спиной.
– Что ты? — попятившись, спросил Химик.
Лепешин перевел дыхание и, сконфузившись, залился краской и наконец, решившись, вытащил из-за спины руку.
В руке оказалась обыкновенная рябая курица, отличавшаяся от других только отсутствием головы.
– Аи, задрыга! — радостно взвизгнул Химик.
Перепугал меня до судороги… Я уже про мокрое думал…
Лепешип стоял смущенный и красный и неуверенно говорил:
– Жрать хочется до-черта… А на обед картошка, ты же сам говорил… Прямо не знал, что делать.
– Да, — согласился Химик, — от картофельной баланды в брюхе чирьи вскакивают; мне один гопник рассказывал… Курица, конечно, фартовей… Только ее почистить надо… Ощипывать долго: снимай прямо с кожей…
Лепешин про себя удивился такому совету, но когда надрезанная кожа легко, как чулок, слезла с курицы, подумал одобрительно: "Ай да Химик…" Потом по его же совету вынул и забросил в кусты куриные потроха и вымыл курицу в водопаде.
– Жарить, — спросил он, не решаясь ничего уже делать самостоятельно…
– Жарь… Только посоли сначала…
– А нельзя ли без соли? — вопросительно протянул Лепешин. — Соли-то негде взять.
– На… — Химик протянул мешочек. — И в брюхе у ней посыпь; брюхо главное!…
– Какой ты запасливый! — удивился Лепешин и, неожиданно оживляясь, прибавил: — Ну, и погонялся ж я за ней… Стрелять страшно, так я ее всю ножиком исколол.
– Зря, — важно сказал Химик: — ты кусочек земли покроши, сама подойдет… Курица — птица близорукая, ее за раз облапошить можно.
Через минуту вставленная в развилку суковатой ветки кура уже жарилась на костре.
Лепешин, усталый от беготни и волнения, повалился на землю…
– Как в прериях! — Он восторженно оглянулся. — Тут и пампасы, тут и водопад, костер горит, и мы в роде как охотники у костра, в роде как ковбои.
– А это что за ковбои?
– Это люди такие. Они на лошадях ездят и стреляют и все охотятся, мустангов ловят, — и все у них, понимаешь, приключения… Все на них бандиты
падают и, конечно, опять стреляют, убивают, убегают… Потом… Интересно, ей-богу, прочти…
– Так это в книжках все, — махнул рукой Химик. — Знаю я эти книжки: бегают там разные налетчики, стремщики, хазушники, — а чего бегают и не понять. Одна фантазия…
– А ты вот Майн-Рида почитай, — загорячился, покрываясь румянцем, Лепешин. — Ты "Оцеола вождь семинолов" почитай, тогда говори… Там, брат, все действительно, — и индейцы, и крокодилы, и мулаты… А суд Линча знаешь что?… Ага, не знаешь, — а говоришь?…
– А ты знаешь!
– Знаю — обидчиво и упрямо мотнул головой Лепешин: — я может сам хотел индейцем быть, я может и ковбоем хотел быть.
– Ну и дурак. Чем в ковбои поступать лучше в налетчики идти или по тихой или, скажем, по ширме… У меня дядя домушник, — таинственно зашептал Химик. — Так до чего здорово работает — ну прямо как твой Майн-Рид, и денег пропасть.
Химик не заметил как потемнело и залилось краской лицо его друга.
– А чего только не делал, — возбужденно махая пустым рукавом, повествовал он. — Раз с третьего этажа ссыпался — полребра недочет… Раз пианину стырили среди белой ночи, — жильцы слышали, конечно, грохот, но думали — дом рушится, и потому особенно не беспокоились. А хозяева — жильцов после в милицию: что, мол, это они сперли… До чего ругани было, — одного чуть не засудили… Смехота…
– А я, — как-то странно вырывается у Лепешина, — я записки буду оставлять, как у Пушкина…
– За-записки?…
– Факт!… Я книжку одну читал у Пушкина. Там одни налетчик описан, в роде Антонио Порро, только получше, и добрым был: богачей грабил. И где что украдет, сейчас записку оставит: "Здесь был я, знаменитый бандит Дубровский". И
поймать его никак не могли — до того был ловкий!…
– Тоже ловкость! Это в древности наверно, когда угрозыска, дактилосклепии не было. — А пусть теперь оставит записку — враз поймают!
Лепешин ничего не ответил и вздохнул…
* * *
А курица между тем постепенно поджаривалась и подрумянивалась… Лепешин вынул ее из развилки и разорвал на две части. Но Химик отказался.
– Не надо… У меня своя есть! — сказал он и вытащил из угольев курицу размером в два раза побольше лепешинской…
– Так дольше, но вкуснее, — объяснил он остолбеневшему другу. — Чего глаза разинул? Что я — дурак — казенную картошку жрать?…
Ребята устроились поудобней и зачавкали.
– Как в прерии, — прожевывая курятину, шамкал Лепешин. — Вкусно, прямо смак…
– Какой там смак? — откликнулся пресыщенный Химик. — Вот гуська бы молоденького! — Он зажмурил глаза, а когда открыл их, то увидел стоявшего перед костром одноклассника Кузю.
Ребята молчали. У Химика с Лепешиным в горле застряли куски. У Кузи при виде курятины неудержимо хлынули слюни…
– Шамаете? — спросил наконец Кузя.
Химик с Лепешиным переглянулись и, оторвав по куску каждый от своей курицы, дали Кузе. Тот съел, тоскливо облизнулся и, чувствуя, что больше не дадут, спросил.:
– Откуда раздобыли?…
– В болоте, — поспешно ответил Химик. — За клюквой ходили и на уток нарвались. Из самоделок двух ухлопали…
Кузя встал и посмотрел в сторону.
– А там утки еще остались?…
– Нет, не остались… Все улетели утки…
– А это, между прочим… не куры?…
– Ну вот! — обиделся Химик. — Станем мы
из-за кур в лес, в болото таскаться. Кур и здесь не мало…
Кузя встрепенулся.
– Где?…
– Там, — махнул Химик, за водопадом пасутся… Кузя крякнул и, нагнувшись, поднял с земли суковатую ветку.
– Вы, рябцы, ежели уходить будете, костер не гасите, ладно?…
– А ты, сволочь — разом крикнули Химик и Лепешин: — если запорешься, нас не продавай, — слышишь!
– Сматываемся, — сказал Химик: — Кузя парень — липа. И сам запорется и нас выдаст…
4
Когда Химик с Лепешиным появились на шкидском дворе, там происходило собрание. Пришедшие поторопились юркнуть в толпу ребят.
Викниксор громил воровство.
В Шкиде завелась группа хулиганов, которая грабит и разоряет окрестные огороды; к нему сегодня приходили огородники и требовали принять меры. — С картофельным воровством следует покончить! — заявил Викниксор.
– Верно! — поддержал Химик. — Надо бросить, ребята, картошку… На кой кляп сдалась она нам?…
По рядам прокатился сдержанный гул… Проголосовали. Единогласно решили "бросить"…
– Дальше, — продолжал заведующий: — нам надо переизбрать старосту по кухне… Предлагаю выбрать Васильева…
– Женьку! — закричали ребята… Викниксор поднял брови и нахмурился.
– Если вы не желаете Васильева, предлагаю Смирнова…
– Женьку! — кричали ребята.
У Викниксора было много оснований не доверять
Кухню женькиному управлению. И ему наверное удалось бы провести своего кандидата, если бы Женька не купил заблаговременно голоса. Женька еще вчера, узнав о перевыборах, пообещал каждому, кто будет за него, по полфунту хлеба у младших и по фунту у старших. И поэтому сейчас все шкидцы дружно кричали:
– Женьку!… Женьку!…
И Викниксору пришлось уступить…
Не успело окончиться собрание, как Викниксора позвали к воротам… Химик осторожно выглянул из-за дома и увидел толстую женщину в зеленом байковом платке, кричащую заведующему:
– Ваши ребята кур убивают, а потом жарят!… У меня сегодня четыре штуки пропали, я буду в милицию жаловаться!…
Викниксор нелепо покачивался, судорожно морщил и тер рукой лоб и мычал невразумительно:
– Успокойтесь. Примем меры…
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
1
"Да… Им самоуправление вредит. Они не доросли, — раздраженно думал Викниксор. — Оставили прежнего старосту, который обворовывает их. Идиоты!
В распахнутое настежь окно сквозь темноту и вкрадчивый шелест ветвей доносился собачий лай. Викниксор полузакрыл оконные створки, потушил лампу и, как был в халате, залез под одеяло на скрипучую столетнюю оттоманку. Под стрекочущее тиканье будильника проходили, текли минуты. Викниксор сбросил одеяло, оставшись под одной простыней. Но сна не было, и он, ворочаясь, снова перебирал в памяти сегодняшний день. Вспоминалась женщина, у которой пропали куры, перевыборы, резкий разговор с Эланлюм, и в конце концов опять заныло в ухе. Это проклятый фурункул, упрямо засевший где-то там внутри,
мешал спать уже целую неделю. Викниксор терпеливо закусывал губы, но потом забылся и чуть ковырнул нарыв мизинцем. Сразу дернуло, обожгло, словно током, и он, совсем расстроенный, приподнялся и уселся на оттоманке.
Ку-рите, пей-те и бузите.
Отправят в ла-авру — не беда,
Уроков этих не учите -
Не вый-дет толку пи черта…
заглушенно, но убедительно пел кто-то. Мелодию сопровождал обычный шкидский аккомпанемент на алюминиевой миске.
"Я тебе покажу — уроков не учить", — подумал Викниксор и хотел уже идти отыскать нарушителя тишины, но голос показался знакомым, и он вспомнил…
… После перевыборов, после ссоры с немкой он обходил на ночь дачу. Воспитанники спали, и только кухонный староста Женька был на кухне. Викниксор вспомнил, как Женька тогда, словно не заметив его, продолжал резать на утро хлеб. А когда Викниксор пошел дальше, Женька стал что-то насвистывать, насмешливо и торжествующе…
Вот почему Викниксор не двинулся с места и, сдерживая растущую злобу, ждал. У него появилось инстинктивное, тщательно спрятанное от самого себя желание обождать, пока Женька не споет какую-нибудь гадость. Тогда (старался не думать Викниксор) можно спокойно, с чистым сердцем наказать Женьку.
Тикал насмешливо будильник, сверлило в ухе. Викниксор раздражался все больше и больше; ему казалось, что Женька знает его мысли. Он сидел, готовый вскочить, полузакрыв неспокойные глаза.
Наконец, Женька замолчал совсем, будильник затикал еще насмешливее, и Викниксор, почувствовавший себя обманутым, обиженный и расстроенный, встал и прокрался на кухню…
На столе грудой лежал хлеб, уже нарезанный на тощие приютские пайки. Желтый огонек лампы отражался, вздрагивая в широком лезвии ножа для резки
хлеба. А сам Женька, не замечая стоящего в дверях зава, сидел на подоконнике. Он держал казенную миску и, напевая, ударял в нее ложкой. Викниксор, спрятанный темнотой, держась за больное ухо, с ненавистью глядел на него.
Женька вдруг оглушительно забарабанил по миске ложкой.
Ну и весело живется, Если с Элушкой живет.
Молока хочь не напьется, Зато Элушку…
– Каналья!
Круглая миска с дребезжанием выкатилась, виляя за открытую дверь, а оглушенный недоумевающий Женька молча поднимался с пола, ухватившись за край стола и нечаянно зацепив нож. Викниксор метнулся к нему, теперь уж отдавая себе во всем отчет, размахнулся и жестоко, как только мог, как глушат на бойнях скотину, ударил Женьку кулаком в голову. Женька охнул, упал снова, снова поднялся и, пошатываясь, выбежал вон.
Викниксор, погнавшийся за ним, нашел его в полутемной спальне, Женька лежал, закутавшись с головой, на своей койке и тихо, сквозь зубы выл: ему показалось, что зав сошел с ума. Викниксор грубо дернул его за плечо, потом схватил за шею — начал трясти. Голова Женьки мерно билась о железные перекладины кровати. Шкидец царапался, извивался, хрипел, но это еще больше ожесточило Викниксора.
И только когда разъехались в сторону доски кровати, когда он увидел кровь, увидел отпечаток своих пальцев на щеке провалившегося на пол шкидца, только тогда ощутил все, что произошло.
Уже с испуганными возгласами просыпались воспитанники, громким басом заревел не спавший и видевший все Кузя. Викниксор нагнулся, вытащил из-под койки замолчавшего, притихшего Женьку и не зная, куда его девать, потащил в изолятор.
2
– Очень странный педагогический прием… не правда ли? — спросил на следующий день под одобрительный гул остальных ребятишек Иошка у немки.
– Что ж делать, раз вы не понимаете слов, — ответила Эланлюм. — Да и вообще русский человек любит палку.
Избитый шкидец еще сидел в изоляторе. Чуть светало, когда Викниксор, никого не предупредив, уехал в город. Без распоряжения зава Женьку нельзя было выпустить, это разжигало ребят, немка тревожилась и, не зная, чем успокоить их, повторяла:
– Русский человек уважает палку.
– А палка, знаете, о двух концах бывает, — серьезно сказал Иошка: — за историю в роде вчерашней одному заведывающему попало здорово. Об этом в газетах писали…
– В газетах? — встревожилась немка.
– Да, Элла Андреевна, в газетах. Возьмет кто-нибудь и напечатает…
Вечером об этой угрозе было передано Вккниксору. Рассказ словоохотливой немки продолжался минут двадцать, он продолжался бы и больше, но пришел Кира и она замолчала, занявшись у самовара. Кира пришел сказать, что назначенная на завтра экскурсия со второй группой состояться не может, так как завтра очередь этой группе дежурить по школе, так что…
Короче говоря, Кире очень не хотелось тащиться на экскурсию.
Викниксор, слушал внимательно и думал о другом, пристально смотря на Киру своими маленькими блестящими глазками.
– Вы хотите на экскурсию? — переспросил он. — Прекрасно. Можете завтра отправляться…
– А дежурство группы…
– За них будут работать старшие… Они свободны
от летних занятий и отлично могут вместо этого потрудиться.
– Это им очень полезно, — сказала из-за самовара Эланлюм. — Старшие распустились окончательно. Они грозят газетами, угрожают. Нет, это очень хорошо распорядился Виктор Николаевич. Очень хорошо.
Кире ничего не оставалось, как согласиться с немкой. Он поддакивал в продолжении всей ее речи, и был оставлен к чаю.
3
– Но вы же знаете, Виктор Николаевич, что мы осенью хотим держать экзамен в техникум.
– Ну?
– У нас очень мало времени для подготовки
– Ну?
– И если вы хотите еще заставить нас работать за второй класс, нам совсем не останется времени заниматься…
– Ну?
– А если мы не подготовимся, то провалимся на экзаменах.
– Все?
– Все…
Когда Шкида переехала на дачу, старшие, плюнув па халдеев, принялись сами по учебникам за родной язык, за физику, за обществоведение, чтобы как-нибудь успеть подготовиться к осенним экзаменам в техникум.
Учиться пришлось много, и в то время, когда остальные шкидцы проводили время в кружках и на экскурсиях, небольшая кучка старших выпускников занималась. Занималась с утра и до обеда, занималась после обеда, занималась и вечером. И когда Викниксор объявил, что старшие должны работать за вторую группу, потому что они бездельничают, старшие возмутились. Стало ясно, что Викниксор злится на них за все то, что они высказали о нем после случая с Женькой, но ведь школа не дала им, выпускникам, нужных
знаний, они не требуют и только просят дать им больше свободного времени для личных занятий.
Викниксор выслушал, попробовал смутить говорящего ему из строя Сашку своим пристальным взглядом и короткими вопросами, но Сашка не смутился — все высказал и теперь ждал ответа.
– Мое решение неизменно, — медленно заговорил Викниксор. — В школе все должны подчиняться общим правилам. Исключений ни для кого нет — таков закон… Если вы не занимаетесь в кружках, то взамен этого должны нести другую работу по школе.
Но строй волновался… Второй класс перешептывался, толкался.
– Говори, говори, — шептали ребята, выпихивая
Старостина.
– Виктор Николаевич… — рассудительно заговорил, выходя, Старостин, — пущай старшие занимаются — им нужно, а мы работать будем… А то надоели все экскурсии, и ни хрена в них пользы…
Викниксор рассердился, покраснели затопал ногой.
– Пошел на место! — закричал он. — Сопляк! Учить меня вздумал! Без обеда! — И, давая понять, что все разговоры кончены, скомандовал:
– Смирно!…
Занятые в этот день чрезмерной работой, старшие торопились: приходилось рассчитывать время, чтобы выкроить из него еще и для учения. Но утром заниматься почти не пришлось. Пока носили воду, пилили и кололи дрова, мели двор и улицу, — время прошло до полдня, а потом Викниксор придумал убирать огород, и ребята освободились лишь за полчаса до обеда. После обеда надо было мостить кирпичом двор. Здесь кто-то предложил делать все сообща, и оказалось, что работа пошла много легче и быстрей. И ребята повеселели.
Они кончили, когда другие шкидцы еще не сделали и половины ежедневной работы.
– Ну, теперь все, — со вздохом поднялся Голый и улыбнулся. — Теперь заниматься,
Все встали с мостовой и, с усилием расправляя спину, тоже улыбались.
– Мирно все и без бузы, — сказал Иошка, опуская закатанные рукава. — Все в порядке, можно сказать.
Начали умываться.
Около кухни поднялся хохот, гогот, визг… Выскребывали из кадушки последние остатки воды, шаркая по дну ковшиком. Ругалась кухарка Марта, отнимая ковшик. Сашка облил Голого Барина и оба, завизжав как поросята: помчались по двору.
– "Держи"!…
Неожиданно из-за угла сада вышел Викниксор.
– Что такое? — остановился он. — Что за беготня. Почему вы не работаете?…
Кончившие работать старшие стояли возле кухонного крыльца. Иошка сидел на перилах.
– Мы свое сделали, — сказал Иошка, не вставая. — Все правильно, Виктор Николаевич.
Этот веселый тон и то, что Иошка, говоря, продолжал сидеть на перилах, и то, что Голый с Сашкой, несмотря на окрик, не остановились сразу, раздражил и без того нервничавшего Викниксора.
– Ничего нет правильного, — сказал он, сдерживаясь и подходя ближе. — Ничего нет правильного, — повторил он. — Вы старше и сильнее и потому сделали все быстро…
– Нет, — ответил Иошка. — Это потому, что мы работали сообща, по-фабричному…
– Это дела не меняет… Вы должны были работать больше, вдвойне.
Ребята загалдели…
– Ка-ак?
– Когда же заниматься?…
– Это несправедливо…
– Прошу не разговаривать, — оборвал крики Викниксор. — Доделайте сначала работу…
– Мы сделали…
– Я сказал: вдвое…
У Голого еще раньше дрожали от обиды губы. Он не выдержал и закричал в лицо Викниксору:
– Довольно вам издеваться… Что мы — скотина, что ли?…
Викниксор оглядел его.
– В четвертый разряд! А вы, — он повернулся к остальным: — за работу!
И ушел…
– А мы работать не будем, — неслышно прошептал ему вслед Червонец. — Не будем!
На него испуганно взглянули и шикнули. Но Голый рассердился и полным голосом прокричал:
– Не будем!
– Не работать…
– Бастовать — и к чертям!…
Работать никто не пошел.
Викниксор чувствовал, уходя от ребят, что поступил несправедливо. Даже обида на них, которую он старательно при этом вспомнил, уже не казалась ему утешительной. Он старался оправдаться тем, что все-таки это им будет на пользу. Им меньше будет времени хулиганить.
Так оправдывался он перед собою, но был неспокоен.
Он не мог понять, что те, старшие, которые пришли в Шкиду оборванными, тринадцатилетними шкетами, теперь выросли, развились и были даже образованнее халдеев, без педагогического опыта, без охоты к работе, набранных с бору да с сосенки, по биржам и отделам труда.
Эти люди, за редким исключением, больше годные в дядьки и надзиратели, призваны были учить и исправлять трудных детей, детей с повышенными способностями и чувствительностью, детей, превратившихся в юношей…
И это непонимание было причиной, почему школа так круто стремилась под уклон.
Работать ребята не пошли. За ужином и вечерним чаем все безразлично ждали, что вот-вот разразится гроза.
Но ничего не случилось. Викниксор забыл о ребятах, а вечером уехал в город, думая там поспокойней провести пару деньков и посоветоваться с доктором относительно своих почек.
4
– Так как же ребята? — в третий раз спросил Голый Барин.
Спальня молчала.
Ребята, закутавшись в одеяла, сжавшись лежали по койкам, но не спали. Спать не могли.
– Бастовать…
Лежали… Сашка, уткнувшись лицом в горячую подушку, лежал, думал: "3ря хлопочет Голый, ничего не выйдет, будет буза; надо поговорить с Викниксором, как говорили раньше, — а не бастовать"… Иошка думал: "Три года говорили с халдеями — хватит; не бузить надо, не разговаривать, а бороться". И Будок, Кубышка, Адмирал, Червонец, другие думали: "Как же так?., бастовать?., сразу?., вдруг? Завтра"?…
– Бастовать!…
– Погоди, — угрюмо сказал Будок. — Сразу ведь так нельзя, подумать надо…
– Это определенно, — загудели кровати. — Подумать надо… Сразу нельзя…
– А что думать? — закричал, сорвавшись, Голый.- Мало кирпичей потаскали, мало в пятых разрядах посидели, да?… Ждать будете, просить будете. Да? Думаете, простит Витя, что мы сегодня не работаем? Думаете, забудет? Да?…
– Не забудет, — вздохнул из темноты Кубышка. — Ох не забудет, Витя, вспомнит! Он сейчас в город уехал, а потом вспомнит.
– Фана…
Ребята зашевелились, Иошка сел на кровати.
– А, по-моему, лучше всего поговорить с Витей, — глухо в подушку начал Сашка. — Зря волыним,
ребята… Что Витя Голого в четвертый разряд перевел…
– Врешь, врешь, Сашка! — вскочил Голый. — Мне на разряд наплевать, тут не разряд, тут мы все, — мы бастовать будем…
– Ну и забастуем, — нудно продолжал Сашка.- А младшие работать будут. Оставят нас без жратвы, переведут кого в четвертый, кого в пятый разряд, а кого и вышибут…
– Не пугай, — тихо уронил Иошка: — не испугаемся… С младшими сговориться надо. Как думаете, ребята?…
– Обязательно надо! — загалдели ребята. — А то как же одним?… Бастовать — так всем. Надо кому-нибудь сходить к ним.
– Я схожу, — выскочил Голый, — я с Андрюшкой.
Прошло несколько минут после ухода Голого, и ребятами снова овладело сомнение. Им уже живо представлялась та расправа, которой они подвергнутся завтра, все как-то вдруг ощутили свою беспомощность и бессилие. Но отступать было поздно, и отступать никто не решился бы.
– Помню я… — неуверенно заговорил Адмирал, — на гимнастике… Шел и стал отставать… А Спичка ка-ак шмякнет меня палкой… в приюте это.
– Так то раньше! — закричал Будок, — то в старое время, тогда действительно били… А в Шкиде в прошлом году Аксютку отвозили… Наследил кто-то в классе, а халдей один — Хрящиком звали — и говорит Аксютке: "это ты"… Аксютка говорит: "нет"… Хрящик говорит: "убери". Аксютка говорит: "это не я"… Хрящик Аксютку за шиворот. Аксютка Хрящика в пузо. Хрящик Аксютку по кумполу — загнулся парнишка… Тут набежали халдеи и поволокли его в изолятор… А потом как вечером отправляли его с ментами в реформаторий…
– За што?…
– Дык он же Хрящика по пузу треснул… Когда вели его вечером, смотрим — голова у него вся разбита в кровь,
– Халдеи?…
– Не-е… Он в изоляторе об стенку головой бился. Психом был… Так разве с психом можно?…
– А Женьку как отвозили?…
– А Адмирала как Викниксор разделал, слыхали?… Адмирал щебенку на дворе бил и расколол себе палец, ноготь, что ли, своротил… Ушел, конечно… А вечером, как накинулся на него Витя… "Гогочка, — кричит, — паинька… Ножку себе занозил"… Дал бы я ему гогочку, черт корявый…
– А сад убирали? Целый день лист таскали. Потом прилетела Эланлюм… Хвать…
– Тш-ш!…
На лестнице и в дверях зашумели. Послышался топот босых ног.
– Голый!
– Голый пришел!
Даже сомневавшиеся вскочили с кроватей и побежали навстречу.
– Все в порядке, — сказал Голый, очень довольный и выполненным поручением и тем, что стал почти организатором забастовки. — Все вышло очень хорошо. "Даешь!" кричали. Словом, — завтра на купании надо сговориться — и конец.
– Очень хорошо. Молодец! — похвалил Голого Иошка.
Он отошел к своей постели и лег. Весь план забастовки уже созрел в его сознании. Он хотел уже сейчас приняться за организацию стачкома, приняться за распределение обязанностей, но волнение сегодняшнего дня утомило. Все разбрелись по постелями заснули очень быстро.
Зато младшие успокоились не скоро. Еще по уходе Голого они долго обсуждали предложение старших и находили его заманчивым и увлекательным. Впрочем, им было все равно. Они не рассуждали, плохо ли это или хорошо, — это они предоставляли решать старшим, которые, думалось им, знали все и на которых можно, следовательно, положиться…
Но самое главное — забастовка давала свободу от опостылевших кирпичей, кружков, экскурсий. И всем как-то смутно представлялось, что можно по-новому и очень интересно побузить.
5
В это утро дежурный воспитатель Палач был удивлен странным поведением ребят на купаньи. Все они быстро раздевались и, один за другим переплыв узкую речку Брюловку, — скрывались в кустах на противоположном берегу. Палач почувствовал здесь подвох, неизвестное противозаконие и поэтому начал кричать:
– Кончай мытье!… Вертайся назад!… Жи-во!… Но там его не слушали. Слушали Иошку:
– Так, значит, вот что… Самое первое — после чая всем из дачи вон… Понятно?… И до вечера даже близко не подходить… Понятно? Второе: — шамовкой запасайтесь как можно больше…
– А где ее возьмешь, шамовку-то?… — спросил Балда, великий объедала.
– Извиняюсь! — высунувшись из толпы, обратился к нему Химик. — Ты что же думаешь, сволочь, что картошку огородную можно только после забастовки жрать, да?…
– Шамовкой, значит, запасаться… — поспешил замять этот подозрительный разговор Иошка. — Попятно?… Я и Сашка будем на чердаке. Если что случится — к нам. Понятно?…
А Палач, охрипнув от крика и убедившись в наличии крамолы, сел на песок и начал стаскивать сапоги, надумав плыть через реку.
– Зеке! — крикнул Химик. — На митинг могут напасть халдеи.
– Сейчас… Еще одно… Последнее… Не бузить и халдеям хребты не ломать. Понятно?…
– Понятно…
Ребята высыпали из кустов и с шумом кинулись в воду.
Задуманный план исполнялся. Выпив чай и захватив шамовку, шкидцы незаметно скрывались, и вскоре дача опустела; а через пять минут вошедший в учительскую Палач тревожно сообщил халдеям:
– Ребята разбежались!
– ?!
– Смотрите сами.
Но смотреть собственно было нечего.
Спальни и столовые оказались пусты. Пусто было на дворе, в саду и в огороде. А на дверях учительской появилось объявление:
"Мы долго терпели. Нас обвиняли в воровстве, заставляли через силу работать, избивали, не давали возможности учиться и т. д. Но больше мы терпеть не можем. С сегодняшнего дня мы начинаем забастовку. Мы не будем ни учиться, ни работать, пока не будут приняты наши требования:
"1. Прекращение мощения двора.
"2. Перемена обращения.
"3. Отменить сверхурочные работы у старших и дать им возможность в человеческих условиях провести последний месяц.
"4. Уничтожение наказаний и изолятора.
"5. Создание законного самоуправления.
"Если эти требования вы выполните, мы забастовку кончим.
Стачком Шкиды".
Из чердачного круглого окна Иошке видно было, как заволновались столпившиеся у объявления халдеи. Он улыбнулся от радости, но сейчас же улыбка исчезла. Ясно слышно было, как кричала Эланлюм и, крича, даже подталкивала под руку Киру:
– Скорее на поезд… В город…
Иошка повернулся к Сашке, хмуро сидевшему на двух кирпичах, и захихикал как японец.
– За Викниксором поехали… Чуд-даки!… Теперь такая каша заварится, что и троим Викниксорам не осилить…
В час обеда никто из ребят не явился. Халдеи часто выходили за ворота, вглядываясь в оба конца по-полуденному пустой улицы и каждый раз понуро возвращались обратно. И каждый раз хихикал на чердаке Иошка:
– Ходят!…
Уже солнце обежало небо и, склонясь, покатилось к вечеру. Прогнали коров, и тени, бледнея, все больше вытягивались на восток. И все больше вытягивались халдейские лица. Кто-то высказал мнение, что, может, произошел массовый побег, что, может, надо заявить милиции, но пробило шесть часов, и в учительскую уже не вошел, а вбежал Палач и крикнул:
– Идут!…
Ребята пришли. Все с гомоном и треском разбежались по столовым, и тотчас же в каждой из них в дверях выросло по халдею. И, странное дело, они чувствовали какую-то неуверенность, неловкость и даже бессилие. Они понимали, что забастовка — это не простая буза, что следовало бы просто и по-товарищески поговорить с ребятами, вызвать их на беседу, на откровенность, но в том-то и дело, что они не умели этого делать, в их распоряжении был лишь один-единственный метод воздействия!
– Без обеда все!…
– Нам обеда не надо! — отвечали ребята. — Нам ужин даешь, по закону.
Законы — губоновские инструкции — ребята знали не плохо.
Поужинали.
После ужина халдеи поспешно разогнали ребят по спальням и заперли их — ребята вылезли в окна; пытались запереть ворота — шкидцы удрали через забор. Воспитатели, усталые и растерянные, бегали по даче.
Шкида взбунтовалась. Порядок полетел к черту, и былые приемы уже никого не пугали.
К ночи ребята вернулись. Чай пили, победно распевая песни, и халдеи не показывались на двор,
считая это делом бесполезным; и только с нетерпением ожидали Викниксора. Ждали этого приезда и ребята. И хотя успех первого дня вскружил им головы, они смутно сознавали, что так просто и легко все не пройдет и что надо готовиться к чему-то решительному, но к "чему" — никто не знал.
Викниксор приехал в двенадцатом часу ночи. Через полчаса его квартира наполнилась созванными на экстренное заседание халдеями.
Дача была старенькая, деревянная, хлибкая, и все, что говорилось в квартире заведующего, при некотором старании можно было услышать. Поэтому Голый Барин еще раньше разрыл землю на чердаке и теперь, приникнув к доскам, внимательно вслушивался.
– Это же черт знает что такое! — почти кричал Викниксор. — Это же буза. Это же непослушание, это же бунт!…
– Бунт! — вздохнул кто-то — бунт!…
– Да ведь какой бунт?… Организованный. Это же надо зачинщиков искать, главарей ловить!…
– Надо, надо! — опять поддакнул кто-то, и Голому показалось, что это Кира. — Определенно надо…
Внизу замолчали. Потом стукнул поставленный на блюдце стакан, и Викниксор заговорил снова:
– Главари мне будут известны. О них, впрочем, я догадываюсь. — Ну, а для верности ученик Карпов мне их завтра назовет. Завтра попрошу вас сделать так: после умывания поставить всех в строй, закрыть ворота и… Они у меня долго не побастуют.
Голый поднялся и осторожно, на одних носках, выбрался с чердака.
В спальне его ждали. Сидя на кроватях, выслушали его торопливый рассказ.
– Понятно, — прервал Иошка. — Все ясно… Крикните кто-нибудь Женьку.
– А зачем?
– Говорю, значит надо.
Пришел заспанный и хмурый Женька — кухонный староста.
– Вот что — строго обратился к нему Иошка: --скажи честно и по совести. Сколько у тебя хлеба отначено?
От неожиданности и спросонья староста растерялся и поэтому ответил честно, стыдливо опустив глаза.
– Пустяк… Фунтов тридцать…
– Мало, — прикинул в уме Иошка. — Ну, да все равно… Страдать так страдать. Сделай так… Хлеба завтра к чаю дай больше, по фунту… и сахару больше и еще чего-нибудь, скажем — масла… Понятно? Разложи все на столах пайками до умывания… Понятно?… И сам уходи — будто купаться — и к чаю обязательно опоздай… Понятно?
– Понятно.
– А хлеб отначенный на чердак… Понятно?
– Понятно…
– Я еще не все сказал, — заговорил опять Голый. — Дело вот какое… есть лягавый…
В спальне стало тихо; все замолчали. Потом скрипнула иошкина кровать, и он спросил:
– Кто?
– Карлуха, из второго класса. Викниксор сам сказал, что от него все завтра узнает.
– И Карпуха расскажет?…
– Факт…
– Так крыть же его паскуду, надо…-закричал вскакивая Иошка. — Сейчас и покрыть, пока не поздно!
– Язык вырвать!
– Убить стерву!
Несколько человек поднялись с кроватей и вышли из комнаты.
– Ша!…
Во втором отделении
было тихо, ребята спали. Карпуха лежал, раскрасневшись от сна, улыбаясь своим румяным ртом,
Барин набросил на лицо ему подушку, и слышно было, как дернулся тот от испуга и забился, стараясь вырваться.
Но его крепко держали.
От ударов свалилось одеяло.
Били прямо по телу.
Тело вспухло под ударами, сжималось, силилось освободиться — на миг он вырвался из-под подушки, крикнул, но его ударили по лицу, на руки брызнула кровь, и он упал…
– Хватит!…
В спальне по-прежнему было тихо, В окно неслышно глядела спокойная и чистая луна; сброшенное одеяло, подушка и тело нелепо лежали поперек кровати, освещаясь ее странным светом.
Потом неприятно и сухо что-то начало падать на пол, равномерно как капли. Голый протянул туда руку и, побледнев, отдернул обратно, судорожно отряхивая ее.
– Хватит!…
6
Утром звонок на чай заставил Викниксора быстро встать от стола, взглянуть на себя в зеркало и выйти из комнаты. Но там его торопливость исчезла, и он нарочно медленно отворял наружную дверь, нарочно медленно сходил по лестнице, чтобы посередине ее остановиться изумленным, сбитым с толку.
Двор был пуст. Обычного шумного строя ребят не было, да и на всей даче не слышно было ни звука. Лишь кучка воспитателей сиротливо ожидала заведующего возле крыльца.
– Где воспитанники? — спросил Викниксор.- Разве не вернулись еще с купанья?
– Ушли уже…
– То-есть как так ушли?
– Да так: вернулись с купанья и ушли…
– И чай не пили?…
– Нет…
– Черт знает что такое! — крикнул Викниксор, краснея. — Все проворонили… Сейчас… сию же минуту разыскать всех!…
Халдеи разбежались…
Насмешливое Иошкино лицо высунулось из чердачного окна и сейчас же скрылось обратно…
– Ищут.
Иошка захихикал, потер руки и оглянулся. Сашки на чердаке не было.
Сашка шел к Викниксору, твердо решив поговорить с ним и мирно уладить волынку.
А Викниксор стоял на лестнице, видел, как опрометью носятся по этажам воспитатели, и понимал, что там нет никаких ребят, что его перехитрили, что лучше просто дожидаться прихода шкидцев. Но у него пропала уже всякая охота к действиям, к работе, соображению. Он постоял еще немного и тяжело, по-стариковски загребая ногами, поднялся обратно в свои комнаты.
Однако воспитатели, смущенные его криком, проявили деятельность необычайную. Они обыскали всю дачу, сад, огород, окрестные улицы, и им удалось поймать трех неосторожных шкидцев. Ребят притащили в дачу, заперли в изолятор и у дверей посадили Палача. Сторожить.
– К вечеру воспитанники придут, — ораторствовал на задворках упоенный успехом Кира. — Много, конечно, поймать мы их не поймаем, но Виктор Николаевич очень расстроены, и надо постараться. Одним словом, наловить ребят числом как можно побольше. Понятно? Одним словом — хватать! Много, говорю, конечно, не схватишь, но ежели по одному или по два-то, натурально, выйдет цифра и даже число!…
Условившись насчет "хватать", халдеи потушили папиросы и разошлись по засадам.
А Сашка вернулся от Викниксора так быстро и таким красным, что можно было подумать, будто ему наклали по шее и поддали сзади коленкой.
– Сам ты дурак! — забормотал он на чердаке, грозя — кулаком викниксоровским окнам. — Сам ты сопляк и мальчишка… Сволочь… Погоди, мы тебе такое закатим, что глаза на лоб вылезут!…
Иошка не расспрашивал Сашку. Иошка вспомнил зиму, приход корреспондента, разговор в зале и Викниксора, кладущего руку на Сашкино плечо.
"… И это хорошо, что ты погорячился, не забывай так делать и дальше…"
– Не унывай, Саша, — хихикнул Иошка. — Вкатим Вите забастовочку, не беспокойся.
В шесть часов, как и вчера, забастовщики вошли во двор. Из всех углов ринулись на них халдеи, а по лестнице с криком "хватай!" соколом слетел Кира и врезался в толпу.
Шкидцы заметались по двору. Ударились было к воротам. Но их уже успели запереть, а в калитке образовалась пробка.
Халдеи ловили по преимуществу мелочь — на манер курей, растопырив руки и загоняя в угол.
Кира, пожелав отличиться, вцепился в самого длинного шкидца Червонца, — но сил своих не рас читал: ему дали по зубам, и он, кувыркнувшись, отлетел к стене, не переставая кричать: "Хватай!"
Но хватать уже было некого — неприятель отступил через калитку и через забор, и хотя поле сражения оставалось за халдеями, пленных было всего трое малышей-новичков, которые вдруг во весь голос заревели:
– Мы больше не будем!…
– В изолятор! — распорядился Кира. — Мы им покажем! Забастовщики!…
И пленников поволокли…
А шкидцы выбежали за ворота, и хотя за ними никто не гнался, никто не преследовал, продолжали бежать, бежали долго и очнулись только на кладбище, на другом берегу речки Брюловки.
На могильном замшелом камне, рядом с покривившимся крестом, сидел Сашка, — он прибежал первый и теперь изумленно смотрел на ребят, вспоминая прошедшее:
– Какого же черта мы убежали?
– Да там же халдеи!…
– Эх, мать честная, — до слез огорчился Сашка, — надо на них было… Бить их…
– Так что же ты сам в беги ударился?… Эва, раньше всех прибежал!…
Шкидцы, перебираясь по камням через реку, все подходили и подходили.
– Много там поймали, а?…
– Много… Человек десять, а то и больше…
– В Лавру их наверное отправят…
– Братцы, — заговорил вдруг кто-то: — а ведь пожрать бы надо?…
– Факт… Пожрать надо…
– На даче есть хлеб, — сказал Иошка. — Хлеб на чердаке. Только принести надо… Сходишь, Федорка?…
– Ладно, — отозвался тот. — Мы с Корнем сходим.
– Только осторожно! — предупредил Иошка, когда Федорка и Корницкий пошли. — Не засыпьтесь… С огорода лезьте…
– Ладно…
Ребята на кладбище оживились. Смеялись, бегали по могилам и даже Карпуху, над которым нещадно издевались весь день, оставили в покое.
– Сейчас пожрем!
Но и пожрать не пришлось. Минут через десять на берегу показался Федорка, один и без всякого мешка; торопливо, едва не свалившись в воду, перебрался он через реку и подбежал к Иошке…
– Корень засыпался… Засада была… Пришли на чердак, думали — не заметят; выходим, а тут — как кинутся…
– Кто?
– Халдеи… Кира… Палач… Сашкец… Корня схватили. Я убежал…
– А хлеб?…
– Там, у халдеев остался.
Скажи он, что в Шкиде сейчас вешают Корницкого, это меньше возмутило бы ребят…
– Что же ты, стерьва, хлеб бросал?…
– Да я его и не бросал… Корень его нес… Его и хватали.
– А ты не мог хватать?…
– Кого?…
– Да хлеб… Будто не понимает…
– Сразу хватали они. Один хлеб, другой Корня.
– Здорово! — только и мог проговорить Голый Барин.
– Что же делать? — спросил у Иошки растерявшийся Сашка.
– А я знаю? — буркнул Иошка и отвернулся.
– Вот тебе и пожрали! — мрачно пробурчал Червонец.
Шкидцы разбрелись по кладбищу. Нашли и выволокли из разваленного склепа Карпуху, принявшись на нем вымещать свою злобу.
– Будешь людей продавать, стерва?…
– Не буду, — выл Карпуха. — Это вас халдеи под-манули. Я им ничего не говорил!…
– Врешь, зануда! Не говорил, так будешь говорить, — и град щелчков и колотушек сыпался на карпухину голову.
Скоро совсем стемнело, и обложенное облаками небо сделало кладбище страшным.
Все понимали, что надо действовать, думать, предпринимать, а не ожидать чего-то неизвестного и далекого. Ведь начали бастовать, надеясь потом сговориться, надеясь кончить спокойно и быстро, а между тем уже прошло два дня, и никто не знал, когда да и чем все кончится. Уже нашлись недовольные, которым казалось глупым мирное и терпеливое ожидание, и они призывали бороться — идти бить халдеев и брать в свои руки и власть, и кухню, и кладовую…
Хотелось есть.
Становилось холодно и мрачно, и шкидцы опять окружили камень, где сидел Иошка.
– Так что же делать будем?…
Иошка глядел на ребят и не мог понять, что им от него надо, откуда он знает, что делать?…
– Не ночевать же на кладбище?…
– Ну и катитесь в Шкиду, — раздражился Иошка. — А мне и здесь хорошо…
– Сволочь! — крикнул кто-то. Иошка ничего не ответил.
Свет луны, прорвавшись сквозь тучи, мелькнул по кладбищу. Все вырисовалось перед глазами: поваленные кресты, плиты и кладбищенские ивы с растопыренными, как пальцы, прутьями, тихо и неслышно качающимися под ветром. И Иошка увидел, как шкидцы понемногу, по одному начинают переходить обратно, на другой берег.
– Куда вы? — закричал Голый Барин.
– Домой идем! — грубо крикнул в ответ Мамонтов. — Не будем здесь.
Теперь уже переходили реку все… Перебираясь через камни, кто-то столкнул Карпуху, и тот стал тонуть. Стремнина водоската тащила его вниз — он цеплялся за камни, хотел вылезть. Но руки скользили, а в лицо била мутная пена. И он не кричал, не просил, не звал. Знал, что звать бесполезно.
А ребята столпились на берегу, и у многих на лице была та странная улыбка, с которой дети топят котят.
Карпуха выбросил вперед руку, скользнул, крикнул — и вместе с водой обрушился вниз, в омут…
Его вынесло далеко вперед, к самой отмели. Оглушенный, он лежал на песке, но, услышав, что идут ребята, выбрался на берег и побежал к даче, торопясь обогнать их…
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
1
Утром, когда еще все шкидцы спали, do вторую группу пришел Викниксор. Ребят разбудили, велели одеться и построиться; после этого четверых вызвали из строя, а к остальным заведующий обратился, примерно, с такой речью:
– Выбирайте. Или эта четверка сейчас же, сию же
минуту отправляется в Лавру, или вы принимаетесь за работу.
То же самое повторилось в первой группе: ребят поднимали, строили, вызывали наудачу нескольких человек, заставляя других "выбирать". И когда старшие в восемь часов проснулись, все уже было кончено — младшие пошли работать.
Старших оставили одних, дверь к ним в спальню была закрыта, и ее караулил Палач. Ни умыванья на реке, ни общей переклички в этот день не было. Чай старшие пили после того, как напились и были заперты в спальне младшие. И здесь в первый раз в этот день в третью группу пришел Викниксор.
– Встать!
Встали.
– Сесть!
Сели.
– Ионин!… Встать!…
– За што-с?
– Встать, тебе говорят!
– Ну и встану… Ну и ладно…
Иошка начал подниматься. Должно быть, это показалось медленным Викниксору — он подскочил к Иошке и дернул его за плечи…
– Драться?… — закричал Иошка. — Драться, сволочь!…
Кружка пролетела мимо Викниксорова лица и, дребезжа, выкатилась на веранду, в сад. Ребята повскакали с мест, покачнулась и упала скамейка, рухнул стол; закричали… зашумели…
– Бить?…
– Не имеете права!…
– Жандармы!…
Викниксор вырвался из толпы. Сбитое пенсне упало ему на грудь. От неожиданности и гнева он ничего не видел.
– Бунтовать?… — орал он. — Я вам покажу!… Прекратить чай!… В спальни!… В изолятор Ионина!…
– Не пойду!…
– Пойдешь!…
И, шаря по воздуху руками, Викниксор выбежал в коридор.
2
Он протер пенсне и выглянул через окно во двор. Двор мостили.
– Работают?
– Да, Виктор Николаевич.
– Все?
– Нет-с.
– Это почему?
– Я уже докладывал вам, что восемь человек во главе с Иониным продолжают забастовку.
– Ах, эти… Ну да, я знаю… Пускай, пускай побастуют. Есть захотят — придут… Придут, не беспокойтесь… Больше им идти некуда… Да-с.
Эта восьмерка не была страшна ему… Наоборот, с ними так легко справиться, легко свалить на них всю ответственность и счесть за коноводов. То, что они придут, он знал отлично. То, что придут с повинной, знал еще лучше… Он колебался лишь в выборе: устроить эту повинную публично перед строем или у себя на квартире, перед халдеями. Конечно, первое заманчиво и показательно, но все-таки как-никак их восемь человек, — могут поднять крик, вой и все испортить. Другое дело, если бы был один человек, тогда публичную повинную можно бы осуществить легче и почти наверняка…
– Вам письмо, Виктор Николаевич! — крикнули из-за двери…
– Давай сюда…
Письмо было в большом деловом пакете без марки. Викниксор хотел было узнать, откуда его принесли, но шкидец, передавший письмо, успел уйти, ничего не сказав.
"Виктор Николаевич!
"В последний раз мы взываем к вашему благоразумию. Мы терпели долго, снося ваши притеснения, издевательства, мы видели, как одни за другим изгонялись из школы наши товарищи, видели, как вы коверкали нашу и их жизнь, как вы своими иезуитскими методами, — а иначе их назвать нельзя, — как вы своими методами доводили учеников до самоубийства, до голодания, как вы губили наших товарищей, делая их беспризорными, ворами и т. д., и т. д., и т. д. (вообще здесь не место перечислять все ваши добродетели: они будут перечислены в другом месте и в другое время).
"Сейчас, сойдясь на поляне парка, мы пришли к таким неутешительным выводам. С вами мы сговориться больше не можем. Между нами существует слишком уж большая пропасть. И мы решили бороться и в борьбе с вами применить то единственное средство, которое еще осталось в наших руках,
"Мы объявляем голодовку.
"Что кончится это предприятие недобрым — мы знаем отлично. И все же мы идем на это, ибо у нас нет другого выхода.
"Мы требуем:
"1. Перемены обращения.
"2. Оставления старых сроков работы.
"3. Дать возможность отпускникам провести в человеческих условиях последний месяц.
"4. Не посылать наших товарищей по исправительным заведениям и тюрьмам.
"5. Создать законное самоуправление.
"Последний раз мы просим переговорить с нами — еще не все потеряно. Мы все еще надеемся, что вы не окончательно утратили человеческий образ, обращаемся к вашим педагогическим убеждениям и пытаемся надеяться ни них".
Заявление было подписано Иошкой, Сашкой, Голым Барином, Кубышкой, Адмиралом, Червонцем, Корницким и Федоркой.
3
Ответа ребята не получили, и голодовка началась.
Все знали, что пошли на крайнее средство, но не представляли все-таки всех возможных его последствий. На Иошке первом отразилась голодовка. На второй ее день этот болезненный и истощенный шкидец уже не решался вставать с кровати, лежал странно пожелтевший за одну ночь, с покрасневшим ртом и натянув на голову свое серое одеяло. К двум часам дня лежало еще трое. Остальные тоже чувствовали слабость.
В дело вмешались халдеи. Обычно приструненные, покорно исполнявшие распоряжения своего зава, они начали волноваться. Они фрондировали не из человеколюбия, не из жалости к ребятам-голодовщикам, а просто из боязни уголовщины. Они отправились к Викниксору и потребовали принять меры к прекращению голодовки.
Викниксор посовещался немного с воспитателями и отправил к голодовщикам Палача.
– Виктор Николаевич велел передать, что он согласен обсудить ваши требования…
* * *
Когда голодовщики пообедали (а съели они, как это ни странно, очень немного) и пили чай, к ним опять пришел Палач и передал последнюю Викниксорову волю. Троим из голодовщиков ехать в город для переговоров в Губоно. Заведующий передал туда письмо и умывает руки.
Решено было ехать Иошке, Сашке и Кубышке. Перед отъездом, еще раз собравшись, обсудили требования. Вечером уехали в город. На другой день рано утром уехал Викниксор. Шкида осталась ждать. Ждали весь день — ребята не возвращались, возвратился один Викниксор. Еще за час до его приезда приехавшие из города молочницы передали шкидцам письмо.
4
"Ребята…
"Случилось ужасное, случилось то, чего мы совсем не ожидали, — случилось предательство; нас обманули самым подлыми и отвратительным способом, как только могут обманывать халдеи. Обманули, заранее сговорившись и обставив все дело так, чтобы мы и не подозревали мышеловки.
"В город мы приехали уже вечером, переночевали в Шкиде, — утром подправились, почистились и пошли в Губоно. Нас там ждали. Начать с того, что первый, кто нам попался по дороге, был Викниксор. Он шел от заведующей и улыбался… Увидел нас и пробурчал: "Вас ждут".
"Заведующая…
"Заведующая ждала, посадила нас, взяла в руки ультиматум, что мы послали Викниксору, и долго, и много говорила. Нам запомнились следующие определения: "хулиганство", "распущенность", "безнравственность", "недисциплинированность", "подрыв", "мальчишество". Говорила, повторяя, долго, до тех пор, пока Сашка, не завертевшись на стуле, не заорал: "хватит".
"Ну-с, началось обсуждение… Мы говорили: "жить невозмоишо", она — "недисциплинированность"; говорим: "произвол", она — "распущенность", говорим: тюрьма", она — "мальчишество"; так мило беседуем, вдруг открывается дверь, высовывается Викниксор и пальцем манит заведующую. Вышла. Говорят что-то, долго говорят.
"Кубышка, конечно, стал по кабинету, по столу шманать и нашел бумажку: "Прошу перевести в Лавру Федорова Георгия и Корницкого Владимира. Основание — воровство и хулиганство…" Не успели мы как следует сообразить, возвращается заведующая, говорит: "Дело для меня ясно теперь, так что в общем меры пресечения, предложенные Виктором Николаевичем, я должна утвердить".
"- Что, говорим, за меры?
"Прочитала: Корницкого в лавру, Федорку в лавру. Голого Барина и Адмирала из Шкиды исключить. Меня, Кубышку и Сашку исключить, но, как получивших командировки и направления в фабзавуч и техникум, временно оставить, перевести в пятый разряд, изолировать и разделить: меня и Кубышку поселить в городе, Сашку — на даче.
"Сашка не выдержал. Вскочил. Как крикнет: — "Здорово… Ловко это у вас устроено… Только ничего, мы и на вас управу найдем", и ушел. Ушли и мы. Сашка куда-то исчез, по крайней мере он в Шкиду больше не заходил…
"Вот что произошло здесь, в городе… Подло, отвратительно, гадко поймали нас; отвратительно оттого, что мы поверили в честность разбора и вот убедились.
"Что будет дальше — не знаю. Если что-нибудь случится — напишите…
Иошка".
5
После трехдневного отсутствия Сашка вернулся в Павловск. Еще стоя в тамбуре вагона, он высматривал, нет ли где-нибудь шкидцев. Обычно они часто вертелись здесь, предлагая услуги пассажирам и перенося их багаж, — теперь шкидцев, как на зло, не было. Сашка медленно шел от вокзала и все посматривал по сторонам.
Он миновал уже людные места и свернул на улицу брошенных и развалившихся дач. Он прошел ее почти до самого конца, как вдруг сзади в одном из домов зашумели и оттуда вылезли двое. Первый лез Голый Барин; обычно чистенький и миловидный шкидец весь облохматился и оброс грязью. За ним следом показался Адмирал — в рваном пальто и с мешком в руках… Они завалили выход и, отряхнувшись от приставшего мусора, быстро пошли по улице…
– Эй!… Эй, ребята! — закричал Сашка.
Те рванулись было вперед, бежать, но, разобрав, что кричит свой, остановились.
– Здорово! — запыхавшись, подбежал Сашка. — Что это с вами? Чего вы бежали?…
Голый посмотрел в сторону и грубовато ответил:
– Так… Привычка… Приходится… Ну, а ты что расскажешь?
– Нечего говорить. Вы и без меня все знаете… Помолчали…
– А вас? — опять заговорил Сашка. — Викниксор, что… уже вышиб?
– Факт… Как приехали, первым делом за нас как за голодовщиков…
– И куда же вы сейчас идете!…
– На рынок.
– Покупать — продавать?… Голый засмеялся…
– Покупать — продавать? Нет, Сашенька, продавать нам нечего, а покупать не на что. Ну, мы и устроились без денег, по тихой…
– Дело клевое! — поддержал, встряхивая мешком Адмирал. — Вчера хорошей жратвы насажали. Вот такой круг колбасы краковской тиснули…
– Тиснули?
– Факт, тиснули… А что ж еще делать,- жрать ведь надо. Викниксор, правда, жратвы нам на неделю дал, вроде выходного пособия, так там крупа одна, да и та гнилая… Голубям дать совестно. Да, Сашка, а Викниксор твоего приезда ждет, мне ребята говорили…
– А зачем я ему?
– А затем, зачем и мы… Тоже голодовшик… Голый заторопился и сунул Сашке руку:
– Ну, прощай… Завтра в город уезжаем с Адмиралом — не увидимся больше…
Подойдя к Шкиде, Сашка остановился, подумал и решил пробраться в спальню незаметно.
6
В спальне, в задней комнате, сидело несколько человек. Услышав шорох в окне, они обернулись.
– А, Сашка!…
– Тише вы! — огрызнулся шкидец, спрыгивая с подоконника. — Не орите!
– А что?
– Да так… Вы лучше расскажите, что у вас тут хорошего?
Ребята замолчали. Сашка почувствовал недоброе.
– Ты в пятом разряде, знаешь? — осторожно начал Червонец.
– Знаю, — ответил Сашка. — Наплевать!
– Потом… это самое главное… Видишь, Викниксор хочет отправить в Лавру Федорку, — Корницкий убежал, — а тебя как раз Викниксор хочет…
– Вместо, Корницкого отправить, что ли?
– Нет… Он, видишь ли, хочет, чтобы ты сам отвез в Лавру Федорку. Верно, верно… Он так и сказал про тебя… "Он заварил кашу, пусть ее и расхлебывает. Пусть отвезет своего товарища". Это Федорку…
– Да… Я, значит, должен отвезти Федорку?… Не повезу!…
– Ей-богу, заставит… может, это он нарочно?… Хочет тебя разначить и вышибить?…
– Это уж наверняка, — согласился Сашка. — Только как же я Федорку поведу? Вот сволочь!… Ловко придумал.
– И ждет тебя… Говорил, как только ты приедешь ему сказать.
– Это я знаю… А Федорка где?…
– В Шкиде еще… Двор мостит… Он бы давно убежал, только его стерегут… "А Сашке, — говорит,- скажите: если он меня повезет, не друг мне больше будет…"
– Да я и не повезу! — всполошился Сашка.- Честное слово, не повезу… Пусть что хотят, то и делают…
Химик, до того молчавший и внимательно слушавший Сашку, задумался. Потом ободряюще хлопнул его по плечу и исчез…
Через полчаса в Шкиде стало известно, что Сашка вернулся. Узнали об этом и халдеи, узнал Викниксор. Сам он в спальню не пошел — послал Палача. Сашка уже лежал на кровати, до самого подбородка натянув одеяло.
– Тебе Виктор Николаевич велел собираться, — сказал Палач. — И не охай, не притворяйся… Одевайся скорей…
– Не могу, — замогильным голосом ответил в одеяло Сашка.
– Почему?…
– У меня фурункулы на ноге… Ходить невозможно! — при этом он высунул из-под одеяла забинтованную ногу.
– Не фокусничай! — забеспокоился Палач. — Где у тебя там фурункулы?… Думаешь, навертел бинтов, значит и болен?
– Не верите? Пожалуйста? — Сашка весьма натурально кряхтя, развязал бинт. Вся нога — колено и голень — была дочерна залита иодом. Палач поморщился, отвернулся и, махнув рукой пошел.
– Очень болен! — закричал ему вслед Сашка. — И Викниксору вашему так и скажите…
Химик вылез из шкафа и, хотя на этот раз все прошло удачно, тревожился:
– А как Витя лекпома пошлет? Тогда что?…
– Ничего, — успокоил его Сашка: — лекпом свой парень, не выдаст… А в крайнем случае ножичком коленку подковыряю и сойдет…
Федорку в лавру вести не пришлось — он убежал.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
1
В Шкиде, которая на эти дни превратилась в маленький острог, поспешно восстанавливали "равновесие"
Сашка приехал в четверг, в пятницу убежал Федорка, вышибли на неделю домой Химика; перевели восемь человек в пятый разряд, троих посадили в изолятор, Пятака, Синего и Квадрата отправили в Лавру; в субботу с утра посадили в изолятор еще двоих; днем устроили собрание, первое после забастовки.
Оно происходило на дворе, на свеже вымощенном кирпичиками дворе. Посередине в кресле сидел Викниксор. Шкидцев долго собирали и сгоняли, Викниксор покрикивал, подгонял и наконец заговорил:
– Ребята! Сегодня мы собираемся впервые после всех событий, потрясших организм школы; вы уже не маленькие и сможете, на мой взгляд, трезво оценить их. Конечно, — глядя со стороны на все недавно-происшедшее, можно думать, что у нас бог весть что творится.
– Правильно!
– Тише там!… Что же мы имеем на самом деле, в действительности?… Группа заговорщиков организует бузу, которую называют забастовкой. Бузят несколько дней, вовлекают, в авантюру всю школу, а когда видят, что дело терпит поражение, когда видят, что осознавшие ученики покидают их, они объявляют голодовку, шлют ультиматум, угрожают мне прокуратурой, сознательно провоцируют какое-то вмешательство, идут ва-банк и, конечно, проигрывают. И здесь начинается волна клеветы… Некоторые добровольные ходатаи шляются по учреждениям, клевещут в Губоно на меня, на школу, но их, конечно, не слушают, потому что все, что они говорят, — ложь и выдумка… В чем же смысл самой забастовки? Запомните, что ее организовали старшие, группа отщепенцев, огрызков общества, которым все равно — все равно потому, что они уйдут скоро из школы… Они не хотят работать, хотят, чтобы за них работали другие, хотят чего-нибудь добиться, но только для себя… Это шкурники, умеющие красиво говорить и умно хулиганить… Они скоро уйдут из школы, — скоро мы
распростимся со многими из них… Пускай они не работают, пускай не учатся, пускай не участвуют в кружках, но мы объявим им моральный бойкот, мы выбросим их из своей среды, и никто с ними не будет и не должен знаться… Мы изгоняем вас… Уходите из…
Сашка неожиданно для всех, неожиданно даже для самого себя, не выдержав, поднялся и пошел со двора…
– Куда?… куда?… — закричал прерванный Викниксор: — Ах, да… Огрызки…
Уходили остальные. Андреев даже остановился около Викниксора и проговорил, кланяясь:
– Премного благодарю!
Сашка не видел этого, — он поднимался на лестницу,- но слышал викниксоров голос…
– Комедиант… шут, — кричал Викниксор. — А вы куда?… Иванов, Пешков, вы куда? Вы же не огрызки… Экие тоже. До конца досидеть не могут…
Собрание продолжалось…
2
– Ладно, заседай, сволочь, — бормотал в спальне Сашка: — заседай… Значит, огрызки… Отщепенцы… Ладно… так и запишем… Огрызки!… Я тебе покажу огрызков… Ты меня помянешь, стерьва… Помянешь…
Сашка в спальне не хромал, изображая болезнь, а бегал из одного конца в другой; бегал, злился и вдруг принялся ломать дверь, которая вела на чердак.
– Ты чего? — удивились ребята. — Что ты?… Что с тобой…
– Пошли к чертям… Уйдите…
Дверь была выломана. Сашка скрылся на чердаке, но через несколько минут выглянул обратно.
– Андреев… Поди-ка сюда…
– Чего тебе?
– Надо…
Андреев, вздохнув, поднялся с кровати. Сашка ему что-то сказал, Андреев кивнул довольно головой, вернулся в спальню, взял свою папку с бумагой, краски и прошел за Сашкой на чердак…
И если бы кто-нибудь, заинтересовавшись, поднялся теперь на шкидский чердак, он увидел бы, что Андреев, разостлав на досках чистый лист бумаги и ползая, выводит на нем большими буквами "БУНТАРЬ № 1" и внизу помельче: "орган учащихся школы имени Достоевского", увидел бы, что Сашка, пригнувшись над маленьким ящиком из-под макарон, быстрю что-то строчит па листках, вырванных из блокнота.
Но никто из шкидцев не интересовался чердаком, и подпольная редакция продолжала спокойно работать.
К вечеру шкидцы узнали, что готовится газета, и Сашку засыпали предложениями услуг; это было весьма кстати — он послал одного — Косатку, художника, — в "типографию" помочь Андрееву печатать, а остальных заставил писать заметки.
Узнал о газете и Химик, который, будучи выгнан на неделю из Шкиды, домой не пошел, а скрывался на кирпичиках. "С опасностью для жизни" он пробрался на чердак, чтобы предложить свой материал и проекты…
В это время Сашка чувствовал себя отлично: газета, размером в четыре листа, заполнялась самым свежим и занимательным материалом, а обилие сотрудников давало ему право подписать ее "редакторско-издательский комитет", что сделать было необходимо в виду возможности преследований…
Химик предложил комитету назначать от редакции — в каждый класс специального корреспондента, шкидкора, которому и поручать всю работу по собиранию материала и по разъяснению задач газеты. Этот проект всем понравился, и Химик, чувствуя, что достаточно расположил в свою пользу ребят, равнодушно осведомился у Сашки:
– Ну, а ежели стихи? — спросил он. — Стихи про природу?… Тогда как?…
– Тогда прямо в сортир, — ответил Сашка. — У нас газетка революционная… Тут лирику разводить нечего… Да ты не обижайся… Вот революционные стишки или сатирические куплеты — это другое дело… Это хорошо будет…
Химик сразу завял. Дело в том, что он давно мечтал увидеть в печати свои стихи, которых втайне насочинял целую тетрадь… Но уж такова судьба поэтов — зависеть от прихотей редакторов, а Сашка, как на зло, хотя и сам сочинял стихи, стихов не любил, а тем более лирических…
Через два дня, вечером, газета была готова. Передовица сухо и достаточно выразительно сообщала основную цель газеты: бороться с халдейским засилием и способствовать организации ребят; большая статья была посвящена итогам первой шкидской забастовки. Но особенно хлестким и забавным вышел фельетон "Почему их зовут халдеи".
Газетку решили вывесить с утра, а вечером Сашка получил из города от Иошки письмо, которое тот переслал ему через халдея Костеца.
"Здравствуй, дорогой друг Саша! — писал Иошка.- Твое последнее письмо наделало здесь, в колонии ссыльнопоселенцев, много шума. Кубышка прибежал в музей (мы поселились в музее) и закричал: "Сашка вернулся на дачу! Сашка издает газету!" Я, представь, даже покачнулся… Газету! В такое время!… Изменил, думаю, продался, какие-нибудь "Известия Шкидского совстара" строчит!… Но нет, одно название "Бунтарь" говорит за то, что газета твоя — боевая… Я очень рад за тебя, за твою мысль и твою решительность… Поздравляю и благословляю…
"Ты просишь материала — увы, в данный момент у меня ничего нет, и поэтому пришлю к следующему номеру"…
Сашка, прочитав письмо, выругался, но скорее для порядка, потому что втайне был доволен тем, что газета сделана самостоятельно и дело обошлось без "варягов…".
Утром газету вывесили… Сделали это незаметно, чтобы, только вернувшись с купанья, шкидцы увидели стенновку. И, конечно, едва очутились те на дворе, как сразу же столпились возле ярко разрисованной газеты, висящей на двери спальни старших… Из-за толкотни читать могли только три-четыре человека, которых притиснули к стене и на которых кричали:
– Эй!., вы!., грамотеи!., отходи в сторону!…
– Почитали и будет!…
– Читай вслух!… Эй, первые!…
Вперед протискался Будок, мигом навел порядок, водворил тишину и начал читать вслух… Передовицу прослушали спокойно, но едва принялись за заметки, как Шкида затряслась от хохота. Вдруг толпа вздрогнула, расступилась, и по проходу пробежал Кира.
– Что за скопление? — закричал он. — Разойдись!… Не толпись!…
– Сам разойдись, — заворчали ребята. — Видишь, газету читаем…
– Какую газету? — удивился халдей.- А!… "Бунтарь"… Почему "Бунтарь"?… — Он наклонился к газете, скользнул глазами по заголовкам, и решив, что это крамола, снял стенновку…
– Куда? Куда?… — закричал Будок, хватая его за руку. — Ваша газета?…
– Брось снимать — орали шкидцы. — Брось, говорят…
В воздухе запахло бунтом. Кира, держа в руках газету, успокаивал, как мог:
– Мне ее почитать… Почитать возьму… Вам все равно сейчас будет некогда… А потом я верну… Честное слово.
– Честное слово?…
– Честное слово!…
Это случилось без Сашки. Сашка имел все основания не доверять халдейскому честному слову и поэтому сразу после чая пошел в учительскую выручать газету…
Начал он с Киры. Кира сказал, что газета у Эланлюм. Эланлюм затопала ногами, закричала, что она все знает, что это все ионинская затея, что они никакой газеты не получат, а вечером приедет Виктор Николаевич и им попадет…
– Кому?
– Редактору… Ионину.
– Так ведь он в городе…
– Да, да в городе… А письма?… Письма он вам пишет?
– Пишет!…
– Так чем же в таком случае объяснять; вчера привозят вам письмо — сегодня уже выходит газета? И потом я удивляюсь вам, Константин Александрович! — повернулась немка к Костецу. — Я удивляюсь вам, как вы, беря письма от Ионина, не просмотрели их…
– Ну, знаете!? — развел руками Костец. — Подсматривать чужие письма… это… это я не могу…
– И вовсе не чужие, а письма своих воспитанников… И потом в такое время все допустимо… А ты, что ждешь? — крикнула она на Сашку, стоявшего в дверях. — Я газету отдам Виктору Николаевичу… Можешь идти…
3
Происшедшее вечером было настолько обычно, что не стоило бы и описывать. Тот же строй ребят, тот же Викниксор, помахивающий номером конфискованного "Бунтаря". И только к эпитетам "огрызки" и "отщепенцы" прибавился новый: "щелкоперы", да еще запретили произносить слово "халдей".
Сашка, несмотря на неудачу, начал готовить второй номер "Бунтаря"… На этот раз на него сильно нажимал, редакторско-издательский комитет, в котором заседало полтора десятка новоиспеченных шкидцев-журналистов. Вообще во все дела Сашка привлекал "широкую общественность". Но на этот раз "общественность" оказалась палкой о двух концах: комитет
потребовал, чтобы тон газеты был смягчен. Сашка спорил, убеждая, что приспосабливаться стыдно и нечестно, говорил о целях и задачах, но комитет был непоколебим, и редактору пришлось подчиниться…
Второй номер "Бунтаря" вышел семнадцатого августа. Размер и внешность газеты сохранились, но содержанке было мирно-делового, либерального, так сказать, характера. Комитет просмотром газеты остался доволен, хотя многие все-таки возражали против карикатуры, изображавшей письмо "от Ионина", от которого во все стороны, с криком "бомба", убегали халдеи. Ничего более крамольного в стенновке не было, и поэтому поручили Касатке отнести ее на просмотр Викниксору.
Касатка вернулся быстро, даже очень быстро, и без газеты.
– Порвал! — крикнул он, ворвавшись на чердак. — Даже и читать не стал… "Вон"! говорит… "Мне, говорит, газеты этих огрызков не надо…"
– Ого-го!…
– Так-таки и порвал?
– Так и порвал… А меня выгнал…
– А ты что?…
– Как что?… Удрал скорей!… Сердитый… Комитетчики огорченно вздохнули и разошлись.
На чердаке остались Сашка, Андреев и Химик.
* * *
Через день в школе из рук в руки передавали маленькие листовки, озаглавленные "Бунтарь" № 3. В передовой сообщалось:
"Товарищи читатели…
"Газета "Бунтарь" после неоднократных конфискаций переходит на нелегальное положение. Впредь газета уже не будет стенной, а по отпечатании будет выдаваться на руки корреспондентам групп, от которых желающие могут получить для чтения…
С подлинного.
"… Не давайте газеты воспитателям или, если даете, то только не иначе, как чем-нибудь заручившись (только не их честным словом!…)
"Соблюдайте строжайшую осторожность и следите чтобы газета не была отнята…
"Желающие писать в газету, передавайте материал групповым корреспондентам".
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
1
Иошка с Кубышкой уже две недели жили в городе, в Шкиде. Им не приходилось здесь таскать кирпичи, до упаду работать на дворе, препираться поминутно с халдеями и, может быть, поэтому вначале было как-то скучно. Да и сама Шкида, оставленная на лето, выглядела не очень весело. Ветер безбоязненно входил в открытые окна, шевелил оборвавшимися плакатами и, грустно вздохнув, пропадал. На лестнице, в зале, в классах грудами лежал мусор, который новый дворник Степан, сменивший ушедшего Мевтахудына, имел обыкновение не выметать вон, а распихивать по темным и неприметным углам.
Два раза в неделю отпиралась канцелярия, куда для дежурств приходила Неонила Афиногеновна, делопроизводительница, и два шкидца с нетерпением поджидали эту старушку, которая всегда с увлечением рассказывала смешные истории из институтской жизни.
Потом о пребывании в городе Иошки и Кубышки узнал преподаватель математики, дядя Миша. Узнал он также, что ребята готовятся к экзаменам, приехал к ним, изругал, что ему не сказали об этом раньше, и принялся с ними заниматься, или "натаскивать", по его собственному выражению.
Дядя Миша, кажется, был единственным халдеем, которого любили и уважали все шкидцы…
Он не был, правда, первоклассным ученым, как Викниксор.
Он был просто человеком добрым и отзывчивым, хотя и
не без странностей. Так, он прямо огранически не мог видеть никакой ошибки в вычислениях. Когда ученик путался, дядя Миша хватался за голову, топал ногами, рвал волосы, не раз доходя при этом до серьезного членовредительства.
Так, например, было с Адмиралом. Адмиралу долго объяснялось, что "перед подкоренным количеством, выведенным из-под корня, ставится плюс или минус"; Адмирал слушал, внимательно качал головой, говорил: "понимаю", — и сделал как раз ту ошибку, от которой так настойчиво его предупреждали. Дядя Миша не вынес. Он хлопнул себя по большому лбу и выдрал клок волос. От боли он отрезвел; взглянул на вырванные, зажатые в кулак волосы и торжественно опустил их на адмиральскую парту:
– Чувствуй!…
И Адмирал "чувствовал"; чтобы загладить свою вину, он весь остаток урока считал вырванные волосинки и наконец сказал:
– Пятьдесят четыре!
– Чего пятьдесят четыре? — удивился дядя Миша, уже позабывший про Адмирала.
– Вы вырвали у себя пятьдесят четыре волоса, — бодро отрапортовал Адмирал.
Класс злорадно захихикал, расхохотался и дядя Миша:
– Считать ты умеешь, я за это тебе в субботу плюс прибавлю!…
Таков был дядя Миша…
В этот день было очень жарко и душно с самого утра. Кубышка стоял у доски и, обливаясь потом, царапал по ней какую-то буквенную околесицу, а дядя Миша петухом прыгал возле него, брызгал слюной и тряс кулаками:
– Ну… ну… дальше что?… Что дальше?… что-то?… Что такое?… Это зачем?… Зач-чем это, я спрашиваю?… И Кубышка, как и все шкидцы, давно привыкший к африканскому темпераменту своего учителя, не обращал на него внимания и, продолжая писать, стер
неудавшееся выражение. Дядя Миша вскипел окончательно: борода и волосы его взлохматились, и в изъеденной туберкулезом груди заклокотало.
– Посставь!… Посставь ее на место!… О-о-о!… Что он делает, что он делает?… Чь-то? — взвизгнул он. — Оп-пять?… Оп-пять!… Зарезал!… Без ножа зарезал!… Что, что, что? С-садись, с-садись на место!… Кол!… Кол с минусом!… Нуль!… Нуль в степени плюс-минус бесконечность!… Ионин… Иди, покажи, ему, как надо решать…
Кубышка сконфуженно смотрел на доску и пожимал плечами, Иошка бодро пошел посрамлять товарища.
К счастью, в дверях звякнул звонок, и ребята помчались открывать. Пошел и дядя Миша…
На площадке стоял Сашка, наблюдая удивленное иошкино лицо. Рядом лежал огромный, завязанный в одеяло узел и связка книг.
– Здравствуйте, — сказал Сашка. — Не узнали?… Принимайте на поселение…
– На поселение? — крикнул Иошка. — Что ты говоришь?…
– К вам, к вам на поселение, — говорил Сашка.- С дачи меня вышибли. Форменно… Сюда послали жить…
– Ну-у?… Это, я тебе скажу, расчудесно!… Это хорошо, честное слово, хорошо!… Иошка втащил в двери узел. — Значит, выгнали?… Хорошо! А за что?…
– Шут их знает… Дядя Миша! Здравствуйте!…
– Здравствуй!, здравствуй… Поправился ты, поздоровел… Как поживаешь?…
– Плохо, дядя Миша…
– Подожди, — вмешался Иошка. — Ты расскажи, за что тебя вышибли?
– Засыпался с "Бунтарем"… Приходим мы с купанья, а мне Павлуха, кухонный дежурный, и говорит, что Викниксор шманал у старших по кроватям, под матрацами чего-то искал… Прибегаю в спальню…
Под матрац — все переворочено: видно смотрели "Бунтарь" и читали… Днем зовут к Викниксору… Думаю, гибель… Нет… Очень вежливо говорит: "Тебе, мол, надо готовиться, — поезжай в город, в Шкиду, и живи там"… Продуктов дал, денег на билет… Все очень хорошо, добренький такой… "Тебе, говорит, там лучше будет…"
– Ну, а ты?…
– Что ж я? — поблагодарил, поклонился и уехал. Еду, понимаете, и чуть не крещусь? Мать моя родная, думаю, неужели ушел, неужели не снится мне?… Дамочка напротив сидела, фартовая такая, с чемоданчиком,- хотел ее просить ущипнуть за ухо… Ей-богу…
– А на даче как?…
– Каторга… И шкидцев не узнать… Картошка поспела — так они все огороды громят… Или вот случай… Пишем мы "Бунтарь", пишем, скажем, боевые статьи против воровства… Пишет паренек один, — Касатка, ты его не знаешь… Писал, а потом говорит: "Пойду". — "Куда?" — "На огород, за картошкой… А то поздно будет"… Факт, честное слово,… Что до халдеев — так они на ребят рукой махнули… Ни черта, никакого внимания; только по лаврам да по реформаториям рассылают да двор заставляют мостить.
– А мостят?
– Еще как… Я слышал, что Викниксор хочет потом за улицу приниматься.
– Ну да? — удивился дядя Миша.
– Ей-богу!… А что ему? Не самому ведь камни ворочать. Взял и заставил ребят… А не хочешь — огребаешь пятый разряд или еще чего-нибудь такого… Факт. Идут ребятишки и работают… Конечно, стараются, чтоб на огород успеть попасть…
– А ведь год назад; — задумчиво прервал его Иошка, — мы в это время создавали Юнком, боролись против воровства, занимались школьным строительством.
Сашка махнул рукой…
– Не стоит и вспоминать… Покажи-ка мне лучше, где вы расположились, вещи стащить надо…
2
Неделя изгнания из Шкиды и житья на "кирпичиках" сделала Химика еще более предприимчивым. Вначале он, правда, ограничивался лишь охотой на кур и прочую дичь да набегами на огороды, но потом решил заняться другой, менее полезной, но зато прибыльной деятельностью.
В то время в Павловске пустующие дачи стояли кварталами. Иные совсем развалились, иные сохраняли кой-какие остатки арматуры, замков, вьюшек и прочего. Вот эти-то остаточки Химик и пустил в оборот. Вокруг своего дела он организовал солидное товарищество на паях в составе его самого, Лепешина и Мышки. Труд между собой они поделили так: Лепешин и Мышка делают "дело", Химик ездит и загоняет товар маклакам.
Компания работала тихо, незаметно, без рекламы и объявлений, но скрыть своих следов им не удалось, и о предприятии узнала вся. Шкида.
Начался промышленный расцвет. Началась золотая лихорадка.
В шкидской даче воцарились мир и тишина. Не слышалось крамольных речей, бунтари сделались послушными и тихими. Жалобы и угрозы окрестных огородников прекратились. Двор замащивался и перемащивался с быстротой прямо умилительной. Летопись покрывалась пылью. Изолятор пустовал.
– Школа поправляется! — довольно потирая руки, говорил Викниксор халдеям. — Школа становится на верный путь…
Когда же производительность шкидцев повысилась и в город стали отправлять награбленный на дачах товар чуть не грузовиками, тишина и мир в Шкиде сделались прямо, благоговейными…
"Выправились! — решил Викниксор. — Устрою учет…"
Учеты бывали в Шкиде раньше, в доисторические времена идеализма, и новые шкидцы, составлявшие три четверти всех воспитанников, никакою понятия об этом, обычае не имели. Но не желая портить так нужных в их "предприятии" хороших с халдеями отношений, не возражая начали выволакивать в сад и раставлять перед верандой скамейки.
В качестве гостей пригласили красноармейцев соседней части и посадили их в первые ряды. Викниксор с веранды, заменявшей и трибуну и сцену, открыл учет коротенькой, но сильной и прочувствованной речью…
– Школа погибала, — говорил он. — Школа разваливалась и превращалась в притон. Да, в притон хулиганов, бузовиков и воришек. Школа, умирала и падала все ниже и ниже… Но теперь, благодаря правильным и своевременно принятым мерам, благодаря удалению верхушки старших воспитанников, группы коноводов, атаманов, отщепенцев и огрызков, теперь — тут голос его прервался вроде как бы рыданиями — школа начала оздоровляться, пошла вперед… Пошла дальше по пути, пошла кверху.
Будем же надеяться, — закончил Викниксор: — что школа будет расти, беспощадно отметая мусор, мешающий ее развитию…
Раздались аплодисменты. Шкидцы всхлипнули.
Викниксора сменил любивший славу Волынянин — Василька, который вышел и начал читать:
Хороший Сагиб у Сами и умный,
Только больно дерется стеком.
Хороший Сагиб у Сами и умный,
Только Сами не считает человеком…
Читал долго, с чувством — завывал, махал руками и хватался за грудь. После Васильки на сцену поставили червеобразного, упирающегося Червонца, основного докладчика по достижениям.
Червонец тоже говорил долго, но когда описывал мощение двора, маленький, сидевший на последней перед шкидцами скамейке красноармеец вдруг завертелся, побледнел и завопил:
– Ча-часы сперли!…
Началось замешательство и суматоха. Червонец, которого перестали замечать, соскочил с веранды и перемахнул через забор.
Костец, налезая на шкидцев животом, тихо, чтобы не услышали гости, усовещевал:
– Отдайте часы, сукины дети, по-хорошему…
– У нас их нет… Что вы, дядя Костя, станем мы таким барахлом мараться?…
– Знаю, что не станете, а все-таки кто-то спер!…
Заволновались и шкидцы. Часы были мусором, и подымать из-за них шухер казалось невыгодным. Спереть мог только кто-нибудь из новичков, не узнавших еще хозяйственной политики ребят, за них шкидцы и взялись.
– Дядя Костя! — сказал наконец Химик: — часиков у нас нет… Они у вас… в толстовке…
И Костец, действительно, нащупал в кармане положенные туда часики. Он вынул их, осмотрел и спросил:
– А цепочка?…
– На ремешке были. Ремешок они бросили… Куда его?
Костец оглядел еще раз ребят и подошел к солдатику.
– Вот они, ваши часики. Под скамейкой лежали. Неловкое молчание прервал Викниксор. Он поправил пенсне и захлопал в ладоши:
– Учет закончился, — судорожно проговорил он. — Не желает ли кто-нибудь из товарищей красноармейцев что-нибудь сказать?
Товарищи красноармейцы замялись, потом выпихнули одного, коротенького, в широченных, обшитых кожей галифе. Красноармеец поблагодарил за приглашение на учет и за доставленное удовольствие,
отметил, что по всем признакам школа растет и развивается, и пожелал ей дальнейшего роста.
Уходили красноармейцы торопливо и даже завязли в калитке: впереди всех протискивался маленький, с испуганным лицом и с часиками в ладошке.
3
Экзамены в педагогический техникум, куда поступали Иошка и Сашка, кончились. Они продолжались ровно четыре дня — четыре нервных, возбужденных дня, полных страхов, суеты, неожиданностей, бега. Сашка выдержал, Иошка провалился, но не унывал: у него была командировка, — а она много значила при приеме, — и потому шкидец уверенно говорил: "Примут, наплевать, что провалился". У Сашки командировки не было, и поэтому, несмотря на свои успехи, он так уверенно не рассуждал. Последним по счету экзаменом шло обществоведение; оба шкидца выдержали его на "очень хорошо" и поэтому, обрадованные, уже не пешком, а в трамвае поехали в Шкиду.
У ворот на лавочке сидел дворник Степан и, подняв к небу свои фельдфебельские усы, серьезно дремал.
– Степан! — крикнул Иошка. — Поздравь нас — экзамены кончились… сдали…
Степан открыл глаза, пошевелил усами и ответил:
– Виктор Николаевич приехали.
– Ну?… Зачем?…
– Не знаю… Сидит в канцелярии… Скучный… Бумажки глядит.
В другое время ребятам, может быть, посещение заведующего было бы неприятно, — каждый из них помнил еще славные дачные дни, но теперь обрадовались приезду Викниксора. Впрочем, наружно, чтобы, не показать этого, они нахмурились, покачали головами, а Сашка даже пробормотал:
– Не было печали — черти накачали…
Викниксор сидел в учительской у стола, где хранились характеристики учеников, — сидел не раздеваясь, в пальто, не опустив даже поднятого воротника.
Он перебирал старые характеристики, просматривал их и клал обратно. И шкидцы как-то удивились, словно в первый раз как следует разглядели его. Их поразила усталая желтизна на щеках и висках, тронутые сединами волосы. Морщины, которых не замечали раньше, виднелись рассеянные по всему лицу: на лбу, щеках, возле глаз, у опустившихся углов рта. И даже пальто как-то обвисло вперед, выдавая сгорбившуюся, сутулую спину и морщинистый затылок.
Ребята, с внезапно вспыхнувшей жалостью, жалостью, их самих удивившей, посмотрели на Викниксора.
– Здравствуйте, Виктор Николаевич. — Мы экзамены сдали.
– Поздравляю… — просто ответил Викниксор и встал. — Я очень рад за вас… Очень рад… Хотя, думаю, вам трудно пришлось, а?
– Ну, чего там… Пустяки! — небрежно махнул рукой Иошка, чувствуя, что от этих "пустяков" у него дрожат ноги и плавает в глазах разноцветный туман.
– Так… так… Сдали, значит? Ну, а когда окончательно будет известно о приеме?
– Не знаем… Скоро наверное.
– Да уж не на будущий год, полагаю…
Ребята засмеялись. И Викниксор почувствовал как то тяжелое, нехорошее, спасаясь от чего он уехал из Павловска с дачи, все это вдруг рассеялось вместе со смехом. И сам он словно впервой увидел своих воспитанников, которых даже не представлял людьми, а так — существами, против кого применялась вся сложная система дефектологии: все те приемы, которые измышляются сотнями авторов, публикуются, возводятся в теорию, в принцип, в идею и… забываются, чтобы через день дать место новой куче подобных сочинений.
Теперь он забыл об этом и дружески, по-товарищески, заговорил со своими воспитанниками. И беседа, тон ее, ощущение искренности, — все это больше
привлекло к нему ребят, чем годы долгих научных наблюдений…
– Итак, вы сдали экзамены, — возвратился он к прежней теме: — я могу поздравить вас как первый выпуск… Вы ведь первые, которые самостоятельно уходят из школы… вы держали на третий курс?
– Да.
– Значит, через два года учительствовать будете. Нам, старикам, смена! — И Викниксор невесело улыбнулся, но через секунду встряхнулся, распрямил плечи и расстегнул пальто. Ему захотелось сделать что-нибудь полезное для ребят, чем-нибудь помочь им, он даже чувствовал себя как-то обязанным сделать это. Он соображал, что можно было бы съездить в педтехникум, похлопотать за ребят, поговорить, чтобы облегчить им вступление.
– Я так и сделаю! — пробормотал он, беря шляпу.- Я поеду в педтехникум… Кто там заведующий?
– Ходовецкий.
– Ходовецкий? — вздрогнул Викниксор, — Константин Сигизмундович?
– Да… Константин Сигизмундович.
Викниксор криво улыбнулся и положил шляпу обратно на стол.
– Ну вот, теперь не поеду, — проговорил он.- Вы только не удивляйтесь, ребята… Есть люди, с которыми не хочешь встречаться.
Ребята деликатно промолчали.
– Было это давно, ребята, когда я еще помоложе был. Время было славное — семнадцатый год… И люди тогда другие были… Огнем горели… Энтузиасты… На митингах встречался я с этим самым Ходовецким… Ну, и ругались мы с ним здорово… Друг друга ненавидели… время такое было. Горячее время… Потом, уже последний раз встретились мы в восемнадцатом… Разоружали нас. Встретились… и больше не сходились… И сойтись теперь трудно…
Викниксор сел, запахнул пальто и поднял воротник.
Так он был похож на странную, нахохлившуюся птицу… Шкидцы потоптались около него и тихонько вышли.
4
После обеда ребят неожиданно потянуло спать. Они боролись с дремотой, ковыряли в зубах, соображали, что делать, но все-таки уснули.
Проснулись вечером. Уже стемнело. Слышно было, как под окнами проходят люди, стучат ногами, громко разговаривают, смеются… Где-то наигрывает гармоника, позванивает гитара, поют.
Ты, кукушка, не кукуй.
Чум-ча-ра,
Чу-ра-ра!
Кого хочешь поцелуй.
Ку-ку,
Ха-ха…
Будит ребят звонок… Кто-то изо всей силы дергает за него у двери, и звонок без памяти колотится и звенит… Кубышка лениво встает и, щелкая ревматическими коленными чашками, идет открывать. Через минуту раздается грохот, Кубышка влетает в музей — волосы его стоят дыбом, коленные чашечки гремят как кастаньеты.
– Спасайся! — кричит он: — там… с ножом… люди…
В столовой уже слышались шаги, кто-то шел, спотыкаясь и поминая черта…
– Куда вы тут забрались, дьяволы?…
– Ф-фу, чорт! — обрадовался Иошка и вскочил с кровати. — Здорово!… Как тебя принесло?…
Это был Фока. Веселый, в сером летнем костюме, в серых перчатках, с папироской в зубах, со шляпой на затылке и с тросточкой.
– Я к вам еще днем приходил, — объяснял он здороваясь: — и Степан сказал, что вы экзамены выдержали. Но с Викниксором мне встречаться не хотелось. Решил вечерком зайти. Зашел, показал
для шутки Кубышке финку, а он, дурак, и ключ бросил и побежал…
– Сам дурак!-огрызнулся сконфуженный Кубышка.- От тебя побежишь… Финку показал! Ты бы еще с пушкой пришел!
Кубышка сердился не на шутку. Лицо его со вздернутым носиком покраснело, а усики, тоненькие, похожие на крысиные хвосты, тщательно хранимые и холимые, усики, растущие так многозначительно, что даже Костец, не выдержав, как-то заметил: "И что это у тебя на губе за похабщина растет" — усики розно поднялись и топорщились…
– Не сердись, Кубышка, — миролюбиво ответил Фока: плюнь, лучше выпьем… "Выпьем мы за Сашу!… Сашу дорогого!" — вдруг запел он и закружил по музею Сашку.
– Да ты пьян, Фока! — весело закричал Сашка: — Ей богу, пьян!… Эва, разит, как из паровоза!…
– Ну и что из того, что пьян?… Подумаешь! Вот пойдем выпьем — никому обидно не будет. Как, по-твоему, Иошка?…
– Пойдем, — согласился Иошка. — Если угощаешь, я не прочь.
– Факт, угощаю… А ты Сашка, идешь?
– Нет, я не иду…
– Нет, пойдешь.
– Нет, не пойду…
– А я говорю — пойдешь, — крикнул Фока и, бросив Сашку на кровать, принялся загибать ему салазки.
– Нет… Ой-ой-ой!…
– Пойдешь?…
– Пусти…
– Спрашиваю — пойдешь?…
– О-ой-ой!
– Пойдешь?…
– Пойду!…
Фока освободил Сашку и самодовольно надел свою шляпу:
– Я говорил, что ты пойдешь… И незачем было спорить… Никогда со мной не спорь… Не докажешь…
* * *
Ночью дворник был разбужен шумом под воротами. На тумбе сидел Сашка и плакал горькими слезами, утираясь своей кепкой. Рядом на коленях стоял Иошка, крестился и, кланяясь во все стороны, кричал: "Вяжите меня, православные, — я человека убил". И ругал матерно Достоевского. А Кубышка, раскачиваясь, дергал за оборвавшийся кусок проводки, думая, что звонит в дворницкую.
5
На дачу, повидать Лепешина, приехала его мать, сгорбленная годами и жизнью женщина. Лепешин обрадовался, оставил свой велосипед и целый день водил ее по Павловску, по парку, а вечером, отпросившись у халдеев, пошел проводить ее на поезд.
И здесь, на вокзале, случилось то, что потом перевернуло, исковеркало и сломало судьбу шкидца. Шкидец плюнул…
К нему подошел скучавший на платформе агент и скучным голосом потребовал трехрублевый штраф. В другое время Лепешин обложил бы требовавшего целковых на тридцать матом, швырнул бы кирпичом или булыжником и потом удрал, но рядом стояла мать, — ругательства застряли у него в горле. Он стал извиняться, потому что ни у него, ни у матери денег не было… Но агент, полный служебного рвения, требовал и уже порывался взять шкидца за шиворот, чтобы тащить в дежурку. К несчастью, в это время подошел ленинградский поезд, и Лепешин, увидев Викниксора, бросился к нему за помощью. Викниксор был задумчив и грустен, отдавая трехрублевку агенту, но по дороге в Шкиду мечтательность исчезла, сменилась холодным педагогическим расчетом, и он объявил Лепешину, что возьмет у него в залог велосипед…
Если бы Викниксор предоставил Лепешину выбор: подвергнуться самой тонкой и мучительной пытке или отдать велосипед, — Лепешин, без сомнения, выбрал бы первое.
Весь вечер Лепешин ходил расстроенный и хмурый, ночью его мучила бессонница, в голову лезла всякая чертовщина, он думал, как выручить ему свою машину, думал долго и наконец нашел выход. Что днем показалось бы диким и нелепым, ночью представлялось простым и обычным.
Лепешин тихонько оделся и пошел выручать — пошел к викниксоровской квартире. Первую дверь он выломал легко и спокойно, но в сенях, в темноте, зацепил ногой какую-то кадушку, с кадушки посыпались тарелки, черепки, и Лепешина схватили. Вина — взломанная дверь — была налицо.
Со свечой в руке, в нижнем белье и в халате, свершил Викниксор короткий суд, который и решил участь шкидца: завтра его отправят в лавру.
Но отправлять Лепешина в лавру не пришлось. Ночью он решился, сломал дверь в изоляторе, ограбил кладовку и исчез.
Утром в Шкиде царило возмущение. И возмущались, конечно, ребята не взломом своего продуктового магазина, который обычно грабили все и главным образом убегающие, возмущались запиской, оставленной грабителем: "Здесь был я, знаменитый бандит Дубровский-Лепешин".
– Вот Бобер! — удивлялись и возмущались шкидцы. — Прямо лох какой-то… Себя закапывает.
И только один Химик знал истинную историю этой записки. Он вспомнил, что рассказывал ему Лепешин, когда они жарили в лесу курятину.
Утром Лепешин разбудил Химика комками земли, которые швырял через окно тому на кровать.
– Выходи! — сказал он: — мне с тобой поговорить надо… Одевайся и хряй на кирпичики!…
Химик схватился за одежду. Он думал, что Лепешин расскажет ему что-нибудь очень важное
и поэтому, когда шел к кирпичной ломке, волновался…
– Ну что? — спросил он, едва завидев голову Лепешина: — Зачем ты меня позвал?
– Да так, — ответил тот: — шамовка у меня фартовая… Садись, шамай…
Тут же на камне расположилась буханка ситного, колбаса, масло, две банки консервов, шоколад и коньяк… Сам Лепешин был в новеньком синем костюме и, подостлав английское пальто, курил сигару…
Изголодавшийся шкидец упрашивать себя не заставил и принялся за шамовку. Компании по ней с ним Лепешин не разделил, — разделил по коньяку… Когда бутылка опустела, он многозначительно потрогал висящий под пиджаком финский нож и сказал:
– Пойдем…
Пошли. Перед глазами у Химика плавала дорога. Он блаженно улыбался, щурился и натыкался на встречные деревья… Спустились с горки, и Лепешин, как бы в раздумьи, остановился около большого дома.
– Погоди здесь! — сказал он наконец и забрался по столбам вверх, к открытым окнам. Химик стоял внизу, качался, рычал, пробовал лезть за Лепешиным, но оборвался, съехал обратно, так и оставшись сидеть с растопыренными ногами, с блаженной улыбкой. Под руки ему попалась игрушечная оловянная посуда, забытая игравшими здесь днем детьми, и он запихал ее в карманы. Потом методически начал выбрасывать посуду обратно.
Наверху завизжали. На землю в ту же минуту упали два шерстяных одеяла и Лепешин.
– Хряем! — крикнул он, вскакивая и подхватывая одеяла.
Приятели помчались… Сзади бежали, кричали, топали — Химику было очень весело, но оборачиваться и наблюдать времени не хватало. Так мчались до самой крепости. На валу за низенькой, смешной пушкой Химик свалился. Небо делалось оранжевым.
Деревья и дома плясали что-то очень веселое и потешное. Лепешин махал одеялами как флагами.
– Умора! — кричал он. — Там, оказывается, девчонки спали… Сначала испугался, но вижу, одеялы фартовые — два схватил… Визг, конечно, шухер, я зафитилил.
– А как же записка? — говорит Химик.
– Я им велел устно передать, — отвечает Лепешин.
Химик закрывает и приоткрывает глаза, рассматривает крепость. Она ему знакома, здесь часто лежал он и тогда приходили к нему в голову шальные мысли: продать побольше арматуры, купить пороху, придти ночью, набить пушку, завалить дуло кирпичами и грохнуть.
Лепешин глядит вперед на горбатый, перекинутый через ров мост, на амбразуры, бойницы, стены. Увидев на стене что-то блестящее и длинное, Лепешин встает и идет, идет по мосту к замку.
Блестит огромный, похожий на лопату градусник.
Лепешин аккуратно, чтобы не раздавить, отламывает его от стены, потом, помахивая им, как тросточкой, входит в низкие и мрачные замковые ворота. Тяжелые плитняковые — столбы, широкие каменные ступени обступают со всех сторон. Длинные протянутые цепи спускаются над головой и виснут как крыша. Пушки придвинуты к бойницам, и на лафетах черными грудами лежат ядра… Двор замка зарос травой… Посреди двора весело попыхивает дымком самовар, рядом лежит старое солдатское голенище.
Химик видит, как на замковом мосту показывается с самоваром в руках Лепешин. Самовар вдруг начинает кипеть, бьет в лицо паром, шкидец отворачивается, но в это время с поленом в руке вылетает из ворот визжащая старуха… На мосту закипает бой… Самовар летит в ров, старуха замахивается поленом, Лепешин градусником… Треск… Из замка выскакивает подкрепление — древний инвалид с пищалью.
Лепешин бежит. Химик, подхватив одеяла, устремляется за ним следом. Сзади стреляет пищаль.
* * *
Выспавшись в парке, ребята выкупались, спрятали одеяла и пошли на вокзал… По дороге Лепешину понравилась одна дача, в которой как будто бы никого не было, — он велел приятелю подождать, — отставил с окна гераньки и юркнул внутрь.
Оставшись один, Химик услышал голоса, оглянулся и побледнел. По улице шла орава ребят из вражеского, нормального детдома.
Вражда нормальных с дефективными извечная, а эти нормальные помнили, что в начале лета четвертый дефективный дом просил у Шкиды против них помощи: Шкида выступила, — нормальные боя не приняли, но злобу на шкидцев затаили.
Химик хотел уже бежать, но его заметили, орава ринулась вперед, и шкидец, торкнувшись от оплеух, полетел на землю, вскочил, завыл и кинулся к Шкиде, получив вдогонку еще несколько увесистых ударов.
На повороте из смежной улицы выскочил с разбитым носом Удалов, Кузя и Рыжик, избитые еще раньше Химика. Они обогнали Химика и с криком "наших бьют" — ворвались на дачу.
6
Фока, поссорившись из-за чего-то с отцом, окончательно перебрался в Шкиду. Но деньги у него кончились скоро. Кончились они и у ребят. Последний раз опохмелялись днем, когда загнали маклакам все свои учебники и книги. Пить было больше не на что. Лука мрачно ходил по музею и плевался. Иошка с Сашкой играли в шахматы; в головах у них крутило, и они поминутно зевали фигуру за фигурой…
– Паскудство! — бормотал Фока. — И это называется жизнь… Не на что даже выпить приличному человеку…
– Куда ты свою королеву под копя суешь? — крикнул на Иошку Сашка.
Иошка отдернул руку и свалил туру — нагнулся
за турой, толкнул нечаянно доску, и на голову ему полетели остальные фигуры…
– Сядь! — разозлился Сашка. — Сядь, пьяница несчастный… Сиди… я расставлю сам.
Сашка начал осторожно расставлять фигуры, припоминая их недавнее расположение…
– Плюнь! — мрачно приказал Фока и опрокинул доску: — Плюнь на эту ерунду…
Он подсел к столику, наклонился к самым лицам ребят и для чего-то зашептал, хотя во всем здании никого, кроме дворника, не было:
– Я тут думал,.откуда денег достать… И вот соображаю, что можно из физики чего-нибудь загнать. Мотор, динамо, градусники… На рынок, если поторопимся, еще успеть можно…
– Что ты, — всполошился Сашка и даже замахал руками. — Что ты? С ума сошел?… Воровать?…
Фока поднял голову — глаза его сузились и нехорошо заблестели…
– Засохни! — треснул он по столу кулаком. — Мотор загнать можно, динамо загнать можно, градусники загнать можно. Факт; в две минуты… И выпьем…
– Ну и что же тут особенного? — заплетаясь языком и покачивая головой, обратился к Сашке Иошка.
– Что ж тут особенного? Подумаешь… Продадим и выпьем… Верно я говорю, Кубышка?…
Кубышка удовлетворенно кивнул и облизнулся…
– А не хочешь, не надо! — добавил Фока, глядя на Сашку. — И без тебя обойдемся… Отшивайся…
У Сашки тоскливо засосало под ложечкой, — захотелось вдруг выпить, и кутнуть, но упрямство взяло верх…
– Не пойду, -твердо сказал он: — и вам не советую…
– И катись к чертовой матери! — крикнул Фока. — Пойдем, ребята.
Сашка остался один. Наверху хлопнула дверь. Все в Шкиде стихло… "Работают" — подумал Сашка и лег на кровать.
Хотел заснуть, спать не хотелось. Сел. По лестнице проволокли что-то тяжелое. Тихо, без разговоров вбежал в музей Кубышка, схватил кепку и опять убежал. Хлопнула входная дверь.
Сашка подошел к окну. По двору с мешком за плечами шел Фока, Иошка с Кубышкой что-то несли за ним в корзинке… У Сашки опять засосало под ложечкой, еще больше захотелось выпить, захотелось быть вместе с ребятами…
"Дураки, — злобно подумал он: — засыплются с вещами… Волокут, а не сообразили, что дворник может подглядеть.
На рынке, по случаю позднего времени и нетрезвого состояния, ребятам за вещи отсыпали не много, — семь рублей. В Шкиду они вернулись веселые, Иошка пел и притоптывал, Кубышка икал.
Сашка лежал на кровати и остервенело читал "Собор парижской богоматери".
Фока опять шагал по музею, бормотал и вертел у носа пальцами, словно что-тo доказывая… Вдруг он остановился. Остановился у двери, ведущей в библиотеку.
– Что это?
– Это! — удивился Иошка и икнул. — Это, видишь ли библиотека…
– Знаю, что библиотека, но ведь там книги…
– Да уж раз библиотека, значит и книги…
– Ну, а книги эти можно загнать! — заключил Фока и потрогал дверь… Иошка открыл рот, подумал и, не найдя остроумного ответа, визгливо захохотал…
– Тонко… Тонко, черт тебя подери, придумал!
Фока перешел к делу и своей финкой принялся вскрывать замки…
Дверь была тяжелая, толстая, окованная по краям железом, с широкими лапчатыми петлями и двумя замками — внутренним и наружным. Наружный Фока сковырнул быстро, — внутренний не поддавался. Не поддался он усилиям и Кубышки и Иошки. Ребята
сопели, ругались, ковыряли в замочные, пока не сломали финки…
– А, ч-черт! — выругался Фока, отступив. — Навертели здесь замков… Делать им, дуракам, было нечего…
– Для дураков и замки! — крикнул вдруг Сашка и, вскочив с кровати, подбежал к двери. — Кто же в замках ножиком колупает? Ты у себя в носу поколупай! Тоже, механик! Смотри!
Сашка всунул в замочину гвоздь и отжал его в сторону. Сразу же внутри замка щелкнула пружина, и дверь отворилась.
– Пожалуйста!…
– Здорово! — только и мог сказать Фока. — Вот это я понимаю. Раз гвоздем — и замка недочет. Это уметь надо.
Кубышка притащил мешки и принялся накладывать в них книги, которые ему подавали остальные ребята.
– Энциклопедии ищите, — распоряжался Фока,- словари… Нашел? Давай сюда… Нынче словари в цене… Пушкина не надо… Барахло… Физику — даешь…
С шелестом и треском раскрывали ребята книжные шкафы, открывали ловко, сметая предварительно пыль, чтобы не оставить следов. На место вынутых книг ставили другие, "малоценные".
– Больше книжки в угол клади, мы их после возьмем, на бумагу продадим. Химия?… Химию бери, алгебру бери? На, Кубышка, укладывай. Да бери, говорят… Что ты, оглох? Кубышка!…
Кубышка не отвечал. Он смотрел на дверь и только шевелил усиками.
На пороге, съежившись, стоял дворник. В руках он держал ключи, которые судорожно подпрыгивали и звенели в темноте.
– Тэк-с… тэк-с! — шептал дворник. — Тэк-с…
– Степан! — испуганно крикнул Фока. — Ты в самом деле чего-нибудь не подумай…
Вместо ответа, дворник поспешно повернулся и заторопился к лестнице.
– Степан! — крикнул Фока: — Степан, постой!… Постой, тебе говорят!… — Он выбежал из музея, выскочили и остальные, но дворник уже гремел сапогами вниз, по лестнице, к себе в дворницкую…
– Степан, — застучал к нему Фока: — открой, Степан, дай сказать!
– Уйди, каторжник, — захрипел из-за двери дворник: — уйди, говорю… Знаю вас, убивцев… Уйди, а то кричать стану…
– Да ты послушай…
– И слушать не стану… Вот приедут все завтра с дачи — все скажу Виктор Николаевичу… Уйди!… Уйди, говорю!… He стучи… Кар-р-р-раул!
7
Когда Химик прибежал на дачу, Шкида уже кипела. Мелькали в воздухе дубинки, железные палки, привязывались к веревкам чугунные гири, рвались на куски провода и скручивались на манер арапников. Рябинин, глядя на избитых ребят, выламывал из мостовой кирпичи и даже подвывал от злости, словно это ему, а не Удалову, расквасили нос. Рыжик, пылая мщеньем, обвешивался вместо гранат бутылками, Кузя крутил мокрым канатом, Мамоня собирал камни, Мышка булыжники. Защелкали заряжаемые самоделки.
– Ребята, — закричал Мамонтов: — ребята, самоделок не брать… Не мокрое… А первому кто побежит — набить потом морду!
Шкида ответила ревом. Ворота распахнулись, и армия дефективных понеслась бить нормальных. Сзади грохотала тяжелая артиллерия — тачки, полные кирпичами, и бежал, гремя бутылками, Рыжик.
"Нормальные" стояли строем перед своей дачей. Всех их было раза в три больше, чем шкидцев. Впереди находились самые высокие, самые длинные, в зимних
шапках. Они стояли закутанные, как в броню, в пальто и ватные одеяла…
Увидев приближение врага, нормальные тронулись с места и, подбадривая себя криками, понеслись вперед. Впереди мчались ватные рыцари, орали, размахивали над головой дубинами, и, казалось, ничто не сможет остановить их бега.
– Ну ребята — крикнул Калина! — Помни уговор.
В воздухе свистнули кирпичи, камни. Пара рыцарей повалились, замелькали в воздухе палки, гири, дубины, ребята сошлись стена к стене — и шкидцев начали теснить.
Вдруг раздался крик. С горы, работая изо всех сил педалями, размахивая наганом, на только что украденном дамском велосипеде мчался Лепешин.
– Держись! — кричал он.
Но "держаться" уже было не надо. Знаменитый однофамилец генерала Мамонтова "с горстью храбрецов", обойдя поле битвы (а дралось с двух сторон человек полтораста), ударил на противника с тылу. Тыл составляли мальши — малыши побежали, началась всеобщая паника и бегство…
Шкидцы продвинулись до самой вражеской дачи и повели осаду…
Тем временем подъехала отставшая "артиллерия". Загудели кирпичные снаряды. В даче одно за другим вылетали стекла и целые оконные рамы. Выскочил, было, из ворот и заметался, выдергивая револьвер, воспитатель, но Червонец мрачно треснул его дубиной, и тот, свалившись, пополз обратно… Вслед за воспитателем выскочил светловолосый мальчик, в руках он держал самоделку, а рядом бежали два адъютанта…
– Нечестно! — только и успел крикнуть Калина. Раздался грохот. Вражескую самоделку разорвало, мальчик схватился за подбородок, адъютанты завертелись и вскрикнули. Вперед выскочил Рыжик и закрутил над головой "гранатой". "Нормальный" понял опасность и побежал к воротам. Добежать ему не
удалось. Бутылка глухо ударила его по затылку и разлетелась вдребезги… Мальчик удивленно поднял руки и стал приседать, как на уроке гимнастики, все ниже и ниже; пущенная Кузей кирпичина пришлась ему по боку, он странно охнул и упал…
Шкидцы разбежались.
Спустя полчаса калитка шкидской дачи очень осторожно отворилась, и в нее просунулась сперва фуражка, а потом и вся голова начальника павловской милиции. Видя, что опасности никакой нет, он спрятал револьвер и вошел во двор. Сверху уже спускался обеспокоенный Викниксор… Вестник несчастия подошел к заведующему. По мере его речи лицо Викниксора хмурилось, мрачнело, и наконец он крикнул бывшему здесь дежурному халдею:
– Построить ребят!
Ребят построили. Начальник милиции, заложив за спину руки, прошел вдоль шеренги и скомандовал:
– Все, кто участвовал в драке, три шага вперед. Шкидцы прыснули, усмехнулся и Викниксор. Начальник озлился и, тыкая пальцем, закричал:
– Запираться?… Ты… ты… ты… Он отсчитал шестерых, наиболее ему понравившихся ребят и велел "следовать" за ним.
– Подождите! — остановил его Викниксор. — Здесь я заведующий и ребят вам не выдам. Он повернулся к шкидцам и спросил:
– Что у вас случилось?
Химик, поддержанный Удаловым и Кузей, рассказал.
– Ну вот видите! — снова обратился к начальнику Викниксор. — Я так и думал. Ребят задели, а они ведь дефективные, с них много не возьмешь.
Начался спор. Начальник требовал ребят, грозил протоколом, арестом, кричал "о порядочках". Викниксор спокойно и сдерживаясь отвечал ему, но ребят выдать отказался. В конце концов милиционер махнул рукой и потребовал сдачи оружия.
– Ну, ребята! — грозно сказал Викниксор,
подойдя к строю и подмигивая: — чтобы через пять минут оружие было сдано.
И через пять минут на дворе возвышалась преогромная куча, куда шкидцы, изображая глубокую скорбь, сваливали прутики, щепочки, ремешки и бечевки…
Когда калитка за начальником милиции закрылась, Викниксор повернулся к ребятам. По лицу его забегали молнии, губы были закушены и руки крепко сжаты.
Началась расправа.
– Смирно!
Рыжик побледнел. Побледнели Мамонтов и Калина. Викниксор подошел еще ближе, шевельнул губами, хотел говорить, но вдруг отвернулся и махнул рукой.
– Завтра с утра собрать матрацы… Едем в город…
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
1
Утром приехали в город первые вестники переезда. Приехала Эланлюм со свитой уборщиц и кухарок.
Ребят в Шкиде не было. Фока исчез еще вчера, когда Степан засыпал всех в библиотеке, Кубышка с утра пошел хлопотать в фабзавуч, а Иошка с Сашкой побрели просто куда глаза глядят. Бродили они до вечера.
Уже начинало темнеть и накрапывал дождь. По скользким панелям бежали, размахивая газетами, мальчишки. Кричали про Макдональда, кражи и квартплату… На Петергофском шкидцы встретили Кубышку. Кубышка шел взволнованный, заплаканный, с маленьким узелком в руках.
– Приехали! — не сразу заговорил он, когда его остановили. — Приехали с дачи… Шкидцы приехали, потом Викниксор… Степан ему сразу накапал… Потом… — Кубышка всхлипнул и шмыгнул носом:- потом пришел Викниксор и меня выгнал.
Он снова всхлипнул, хотел что-то прибавить, но махнул узелком и пошел.
– Идем! — дернул Иошка Сашку.
Пошли в Шкиду.
– Ну и всыпались вы! — тревожно зашептал дежурный, встретивший ребят на кухне. — Викниксор здесь чуть Кубышку не изволохал!
– Да? — испугался Сашка. — Злой?
– Как черт…
– А где он? -
– В учительской наверно…
Викниксор, заслышав разговор, уже шел навстречу. Последний раз ребята видели его простым, спокойным и даже грустным. Сейчас он шел на них медленно, тяжело переставляя ноги и непримиримо заложив руки в карманы пиджака.
– Вот что, — сказал он, поднимая брови и останавливаясь; сказал жестко и раздельно как давно обдуманное и решенное:
– Из школы вы можете убираться. И сделать это я попрошу вас немедленно. Мне воров и негодяев не надо…
– Позвольте…
– Ни слова… Я знаю вашу манеру отпираться. Мне все известно о ваших похождениях.
– Ничего вам неизвестно… Только нахально врут… Врут вам, а вы и поверили.
– Будете скандалить — уйдете с милицией. И потом, — резко крикнул Викниксор: — с вами мне не о чем разговаривать. Дежурный, выпусти вот этого! — Он указал на Сашку, а Иошке через плечо бросил: — Ты можешь переночевать в школе в музее и завтра отправляться куда угодно…
Дежурный выпустил Сашку и, закрывая двери, сказал:
– Надо к кастелянше сбегать, а то из музея одеяла, постель забрали… Ему спать не на чем.
– А это уже роскошь! — прервал дежурного Викниксор, — Можно и без этого. Я и то разрешаю ему
остаться лишь потому, что ночь сегодня холодная, дождливая, можно простудиться… Да… А одеяло — это уже роскошь… Понимаешь?
– Понимаю! — ответил Иошка. — Спасибо…
На другой день он ушел.
2
"Ну, теперь все! — думал Иошка. — Теперь только одна надежда — техникум. Примут — хорошо. Не примут — гибель. Назад в Шкиду не пойду".
Сашка переночевал эту ночь у матери и тоже с утра спешил в техникум — узнать, принят он или нет. Он пришел туда раньше Иошки, пришел, когда списки только вывешивались. Списки окружила толпа, все кричали, волновались, толкались, толкался и Сашка, забыв привычную вежливость и протискиваясь вперед к спискам, чтобы найти свою фамилию. Его близорукие глаза шарили по листу, торопливо бегали вверх — вниз, налево — направо, но фамилии не было.
– Не принят!…
Он поискал Иошкину фамилию, но тоже не нашел.
– Не принят!
Он вышел на улицу и присел на ступеньки крыльца. Кругом проходили люди. Проходили, разговаривали. Сашка сидел в уголке, подняв воротник, надвинув кепку, и думал.
Сашка думал и, странное дело, не о том, как быть дальше а о том, что делал бы он, если бы его приняли. Он представил, что вначале пойдет в канцелярию и узнает, где общежитие, потом отправится в общежитие и попросит помещение, попросит жратвы, потом подаст заявление в стипендиальную комиссию, потом…
За спиной хлопнула дверь и на плечо опустилась рука. Сашка вздрогнул.
– Поздравляю! — мрачно пробурчал Иошка: — Тебе повезло.
– Факт! усмехнулся Сашка. — Подвезло здорово…
Иошка снял руку с плеча и удивленно посмотрел на приятеля.
– Что ты, очумел? Радоваться, дура, надо, что приняли.
– Кого?
– Тебя! — крикнул Иошка.
Оба замолчали. Сашка таращил глаза и шевелил ртом: говорить он не мог.
– Ах вот что! — понял наконец Иошка. — Ты по слепоте своей фамилии не рассмотрел… Ах, Сашка. Сашка. Сова безглазая… Бить тебя некому!…
Иошка схватил его за руку и потащил обратно в техникум.
– Смотри! — палец лег и пополз под словами: "Список принятых на третий курс". — Видишь?… Теперь смотри здесь! — палец скользнул вниз и пополз под Сашкиной фамилией: — Видишь?…
– Теперь вижу! — улыбнулся Сашка. Он пробовал сохранить серьезность, но широкая, радостная улыбка раздирала рот. Улыбнулся и хмурый Иошка.
– Поздравляю!
А когда Иошка, простившись, ушел, Сашка отправился в канцелярию узнавать, где общежитие.
3
Иошка шел вперед. Шел с одной мыслью: что делать?
Прежде всего хотелось есть, потом надо найти какую-нибудь квартиру. Ни родных, ни знакомых у него не было, и оставалось идти в Губоно. Просить.
В Губоно он прождал почти два часа, пока его приняли. Приняли холодно, с каким-то насмешливым вниманием. Выслушали для проформы, потому что еще с утра звонил и все сообщил по телефону Викниксор. Выслушав, написали коротенькую записочку в дефективный детдом на Выборгской стороне.
Иошка пошел опять. Со вчерашнего дня он ничего не ел; денег у него не было, была только одна копейка, медная полустертая монета, которую он нашел по дороге. Не хватало второй, чтобы купить полфунта хлеба. Иошка шел, присматриваясь к земле:
"Если нашел копейку, почему не найти другую?" — рассуждал он.
В детдом он пришел уже вечером. В другое время ему и понравилось бы это низкое, похожее на усадьбу здание, стоящее в глубине густого и красивого сада; понравились бы дорожки, клумбы, беседки, — но Иошке нестерпимо хотелось есть. Он прошел к дверям и даже не поглядел на клумбу, где покачивались под дождем яркие головки астр.
Внутри все напоминало Шкиду. Низкий темный коридор и запах уборной и карболовки, и тот же шум и беготня, и то же бренчанье расстроенного рояльца. И даже ребята, так похожие на шкидцев, начинали, как принято, скапливаться около вошедшего.
– Где у вас тут халдеи? — спросил Иошка.
– Кто-о?…
– Халдеи… Ну, воспитатели…
– Ишь, чорт! — послышался чей-то восхищенный голос. — Подкусывает как… халдеи!
К Иошке протискался маленький солидно-нахмуренный шкетик и взял его за руку.
– Пойдем… Сведу…
Иошка хотел было спросить у него "пошамать", но шкетик открыл дверь, и они очутились в небольшой светлой комнате, в которой шкидец с ужасом узнал кабинет психо-физиологического и антропологического обследования. За столом сидел упитанный краснолицый мужчина, которому шкетик солидно доложил:
– Новичок!
Иошка показал бумажку. Краснолицый взглянул на новоприбывшего и взял перо. Фамилия? Имя?
Отчество?
Родители?
Сколько лет?
Откуда прибыл?
Где родился?
Потом измерял иошкин череп, лицо, грудь, рост, дыхание, силу, руки, ноги, туловище. Слушал пульс, велел бегать по комнате рысью и вприпрыжку, и опять измерял.
– Слушайте! — не выдержал Иошка: — нельзя ли это все потом?… Я не ел со вчерашнего дня.
Краснолицый.уставился на Иошку и, что-то сообразив, начал ворошить на столе бумаги; потом пошел из комнаты.
На столе остались лежать бутерброды с сыром.
Когда дверь за краснолицым закрылась, Иошка поглядел на бутерброды и проглотил кислую слюну.
"Пошамаем" — подумал он.
Прошло несколько минут. Резко распахнулась дверь и в комнату влетел краснолицый. Первый взгляд — на бутерброды, потом на Иошку.
– Опыт я ставил! — процедил краснолицый, со злостью спихивая бутерброды в стол. -По педологии… Украдешь ты чего-нибудь или нет?…
Иошка вспыхнул…
– Ты мне, во-первых, не тычь: я тебе не Иван Ильич.
– Что-о-о? — вытянулся краснолицый. — Что ты сказал, шпана несчастная, повтори?…
– Я прошу не издеваться, — закричал Иошка.- Я голоден, понимаете вы это, ученые, черт вас побери всех, с вашей педологией!…
Педагог засучил рукава. Иошка схватился за стол. Несмотря на хилость и бледность, шкидец выглядел довольно внушительно:
– Хорошо! — зловеще забормотал краснолицый: — Есть хочешь, значит?: Хорошо, я тебя сейчас угощу!
Он выскочил из кабинета и полетел в учительскую. Оттуда все воспитатели гурьбой повалили за педологом остепенять нового сумасшедшего воспитанника, который требует, чтобы ему говорили "вы".
У кабинета толпа остановилась. Краснолицый педолог еще более засучил рукава, подмигнул, как бы готовя интересное представление, и распахнул двери.
В комнате никого не было.
4
Заколоченная на зиму, всеми оставленная шкидская дача не пустовала. В ней "хазовал" Лепешин.
Вчера он в отсутствие хозяев забрался в один облюбованный заранее дом. Его заметили с улицы… Засада, устроенная павловцами, не удалась: "знаменитый бандит Лепешин-Дубровский" ушел из-под самого носа, бросив вещи и сбив с ног дряхлого подслеповатого сторожа, одного из номеров облавы.
Цепь несчастий обрушилась на Лепешина после этого события… Первая его хаза — в парковом павильоне — была открыта сторожами, вторая — в разрушенной даче около водокачки — имела один выход и при засаде становилась ловушкой… Днем его несколько раз узнавали на улице и устраивали погони. Федька — беглый дефективный из детдома, стремщик и наводчик Лепешина, — ушедший было на разведку, больше не возвращался… Лепешин опять переменил место — пятое по счету, — а вечером кинулся на вокзал, чтобы уехать из Павловска. Но и там его ждали. И снова пришлось бежать, слыша за спиной тяжелый топот и страшные крики: "держи"!…
Лепешин метался по Павловску, меняя места, ища выхода из сжавшегося вкруг него кольца. Шкида была последним логовом.
Он стоял на балконе дачи, тяжело, устало опираясь на перила, кутаясь в забрызганное грязью, изорвавшееся в погонях пальто. Бессонная ночь положила синие пятна у ресниц. Губы ссохлись от волнения, покраснели и потрескались.
Вставало белое осеннее солнце. Тяжелая и жесткая
роса блестела в траве. На клумбах, дорожках, в канавах — всюду кучами лежали сброшенные с деревьев листья, и на них сверху безостановочно сыпались все новые и новые желтые шуршащие груды. Канавы, полные воды, заросли волокнистой зеленью и были неподвижны.
Вспоминалась Шкида — все, до последних дней… Вспоминались ребята, халдеи, Викниксор… Ярко представалась в памяти последняя ночь, когда он забрался к Викниксору, чтобы выручить свой велосипед… Вспомнилась и неудача — загремевшие кадушки, поимка, изолятор, и бесповоротное решение бежать, и взломанная кладовка и первая записка, оставленная на месте преступления:
"Здесь был я, знаменитый бандит Лепешин-Дубровский…"
Как давно все это было!… И вместе с тем, как недавно…
Он поглядел на строй дач, столпившийся вокруг Шкиды. Кокетливая их наружность казалась предательской, — он знал, что ему не выбраться из Павловска, что его_ стерегут, ищут и, быть может, нашли…
Он беспокойно прошелся и прислушался. Всюду было тихо. Шкидская дача стояла пустой, с закрытыми дверями, с заколоченными окнами. Лепешин отодвинул доски от балконной двери и вошел внутрь бесконечно усталый и с одним только желанием спать…
Старая толстая лягушка долго смотрела из канавы ему вслед и жалобно всхлипывала…
5
Он проснулся внезапно, как от толчка, от внезапно обрисовавшейся мысли, заворочался на шуршащей груде выброшенного сена и сел… Был уже вечер, комнату наполняла темнота, и в темноте заколоченное досками окно было похоже на тюремную решетку.
Мысль приносила спасение и была простой до смешного: надо уезжать не с Павловского шквала, а с другой
станции, например, с Александровской, которая была дальше других, в стороне и на другой линии…
Лепешии встал с сена и, отряхнувшись, заходил по комнате, рассчитывая и размеряя свой план, — все сходилось и было легко и просто. Мучило одно: приходилось оставить мысль "обработать" красноармейский кооператив "Фронтовик", где все было высмотрено, приготовлено и где вдобавок было что брать…
И чем больше надвигался вечер, тем настойчивей овладевала эта мысль сознанием. Привычная потребность "работы" стала неотступной…
"Я сделаю дело и уеду в город с фартом, — решительно подумал Лепешин. — Нужно только выдавить стекло и обойти патруль…"
Ночь была темная, с небом, сплошь затянутым облаками… Патруль, охранявший кооператив, прошел за здания казарм, вернулся — опять ушел. Лепешин бесшумно вынырнул из кустов, быстро и ловко наклеил листы "мушиной бумаги" на стекло, выдавил его, и оглянувшись, влез в лавку.
Внутри ему было все заранее известно; он набил два мешка самым дорогим товаром, опорожнил кассу и, переждав, пока четкие удары солдатских сапог патруля снова не отзвучат вдалеке за казармой, — с прежней бесшумной быстротой вылез с "фартом" обратно… И уже в кустах, волоча тяжелые мешки, вспомнил:
"А записка?"
Лепешин полез обратно и там, в лавке, в темноте, еще детским неровным почерком он с трудом нацарапал записку, написал знакомые слова, от которых сладко ныло в груди и стучало сердце. Записку он положил на самое видное место, на кассу посреди длинного широкого прилавка.
Вылезая наружу он зацепился рукавом за гвоздь. Отцепиться ему помогли.
Кто то схватил его под глотку и выдернул наружу. Он сунулся к поясу за револьвером, но уже схватили и руки…
– Поймался, супчик! — заревел над головой торжествующий голос. — Нет, врешь! Не уйдешь! Не дрыгай!…
Его подминали на земле сапогами, закручивая за спину руки. Отчаянно свистал патруль, и тот же торжествующий голос ревел:
– Второй день ловим! ревел голос. Пымали… И до чего отчаянный плашкет, — враз за шпалер хватается — бандюга чистый…
Лепешин, скрученный и перекрученный веревками, судорожно извивался на земле, сжимаясь от лениво сыплющихся на тело ударов — и молчал.
6
Иошка проснулся от холода. Все, кто ночевал с ним на барже, уже встали и разошлись. Было часов восемь утра, шел мелкий дождь, и остатки тумана еще ползали над каналом… Иошка нащупал в кармане копейку, и только одно прикосновение к ней до конца наполнило его сознание мыслью: "надо искать". И он поднялся как привязанный этим решением и пошел.
Он шел по улицам, переулкам, проспектам, шел по садам, площадям, бульварам, шел по рынкам, толкучкам, дворам, — шел и искал. Часто "она" показывалась ему в мусоре, в плевках или окурках, он останавливался и шарил на земле, ковырял, рыл, но там ничего не было, и он шел дальше; шел опустив глаза, ни о чем не думая, забыв про голод, про все, кроме копейки, которую должен найти и которую найдет.
И в самом деле под вечер, на Калинкином мосту от ноги что-то отскочило, подпрыгнуло и звонко ударилось об камни…
7
Это была та маленькая медная монетка, которую он искал весь день и которая показалась ему теперь похожей на грошик, Иошке захотелось сравнить его
со своей прежней копейкой; он опустил руку в карман, пошарил и — судорожно выхватил обратно.
Он быстро ощупал и вывернул все карманы, разорвал подкладку пальто, разулся и стал перебирать и перетряхивать носки и ботинки.
Там ничего не было.
И он почувствовал, что сейчас наступает конец, он не мог даже думать о том, что нашел свою собственную копейку, которая выпала у него из дырявого кармана, — он не мог думать, что делать дальше, куда идти, кого просить…
Он подошел к перилам, разжал ладонь и бросил монетку в воду.
Перед концом решил написать записку. Потом подумал: "обуюсь", и надел ботинки. Потом вынул карандаш, записную книжку и стал писать.
Перечитал и вдруг вздрогнул: "нет"!…
Карандаш и бумага полетели за перила, а Иошка побежал по улице.
Он вошел в подъезд милиции, на минуту остановился у зеркальной двери, отразившей лохматого шкета в рваном и мокром пальто, потом, решительно толкнувшись, вошел в комнату.
На лавке у барьера разговаривали несколько милиционеров. На вошедшего они не обратили никакого внимания. Иошка прошел вперед и, когда дежурный поднял на него свои равнодушные глаза, заговорил.
– Товарищи! — просто сказал он: — если ваш долг раскрывать преступления, то вы должны и предупреждать их.
– Что? — Под дежурным упала табуретка. Иошка пошатнулся, схватился за барьер и наверное рухнул бы на пол, но его уже держали и куда-то вели…
Очнулся он в большой просторной комнате заполненной книжными шкафами, плакатами и убранной красной материей. Перед ним на столе, на раскинутых
журналах стоял чайник и лежал свежий румяный ситным. Он ел, его никто не расспрашивал, и все молчали…
Рассказывать начал сам Иошка. Рассказал про Викниксора, про дачу, про экзамены, показал документы; рассказал про Губоно, про краснолицего, про копейку; рассказал, как хотел топиться, но испугался и потом пошел в милицию, чтобы наговорить на себя, чтобы его посадили, и дали есть.
Он замолчал — заговорили милиционеры. Заговорили все разом, не обращая на Иошку внимания, но тот чувствовал, что говорят именно о нем…
Потом дежурный дал ему в руки перо и попросил что-нибудь написать, только побольше и поскорей.
"Дактилоскопия?" подумал Иошка и начал писать; когда писал, все сгрудились к нему и смотрели, как бегала его, рука по бумаге. Дописать ему не дали. Дежурный хлопнул Иошку по плечу:
– Хватит!… Молодчина: почерк шикарный, — видать, не даром учился… Значит, вот что мы решили… Как ты есть человек с образованием, ты будешь у нас здесь завклубом, жалованье будешь получать, а жить… пока живи здесь, потом придумаем… Согласен?
Иошка улыбнулся… Все засмеялись, а какой-то бородач, многозначительно подняв палец, проговорил:
– Судьба у тебя, хлопец, индейка, а жизнь — копейка…
– Верно! — ответил Иошка. — Верно — копейка!
И он стал завклубом в милиции.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
1
Рулевой Шкиды сидит у себя в кабинете в поскрипывающем кресле и не включает свет. Так легче и можно спокойнее подумать, хотя собственно обдумывать нечего.
Еще когда он, захватив для просмотра из канцелярии "летопись", проходил по нижней зале к себе,
голова его пригнулась, глаза старались не смотреть на стены, и копошились мысли, что все это зря; и захотелось бросить "Летопись " на пол. Литографий в глупых золоченых рамках, которые висели на стенах залы, становилось все меньше и меньше. Массивные двухстворчатые двери беспомощно прижались к стенам. Двери были прежде на медных петлях, отвинченных и отнесенных на рынок ребятами. Туда же снесли и литографии.
Еще и раньше Викниксор замечал в поведении ребят какие-то провалы, недоступные его опыту и педагогическому влиянию. И провалы эти становились все больше и больше, пока не превратились в целую пропасть, пока школа не оторвалась и не пошла своей дорогой, а он остался в стороне.
Раньше в такие минуты он думал, что виноваты старшие, которые мутят школу. Но теперь старших нет, а лучше не стало.
Вчера полшколы самовольно ушло шляться. Позавчера избили воспитателя Кирилла Гаврилыча. Сегодня пробовали сломать кладовую с продуктами. Украли из канцелярии "летопись " и сунули ее в топку. Разгромили химический шкаф. Школа в контакте с окрестной шпаной. Вольных, которые зачастили в школу, он велел гнать. Но нет-нет да и появится в коридоре какой-нибудь клешник с трогательным чубом. Викниксор усмехается.
С каким трудом, с какой трепкой нервов он выцарапал места продавцов в магазинах Резино-металла для подросших ребят.
Его встречали насмешливо:
– Помилуйте, у нас дефективных нельзя, воровство будет.
– Унижался, давал честное слово, а своего добился. Радовался за ребят. А они начали воровать на работе. Так и должно. Работу достал, а квартир не смог. Школа бузит, школа ворует, хулиганит и оказывает на них свое влияние. Вот если бы этим ребятам достать квартиры!
Недавно пришел Костя Финкельштейн. Он радовался тогда. Подумал: "Не забыли еще ". Хотел спросить, как живет, где работает. Но Костя остановился в дверях и, не здороваясь, сказал:
– Виктор Николаевич, вы подлец…
Викниксор включает свет и перелистывает "Летопись ".
Она по углам обуглилась, несколько страниц вырвано. Если бы не Александр Николаевич, вытащивший ее из огня, "Летопись " больше не существовала бы.
Викниксор читает последние записи:
"Преображенский и Калинин явились в школу в нетрезвом виде ".
"Воспитанник Сусликов пойман в краже белья из гардеробной ".
"Нижняя спальня долго не ложилась спать ".
"В верхней зале трое воспитанников — Васильев, Арбузов и Евграфов — совершили нападение на воспитателя Селезнева и нанесли ему удар по голове ".
Викниксор захлопывает летопись. Нечего читать. И так известно, что полшколы в пятом разряде. И еще известно, что пятый разряд теперь пустая формальность. Ребята привыкли и уходят гулять самовольно.
Через день после того, как полшколы ушло куда-то, Викниксор узнал со стороны, что ребята ходили вместе с другим детдомом драться с Покровской шпаной.
После драки двух "покрошей " подобрали мертвыми.
Викниксора одолевали мысли, тягучие и неприятные:
За три года упорного, напряженного труда не выпустить ни одного воспитанника. Больше того. Весь выпускной класс выгнать по одиночке, по одному…
* * *
Он лежал на оттоманке лицом вниз. В комнате было темно, в окна стучал дождь. Время шло, а сна не было. В висках тупо ударяла кровь. Потом удары отошли в сторону и доносились издалека, тихие и осторожные. Викниксор сообразил, что они идут с черной лестницы. Это опять ребята обрубали свинцовые
украшения перил. Викниксор заметался. Ему даже показалось, что хочется вскочить и бежать на черную лестницу, он даже увидел себя крадущимся по залу.
Но это только показалось.
Викниксор по-прежнему лежал лицом вниз. В окна глядела ночь и доносила иногда зеленые отсветы поющей трамвайной дуги. А тихие удары с черной лестницы не прекращались. Они приходили, заглушенные и настороженные. Казалось, по-прежнему идет дождь. Но дождя уже не было.
2
Под лестницей в надворном полуразрушенном флигеле копошатся двое шкидцев. Они устраиваются на ночлег. Первого из них, длинного Суслика, вышибли неделю назад за кражу простынь. Второй — нежненький и беленький Капаневич — выгнан сегодня. С непривычки его знобит, и бьет лихорадка.
– Холодно, — бормочет он, натягивая на босые ноги пальто. — Ой, какой ветер, прямо вьюга целая…
Суслик не отвечает и по-прежнему гребет в угол раскиданную промокшую солому… Слышно, — воет на чердаке ветер, как костяшки стучат рваные провода и хлещет дождь.
– Слушай, — опять говорит Капаневич: — идем в комнату. Там теплей, и матрацы лежат, видел…
– Мало, что лежат… Нельзя туда. Вдруг ребята придут…
– Зачем?…
– Сам знаешь зачем…
Молчат… Суслик, собрав бугорок соломы, осторожно ложится на него и подкладывает под голову кирпич. Скоро он засыпает… Капаневич дрожит всем телом; зубы выколачивают густую и несдержанную дробь и готовы вырваться наружу. Заснуть он не может и еле терпит холод. Потом не выдерживает, вылезает из-под лестницы и поднимается наверх, в
единственную сохранившуюся флигельную комнату. Там теплей, там матрацы. Шкидец торопливо ложится, закутывает ноги в пальто, накрывается вторым матрацом и засыпает…
Будит его громкий и сердитый женькин голос.
– Задрыга грешная, — кричит кухонный староста: — развалился… Для тебя я, что ли, матрацы приволок?… Слазь!
Капаневич с руганью поднимается и трет глаза.
– Слазь скорей, — нетерпеливо торопит староста и, обернувшись к дверям, сладенько добавляет: — Сейчас, Верочка, нам освободят комнату…
Верочка переступает порог. Идет она развалисто, потряхивая куцым задом и поводя руками. На ней черное приютское пальто и черный матерчатый треух…
Это очередная женькина любовь…
Живет Вера Бондарева в детдоме для дефективных девочек, что против Моргоса. С детдомом этим Шкида связана крепчайшими узами сердечных отношений. Трудно сказать, когда они установились, но одно известно, что вместе с бузой вспыхнула и любовь. Конечно, птички здесь не пели, луна не светила, вода не сверкала, — поэзии никакой не было, нежных слов и поцелуев тоже не было. Своих возлюбленных вели прямо в ломаный флигель, где на заранее заботливо приготовленных матрацах и начинали супружескую жизнь.
С Женькой Вера Бондарева сошлась недавно; верней, он получил ее от Балды, сменявшись на Маньку Солдатову. Мена казалась выгодной, и староста про себя прозвал даже Балду дураком…
Он не знал, что недавно Балда побывал случайно в канцелярии верочкиного детдома и прочитал там такую характеристику своей любовницы:
"Задержана на Октябрьском вокзале за бродяжничество и проституцию. Груба, цинична, недисциплинирована. Детдом называет бардаком, воспитательниц бандершами. Устроила в распределителе побег трех задержанных подруг, пыталась бежать сама, но была поймана…
"В детдоме ворует. Будучи уличена, не споря отдает украденное обратно. Лукава. Лжива. Употребляет косметику, чтобы скрыть на лице прыщи… Прожорлива. Съедает по пять-шесть порций за раз. Ест неопрятно: куски вместе со слюной падают обратно на тарелку и опять подбираются в рот.
"Наружность. Маленькая, с маленькой головкой, с бесцветными, ничего не выражающими глазами, которые всегда закрывают спутанные, жидкие волосы. Большой мокрый рот с заездами по углам. Карриозные зубы. Запах. Рано разнившееся тело. Длинные руки. Расхлябанные движения.
"Половая жизнь. Жить начала с восьми лет. Говорит: "не могу жить без мужчины", "вы требуете от меня хорошего поведения, дайте мне каждую ночь мужчину, и я буду у вас первая". На прогулках пристает к проходящим: "мужчина, угостите папироской", "мужчина, прогуляемся"… Имела ребенка, которого задушила. Болела гонореей. Была помещена на излечение в венерическую больницу, но оттуда убежала…"
И, несмотря на всю свою неприхотливость и неповоротливость, Балда сразу же постарался сплавить кому-нибудь от себя Веру… Женька охотно взял ее и сейчас с явно выраженным нетерпением выставлял из своей спальни Капаневича.
– Так пущай остается, — передернула плечами девица. — Мы к этому привыкши.
Но непривыкший шкидец уже был за дверьми, а в комнате дико закричали:
– Вер-pa… Жена моя… Раба моя… Ляжь…
Под лестницей Суслик храпел и свистел носом. Холод опять охватил Капаневича, он закутался поплотнее в пальто и усиливаясь задремал… Через полчаса шкидец вздрогнул и открыл глаза. Между ступеньками, сверху, виднелось женькино лицо.
– Теперь иди, — сказал он, и пошел вниз. Капаневич вылез и пробрался в комнату. В темноте он нащупал матрац и с криком отскочил.
– Хи-хи-хи, — засмеялись из темноты: — спужался… Это я, Вера… Иди сюда…
Капаневич выскочил за дверь, кубарем скатившись под лестницу. Суслик разом перестал храпеть и поднялся.
– Что ты? Что с тобой?…
Шкидец тяжело дышал и ответил не сразу.
– В комнате был… Там гамыра эта, женькина, как ее…
– Вера?
– Ага…
– С Женькой?
– Нет, одна…
– Ну, тогда я пойду, — встрепенулся Суслик.
– А ты здесь сиди, не уходи. Можешь лечь на мою постель… Слышишь?
– Слышу… Спасибо…
3
На верхнюю площадку парадной лестницы вышел Химик. Он огляделся по сторонам, заглянул в пролет и вытащил из-за пазухи свое последнее изобретение — авиобомбу. Она была сделана из пивной бутылки, набитой шкид-порохом, с пробкой от детского пугача, вместо детонатора. Маленькие картонные крылышки придавали ей устойчивость во время полета. Когда Химик, оглядевшись еще раз, бросил свою бомбу в пролет, на площадку вышел Сашкец.
– Ты чего?…
Химик не успел и открыть рта, как внизу ухнуло, зазвенело, и кверху поднялся клуб дыма. Халдей потащил шкидца в изолятор. Химик вырвался. И тогда Сашкец побежал вниз за дворником.
* * *
Школа Достоевского,
Стерва сволочная.
Научила воровать
От родного края… -
попробовал петь доставленный в изолятор Химик, но перестал и растянулся на досках кровати. Лежал, смотрел на растрескавшийся потолок, на клочья обоев, свисавшие с отсыревших стен, а в голове вертелись всякие мысли.
Недавно была в "лавре " из-за плохого обращения большая буза. Бунт. Одних стекол выбили на шестнадцать тысяч рублей и убили воспитателя. "Лавру " после этого раскассировали. В Шкиду привели оттуда человек двадцать ребят. Но из новых товарища Химик подобрать не смог. Старые ушли.
Химик слонялся по школе и не находил себе места. По ночам он вспоминал институт Подольского. Даже ночью институт казался теперь уже лучше Шкиды. Вспомнил, как один раз назвал он воспитательницу проституткой, как его закрутили в простыню, и как потом его, связанного, воспитательница отхлестала по щекам. Но никакой злости Химик не почувствовал. Ему даже захотелось, когда вспомнил это, сходить извиниться за свои слова.
Припомнился и сам профессор. Он отличал Химика своим вниманием и раз пытался загипнотизировать. Химик притворился спящим, поднимал по приказанию профессора руку и остался очень доволен сеансом.
Там казалось лучше, и Химик выпросился обратно в институт. Подольский встретил хорошо, ласково,, но, прочитав викниксоровское письмо, переданное ему Химиком, нахмурился и отказался взять к себе.
Вернувшись обратно, шкидец забузил. Не учил уроков, скандалил и по ночам вместе с Удаловым "электрифицировал " школу. Для этого они отводили ток от сети в перила лестницы, к дверным ручкам и дверцам печей…
* * *
Химик слез с койки, долго разминался и извлек из кармана баночку. В банке в керосине желтели комочки кальция. Он прикарманил кальций, когда новички из "лавры" громили химический шкаф. Химик хотел отомстить немке, с которой воевал последнее время. Для этого он решил, улучив момент, подсыпать в ее ночной горшок кальция, который, соединяясь с водой, шипит и как бы взрывается. Химик думал, что этого будет достаточно и немку на утро найдут умершей от потрясения.
В школе зазвонили на ужин и сейчас же у дверей зашабаршили, затопали, и надтреснутый голос сказал:
– Гусь лапчатый…
– Дядя Саша, — крикнул Химик, пряча банку: — отпустите! Вчера целый день сидел!
– Ладно, — смилостивился Сашкец и открыл изолятор: — но в пятом разряде тебе быть!
Химик с постным лицом тихонько вышел, словно показывая, что он понимает положение халдея и сбегая вниз в столовую, с удовлетворением думал:
"Вали, переводи, черт плешивый. Вчера Костец раньше тебя догадался перевести".
Впереди бежал какой-то из новичков. Он с ходу прижимал к перилам огрызок цветного карандаша. Карандаш оставлял на перилах ярко-красную полоску.
На ужин была гороховая похлебка. Когда ее разлили по мискам, в столовую прибежала немка и сразу обратилась к Химику.
– Евграфов. Это ты перила исчиркал? Иди вытри…
Шкидец, не обертываясь, с присвистом глотал похлебку. Большие порозовевшие уши его насмешливо вздрагивали.
– Да ты оглох? — тряхнула его немка.
– Вытри сама, — ответил Химик, и когда немка рванулась к выходу, крикнул: — У собачки под хвостом вытри.
Через минуту немка явилась уже с Викниксором.
– Если так убрать, в порядке трудовой дисциплины, — сказал Химик, — то можно. А если как будто это я начиркал, не буду.
– Видите,-закатилась немка.
Викниксор удивленно поднял брови, поморщился и выдернул шкидца из-за стола…
Захлопнувшаяся дверь заглушила протестующий рев столовой. Вышвырнутый на черную лестницу, Химик потер затекшую шею и спустился по лестнице во двор.
Чуть-чуть моросило, сеялся-вился дождь. Химик постоял на дворе и повернул к флигелю.
4
В одной из комнат флигеля собралась целая компания. Был Женька с Бондаревой. Вместе с ней пришла ее подруга — Маня Солдатова, громадного роста девица с большими наглыми глазами. За Маней ухаживал Балда, сидевший рядом с Женькой. С чердака спустились Суслик и Капанька. Вся эта брашка, устроившись на кирпичах и поленьях, закусывала копчеными сигами, которые украл на рынке Женька. При появлении Химика Балда, заметно охмелевший, подвинулся и любезно зазаикался.
– П-прошу присесть… Ка-какими… каким чертом занесло?
– Меня Витя вышиб, — хмуро объяснил Химик, и сел рядом с Балдой.
Женька перестал лапать Бондареву и налил Химику в стакан водки.
– Капанька, Суслик, надо еще раз дербалыхнуть, — продолжал Женька: — в нашем полку прибыло.
Водки было много, принес Балда. Его сламщик Вася Слон работал в Резинометалле, и поэтому Балда был всегда с деньгой. Он ежедневно отправлялся в кооператив, протягивал сламщику трехкопеечный чек, и Вася Слон вешал ему товара рублей на десять…
У Химика шумело в голове. Он еще помнил, что его вышибли. Но было уже все равно. Он сидел, покачиваясь, оглядывался и улыбался.
Напротив него Бондарева плотоядно уничтожала рыбу. Перехватив взгляд Химика, она подмигнула ему и улыбнулась. Губы ее при этом натянулись, выступили желтые неровные зубы, и она стала похожей на собаку. Сидевший на корточках Суслик зачесался и так звонко щелкнул раздавленной вошью, что сидевший в самом углу Балда, осторожно и стыдливо касавшийся грудей Мани Солдатовой, вздрогнул.
Химик чуть повернул голову и увидел Капаневича. Шкидец сидел на двух кирпичах, грустный и взъерошенный как вымокший воробей, брезгливо прижавшись к стенке, он играл на зубариках. Потом внимательно и строго взглянул на Химика и улыбнулся тоже, но не как Бондарева, а печально и сочувственно.
От этой улыбки Химика словно кольнуло. Он огляделся внимательнее. Женька поддерживал свою возлюбленную, обмякшую и пожелтевшую. Ее тошнило, она сплевывала и закатывала совсем осоловевшие глаза.
Химику стало еще неприятней, он качнулся и увидел, что Капаневич вдруг поднялся и ушел из комнаты. Химик рванулся за ним, но ноги непослушно отнесли его к окну. Он опустился на подоконник и огляделся еще раз.
Женька уводил куда-то Бондареву. В комнате остался только Балда с Солдатовой. Манькино платье измялось, спустившийся чулок открывал прыщавую волосатую ногу. Балда теперь действовал смелее. Солдатова не противилась и только взматывала головой, как лошадь, отчего ее темные обсалившие волосы болтались как мочала на швабре…
Химик закрыл глаза. Ему почему-то вспомнился детдом на Колокольной улице, куда он попал с Курляндской… Новый детдом встретил Химика неласково. Ребята, жившие там, сатанели от скуки. Через несколько дней у воспитательницы Нины Васильевны пропал кошелек с двумя рублями. Почему-то подумали на Химика, и ребята, косившиеся на него, обрадовались случаю. Сами они, может быть, и не тронули бы, но помощник заведующего велел:
– В работу его возьмите, подлеца!
Били, издевались два дня подряд. Химик не сознавался. Сознаваться ему было не в чем. Кошелька он не трогал.
Помощник взялся сам. Бил он хлеще ребят. Химик не стерпел и взял на себя вину. Помощник тогда спросил: "Куда кошелек дел? Подавай сюда". — Химик опять сказал, что кошелька не видел. Снова били.
Ночью Химик потихоньку выбрался из спальни, хотел убежать, слонялся в темноте по школе, нарывался на стены, но все двери были закрыты.
А когда начало светать, совсем изныл, вспомнил, что опять бить будут, и выбросился в пролет лестницы.
Химику представилась воспитательница Нина Васильевна, молоденькая еще, с певучим грудным голосом. Дорого она свои деньги ценила. Две недели вертелся, в бинтах, в бреду, Химик. В больницу его не отправляли, боялись огласки. Как поправился, сразу отправили к Гужеедову.
Там измучили исследованиями. Каждый день мерили башку. Задавали всякие вопросы, а ответы отмечали секундомером. И так под ряд пять месяцев. Обследователь Химика был человек не плохой, но Химик как-то не утерпел и сломал его секундомер. Тогда отправили на Миллионную. Там, как и на Колокольной, били. Не ребята, уже, а заведующий… Химику припомнился его бывший товарищ Кузнецов. В детдоме "Красный Молот" был спектакль. Кто-то у одной гостьи тиснул ридикюль. Деньги прикарманил, а ридикюль выкинул, Кузнецов увидел и взял его себе. Нашли при обыске. Заведующий, круглый, коротконогий, по прозвищу "Пешка", вечно пьяный, позвал Кузнецова к себе и зверски избил. Весь день Кузнецов плакал, охал. Вечером его начало трясти, — отправили в лазарет. Ночью ему стало хуже. Приехала "скорая", а через два дня из больницы запросили: "Хоронить ли его там, или выдать труп Кузнецова для погребения всей школой".
Химик вспомнил кладбище. На куче вырытой земли стоит Пешка, говорит надгробную речь, рядом хмурые ребята, а в простом сосновом гробу синий, распухший Кузнецов, а над всем этим белые, стройные березки. Химик припомнил, что тогда березы только начинали цвести, — и заскрипел зубами. Говорили потом, что Кузнецов наколол ногу шилом и получил заражение, но Химик не верил этому.
* * *
Хмель проходил, Химик встал и потянулся. Стало совсем темно, в комнате никого не было. Он повернулся к окну; сквозь разбитые стекла дохнул на него ночной ветер, свежий и приятный как молоко. Дождь прошел. Наверху становились звезды, плавал туман. Крыши лоснились как копченые сиги. Хмель, как и дождь, прошел совсем. Химик стоял у окна, а в голове у него текли мысли. Мысли были о том, что в детдом уже не возьмут, к больной безработной матери идти нельзя и ему придется подаваться отсюда неизвестно куда. Это не угнетало, а наоборот — Химик почувствовал себя легко, словно отвалилась какая-то тяжесть.
Когда он на ощупь пробрался к выходу, то столкнулся на лестнице с Женькой.
– Куда?
Химик, ничего не ответив, шел вниз.
– К Викниксору? — крикнул Женька. — Прощенья просить?
Химик не останавливаясь пересек двор и вышел за ворота. Там он опустился на ступеньку подъезда и незаметно для самого себя уснул.
Ночь отступала. Восточный край неба чуть заалел. Но пришли тучи, краски выцвели и рассвет начался сразу со всех сторон. На мостовые слетали кормиться проснувшиеся голуби. Проснулся и Химик от истошного собачьего визга. Рядом стояла фура. Ловец тащил к ней рыжую собаку. Сквозь решетку виднелись умные собачьи морды.
Химик встал, зевнул и поглядел на притихшие окна школы. Сунул озябшую руку в карман и нащупал ненужную теперь баночку с кальцием. Выбросил ее и не спеша пошел в сторону. Шел неторопливо, спокойно, словно не гопничать, а в ближайшую лавочку за хлебом, и долго сутулился еще вдалеке, пока не скрылся за поворотом.
Фургонщик запихал собаку в фуру и поехал, тоже не спеша, в другую сторону.
5
В спальне мочевиков весело… Скудная шестнадцатисвечевая лампочка, едва прорезая сгустившийся от спиртных и махорочных паров воздух, освещает нелепо развалившихся по койкам и на полу ребят. Валяются пустые музейные банки и выброшенные из них за ненадобностью проспиртованные каракатицы, ужи и морские кони.
На ближайшей от дверей койке полулежит Калина и тупо улыбаясь дергает дребезжащие струны балалайки. Напротив Калины сидит, скрестив ноги калачиком, новичок, только вчера попавший в Шкиду, он покачивает своей конусообразной головой, скалит неровные зубы и тянет:
Урка за фрайером идет,
А кореш толкает и поет.
Паптюха брось.
Не дрейфь.
Ныряй смелей.
Даром время не теряй.
Ай-я-я-яй…
Поющий взмахнул рукой, прищелкнул пальцами и вся спальня исступленно грохнула:
Та-ра-ра мамы, цуцы,
Пер-вер-туцы.
Гоцам.
Подам.
Пер-вер-тоцам.
На заблеванном полу, около раздавленной в смятку морской звезды лежит Храпа, в руках у него уж, он вертит его над головой и кричит:
– Это не змея, братцы, угорь это. Его жрать можно. Манька! — надрывно выкрикнул он: — тащи вилку и горчицу.
Что ты, что ты, что ты, что ты
Я солдат девятой роты… -
орет кто-то.
– Манька! — шлепает ужом по полу, не дождавшись вилки, Храпа. — Тащи, стерва, тарелку и соли. Слышишь!
Положив грязные ноги на подушку, безмятежно спит, лицом вниз, Васильев.
– Вставай с постели, пироги поспели! — кричит Храпа и вытягивает Васильева вдоль спины измочалившимся ужом.
Калина, отшвырнув в сторону балалайку, сонно хлопает глазами.
Когда в спальню вошел проходивший мимо Викниксор, ему шибануло в ноздри спиртным перегаром, оглушил визг, ругань.
По середине спальни — бросилось в глаза — стоял и мочился на пол Храпа. Попятившись от Викниксора, он рыгнул и упал в лужу.
Викниксор схватил его за шиворот и потащил к двери.
Тащить было неприятно, тяжело, шкидец брыкался, рыгал, а кроме того Викниксор не знал, куда собственно он тащит Храпу. Еще вчера двери обоих изоляторов какими-то канальями были сорваны с петель.
Когда Викниксор доволок воспитанника до выхода, Храпа рыгнул громче обыкновенного: его стошнило прямо на живот заведующего.
Викниксор выпустил Храпу из рук и, схватившись за голову, выбежал вон.
6
На шкидском дворе стоял Старостин и хмуро смотрел на окна флигеля. Голубятню, которую он придумал, сделать не удалось. Четыре выпущенных голубя не вернулись обратно, двух остальных затрепали крысы. И ребята водят в бывшую голубятню девчонок.
Старостин выругался и пошел на задний двор. Там шкидцы играли в "пожарных".
– С-стой, б-братва, — надрывался брандмейстер Балда — сегодня с-сарай не т-трогать. С-старый доломаем.
От старого оставались только столбы, сиротливо глядевшие в небо. Пожарники накинули на один из них веревку и, когда Балда скомандовал: "полундра", раскачали столб и быстро выдернули его из земли.
Поодаль стоял владелец разрушенного сарая, бывший аптекарь. Несчастья сваливались на его седую голову. Сперва ребята сбили с его сараев замки и продавали приходившим тряпичникам его собственные бутылки из-под лекарств. А теперь ломают его сараи.
Старик уже не протестовал, а лишь горестно разводил руками. Когда он попробовал угрожать, его облаяли, швырнули вдогонку палкой, а ночью выбили в квартире стекла.
Старостин, глядя на еврея, невесело ухмыльнулся и пошел к воротам. В руках его был узелок, в узелке казенные простыни и другие, более мелкие вещи, которые шкидец прихватил с собой на память об этой осточертевшей ему школе.
7
Только по привычке еще Шкиду продолжали именовать детдомом, хотя она стала уже обыкновенной ночлежкой, самым обыкновенным "штабом"… Приходили новые ребята, жили, а потом снова исчезали, не забыв захватить с собой то постельное белье, то лампочки, то дверные ручки, то вьюшки… Вечерами на школу опускалась темнота; по коридорам, по лестницам ощупью пробирались воспитанники, в разбитые окна несло холодом; в печах выло и гудело… На дежурство халдеи вступали с тоской и отвращением и время свое старались отсидеть в учительской…
Викниксор не выходил из квартиры, и только изредка шкидцы видели, как мелькала его согнутая, закутанная в пальто фигура; он куда-то уходил с корзиночкой, потом приходил и опять запирался. Мать его, Совушка, на кухню не показывалась, а обед варила у себя в комнатах на примусе…
И шкидцам уже было все равно, есть ли Викниксор, или нет Викниксора.
Когда в коридорах протягивали веревки и ставили перевернутые стулья, было все равно, кто попадет — свой ли, чужой ли, халдей или шкидец.
Уже плохо стали знать в лицо друг друга. Уже не удивлялись, когда исчезали старые и вместо них появлялись новички. Уже редко кто проводил день в Шкиде; с утра уходили на промысел, на рынок; к обеду возвращались, а если кого и не было — не удивлялись: знали, что парень засыпался…
Из уборных по зданию тянуло вонью. Там срезали трубы и испражнялись прямо на пол. Музей разгромили и продали на бумагу. От библиотеки остались одни шкафы, да и то из них вырвали замки и свинтили петли.
Когда однажды Ленька пришел проведать Шкиду и, стоя на дворе, разговаривал с Сашкецом, наверху в зале со звоном вылетело не тронутое еще бемское стекло, а халдей только погрозил ребятам пальцем и крикнул:
– Тише вы там, гуси лапчатые!…
Но однажды все переменилось. Из своей квартиры бодрой, давно забытой походкой вдруг вышел Викниксор; в руках его были какие-то бумаги и "Летопись", а свеже начищенные сапожки скрипели решительно и неустойчиво… Он приказал закрыть входные двери и собрать в учительскую воспитателей. Известие об этом сразу распространилось по школе и взбудоражило ребят.
В обед в столовую пришли все халдеи и Викниксор. Викниксор сказал речь. Слова были старые, но их давно не слышали, и поэтому они казались грозными и почти новыми.
– Шкида реорганизуется, — говорил заведующий. — Пора избавиться от темного и грязного наследия преступного мира. Пора с корнем выкорчевать всю нечисть, которой зарос детдом… Начинается генеральная чистка. Школа объявляется на особом положении,
Прогулки и отпуска отменяются. За каждое замечание следует понижение разрядом. За самовольство заключение в изолятор. За оскорбление воспитателя перевод в реформаториум. Для поддержания порядка установлена постоянная связь с милицией и объявляются заложниками: Арбузов, Лапин, Грейжа, Синицын, Штерн, Васильев, Сластенков, Рыбин. Заложники, в случае массовых беспорядков, в первую очередь отправляются в милицию.
Шкида мрачно молчала. После обеда всех разогнали по классам. В классах ввинчивали лампочки и вставляли стекла; становилось теплей и уютней. Дежурили все воспитатели, и даже начались уроки. Потом стало известно, что халдеи с милицией устроили во флигеле облаву. Захватили и отправили в отделение Суслика, Капаневича и двух девчат. Женьку посадили в изолятор, его накрыли в острый момент, и теперь шкидец жаловался, что из-за халдеев он только себя повредил…
Вечером в спальне дежурила Эланлюм. Красное лицо ее сияло едва скрытым довольством. Она удивлялась внезапному усмирению воспитанников и теперь старалась еще больше нажимать на них.
Все уже лежали по кроватям. Только в боковой, первой спальне сидел, прислонившись спиной к подушкам, Аксенка. Несколько дней тому назад, отчаявшись в жизни, он решил повеситься. Ребята полузадушенным вынули его из петли; он остался жив, но спать лежа уже не мог: мешала и болела вывихнутая шея. Эланлюм об этом не знала, а поэтому без разговоров просто столкнула в постель шкидца и, выходя, даже не слышала, как тот заплакал от боли. Но лежавший рядом Лапа возмущенно и дико свистнул. От свиста задребезжали стекла и звякнула лампа. Немка метнулась обратно, а во второй и третьей спальне засвистало уже несколько человек…
Заухали кровати, заляскали по железу палки, загудел от стукота пол. Немка бросилась к выходу, в нее пустили поленом.
Она споткнулась, ухватилась за дверь и жалобно вскрикнула:
– Мальчики, мальчики!…
Несколько подушек разом заставили ее замолчать; она вывалилась наружу из спальни, оставив на полу свой золотистый шиньон.
– Бей!… Бей их…
– Крой!…
– Лупи!…
Одеяла и матрацы летят долой; у дверей вырастает баррикада из кроватей. Гремят из угла в угол с силой пущенные плевательницы… Гаснет свет… Слышен шум и вой из нижней спальни. Слышен истошный и долгий крик. Это бьют поленьями, закрутив в одеяла, Киру.
– Бей!… Бей их!…
– Крой!…
– Лупи!…
Дергается заваленная дверь… Полураздетый Викниксор с парой подоспевших халдеев пробуют открыть ее.
– Сифилитик! — визжит кто-то в темноте и бьет по кроватям железной палкой. — Вот я сейчас с корнем выверну всю нечисть, ты у меня не захочешь!…
– Эй, Элла, шмара! — хором под всеобщий хохот надрываются заложники. — Иди сюда! Мы тебя здесь прочистим, на особом положении!
– Понизим разрядом!…
– Ха-ха-ха!…
– Хи-хи-хи!…
– Бей!… Бей их!…
– Крой!…
– Лупи!…
– Сиф-фи-ли-тик!…
Арбуз напяливает немкин шиньон и, размахивая дубиной, носится по спальням. В темноте кривляются, ломаются, свистят белые тени. Вылетают только-что вставленные окна… Гремят выстрелы самодельных
шпалеров; сверкает огонь; дым прямо на полу зажженного костра застилает комнату и клубами уносится прочь, в разбитые окна… От шума и выстрелов глохнет в ушах…
Внизу на улице собирается толпа…
Из остановившегося трамвая выскакивают люди…
Бегут, громко стуча сапогами, дворники…
Вой и свист наверху усиливается. Это взломали наконец двери и ворвались в спальню халдеи. Но трещат и несутся по воздуху поленья; несутся, рассыпая песок, плевательницы; залпами гремят выстрелы; кричит и падает, схватившись за лицо, Селезнев. Сашкец выбегает за дверь; за ним выскакивает Викниксор.
– Скорей! — кричит он: — скорей в учительскую!… Звоните в милицию, иначе все погибло…
Но и внизу крик и грохот встречают их. Коридор завален шкафами, а сверху летят поленья, и гулко падают, кирпичи. И надо бежать еще дальше, вниз, под лестницу.
И Викниксор понимает, что им ничего не остается больше делать, как отсиживаться и ждать подмоги. И еще он понимает, что это наступил конец.
А наверху разбивают изолятор и двери. Потом отблески огня ползут по стенам. Слышится свисток постового милиционера. Ломятся в закрытые на ночь ворота и зовут на помощь…
Арбуз вдруг опомнился:
"Заложник… Милиция… Сейчас возьмут…"
Он стаскивает с головы шиньон и вместе с дубиной кидает его в полыхающий посреди спальни костер…
В окна несет туманом, дождем и ветром. Внизу чернеет холодная земля; задрав голову, стоят привлеченные скандалом люди; кричит дворник; хлопает калитка…
Арбуз перекрестился и начал спускаться по водосточной трубе…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
(ЭПИЛОГИ)
1
От прошлого, от всего пережитого раньше у Химика, ставшего теперь взрослым парнем, осталась привычка заглядывать на рынки. И сегодня, слоняясь по Покровской толкучке, он встретил бывшего товарища по Шкиде — Кузю. Мало изменившийся, грязный, не поднимая глаз от засаленной своей кепки, положенной у босых ног, тот пел:
Привели на переу-лок
И-и ска-зали: бе-е-ги…
Восемь пуль ему вдо-о-гонку,
Семь за-стря-ло в груди.
Кузя нищенствовал. Вокруг него стояло неровное кольцо зевак. Химик нагнул голову и, протолкавшись сквозь толпу, отошел в сторону, к церковной ограде. Там Химик остановился и стал ждать конца кузиного концерта, чтобы после идти за Кузей следом и уже на улице завязать разговор. Но Кузя, кончив одну, затянул другую песню, длинную, тоскливую и начинавшуюся так:
Зачем ты, мать, меня родила,
На жутки муки отдала,
Судьбой несчастной наградила,
Тюрьма свободу отняла?
Химик подумывал уже об уходе, но у Кузи появились конкуренты, двое цыганят — мальчик и девочка. Цыганенок заставлял свою четырехлетнюю партнершу плясать, а сам, подпевая что-то, ударял ее бубном по заду:
– Больше жизни!…
Толпа переметнулась к цыганятам и продолжавший петь Кузя мрачно оглядывал поредевших слушателей.
Когда девочка запела: "Задумал он с сестрою жить, пришлось ребенка задушить", — последние зеваки покинули Кузю и перешли к цыганятам.
Кузя поднял кепку, пересчитал собранные медики спрятал их в карман и, поругиваясь, двинулся прямо к Химику.
– Здорово!
Химик покраснел. Они уселись на фундаменте ограды.
– Вот, как видишь, филоню! — сказал Кузя и криво усмехнулся. — Полгода уже как из тюрьмы освободили, а все не могу устроиться.
От его лохмотьев несло карболовкой и потом. Химик смотрел на опустившегося парня и вспоминал прежнего ровного шкидца Кузю. Потом сказал нарочито бодро:
– Из тюрьмы говоришь? Тут, брат, удивительного ничего нет. И я побывал.
– А ты за что? — неприязненно и подозрительно спросил Кузя и стал закуривать. Химику он папироску не предложил, отогнулся в сторону, чиркал спички, но их гасил ветер.
– Ты сразу две спички вычиркивай. Всегда надо так. Ветер в два балла — чиркай две. Ветер в четыре — вычеркивай четыре, — посоветовал Химик и потом уже ответил: — Я, брат, в тюрьму за воровство попал.
Воровство Химик приплел для того, чтобы расположить к себе бывшего шкидца. Но Кузя разговорчивее не стал и молча попыхивал папироской.
– Кузя, — сказал Химик: — ты Федорку не встречал?
– Нет. Храпу, Калину, Женьку встречал. В ночлежке на Стремянной. А Федорку нет.
Химик сидел и, поглядывая на Кузю, думал о Федорке, выгнанном из Шкиды. Химик встретился с Федоркой и долго гопничал с ним по России. Жизнь тогда не успела еще вытрясти из него последних остатков романтики, и Химик, потеряв Федорку под Рязанью, решил махнуть за границу и поступить в шпионы. Но его изловили на пограничной полосе. За это Химик и познакомился с кингисеппским исправ-домом
и Особым отделом. Порывавшийся уйти, Кузя докурил и спросил:
– Викниксора не видел, не знаешь, что с ним?
– Нет.
Химик соврал опять. Викниксора он видел, слышал, что тот после Шкиды устроился опять завом в другую школу, но и там его сняли с работы. Химик не сказал об этом, зная, что Кузя начнет злорадствовать. А Викниксор в представлении Химика вставал уже не врагом, не мучителем, а просто человеком, натворившим ошибок и не сумевшим вовремя поправить их.
– Вот Сашке, — в голосе Кузи зазвучала зависть и злость, — повезло дьяволу, — сам халдеем стал.
– Не завидуй, вышибли его, — ответил Химик.
Бывшие шкидцы встали.
– Идем в столовку, пошамаем! — предложил Химик.
– Не хочу! — Кузя протянул руку, словно прощаясь, но спросил: — А сам где работаешь?
– Тумбы считаю, — ответил Химик. — Ведь ремесла не знаю, да и рука мешает. Образования нету, ну и торговал папиросами, но бросил, надоело.
– А сейчас?…
– Сейчас? — понизил голос Химик. — Я, брат, сейчас книги пишу, очерки из своей жизни…
– Так, — равнодушно сказал Кузя. — Мне пора в ночлежку.
Химик смотрел вслед уходившему Кузе. Химику захотелось окликнуть его, сказать ему что-то важное, чего Химик и сам не знал. Но он вспомнил, что все будет бесполезно и они не найдут общего языка. Пробормотав: "Здорово шкидцы поустраивались — на руко-протяжных фабриках", — он невесело усмехнулся.
2
По Вознесенскому к улице 3 Июля шел Купец. Одет он был неважно. Детские штаны из чертовой кожи еле вмещали толстые, как чурбашки, ноги, а широкой
груди было тесно в ситцевой рубашонке. Купец шел и улыбался, оглядывая прохожих. Впрочем, лицо его было сумрачно, а глаза хмуры. Жизнь научила Купца улыбаться нутром, незаметно для окружающих. У Садовой он увидел паренька чуть поменьше его самого. Парнишка сидел на ступеньке подъезда и отдыхал. Рядом сияли желтым лаком поставленные к стенке новенькие стульчаки.
– Здорово! — закричал Купец, узнав в пареньке Кубышку.
– Ну, как поживаем? — спросил Кубышка.
– Я поживаю не плохо, — оглушительно гаркал Купец. — Я, можно сказать, свою точку нашел. На завод поступаю.
И рассказал, как, получив бумажку о том, что он выгнан из школы за хулиганство, голодал и бедствовал, не находя себе работы, как пришел к своему дяде.
– Да прихожу это к нему, он шишка, может устроить, — говорил Купец. — Насчет работки. А он спрашивает, что умеешь делать, что знаю. "Знаю, — говорю, — немецкий язык". — "Не то, какое ремесло знаешь?" Потом и говорит: "Чему же, вас там учили?" А я все помалкиваю. Но все-таки устроил в Петропавловскую крепость, пилить дрова. А потом кирпич носить на постройках. А теперь вот надорвался, порок сердца получил, и доктор сказал, что меня на легкую работу переведут, на завод.
– Молодец, — сказал Кубышка, и рассказал в свою очередь о своих бедствиях, пока один старичок не взял его к себе в помощники — делать стульчаки.
– Надо заказ снести, — закончил Кубышка и поднялся. Купец помог ему поднять на плечо стульчаки.
– И я тоже скоро поступлю, — с таинственным видом сказал, прощаясь, Кубышка: — на фабрику. Я ведь через эти стульчаки квалификацию получил. Могу столярить.
На прощанье Кубышка показал Купцу комсомольский билет. Купец шел дальше, чувствуя, что и Кубышка стал на свою точку. От этой мысли сделалось
до того весело, что Купец широко, по-настоящему улыбнулся. Улыбнулся солнцу, пешеходам и той жизни, которая не всегда бывает хорошей и легкой, но всегда помогает человеку найти свое место, по своим силам и способностям.
3
Почти пять лет отделяют нас от конца Шкиды — многое уже забылось, повыветрилось из памяти, стало далеким и смутным, — и хочется сказать еще несколько слов, предупредить от поспешных выводов.
Ошибкой будет считать основой зла Викниксора. Он много отдал сил и здоровья школе, работал не покладая рук и не его вина, разумеется, что Шкида все-таки развалилась. Отдельные личности мало что могут здесь сделать. Они могут быть и бывают хорошими в отдельности людьми, добрыми и отзывчивыми. И неудачи в их работе обычно приписывают времени, стечению обстоятельств, исключительно неблагоприятному положению.
Но когда людей этих тысячи, когда детдома начинают трещать и разваливаться, когда под развалинами их губятся и калечатся человеческие жизни, — это уже не ошибка, не исключение из правил, не стечение обстоятельств, это — система…
И трудно изучить или распознать ее. В каждом детдоме существуют две самых противоположных личины. С одной стороны сладенькая, улыбочная, самодовольно-бренчащая связкой пустопорожних достижений, личина конференций, выставок, учетов, кабинетов разных научных и ненаучных исследований, — личина для гостей посетителей и начальства, а с другой стороны:
"Каждый год бунт.
В декабре 1927 года. В августе 1928 года. В июне 1929 года.
Последний бунт превосходил предыдущие по размаху и по последствиям. Одних стекол было выбито сорок. Наряд из восьми милиционеров оказался недостаточным. Прибыл дополнительный отряд. Прибыла пожарная команда. Два часа продолжались осадные действия и только в конце этих двух часов милиция проникла в помещение… 53-го детдома.
Нужно отметить, что следствие было произведено чрезвычайно добросовестно. За непосредственными виновниками сумели увидеть тех, кто изо дня в день воспитывал в детях злобу и месть.
Обвинительное заключение начинается установлением факта: "В течение нескольких лет в детдоме практиковалось избиение воспитанников". Было даже специальное словцо: "волокать"…
Босых воспитанников "в наказание" посылали по снегу за дровами. Долгое время в доме существовал изолятор с решетками.
Бунты против воспитателей возникали как следствие системы". ("Смена" 8/10- 1929 г. Суд.)
"Бунт, который приключился в детдоме в июле, и был вызван избиением воспитанников. Так и расценило это предварительное следствие, которое, по мнению преподавателей, должно было привлечь к ответственности только детей и которое привлекло к ответственности в первую голову преподавателей.
Подсудимые воспитанники превращаются в обвинителей. Их показания звучат жестче и отчетливее лицемерных показаний воспитателей.
Кто-то в детдоме плюнул.
– Кто? — допытывается воспитатель.
Воспитанник — член санитарной комиссии — не знает, и воспитатель тычет его лицом в плевок.
В этом случае, который обрамлен мелкими эпизодами избиений и затрещин, отражено все то унижение, которым воспитывали чувство мести и хулиганскую безудержность воспитанников". (Смена 5/11- 1929 г. Суд.)
Мы живем в эпоху, когда распадаются старые хозяйственные формы, когда отмирают целые общественные классы, когда на новых основаниях строятся новые общественные отношения людей, "когда семья перестает все больше и больше быть определенной экономической единицей — семейное воспитание меняет свой характер, его положительные стороны слабеют, возможности суживаются, оно все меньше и меньше удовлетворяет и самих родителей и ребят". (Н.К. Крупская).
И сейчас вплотную подойдя к вопросу об обобществлении воспитания, когда нужно сделать резкий выбор в путях работы с трудновоспитуемыми: или признать оправданной систему принудительное воспитание "за решеткой с вооруженной стражей", или идти по линии общественно-трудового воспитания на основе самодеятельности при развернутой самоорганизации" (Доклад Данишевского на III съезде по охране детства), под контролем и при самом близком участии советской общественности, когда и теперь еще у нас висят на буферах, на подножках поездов, околачиваются на вокзалах и рынках, ночуют в мусорных ящиках, асфальтовых котлах, ночлежках, — сотни и тысячи беспризорных, которых поставляет семья (в 1925 г. семья дала 34% правонарушителей, в 1926 — 55,4%, в 1927-66,5%, в 1928 — 80%), сотни и тысячи которых попадают ежегодно в детские дома, и что же получится там с ними, если воспитывать их будут приемами Шкиды.
И не надо уверять себя, что Шкида — печальное исключение. Шкида не была исключением: история ее роста и гибели — это история целой педагогической системы… Детдома в условиях этой же системы обречены пройти и проходят свой скорбный путь.
Система устрашений, система штрафов, наказания, изоляция, система кулака процветает и является основой педагогических воздействий в детдомах, основой современной дефектологии.
Хотя ничего нет обманчивее всей этой системы. Она развращает самих воспитателей уже одной первоначальной легкостью, с которой устрашенные воспитанники начинают подчиняться и трепетать. Но проходит время, трепет исчезает, война воспитанников с воспитателями становится традицией, а наказания необходимостью, которые отбывать даже будет молодечеством, и появляются теории, вроде Иошкиной…
– Тот не шкидец, который трижды не побывал в пятом разряде…
А тот, кто попадал в последний, пятый разряд, мог выбраться из него только через месяц, а месяц он лишался прогулок, отпусков,
обедал стоя,
ходил одетый в рвань
и т. д.
Через месяц, если у шкидца не было ни одного плохого замечания, его переводили в четвертый, тоже штрафный разряд, откуда через неделю он попадал в третий разряд, где ему давались некоторые права: право еженедельного отпуска,
право обедать сидя
и право требовать, чтобы выдали вместо рвани хорошую одежду.
Просидев неделю без плохих замечаний, шкидец переходил во второй разряд, а если у него месяц не было замечаний — переводили в первый разряд и он получал еще право ежедневной прогулки.
Словом, для того, чтобы попасть из пятого разряда в первый требуется три месяца. Но для того, чтобы из первого разряда попасть в пятый не потребуется и трех минут. Стоит лишь попасться под горячую руку халдею.
И ребята привыкают и приспосабливаются и к этой системе. Если им не разрешают гулять — гуляют без разрешения, не разрешают отпуска — идут самовольно, велят обедать стоя — не слушают, дают для носки рвань — добывают хорошее кражей.
Вот когда школа дойдет до такого предела, пятый
разряд уже никого не устрашает: ребят заключают в изолятор (карцер), на день — на два, на неделю, а когда изолятор не помогает, выгоняют из школы совсем, хотя чаще случается, что выгоняют сразу, минуя все инстанции.
Но ребята и здесь привыкли ко всем скорпионам. Они стали двуличными и двужильными: обычное наказание — запись в "летопись" — считали пустяком, перевод в пятый разряд принимали как должное; при остракизме, на записках писали похабщину и даже считали не по-товарищески сидеть в нештрафных разрядах… Бейте лошадь — она привыкнет к ударам, но не бейте ребят, потому что они не только привыкают, но и помнят, кто бил… И когда увидят, что враг ослабел, когда видят, что воспитатели одиноки, разрознены — тогда начинается великое избиение: бьют нещадно и бешено, как только можно бить действительно врагов и притеснителей.
В редком детдоме не происходило подобных баталий. Воспитатели на время бунта или разбегаются или отступают, вызывается милиция, ребят "успокаивают", а потом оправившийся педсовет распределяет кого куда: кого в Лавру, кого в реформаториум, кого в Пересылку.
Но после этих удалений буза уже не прекращается: она затихает только на время, и потом вспыхивает снова и с новой силой. Снова бьют воспитателей, снова гремят стекла и ставятся баррикады, снова вызывают милицию и снова после этого партия ребят отправляется в детские тюрьмы. В промежутках между двумя бунтами ребят тоже отправляют туда: по одному, по два, группами, либо просто вышибают, либо, наконец, они убегают, сами.
И часто идешь по улице, вдруг окрик: "Здравствуй, стой". Встретился человек, с которым где-то, когда-то встречался — не то в карантине, не то в распределителе, не то в детдоме. Потом начинается разговор — вспоминаем, перебираем "своих", с кем раньше жил под одной крышей, вместе учился и работал… Как
несколько дней назад попался навстречу паренек. Вместе случилось быть несколько лет назад в институте одного высоконаучного, высокомудрого профессора. Этот паренек теперь выбился из старого, выбился с большим трудом и сейчас кончает политехникум. Разговорились. Разговор был невеселый, мелькали слова "Кресты", исправдом, принудиловка. Рассказал про товарищей по институту: этот в Нарыме, двое в Соловках, двое в тюрьме, а Володя Черепанов расстрелян…
Так кончали многие. А они были вовсе неплохими людьми, были хорошими товарищами — умными, способными, развитыми, были тем немного подпорченным сырьем, которое надо бы было тщательно обработать, верно отшлифовать, — но в том-то и дело, что инструментом шлифа служила здесь не педагогика, а муштра, — не воспитание, а устрашение, — не наука, а вивисекция. И вот результат…
Некоторые шкидцы выбились в жизнь, стали полезными и выправившимися людьми. Но они встали на ноги только после того, как были изгнаны из Шкиды, когда Шкида отказалась от них и встали на ноги, стали честными людьми самостоятельно, не потому что такими их сделала школа, а потому что они были люди более крепкие, более выносливые, более сильные и приспособленные.
А, между тем, все, кто оставлял Шкиду, кто изгонялся прочь, казалось, всего менее был приспособлен к жизни.
Им-то как раз все равно, какой ширины у них череп,
им-то как раз не пригодились знания древних и новых историй.
Что толку, если они немного подучились, поумнели, а дальше — на пол-дороге, недоучками вышвырнуты из школы.
Они поумнели, поразвились — правда, но эти общие нахватанные знания только повредили им, потому что не сообщили никаких полезных навыков, не укрепили ни воли, ни сознания ребят (а кому было крепить), и по изгнании это только толкнуло искать более легких, прибыльных и нетрудных занятий…
Да, ребята поумнели, поразвились, понахватались знаний, но "умный мошенник во сто раз опаснее глупого", — а встречи со своими бывшими товарищами, которые попрошайничают на улицах и рынках, городушничают, гопничают, живут по ночлежкам, по вокзалам, по лаврам — такие встречи нередки. Выбились в люди единицы, а пропали десятки…
Шкида расчитывалась на отборных учеников, и для этого Викниксор бродил по всем распределителям города и отбирал для себя способных ребят. Но при полном отсутствии производственно-трудовой базы, при резко-противоположных устремлениях воспитателей и учеников ("тутеры и комсомол"), Шкида — эта последняя гимназия с "классическим" образованием, со всевозможными педагогическими ухищрениями — экзекуциями-штрафами, разрядами, изоляторами — неизбежно должна была крахнуть. Распад Юнкома был началом конца…
Когда же один за другими все способные ученики были повышиблены, а на их место пришло обычное ребячье сырье из реформаториев, детских тюрем, распределителей — ясно стало, что работать старыми методами нельзя, нельзя делать из ребят паразитов и приучать их к сознанию этого. Но в том-то и дело, что Шкида, построенная по буржуазным канонам и приемам буржуазной школы, не в силах была переродиться, и надо было строить школу сначала.
После ухода Викниксора в Шкиде была произведена коренная ломка всего уклада. Одна за другой открывались мастерские. Понемногу начали учить ребят ремеслу, плотничать, сапожничать, точить, переплетничать. Знали (а если не знали, то тем еще лучше), что там в жизни — у станка, на заводе, в конторе или за прилавком — там шкидец выправится лучше, втянется в работу: нужно только подготовить его к этому, а для того нужно приучить к труду, заставить полюбить его, чтобы меньше стало пропадать лишних человеческих жизней, меньше уходило из школы на дно, а больше тянуться вперед к работе, чтобы если не
гении выходили, не писатели, режиссеры, учителя, — выходили столяры, плотники, переплетчики — выправившиеся люди.
Но и теперь не надо преуменьшать трудностей, не надо закрывать глаза на недостатки. Их много, очень много в системе воспитания и в новой Шкиде. Здесь много чего еще надо сделать, еще много трудностей надо преодолеть в борьбе за подлинно-трудовое социальное воспитание. Но путь выбран правильный и он приведет к верной цели.
А в детдом старого шкидского типа надо забить крепкий осиновый клин, и чем скорее это сделать тем лучше.
В. Н. Сорока–Росинский Школа Достоевского
1. Первые воспитанники
Сорок лет тому назад, в сентябре 1920 года, в дом №….. по Петергофскому проспекту где прежде помещалось частное коммерческое училище, прибыло семеро мальчиков для продолжения своего образования, и таким образом родилось новое учебное заведение, нареченное Петроградским отделом народного образования очень пышным наименованием — «Школа социально–индивидуального воспитания имени Достоевского для трудновоспитуемых». Тогда в моде были подобные трех- и четырехэтажные выраженьица. И не только в быту, но и в официальном языке: «Вторая улица деревенской бедноты» или «39–я Единая трудовая школа I и II ступени Центрального района гор. Ленинграда».
Прибывшие сюда учиться ребята были не простые тринадцатилетние мальчуганы, а беспризорники. И притом не просто беспризорники, а еще и трудновоспитуемые. Так, по крайней мере, значилось в их сопроводительных документах. Новорожденной школе надлежало обучить, перевоспитать этих ребят и направить их на путь истинный.
Как это сделать — никто только тогда не ведал: ни ученые Петроградского университета и медицинской академии, ни профессора наших педагогических институтов, ни гороно со всеми своими инспекторами и консультантами. Не знал этого и заведующий этой новорожденной школой.
Знали это лишь немногие светила педагогической науки, большею частью лишь недавно появившиеся на нашем небосклоне, но уже успевшие засиять ярким метеоритным светом. Они, эти светила, всё ведали, всё знали, но были далече — на олимпийских вершинах московского и украинского соцвосов. Они не только всё знали и всех поучали — они были там всемогущи. И только потом обнаружилось, что они всё знали, но ничего не умели, ничего не могли создать.
Не следует представлять себе беспризорников лишь по одному какому‑нибудь образцу: ни по произведениям Макаренко, ни на мотив столь популярной тогда жалостливой песенки «Позабыт, позаброшен с молодых юных лет». Не все они были такими бедными, обиженными судьбой сиротками, молящими о сострадании. Разумеется, попадались и такие, и они‑то не без успеха побирались с помощью этой песенки. Но находились и такие, которые вместо «Ах, умру я, умру я, похоронят меня» пели и по–иному: «Ах, умру я, умру я, расстреляют меня». И не без основания распевали они так.
Беспризорники, присланные в школу им. Достоевского, не принадлежали целиком ни к той, ни к другой из этих категорий. Они стояли выше их обеих и стоили гораздо больше, но для своего перевоспитания они потребовали изрядного количества педагогической энергии.
Подрастающий молодняк, наши школьники, непосредственно отражает на себе дух своего времени, настроения своих отцов и матерей, окружающей их среды. Это известно всем. Но далеко не все знают, что наши ребята очень остро и тонко чуют сверх того и дух ближайшего будущего, который ощущается еще вовсе не всеми взрослыми. Ласточки чуют завтрашнюю погоду лучше людей.
Двадцатые годы были для ребят не только временем разрухи, всеобщего обнищания, голода; не только годами величайших лишений и страданий. Нет, наши беспризорники чувствовали и то, что было еще впереди — великолепный подъем дремавших или подавляемых доселе богатырских сил нашего народа, впервые выпрямившегося во весь свой рост и начавшего по–настоящему расправлять свою мощную грудь — размахнись, рука, раззудись, плечо! Поэтому и они, наши беспризорники, далеко не все были склонны чувствовать себя бедными, опекаемыми сиротками или «цветками жизни», как повадились было называть их кое–какие из вышеупомянутых олимпийских светил, составивших к этому времени из последних криков зарубежной педологической моды некую эмульсию для поливания этих «цветочков». Позорно, как это описал Макаренко, развалившийся Куряж был одним из примеров, к чему приводили подобные поливки. Беспризорники очень выразительно показали также и то, что произойдет, если считать их коллективы «группами взаимодействующих индивидов, совокупно реагирующих на те или иные раздражители», как гласила тогдашняя педологическая премудрость. Там, где ребят пытались воспитывать «теми или иными раздражителями», предоставляя им полную возможность «совокупно реагировать» на подобные «раздражители», — там, как показала впоследствии сама жизнь, развал Куряжа, описанный Макаренко, был лишь безобидным эпизодом.
Беспризорники очень выразительно доказывали этим, что они не желают быть лишь пассивными объектами чьих‑то педагогических воздействий, а хотят сами, активно, «своею собственной рукой» найти себе место в жизни. И все это было лишь отражением того, чем дышал тогда весь наш народ. Всюду бродил тогда дух удалого Васьки Буслаева, не верившего ни в сон, ни в чох и желавшего скакать через гробницы прошлого не поперек, но вопреки всем начертаниям на них, непременно вдоль. И этот дух впервые в нашей истории нашел надлежащее приложение своих буйных сил — борьбу за победу революции, за строительство новой жизни, за социализм.
Чуяли по–своему дыхание этой жизни и беспризорники: зимой они скрепя сердце отсиживались от холода и голода по детским домам, но наступала весна, и они, как вольные перелетные птицы, разлетались отсюда куда глаза глядят — к солнцу, к морю, в привольные степи Украины, в живописные горы Кавказа. Убегали не только сироты из детских домов, но и дети, имевшие родителей, свой дом и кров. И их неудержимо тянула к себе беспризорщина, эта своеобразная Запорожская сечь тогдашней ребятни.
Но дорого приходилось им расплачиваться за это: тысячами гибли они от лишений, болезней и голода; гибли под колесами поездов, гибли морально в шайках воров, где ими пользовались как ловкими подсобниками; гибли как жертвы жестокой эксплуатации со стороны и взрослых, и своих же сверстников, более сильных и удачливых. И в этой беспризорной жизни воровство, всякого рода правонарушения и волчья мораль были для них не преступлениями, а единственно полезными приемами приспособления в борьбе за жизнь, за существование.
Те из них, кто уцелел в этом противоестественном отборе, в этой непосильно тяжелой школе жизни и принужден был теперь примириться с детским домом, были уже закаленными не по летам ребятами. Они никого и ничего не боялись — ведь им в сущности и терять‑то было нечего; они умели быстро ориентироваться в любой обстановке, умели находить выход из трудных положений, умели и наносить, когда нужно, меткие удары.
Те ребята, которых направляли в школу им. Достоевского, тоже в большинстве случаев принадлежали к этой же категории. Они тоже были такими прошедшими сквозь огонь и воду, закаленными телом и духом людьми. Но они были в то же время и детьми, глубоко изувеченными подобными, непосильными для их возраста переживаниями. Травмирована была у них и нервная система. Всё в них — и психика, и нервы, и вся жизненная установка — требовало даже не ремонта, а полной перестройки.
А для этого одинаково не годились ни филантропия сиротских приютов, ни решетки колоний для малолетних преступников. Нельзя было искать помощи и у педагогики Запада: там не было ни Октября, ни беспризорщины. Оставалось одно: самим найти надлежащие пути.
2. На заре советской школы
В Петрограде в ту пору было пять школ–интернатов для мальчиков–беспризорников и одна школа, тоже закрытого типа, для беспризорных девочек. З. И. Лилина, возглавлявшая в те годы наш соцвос и бывшая душой, как тогда говорили, всего Ленинградского гороно, не навязывала заведующим никаких педагогических теорий, предоставляла им самим находить надлежащие пути и требовала лишь, чтобы ребят воспитывали в советском духе, чтобы они приучались к труду, не убегали бы из этих детучреждений и могли бы закончить тогдашнюю начальную школу. Таким образом, педагоги котировались тогда у нас не по их благим намерениям, не за их преданность теориям тогдашнего Олимпа, но по результатам их работы — по тому, насколько успешно учились, трудились и выправлялись их питомцы.
А это открывало перед петроградским учительством широчайшие возможности для проявления творческой инициативы. Это вдохновляло на преодоление любых трудностей на новом пути всех педагогов, в ком жива была душа человеческая, кто воспринял Октябрь как свое кровное дело. Никогда еще ни до, ни после этих незабвенных двадцатых годов не работали ленинградские учителя с таким подъемом, так вдохновенно и так плодотворно, невзирая ни на что — ни на голод, ни на разруху, ни на всеобщее обнищание.
Мне посчастливилось работать тогда с 1918 по 1920 г. в Путиловском училище им. Герцена. Им руководил представитель небезызвестной в истории русской школы педагогической династии Гердтов, человек неиссякаемой энергии и инициативы — В. А. Гердт. Прекрасный организатор, он обладал даром находить подходящих для своего дела людей и заражать их своими идеями и порывом. И ему удалось поэтому создать в этом училище, где обучались дети путиловских рабочих, великолепный педагогический коллектив, работавший дружно и сплоченно. Здесь было впервые организовано бесплатное питание ребят, затем то, что теперь называется школой продленного дня, а тогда именовалось ученическим клубом, и, наконец, открыта близ Путиловского завода, около теперешней Сосновой поляны, колония, сначала как летняя дача наподобие теперешних пионерских лагерей, а затем как сельскохозяйственное отделение училища, действовавшее круглый год. Ребята здесь находились на полном самообслуживании, работая на огородах и в парниках, а на лето им в помощь переселялись сюда учащиеся из городского отделения и наезжали помогать по праздникам родители.
Все это появилось тогда, как ранние всходы советской школы, еще на ее заре и лишь через тридцать пять лет, уже в наши дни, начало цвести и давать плоды повсюду. Жаль только, что ни среди педагогов Путиловского училища, ни среди бывших его питомцев не нашлось никого, кто бы сделал этот опыт достоянием или советской педагогики, или советской литературы, каким стал опыт Макаренко благодаря его «Педагогической поэме».
Такая атмосфера дружественного доверия к учителю и предоставление ему широкой инициативы дали хорошие результаты и в работе детучреждений для беспризорников. Каждое из них так или иначе, каждое по–своему, в зависимости от особенностей его питомцев, педагогов и имевшихся в его распоряжении средств справлялось со своей работой. Блестящих достижений здесь не было, но не было и скандальных неудач, не было развала — того, что бывало во многих детских колониях для беспризорников, находившихся в ведении Московского и Харьковского соцвосов. Нельзя не вспомнить добрым словом школу–интернат, тоже носившую тогда пышное четырехэтажное наименование, которой руководил А. П. Савченко. Удивительно скромный, даже застенчивый и красневший, как девица, когда ему приходилось выступать с докладом, он рискнул пойти на совместное воспитание беспризорных мальчиков и девочек, подобранных на улице. А на это никто в Петрограде тогда не дерзал: ведь наши‑то беспризорники были в подавляющем большинстве убежденнейшими горожанами, а это далеко не то, что крестьянская ребятня, лишь на время оторванная от родной матушки–земли. Таких стоило только почистить, помыть в детском доме, а затем, дав хотя бы лопату в руки, пустить на огород или на поле, как они вновь с жадностью припадали к этой кормилице–земле и могли героически работать на ней, как это и показал опыт Макаренко. Но с горожанами, как свидетельствует этот же опыт, дело обстояло потруднее, посложнее.
А. П. Савченко не только справился со взятым на себя смелым предприятием, но мог показать и другим педагогам, по какому пути, какими приемами тут следует действовать. В наши дни, когда началось строительство школ–интернатов, стало осуществляться и то, что тогда, на заре советской школы, радовало нас в его школе. А это означает: правильный путь был избран этим скромным тружеником, хорошие семена брошены были им в почву педагогики. И как не подосадовать, что такой интересный опыт не попал на страницы печати, не стал достоянием школы, а так и остался неиспользованным ни тогда, ни в последующие десятилетия.
Среди учащихся петроградских школ и воспитанников детских домов оказывались иногда и такие буйные натуры, с которыми никто и нигде не мог справиться и которые, по заявлениям заведующих и педагогов, срывали им всю работу, разваливали самые крепкие, заботливо выращенные коллективы школьников и разлагающе действовали на своих товарищей. Подобные озорники не всегда бывали Васьками Буслаевыми по духу, которым в рамках тогдашних детучреждений негде было применить избыток своих сил. Чаще всего это были исковерканные беспризорностью ребята, вступившие в критический подросточный возраст. Много здесь было и истериков, которых надо было и лечить, и учить одновременно. Как бы там ни было, но нельзя было не внять голосу педагогов, добросовестно работавших на своем трудном посту и имевших мужество чистосердечно сознаться, что такие ребята им не по зубам. Они требовали, чтобы таких учащихся куда‑нибудь убрали.
Вот для таких‑то мальчуганов и предназначалась школа им. Достоевского. Недаром в ее пышном наименовании значилось «для трудновоспитуемых». Недаром сюда в помощь заведующему был назначен врачом не педиатр, а психиатр. Недаром получила она и свое наименование — школа им. Достоевского.
3. «Республика Шкид» и школа имени Достоевского
Школа имени Достоевского приобрела впоследствии большую известность по книге, написанной ее бывшими воспитанниками Г. Белых и Л. Пантелеевым, — «Республика Шкид». Эта книга имела необычайный успех как у юных, так и у взрослых читателей. В сравнительно недолгий срок она выдержала десять изданий на одном только русском языке, вызвала бурную реакцию критики и несметное количество откликов, большей частью восторженных. Горький писал по этому поводу: «В этой книге авторы отлично, а порою и блестяще рассказывают о том, что было пережито ими лично и товарищами за время пребывания в школе. Они сумели нарисовать изумительно живо ряд характеров и почти монументальную фигуру Викниксора, заведующего школой». Известно также, какой успех имела «Республика Шкид» за рубежом. В чрезвычайно короткий срок она была издана во всем мире. По количеству переводов произведений советской литературы на иностранные языки эта книга шла на четвертом месте.
Интересен такой факт: прибывшие недавно из Германии туристы непременно пожелали посмотреть на дом, где помещалась школа имени Достоевского. И они побывали для этого на проспекте Гааза, где на углу Курляндской улицы находится это здание. Теперь в нем небольшая фабрика верхней одежды.
Но «Республика Шкид» — это литературное произведение, где в художественной форме бывшие ученики школы рассказывают о своем обучении в ней, о своих шалостях и проказах и о своих впечатлениях от всего ими здесь пережитого. Художественное произведение не фотография действительности, автор его может по–своему распоряжаться фактами: одни может выдвигать на первое место, другие затушевывать, об ином умолчать. Он волен и осветить, и оценить их по–своему. Он может кое‑что и прибавить, присочинить — то, чего не было, но что все‑таки могло быть.
Совсем иное — школа имени Достоевского. Это не художественный вымысел, а реальные люди, жившие и действовавшие в ней в 1920—1925 гг. Это педагогическая система, выражавшаяся в ряде действий учителей и воспитателей этой школы, в ряде их педагогических приемов. Это ребята, учившиеся в ней, подвергавшиеся процессу своего перевоспитания и как‑то реагировавшие на эти воздействия на себя со стороны педагогов.
Для оценки художественного произведения существуют свои специфические, всем известные критериумы и приемы. Но, как это нередко бывает, и в этом случае, даже при этом условии, по поводу одного и того же литературного произведения могут оказаться совершенно разные, иногда диаметрально противоположные оценки.
Но для критики и оценки педагогической, равно как и всякой другой работы, нужны прежде всего точно вычерченные факты. Надо знать, чего хотели педагоги школы имени Достоевского добиться в своей работе, какие цели они преследовали, были ли у них вообще какие‑нибудь теоретические предпосылки, какие‑нибудь педагогические принципы, из которых вытекали и план их воздействия на воспитуемых, и различные педагогические мероприятия, или они действовали вслепую, двигались наугад, шарахаясь то в одну, то в другую сторону. Надо знать, опять‑таки на основании точных фактов, как проводились эти мероприятия, какие результаты они давали, где были удачи, а где промахи, срывы. Надо знать, наконец, чем объясняются и те и другие. А самое главное — каковы конечные результаты этой сложнейшей и труднейшей работы, какая проводилась в течение пяти лет педагогами этой школы. Если цель была поставлена правильная и если ее удалось осуществить — это успех.
Отзывы о «Республике Шкид» как о литературном произведении в большинстве своем граничили с восхищением. Но совсем иначе обстояло дело с отзывами о школе имени Достоевского, о системе педагогических принципов и приемов, а также о ее работниках.
Были отзывы, где ее педагоги возносились чуть ли не в сан героев. В одном из номеров тогдашнего журнала «Красная новь» рецензировались две вещи: «Республика Шкид» и рассказ о том, как в одном городе, недалеко от Москвы, где было сконцентрировано много детских учреждений для беспризорников, вспыхнуло целое восстание. Ребята принялись громить эти учреждения, ломать вещи, а затем подожгли дома. Прибывшим пожарным и милиционерам пришлось снимать с крыш закопченных, грязных беспризорников, которые, по словам автора этого жуткого рассказа, сидели там, как безобразные химеры собора Парижской богоматери. Этот позорный финал целой педагогической системы автор рецензии сопоставляет с пожаром в школе имени Достоевского, когда одна из воспитательниц кинулась в объятую дымом спальню и вывела оттуда ребят, а затем с финалом «Республики Шкид», где описывается, как несколько лет спустя вышедшие из нее в жизнь и нашедшие здесь себе место бывшие воспитанники, собравшись вместе, радостно вспоминают минувшие дни и весело поют гимн школы. Вывод автора рецензии и его оценка обеих систем воспитания предельно ясны.
Но были и иные отзывы, иные оценки — отрицательные, и не просто отрицательные, но эмоционально, страстно отрицательные оценки. Самая эта страстность говорит о том, что тут имела место не только критика одной из многих школ, которая в порядке инспекции и контроля происходит обычно по всей нашей стране, но нечто более серьезное.
«Республика Шкид» хотя и называется советской школой, но по существу дела это типичная бурса, и совершенно облыжно она названа республикой — так отзывались о школе. «В ней царят изолятор, наказания во всех видах, окрики, угрозы. Плотно запертые двери и ворота на заборе колючая проволока — не школа, а какая‑то тюрьма. Бились мы, бились в Наркомпросе, чтобы выработать правильный подход к воспитанию ребят в детдомах, твердо установили на ряде конференций:{в детдомах должен в центре всего стоять труд, тесно связанный с учебой, не тяжелый физический труд, не труд как наказание, а труд, увлекающий ребят, организующий их. Постановили, проголосовали. А на деле не в Чухломе какой‑нибудь, а в Ленинграде процветает советская бурса. В системе этой школы очень уж много до отвращения знакомых непривлекательных черт с ее разрядами, напоминающими синие и желтые билетики воскресной школы, в которой учился Том Сойер, с ее «летописью», представляющей собою одну из разновидностей «Кондуита», с изолятором и иными наказаниями во всех видах и степенях», — вот небольшая сводка наиболее отрицательных отзывов.
Что же касается педагогов этой школы, то их‑то оказывается, по некоторым отзывам, и не было, во всяком случае почти не было. «Были «халдеи», особая порода учителей. Их перебывало в школе свыше шестидесяти человек. Тут были и церковные певчие, и гувернантки, и зубные врачи, и бывшие офицеры, и бывшие учителя гимназий, и министерские чиновники. Не было среди них только педагогов. Целая галерея монстров проходит перед нашими глазами». Так оценивался педагогический коллектив этой школы.
А что собою представляет ее глава Викниксор, этот не то президент, не то самовластный диктатор этой республики? В лучшем случае оказывается, что «его воля, педагогический такт и личное обаяние сыграли свою положительную роль, и хотя он и навязывал шкидцам организационные формы их жизни, но все‑таки прекрасно понимал, что школа должна идти в ногу с жизнью и сознательно не мешал проникновению в школу той большой жизни, которая шла за ее стенами». Хорошо, что хоть сознательно не мешал, прибавим мы к этой характеристике.
А изо всего этого логически неизбежный вывод: «собственно говоря, эта книга — «Республика Шкид» — есть добросовестно нарисованная картина педагогической неудачи». А если ее авторы и бывшие воспитанники с этим несогласны и утверждают, что Шкида хоть кого изменит, то это произошло «только потому, что они не сумели разглядеть омерзительные черты бурсы в системе воспитания, принятой на вооружение президентом шкидской республики Викниксором».
Словом, личность Викниксора еще и ничего, а вот его педагогическая система никуда не годится.
Забегая несколько вперед, я скажу, что, по–моему, наоборот — система Викниксора оказалась вполне жизненной, а вот его личность в значительной степени портила в те годы результативность этой системы.
4. «Педагогическая поэма», или педагогическая трагедия
«Педагогическая поэма» — так назвал Макаренко свое произведение, получившее впоследствии мировую известность. Но если мы внимательно вчитаемся в ее конец, то почувствуем, что она могла бы носить и совсем иное название.
Вот Макаренко добился наконец успеха: он заведует не только колонией им. Горького, но ему поручено весьма авторитетным в те времена учреждением заведование и колонией им. Дзержинского, где впервые в истории педагогики соединяются и завод, и школа. О его смелых опытах знает не только Харьков, тогдашняя столица Украины, — к нему собирается приехать сам Горький, давно уже его высоко ценящий. Все трудности, казалось, уже позади. Остается только сделать доклад перед наркомпросом Украины о принципах, положенных в основу этого педагогического опыта.
«Как раз в это время, — пишет Макаренко, — меня потребовали к отчету. Я должен был сказать ученым мужам и мудрецам педагогики, в чем состоит моя педагогическая вера и какие принципы исповедаю… В просторном высоком зале я увидел, наконец, в лицо весь сонм пророков и апостолов. Это был синедрион — не меньше. Высказывались здесь вежливо, округленными, любезными периодами, от которых шел еле уловимый приятный запах мозговых извилин, старых книг и просиженных кресел. Но пророки и апостолы не имели ни белых бород, ни маститых имен, ни великих открытий. С какой стати они носят нимбы и почему у них в руках священное писание? Это были довольно юркие люди, и на их усах еще висели крошки только что съеденного советского пирога».
Доклад выслушан. И очень неблагосклонно. Затем следовали выступления сплошь столь же осудительные. А вот и заключение главного олимпийца.
«Товарищ Макаренко хочет педагогический процесс построить на идее долга… Это идея буржуазных отношений, идея сугубо меркантильного порядка. Советская педагогика стремится воспитать в личности свободное проявление творческих сил и наклонностей, инициативу, но ни в коем случае не буржуазную категорию долга. С глубокой печалью и изумлением мы услышали сегодня призыв к воспитанию чувства чести… так ярко напомнивший нам офицерские привилегии, мундир, погоны. Мы не можем в качестве факторов педагогического влияния рассматривать производство и тем более одобрить такие тезисы автора, как «промфинплан есть лучший воспитатель». Такие положения есть не что иное, как вульгаризация трудового воспитания».
Говорили и другие члены этого синедриона, и всё в таком же духе.
После краткого, но очень эмоционального выступления Макаренко «апостолы похлопали глазами, потом бросились друг к другу, зашептались, зашелестели бумагой и вынесли единодушное постановление: предложенная система воспитательного процесса есть система не советская.
На собрании было много моих друзей, но они молчали».
Макаренко был снят с должности заведующего колонией им. Горького. Ему только разрешили принять в ней Алексея Максимовича, который собирался на днях туда приехать. Колония им. Дзержинского, руководителем которой остался Макаренко, не подвластна была ни наркомпросу Украины, ни его «олимпийцам». В остальном они были тогда в силе — недаром на этом собрании «было много моих друзей, но они молчали». Даже чекисты, высоко ценившие практику Макаренко.
Вокзал. Только что уехал Горький.
«Мимо меня, — пишет Макаренко, — побежали в вагоны колонисты, пронесли трубы. Вот и наше старое шелковое знамя, вышитое шелком. Через минуту во всех окнах поезда показались бутоньерки из пацанов и девчат. Они щурили на меня глаза и кричали.
— Антон Семенович, идите в наш вагон!
— А завтра к нам?
Я в то время был сильным человеком, и я улыбался пацанам. В
Куряже я больше не был».
Если бы у Макаренко не оказалось случайно еще и литературного таланта, то всю его педагогическую деятельность можно было назвать не поэмой, а иначе: педагогической трагедией.
«Олимпийцы», державшие в своих руках скрижали тогдашней педагогики, водились не только в Харькове. Они прочно восседали и на соцвосовских вершинах Москвы, уютно гнездились они и в щелях тамошнего наркомпроса. И тоже были силой. В Ленинграде же они успехом не пользовались и до поры до времени примирялись, по–видимому, с этим, пока в 1925 г. им и здесь не удалось повернуть дело по–своему. А после этого в самый апогей своего могущества, но уже незадолго до своего падения они направили к нам одного из самых крикливых и ужасно революционных пророков, чтобы просветить ленинградских педагогов последним криком новейшей педагогической моды. И он прочел нам доклад, в котором совершенно неопровержимо доказывалось, что если государство отомрет лишь при коммунизме, то школа уже теперь начинает отмирать и скоро станет совершенно не нужной: ее заменит завод; и мы тоже уже не столько педагоги, сколько добрые дяди в колпаках, тоже становящиеся ненужными, и уже отмираем.
Доклад был выслушан. Никто не возражал, никто не выступал, все молчали. Одни из‑за глубоко вкоренившейся еще со времен гоголевского Луки Лукича привычки во всем потрафлять начальству. Такие уже теперь искренне чувствовали себя отмирающими. Другие потому, что отлично чувствовали всю бесполезность каких‑либо выступлений.
История сама вскоре ответила на этот доклад и на всё, что творилось тогда в нашей школе: 5 сентября 1931 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) «О начальной и средней школе» и произошла «гибель богов».
Но этот любопытнейший период в истории русской педагогики, о котором теперь можно сказать: «Свежо предание, но верится с трудом», не был лишен какой‑то исторической закономерности. Ведь все эти гусовские программы с тремя знаменитыми колонками: «природа» — «труд» — «общественная жизнь», с «комплексом», «Дальтон–планами», все эти левацкие отмирающие школы и педагоги и прочие заскоки — всё это имело соответствующие аналогии и в других отраслях жизни. Почти всюду пришлось нам переболеть чем‑то вроде детской болезни левизны. При строительстве колхозов — разного рода коммуны с общностью всего и тотальной уравниловкой. В годы полной разрухи промышленности шестидневная и даже пятидневная неделя, а в летние месяцы рабочий день на заводах и фабриках на 3 часа раньше обычного. В области литературы — Пролеткульт, в архитектуре — остекленные со всех сторон коробки вместо домов, где зимой было по пословице: «На дворе стужа, и у нас не хуже». Под конец, уже гораздо позднее, пронеслось это поветрие и над филологией — прошумел трескучим фейерверком Марр со своими апостолами.
Но надо при этом учитывать, что зачинателями подобных левых загибов были глубоко убежденные люди, горячо исповедовавшие свои взгляды и самоотверженно за них боровшиеся. Но им слишком уж хотелось поскорее осуществить коммунизм, все они вполне искренне считали себя самыми настоящими марксистами, правовернейшими учениками Маркса, а поэтому с чисто мусульманской нетерпимостью поносили всех инакомыслящих. Но к этому ядру вполне убежденных в своей правоте искателей истины частенько присасывалась еще и плотная оболочка ловкачей. Такие тоже были, пожалуй, закономерны по–своему — от великого до пошлого тоже ведь только один шаг — и они оказывались полезными, когда, ухватившись за какую‑нибудь модную и прибыльную истину, так испошляли и вульгаризировали ее, что таким методом доведения до абсурда доказывали всю неправильность подобной теории или обнаруживали слабые ее стороны.
Диалектика и мысли, и жизни вовсе не автострада, прямая и ровная, как стрела.
5. Суворовская педагогика
Какие же все‑таки педагогические принципы легли в основу школы им. Достоевского? Почему ее практика встретила столь разноречивые отзывы и столь суровую иногда критику, несмотря на достигнутые ею результаты?
«Республика Шкид» появилась в очень критический момент, когда много учреждений соцвоса, построенных по принципам тогдашней педагогики, скандально развалилось и уже начались разговоры о передаче учреждений для правонарушителей в более крепкие и деловитые руки. Стал тогда очень подозрительно поскрипывать и гусовский «комплекс». Поэтому было бы полнейшей наивностью ожидать от представителей наркомпроса и от его тогдашних «властителей дум» сколько‑нибудь объективного и беспристрастного анализа и оценки принципов и работы школы им. Достоевского, шедшей своим путем. Разумеется, не так легко было прощупать эти принципы и приемы сквозь одеяния художественного вымысла, в которые они были окутаны авторами «Республики Шкид». Ведь любой, самый опытный врач вряд ли смог бы сказать, как и правильно ли лечили когда‑то больного, который помнит только, что он чем‑то очень сильно болел, что его очень долго и по–всячески лечили и что он в конце концов выздоровел. Единственно, что мог бы сказать в таком случае врач: раз больной выздоровел, его, вернее всего, лечили правильно.
«Однако факт есть факт», — недоуменно констатирует один из, таких критиков. «В эпилоге книги мы встречаемся с бывшими шкидцами, ставшими красными командирами, агрономами, журналистами, режиссерами. Они вспоминают прошлое, дивятся происшедшим с ними переменам и благодарно говорят: «Шкида хоть кого исправит!».
А ведь этот эпилог не досужий вымысел авторов книги. Это факт, с которым нельзя не считаться: и в самом деле, ее выпускникам удалось попасть в техникумы и на разные курсы не благодаря бумажкам — никаких дипломов школа им. Достоевского не могла выдавать, так как ее программы нигде не были толком известны или хотя бы утверждены. Эти выпускники попали туда и могли удержаться там потому, что их снабдили в школе знаниями не меньшими, чем давали 7—8 классов тогдашней школы. Факт и то, что выпускники Шкиды иначе расценили ее работу, чем иные критики. Может быть, и в данном случае не так уж парадоксально изречение: «Устами младенцев глаголет истина».
Нелегко разобраться в подлинном характере педагогических приемов школы им. Достоевского еще и из‑за некоторых особенностей письма, присущих каждому из обоих авторов «Республики Шкид».
Г. Белых еще в бытность свою в школе обладал столь редким среди наших современных писателей чувством юмора. Его юмористические статейки, появлявшиеся во многочисленных рукописных журналах школы, заставляли от души смеяться даже тех, кто сам бывал их жертвой, даже педагогов. Да, даже педагогов и даже самовластного, по мнению некоторых критиков, Викниксора, нередко бывавших объектами этих статеек.
Ученическая пресса пользовалась у нас полной свободой, лишь бы не было лжи. Все эти многочисленные газеты и журналы читались не только ребятами, но и педагогами, и всеми, кто заходил в школу познакомиться с ее бытом. А затем в 1925 г. весь этот многочисленный материал, бережно хранимый шкидцами, демонстрировался и на выставке по народному образованию, устроенной в гороно Ленинграда. Чем же объясняется столь необычайный либерализм педагогов? Между прочим, и таким простым соображением: если запрещать юмористические и критические статьи о педагогах и о школьных порядках, то эти статьи все равно будут выходить, но уже в порядке подполья. Был Г. Белых и очень талантливым рисовальщиком–карикатуристом и сам иногда иллюстрировал свои статейки. Иногда его юмор переходил в язвительную иронию, а карикатура — в шарж. Ради красного словца Белых не пощадил бы и родного отца, но при всем этом он обладал чувством меры. Он никогда не грешил против истины, мог шаржировать, но не выдумывал небылиц. Он был настоящим реалистом. Ему принадлежит и курьезная сцена коллективного сотворения гимна республики Шкид, описанная им с почти фотографической точностью. Да, всё это было на самом деле, и «могучий бас Викниксора» действительно сливался с жидкими дискантами двух соавторов. Это было разумеется, очень комично, но, право, это было и очень искренне авторы этого гимна, певшегося на мотив студенческой песни «Гаудеамус», в равной степени чувствовали тогда радость творчества, несмотря на всю убогость стихов, а его бодрая музыка вполне соответствовала их тогдашнему ощущению жизни.
Но все‑таки в свете такого, иногда переходящего в зубоскальство юмора в «Республике Шкид» на первый план выплывало далеко не то что было причиной ее достижений.
Совсем иначе обстоит дело с Л. Пантелеевым. Он не был одним из первых ее воспитанников, пролагавших вместе с ее педагогами первые, наиболее трудные пути. Он прибыл значительно позднее. По характеру своего литературного стиля он — полнейшая противоположность Белых: ни малейшего юмора и полное отсутствие чувства меры. Я помню, много лет спустя с восхищением прочел в каком‑то журнале его небольшой рассказ о мальчике–перевозчике, который спокойно греб в лодке под градом сыпавшихся вокруг в реку осколков во время налета вражеской авиации, не понимая, по–видимому, всей грозившей ему опасности; но, как потом выяснилось, недавно убило таким осколком отца этого мальчика, и теперь он занял его место, чтобы прокормить семью. Рассказ мне этот так понравился своей краткостью и выразительностью, что я сейчас же переделал его в изложение для среднеклассников и с успехом пользовался им в дальнейшем: мои учащиеся очень охотно и с большим интересом, а поэтому и с минимальным количеством ошибок пересказывали его в своих письменных работах. Каков же был мой ужас, когда я нашел этот же рассказ в сборнике других рассказов, но уже в ином совершенно изуродованном виде: ничего уже не осталось от прежней его лаконичности, появились новые, совсем ни к чему не нужные дополнения, в том числе и маленькая сестренка этого мальчика: она тоже оказалась перевозчицей и гребет вместо брата. Но, разумеется, это уже не только отсутствие у автора чувства меры, но и полнейшее неуважение к истине: ведь не могла же в самом деле малолетняя девчурка грести в «большой широкобокой лодке», набитой до отказа и сидевшей, по описанию самого автора, очень низко: это же совершенно невероятно — эту лодку просто понесло бы по течению. С таким же не то что отсутствием чувства меры, а с полнейшим пренебрежением к достоверности написана и серия рассказов «Последние халдеи»: тут уже сплошь всё выдумано, всё из пальца высосано. Никаких таких «халдеев» не было, да и быть не могло, никаких таких невероятных происшествий с ними не случалось. Да, бывали нередко случаи, когда в школу попадали неподходящие люди, но их быстро раскусывали и ученический, очень сознательный актив, и педагоги. Таким приходилось немедля покидать школу: ведь сам же автор повести «Ленька Пантелеев» пишет, что его герой в этой школе исправился потому, что «попал в хорошие руки, к настоящим советским людям, которые настойчиво и упорно изо дня в день лечили его от дурных привычек». А если это так, то могли ли эти люди допустить, чтобы в их среде хотя бы ненадолго оперировали подобные «халдеи» и совершались такие безобразия? Упустил автор из виду и то, что в «Республике Шкид» очень тепло описан и с десяток основных работников этой школы, педагогов совсем иной породы. Где же тут могли поместиться еще и «шестьдесят» таких «халдеев», если штаты этой школы, рассчитанной на 80 максимум воспитанников, вмещали немногим больше десятка преподавателей и воспитателей, вместе взятых?
Нет, мотивы «Последних халдеев» взяты из каких‑то иных опер или просто из звучания эфира. А к чему приводят даже небольшие уклонения от действительных фактов, от истины, можно наглядно убедиться, читая конец вышеуказанной автобиографической повести: Викниксор, заглянув в бумаги Пантелеева, впервые явившегося в школу, сказал:
«А–а, Пантелеев. Леня? Как же… слыхал про тебя. Ты, говорят, сочинитель, стихи пишешь?» — «Писал когда‑то», — пробормотал Ленька. — «Когда‑то? В ранней молодости? — улыбнулся заведующий. — Ну что же, товарищ Пантелеев. Здравствуйте! Милости просим!» Он снял варежку и протянул Леньке большую, крепкую, мужскую руку».
Так я не мог говорить: уменьшительными именами я тогда никогда не называл своих учеников, разве только в задушевных разговорах, наедине. Сообщать же ребятам о прошлом вновь прибывших тоже у нас было не принято: даже хорошая характеристика иногда оказывалась неверной. Ребята должны были сами раскусить новичка, а затем дать, где надо, его характеристику. Никуда уже не годится и это рукопожатие: как раз в те годы велась целая кампания против рукопожатий. Они были отменены и официально, и в частной жизни .
Но ведь все это, скажут, мелочи: художник имеет право по–своему истолковывать жизнь. Да, для литературного произведения это, может быть, и мелочь, но попробуйте сделать отсюда педагогические выводы. Что получится? Какая‑то фальшивая ласковость, какие‑то забегание перед ребятами, панибратство, точно мы лебезили перед ними, заискивали. Нет, в этом‑то грешны мы никогда не были.
Но какие же все‑таки принципы были положены в основу педагогической работы в школе им. Достоевского?
Я, разумеется, мог бы ответить на этот вопрос, пользуясь терминологией педагогики. Но это было бы некоторой модернизацией моих тогдашних убеждений, а они были взяты мною не из трактатов по педагогике и сложились они у меня еще задолго до той поры, когда я стал заведующим этой школой. Больше того, эти педагогические принципы в основном были осознаны мною тогда, когда я еще не был учителем и не прочитал ни одного сочинения по педагогике. Эти принципы были не вычитаны мною и не выписаны и тем не менее отражали все мое жизнеощущение и превратились в органическую часть всей моей личности. Но личность педагога тоже один из важнейших факторов его воздействия на воспитуемых, а поэтому тут никак нельзя обойтись без некоторых автобиографических подробностей.
Я — единственный сын офицера. У меня не было ни братьев, ни сестер, и я изнывал от своего одиночества. Мои родители, видя, как я льнул к нашим денщикам, разрешили мне водиться с солдатами. И получилось так, что моими няньками, дядьками, братьями и друзьями стали солдаты. Они рассказывали мне сказки, когда я, бывало, забирался к ним в палатку, — мастерски рассказывали, иногда инсценируя некоторые сказки в лицах и сами увлекаясь этим; они и охотно играли со мною: ведь в конце концов эти парнишки сами еще наполовину оставались детьми, а я, вероятно, напоминал им оставленных в деревне братишек. Они пели — и не только солдатские песни. И я восхищался всем этим. Я видел также и то, как их обучали. И я тогда впервые научился ненавидеть. Я вместе с ними ходил на маневры, держась за руку одного моего приятеля — унтера. Я стал зачитываться книжками про Петра Великого и его потешных, про Суворова, про подвиги наших моряков и солдат под Севастополем. И так было вплоть до поступления моего в гимназию. Тут, найдя товарищей–сверстников, я сначала сражался в переменах как рядовой одного из войск, а затем летом, уже сам став командиром своей собственной армии, мог понять и всю сладость победы, и всю горечь поражений, которые испытывали знаменитые полководцы всех времен. Суворов стал теперь моим любимым героем, и, разумеется, сам я тоже собирался стать военным и во всем подражал ему, сурово закаляя себя гимнастикой, водой и, к великому огорчению родителей, и осенней непогодью, и зимней стужей. И если я, уступая их мольбам, и поступил в университет, то только для того, чтобы после него пойти в военное училище. Но военным я так и не стал по вполне понятной причине: я кончил университет в 1906 г. Единственной профессией, к которой я считал теперь себя пригодным, была педагогическая работа: ведь в военную службу меня тянула не ее романтика, не ее мишура, а то, что там были мои друзья–солдаты. Там можно было работать над формированием души человеческой. Суворовская «наука побеждать», знаменитые правила: «глазомер, быстрота и натиск», «тяжело в учении — легко в походе» и, наконец, уважение Суворова к личности солдата — все это теперь, когда я стал учителем и принялся штудировать сочинения по педагогике и методике, преломилось у меня в то, что можно назвать суворовской педагогикой. Но о ней подробнее в следующих главах;
6. Первые шаги. Как зародилась «летопись»
Итак, первые семь воспитанников явились в нашу школу. Нам, ее учителям и воспитателям, надо было применить на деле первое правило суворовской педагогики — глазомер. Применить пока не к воспитанию этих трудных беспризорников, а к самим себе.
На военном языке глазомер — это умение на глаз определять расстояние до противника для того, чтобы установить надлежащий прицел при стрельбе по нему.
На языке педагогики это обозначало нечто более сложное: умение быстро ориентироваться в особенностях материала, подлежащего обработке, т. е. в наших будущих питомцах, ныне предстоявших перед нами как некоторое сырье, изрядно притом попорченное во время предшествовавшего периода своего бытия. Надо было тщательно разобраться и в нашем собственном педагогическом вооружении, в наших средствах и возможностях для проведения таковой обработки. Надо было, наконец, определить, насколько пригодна для этого и окружающая нас обстановка, т. е. здание школы, ее оборудование, пришкольный участок и т. д.
И при всем этом надлежало помнить, что ни на какие педагогические рецепты здесь рассчитывать нельзя, ни на какие эмульсии для поливания явившихся к нам «цветочков» полагаться не приходится. Надо было, преломив через исповедуемые нами принципы суворовской педагогики всё, что даст нам глазомер, построить план ближайших действий.
Явившиеся к нам ребята были для нас пока иксами, величинами еще не известными: на характеристики особенно рассчитывать было нельзя, ибо частенько составлялись они либо в нарочито мрачных красках — когда надо было подействовать на воображение соцвоса, либо в очень смягченных тонах — если надо было умилостивить или соблазнить заведующего школой. До педологических «тестов» мы тогда еще не дожили. Но с подобными ребятами мне уже приходилось встречаться, когда я работал в Путиловском училище. Мне тогда предложили заняться в порядке совместительства общежитием, где помещалось десятка два великовозрастных беспризорников: с ними надо было что‑то сделать, как так в наши учреждения они не подходили по своему возрасту, в школах обычного типа они не могли учиться из‑за своей малограмотности; мне надлежало разобраться в них и чем‑нибудь занять, пока завод не пристроит их на какую‑нибудь работу. К весне эта задача была выполнена. Но тогда мне пришлось столкнуться с еще новой породой ребят: не с бездомными беспризорниками, но с безнадзорными подростками, сыновьями путиловских рабочих, за два бурных революционных года отбившимися от школ и удручавшими родителей своим бездельем. Для них весною 1920 г. решено было сформировать особые курсы, на которых за лето надо было так их отремонтировать, чтобы осенью можно было распределить их по соседним школам. Мне предстояло ремонтировать их по курсу истории.
Прелюбопытные это были курсы, и о них стоит упомянуть хотя бы в порядке мемуаров. Представьте себе обширное классное помещение безо всякой мебели или, когда потеплело, площадку около школы. Здесь нечто вроде новгородского веча — круг из разношерстной ребятни, напоминающей по живописности своих костюмов и по жизнерадостности репинских запорожцев, собирающихся сочинять письмо турецкому султану. В центре круга — преподаватель. «Запорожцы» лежат и сидят, учитель стоя ведет свою беседу. Нам, учителям, не приходилось жаловаться на невнимательность или пассивность наших слушателей. Если они и не всегда достаточно глубоко внимали преподаваемому им учению, то это вполне компенсировалось необычайно эмоциональным отношением ко всему преподаваемому. Когда вы слушаете по радио репортаж о происходящем на стадионе футбольном матче, то можете представить себе, правда в очень смягченных формах, как проходили наши лекции: голос диктора с его различными модуляциями — это учитель, ведущий беседу и своими модуляциями передающий свои душевные состояния; а бурные взрывы голосов болельщиков — ответные реакции наших учащихся на сообщаемые им знания. Через 50 минут сеанс кончается: класс на 10 минут пустеет, а затем сюда вваливается толпа новых жаждущих духовной пищи ребят, и сеанс возобновляется на ту же тему и в том же стиле. Когда после четырех подобных уроков учебный день кончался, мы, учителя, чувствовали себя так, как несколько перепарившиеся на верхнем полку ценители банных наслаждений. Наступила летняя жара — учащиеся и учителя разбежались. Но я с гордостью могу сказать: мы, педагоги, разбежались последними.
Что же касается педсостава школы им. Достоевского в момент прибытия первых учеников, то кроме заведующего имелись налицо одна учительница из Путиловского училища, самоотверженно рискнувшая занять пост заместителя, и пара учителей оттуда же, мужественно согласившихся давать в порядке совместительства несколько уроков в неделю по своим специальностям. С воспитателями было слабее: пока имелось лишь двое бывших моих учеников, окончивших Стрельнинскую гимназию, побывавших в рядах Красной Армии во время гражданской войны и теперь присматривавших себе место в жизни. Но это были вовсе не лишь бывшие гимназисты, но еще и мои воспитанники, а Стрельнинская гимназия, где я проработал семь лет со дня ее основания, была первым моим опытом, где я мог испробовать на практике приемы суворовской педагогики. Благодаря стечению случайных обстоятельств ничто не стесняло здесь моей инициативы, я был тут и воспитателем двух классов, и преподавателем, а в военные годы заведовал еще всем физическим воспитанием, возможности которого были здесь безграничны: прекрасный парк, море и широкие поля с глубокими руслами двух речонок, где зимою можно было бегать на лыжах и кататься с гор. И я применял эти приемы со всем пылом неофита: каждый день на второй перемене мы тренировались в беге во всякую погоду и во всякое время года без пальто; после уроков — футбол и другие подвижные игры; зимою — лыжи; на уроках — тот же суровый принцип: «тяжело в ученье — легко в походе», то же воспитание умения быстро ориентироваться и находчиво отвечать на самые замысловатые вопросы: ведь Суворов не терпел «немогузнаек». И хотя мои питомцы иногда и поскрипывали, но отношения у меня с ними были прекрасные: мне удалось заразить их своим пылом. А потом я мог не без гордости взирать на результаты этой системы: мои ученики очень успешно сдавали все переходные экзамены, а воспитанников моих классов уже через два–три года легко можно было отличить по их выправке, общей подтянутости и умению носить форменную одежду. Поэтому и два моих бывших питомца, ставшие теперь воспитателями, могли пригодиться. Один из них недурно играл на рояле и мог на нем импровизировать. А это впоследствии очень понадобилось. Итак, с педагогическими кадрами у нас на первых по крайней мере порах обстояло благополучно.
Что же касается помещения школы и ее инвентаря, то здесь были очень хорошая библиотека как ученическая, так и учительская, много всяких справочников и целая галерея олеографий, воспроизводивших лучшие картины европейских художников. Все это в золотых рамах очень импозантно украшало зал школы, но вызывало у иных ревизоров подозрение, не иконы ли это. И при всем таком богатстве жалкие остатки мастерских, сапожной и столярной. И никакой площадки, пригодной для игр, не говоря уже о спорте. Тесный двор завален дровами, вокруг ни зелени, ни сада. Это было ужасно: не было где развернуться физической энергии ребят, отдохнуть в веселых играх после уроков. И это впоследствии очень тяжело отражалось на всей жизни школы.
Глазомер закончен. Теперь предстояло быстро наметить направление главного удара, определив, что в данный момент является самым важным, самым существенным, и поставить сообразно с этим надлежащий прицел.
А самым важным в любой школе, в воспитании любого школьного коллектива является преодоление того противостояния учащихся и педагогов, которое здесь бывает всегда и которое во всех случаях не так‑то легко преодолеть. «Мы» — это учащиеся, «они» — это учителя — такова краткая формула этого противостояния. И не только в те далекие годы, когда зачиналась советская школа, но и в наши дни лучшим критериумом воспитательской работы любой школы, любого педагога является умение преодолеть это противостояние.
Мы еще не разобрались в пришедших к нам ребятах, но одно кидалось в них в глаза: они напоминали волчат, загнанных в клетку, или, лучше сказать, одичавших человеческих детенышей. Правда, они не кусались, не оскаливали зубов, когда к ним обращались с речью. Нет, они могли даже очень мило улыбаться, как всякие дети, разговаривая с нами; могли вполне по–дружески относиться к наиболее чутким из нас, они вовсе не устраивали нарочно каких‑нибудь пакостей, но во всем их облике, во всех их повадках чувствовалось такое принципиальное недоверие ко всем взрослым, такое отрицание, личности педагога, что нас на первых порах это просто ошеломляло. Лишь потом, когда мы познакомились с ними покороче, когда они начали уже привыкать к нам и возможно стало некоторое сближение с ними, мы могли понять, в чем тут дело: пребывание на улице, знакомство со всяким воровскими и грабительскими шайками заразило их шаечной моралью, по которой все остальные люди, кроме данной шайки, потенциальные враги и с ними все дозволено; внутри же шайки — круговая порука: «своих не выдавать», как железный закон, нарушение которого может караться ножевой расправой. И наши ребята, начавшие уже оттаивать в теплой атмосфере дружеского к ним отношения со стороны нас, больше всего боялись прослыть «легавыми» из‑за близости к нам и сейчас же съеживались, настораживались, когда подозревали нас в том, что мы хотим, чтобы они нарушили этот железный закон круговой поруки. Особенно те из них, кому случилось побывать в детучреждениях, где их объедали, обкрадывали, обижали и оскорбляли. А к этому следовало прибавить и то, что нам было уже известно из нашей прежней практики: переходный возраст характеризуется особо болезненной чувствительностью ребят ко всяким покушениям на их свободу, на их самостоятельность — вплоть до принципиальнейшего негативизма, до повадки во всем поступать напротив.
Отсюда нам нетрудно было сделать надлежащий вывод: надо было не на словах, а на деле доказать им, что мы честные люди и не собираемся обижать их, оскорблять их человеческое достоинство и насиловать их волю — доказать это им не сентиментальным поглаживанием их головок, но всем школьным укладом, всеми нашими порядками и действиями. Кухня, кладовая, гардероб — все это должно быть в руках ребят, но под контролем взрослых, чтобы и ребята там чего не натворили. А для этого старосты по каждой из этих частей хозяйства, а им в помощь дежурные на каждый день. На кухне в порядке очереди ими всё принимается из кладовой, ими же проверяется и закладка продуктов в котел, через них происходит и раздача всякой еды. Все служащие питаются вместе с ребятами за одним столом, а воспитатели осуществляют над всем этим строжайший контроль. То же самое и относительно гардероба — самого узкого в те годы места нашего снабжения, когда обмундирование и учащихся, и многих из педагогов было крайне убого. У меня, например, в терпимом виде сохранился лишь очень элегантный смокинг да форменный сюртук со златоблещущими пуговицами, но и их нельзя было надевать ввиду их полнейшего несоответствия со всеми остальными одеяниями вообще и с прочными русскими сапогами не совсем одинакового фасона и размера в частности.
Так было поставлено дело и неукоснительно проводилось, когда я состоял заведующим. При этом мы старались втягивать наших питомцев и в другие отрасли нашей работы, чтобы они чувствовали себя нашими сотрудниками, помощниками. Не только объектами, но и субъектами воспитательного процесса.
С этих‑то дней, из этого установившегося теперь уклада школьной жизни и было совершенно естественно положено начало «летописи», вызвавшей впоследствии столько разных истерических визгов — и педагогических, и педологических, и административно–соцвосовских. Обычно вечером, после того, что в те времена называлось ужином, когда кончался трудовой день, заведующий тут же в столовой принимал рапорты от воспитателей, старост и дежурных о том, что сделано за день, как были выполнены указания администрации школы, какие были происшествия, что поступило в хозяйство школы. Докладывал и заведующий о том, где он был по делам школы, с чем вернулся и что удалось ему добыть: обстановка тех годов замечательно способствовала пробуждению у заведующих детучреждениями охотничьих инстинктов. Все это выслушивалось ребятами с большим интересом, потому что тогда добывание какого‑нибудь полкило конфет для ноябрьского праздника превращалось иногда в занимательную приключенческую повесть. Кое‑что из всего выслушанного и сообщенного записывалось на память сначала в тетрадку, но она обладала свойством куда‑то у кого‑нибудь заваливаться, на поиски тратилось время, пока, наконец, наш завхоз не извлек из хранившегося у него архива толстенную бухгалтерскую книжищу в великолепном холщовом переплете, только что начатую записями. Эти страницы изъяли из нее, а сама книга торжественно наречена была «летописью» и с тех пор прочно вошла в наш быт. Это, разумеется, был вовсе не штрафной журнал, куда заносились лишь кары за преступления. Это был вовсе и не столь ненавистный школьникам кондуит, фиксировавший лишь их недозволительные поступки. Нет, это был своего рода коллективный дневник школы, куда заносились записи и заведующего, и педагогов, и школьных старост, и гостей, посетителей школы, пожелавших высказать свои о ней впечатления. Это была сама история школы. Поэтому каждому из ребят можно было, перелистывая «летопись», найти в ней и свою фамилию, описание того, что и им было внесено в общее дело. Разумеется, там были и такие записи, за которые приходилось краснеть. Но интересно: не было случая, чтобы кто‑нибудь вырвал из «летописи» лист, хотя и были случаи, когда некоторые фамилии и записи самовольно зачеркивались или вымарывались. Она хранилась не под замком, а всегда лежала на столике у дежурного воспитателя, чтобы он мог, не откладывая, внести в нее нужную запись.
Не знаю, уцелела ли «летопись» после моего ухода из школы. А если она и теперь хранится в каком‑нибудь архиве, то в ней должны быть две любопытные странички, покрытые не только записями, но и копотью. Это две страницы «летописи», лежавшей на столике воспитателя открытой в ночь, когда в школе возник пожар и спальню заволокло дымом. Проснувшийся из‑за этого дежурный воспитатель растерялся и в ужасе бежал, так что его самого потом пришлось искать в дыму; ребята же крепко спали и проснулись только тогда, когда жившая рядом заместительница заведующего разбудила их и, скомандовав властно и спокойно, как всегда, встать и одеться, вывела их в полном порядке на лестницу. Кстати сказать, никакой паники при этом не возникло: кое–какая дисциплина в школе к этому времени уже была установлена. «Летопись» вынесли с собою ученики. Вряд ли они это сделали бы, если бы она была только кондуитом.
7. «Всякое знание превращать в деяние»
Не надо полагать, что тогда у меня или у моих сотрудников была какая‑нибудь уже сложившаяся или откуда‑нибудь заимствованная система педагогических или методических взглядов и приемов. Нет, от суворовской «науки побеждать» не так‑то легко было добраться до педагогики, до методики обучения. Но за семь первых лет пребывания в различных учебных заведениях Петербурга и за семь последующих лет упоенной воспитательско–преподавательской работы в Стрельне, сопровождаемых упорным штудированием педагогической и методической литературы, кое‑что у меня накопилось. Суворов уже начал преломляться через эту практику и литературу в ряд основных воспитательских и преподавательских приемов, при выработке которых очень важную роль играло и то, что может быть названо педагогическим чутьем. Им‑то мы, педагоги школы Достоевского, и пользовались в нашей работе, оно‑то и помогало нам разобраться в наших ошибках и находить верные пути. А таким чутьем должен обладать по своей специальности не только художник, скульптор, музыкант, поэт, писатель, но и любой практический работник, чтобы успешно оперировать в своей области. Должен обладать им и педагог, потому что педагогика — это прежде всего искусство, и здесь поэтому особое чутье, граничащее с интуицией, чувство меры и особенностей материала играют очень важную роль. Принципы — принципами, а
[здесь в рукописи автора пропущена страница]
ствии я пришел. Это звучит парадоксально, утрированно, но это очень полезно и практично как рабочая гипотеза. Она мне всегда помогала находить верные пути, когда я в своей работе набивал себе шишки или делал глупости.
Когда в школу им. Достоевского прибыли первые ученики и было налажено их питание, надо было сразу же начать и учить их. Классы открыть было не трудно: учителя, и не какие‑нибудь, имелись; ребята тоже, оказалось, ничего не имели против учения и пока что занимались. Но надолго ли это? А, кроме того, и питание идет в пользу только тогда, когда есть аппетит. Нет аппетита — человек болен, ему не до еды, она ему не впрок. Ели наши ребята великолепно, на отсутствие у них за столом аппетита не приходилось жаловаться. Но мало было лишь засадить их за учебники, надо было еще каким‑то образом поставить учебу так, чтобы наши бывшие беспризорники почувствовали к учению, к знаниям если и не такой же аппетит, то хотя бы некоторое влечение. А я был уверен, что изречение «корни учения горьки, но плоды его сладки» будет одобрено ребятами лишь в первой своей части: корни были налицо, а о будущих плодах, как вообще о своем будущем, наши питомцы не любили задумываться. А поэтому и прилежание их могло оказаться недолговечным, если не возбудить их аппетита к знанию, к учебе каким‑нибудь более сильно действующим препаратом, чем только занимательность преподавания или интересные уроки. Такие уроки мы могли давать. Но давать интересные уроки еще не означало умения решить эту проблему, ибо на одних только сладостях, в том числе и методических, нельзя построить правильного ни питания, ни преподавания.
Но даже такая простая задача, как распределение наших учащихся по классам, оказалась не слишком легкой: их возраст был почти одинаков, но их знания по учебным предметам оказались совершенно разными. Когда к нам прибыло достаточное количество ребят, пришлось разделить их на два отделения — не по знаниям, не по возрасту и даже не по способностям, а прежде всего по тяге к знаниям, по желанию учиться. Во II отделении — наиболее в этом отношении проявившие себя. В I — менее пылавшие жаром к познанию. Программы обоих отделений были приблизительно одинаковыми, но темпы их выполнения оказались очень разными. Впоследствии мы по этому же образцу открыли еще два отделения и не раскаивались в этом.
Главная трудность пока была в другом. Надо было, и как можно скорее, решить задачу: чем занять ребят после уроков, во всю остальную часть дня? Можно было открыть сапожную мастерскую, удалось раздобыть кое‑что и по столярному делу, но все это лишь в жалких масштабах, всех ребят этим не занять. А, кроме того, им нужны были не «трудовые процессы» как «вещь в себе», а разумный, т. е. целенаправленный, дающий впоследствии какую‑нибудь квалификацию труд. Нельзя было развернуть, как в Стрельне, ни игр на воздухе, ни спорта: не было для этого хотя бы минимальной площадки при школе или близ нее. Самообслуживание в городских условиях тоже не заполняло сколько‑нибудь досуга ребят. Попробовали мы по примеру Путиловского училища завести кружки, но не то у нас не было опыта, не то подход был не тот, но кружки превратились сначала в вечерние уроки для желающих, а потом распались. Занимались мы и гимнастикой по вечерам и даже с горя стали обучать ребят танцам, но у нас были только кавалеры, дам не было и не предвиделось. А какие же без этого танцы?
Выручала библиотека: нашлись любители чтения, некоторые из них превратились затем в запойных читателей, а для тех, кому самостоятельное чтение было еще не по зубам, мы стали читать подходящие книги вслух. И вот тут‑то и была нащупана та золотая жила, драгоценная руда которой вскоре легла в основу всей учебной и общественной жизни шкидцев.
Сначала читали вслух учителя, а затем и наиболее смышленые ребята. А когда перешли от прозы к поэзии, то шкидцы, знавшие доселе лишь зубрежку стихов, поняли, что существует еще один вид искусства — декламация: наши учителя немного владели им — и что это искусство доступно и им, ребятам. А это сразу привлекло наиболее одаренных в этом отношении воспитанников и возбудило у остальных интерес и дух соревнования. От простой декламации перешли к инсценировкам, к чтению по ролям — совсем как в театре, а вскоре задекламировали под руководством учительницы немецкого языка и по–немецки. Когда же ею был инсценирован и небольшой прозаический рассказ из хрестоматии, то это произвело на бывших беспризорников потрясающее впечатление: их же товарищи говорили друг с другом, как настоящие немцы.
Надо знать, что в общественной жизни нашей школы очень скоро выявилась одна интересная черта: если наши питомцы чем‑нибудь заинтересовывались, то этот интерес нередко увеличивался у них до размеров всеобщего увлечения, затем превращался в какую‑то стадную манию, которая, как повальная болезнь, охватывала всех. Это была одновременно и эпидемия, и увлекательнейшая игра. Но потом ребята, наигравшись досыта, понемногу успокаивались, бурное их увлечение входило в надлежащие берега и, если мы, педагоги, умели направить его по надлежащему руслу, становилось теперь источником полезной работы.
Так было и на этот раз: вслед за русским языком, литературой и немецким языком пожелала инсценироваться и история, пока в порядке несомненно самодеятельной инициативы: у I отделения, где проводилась древняя история, стали возникать международные конфликты со II отделением — сначала мелкие стычки, а затем упоительные сражения на всех переменах между «спартанцами» и «афинянами», а потом завязались и «пунические войны», в которых вопреки исторической истине чаще всего попадало «римлянам»: они были немного моложе ребят II отделения, хотя ни в чем не уступали им в героизме. Поэтому пришлось и нашему историку подумать, как найти более спокойные формы инсценировок исторических событий.
Вот тогда‑то у нас, у педагогов, и появился девиз: «Всякое знание превращать в деяние», а у ребят новое повальное увлечение. Чтобы учиться, им надо было знать, «на кого» учиться. И если «бузить бесцельно не годится», как заявил однажды один из героев «Республики Шкид», то и любое из знаний шкидцы ценили лишь тогда, когда его можно было сразу пустить в ход, сделать из него что‑нибудь осязаемое, интересное. А тогда интерес превращался уже в увлечение и вскоре все ребята с азартом предавались подготовке к таким постановкам либо демонстрации перед остальными товарищами уже отработанных инсценировок.
Но оратору нужна аудитория, музыканту — слушатели, артисту — зрители и ценители. И шкидцев уже перестал удовлетворять наш зал со зрителями лишь из них же самих. Надо было пойти навстречу этому вполне законному тяготению наших питомцев. И мы решили закончить первое полугодие учебного года показом наших достижений представителям гороно, заведующим соседними школами и учреждениями для беспризорников, их педагогам и родителям наших ребят.
Это, надо сказать, было довольно‑таки смелое решение, граничащее с нахальством: ведь мы только еще всё начинали, за нами было всего каких‑нибудь три месяца работы и ничего прочного, уже освоенного. Но «только смелым покоряются моря», а из всех морей нас больше всего волновало наше внутреннее, очень бурное по временам море — ребята школы им. Достоевского. Но чтобы покорить эту стихию, учеты стали необходимы, а поэтому мы и рискнули.
Это решение было принято шкидцами с энтузиазмом, а увлечение подготовкой к такому учету превратило классные занятия днем и всякие репетиции вечером, как всегда, в захватывающую всех игру, в нечто похожее на повальное заболевание. Но мы, педагоги, не торопились лечить эту эпидемию: мы сами ею заболели.
Учет был поставлен в назначенное время и произвел сильное впечатление: наши ребята впервые почувствовали уверенность в своих возможностях, общественность заинтересовалась школой им. Достоевского, и вскоре постоянное посещение ее разными гостями — ревизорами, педагогами, представителями печати, всякими инспекторами и, наконец, просто любопытными — стало обычным явлением: от посетителя требовалось, чтобы он сначала явился к заведующему или к дежурному воспитателю, а после осмотра школы сообщил устно или письменно, в «летопись», о своих впечатлениях, ему давался гид в виде дежурящего по этой части ученика, и он мог всюду расхаживать, обо всем расспрашивать и заглядывать во все уголки школы: секретов у нас ни от кого не водилось.
8. Игра и труд
Всякого рода инсценировками, какие лежали в основе всего обучения воспитанников школы им. Достоевского, теперь никого не удивишь: они применяются ныне в любом детском доме или клубе, их можно увидеть на всяком пионерском сборе. Не были они новинкой и сорок лет назад: в форме инсценировок литературных произведений они тогда применялись во многих детучреждениях, да и в учебных заведениях дореволюционных годов они всегда имели место. Но лишь в школе Достоевского они стали одним из основных приемов обучения ребят, применявшимся так или иначе по всем предметам школьного курса.
Важны не эти отдельные инсценировки сами по себе, важна их взаимная связь, и еще важнее их связь с классным преподаванием. Важен, наконец, принцип, на основе которого строилась эта связь. А об этом‑то речь будет идти ниже, в последующем, после некоторого уклонения от нашей темы.
Нам далеко не всегда удавалось тогда достаточно удачно построить такие, связанные с классным преподаванием инсценировки, но все‑таки первые шаги в этом направлении были сделаны в Ленинграде, вероятно, лишь школой им. Достоевского.
«В основу советской школы должен быть положен труд» — такой девиз был провозглашен сорок лет назад. Труду надлежало преобразить всю систему нашего народного образования. Труд должен был лечь в основу обучения. Труд, но не принудительная трудовая повинность, не подготовка с детских лет к какому‑нибудь ремеслу, даже не самообслуживание, но творческий труд, развивающий одновременно и руки, и мышление, воспитывающий и зоркость глаза, ловкость всех движений, и смекалку, инициативность в любой деятельности, тесная связь учебы с трудом и труда с учебой; учиться, чтобы уметь трудиться, трудиться, чтобы уметь приобретать знания и навыки; наконец, так накоплять знания, чтобы они не оставались мертвым капиталом, а могли быть превращены впоследствии в строительство социализма, — так можно сформулировать этот девиз. Но только в наши дни такой труд стал воплощаться в жизнь нашей школы и уже перестает быть привилегией лишь фабзавучей, ремесленных училищ, профессиональных школ и техникумов.
Но первые ростки такой трудовой школы, трудовой не только по вывеске, зазеленели еще в двадцатых годах, несмотря на разные левацкие загибы и последние крики тогдашней педагогической моды, по образцам которой пытались кроить и школу, и учащихся, и педагогов. Прекрасные образцы такого труда показал, как известно, Макаренко в коммунах им. Горького и им. Дзержинского. В 1925 г., уже после школы им. Достоевского, я принял заведование 39–й школой Центрального района, католической гимназией когда‑то, где долго еще после Октября держался гнилой дух иезуитского воспитания. Школу я принял в разгромленном ее последними выпускниками виде, но с уцелевшими, очень хорошими мастерскими по дереву, металлу, кройке и шитью, картонажу — то, о чем мечтал я раньше. Здесь я с радостью мог наблюдать теперь, как эти мастерские помогали школе выпрямиться. Ребята учились и работали в две смены: либо утром в классах, а затем в мастерских, либо сначала в мастерских, а затем в классах. На моих глазах вырастала новая порода людей — не с головой, набиваемой книжными, наполовину никому не нужными знаниями, не с двумя верхними конечностями вместо рук, годными лишь для писания. Теперь тут вырабатывались смекалистые ребята, которые умели и электропроводку наладить, и примус починить, и школьные парты отремонтировать, и костюм, где надо, подправить. Для меня, бывшего воспитанника классической гимназии, они были чем‑то вроде марсиан, и я готов был декламировать: «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» Так было не только в 39–й школе. Но всё это потом — к сороковым годам — захирело, заглохло, куда‑то подевалось, словно бурьяном поросло. А ведь Макаренко на своем великолепном опыте наглядно показал, как труд — сельскохозяйственный в колонии им. Горького, в мастерских и на фабрике в колонии им. Дзержинского — способен преобразовать людей. Макаренко потом всячески восхваляли, превозносили, изучали, штудировали, цитировали; многочисленные аспиранты писали глубокомысленнейшие по его темам диссертации, и все‑таки средняя школа сороковых годов, освободившись начисто от каких‑либо признаков мастерских и ручного труда, медленно, но верно катилась к гимназии прежних времен вплоть до введения в нее противоестественного раздельного обучения, а в ее программу логики и психологии. Прибавить бы сюда еще латинский язык, и ее можно было бы отличить от прежней гимназии только по тому, что в последней было 8 основных классов и 2 приготовительных, а у нее всего лишь 9. Даже форму потом придумали для наших школьников как некий синтез синей фуражки гимназистов с желтыми кантами и гербом реалистов. И лишь в наши дни началось преобразование средней школы в действительно трудовую школу.
Только теперь устранены все эти загибы и движение вспять, и труд вновь входит в школьные программы. Интереснее всего, что путь ему сюда проложили не методисты Министерства просвещения, не институты Академии педагогических наук, а колхозники Украины и Кубани: их сыновья и дети уже не первый год трудились на полях вместе со взрослыми; им, колхозникам, первым понадобились хорошо обученные школьники, обладающие в то же время и сельскохозяйственными знаниями и навыками. Здесь разносторонний, политехнический труд совершенно естественно вошел в обучение ребят, в школу, и ей осталось лишь приспособить свои программы к требованиям жизни. Такой же процесс происходит теперь и в городских школах. Но и там, в колхозных, и здесь, в городских школах, возник один и тот же вопрос: как же совместить и труд и обучение школьников в рамках посильного им учебного дня, чтобы они не переутомлялись, не выбивались из сил?
Но имеет ли это какое‑нибудь отношение к системе инсценировок, применявшейся в школе им. Достоевского?
Да, имеет. И прямое отношение.
Что такое труд? Это — целенаправленное превращение одного материала в другой. Это — столь же целенаправленное применение энергии, физической или душевной. Это, наконец, превращение мысли человека в вещь, в предмет. Архитектор задумывается над очертаниями и планами здания, которое ему надлежит возвести; он работает над этим, а в результате его труда возникают рисунки этого здания и многочисленные вычисления, столбики цифр, чертежи, планы. Приходят строители, и их труд превращает все это в фундамент, стены, крыши и комнаты строящегося дома. Что же касается строительных материалов, то это тоже результат труда других работников, превративших песок, глину, камни, цемент в эти строительные материалы.
Но труд — это дело преимущественно взрослых людей. У детей имеется нечто, соответствующее труду, но иное, присущее главным образом их возрасту. Это игра. И дети строят из кубиков дома, из песка пекут пирожки, пускают в воздух самолеты из бумаги; это тоже их труд, но называется он иначе — игрою.
Игра для ребенка — естественная потребность растущего организма. Без игры ребенок не может нормально расти и развиваться, так же как и нормальный взрослый человек без труда. Игра для ребят не забава, а естественное превращение их духовных и физических сил в действия, в вещи. Это потребность их организма. Энергия ребенка требует выхода, и он играет. Сам, без указки и помощи взрослых, один или вместе со сверстниками. И не надо путать игры с забавой или с развлечениями: забавлять или по–всякому развлекать ребят могут взрослые, но играть ребенок любит лишь самостоятельно. «Я — сам», — говорит он, когда большие лезут к нему со своей помощью или указаниями.
Младшие и средние классы школы — это еще время упоительных игр. Лишь в конце этого периода игра разбивается на два русла, переходя в труд в его настоящем значении и в спорт, эту игровую модификацию труда. Имеется еще один интересный момент в этих играх — соревнование. И если еще нам, взрослым, понадобился изрядный кусок времени, чтобы соцсоревнование стало необходимым элементом соцстроительства, то у ребят игра и соревнование естественно вырастают как особенность их возраста.
В школе им. Достоевского это игровое начало и было положено в виде инсценировок в основу обучения ребят. И хотя тогда мы совершенно не осознавали всего значения этого приема и применяли его, руководствуясь лишь педагогическим чутьем, но результаты его оказались очень удачными — они сказались во всем жизненном обиходе школы. И даже то, что впоследствии принесло этой школе известность — увлечение ее питомцев литературой и издание различных газет, листков и журналов, — это тоже было одним из игровых увлечений шкидцев, принявшим не только почти маниакальную, как обычно, но и длительную форму. А как уже говорилось, наши питомцы всегда и во всем играли. Буйные силы Васьки Буслаева, обуревавшие в те годы не только наших ребят, но и весь советский народ, требовали у них выхода в любой форме — в «бузе» ли, как тогда называлось беспричинное озорство, в играх ли, или в учебе.
Итак, использование игрового начала в обучении и воспитании наших учащихся — вот что лежало в основе всей школы им. Достоевского. Один случай помог мне уразуметь некоторую особенность этого принципа и дал возможность избежать кое–каких ошибок. Однажды, еще в начале нашей работы, я как‑то приказал одному ученику вымыть вне очереди, в наказание за какой‑то проступок, лестницу. Такой прием — наряд вне очереди как наказание применяется в военном деле, применял его и Макаренко, но в данном случае это оказалось непригодным: наказанный ученик, очень добродушный и вовсе не ленивый, но лишь слишком избалованный своими родителями мальчуган, не пожелал выполнить моего приказания. Он взял было тряпку, принес ведро воды, но, вместо того чтобы мыть, начал отчаянно навзрыд реветь и ругаться. И как я ни налегал на него, ничего не действовало. Пришлось прибегнуть к крайней мере: я отобрал у непослушного ведро и тряпку и заявил, что раз он не желает мыть лестницу, то я обойдусь без него и сам вымою ее. Он сначала уставился на то, как я оперировал тряпкой, а затем совсем уже иным, своим добродушным тоном заявил: «Ну уж давайте, Виктор Николаевич, я сам домою».
Инцидент был исчерпан, но я понял, что сделал какую‑то глупость. Но в чем она? И тогда мне вспомнился Том Сойер; ведь он тоже был наказан — ему приказано было выкрасить забор; он тоже не чувствовал никакого желания работать, и подошедшие к нему ребята уже начали посмеиваться над ним. Но он заявил: «Не всякому доводится красить заборы», — и всем ребятам нестерпимо захотелось красить: труд как наказание превратился теперь в труд как особое отличие.
С тех пор в школе им. Достоевского никакой вид труда не применялся как наказание. Больше того, если обычные трудовые наряды назначались у нас в порядке очереди, то такие неприятные работы, как мытье уборных, производились лишь на добровольных началах. «Кто желает?» — спрашивали мы, и желающих всегда находилось больше, чем требовалось, и нам оставалось лишь произвести строжайший отбор наиболее достойных.
9. Игра и учеба
Я пишу не мемуары и если говорю о давно минувших временах, то только потому, что кое‑что из тогдашнего моего опыта пригодилось мне потом и может пригодиться теперь моим товарищам по профессии. И мне не хочется, чтобы это, оказавшееся пригодным, впоследствии, в будущем пропало бы без пользы.
С 1929 г. я уже перестал работать в школах Наркомпроса и преподавал лишь на отделении СПОН Ленинградского пединститута им. Герцена, где знакомил студентов с приемами обучения и воспитания беспризорников и вел педпрактику. Я, кроме того, преподавал и в двух техникумах. В 1930 г. отделение СПОН института было закрыто (ведь беспризорность к тому времени была ликвидирована), в среднюю же школу я вернулся лишь в 1936 г. — уже как преподаватель русского языка. Вот тогда‑то я и вспомнил о состязательно–игровом начале, которым мы пользовались в школе им. Достоевского, и это и здесь тоже стало давать кое–какие результаты; продолжал я применять тут и приемы суворовской педагогики, но началась война, и в сентябре 1942 г. я оказался сначала на Алтае, эвакуированный туда из‑за очень выразительной дистрофии, а затем в Киргизии.
Шесть лет довелось мне преподавать там, но не в классах средней школы, а в педагогическом училище и в учительском институте. Когда я вновь засел тут за педагогическую и методическую литературу, я мог убедиться, какими черепашьими темпами движутся у нас эти две отрасли знания: никаких тут открытий Америки не оказалось, а преподавание этих предметов и обучение студентов преподаванию русского языка почти ничем не отличалось от того, что было сорок лет назад. То же самое оказалось, когда в 1948 г. я вернулся в Ленинград и получил, наконец, возможность обучать и воспитывать не студентов, а среднеклассников. Тогда здесь, как, впрочем, и во всех школах СССР, царило противоестественное раздельное и во всем стандартизированное книжное обучение. Уже с самых младших классов школьники должны были писать одним и тем же почерком и одним и тем же стандартным пером, хотя, как известно, у каждого человека свой характер, а поэтому и свой, индивидуальный почерк, для которого не всякое перо пригодно. Стандартным был и учебник. Для каждого предмета один и единственный во всех школах от Балтики до Чукотки, от заполярного Норильска до пламенеющего от зноя Кавказа. И не только единый, но и непогрешимый, как Коран, учебник — отступать от него было не безопасно. По стандарту давались, как и во время оно, также и уроки: 5 минут — оргмоменты и проверка выполнения письменного задания; 15 минут — опрос трех у доски и четырех–шести — с места; 15 минут — объяснение нового материала; остальное время — закрепление объясненного и задание на дом. Все это, несмотря на постоянные указания, что имеются и другие виды уроков, что надо избегать шаблонов, — все это проделывалось чуть ли не на каждом уроке: так преподавать было проще и всего безопаснее, иначе «как бы чего не вышло». Поэтому и на уроках литературы изучалась не столько русская классическая и советская литература, сколько учебник по литературе, тоже, разумеется, стандартный: там заключалась вся истина. Учителю оставалось лишь из урока в урок перелагать его своими словами, но поближе к тексту, а ученику вызубрить его для устных ответов и для цитирования, без применения кавычек, в письменных «сочинениях». Стандарт применялся не только для развития самостоятельного мышления учащихся, но и при воспитании их чувств — здесь тоже имелись заботливо составленные рецепты. Так, чтобы воспылать любовью к русскому языку, учащиеся должны были зазубрить тургеневское стихотворение в прозе на эту тему. Воспитание же патриотизма, любви к Родине надлежало производить при прохождении каждого по возможности отдела грамматики путем внедрения в памяти и эмоциональную сферу учащихся звонкозвучных примеров. Существительные склонялись так: им. пад. — «Родина наша велика и обильна»; род. пад. — «Будьте готовы к защите Родины»; дат. пад. — «Отдадим все силы нашей Родине»; вин. пад. — «Мы любим свою Родину»; твор. пад. — «Мы гордимся нашей Родиной»; предл. пад. — «На нашей Родине живут свободные, счастливые люди». И для остальных отделов грамматики учителям вменяется в обязанность придумывать такие же превыспренние фразы о Родине, а учащимся — приискивать их, где хотят, или самим сочинять их.
И это после того, как Базаров просил: «Аркадий, не говори красиво!» Не знаю, сколько удалось такими приемами воспитать людей, по–настоящему, не на словах преданных родной стране, но ручаюсь, что пошляков получилось из‑за этого предостаточно.
Не только наши высокоавторитетные составители стандартных учебников и методических пособий, но и рядовые учителя умудрялись иногда придумывать замечательные образцы воспитания высоких чувств на грамматических упражнениях. Однажды мне довелось присутствовать на уроке одной бойкой учительницы, ученики которой спрягали глагол таким образом: «Я люблю Сталина, ты любишь Сталина, он—она—оно любит Сталина» и т. д. Учительница торжествующе глядела на меня — я отвечал ей поощрительной улыбкой: в данном случае я ничего не имел против воспитания нежных чувств таким приемом.
Стандарт — хорошая вещь: он облегчает труд человека вообще и учителя в частности. Последнему не нужно тревожить себя ни какими‑либо исканиями, ни излишним напряжением мышления. В стандартного учителя, серийно изготовляемого в педвузах, достаточно вложить три пластинки — полугодовой план преподавания, диктуемый на секционных заседаниях, очередной параграф учебника и соответствующие страницы какого‑нибудь методического пособия, где все уроки расписаны до мельчайших подробностей, и любой учитель может давать стандартные уроки не хуже какого‑нибудь сложного кибернетического аппарата со всякими там полупроводниками. Стандарт помогает и выпускнику при писании сочинения на аттестат зрелости: для этого надо, чтобы у него в голове было побольше цитат и всяких торжественных фраз, а также текстов из учебника по литературе, — и успех обеспечен. Этого вполне достаточно, чтобы в «Народном образовании» ежегодно писали на основании таких сочинений восторженные статьи о высоком уровне патриотических чувств у наших выпускников.
Жалобы на переутомление учащихся такой книжной учебою стали раздаваться уже давно. Я, как классный руководитель, мог проверить, сколько часов в день работают мои пятиклассники: шесть часов в школе, считая и всякие собрания, заседания, сборы и подготовки к ним, и около четырех часов дома. И это лишь среднеодаренные, а что касается не особенно бойких, то им не хватало и 12–часового рабочего дня. И при этом даже семиклассники не умели самостоятельно разбираться ни в учебнике, ни в орфографическом словаре. Ребята могли зазубрить любое правило, но не умели давать ответов, когда это же правило их спрашивали расчленение — по отдельным вопросам. Нет ничего удивительного, что наши стандартизированные медалисты, попадавшие в вузы без испытаний, нередко оказывались не в состоянии там учиться: одна из подобных медалисток так, например, объясняла свою очередную двойку: «Я не знала, что надо было учить и мелкий шрифт». Таких, разумеется, отчисляли оттуда, а в министерство направляли рекламации, как на продукцию с браком.
Но не только в стандартных учебниках и перегрузках учебным материалом была здесь суть. Сами‑то приемы преподавания явно устаревали и требовали модернизации, если не коренного переоборудования. Об этом достаточно выразительно сигнализируют сами ребята. А ведь они всегда в чем‑то правы.
Как классный руководитель и районный методист, я часто, сидя где‑нибудь на задней парте, мог хорошо наблюдать реакции учащихся на преподавание. Обычно ребята быстро привыкали к моему присутствию, а потом и совсем меня игнорировали. Вот впереди меня двое: оба умники, но один добродетельный, другой недобродетельный. Во время опроса они одинаково активны — поднимают руки и со вкусом отвечают. Но началось объяснение нового материала, и недобродетельный вытаскивает какой‑то учебник и начинает готовиться к следующему уроку; добродетельный пытается внимать объясняемому, но скоро сникает и чуть не носом клюет: ведь ему‑то разжевывать правила не надо, он и сам в нем уже разобрался. Приступают к закреплению — недобродетельный уже бьется над алгебраической задачей, а добродетельный стойко борется с сонной одурью: ему скучно, ему бы что‑нибудь потруднее этого простенького упражненьица, которое не без интереса разбирают середняки.
Не трудно догадаться, кто из этих двух мальчуганов больше утомился и кто из них всего разумнее использовал время и свои силы.
А отсюда вывод: надо и классное преподавание, и задание на дом строить дифференцированно. Это вовсе не индивидуальный подход, о котором так много говорят, но который при классах в 40 человек лишь фикция, неосуществимая утопия. Вполне же реально такое преподавание, когда класс делится на три группы: на передовиков, середняков и отстающих. Делится, разумеется, не на вечные времена, а на неопределенный срок, не на закостеневшие прослойки, а на постоянно меняющиеся рабочие соединения ребят. А тогда и объяснение нового материала и даже опрос можно будет вести через верхушку класса по принципу «Поменьше учителя — побольше ученика», давая и остальным ребятам посильные им задания. Тогда и задание на дом можно строить дифференцированно: одно — для всех, другое, более трудное, — для желающих, в первую очередь, разумеется, для передовиков, и третье, особое, необходимое лишь для отстающих. Но для этого надо, чтобы каждый учитель располагал особым раздаточным материалом: задачками, вопросами, текстами разных упражнений, табличками — всё это на отдельных карточках. Нечто подобное практиковалось еще в школе им. Достоевского, где при классах в 15—20 человек индивидуальный подход был не только возможен, но по многим причинам и совершенно необходим. И еще один путь подсказали мне ребята: весною, когда пообсохнут тротуары и весело заблестит солнце, всюду можно наблюдать скачущих через веревочку девчонок; две вертят ее, остальные по очереди скачут. Скачут упоенно, бесконечно, до темноты и, по–видимому, не переутомляются. Это игра. Но пусть учитель физкультуры построит этих же девчонок в шеренгу и прикажет им так же скакать всей шеренгой через эту же веревочку, и можно с уверенностью сказать, что больше 15 минут такого скакания не выдержит ни один самый послушный класс: это не игра, а урок.
Но если нельзя игру превратить в урок, то почему же не ввести моменты такой игры в преподавание, в классную работу и в домашние задания? Ведь, может быть, в этом игровом и состязательном начале кроются такие резервы, до сих пор не использованные, какие позволят поставить все школьное обучение по–иному. Ведь удалось же по этому же игровому началу построить учеты в школе им. Достоевского, где в разных инсценировках показывалась и проверялась вся учебная работа в ее главнейших чертах.
10. Как мы добыли себе шефа
Но вернется к школе им. Достоевского. Прошел первый наш учебный год, ребята не разбежались, школа не развалилась, учеба шла небезуспешно, как показывали учеты. А это было уже кое–каким достижением: ведь материалец‑то у нас был очень взрывчатый.
На лето мы переехали в Сергиево, на дачу в сорока пяти минутах езды на трамвае от школы. Там не было у нас ни огорода, ни какой‑нибудь иной возможности приобщиться к сельскому хозяйству, но не было там ни рынка поблизости, ни каких‑либо других соблазнов для ребят; там было много простора, было взморье, где можно было часами барахтаться в теплой, до самого дна пронизанной солнцем воде и где нельзя было из‑за мелководья утонуть. Все это нас очень устраивало. Часа два мы работали по классам, затем совершали экскурсии по соседним паркам и дворцам; любители природы собирали под руководством учителя естествознания всякие коллекции, другие ловили рыбу в соседних прудах. Вот тогда и было положено начало столь прославившей нашу школу журналистике. Если появившийся было по указующему сверху персту «Ученик» так и закончился на первом же своем номере, то тут, уже снизу, родился боевой листок «Бузовик», и эта инициатива ребят была сейчас же нами подхвачена, редактор крамольного листка и его сотрудники получили карандаши, краску, бумагу и родительское благословение Викниксора. Так началась эра всяческих литературных увлечений, игра в издание разных ученических газет, листков, журналов и альманахов.
Но лето кончилось, мы вернулись в город, наступила хмурая осень, а с нею и пора всяких хлопот и забот: надо было готовиться к зиме. И притом очень широким фронтом и быстрыми темпами готовиться: у нас, например, на шестидесяти парах ученических ног красовалось не более 20 пар обуви, сколько‑нибудь пригодной для зимнего сезона. Не ясны были перспективы и по части топлива, и в отношении обмундирования. Все поэтому надо было добывать самим, не особенно надеясь «на князи и на сыны человеческие» и более полагаясь на старорежимную пословицу «на бога надейся, но и сам не плошай». Я никогда не был охотником, но теперь мог вдруг почувствовать, как под влиянием среды и экономических стимулов у меня вдруг заговорили охотничьи инстинкты, в том числе и нюх. И вот, разнюхивая всюду, нельзя ли чем поживиться, я обнаружил в одном учреждении сотню валявшихся на складе ватных шапок — ушанок. Правда, одни из них годились лишь для детского сада, но зато другие могли украсить головы каких‑нибудь сказочных исполинов. Но «и веревочка может пригодиться», — говаривал хлестаковский Осип, и вскоре мои шкидцы, притащив к себе в мешках эти головные уборы, получили полное основание иронически поглядывать на меня. Я таил загадочное молчание. А затем мне удалось наткнуться где‑то и на целый склад лаптей, далеко, впрочем, не детских и даже не подростковых номеров, и они тоже оказались в школе. На этот раз ирония ребят, увеличиваясь количественно, перешла в новое качество — в веселый смех. Но смеется хорошо тот, кто смеется последним: наступила зима, никакой обуви мы так и не получили, и вот тогда‑то эти теплые ушанки, надетые после некоторой реконструкции на ноги, превращались в некое подобие унтов, а когда на них надевали еще и лапти, то получалась вполне приемлемая зимняя обувь, не особенно, надо сказать, элегантная, но не лишенная зато некоторого национального колорита. Когда же сюда присоединялись и присланные нам пальто–халаты, то в перепоясанном для тепла виде они напоминали истинно русские армяки, а шкидцы в них и в этих лаптях выглядели очень пейзанисто.
Вскоре в школе произошел пожар: неправильно была установлена труба времянки. И хотя это случилось ночью, но ничего не сгорело, лишь были выбиты при тушении стекла в части комнат второго этажа, где помещались классы и столовая, да порядочно закоптелись не только эти помещения, но и расположенные над ними спальни двух старших отделений. Стекла нам затем заменили фанерой, но в школе стало до омерзительности неуютно: нужен был ремонт, а средств для него так и не оказалось.
Единственно, что оставалось, — найти шефа, который мог бы нам помочь. Найти во что бы то ни стало. У нас, правда, был шеф — пивной завод имени Стеньки Разина: по–видимому, в роно нашелся человек не без юмора, раз наша шкидская вольница получила в шефы завод с именем главы волжской вольницы былых времен. Но этот шеф мог предложить нам лишь пиво и пивные дрожжи. Первое мы, к сожалению, должны были отвергнуть, второе принимали не без удовольствия. Был, однако, в Петрограде и такой шеф, который всё, казалось тогда, мог совершить — это Торговый порт, наше единственно оставшееся окно в Европу; самыми богатыми людьми были тогда его грузчики, самыми фешенебельным обществом считалась иностранная матросня, а морской клуб на Петергофском проспекте, где она собиралась, — самым шикарным местом.
Но Торговый порт уже имел несколько подшефников, и когда я решил сам атаковать это учреждение, то мне удалось добиться от нашего роно только одного: согласие не мешать мне в этом. План атаки был продуман, я сообщил о нем нашим питомцам, он был принят ими с энтузиазмом; шкидцы увлеклись им и горячо, как всегда, в порядке массового психоза, принялись готовиться, а я отправился в порт. Два руководящих им товарища приняли меня холодновато: видно было, что им приелось постоянное попрошайничество разных подшефников. Но я заявил только, что пришел пригласить их, как и других соседей школы, на очередной учет, где мы будем отчитываться в нашей работе. На меня пристально посмотрели. Приглашение было принято.
Наступил, наконец, назначенный день, зал был полон гостей. Впереди, на стульях — почетные гости, среди них и два портовика со снисходительно скучающими лицами. Сзади, на скамейках, — прочие гости, а во все промежутки между ними втиснулись наши ребята: это для того, чтобы они учились быть любезными и вежливыми хозяевами и берегли при этом честь своей школы. Ведущий провозгласил, что первым выступит ученик такой‑то с докладом «Морские порты и их значение» — в библиотеке бывшего коммерческого училища нашлись кое–какие материалы. Портовики встрепенулись и уже не томились от скуки. Следующим был объявлен доклад другого ученика на тему «История Петроградского порта». Портовики вытащили блокноты и что‑то стали заносить в них. Я, как член общества «Старый Петербург», знал, что им найдется что записать. Потом выступали «немцы» в сценках–диалогах; показали на этот раз себя и математики: они устроили турнир на звание чемпиона школы им. Достоевского, состязаясь в скорости решения однотипных арифметических задач по двое на двух досках. Естествознание щегольнуло докладами «Флора и фауна побережья у Сергиева» с показом собранных коллекций. Но всего сильнее мне запомнилось выступление Иошки, тщедушного мальчугана старшего отделения с лицом лягушонка и с огромными, всегда беспокойными, живыми, чего‑то ищущими глазами. И когда он вышел в своем пальто–халатике, весь как напружинившийся комок нервов и объявил: «Монолог Бориса Годунова», в зале кое–где послышались смешки. Но смеялись не шкидцы. Я не убежден в верности и беспристрастности моей оценки этого выступления; вернее всего, что я кое‑что преувеличиваю: ведь «и кос, и крив, а отцу с матерью мил», а я был учителем и воспитателем этого даровитого мальчика. Разумеется, трагический царь Борис Годунов, мучимый предчувствием неизбежного возмездия, и мальчуган в халатике были несовместимы. Но Иошка начал читать сначала хриплым от нервных спазм голосом, но потом… Потом тщедушный мальчуган стал таять в воздухе, вместо него все яснее и яснее выступал тоскующий, мечущийся в страдании большой человек — Борис Годунов. И когда он закончил, у меня какой‑то клубок подкатился к горлу и понадобилось напряжение воли, чтобы сдержаться. Зал замер, а затем аплодисменты, крики — кричали не только шкидцы. Да, я много слыхивал разных декламации и первоклассных премированных чтецов–профессионалов, и известных артистов. Дикция их была безупречной, но как часто чувствовалось, что чтец этот выступает уже не в первый раз, что он, в сущности, ничего при этом не испытывает. Слышал я выступления и взрослых любителей и учениц старших классов, уверенных в своем успехе, самодовольных, любующихся собой. Но вот такой искренности, такой непосредственности мне не так часто удавалось наблюдать: ведь, я убежден, этот мальчик, декламируя, вполне искренне чувствовал себя страждущим царем и непосредственно перевоплощался в него.
Нечто подобное я мог услышать много лет спустя, когда декламировали мои пятиклассницы и шестиклассницы. Но у них в следующих классах эта непосредственность исчезала, оставалась лишь хорошая дикция.
Учет закончен. Гости разъезжаются. Портовики у меня в кабинете. Они молчат, курят. Я тоже молчу. Наконец, один из них вынимает блокнот и говорит:
— Ну, а теперь диктуйте, что вам надо.
И я диктую.
11. Канонерский остров. Мечты и грезы
Многое сделали для нас портовики, а самое главное — это открыли доступ в Морской порт и на Канонерский остров. В порту мы знакомились с его работой, с его грузчиками и моряками, побывали мы и на кораблях, а встречи с немецкими матросами чрезвычайно стимулировали у шкидцев занятия немецким языком: ведь очень лестно было показать умение поговорить с иностранцами по–немецки, пощеголять хотя бы и очень небогатыми разговорными возможностями на этом языке. А на Канонерском острове летом мы проводили все наши дни, возвращаясь лишь к ужину.
По своим очертаниям этот остров напоминает рыбину вроде осетра. На ее широком хвосте — там, где ковш порта, — небольшие судоремонтные мастерские. На носу, далеко во взморье, у самого входа в Морской канал, прорезающий по краю все брюхо этой рыбины, сторожевая башня, а по нему идут океанские корабли, бегают пароходики, шныряют катера. Берег здесь насыпной, укрепленный камнем, высок и обрывист. Спина рыбины мягко спускается с этой обрамленной камнями насыпи песчаным пляжем в залив. Весь остров порос лесом и высоким кустарником. Тишь, безлюдье, а вокруг — водная ширь, бесконечный простор, лишь налево, далеко–далеко, карандашиками трубы Путиловского завода, а направо — тонкой линией Сестрорецк, а за ним лесистый берег Карельского перешейка. Это уже взморье, вход в суровое, северное Балтийское море. Чаще всего оно бело–серое, изредка улыбнется лазурью в солнечные дни, при ветре становится стальным и начинает сердиться рябью свинцовых волн. Это море не нежит, как Черное море, своими красками, своим теплом, оно бодрит, оно освежает усталого и вновь призывает его к борьбе.
Хорошо было здесь нам отдыхать. И ребятам, истомленным ежедневной десятичасовой учебой без игр на свежем воздухе, без спорта и при очень умеренном питании. Хорошо отдыхалось здесь и нам, воспитателям: никаких соблазнов для ребят, некуда им отсюда отлучиться: мостов ведь не было, никому мы не мешали и никто нам здесь не мешал. Ребята купались, загорали, играли в мячи, ловили рыбу, разводили костры — чувствовали себя Робинзонами.
Я тоже отдыхал, как солдат, который после долгого и трудного перехода может наконец скинуть тяжелые сапоги, расстегнуть ворот и распустить тугой ремень. Здесь я мог себе позволить на время такую роскошь. Я чувствовал, как закрученная до отказа пружина постоянного, и днем и ночью, волевого напряжения блаженно расслабляется и не надо все время прислушиваться, как гудит наш неугомонный улей, школа бывших беспризорников, трудновоспитуемых ребят. Там, в городе, надо было выработать особый в этом направлении слух: ведь не пасторали в ней звучали, а питомцы наши не похожи были на аркадских пастушков. Я знал, что в них еще таится и что может вдруг вырваться из глубин их травмированной детской души.
Как‑то, когда мы еще жили в Сергиеве, прибегает ко мне ученик и кричит: «Виктор Николаевич. Скорее: там Милку убивают!»
Милка — это собачонка, приблудившаяся к нам, очень ласковая и всеми любимая. Я мигом вскочил, бегу и вижу: в кустарнике кучка ребят, нагнувшихся и жадно рассматривающих что‑то, а в середине двое окровавленными булыжниками бьют по черепу несчастной, уже бездыханной собачонки. Ужас охватил меня, когда я взглянул на лица ребят: столько у них было жестокости, алчности и какого‑то противоестественного, жадного любопытства. И среди них были и лучшие ученики, цвет школы, будущие писатели, журналисты, агрономы и инженеры.
По окончании университета я год слушал лекции профессора Бехтерева в Военно–медицинской академии и думал, знаю, что такое садизм как извращение психики. Но только вот теперь я понял, что это за ужас и что может таиться у моих ребят. За время беспризорности многие из них так одичали, что в них проснулись инстинкты первобытного человека, для которого насилие было средством существования, жестокость — естественной оборонительной реакцией. Нам надо было следить, чтобы они не избивали слабых или чем‑нибудь не понравившихся им новичков: ведь и стаи первобытных людей приканчивали своих собратьев, ставших из‑за увечья, слабости или старости им помехой. Наши ребята приносили из беспризорности и такие древние обычаи, как обращение в рабство неоплатного должника, как беспрекословное повиновение главарю шайки. Многое у них таилось, что могло вдруг вырваться наружу. Интересно, что, когда назревало, иногда безо всяких видимых причин, такое настроение, они начинали петь «Вышли девки на работу», хотя пения, к сожалению, не было в нашем обиходе. Я хоть и очень люблю хоровое пение, но тут ничего не получалось: большинство ребят уже не могло петь дискантами и альтами, а до теноров и басов они еще не доросли. Когда в 1924 г. началось наводнение и его волны уже стали лизать ступеньки находившегося внизу под нами магазина, вдруг среди нашей возбужденной этим стихийным бедствием ребятни послышалось: «Вышли девки на работу». Мы, педагоги, насторожились: ребята пели вызывающе, все громче и громче, точно чего‑то выжидали, к чему‑то готовились. Но, к счастью, все обошлось благополучно, вода перестала прибывать, ребята успокоились. Потом мы узнали: не так давно прибывшие к нам и, казалось, уже обжившиеся воспитанники затевали грабеж этого магазина, когда вода выломает его окна.
Я не только отдыхал, я думал о школе, о ее будущем, и невеселые были эти думы. Да, нам удалось наладить дисциплину, нам удалось добиться того, что наши старшеклассники не только охотно учились, но могли теперь учиться с увлечением, с азартом, выдерживая 6 уроков и 4 часа вечерних занятий и не по принуждению, а потому что они теперь верили в себя, знали, для чего надо так упорно работать: они хотели наверстать потерянные доселе годы. Мы добились и того, что они увлекались литературой, книгой, знаниями и были очень требовательны в этом отношении к учителям: неподходящих, незнающих, неумелых они быстро раскусывали, и таких мы удаляли без лишних слов, да и сами‑то они скоро сбегали. Зато дельных учителей шкидцы очень ценили и на их уроках вели себя прекрасно. И все это передавалось и остальным отделениям.
Но это и всё, чего мы добились. Как же быть дальше? Уйдет из школы наш первый выпуск, а что же делать с оставшимися, особенно с младшими двумя отделениями? Ведь это были ребята совсем иного рода: им нужны были мастерские, труд не только головой, но и руками, не просто учеба, а такая, которая давала бы им трудовую квалификацию, открывала им путь на заводы, на фабрики. Им нужен был фабзавуч, ремесленное училище с классами I ступени. А этого школа им. Достоевского не могла дать, хотя у нее были прекрасные преподаватели, которые смогли подготовить учащихся старших двух отделений для поступления в любой техникум, хорошо обучив их за курс восьми классов.
Когда у людей нет того, чего они хотят, что должно бы быть, они начинают мечтать. И я стал мечтать, как когда‑то в гимназические годы, хотя уж далеко не был гимназистом.
Я мечтал о школе, построенной на этом острове среди водного приволья, в море свежего, животворящего воздуха, неподалеку от мастерских; и это уже не убогие мастерские, еле справлявшиеся с ремонтом тех суденышек, которые еще оставались в те годы в распоряжении порта. Нет — это были оборудованные по последнему слову техники мастерские, где наряду со взрослыми работают и учащиеся этой школы. Работают не только над ремонтом, но строят сами и небольшие гребные лодки, и лодки с парусами, и катера. Строят их и летом. И не только строят, но и учатся грести на них, управлять парусами, выходят на них на взморье, а потом, подрастая, и в дальние походы, вливаясь, может быть, и в рыбачьи артели на время, в сезон особенно усиленной ловли. У этой школы имеются и спортивные площадки для разных игр и для постоянной тренировки во все времена года, а зимою — лыжи. Наконец, почему бы по примеру нынешних детских железных дорог не предоставить ребятам хотя бы одного речного трамвая, на котором они, играя в речников, подготавливались бы и к будущей своей профессии?
Какие бы тогда крепкие, смелые люди вырабатывались в такой школе!
А когда я сидел на стрелке Канонерского острова и на нее мчалась поднятая ветром морская рябь, то мне казалось, что не волны бегут мимо меня, а сам я мчусь на носу корабля куда‑то вдаль, как плавали, бывало, наши новгородцы с Васькой Буслаевым во главе в город Визби, к берегам Скандинавии. Разнежась на солнце, я погружался в полудремоту, и мне не то снилось, не то грезилось, что мимо меня плывут ладьи варягов, этих неугомонных мореходов–воителей, разъезжавших по всему побережью Западной Европы и в течение трех столетий ходивших на ладьях по великому водному пути «из варяг в греки» от устья Невы до устья Днепра. Эти варяги не только проезжали, но и оседали в немалом числе в том же Новгороде и в городах Приднепровья и, разумеется, не могли не породить, не оставить здесь похожего на себя неугомонного потомства. Я видывал в Новгороде позеров — так назывались тамошние рыбаки, промышлявшие на Ильмень–озере. Это были богатыри; мужчина греб впереди лодки–карбаса, его жена гребла на корме, лицом вперед, и тяжелая лодка стрелой мчалась под могучими взмахами их весел. Таких же богатырей–позеров я видывал и в устье Шелони: они и своим саженным ростом, и всей осанкой, и буйным нравом заметно отличались от жителей соседних деревень, где в озеро не ходили и лишь крестьянствовали. Я убежден, что в жилах этих позеров текло немало и варяжской крови и что сам удалой Васька Буслаев происходил из этого же корня. Ему лишь не повезло в нашем искусстве: былинники очень много сложили стихов и про Илью Муромца, и про Добрыню Никитича, и про Алешу Поповича, а Васеньке пришлось довольствоваться всего лишь двумя былинами. Обидели его и наши художники — ни один не увековечил своей кистью его образа. А напрасно: впоследствии такие же Васьки Буслаевы завоевали и Волгу, пробрались и в Сибирь, добрались и до Тихого океана. Его потомки понадобились и в наше время. Кто, как не Васьки Буслаевы, первыми шли в полки Красной гвардии, а потом первыми же оказались на стройках и Магнитки, и Комсомольска–на–Амуре? А разве не лучшими разведчиками и партизанами были такие Васьки Буслаевы и во время Великой Отечественной войны? А разве и в наши дни его неугомонный дух не творит чудеса и на целине, и в горах Восточной Сибири?
И тогда я просыпался от этих грез, вскакивал и, упрямо топая ногой, говорил, как и теперь: пора же нам, ленинградцам, понять, что мы — приморский город, что мы должны научить наших ребят любить наше море, полюбить всерьез и надолго его суровые просторы, что должны же мы, наконец, воспитать в наших школах такую породу людей, которые тоже могли бы распевать: «Мы в море родились, умрем на море».
Такие понадобятся не только на море.
12. «Чтобы выйти в люди»
Нас спрашивали:
— Как удалось вам добиться, чтобы ваши воспитанники работали чуть ли не по 12 часов в день? Для чего вам понадобилось возложить на них такое бремя?
А некоторые и добавляли: это либо неправдоподобно, либо тут не обошлось без террора.
Наивные люди: они предполагают, что наших шкидцев можно было чем‑нибудь напугать, как‑либо «терроризировать».
Вопрос о перегрузке школьников учебою не нов. Он стоит уже десять лет вплоть до наших дней, особенно теперь, когда в школьные программы надо втиснуть еще и часы политехнического труда, так, чтобы этим не повредить учебе. Эта задача полностью и теперь еще не решена, а где частично и решается, то в корне неправильно: через 3—4 года это вскроется — когда созреют горькие плоды таких корней. Но об этом — в дальнейшем. В школе им. Достоевского мы его решили по–иному. Коллектив — очень ходкое слово: где его только не употребляют! Но далеко не все знают, что оно в сущности означает. Школьники в классе на уроке и эти же школьники в спортивной команде или в игре. Один и тот же коллектив или два разных?
Вот пассажиры трамвая или зрители в кино. У них нет никакого взаимодействия; каждый сам по себе. Лишь один, внешний для них стимул объединяет все эти отдельные единицы — желание посмотреть картину или необходимость ехать в трамвае. Это лишь простая, примитивная форма коллективности — сборище, но еще не коллектив в истинном значении этого слова. Сообщества такого типа еще не могут действовать самостоятельно, или нужен толчок извне — какой‑нибудь главарь, самовластно взявший командование по правилу «кто точку взял, тот и капрал».
Но трамвай остановился — что‑то произошло на пути. Сеанс в кино окончился, и пассажиры, и бывшие зрители бегут к месту происшествия. Но теперь это уже не простое сборище, а уже нечто иное, следующая стадия коллективности: они не только реагируют на внешний стимул, это происшествие, у них уже есть и что‑то общее — то чувство, которое теперь захватывает их всех: ужас, если это катастрофа; негодование, если здесь поймали вора; страх, если тут скандалят хулиганы. И стоит кому‑нибудь самому трусливому пуститься наутек, как все разбегутся в панике; стоит кому‑нибудь нанести удар пойманному вору, и может произойти самосуд. Это уже новый вид сообщества — стадность. Здесь нахалу, вздумавшему командовать, дадут отпор, но охотно, как стадо, бросятся вслед за каким‑нибудь вожаком, в котором всего сильнее выразилось охватившее всех чувство. И тогда возможен массовый героизм, и паника, и животная жестокость.
Следующей, более высокой стадией в развитии коллективности, является такое ее отличие, когда здесь помимо всякого рода взаимодействия, общих чувств, особенно чувства товарищества, появляется и общая цель, объединяющая всех. Это уже организованный коллектив, самодеятельный, стремящийся в совместных действиях осуществить общие цели. Здесь какому‑нибудь главарю делать нечего: над ним лишь посмеются; не пойдут и за эмоциональными, способными лишь на вспышки вожаками — за демагогами, крикунами, паникерами. Здесь выдвигаются актив из людей наиболее пригодных для осуществления таких общих целей и его вожди.
Вот по каким этапам диалектически развивается сообщество. Вовсе не по прямой линии, а по крутой спирали, почти от тезиса через антитезис к синтезу.
Ребята, прибывавшие в школу им. Достоевского, приносили с собой в большинстве случаев навыки лишь низшей стадии коллективности — сборища. У них, как мы уже говорили, сильны были и шаечная круговая порука — «своих не выдавать», и привычка к беспрекословному повиновению главарям–насильникам, и разделение всего мира на «мы» и «они». Попав к нам в школу, они получали и пищу, и кров, им не надо было больше входить для этого в шаечные объединения; здесь не царил уже закон джунглей и можно бы не бояться ни друг друга, ни каких‑нибудь насильников. Ребята находили здесь и еще нечто ценное — радость товарищества, прелесть совместных игр, шалостей, классных занятий, а поэтому очень легко включались в эту, более высокую стадию коллективности, в стадность, которая царила в нашей школе и проявлялась в этих постоянно вздымавшихся волнах разных массовых увлечений, какими бывали и столь привившиеся у нас инсценировка и эти учеты.
Но стадность таила в себе и опасность. Массовые увлечения и стадные вспышки могли произойти и в совсем нежелательных направлениях. Так, например, зверская расправа с Милкой началась с того, что один из шкидцев, угрюмый, замкнутый в себе психопат, стал вместе с другими ребятами играть с этой собачонкой, а потом дразнить и мучить ее. А вызывающее настроение наших питомцев во время наводнения тоже произошло под влиянием одного паренька, недавно прибывшего к нам и перед этим побывавшего в шайке налетчиков в качестве наводчика. Бывали у нас и случаи, когда кто‑нибудь из особо нервных ребят, вспылив или рассердившись иногда из‑за какого‑нибудь пустяка, впадал в такую ярость, что становился невменяемым, способным на преступление и мог заразить таким настроением и товарищей. Вот почему у нас и существовал изолятор — комнатенка, где обычно хранились маты и другие гимнастические принадлежности. Случаи разгрома детских учреждений с пожарными и химерами собора Парижской богоматери, о которых мы упоминали, тоже возникали, вероятно, из‑за таких истериков, заразивших своим настроением и остальную массу ребят. Бывали такие бурные вспышки, когда возникала поножовщина и самосуды, и в колонии им. Горького: из‑за этого как‑то раз Макаренко чуть не пустил себе пулю в лоб. И было это не в первые годы ее существования.
Нам надо было поэтому как можно скорее подводить нашу школу к следующему, более высокому этапу в развитии сообщества — к организованному коллективу, а для этого необходимо было найти и поставить перед нашими ребятами какую‑нибудь единую цель, общую, для всех понятную, всеми желанную и требующую для своего осуществления дружной, непрестанно ведущейся деятельности.
Макаренко такую цель и такую деятельность не надо было ни искать, ни придумывать, они сами возникали с самого начала жизни его учреждения. И эта деятельность была труд: работать, чтобы просуществовать. Его первые питомцы, почти уже взрослые полуворы, полубандиты, сначала не хотели ни работать, ни учиться. Но пришлось ездить в лес, добывать дрова, в город — привозить продукты. А потом пришлось, чтобы не голодать, заняться сельским хозяйством, а позднее, в коммуне им. Дзержинского, стать для этого же за фабричные станки.
Чтобы не голодать, надо работать — вот, что стимулировало всю жизнь его колонии. Труд и не такой, какой значился в планах наркомпросов, — лишь в связи с учебой, не принудительный, не тяжелый, а почти увеселительный, иной. Кто прочел внимательно, как работали горьковцы в пору летней страды, тот знает, что это был вовсе не труд — забава. Но это был нужный, понятный для каждого воспитанника, целесообразный труд, и он творил чудеса, объединял, преобразовывал людей.
Этого мы не могли предложить нашим ребятам. Не могли дать им ни мастерских, ни полей для сельского хозяйства. Чтобы иметь кров, пищу и одежду, им не надо было ни трудиться, ни учиться. Если бы мы предложили им учиться на шофера, на моряка, то страстью к такому учению загорелись бы, вероятно, все. Учиться на слесаря, на столяра, на маляра пожелали бы тоже очень многие. Но учиться вообще, безо всяких перспектив, неизвестно «на кого», им было не интересно. Учиться же на инженера, на врача, на агронома, на учителя большинству из них казалось утопией, несбыточной мечтой, недостижимой целью.
И вот только теперь, когда им на ряде удачных учетов удалось показать не только гостям, но и самим себе, на что они способны, чего могут добиться в учебе, — только теперь наши питомцы смогли совсем другими глазами посмотреть и на себя, и на учебные занятия. Когда же нам удалось добиться полного признания и одобрения со стороны портовиков и сделать Торговый порт нашим шефом, такая общая, способная объединить всех цель была найдена.
Учиться, чтобы добыть себе путевку в жизнь, так сказали бы мы теперь. Учиться, чтобы «выйти в люди», так сказали тогда шкидцы. Это стало их девизом, это звучало в их гимне.
Путь наш долог и суров,
Много предстоит трудов,
Чтобы выйти в люди.
Этим кончался первый ее куплет.
Вот для чего понадобилось нам возложить на наших питомцев такое бремя. Вот во имя чего они могли учиться по 10 часов в день.
Некоторые из особенно пуристически настроенных литературоведов фыркали на это «учиться на кого‑нибудь», на это старорежимное, по их мнению, «выйти в люди». Ведь это прежде действительно означало: выйти в хозяйчики, выбраться из рабочего и крестьянского люда.
Но для наших шкидцев это означало: стать настоящими советскими людьми.
13. Учеба и перевоспитание
Учеба — вот что было у нас главнейшим оружием перевоспитания. Но мало было лишь как можно лучше, добросовестнее преподавать свой предмет. Надо было при этом еще и обучить наших ребят умению так заниматься, чтобы быть в состоянии за один месяц усвоить то, на что их сверстникам в школах обычного типа понадобилось 2—3 месяца. Ведь эти сверстники учились уже в VII‑VIII классах, тогда как мы были еще где‑то между IV и V классами в лучшем случае. Надо было догнать их. Такая задача встала перед нами с первых же месяцев существования школы, а теперь должна была решаться быстро, без промедления: или мы справимся с нею, или у нас ничего не выйдет. Вот старшее отделение. В нем около 15 переростков. У всех богатое, иногда чересчур богатое прошлое, и очень туманное будущее. Они не верят ни в сон, ни в чох и никого не боятся. Уважают лишь силу, но не только физическую. Они любят позубоскалить, на все смотрят скептически, с иронией. В учителе они ценят его знания, умение преподавать и находить подход к ним. Они не стерпят в нем ни фальши, ни трусости, ни популярничания, ни лжи, но уважают его убежденность, принципиальность, умение держать себя с достоинством, требовательность и даже суровость. Сентиментов они не выносят. Но самое главное — они очень хотят учиться, «чтобы выйти в люди».
Небольшая комната, пятнадцать подростков с острыми глазами и один учитель. Он знает: или пан, или пропал, на щите или… хуже того: под щитом. Вот при каких условиях вырабатывались методика каждого предмета и приемы его преподавания.
Я не помню, чтобы мы, учителя и воспитатели, часто и долго заседали над проблемами педагогики, но в течение дня мы постоянно общались, бывали друг у друга на уроках и помогали, если надо. В 3 часа кончалась первая половина дня, и все учителя, воспитатели, старосты и дежурные ученики сдавали заведующему свои рапорты; нужное записывалось в «летопись», а также постановления, которые выносились тут же на таких собраниях. Они‑то, эти короткие собрания, и были нашим главным оперативным органом. По окончании вечерних занятий такое же собрание, но лишь из воспитателей и ученических старост подводило итоги рабочего дня. При всем различии вкусов, взглядов и характеров наших педагогов общая работа рука об руку, всегда напряженная и требовавшая постоянной боевой готовности, сближала нас и позволяла быстро и сообща находить надлежащие приемы как в преподавании, так и в воспитании ребят. Были кроме таких ежедневных маленьких оперативных собраний иногда и педсоветы, но в минимальных количестве и длительности: постоянная боевая обстановка в школе не позволяла нам сколько‑нибудь часто и надолго собираться всем вместе, оставляя без прикрытия фронт и тыл. Были и общие собрания учащихся — эти почаще, и, наконец, совещания с ученическим активом в разном его составе, довольно частые — когда этого требовала обстановка.
Но как бы ни старались ребята, они не справились бы с подобной учебной нагрузкой, если бы нам не удалось путем вот такой практики внести в нашу учебную работу надлежащих изменений, облегчавших труд учащихся и снижавших до минимума их утомляемость.
Это было, прежде всего, знакомое уже как правило: «Всякое учение превращать в деяние», т. е. в какое‑нибудь законченное действие, воплощенное в чем‑нибудь: в рисунке, в вещи, в статье, в инсценировке, в игре. В чем угодно, лишь бы знание не оставалось мертвым. Этот прием вводил в обучение игровое начало, а оно очень оживляло учебу: дети, играя, не скоро утомляются. Мои ученики еще раньше, до школы им. Достоевского, очень охотно превращали уроки по истории в рисунки, напоминавшие у младшеклассников наивную живопись первобытного человека: люди — в виде квадратиков с кружочком вместо головы и четырьмя палочками вместо конечностей. Но самодельные альбомы из таких рисунков очень нравились ребятам и пригодились им и при прохождении, и при повторении курса.
Применение игрового начала в обучении не только позволило нам, как уже говорилось, очень оживить классную работу, превратив ее в некоторых моментах в подготовку к разного рода инсценированию, но и обеспечило нам возможность продолжать классное обучение на вечерних занятиях в иной форме — в виде веселых инсценировок. Но этим далеко не исчерпываются возможности применения игрового начала в обучении. Впоследствии, много лет спустя, это дало мне возможность по–иному поставить и преподавание русского языка.
Индивидуальный подход к особенностям каждого учащегося, невозможный в классах из 40 человек, у нас был не только возможен, но и естественно вытекал из необходимости обеспечить для каждого из ребят возможность идти вместе с классом, несмотря на различия в степени первоначальной подготовки. Для этого и на уроках каждому из учащихся отводилась посильная роль, и для вечерних занятий подбирался для каждого соответствующий материал.
На уроках в первую половину дня приходилась программа–минимум, обязательная для каждого ученика, независимо от его вкусов и способностей; вечерние же занятия предназначались не столько для приготовления уроков, сколько для самостоятельной работы. Это означало, что надо было научить ребят самостоятельно работать над книгой, над учебником, т. е. нам надлежало решить ту задачу, над которой только в наши дни принялись всерьез работать и методисты, и учителя. Разумеется, в те времена мы только ощупью решали ее.
Это сводилось лишь к умению расчленить параграф учебника на отдельные вопросы и составить план статьи, которая была дана ученику для проработки. Но впоследствии это помогло мне создать целый ряд приемов в этом направлении при преподавании русского языка и литературного чтения.
Наглядные пособия еще до революции считались необходимыми при преподавании любого предмета, и тут нам ничего не надо было изобретать, а лишь умело пользоваться тем довольно богатым материалом, который перешел нам от бывшего коммерческого училища.
Кстати сказать, при преподавании русского языка много лет спустя, в наши дни, я совершенно не пользовался теми таблицами по орфографии и пунктуации, которыми наполнены теперь методкабинеты наших школ. И вот почему: эти таблицы очень подробны и часто излишне сложны, а главное, малодейственны. Учитель показывает и объясняет их, учащиеся смотрят на них, все это занимает 15—20 минут, и дело на этом кончается. Таблица остается бесполезно висеть на стене, потому что во время перемены в классе ученикам быть не разрешается, а развлекаться ею на других уроках не полагается. Значит, полезная работа таблицы равна нулю. Другое дело, когда таблица пишется на доске учителем, а одновременно с этим и учащимися в их тетрадях, а затем дома перерисовывается набело в специальные альбомчики, которыми затем пользуются все время и в классе, и при приготовлении уроков. Такие таблицы, над которыми работали и рука, и слух, и зрение, и соображение учащихся, прочно врезаются в память, особенно когда ими постоянно пользуются в течение нескольких лет.
Впоследствии, работая как учитель русского языка над созданием таких приемов преподавания, которые максимально развивали бы у учащихся активность, инициативность, умение быстро и самостоятельно ориентироваться в обстановке, а также упорство и неутомимость в работе, — над преломлением в методику преподавания основных принципов суворовской педагогики, я формулировал суть этих приемов в десятке коротких правил, из которых приведу здесь лишь три: «Поменьше учителя — побольше ученика», «Поменьше объяснений — побольше упражнений», «Тяжело в ученье — легко в походе». Упоминаю о них потому, что зародились у меня эти правила первоначально в школе им. Достоевского, как естественное приспособление к особенностям ее учебного дела. В этом же направлении пришлось приспосабливаться и другим моим товарищам, если они хотели научить ребят самостоятельно разбираться в учебном материале, самим разгрызать те трудности учебника, какие в школах обычного типа должны были разжевывать для учащихся преподаватели. С той же точки зрения, лучшим методом не только получения знаний, но и их закрепления являлись разного рода тренировочные упражнения, особенно проводимые в порядке всевозрастающей трудности: когда такие упражнения давались нашим шкидцам на вечер, то оказалось, что такое усвоение правил — самостоятельное, практическое усвоение — оказывалось хоть и труднее, но гораздо действеннее, плодотворнее, чем самое старательное вбивание их учителями в мозги учащихся. Могу привести иллюстрацию, как меняется проведение урока по первому из этих правил.
На дом было задано: составить вопросник к § такому‑то (7 вопросов) — ученики уже знают, как это делается. Урок сразу начинается с опроса. Сначала проверяем, правильно ли составлены вопросы, а для этого вызываются двое из передовиков класса; они поочередно читают свои формулировки этих вопросов. После каждой формулировки вопрос учителя: кто не согласен? Кто лучше? На это отвечает второй из вызванных, а затем желающие из класса. Если возражений нет и формулировка правильна, разбирается второй вопрос, пока не будут проверены все 7 вопросов. После этого приступают уже к опросу ответов на вопросник; к каждому ответу должен быть приведен посильный свой пример на тему из проходимого в это время литературного произведения. Свой пример на эту тему, не непременно цитата. Но опрос ведется не учителем, а самими учениками, причем здесь возможно несколько вариантов. Вызываются к доске два равносильных ученика из середняков и третий, в качестве судьи, из передовиков. Вызванные поочередно задают друг другу по три вопроса, судья вносит поправки, а если он ошибся, поправки вносят желающие из невызванных. Другой вариант, уже игровой, состязательный. Это обычно при повторении пройденного отдела — самые скучные для учащихся уроки: ничего нового, лишь уловление нерадивых.
Но сейчас совсем иное настроение: идет состязание между звеньями — колонками класса: I и II, затем между II и III, наконец, между III и I. Вопросов теперь много — 15—20, каждый вопрос на отдельной карточке; колода таких карточек тщательно тасуется, избирается жюри по одному самому знающему ученику от каждого звена и ему передаются эти карточки. Состязания проводят звеньевые — каждый в своем и в соревнующемся с ним звене. Он получает от жюри карточки с вопросами и задает их любым ребятам и того, и другого звена поочередно. Судьи следят и очками отмечают ответы каждого — правильные, ошибочные, отсутствие ответа. Очки подсчитываются, оглашаются победители. Учитель лишь присутствует на таком уроке и только сдерживает оживление, когда оно становится чрезмерным.
Скуки на таком уроке–матче не бывает. Усталости тоже не замечается: здесь максимум ученика, минимум учителя и очень много игры.
Разумеется, в школе им. Достоевского такие приемы лишь зарождались. И все‑таки они кое–где давали обильные всходы: ведь те многочисленные ученические журналы и газеты, которыми она славилась, издавались самими ребятами, без всякого вмешательства учителей; состояли же эти журналы из разных статей, которые тоже писались вполне самостоятельно силами учащихся. А это означало, что ребята уже владели в минимальной хотя бы степени искусством не только писать, но и работать над книгой и статьей, умением выражать собственные мысли.
14. Не «халдеи», а учителя
Лучшим орудием воспитания является личность педагога, его пример, способный вызвать подражание. Я знавал преподавателя литературы, которому достался один из старших классов, где учащиеся совершенно не интересовались этим предметом и ничего по нему не делали. А ведь литература — ведущий предмет. И вот этот учитель начал свой первый урок с того, что принялся читать наизусть и очень выразительно первую главу «Евгения Онегина» и прочитал из нее все строфы, описывающие день этого героя, а затем задал вопрос: «Что вы скажете об этом молодом человеке?» Ученики были поражены: как это можно запомнить столько стихов! А в конечном результате литература в этом классе стала любимым предметом и экзамен на аттестат зрелости по нему прошел впоследствии очень хорошо.
Многие полагают, что если педагог обладает хорошими знаниями, а, кроме того, и всеми теми качествами, на перечисление которых в учебнике педагогики отведено целых пять страниц, то этого вполне достаточно, чтобы стать таким примером подражания, таким, так сказать, наглядным воспитательным пособием.
Это не совсем так. За всю свою долгую педагогическую практику я только один раз сподобился узреть подобного нафаршированного всеми этими пятью страницами достоинств педагога, не имевшего при этом ни одной отрицательной черточки, — это в кинофильме «Учительница». Потрясающий образ! Сплошь в добродетелях, вплоть до благотворительности, никаких дефектов и притом с внешностью, не способной ни в ком пробудить греховных помыслов!
Таких в школе им. Достоевского не бывало, да и не могло быть: на первом же уроке у такой аморфной, на белом фоне белыми красками нарисованной учительницы, наверное, произошел бы шумный конфликт: шкидцам нужны были иные, породистые, с четко выраженной личностью педагоги.
У нас бывали всякие педагоги, в том числе и очень хорошие, но все, к сожалению, с недостатками. Был преподаватель математики Д. Представьте себе жгучего брюнета, далеко уже не первой молодости, с пышной шевелюрой, с чрезвычайно выразительной физиономией кавказского образца, с глазами, как оливки, и с необычно широким диапазоном разных эмоциональных реакций. Ученик у доски решает уравнение, учитель на стуле благосклонно взирает на это. Ученик запнулся — на лице у учителя тревога. Ученик выпутывается из трудности — и у учителя улыбка успокоения. Но вот ученик вновь приостанавливается, начинает путать всё больше и больше — педагог вскакивает со стула и изгибается в позе тигра, готовящегося к прыжку. Ученик окончательно запутался и сделал грубую ошибку, и тогда учитель, схватившись одной рукой за голову, другую подняв вверх, трагически восклицает, обращаясь к классу: «Нет, вы посмотрите только, что пишет этот идиот!» А затем кидается к доске, вырывает у «идиота» мел и, пылая гневом и кроша мел, вскрывает ошибку, а затем, объяснив ученику, какое преступление совершил перед математикой сей несчастный, возвращает ему мел, и ученик благополучно выкарабкивается из дебрей уравнения. А учитель, уже сидя на стуле в позе Геркулеса, отдыхающего от очередного подвига, расслабленно, но благосклонно улыбается своему питомцу, вполне сочувствуя его успеху.
Педагогам, присутствующим на подобных уроках, с трудом удавалось воздержаться от смеха при виде таких, никакими методиками не предусмотренных приемов. Но на учеников они действовали совсем по–иному: ребята заражались этими хотя и слишком уж эмоциональными, но вполне искренними реакциями учителя; они сами так же настораживались при неверных шагах своего товарища, так же, как и учитель, негодовали из‑за допущенной им грубой ошибки, так же готовы были накинуться на виновного, да и сам он вполне сознавал свою вину; так же радовались, когда ему удавалось благополучно решить наконец уравнение.
Этот учитель оказался в состоянии, несмотря на все его выходки, добиться того, что математика стала для его учеников любимым предметом. Никаких конфликтов у Д. с ними не было: он хорошо знал свое дело, всегда с увлечением преподавал, всегда был искренен и доброжелателен, прилагал все усилия, чтобы обучить своих питомцев, радовался вместе с ними их успехам, горевал вместе с ними при неудачах. И ребята ценили его.
При всех своих недостатках Д. обладал своей индивидуальностью, он был личностью, это был породистый педагог — из редкой породы учителей–артистов, которые в истории эллинской педагогики носили звание вдохновителей.
Совсем другой породы был один из воспитателей, Спичкин, как его за длинные и тонкие ноги прозвали ребята. Это бывший офицер, всегда подтянутый, строгий, во всем до мелочей добросовестный, требовательный и мужественный, на все смотревший лишь с одной точки зрения: полезно ли это для дела. Он некоторое время, до Октября, учился в академии Генерального штаба и мог поэтому по вечерам помогать ребятам готовить уроки по всем предметам и вести тренировку в повторении пройденного. Дело свое он знал, работал старательно, честно выполняя свой долг. Но дело и долг заслоняли у него людей. И вот какую статейку написал про него Белых. Передам ее, поскольку она сохранилась у меня в памяти. Она называлась
«Спичкин в аду».
«Умер Спичкин и, разумеется, попал в ад. Шагает Спичкин куда‑то на огонек вдали, а навстречу ему дежурный черт, чтобы бросить грешника в адское пламя. Но Спичкин строго спросил его: «Вы — дежурный? Почему так поздно являетесь? Почему под котлами слабый огонь и смола еле кипит? Почему эти черти в карты играют вместо того, чтобы грешников поджаривать?» Черт оторопел и в смущении поплелся вслед за Спичкиным. А тот шагает себе по аду, всюду находит всякие беспорядки и распекает за них не только дежурных, но и ответственных чертей, так что за ним образовалась целая процессия, когда он подошел к самому Вельзевулу, восседавшему на троне. Владыка ада раскрыл было рот, но Спичкин, представившись ему и щелкнув при этом каблуками, заявил:
— Товарищ Вельзевул, я прошел здесь у вас через ряд коридоров, и всюду у вас всякие непорядки: во–первых, у многих чертей и рога, и хвосты не по форме, во–вторых…» — И пошел, и пошел. Вельзевул выпучил на Спичкина глазищи, но слушал его внимательно, а затем и весьма одобрительно: царь ада сам любил всякую строгость и не любил ни в чем либеральничания.
Кончилось тем, что Вельзевул предложил Спичкину стать своим главным помощником. И вот тут Спичкин и развернулся во всю ширь: скоро навел такие порядки, что не только мучимые по–разному грешники орали теперь белугою от адских страданий, но и сами черти готовы были также заорать от усталости, если бы не жесточайшая дисциплина, которую ввел у них Спичкин.
Но однажды он в своем рвении дошел до того, что потребовал, чтобы все черти во главе с самим Вельзевулом и в полночь, и в полдень исполняли хором «Интернационал».
Этого Вельзевул уже не мог выдержать: задрал гневно хвост и ударил им оземь — черти с визгом накинулись на Спичкина и бросили его в геенну огненную».
Каков бы ни был этот воспитатель, но у него было свое лицо, и ребята хотя и огрызались на его замечания, на его требовательность, и посмеивались при этом, как Белых, но все‑таки уважали за то, что он честно выполнял то, что считал своим долгом. Спичкин был из той породы педагогов, у которых есть своя идея, своя вера и которые способны самоотверженно бороться за нее. Если бы он мог преподавать какой‑нибудь предмет, а не только ведать вечерними занятиями, он смог бы обратить в свою веру, увлечь своим предметом и учащихся. Такие педагоги сродни Дон Кихоту, а ведь сумел же он увлечь за собою такого прозаика и реалиста, как Санчо Панса.
Был у нас педагог и совсем иной формации. Назовем его Ам. Он преподавал и очень хорошо преподавал природоведение. Он любил свой предмет и увлекался собиранием вместе со своими последователями учениками всякого рода естествоведческих коллекций. Но он любил свой предмет иначе, чем Д. свою математику: если последний служил ей бескорыстно, как ее жрец, пророк и проповедник, то Ам. был практик, делец и предпочитал, чтобы природоведение служило ему: он мечтал о месте преподавателя где‑нибудь в вузе и усиленно работал в этом направлении. Всегда спокойный, уравновешенный, вежливый и корректный со всеми, он и уроки давал такие же четкие, тщательно отделанные, какими были и его коллекции. Он всегда был спокоен, прекрасно владел собою и на уроках, и во время воспитательских дежурств. Замечания он делал ровным голосом, не повышая тона; так же спокойно, но настойчиво требовал выполнения своих распоряжений, так же спокойно налагал на виновных и взыскания. Его нельзя было обвинить ни в несправедливости, ни чрезмерности требований ни в чем его нельзя было обвинить. И все‑таки большинство учащихся, кроме группы ревнителей природоведения, не любили этого искусного и корректного учителя. Ему часто дерзили, сами не зная почему. А причина была одна: он был для них ни горячим, ни холодным, а лишь тепленьким; он любил свой предмет, он очень толково и добросовестно обучал ему, но ученики для него были лишь объектами преподавания. Он не горячился, не горевал при их неудачах, но и не радовался вместе с ними при их успехах. Он всегда спокоен, слишком уж спокоен, и ученики чувствовали это. Характерно еще одно: собранные им и его группой коллекции были многочисленны, прекрасно обработаны; его препараты животных, птиц и насекомых были иногда гвоздем учетов, но никогда у него не водилось ни кроликов, ни белых мышей, ни морских свинок, ни вообще каких‑нибудь живых существ, за которыми надо любовно ухаживать. Ам. любил лишь препараты и учащихся, вероятно, предпочел бы иметь в препарированном виде. Это тип педагога–дельца, утилитариста, практика. На такого похож описанный Макаренко Шере в «Педагогической поэме» или в совершенно ином — эмоциональном — варианте этого типа Соломон Борисович, завхоз коммуны им. Дзержинского.
Наконец, надо сказать несколько слов и о еще одной породе педагогов, представительницей которой была Э. А., преподавательница немецкого языка и воспитательница школы. Если для педагогов артистического типа характерным признаком является интуиция, наитие, для педагогов второй категории служение своей идее и суровое выполнение долга, а для утилитаристов польза, практическое применение идеи, то для педагогов этой, четвертой, группы такой особенностью является тонкая способность сочувствия в прямом, этимологическом значении этого слова, т. е. способность заражаться настроением другого человека — чувствовать его радость — сорадоваться, непосредственно переживать его горе — сострадать. Вероятно, материнство лежит в основе этого сочувствия, особенно сострадания: оно помогает матери понимать чувства своего беспомощного еще ребенка и приходить ему на подмогу, нянчить, воспитывать его. Пышущая здоровьем, со светлыми золотистого оттенка волосами, всегда энергичная, бодрая, смелая, Э. А. быстро сходилась с ребятами и к каждому умела находить подход: шкидцы младшего отделения охотно распевали с нею под рояль немецкие песенки, а старшее отделение заслушивалось, когда она читала стихи Гейне, и пыталось, как, например, Ионин, переводить их стихами же на русский язык. Эта воспитательница первой кидалась разнимать дерущихся, если обижали слабого; к ней же во всех случаях обращались за помощью, за утешением, за перевязкой ранений, хотя у нас и имелся воспитатель из студентов–медиков, заменявший фельдшера. Это она в ночь пожара, проснувшись от дыма, первым делом бросилась в спальню старших отделений, сумела спокойно, чтобы не возбудить паники, вывести их за собою и затем бросилась на помощь заблудившемуся в дыму дежурному. А ведь она в эти минуты еще не знала, что пожар лишь начинался, что двое наших шкидцев уже мчатся, посланные в расположенную почти рядом пожарную часть. Она не растерялась в дыму, не поддалась страху, и первое, о ком она подумала, были ее воспитанники, дети.
15. Основные породы педагогов
В педагогике и дидактике очень много говорится об индивидуальном подходе к учащимся, о личности педагога, как, пожалуй, о самом важном факторе воспитания, о значении примера, который подает педагог. Но ничего не говорится об индивидуальном подходе к самому педагогу, о том, что такое его личность. Учитель чаще всего рассматривается как простая арифметическая сумма тех достоинств, которыми ему надлежит обладать. Имеются они у него на все 100% — отличный педагог, на 75% — хороший, на 50% — посредственный, ниже 50% — плохой. Разумеется, это не так: каждый педагог вовсе не матрац, набитый добродетелями, а личность, определенный склад характера, особая порода — каждый в своем стиле. Стиль в архитектуре — это органическое единство целого и его частей, это какая‑то идея или цель, лежащая в основе здания и выражающаяся определенными, соответствующими этой идее или цели признаками во всех его частях. Каждая деталь стильного здания по–своему выражает это целое, замысел архитектора, и каждая деталь здания находится в определенном соотношении с каждой другой деталью, также определяя ее характер. Бывают, разумеется, и здания, выдержанные в одном строгом стиле, и здания безо всякого стиля, казармы или дома, которые иногда строятся теперь по девизу одного бравого зодчего, провозгласившего после отмены всяких излишеств и украшательств очень простой девиз: «Дома строятся для того, чтобы в них жить, а не для того, чтобы на них смотреть».
Породы педагогов, о которых идет здесь речь, — это разные стили их личности, их характеров. И породы эти надо знать не для того, «чтобы на них смотреть», а чтобы учесть их особенности, если личность педагога и в самом деле является одним из орудий воспитания. Каждый педагог должен определить, какой он породы, чтобы знать и сильные, и слабые свои стороны, и все особенности этого орудия, т. е. своей личности, как учителя и воспитателя.
Гоголь первым в нашей литературе показал, на какие две группы делятся педагоги: это учителя, которые ломают стулья, когда дойдут до Александра Македонского, и учителя, которые делают «от доброго сердца» рожу и всякие гримасы, когда к ним на урок приходит начальство, чтобы выведать, «не внушаются ли юношеству вольнодумные мысли».
Обычно в театре или в классе, когда слушают слова городничего и Луки Лукича, все дружно смеются. Но нам, педагогам, надо знать, что это карикатура на тогдашнего учителя, шарж, невероятная гипербола; для красного ли словца показал нам Гоголь таких учителей, или здесь кроется нечто глубокое, основное.
Учителя в этом городишке единственно сколько‑нибудь образованные люди: чтобы преподавать в городском училище, надо было кончить учительскую семинарию, т. е. нечто среднее между теперешним педагогическим училищем и учительским институтом. Это интеллигенция города. Но они не приняты в местном обществе — у приятелей и сослуживцев городничего и местного дворянства, на них смотрят пренебрежительно: ведь городничий, который не только каждого торговца тут знал по фамилии, но и чуть ли не каждую собаку по ее кличке, никак не может запомнить фамилий учителей. Вот каков их общественный вес. Но им некуда податься и в другой части городских обывателей: с купечеством, темным, хищным, им не найти общего языка, а дальше идут уже мелкие чиновники, держиморды разных учреждений. Жуткое одиночество и полная беспомощность. А ведь эти учителя были молоды, к чему‑то стремились, некоторые мечтали о подвиге, о героической деятельности — декабристы ведь еще были в памяти.
И вот к таким учителям приходят на уроки не из‑за любопытства, а лишь пронюхать, не наклюнется ли какой‑нибудь материалец, чтобы потом козырнуть где‑нибудь своей бдительностью. Вполне естественно, что учитель, сам когда‑то мечтавший о подвигах, не выдерживает, когда доходит до подвигов Александра Македонского, и в истерическом припадке бьет стулом не о череп такого посетителя, а всего лишь о пол; а его смиренный коллега, ни о каких подвигах не помышлявший, а лишь всего боявшийся, начинает от страха корчиться в нервных спазмах лица: доктора знают, что означают подобные гримасы.
Вот две группы педагогов: обладающие индивидуальностью, породой и аморфные, безличные, беспородные.
Теперь мы, оставив беспородных в стороне, разберемся в том, каковы сильные и каковы слабые стороны каждой из вышеуказанных категорий учителя. Не для того, чтобы учителя, определив свою породу, занялись самопокаянием или самоусовершенствованием, а чтобы всегда учитывали эти свои особенности, как учитывает стрелок свою дальнозоркость, как бывает осторожен в сумерках близорукий. Надо, чтобы и директора, и завучи знали, в чем следует помочь каждому из преподавателей, в чем сила и слабость каждого из них, чтобы не возлагали на них беремен неудобоносимых.
Начнем с той категории учителей, к которой принадлежал Спичкин. Таких можно было бы назвать идеалистами, но в настоящее время к этому термину прилипло столько значений, что он уже в данном случае не годится: ведь и гитлеровцы имели в свое время нахальство считать себя идеалистами. Поэтому условимся называть эту породу учителей теоретистами, потому что у них теория, идея всегда преобладает в ущерб реальному миру вещей и практике. Но это не означает, что они всегда бывают лишь бездеятельными теоретиками; нет: Дон Кихот очень деятельно сражался за свои идеи с ветряными мельницами.
У теоретистов на первом плане отвлеченная мысль, которую они стремятся воплотить в действительность, причем эта идея заслоняет иногда реальность. Алфавитный список учащихся они запоминают скорее, чем живых своих учеников. Студента–практиканта этого типа сразу можно отличить по его манере смотреть на класс и держаться во время урока: он смотрит на что угодно, только не на учеников и держится как‑то натянуто, неестественно, угловато, думая не о сидящих перед ним учащихся, а лишь о плане урока.
Сильная сторона таких преподавателей — хорошее знание методики своего предмета, постоянная работа по своей специальности, а также добросовестная подготовка к каждому уроку. Учитель такого типа просто боится идти в класс, не вооружаясь достаточно подготовкой, как не бросится в море без спасательного круга плохо плавающий. Они, кроме того, обычно очень принципиальны и глубоко убеждены в правильности исповедуемых ими идей. Они требовательны в этом отношении и к себе, и к другим, и эта требовательность нередко переходит у них в нетерпимость ко всем инакомыслящим, в педантизм. Они часто ищут новых путей, не удовлетворяясь проторенными методическими дорожками, и иногда продумывают очень удачные приемы преподавания; они и достаточно инициативны, но плохое умение ориентироваться не в мире идей, а в мире вещей часто приводит их к прожектерству либо к открытию уже известных Америк. Если такие теоретисты обладают еще и эмоциональным темпераментом, то они умеют захватить своею убежденностью и учащихся, особенно старших классов. О таких долго хранится хорошая память. Наиболее сильны теоретисты в объяснении нового материала. Они не станут повторять слово в слово учебник, они умеют подать это новое как‑то по–своему, горячо, убедительно: ведь у них есть свой Александр Македонский, из‑за которого они готовы ломать не только стулья. А это импонирует учащимся. Они всегда умеют чувствовать и ценить живую душу человеческую.
Но, будучи сильны в теории, в знании методических приемов, такие часто бывают слабы в практике: они плохо чувствуют своих учащихся, запоминая лишь хорошо успевающих да отстающих ребят, и долго, иногда до конца года, путаются в фамилиях остальных ребят. Для успешного применения своих теорий у них, кроме того, недостает чувства меры и не хватает необходимого такта. Из таких педагогов нередко получаются методисты типа «чужую беду на воде разведу, а к своей ума не приложу». Такие пишут иногда книги по методике, а сами приличного урока дать не смогут. Не всегда ладятся у теоретиста и отношения с ребятами: ведь для него учащиеся — это лишь объект обучения, и делятся они на любимчиков — хорошо успевающих, на очень не любимых — отстающих, с которыми без раздражения он не может говорить, и на остальных — однообразную, малоинтересную для него массу.
План уроков теоретисты составляют четко, но сами уроки частенько ведут бестолково, увлекшись какой‑нибудь их частью, и задания на дом дают лишь под звонок, наспех. Тетради их учащихся не блещут оформлением: в такие «мелочи» теоретисты не вникают, если только это оформление не становится их коньком.
Педагоги–реалисты противоположность теоретистам хорошо разбираются в мире вещей и людей, они тонко чувствуют настроение ребят; умеют вместе с ними и радоваться, и горевать, и жить интересами каждого из них. Студента такой породы сразу отличишь во время педпрактики. Входит такая девица в класс, приветливо здоровается с ребятами и сразу же свободно, напоминая цыпленка, только что вылупившегося из яйца, но уже уверенно выкладывающего себе зернышки, проходит между партами, проверяя состояние тетрадей, и умеет найти при этом для каждого из учащихся особый подход, особые интонации, обычно веселые, ласковые, шутливые. А затем ведет урок так же свободно, как будто забыв про всякие планы и методики и целиком переключившись на работу с классом, — ведет легко, непринужденно, грациозно, можно сказать. В теории учитель–реалист не силен: ведь у него методика вытекает главным образом из практики, из ее результатов, а не из книг, а поэтому он обычно затрудняется методически обосновать свои приемы. Не всегда умеют реалисты выделить и главное в учебном материале, но зато хорошо умеют видеть самое главное — как он усваивается учащимися, и притом не наиболее способными, а и отстающими, и сейчас же вносят нужные поправки. На уроке им лучше всего удается не объяснение нового материала — тут они лишь толково передают своими словами содержание учебника, а опрос урока: их такт, чувство меры, тонкое чутье настроений всего класса и знание особенностей каждого ученика позволяют им взять от каждого по его способностям и дать каждому по его возможностям. Такой опрос, особенно общий, когда учительница не стоит на одном месте, а все время находится между ребятами, похож на оживленную беседу с ними о чем‑то весьма интересном. Очень хороши такие педагоги и в работе с отстающими, со всеми слабыми; это конек таких учительниц: по–видимому, у них здесь говорит инстинкт материнства. Дисциплина у них строится на сознательности ребят, на знании их особенностей и на умении, каждому, предоставляя надлежащее место в классном коллективе, управлять через ребят жизнью этого коллектива, не навязывать ему своей воли, не подавляя его самостоятельности своим авторитетом.
Слабым местом в работе педагогов–реалистов является их эмпиризм, неумение теоретически обосновать свой опыт и выделить в нем самое главное, а поэтому и опасность разменяться по мелочам. Иногда близкие отношения с ребятами приводят к некоторой фамильярности с их стороны, к ослаблению дисциплины, особенно когда мягкость таких учителей не сопровождается и соответствующей строгостью. Бывает и так, что, постоянно заботясь о своих ребятах и стремясь облегчить все для них трудности, такие воспитатели занянчивают свои классы, не применяют суворовского правила «тяжело в учении—легко в походе», не тренируют их в самостоятельном преодолении трудностей, и тогда получаются классы, склонные в трудных случаях прибегать к чужой помощи и опускать руки, если ее не окажется.
Педагоги–утилитаристы сходны с реалистами в умении хорошо ориентироваться как в вещах, так и в людях. Они не склонны для звуков жизни не щадить: «Хорошо бы тут чайку попить!» Для них весь мир лишь материал для какого‑нибудь использования, а учащиеся — лишь объект обучения и воспитания для получения максимально высоких показателей успеваемости и дисциплинированности. Только не следует думать, что такой утилитарист непременно и карьерист. Педагогической идеологией он себя не затрудняет понапрасну, он эклектик, не брезгует никакими рецептами, если они сулят ему быстрый эффект. Он, например, склонен приравнять всю школьную науку о языке к простому справочнику по правописанию и пунктуации. Его конек не объяснение нового материала — здесь такой учитель перескажет почти дословно текст учебника, указав при этом, что следует вычеркнуть, — не опрос, который у него зачастую превращается в допрос «с пристрастием» для уловления нерадивых. Его конек — всякого рода тренировка в закреплении и повторении пройденного путем разнообразнейших упражений. Тут они действительно мастера: их учащиеся, как из пулемета, выпаливают любые определения и правила, с точностью автоматов производят всякого рода разборы: фонетический, морфологический, синтаксический и т. д. и пишут диктанты очень грамотно, а сочинения по литературе слово в слово по учебнику. Лишь в изложении собственных мыслей затрудняются.
Утилитаристы — мастера на всякого рода оформление. Их документация, их тщательно составленные под диктовку методистов планы — и преподавательские, и воспитательские — на должной высоте; стенгазеты в их классах блещут разнообразнейшими шрифтами, вырезками из иллюстрированных журналов, красочными узорами, так что трудно бывает заметить убогость и трафаретность их содержания. Такие умеют показать товар лицом. Они своих воспитанников знают очень хорошо, но главным образом со стороны их недостатков, по–прокурорски — как подозреваемых или обвиняемых, но умеют находить к ним подход, и дисциплина у них на уроках и в их классах обычно хорошая, внешняя чаще всего дисциплина, основанная главным образом на недреманном оке такого педагога и на хорошем знании нрава и слабостей каждого из учащихся. Утилитаристы нередко бывают и недурными актерами, и хорошими психологами, а поэтому очень удачно, иногда мастерски, владеют своими настроениями и интонациями, используя их не только при обучении ребят выразительному чтению, но и в повседневном своем педагогическом обиходе, угадывая в каждом отдельном случае тон и роль, которую в данный момент выгоднее всего сыграть, начиная от роли нежного отца и кончая ролью грозного судьи.
Обычно они становятся завучами, из них в большинстве случаев комплектуются инспектора разных рангов, многие продираются и в директора, а наиболее предприимчивые проходят в аспирантуру, затем пишут диссертацию на такую, например, захватывающую и актуальнейшую тему, как «Причины отсутствия мягкого знака у наречий уж, замуж, невтерпеж», и достигают степеней известных.
Переходим, наконец, к той породе учителей, к которой принадлежат педагоги–артисты — те, кого у эллинов называли вдохновителями. Такие в чистом своем виде редки, а обычно встречаются с различными посторонними примесями, а поэтому нуждаются в предварительно большой флотационной работе, в очистке, чтобы оказаться годными к делу. Кроме того, «вдохновитель» или «артист» слишком уж пышные названия для такой скромной деятельности, как наша, педагогическая, а поэтому условимся называть представителей этой породы учителями–интуитивистами: ведь главное их свойство — это способность действовать по вдохновению, по наитию, по интуиции. В этом их сила, в этом и слабость. В большинстве случаев они — инфантильные взрослые люди, до седых волос сохраняющие чисто детскую непосредственность. Они хорошо воспринимают мир вещей, но видят их не в их единичности, а как нечто общее, единое, не как арифметическую сумму отдельных слагаемых, а диалектически, как единое во многочисленности целое, как воспринимается картина художника или статуя скульптора. А отсюда их тонкое чутье людей и такое же интуитивное понимание сущности другого человека, какое присуще и детям, и собакам. Они хорошо умеют вчувствоваться и в своих воспитанников, а потому и привлекать к себе их симпатии. Таких школьники начинают любить с первого же раза, сами не зная почему: вспомните князя Мышкина и Алешу Карамазова.
Учителя–интуитивисты могут с большим подъемом вести уроки, вдохновенно: у них всегда имеется свой Александр Македонский. История на их уроках похожа на серию увлекательных фильмов, география — на путешествия по чудеснейшим странам, а природоведение позволяет каждому школьнику почувствовать себя Тарзаном или Маугли среди дружественных или враждебных ему зверей. Особенно хороши такие учителя на уроках литературы. Я знавал одного, который, вместо того чтобы диктовать семиклассникам характеристику действующих лиц «Ревизора», попросту так читал соответствующие места из этой комедии, что все ее персонажи чувствовались ребятами как живые, вполне понятные им люди, и тогда их характеристики строились и очень метко самими учащимися, хотя впоследствии «Ревизор» и был изъят из курса VII класса как якобы непосильный для этого возраста материал. Такие учителя и уроки иногда ведут так, что у них и повторение пройденного, и изучение нового материала сливаются как‑то совершенно органически, а класс напоминает симфонический оркестр, где под руководством дирижера каждый инструмент ведет свою партию, никто из музыкантов не бывает забыт и где сам дирижер время от времени играет лейтмотив. Особенно удаются таким интуитивистам уроки повторения, самая скучная часть курса у учителей других категорий: ничего нового, лишь пережевывание старого. Но особенность интуитивистов в том‑то и заключается, что они ничего не умеют делать по–старому, всё у них выходит по–иному. А поэтому нередко и уроки превращаются в творческие композиции и в них появляются такие импровизации, иногда неожиданные и для их автора, которые совершенно не предусматривались в плане, составленном накануне. Умеют творчески работать и учащиеся такого преподавателя; в их сочинениях не будет, может быть, столь излюбленных методистами цитат, но не будет и повторений текста учебника, будут собственные мысли, будет искренность, непосредственность, творчество.
Но наряду с этим у интуитивистов имеются и иные, тесно связанные с их положительными качествами и отрицательные стороны. Это прежде всего зависимость работы такого учителя от его настроения, и отсюда наряду с высококачественными и очень посредственные, а иногда и просто неряшливые уроки, когда преподаватель работает безо всякого подъема. Умение творчески вести урок, моменты наития и удачных импровизаций иногда приводят к тому, что такие учителя иногда плохо готовятся к уроку, плохо планируют его, надеясь на свои импровизаторские способности; да и хорошо спланированные первоначально уроки иногда тоже не удаются, потому что на них нередко учитель, увлекаясь, комкает план, не доводит урока до надлежащего завершения. Такие преподаватели хорошо обычно владеют речью, но в некоторых случаях не они, а их речь начинает владеть ими. Неладно у них бывает и со всякого рода оформлением: с чистотой тетрадей, с почерком ребят, с аккуратной и постоянной проверкой их письменных работ — всё это иногда ведется кое‑как, даже недобросовестно. Учителям этого типа следует пройти суровую и длительную школу самовоспитания, самодисциплины и постоянно настороженного критического к себе отношения. Только при этом условии они смогут стать тем, чем могут и должны быть, — артистами в преподавании и истинными вдохновителями для превращения школьников в настоящих людей.
Эти нарисованные нами четыре породы педагогов, вероятно, не исчерпывают всех разновидностей учителей. Это всего лишь то, что мне на моем опыте удалось подметить. Но и эти четыре породы редко встречаются в чистом своем виде, а обыкновенно в различных комбинациях, что, впрочем, не лишает таких педагогов–гибридов своей индивидуальности, своеобразной породистости. Но и подобные гибриды вовсе не большинство учителей. Беспородные — вот кто преобладает пока что в рядах учительства, что, впрочем, не снижает их качества как добросовестных преподавателей, как чутких воспитателей.
Я сомневаюсь лишь в одном, могут ли они быть предметом подражания, могут ли они увлекать и вести куда‑нибудь за собою своих питомцев. Я что‑то не замечал, чтобы мальчишки бегали за ними следом, а девочки–среднеклассницы восторженно смотрели на них.
16. Разряды
Наказания и отметки — вот два вопроса, в которых больше всего сказывается отсталость нашей школы от жизни, а также ханжество, лицемерие и фарисейство некоторых лиц, иногда далеких от педагогического дела, но считающих себя вполне компетентными, чтобы судить, рядить, поучать и решать самые сложные вопросы воспитания.
Можно ли применять наказания, или не следует?
В любой отрасли жизни — на производстве, в военном деле, в суде — такой вопрос может показаться попросту бессмысленным. Споры здесь допустимы только в одном направлении: как и какие меры наказания и поощрения надо применять. В учебниках педагогики и в соответствующих инструкциях этот вопрос тоже не только давным–давно решен положительно, но и выработан ряд четких правил, которыми должны руководствоваться все школы, все учителя. Правда, в истории педагогики были случаи, когда на этот вопрос давался отрицательный ответ. Это теория свободного воспитания и неудачные попытки воплотить эту теорию в жизнь в период младенчества советской школы и неизбежных в этом возрасте детских болезней.
И все‑таки и теперь, через 40 лет, нет–нет, а этот вопрос пресерьезно ставится в дискуссионном порядке, на страницах педагогических журналов, и находится немало таких, которые считают всякое наказание «моветоном». Но это еще не совсем ханжество. В обиход нашей школы прочно вкоренился и иной способ избегать подобного «моветона», не затрудняя себя при этом необходимостью вспомнить о соответствующих правилах из учебника педагогики. Этот прием является уже ханжеством и лицемерием самой чистой воды. Этот прием известен каждому школьнику на его собственном горьком опыте и каждому взрослому из любого литературного произведения на тему об учащейся молодежи. Что делают многие педагоги, завучи и директора, когда ученик напроказил или получил несколько двоек? Они обычно вызывают родителей и делают им соответствующее внушение; родитель выслушивает таковое и дома расправляется с виновником по–своему, чаще всего просто выпоров его. Добродетель торжествует, порок наказуется. Никаких излишних хлопот, коротко, оперативно: мы обходимся без наказаний, могут похвалиться такие педагоги. В средние века испанские инквизиторы тоже могли похвалиться, что они никогда не проливают крови грешников. Эти кроткие христолюбцы могли обходиться без такого «моветона» по одной простой причине: они предпочитали сжигать еретиков «в великолепных аутодафе».
Я в бытность свою воспитателем в школах обычного типа тоже прибегал к вызову родителей, но только делал это иначе. Прибегает, бывало, ко мне испуганный родитель и уже заранее всей своей мимикой выражает полнейшее во всем согласие со мной и готовность следовать всем моим указаниям. Но я в ответ на его жалобы на сына или дочь начинаю доказывать оторопевшему вдруг папеньке, что его сын или дочь, в сущности, очень славные ребята, но только им не повезло на родителей. От оторопи родитель переходит тогда к обороне, а иногда и к очень эмоциональному наступлению, но чаще всего под давлением фактов сдается, мы дружески жмем друг другу руки, а на следующий день я пожинаю уже плоды моей дипломатии: мой ученик озаряется теперь благодарной улыбкой, а спустя время уже сам присылает ко мне своего грозного родителя, чтобы он мог получить теперь отзыв от меня о поведении и успехах своего чада. Но это вовсе не означает, что я считал применение наказаний «моветоном».
И в школе им. Достоевского тоже применялись наказания первоначально в том виде, как это практиковалось раньше во всех закрытых учебных заведениях. Но вскоре стала обнаруживаться малая пригодность многих из этих мер. Прежде всего столь излюбленное прежде, до революции, оставление «без сладкого» или без обеда. Ведь сладкого‑то в нашем меню вообще не бывало, если не считать минимальных порций сахарного песку к чаю, да и то бывавшего далеко не всегда. Оставлять без обеда тоже можно было недолго — только в первые месяцы существования школы, когда она только еще комплектовалась небольшими партиями, а пайки отпускались авансом в несколько большем количестве, чем было в наличии учащихся. А лишать обеда ребят потом, когда школа была укомплектована и все сидели на полуголодной пайке, было не только бесчеловечно, но и непрактично: в этом случае у ребят обнаруживалась такая хорошая товарищеская спайка, что они всегда делились своими порциями со «сламщиками», да и кухонные старосты тоже держались особых взглядов на методику наказаний и поощрений.
Приходилось искать других, более практичных и эффективных мер, и они были подсказаны нам самой жизнью. Дело в том, что у нас не только с питанием бывало всегда туговато, но и с обмундированием ребят было не только не лучше, а, пожалуй, и похуже, особенно в первые годы. История с ушанками и лаптями — всего один лишь из эпизодов, когда нам приходилось как‑то выкручиваться из трудных положений. Поэтому и повелось докладывать ребятам о каждом приобретении и записывать все полученное или добытое в «летопись» в присутствии ученического актива и вместе с ним обсуждать, кому прежде всего следует выдать башмаки, рубаху, пальто и т. д. Часто возникали на этой почве горячие споры, и всегда находились обиженные, считавшие себя обойденными. И вот тут‑то совершенно естественно и возникала мысль разделить всех ребят на разряды так же, как это делается всюду на производстве, где, чем выше разряд, тем выше прилагаемые к рабочему требования, тем выше и причитающаяся ему зарплата.
Разрядов получилось пять.
В первом разряде те, кто не имел ни одного замечания в «летописи» в течение четырех недель. Перворазрядники пользуются еженедельными отпусками с субботы до понедельника, если у них имеются родители или знакомые, известные заведующему школой. Перворазрядник пользуется правом прогулок в свободное время и в течение рабочей недели; он только должен, уходя, заявить об этом дежурному воспитателю и явиться к нему, придя в школу. Мы вполне доверяли перворазрядникам и иногда не имели случая раскаяться в таком доверии:
шкидцы очень ценили такое к ним отношение.
Ко второму разряду относились те, кто за неделю не имел записей в «летопись». Они, так же как и перворазрядники, пользовались отпуском, но право свободной прогулки для них ограничивалось временем после обеда и началом вечерних занятий.
В третий разряд входили те, кто получал не более трех записей в «летопись» в течение недели. Такие пользовались лишь отпуском, если имели родителей, но правом свободной прогулки они не пользовались, а могли играть лишь во дворе школы или гулять группой в сопровождении дежурного воспитателя.
В четвертом разряде считались те, кто получил свыше трех замечаний, а поэтому и лишались как права отпуска, так и прогулок вне школы даже с воспитателем. Но если они за неделю не получали ни одного замечания, то переводились в третий разряд.
Наконец, в пятом разряде значились те, кто был замечен в воровстве, позволял себе насильничать по отношению к младшим или слабосильным товарищам, был виновен в умышленной порче школьного имущества и наглом поведении по отношению к педагогам. Такие не пользовались ни отпуском, ни прогулками вне двора школы; к таким мог быть применен и изолятор.
Все полученные за день замечания рассматривались на активе школы заведующим либо его заместителем. Каждый записанный имел право возражать против записей, и если ему удавалось доказать свою правоту, то запись вычеркивалась с согласия сделавшего такую запись. Разряды же устанавливались воспитателями на еженедельных классных собраниях с правом апелляции заведующему школой.
При наличии разрядов распределение всяких благ очень упрощалось: оглашался список вещей, подлежащих распределению, старосты составляли список нуждающихся, а затем в порядке очереди по разрядам и распределялись эти вещи в присутствии дежурного воспитателя.
Сначала шкидцы отнеслись к введению разрядов с обычным для них зубоскальством и бравированием, и многие заявляли при этом очень самонадеянно: «Подумаешь, какая важность проходить неделю без замечаний! Захочу, прохожу без них хоть целый месяц!» Но оказывалось, что не так‑то это легко и далеко не каждому это было по силам. Бахвалы тогда конфузились на ближайшем же недельном собрании, и над ними тогда посмеивались: «Ну, захоти, пожалуйста! Ведь тебе ничего не стоит захотеть!»
Таким приходилось серьезно призадуматься: ведь они до сих пор многим товарищам импонировали лишь своей дерзостью, своими выходками против «халдеев» и казались ребятам чуть ли не героями. А вот теперь они оказывались какими‑то слабосильными. Теперь разряды стали мерилом самооценки, испытанием своей волевой выдержки, своей ценности. И когда какому‑нибудь закоренелому бузовику удавалось, наконец, попасть во второй разряд, то он весь сиял от радости. Больше того, бывали случаи, что такой второразрядник или третьеразрядник, получив лишнее замечание, начинал истерически кричать: «Накажите меня как хотите, только не снижайте моего разряда!» И это было вовсе не из‑за тех выгод, которые давал добытый с немалым трудом разряд: здесь затрагивалось что‑то гораздо более важное.
Пришлось подумать, как помочь таким ребятам. И такие средства были найдены: одно — снизу, самими ребятами, более удачное; другое — сверху, нами, педагогами, менее удачное.
Ведь помимо наказаний имеются всюду и награды, всякого рода поощрения: награждают же взрослых премиями, орденами, чинами, медалями. Шкидцы были реалистами, а поэтому всякие внешние поощрительные украшения, которые так часто практиковались в школах Запада, у нас вызвали бы зубоскальство. Другое дело, если в «летопись» вносились такие поступки, как заступничество за обижаемого товарища, как хорошая инициатива, отлично выполненная работа или выполнение в порядке добровольчества, не по наряду, каких‑нибудь тяжелых или неприятных работ. Такие поощрительные записи принимались в расчет при определении разряда, особенно когда ставился вопрос о его снижении. Но во всех случаях это должно было доводиться до сведения заведующего, чтобы не допустить при этом такого упрощенчества, к которому оказались были склонны на первых порах не только ребята, но и некоторые воспитатели: «хорошая» запись аннулирует «плохую».
Мера, придуманная воспитанниками школы, непосредственно вытекала из столь принятого у беспризорников содружества двух товарищей — «сламы», при котором каждый должен был делиться со своим «сламщиком» всем, что имел, и во всем ему помогать. И вот в тех случаях, когда какому‑нибудь четверто- или пяторазряднику никак не удавалось продвинуться вверх, нередко ему на помощь приходил «сламщик» и заявлял, что берет его на поруки. Этот обычай, как известно, вводится теперь на производстве, но у нас он был поставлен, по–моему, гораздо деловитее: «сламщик» не просто брал на поруки своего товарища — он еще и отвечал за него своим разрядом: всякое замечание, сделанное его товарищу, заносилось и в счет самого поручателя. А это налагало обязанность все время думать о своем товарище — как бы не подвести его, приходилось сдерживаться, обдумывать свои действия. Разряды, таким образом, развивали тормоза, умение управлять собою, вырабатывать то, что так ценят мальчики, — силу воли, возможность стать настоящим мужчиной.
17. «Мы» и «они»
Основные приемы, применявшиеся в деле обучения и воспитания в школе им. Достоевского, теперь ясны. Остается лишь подвести итоги — определить, каковы же конечные результаты этих приемов. А мы уже говорили, что лучшим критериумом воспитательской работы любого педагогического коллектива является ответ на вопрос: удалось ли педагогам преодолеть то противостояние «мы» и «они», которое обычно возникает в любом учебном заведении? Макаренко в своей «Педагогической поэме» блестяще решил эту трудную задачу: у него совет командиров, состоящий из воспитанников в колониях и им. Горького, и им. Дзержинского, был главным орудием не только управления этими колониями, но и перевоспитания их питомцев. Здесь не было и не могло быть никакого «мы» — «они», здесь было только «мы», а поэтому получались и блестящие результаты.
Один из критиков школы им. Достоевского, литературовед, говорил: «Шкида была в более выгодном положении по сравнению с колонией имени Горького прежде всего потому, что воспитанников у Викниксора было гораздо меньше. Кроме того, школа имени Достоевского резко отличалась от колонии имени Горького и по возрастному составу своих подопечных. В шкиде в основном дети в возрасте от 10 до 13 лет. Возраст колонистов в колонии имени Горького колебался от 7—8 до 17—18 лет».
Я не литературовед, а поэтому не берусь оценивать с этой специальной точки зрения произведений художественной литературы, я могу судить о них лишь как читатель: сказать, что мне нравится и почему и что и почему не нравится. Точно так же, если портной мне неудачно сошьет костюм, я могу точно сказать, где он мне жмет и что мне в нем не нравится; но вряд ли я сочту себя вправе объяснять портному, как надо было кроить этот костюм и каким образом портной должен его перекроить и перешить. Так же обстоит дело и в других отраслях, начиная от сапожного ремесла и кончая телевизором новейшей и сложнейшей системы. Никакому заказчику не придет в голову учить сапожника, как надо тачать сапоги. Другое дело в области обучения и особенно воспитания. Здесь и по сию пору прав остается Лука Лукич: «Не. приведи бог служить по ученой части, всего боишься. Всякий мешается, всякому хочется показать, что он тоже умный человек».
Так обстоит и с вышеупомянутой критикой таких совершенно различных по своим особенностям и возможностям учебных заведений, как школа им. Достоевского, и колоний, которыми ведал Макаренко.
Да, возраст шкидцев при их поступлении не превышал 13—14 лет, а через 3—4 года, когда они заканчивали курс своего обучения, 16—17 лет. Но ведь всякий, кто хоть немного знаком с педагогикой и с психологией школьного возраста, знает, что это как раз самый критический, самый трудный для родителей и воспитателей возраст в развитии человека, период упорного негативизма, когда мальчик перестает быть послушным ребенком, но не стал еще и юношей, уже умеющим в известной степени управлять собою. Поэтому нет ничего удивительного, что читателю «Республики Шкид», где отразилась эта возрастная особенность ее питомцев, и кажется, что там только тем и занимались, что бузили; такой читатель может, разумеется, не догадаться, что эта постоянная буза была, в сущности, лишь одним из проявлений игрового начала, которым бурлит обычно этот переходный возраст: ведь шкидцы всегда и во всем прежде всего играли: и когда учились и инсценировали учебные программы, и когда издавали свои многочисленные журналы, и когда образовали юнком, свою пионерско–комсомольскую организацию, и когда четвертое отделение основывало «Всемирную бузовую Империю Улиганию» с «Аркою Викниксора I» и «Аркою Эланлюм», которые должны были означать, «что при всей ненависти улиган к халдеям они сохранили уважение к выдающимся лицам этого враждебного государства». Игра эта захватила всю школу. Но вспыхнуло восстание в Кипчакии, одной из колоний этой империи (III отделение школы), и ее диктатор был арестован, а Курочка, предводитель восставших, взобрался на памятник Бузы и сказал: «От имени всей республики Шкид объявляю государственный переворот в империи Улигании. Довольно страна находилась под игом диктатора. Объявляю свободную советскую республику». Ребята наигрались вдоволь, и «за вечерним чаем Викниксор, мило улыбаясь», поздравил их с окончанием гражданской войны и предложил объединиться вместе с «халдеями» в Союз советских республик. При этом была объявлена амнистия всем пятиразрядникам.
Совсем иной состав был у Макаренко с самого начала работы его учреждений: к нему прислали шестерых восемнадцатилетних парней, они уже давно забыли детские игры и уже научились вооруженному грабежу. Два из них вскоре были арестованы за убийство, четверо остались в колонии и вместе с такими же великовозрастными парнями, присланными позже, не только прижились здесь, но в течение 5—6 лет, т. е. до 22—23 лет, были основным ядром колонии — знаменитым советом командиров, помощников Макаренко, которые руководили всеми ее отрядами и фактически состояли ее воспитателями, как, например, Георгиевский у пацанов. Это была большая удача Макаренко: здесь сразу пресекалась всякая возможность деления на «мы» и «они», здесь не могли быть и «халдеев», а лишь иногда бывали негодные педагоги. Насколько велика была роль этих командиров, бывших одновременно и воспитанниками, и воспитателями, видно хотя бы из того, что когда Макаренко уехал в Куряж, чтобы подготовить там все к переезду сюда горьковских колонистов, то он все дела по колонии поручил не педагогам, а одному из командиров–воспитанников. Вот это‑то обстоятельство и было решающим условием ее успеха. Здесь правило «поменьше учителя, побольше ученика» оказалось всего эффективнее. Вот почему в обоих произведениях Макаренко на первом месте — всегда трудящийся на полях или на производство коллектив колонистов, затем — наиболее видные его члены, командиры и хозяйственники и только на третьем плане — педагоги, да и то по преимуществу воспитатели, а об учителях почти совсем не упоминается.
Мы уже говорили о втором отличии колонии имени Горького: в ее основу был положен сельскохозяйственный и иной физический труд — положен прежде всего самою жизнью, а не только педагогическими соображениями: с первых же дней ее существования перед первыми ее питомцами, вот этими восемнадцатилетними бандитами, поставлена была дилемма: либо работать, чтобы не голодать и не замерзнуть, либо продолжать прежние налеты. Двое предпочли второй, уже привычный им путь, но были арестованы и получили надлежащее возмездие, теперь уже безо всяких скидок на несовершеннолетие. Остальные учли это возмездие и принялись за работу. И этот коллективный, целесообразный, понятный им труд постепенно, но далеко не сразу перевоспитал их: ведь кражи у соседей и в своей же колонии не прекращались здесь чуть ли не до самого переезда ее в Куряж.
Совсем иное было в «Шкиде»: прибывавшие сюда ребята не только приносили с собою принципиальное отрицание, как мы уже упоминали, личности педагога, но еще всегда стремились чем‑нибудь щегольнуть перед товарищами, каким‑нибудь молодечеством, удальством, а это всего проще было проделать посредством всяких выходок по отношению к педагогам, начиная от почти обязательного зубоскальства по их адресу и кончая чистейшим хулиганством, причем на всякое сближение с «халдеями» здесь первоначально смотрели очень подозрительно и каждый больше всего боялся прослыть «легавым».
При такой атмосфере да еще при почти болезненном негативизме наших ребят решение задачи «мы» и «они» наталкивалось на очень большие трудности и требовало очень искусного подхода: лобовые атаки здесь не годились, всё надо было проводить методом косвенного внушения.
Разумеется, вовсе не следует полагать, что между нами и нашими питомцами были всегда непременно враждебные или хотя бы натянутые, холодные отношения. Нет — даже в моменты самой, казалось бы, беспричинной, безудержной «бузы» было больше игры, чем какой‑либо вражды. И если по ее правилам, когда была объявлена Улиганией война «халдеям», надо было взять в плен пришедшего на урок преподавателя Алникпопа, то добродушный «дядя Саша», как его называли ребята, вовсе не впадал из‑за этого в раж, а, признав себя пленником, садился за стол и начинал урок, причем и «неприятель» ничего не имел против этого, раз условия игры не нарушались, и охотно занимался историей. Нет, наши шкидцы были в конце концов детьми, ценили хорошее к себе отношение и охотно сближались с воспитателями и, разумеется, никак не могли удержаться, чтобы в такие минуты не поделиться с нами не только своими горем и радостью, но и всеми школьными новостями и тайнами. Но это допускалось лишь при одном условии: говорить обо всем если не при всех, то при других товарищах, говорить не прямо, а намеками — тогда это не означало «легавить». С другой стороны это обязывало и педагогов не давать какого‑нибудь хода таким сообщениям. Это было джентльменское соглашение двух сторон, говоря дипломатическим языком. Мы, педагоги, обычно знали всё, что у нас деется среди ребят, но ничего не могли предпринять методом прямого вмешательства, а должны были действовать методами косвенными, через наших же питомцев. Так, например, было инспирировано «восстание Кипчакии», когда «буза$1 — игра в Империю Улиганию стала затягиваться. Вот почему с организацией какого‑нибудь подобия пионеров или комсомольцев пришлось выжидать, пока сами ребята не стали говорить об этом и не предприняли, наконец, решающих шагов. Разумеется, на свой фасон: организовали тайные собрания кружка политграмоты и не в классе, на что, разумеется, никакого согласия ни у кого не надо было спрашивать, а непременно в полночь, в пещере, при мерцающем свете фонаря, как у заговорщиков или подпольщиков. Собрание это, происходившее в дровяном сарайчике, было обнаружено дворником, принявшим ребят за налетчиков, явился Викниксор, грозное «Марш спать», а на следующий день не только разрешение организовать юнком, но и предложение повести за собою по пути коммунистического воспитания и всю школу, всех остальных товарищей. Вот при таком подходе «мы» — «они» исчезло. Юнкомовцы действовали теперь рука об руку с педагогами, боролись с нарушениями дисциплины, устраивали субботники, хотя кое‑кто из ребят и смотрел на них как на предателей, как на легавых.
Правда, они оказались бессильны предотвратить те безобразия, которые произошли в школе, когда мне пришлось уехать в Москву на один из съездов. Безобразия эти, воровство и кутеж вне школы, произошли под влиянием недавно присланного к нам, вопреки моему протесту, пятнадцатилетнего подростка с уголовным прошлым. И все‑таки юнком сделал всё, что мог: к моему приезду весь материал по этому делу был точно зафиксирован им в «летописи», и мне оставалось только, не тратя времени на совершенно бесполезные в данном случае разбирательства, проверить с помощью общественного мнения и этот материал, и отношение ребят ко всему делу. А для этого прибегнуть к варианту известного им из жизни эллинов остракизма: каждый ученик получил по листку и должен был написать фамилию наиболее виновного в этой истории. 36 листков оказались с известными нам уже по «летописи» фамилиями; остальные листки — без фамилий по вполне понятной причине: виновные воздержались — или с надписью: «боюсь писать — побьют».
Меня спрашивают: почему же юнком, сосредоточивший в себе лучшую часть ребят старших двух отделений, ничего больше не смог сделать? Почему не было разбора этого дела на общем собрании?
В «Педагогической поэме» есть место, где говорится, как Джуринская, одна из сотрудниц Харьковского соцвоса, с восхищением сказала после заседания совета командиров: «Ваш совет командиров — страшная сила». Вряд ли при этом Джуринская в достаточной степени учла и то обстоятельство, что командиры эти были вовсе не мальчиками, как она их называла, а взрослыми парнями и обладали великолепной мускулатурой.
Юнкомовцы этим достоинством не обладали: они были щупловаты.
1
Сепик — финский пшеничный хлеб.
(обратно)2
Вознесенский проспект — ныне проспект Майорова в Ленинграде.
(обратно)3
Цейхгауз — военный склад для хранения запасов оружия или амуниции.
(обратно)4
Старообрядцы, староверы или раскольники — значительная часть православных русских, не принявших религиозной реформы XVII века и оказавшихся в оппозиции и к господствующей церкви и к царскому правительству.
(обратно)5
Хорунжий — первый офицерский чин в казачьих войсках русской армии.
(обратно)6
"...Женился... на "никонианке". — Никон (1605-1680) — патриарх русской православной церкви. Для укрепления церкви проводил реформы, которые не были приняты большей частью верующих. Церковь раскололась на "никониан" и раскольников, или старообрядцев (см. выше). Таким образом, родители Леньки оказались принадлежащими к разным и даже враждебным друг другу частям верующих.
(обратно)7
Египетский мост — мост через Фонтанку; получил такое название благодаря украшениям в древнеегипетском стиле.
(обратно)8
Коломна — район старого Петербурга в устье реки Фонтанки.
(обратно)9
Большая Конюшенная — ныне улица Желябова.
(обратно)10
Универсальный магазин Гвардейского экономического общества — ныне торговая фирма ДЛТ.
(обратно)11
Шпак. — Так презрительно называли офицеры царской армии мужчин в штатской одежде.
(обратно)12
Везенбергская улица — ныне улица Шкапина.
(обратно)13
Распутин Григорий (1872-1916) — фаворит царя Николая II и его жены, царицы Александры Федоровны, имел неограниченное влияние на царя, царицу и их окружение. Был убит монархистами.
(обратно)14
Учредительное собрание — выборный законодательный орган, который должен был принять основы конституции России. Выборы в него состоялись летом 1917 года, но открылось оно после победы Великой Октябрьской социалистической революции, когда основы конституции были заложены первыми декретами Советской власти. Так как контрреволюционное большинство отказалось утвердить эти декреты. Учредительное собрание было распущено, просуществовав всего один день — 5 января 1918 года.
(обратно)15
Английский пешеходный мостик — небольшой мост через Фонтанку у выхода к ней проспекта Маклина (бывшего Английского проспекта).
(обратно)16
Троицкий проспект — ныне проспект Москвиной.
(обратно)17
"Нат Пинкертон", "Ник Картер", "Шерлок Холмс" — низкопробная литература о сыщиках, пользовавшаяся большой популярностью у подростков в предреволюционное время. Не следует путать бульварные издания "Шерлока Холмса" с произведениями известного английского писателя Артура Конан Дойла (1859-1930) — "Приключения Шерлока Холмса", "Записки о Шерлоке Холмсе", "Собака Баскервилей" и другими.
(обратно)18
"Он читал Плутарха и сказки Топелиуса...". — Плутарх (ок. 46 ок. 127) — выдающийся греческий философ и писатель. Наибольшей популярностью у юношества пользовалась его книга "Сравнительные жизнеописания", в которой Плутарх создал галерею образов великих людей Греции и Рима (Александр Македонский и Цезарь, Демосфен и Цицерон и так далее). Цакариас Топелиус (1818-1898) — известный финский поэт, прозаик, сказочник.
(обратно)19
Екатерингофский проспект — ныне проспект Римского-Корсакова.
(обратно)20
"Во времена Великой революции во Франции санкюлоты, голоштанники...". — Санкюлоты — так презрительно называли аристократы городскую бедноту, носившую длинные панталоны из грубой ткани, в отличие от богатых людей, носивших короткие штаны ("кюлот") с шелковыми чулками. В разгар французской революции санкюлотами стали называть себя сами ее участники.
(обратно)21
Памятник Славы. — Рядом с Троицким собором находился памятник Славы, воздвигнутый в честь победы русской армии в русско-турецких войнах. Это была колонна, составленная из 128 трофейных турецких пушек.
(обратно)22
Лигово, Петергоф, Озерки — пригороды Ленинграда.
(обратно)23
"Братья Карамазовы" — роман Ф.М.Достоевского (1821-1881).
(обратно)24
Пауперизация — обнищание трудящихся масс в эксплуататорском обществе.
(обратно)25
"...Напевал Хаз-Булата...". — "Хас-Булат удалой" — одна из самых популярных песен конца XIX века и до настоящего времени. Слова песни принадлежат малоизвестному поэту А.Н.Аммосову (1823-1866), музыку написала О.X.Агреева-Славянская (1887-1920).
(обратно)26
Брандмауэр — каменная стена между зданиями для защиты от пожара.
(обратно)27
"...Выполняя условия Брестского мирного договора...". — 3 марта 1918 года, чтобы прекратить кровопролитную войну, Советское правительство заключило мирный договор с Германией, получивший название Брестского договора. Левые эсеры, не признавая этого договора, пытались спровоцировать войну, подняли контрреволюционный мятеж в Москве и Ярославле.
(обратно)28
Парижская коммуна — первая в истории пролетарская революция 18 марта 1871 года в Париже.
(обратно)29
Екатерининский канал — ныне канал Грибоедова.
(обратно)30
Миллионная улица — ныне улица Халтурина.
(обратно)31
Морская улица — ныне улица Герцена.
(обратно)32
Удельная — пригород Ленинграда.
(обратно)33
Детскосельский вокзал — ныне Витебский вокзал.
(обратно)34
Международный проспект — ныне Московский проспект.
(обратно)35
Бойскауты — организация детей в капиталистических странах, существовала и в России. Распущена в 1919 году.
(обратно)36
"Здесь были и Тредьяковский, и Сумароков, и Дидеротовская "Энциклопедия", и первое издание "Илиады" в переводе Гнедича, и Фома Кемпийский 1784 года издания...". — В.К.Тредьяковский (1703-1769), А.П.Сумароков (1717-1777) известные русские писатели XVIII века; речь идет о главном труде французского писателя и философа Дени Дидро (1713-1784) "Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел" — Дидро был ее основателем и редактором; "Илиада" — эпическая поэма легендарного древнегреческого поэта Гомера. Ее перевод был минным делом жизни русского поэта и переводчика Н.И.Гнедича (1784-1833); Фома Кемпийский (1380-1471) средневековый религиозный писатель, наибольшую известность получила его книга "Подражание Христу".
(обратно)37
Подробно о Гришкином детстве рассказано в повести Г. Белых «Дом веселых нищих». Изд. «Детская литература», Ленинград, 1965 г.
(обратно)38
Руже де Лиль — автор французского гимна.
(обратно)39
Более подробно о Ленькином детстве рассказано в автобиографической повести Л. Пантелеева «Ленька Пантелеев» (см. сборник «Повести и рассказы». Л., Детгиз, 1967 г.).
(обратно)40
Школа имени Достоевского.
(обратно)

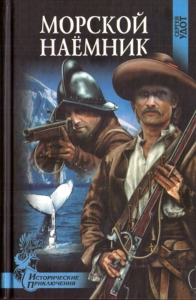


Комментарии к книге «Республика ШКИД (большой сборник)», Алексей Пантелеев
Всего 0 комментариев