Посвящается Безумной Белой Женщине с реки Папар.
Пояснительная записка
Одним из весьма вдохновляющих стимулов к дальнейшему редактированию архива Флэшмена стал широкий отклик обычных читателей и ученых-историков из всех уголков мира на публикацию первых четырех томов. С тех пор как в 1965 году знаменитые рукописи Флэшмена были найдены на распродаже в Лестершире и стало ясно, что они представляют собой доселе неизвестные автобиографические мемуары достопамятного стервеца из книги «Школьные годы Тома Брауна», к редактору хлынули письма из самых отдаленных мест вроде острова Вознесения, лагеря отдыха американских джи-ай во Вьетнаме, с факультетов различных университетов и из студенческих кампусов Британии и Америки, современного караван-сарая на Хайберском перевале, одного из полицейских постов в Южной Австралии и много еще откуда.
Особую признательность вызывает, что в письмах проявлялся не только интерес к Флэшмену лично, но и наличествовали достаточно подробные исторические знания наших корреспондентов, касающиеся того или иного периода, а также событий, отраженных в его мемуарах, опубликованных к настоящему времени, таких как: Первая афганская война, решение проблемы Шлезвиг-Гольштейна (в которой были замешаны граф Бисмарк и Лола Монтес), афро-американская работорговля и Крымская война. Многие читатели поделились интересными наблюдениями, а один или двое даже обнаружили забавные несоответствия в воспоминаниях Флэшмена, которые, к сожалению, не были замечены редактором. Так, леди из Афин и джентльмен из городка Флинт, штат Мичиган, указали, что Флэшмену, очевидно, удалось повидать герцогиню Веллингтон в Лондонском театре через несколько лет после ее смерти, а письмо из секретариата Министерства иностранных дел отметило его ссылку на «британского посла» в Вашингтоне в 1848 году, в то время как на самом деле представитель Ее Величества в американской столице имел тогда менее высокий дипломатический ранг. Все эти накладки вполне можно понять, а то и простить, если учесть особенности памяти восьмидесятилетнего старика, прожившего трудную жизнь.
Также интересны сообщения вроде письма джентльмена из Нового Орлеана, который заявляет, что он — внебрачный правнук Флэшмена (плод амурной связи в госпитале Ричмонда, штат Вирджиния, во время Гражданской войны в США), а также письмо от офицера британской армии, который сообщает, что его дед одолжил Флэшмену пятьдесят долларов и лошадь во время все той же американской кампании — естественно, так ничего и не получив назад.
Возможно, что эти и другие интересные детали будут прояснены по мере издания последующих частей архива. В настоящем томе речь пойдет о приключениях Флэшмена во время Сипайского мятежа в Индии. Мы станем свидетелями драматических эпизодов этой ужасной борьбы и встретимся со многими героями Викторианской эпохи — монархами, государственными деятелями и генералами. Так же как и в предыдущих томах, рассказы Флэшмена в целом соответствуют общепринятым историческим фактам, хотя и снабжены во многом новой для нас информацией, так что редактору не остается ничего другого, кроме как слегка подправить орфографию героя, сожалея о некоторых его поступках, и добавить свои обычные комментарии и приложения.
Дж. М. Ф.I
Нечасто меня сегодня приглашают в Балморал.[1] Что, в общем-то, и хорошо. От одного вида этих чертовых ковров в шотландскую клетку меня всегда выворачивало наизнанку. Не говоря уже о бесконечных фотографиях германской королевской семьи и идиотской статуе принца-консорта — коленками вовнутрь, да еще в килте. Компании короля Тедди[2] я чаще всего пытался избегать, потому что и сам он был ничуть не лучше любого великосветского хулигана. Конечно, за добрые сорок лет он научился хитрить не хуже меня (особенно после того, как я еще в молодые годы сбил его с пути истинного, направив юные ножки принца к постельке одной актрисы, что навлекло господний гнев папочки Альберта на жирную морду его отпрыска), а уж когда юный увалень наконец-то добрался до трона, то, полагаю, собирался прихватить с собой и меня — высказавшись на мой счет, что, дескать, его Принц-холлу требуется Фальстаф.[3] Ха! Фальстаф! И это говорит обо мне человек со свиными глазками и брюхом, раздутым как фургон-конестога.[4] Да он и в сигарах-то абсолютно не разбирался.
А вот во времена старушки-королевы бывал я в Балморале частенько. Она всегда хорошо ко мне относилась — еще с тех пор, когда сама была почти девчонкой и украсила мою мужественную грудь медалью за афганскую войну. Да и потом, после, когда я отогнал толпу от ее драгоценного Тедди во время скандала в Транби-Крофт и спас принца от еще более худших последствий, порожденных его собственной глупостью, она все старалась мне угодить. После этого каждый год в сентябре, как по расписанию, приходило распоряжение для «дорогого генерала Флэшмена» возглавить кортеж на север, в Кейльярд-Касл, в котором меня всегда ожидала отдельная комната с целым горшком поздних роз на подоконнике и бутылочкой бренди на приставном столике, стыдливо прикрытой салфеткой — мой вкус был известен. Я всегда сопровождал ее туда, а она была молодцом, эта малютка Вики, и с радостью опиралась на мою руку, болтая без умолку. Да и порции нам подавались порядочные. Однако даже тогда мне было там не слишком-то уютно. И не только потому, что, как я уже говорил, меблирован замок был со вкусом, который мог поразить чувства скорее какого-нибудь черномазого торговца фруктами — а еще здесь был весь этот ужасный горный колорит вроде мрака, измороси, постоянных сквозняков под дверью и священной меланхолии. Даже в бильярдной висела гравюра, изображавшая какую-то древнюю мерзкую шотландскую супружескую пару, которая таращилась из рамы с искренней набожностью — несомненно, молясь, чтобы я продулся в пух и прах.
Да, полагаю, что больше всего против Балморала сегодня меня настраивают воспоминания. Именно отсюда для меня начался Великий мятеж,[5] так что во время моих нечастых нынешних путешествий на север даже стук колес в этой точке Земли меняет свой ритм и в голове моей начинает звучать: «Мера-Джханси-денге-най, мера-Джханси-денге-най» — все снова и снова. В одно мгновение десятки лет улетают куда-то вдаль и я вспоминаю, как впервые приехал в Балморал — полвека тому назад и все, что вслед за этим последовало: удушающая жара на парадной площади в Мируте с перестуком кузнечных молотов, царапина на дуле девятифунтовки, упирающейся мне прямо в живот и моя собственная кровь, текущая по раскаленной солнцем стали. Старый Уилер, хрипло заоравший, когда черные волны кавалерии с грохотом и блеском сабель вновь накатили на нашу жалкую твердыню («Не сдаваться! Последний залп, черт их всех побери! Цельтесь в лошадей!»); пылающие бунгало, рука скелета, выглядывающая из пыли, Колин Кэмпбелл, потирающий свою седую голову, и темно-красная струя, стекающая в грязный поток пониже Сутти-Гат. А еще огромная гора из серебра, золота, драгоценных камней и слоновой кости — больше, чем вы могли бы себе вообразить — и два огромных карих влажных глаза, оттененных пушистыми ресницами, одинокая жемчужина на бархатной коже над ними, дрожащие приоткрытые алые губки и… черт возьми, тут появляется расплывающийся в улыбке начальник станции, который комкает свою шляпу и врывается в мой прекрасный сон хромающим кошмаром с криком: «С возвращением в Дисайд, сэр Гарри! Вот вы и опять здесь!»
И он ведет меня на платформу, заботливо поддерживая под локоток, а все местные зеваки со своими родственниками уже собрались там — будьте уверены — чтобы поглазеть и похихикать над старым хрычом в твидовом сюртуке и с огромными седыми бакенбардами. («Вот он! Кавалер Креста Виктории,[6] сэр Гарри Флэшмен — эй, старина Флэши! Это же он возглавил атаку Легкой бригады под Балаклавой и поубивал всех черномазых в этом Кха-буллском коровнике! Боже, неужто он так постарел? Гип-гип — ура!») И я принимаю аплодисменты и приветствия, сердечно махая рукой в ответ и сажусь в коляску, стараясь сделать это побыстрее, чтобы избежать навязчивого ветерана, бренчащего парой медалек. Он тянется за мной в надежде разжиться шестипенсовиком на выпивку, если вдруг ему повезет убедить меня в том, что мы стояли в одной шеренге полка шотландских горцев под Балаклавой. Лживый старый негодник, наверняка нежился тогда в своей кроватке.
Заметьте, я вовсе не упрекаю его за это — если бы у меня был шанс, я точно так же спрятался бы в моей собственной постели — и не только в Балаклаве, но и в любой другой битве или стычке, в которых мне пришлось побывать в течение пятидесяти бесславных лет моей невольной военной службы. (По крайней мере я знаю, что они были бесславными, хотя вся страна, слава богу, считает иначе. Вот почему я получил генеральский чин, рыцарский титул и двойной ряд медалей под левый сосок. Все это показывает, чего могут достичь трусость и жульничество, если к ним добавить отличный рост, длинные ноги и немного везения. Эй, кучер, погоняй! Мы не должны заставлять ждать королевскую семью!)
Но вернемся к Мятежу и к тому ужасному, невероятному вояжу, который начался с Балморала — о, по тем временам это была самая жуткая дорога для всякого, кому довелось по ней прогуляться. Мне приходилось бывать на войне и я согласен с Шерманом, что это — ад, но тогда Великий мятеж был его седьмым кругом. Конечно, были и свои преимущества: во-первых, я прошел сквозь все кошмары почти невредимым, так что мне повезло больше, чем Хэйвлоку, Гарри Исту или Джонни Николсону, хотя они тоже были парни не промах. (Что толку в кампании, если ты не вышел из нее живым?) Мне это удалось и принесло наивысшую награду (абсолютно незаслуженно, о чем, полагаю, нет смысла повторять), плюс жирный кусок добычи, который позволил мне купить и обустроить свое уютное гнездышко в Лестершире — думаю, плоды грабежа лучше расходовать на выпивку для меня и моих арендаторов, нежели тратить их на украшение церквей для ниггеров и содержание кровососов-священников. И еще на дорогах Мятежа я встретил эту красотку — сумасшедшую ведьму Лакшмибай. Конечно, попадались и другие, но она была лучше всех.
Еще пару слов про Мятеж, прежде чем я перейду к деталям — знаете, то была единственная из моих кампаний, в которую я был втянут не по своей вине. Во всех других случаях оставалось проклинать только себя: для обычного человека я обладал невероятной способностью влезать по самую шею в опаснейшие предприятия — и все благодаря собственной глупости. К примеру, слишком много трепал языком (что привело меня к афганской катастрофе 1841 года); валял дурака в гостиных (и оказался в Крыму); поверил всему, что мне говорил Авраам Линкольн (Гражданская война в США); пригласил шлюху-полукровку из племени хункпапа на полковой бал (восстание индейцев сиу в 1876-м) и так далее — полный список длиной с мою руку. Но в дела Мятежа я впутался благодаря выдумкам Палмерстона (впрочем, из-за них приключились все беды 1850-х).
Гром грянул среди абсолютно ясного и чистого неба, какое только можно себе вообразить через несколько месяцев после моего возвращения из Крыма, где, как вам, возможно, известно, я заработал свежие лавры благодаря моей полной неспособности избегать наиболее бессмысленных акций. Я болтался в рядах «Тонкой красной линии»,[7] поневоле возглавил атаку Тяжелой и Легкой кавалерийских бригад, был взят в плен русскими и после целого ряда невероятных приключений (во время которых мне пришлось заделаться племенным жеребчиком при дочке одного дворянина, спасаться от стаи голодных волков и казаков, да еще и впутаться в маленькую частную войну азиатских бандитов с русской армией почти на самой границе с Индией — все это есть где-то в моих мемуарах), весь ободранный и вшивый я в конце концов добрался до гарнизона в Пешаваре.[8]
И тут, словно мне было недостаточно давешних испытаний, я попытался восстановить свои силы, воспользовавшись услугами одной из этих пышнотелых, вечно голодных афганских амазонок. Она была хороша в спаривании, но отнюдь не в прожаривании, так что, отведав что-то из ее меню, я подцепил холеру. Несколько месяцев я провалялся в полубреду, и потребовалось долгое и относительно спокойное путешествие домой, чтобы я смог восстановить свои силы, обнять мою любимую Элспет и насладиться ролью героя, вернувшегося в родные Палестины. И, должен добавить, героя, решившего уйти на покой — на фронт меня теперь никакой силой не затащишь, хоть всех обозных быков впрягай. (Подобное обещание я давал себе добрую дюжину раз, и Господь-свидетель, сам бы я слово сдержал, но невозможно бороться с судьбой, особенно если имя ей — Палмерстон.)
Так или иначе, летом 1856-го, я блаженствовал в полной безопасности на половинном жалованье штабного полковника, а вокруг даже и не пахло войной, за исключением разве что персидского фарса,[9] который можно было не принимать в расчет. Я уютно устроился с супругой и маленьким Гавви (первым плодом нашего союза, бездонным водохлестом-семилеткой) в хорошеньком домике на Беркли-сквер, который, благодаря наследству Элспет, мы очень мило обставили. При случае я заскакивал в гости к конногвардейцам, где возглавлял клуб любителей веселой жизни и время от времени развлекался со шлюхами направо и налево, чтобы немного разнообразить свою личную жизнь с моей любимой, но безмозглой красоткой. При этом весь Лондон боготворил меня как героя — ведь это я участвовал в настоящем Армаггедоне и сражался за Бога и Отечество (как предполагалось). К тому же еще просочилось достаточно много лестных для меня слухов о моих личных исключительно важных и секретных подвигах в Средней Азии (от результатов которых правительство вынуждено было отказаться из-за наших деликатных мирных переговоров с Россией) для того, чтобы все решили, что Флэши снова превзошел сам себя. Так, в стране, охваченной патриотической лихорадкой чествования возвратившихся героев, я оказался на вершине популярности и восхищения — поговаривали даже, что я получу один из этих новомодных Крестов Виктории (оно того стоило), но мне кажется, что Эйри и Кардиган — эти завистливые ублюдки — разделили награды между собой.
Полагаю, что Эйри, который был начальником штаба Раглана в Крыму, так и не забыл про мой маленький недосмотр под Альмой. Помнится, кузену королевы — юному сластолюбцу Вилли снесло голову как раз тогда, когда он находился под моим присмотром. А Кардиган в свою очередь возненавидел меня из-за того, что я возник из шкафа подобно пьяному привидению — в самый раз, чтобы помешать ему оседлать мою дорогую Элспет (как вы помните, супружескую верность она соблюдала не лучше меня). С тех пор как мы вернулись домой из-под Балаклавы, я не предоставил ему ни малейшего повода испытывать ко мне хоть какую-то симпатию.
Понимаете, в то лето вокруг Кардигана то и дело слышались злобные сплетни насчет его вины в разгроме Легкой бригады — не столько насчет ошибочности его распоряжений (что было спорно, если вас интересует мое мнение), сколько насчет его личного поведения под жерлами пушек. Да, он возглавлял атаку, а я был неподалеку на своей обезумевшей лошади, пуская ветры со страха, но после того как мы ворвались на батарею, он едва ли задержался на пару минут, чтобы обменяться парой-другой ударов с русскими канонирами, как тут же развернулся в обратный путь — домой, подальше от опасности. «Не слишком хороший стиль для командира», — говорил я, хотя сам в то же время прятался под пушкой. Не то, чтобы я мог предположить, что он боялся — у нашего славного лорда Ну-ну просто не хватило бы мозгов, чтобы испугаться по-настоящему. Но он начал отступление даже без необходимой паузы, чтобы обозначить победу, а поскольку у него хватало врагов, готовых поверить в худшее, слухи поползли вовсю. Были гневные письма в прессе и даже судебный процесс, а поскольку я побывал в самой гуще битвы, то понятно, что меня об этом расспрашивали. [I*][10]
Именно Джордж Пэджет, тот самый, что командовал Четвертым легким драгунским в этой атаке, и задал мне этот вопрос просто в лоб, прямо в комнате для игры в карты в клубе «Уйатс» (понятия не имею, как я туда попал — наверное, пригласил кто) в присутствии целой толпы людей, большинство из которых составляли гражданские, но, помнится, там же были Споттсвуд и старина Скарлетт из Тяжелой бригады.
— Ты был рядом с Кардиганом, — произнес Пэджет, — а потом раньше всех — на русской батарее. Господь — свидетель, он не принадлежит к числу моих близких друзей, но все эти разговоры начинают бросать на него тень. Так видел ты его на батарее или нет?
Конечно, я видел его там, но никогда бы в этом не признался — я был далек от того, чтобы спасать репутацию его лордовской светлости, если существовала хоть малейшая возможность ее утопить. Так что я только буркнул небрежно: «Не спрашивай меня, Джордж, я был слишком занят — искал для тебя сигары» — что вызвало взрыв смеха.
— Несмешно, Флэш, — мрачно промолвил он и снова спросил с присущим ему тактом: — Так смылся Кардиган или нет?
В одном-двух местах поднялся возмущенный ропот, а я сосредоточенно перетасовал колоду и, нахмурившись, размышлял. Существует множество способов похоронить репутацию честного человека и я хотел выбрать для лорда Кардигана наилучший. Я напустил на себя озабоченный вид, затем что-то неразборчиво прорычал и, швырнув колоду на стол, поднялся, взглянул Пэджету прямо в глаза и наконец произнес:
— Да ведь история уже закончилась, не так ли? Давай-ка все это прекратим, Джордж, а?
И я тут же вышел вон, оставляя впечатление, что решительный, отважный Флэши просто не желает об этом говорить. Именно это и убедило всех в том, что Кардиган струсил гораздо сильнее, чем если бы я сказал об этом прямо или попросту назвал бы его трусом. Кстати, такая возможность появилась у меня пару часов спустя, когда он лично подошел ко мне в сопровождении двух своих прихлебателей, когда мы со Споттсвудом выходили из Гвардейского клуба. Холл был наполнен офицерами, жаждущими сенсации.
— Фвэшмен! Вы здесь, сэр! — проквакала его светлость.
То были первые слова, прозвучавшие между нами со времен знаменитой атаки. Кардиган тяжело дышал, как будто после быстрого бега, его лицо, с клювообразным носом, все пошло пятнами, а седые бакенбарды встали дыбом от ярости.
— Фвэшмен! Это непроститевьно! Моя честь задета — скандавьная вожь, сэр! Мне сказави, что вы не опровергви этого! Ну же, сэр? Ну?
Указательным пальцем я сдвинул цилиндр на затылок и окинул его небрежным взглядом от лысого черепа и вытаращенных глаз до разлапистых ступней. Кардиган выглядел как человек на грани апоплексии — видок что надо!
— Какую ложь вы имеете в виду, милорд? — очень спокойно поинтересовался я.
— Вы отвично все знаете! — взвыл он. — Баваквава, сэр — штурм батареи! Ворд Джордж Пэджет при всех поинтересовався, видеви ви вы меня у пушек — и вы имеви нагвость ответить ему, что ничего об этом не знаете! Проквятье, сэр! И это один из моих собственных офицеров…
— Ранее служивший в вашем полку, милорд — я подтверждаю это.
— Черт побери вашу дерзость! — зарычал он, бросаясь ко мне. — Так вы утверждаете, что я вгу? Может, вы скажете, что меня не быво у пушек?
Пока он говорил все это, я поправил шляпу и натянул перчатки.
— Милорд, — наконец проговорил я, произнося слова с исключительной четкостью, — я видел вас во время наступления. Что же касается батареи, то там я был слишком занят и у меня не было ни свободного времени, ни желания, чтобы глазеть по сторонам. Кстати, я не видел и самого лорда Джорджа до тех пор, пока он не дернул меня за ногу. Я предполагаю — я сделал лишь легкое ударение на этом слове — что вы были где-то рядом, во главе вашей бригады. Но я не знаю этого наверняка, да и, откровенно говоря, мне это безразлично. Удачного вам дня, милорд! — и, слегка поклонившись, я повернулся к дверям.
Его голос от ярости стал визгливым.
— Повковник Фвэшмен! — проорал он мне вслед, — да вы змея!
Я резко обернулся и, задержав дыхание, заставил свое лицо покраснеть, якобы в приступе праведного гнева. Было ясно, что Кардиган хотел получить от меня пощечину или вызов, но для этого он действовал слишком прямолинейно.
— Возможно и так, милорд — спокойно подтвердил я, — хотя я не извиваюсь и не сворачиваю в сторону.
С этим я оставил его, весьма удовлетворенный всем произошедшим. Однако, как я уже говорил, очевидно, это стоило мне в то время Креста Виктории; несмотря на все слухи позиции Кардигана в Конной гвардии все еще были сильны, к тому же он обладал поддержкой при дворе.
Так или иначе, наша небольшая пикировка ничуть не уменьшила моей популярности; спустя несколько дней мне устроили великолепное чествование на гвардейском обеде в Суррей-гарденс. Парни приветствовали меня стоя криками: «Ура Гарри Флэшмену!» и распевали «Гэрриоуэн» до тех пор, пока не повалились под столы пьяными в стельку — помнится, меня тогда поразило, что для этого им хватило всего по трети бутылки шампанского на нос. [II*] Кардиган как сообразительный парень там не появился — гвардейцы кричали, что его нужно вышвырнуть из королевства. Тем не менее «Панч» ехидно отметил отсутствие лорда и поинтересовался, носит ли он все еще свои шпоры или полностью стер их во время ускоренного отступления с батареи.
Конечно же, лорд Ну-ну был не единственным генералом, которому тем летом досталось от публики — Лукан и Эйри также получили свое за провал кампании. Так что в то время как мы наслаждались своими розами и лаврами, наши идиоты-командиры были заняты взаимными обвинениями и писали гневные письма в газеты, утверждая, что во всем виноваты не они, а кто-то другой. Была даже сформирована комиссия, которой поручили расследовать ошибки ведения войны.
К сожалению, чтобы возглавить расследование, правительство избрало не тех людей — Макнейла и Таллоха. Они попытались казаться честными и доложили, что наше командование действительно было не способно даже к тому, чтобы рыть нужники. Такой вердикт, конечно же, никого не устраивал, так что пришлось спешно собирать еще одну комиссию, чтобы получить правильный ответ. Ну что ж, все так и было сделано и теперь все были довольны: гип-гип-ура и «Правь, Британия».[11] А что еще вы хотите от полуграмотного Кабинета, главным для которого было поддержание собственного престижа, но в то время Палмерстон находился в седле, а он, как вам известно, был не самым ловким политиком.
В довершение ко всему на пике скандала сама королева изволила обсудить все это с Хардингом, нашим главнокомандующим, на смотре в Олдершоте, и бедного старого Хардинга разбил паралич, так что он больше никогда не смог даже улыбнуться. Я и сам это видел — Хардинг рухнул, как пьяный матрос, лишившись всех способностей, которые, стоит отметить, и так были невелики. Поговаривали, что все это — результат коррупции в армии и правительстве — так оно, наверное, и было.
Правда, все эти материи волновали меня гораздо меньше, чем ширина кринолинов Элспет, просто я хотел рассказать вам, какова была обстановка в Англии в то время и почему я не мог устоять перед искушением отомстить этому мерзавцу Кардигану так, как он того заслуживал. Между тем я с радостью занимался любимым делом — помогал моей милой женушке тратить ее деньги, что, должен отметить, она делала с большим размахом. Можно было сказать, что мы были счастливейшей молодой парой, прикрывали глаза на слабости друг друга и мчались наперегонки в погоне за наслаждениями, что случалось частенько, ибо с годами Элспет становилась все более соблазнительной.
А затем нам пришло приглашение посетить Балморал, что привело Элспет к состоянию, близкому к истерике, а меня несколько озадачило. Я полагал, что если в королевской семье и догадываются о моем существовании, то знают только в качестве парня, который умудрился потерять одного из кузенов королевы — правда, у Ее Величества их было так много, что она наверняка просто не заметила пропажи, а если вдруг ее и обнаружила, то вряд ли слышала, что в этом виноват я. Порой я задумываюсь обо всем этом и могу только предположить, что тогда, в сентябре, мы были приглашены в Балморал в связи с тем, что темой дня продолжали оставаться взаимоотношения с Россией, что-то насчет коронации нового царя[12] и заключенного недавно мира, а я был одним из старших офицеров, побывавшем в русском плену.
Но тогда у меня не было времени для раздумий — из-за капризов Элспет и ее навязчивой мысли о том, чтобы «соответствовать» — как она это называла, пытаясь привлечь внимание каждого в радиусе мили от Беркли-сквер. Будучи дочкой шотландского купца, моя женушка своим снобизмом превосходила нищего испанского герцога и к тому времени, когда мы двинулись на север, ее снисходительное презрение к знакомым из среднего класса стало просто тошнотворным. Вперемешку со злорадными замечаниями и болтовней о том, как они с королевой будут обсуждать моды, в то время как мы с принцем Альбертом станем пьянствовать в оружейном зале (как видите, моя женушка была дивно осведомлена о дворцовых обычаях), она порой опускалась к низким материям, например, беспокоилась, чтобы не выскочил прыщ или во время представления не сломался каблук.
— О, Гарри, Джейн Спидикат от зависти просто позеленеет! Мы с тобой — гости Ее Величества! Это будет замечательно — и я захвачу с собой свои новые французские платья — шелк бежевый и цвета слоновой кости, сиреневый сатин и прелестный, прелестный изумрудно-зеленый, который так нравится старому адмиралу Лоусону. Тебе не кажется, что этот вырез слишком низок для приема у королевы? А мой бареж[13] для воскресенья — а какие там еще будут высокопоставленные лица? А будут ли там леди, чьи мужья в более низких званиях, чем ты? Элен Паркин — сама леди Паркин! — да она лопнет от злости, как только я ей расскажу. О, мне нужна другая горничная, чтобы могла уложить мне волосы, потому что Сара не сдержана на язык, зато здорово управляется с платьями. А что мне надеть на пикник, ведь нам придется гулять по чудесным горным долинам? О, Гарри, как ты думаешь, что читает королева? И как я должна называть принца — «ваше высочество» или «сэр»?
Откровенно вам скажу, что был рад, когда мы наконец достигли Абергелди, где в замке были отведены комнаты гостям, поскольку Балморал только недавно заново отделали и Альберт был слишком занят, торопясь нанести завершающие штрихи. Элспет к тому времени разнервничалась до того, что просто не могла говорить, но, думаю, после первого знакомства с королевскими гостями ее страхи несколько улеглись. В первый же день после обеда мы решили прогуляться в Балморал верхом и по дороге встретили толпу, напоминавшую семейство лудильщиков, возглавляемую прачкой и швейцаром, который, похоже, был переодет в костюм, стянутый у хозяина. К счастью, я узнал в них саму Викторию и принца Альберта с родственниками и, проезжая, просто приподнял шляпу, так как члены королевской семьи не любили официальных приветствий, когда им хотелось поиграть в инкогнито. Элспет даже не заметила, кто это, пока мы не проехали мимо, и когда я рассказал ей, чуть не хлопнулась в обморок прямо на обочине. Я пробудил ее к дальнейшей жизни угрозами оттащить в ближайшие кусты, чтобы там изнасиловать, и на обратном пути она важно заметила, что Ее Величество выглядела вполне по-королевски, но несколько непривычно.
К тому времени, когда мы были приняты в Балморале (кажется, уже на второй день), Элспет вновь немного воспрянула духом, однако затем, когда ей пришлось пробыть некоторое время в гостиной вместе с каким-то лордом и его шмыгающей носом супругой, которые смотрели на нас как на пустое место, мою маленькую глупышку вновь пробила дрожь. Я уже встречался раньше с членами королевской семьи и попытался ободрить Элспет, уверяя, что она выглядит чудесно (что было правдой) и ее не могут затмить лорд и леди Пуфбатток,[14] которые сейчас пытаются игнорировать нас с ледяным высокомерием, присущим аристократам низкого происхождения. (Угу, знаю, теперь я и сам такой.)
Воспользовавшись тем, что наши соседи в упор нас не замечали, я незаметно привязал одну из лент гигантского кринолина леди к ножке стола, и, когда двери в королевскую приемную распахнулись, она двинулась было с места и тут же рухнула, увлекая за собой стол и все, что на нем стояло — причем на виду у малого королевского двора. Я подхватил Элспет железной хваткой и перенес ее через эти остатки кораблекрушения, так что полковник и миссис Флэшмен раскланивались с королевой уже на фоне поспешно закрывшихся за нами дверей, а приглушенные звуки, издаваемые четой Пуфбаттоков, которых лакеи тщетно пытались освободить из-под обломков, звучали дивной музыкой для моих ушей, несмотря на то что все это заставило королеву выпучить глаза еще более, чем обычно. Мораль: не задирай свой нос перед Флэши, а если уж рискнул это сделать, то смотри, как бы не расстаться с кринолином.
К пожизненному восторгу Элспет и моему огромному удовлетворению, с первой же встречи выяснилось, что они с королевой подходят друг к другу как орешки к портвейну. Видите ли, Элспет одна из тех женщин, которые столь красивы, что дамы в возрасте просто не могут их не любить. К тому же при всей своей глупости она очень живое и привлекательное создание. То, что в ее жилах течет шотландская кровь, также было на руку, поскольку как раз тогда у королевы разыгрались якобитские настроения, а Элспет, слава богу, кто-то в детстве прочел «Уэверли», а «Деву озера» заставил выучить наизусть.
Я в ужасе ожидал встречи с Альбертом: а вдруг он вспомнит своего племянничка Вилли — любителя сладкой жизни, ныне покойного? Но все что сказал принц было:
— А, полковник Флаш-манн, ви уже читайт «L'Ancien Régime» Токвиля?[15]
Я ответил, что пока нет, но это будет первой вещью, которую я попрошу принести мне завтра утром, а он печально опустил глаза и загундел:
— В ней нас предостерегайт, што бьюрократический центральный правительство, вместо того, штобы излечить язвы револьюции, может фактически привести к их росту.
Я ответил, что часто размышлял над этим и теперь наконец услышал четкое воплощение этой идеи. Тут Альберт коротко кивнул и выдохнул: «Италия весьма неблагополючна», — что и привело нашу беседу к ее окончанию. К счастью, старый Элленборо, который был главнокомандующим в Индии во времена моей кабульской эскапады, находился среди присутствующих и он буквально прилип ко мне, что было настоящим спасением. А затем ко мне обратилась сама королева своим обычным монотонным голосом:
— Ваша милая супруга, полковник Флэшмен, сообщила мне, что вы уже вполне оправились после ваших русских приключений, о которых вы должны нам рассказать. Похоже, там весьма оригинальный народ. Лорд Грэнвилл[16] пишет из Петербурга, что русскую горничную, служащую у леди Вудхауз, застали за поеданием содержимого одной из баночек на туалетном столике ее светлости. Это оказалась помадка для волос на касторовом масле! Что за экстравагантность, не так ли?
Теперь, конечно же, настала моя очередь развлечь компанию несколькими туземными анекдотами о жизни русских и их примитивных обычаях. Рассказы имели успех, так что королева согласно кивала головой, приговаривая: «Какое варварство! Как странно!», а Элспет взирала на своего героя, едва не подпрыгивая от восторга. Альберт присоединился к нам, в своем занудном духе, заметив, что ни одно государство в Европе не представляет собой более благодатную почву для семян социализма, чем Россия, и он опасается, что новый царь обладает недостаточно сильным характером и слишком низким интеллектом.
— Так говорит лорд Грэнвилл, — заметила королева, — но я не думаю, что ему надлежит делать подобные замечания о какой-нибудь персоне королевской крови. Не правда ли, миссис Флэшмен?
Старина Элленборо, жизнерадостный вечно пьяный толстяк, поинтересовался, не пытался ли я хоть немного цивилизовать русских, обучая их игре в крикет, а Альберт, в котором юмора было не больше, чем в церковной купели, со скукой сказал:
— Уверен, полковник Флаш-манн ничьего подобного не дье-лал. Я не могу поняйт эта страсть к крикет; по-моему, это лишь бьесцельный трата время. Какой прок длья молодой чьеловек часами ползайт по полью из конца в конец или замирайт, словно статуй? Вьерно, полковник?
— О да, сэр — согласился я, — я и сам провел в полях достаточно много времени, чтобы полностью согласиться с вами — на самом деле это тяжкий труд. Но иногда, когда мальчик становится мужчиной, его жизнь может зависеть от выносливости и умения ползать или замирать на месте — например на Хайберской скале или в бирманском лесу — так что пока мы молоды, немного практики не повредит.
Вот так обстояло дело — я не мог удержаться от соблазна подсыпать Альберту немножко перца за шиворот. Это было в моем характере — поддеть кого-нибудь с самым деловым видом и заодно напомнить о моих дерзких подвигах. Элленборо проскрипел: «Вот, вот», и даже Альберт немного вышел из своего обычного полусонного состояния, заметив, что «дис-сиплина — есть карашо», но что нужны другие пути ее привития, и уточнив, что принц Уэльский никогда не будет играть в крикет, а займется более «конструктиффной» игрой.
После этого подали чай, в весьма неформальной обстановке и Элспет вновь отличилась, заставив Альберта съесть сэндвич с огурцом. «Через минуту она затащит его в кусты», — подумал я и на этой радостной ноте наш первый визит подошел к концу. Элспет витала в облаках всю дорогу до самого Абергелди.
С точки зрения престижа, все это было очень полезно, но отдохнуть нам особо не пришлось, хотя Элспет упивалась и этим. Она дважды ходила на прогулку с королевой (причем они называли себя миссис Фитцджеймс и миссис Мармион[17] — как вам это нравится?) и даже заставила Альберта рассмеяться за вечерней игрой в шарады, изобразив Елену Троянскую со своим шотландским акцентом. Я-то из него не смог выдавить и улыбки; он ходил на охоту с другими джентльменами, и приноровиться к его величавой поступи было настоящей мукой. Выражение лица у принца вечно было такое, будто он перебрал горчицы, а оленей он убивал, будто обкурившийся гашишем гази.[18] Не поверите, но его понятие о спорте доходило до того, что потребовалось бы вырыть настоящую траншею, чтобы мы могли незаметно подкрасться к оленю; он бы и на это пошел, но егеря-шотландцы были настолько против, что идею пришлось забросить. Впрочем, Альберт так и не понял их возражений — главное для него было убивать зверей.
К тому же он бесконечно что-то писал и играл немецкие пьесы на фортепьяно, причем я бешено ему аплодировал. То, что они с Викторией переживали тогда не лучший период в своих отношениях, так же не облегчало дела. Королева обнаружила (и поделилась этим с Элспет), что стала беременной уже в девятый раз, и изливала свои переменчивые настроения на дорогого Альберта. Беда в том, что он был с нею чертовски терпелив, что, насколько я знаю, может быстрее всего привести любую женщину в бешенство. К тому же он всегда был прав — а это хуже всего. Так что они весьма мило проводили время, и Альберт большую часть светлого времени суток карабкался по горам в Глен Боллокс и с криком «пли!» убивал каждую зверушку, имевшую несчастье попасться ему на глаза.
Похоже, единственной радостью для королевы было то, что ей как раз удалось выдать замуж свою старшую дочь — принцессу Вики. На мой взгляд, она была лучшей из всей семьи, настоящей красавицей — зеленоглазая маленькая проказница. Она вышла замуж за Фридриха-Вильгельма Прусского, который пробыл в Балморале несколько недель, и королева, как рассказала мне Элспет, была все еще полна воспоминаний.
Ну ладно, хватит придворных сплетен; хотя это дало вам понимание обстановки, в которой я вынужден был проводить время — подлизываясь к Альберту и рассказывая королеве о том, сколько аксант эгю[19] в слове «déterminés». Беда в том, что подобная жизнь притупляет не только мозги, но и чувство самосохранения, так что если вас настигает удар, то от него невозможно спастись.
Это случилось ночью 22 сентября 1856-го: я помню дату абсолютно точно, так как все произошло на следующий день после визита Флоренс Найтингейл[20] в замок. [III*]
Я раньше не встречался с ней, но как самый известный среди присутствующих участник Крымской войны был приглашен присоединиться к тет-а-тет Флоренс и королевы, который состоялся после обеда. Если хотите знать, встреча была достаточно холодной: обе женщины изрекали благочестивые банальности, Флэши передавал булочки, а когда это было необходимо — одобрительно кивал, соглашаясь, что для правильного ведения войны нам не хватает только санитарии и умных бумажек на стенах в каждом госпитале. Мисс Найтингейл (настоящая ледышка) этак спокойно спросила меня, что могли бы сделать полковые офицеры, дабы предотвратить заражение солдат некими деликатными инфекциями от — гм-гм — сопровождающих войска женщин определенного сорта. Я чуть с проклятием не уронил свою чашку на колени королевы, но вовремя опомнился и заявил, что мне никогда не доводилось слышать о чем-либо подобном, по крайне мере, в легкой кавалерии. Что? Французская армия? Ну, это совсем другое дело. Представляете, я почти заставил ее покраснеть, хотя сомневаюсь, что королева вообще поняла, о чем мы вели речь. По моему мнению, Найтингейл просто зря тратила свои лучшие женские годы: симпатичное лицо, хорошо сложена и не обижена формами, но в глазах у нее читалось холодное: «не-смей-касаться-меня-своими-блудливыми-руками-парень» — одним словом, дамочка того сорта, с которой тоже можно сварить кашу, если только вы готовы потратить на нее достаточно времени и сил. Что касается меня, то мне для этого редко хватало терпения. Где-нибудь в другом месте я бы, наверное, и приударил за ней, хотя бы для разнообразия, но обстановка королевской гостиной накладывала свои ограничения. (А может, и зря я не решился — даже арест и опала за неприличные приставания к национальной героине вряд ли были бы хуже тех тяжких испытаний, которые обрушились на меня несколько часов спустя.)
Тот вечер мы с Элспет провели на праздновании дня рождения в одном из больших поместий неподалеку; это был веселенький вечерок и мы оставались там до полуночи, пока все не закончилось, а потом тронулись в обратный путь в Абергелди. Была пасмурная грозовая ночь, начинал наяривать крупный дождь, но мы не обращали на это внимания; я принял на грудь достаточно горячительного, чтобы вдруг стать чертовски ревнивым, и если бы путешествие было немного длиннее, а кринолин Элспет не создавал столько помех, я бы овладел ею прямо в карсте. Она выскочила у нашего домика с писком и хихиканьем, а я бросился за ней через парадный вход и… посланец Судьбы уже ожидал меня в холле. Высокий парень, почти великан, только нижняя челюсть у него была длинновата, а глазки слишком колючие. Выглядел он вполне достойно — твердая шляпа под локтем и, готов поспорить, дубинка в боковом кармане. Сразу видно — серьезный человек на государственной службе.
Он спросил, можно ли со мной поговорить, так что я убрал свою руку с талии Элспет и легонько подтолкнул ее к лестнице, прошептав на ушко, что я поднимусь наверх, чтобы продолжить атаку, после чего предложил гостю перейти к делу. Парень сделал это очень быстро.
— Я из казначейства, полковник Флэшмен, — заявил он, — меня зовут Хаттон. С вами желает поговорить лорд Палмерстон.
Я несколько оторопел. Первой моей мыслью было, что нам придется вернуться в Лондон, но Хаттон продолжал:
— Его светлость в Балморале, сэр. Не будете ли вы любезны проследовать со мной — у меня экипаж.
— Но, но… вы сказали лорд Палмерстон? Премьер… какого дьявола? Палмерстон хочет видеть меня?
— Немедленно, сэр, будьте так любезны. Дело срочное.
Ну, с этим я ничего не мог поделать. Я не сомневался, что это не розыгрыш — человек, стоящий напротив меня, просто излучал власть. Но хорошенькое это дело: едешь себе спокойно домой, а тут вдруг тебя ошарашивают, что известнейший из государственных деятелей Европы здесь, буквально за углом и хочет тебя видеть! Между тем малый уже почти подталкивал меня к двери.
— Погодите, — попросил я, — дайте время хоть переобуться.
Единственное, чего мне хотелось в этот момент, так это сунуть голову в ведро с холодной водой и немного подумать, так что, несмотря на всю его настойчивость, я еще раз попросил его подождать и поспешил наверх.
Какого черта вообще Пам здесь делает — и чего он может хотеть от меня? Я лишь однажды и то недолго виделся с ним перед отъездом в Крым, раскланивался на вечеринках, но он не удостаивал меня разговором. А теперь я вдруг срочно ему понадобился — я, полковник на половинном жалованье! Совесть у меня была чиста — во всяком случае, ничего такого, что бы могло его касаться. Все это было непонятно, но оставалось лишь подчиняться. Я в раздражении зашел в свою гардеробную, натянул плащ и нахлобучил шляпу, так как погода окончательно испортилась, и вздохнув, вспомнил о том, что Элспет, это бедное дитя, обречена была даже теперь ожидать очередного урока любви. Да, для нее это было тяжким испытанием, но долг зовет, так что я заглянул в ее комнату, чтобы целомудренно пожелать ей спокойной ночи — а там лежала она! Черт возьми, раскинувшись поверх покрывала, подобно развратным классическим богиням, а горничная, хихикая, прикручивала огонек в лампе. Из одежды на моей женушке был лишь большой веер из страусовых перьев, который я привез ей из Египта. Одетая, Элспет могла сбить с пути истинного даже монаха, обнаженная же, с пучком красных перьев на груди, она заставила бы самого Великого инквизитора сжечь свои книги. Я целую секунду колебался между любовью и долгом, а потом… «Да черт с ним, с этим Палмерстоном — пусть подождет!» — завопил я и бросился к постели, прежде чем служанка успела выскочить из комнаты. Никогда не упускай шанса — как говаривал герцог Веллингтон.
— Лорд Палмерстон? Оооо-ах! Гарри — что ты имел в виду?
— Не обращай внимания! — крикнул я, принимаясь за дело.
— Но Гарри — ты такой нетерпеливый, любовь моя! О, любимый — ты так и не снял свою шляпу!
«Это потому что я хотел быть хорошим мальчиком, черт побери!» И на несколько славных, украденных у долга минут, я позабыл и Палмерстона, и все на свете, удивляясь только, как моя идиотка жена умудряется не прекращать поток вопросов, одновременно оставаясь настоящей гурией из гарема. Насколько я помню, мы самым странным образом устроились на ее стульчике у зеркала, когда раздался осторожный стук в дверь и хихикающий голос горничной сообщил, что джентльмен внизу начинает терять терпение и интересуется, когда я наконец спущусь.
— Скажи ему, что я пакую багаж, — прохрипел я, — и тотчас же спущусь, — после чего страстно поцеловал Элспет, чтобы прервать хоть на мгновение поток ее вопросов, и бережно перенес мою любимую на кровать — всегда оставляй свои вещи там, где хочешь их потом найти.
— Не могу оставаться дольше, любовь моя, — проворковал я, — меня ожидает премьер-министр.
Ускользнув от ее отчаянных попыток задержать меня, я ретировался со штанами в руках, торопливо привел в порядок свой туалет, загнанно дыша, проскочил на лестницу и бросился вниз по ступенькам. Оглядываясь назад, могу сказать, что я правильно сделал, заставив правительство немного подождать, пока я отдам должное женщине, которая была единственной любовью всей моей жизни и последним приятным воспоминанием на долгие дни.
Дочь Ко Дали научила меня — и это работает, — что ни одно средство не способно так взбодрить трусоватого малого вроде меня, как хороший кувырок с красоткой. Некоторое время я пребывал под воздействием оного и не никак не мог взять в толк, зачем это мог понадобиться Палмерстону, но пока мы под сплошными потоками дождя пробирались в Балморал, я все еще убеждал себя, что, в конце концов, из всего этого ничего страшного не случится. Учитывая всеобщую симпатию, приятельские отношения с королевской семьей и восхищение моими подвигами в России, гораздо более вероятны были хорошие новости, чем плохие. К тому же ничто не предвещало дальнейших встреч с настоящими людоедами вроде старого герцога Веллингтона, Бисмарка или преподобного доктора «Гнев Божий» Арнольда. (В свое время мне приходилось стучаться не в одни двери, за которыми скрывались подлинные чудовища — уж можете мне поверить.)
Нет, Пам может быть просто старым нетерпеливым тираном, если он пытается запугать иностранцев и посылает боевые корабли, чтобы разделаться с даго,[21] но каждый знает, что в глубине души он настоящий спортсмен и добряк, который не прочь облегчить народу жизнь или даже рассказать сказочку. Конечно, печально известным оставался факт, что он предпочитал жить на Даунинг-стрит, а не на Пикадилли, потому что там ему больше нравился вид из окна, да еще махать с балкона простолюдинам и мастеровым, которые обожали его за то, что он умел говорить на языке, понятном простому народу, или устроить подписку в пользу старого боевого пса вроде кулачного бойца Тома Сэйерса.[22] Таков был Пам — и если кто-нибудь скажет, что он был всего лишь политически беспринципным старым негодяем, отмечу только, что мозги у него работали ничуть не хуже, нежели у других, более возвышенно мыслящих государственных деятелей. Единственное различие, которое я между ними наблюдаю, состоит в том, что Пам всегда делал свою грязную работу не пряча лица (конечно, когда ему грозили не более, чем проклятия) да еще и улыбался при этом.
Так что к тому времени, как мы проехали три мили до Балморала, я чувствовал себя вполне свободно — и даже был приятно возбужден — что должно показать вам, насколько чертовски мягким и оптимистичным я был в то время. Мне следовало бы помнить, что опасно слишком близко приближаться к принцам или премьер-министрам. Когда мы подъехали к замку, я быстро прошел вслед за Хаттоном через боковую дверь, поднялся на несколько пролетов по лестнице и остановился у тяжелых двойных дверей, на страже перед которыми стоял дородный штатский. Пока он открывал двери, я придал своим бакенам самый боевой вид и бодро вошел в зал.
Знаете, как иногда бывает: входишь в странную комнату, где все, на первый взгляд уютно, и спокойно, но все же в воздухе чувствуется этакое напряжение, что того и гляди произойдет электрический разряд. Так было и на этот раз, так что от возбуждения мои нервы моментально натянулись, как струны. А ведь вроде ничего необычного: просто большая приветливая комната, с огнем, весело трещавшим за каминной решеткой, огромным, заваленным бумагами, столом, да двумя крепкими парнями, сидящими за ним и что-то живо обсуждавшими под руководством худощавого молодого человека — Баррингтона, секретаря Палмерстона. У самого камина стояло еще трое — Элленборо, со своим широким красным лицом и выпирающим брюхом, худой старик с пристальным взглядом, в котором я узнал Вуда из Адмиралтейства, а за его спиной, нагнувшись к огню и задрав полы сюртука, стоял еще один человек, уставившийся на Элленборо своими блестящими близорукими глазами, причем его редкие волосы на голове и бакенбарды были всклокочены, будто их только что вытерли полотенцем — старый Сквайр Пам собственной персоной. Когда я вошел, премьер как раз громко говорил своим резким дребезжащим голосом (и ему было наплевать на тех, кто его слышит):
— … а то, что он при этом является принцем-консортом, не имеет никакого значения, понимаете? Ни для страны, ни для меня. Однако пока Ее Величество уверена в обратном, это меняет все, не так ли? Баррингтон, вы нашли эту телеграмму от Килтера? Нет? Так посмотрите в персидской папке.
Тут он заметил меня и встрепенулся, надув свои тонкие губы.
— Ха, вот этот человек! — воскликнул он, — входите же сэр, входите!
Возможно, от того, что я вечером выпил лишнего или же вследствие моего неожиданного нервного возбуждения, я споткнулся о коврик — что можно было принять за дурное предзнаменование — и подошел так близко, что чуть не наткнулся на стул.
— Силы небесные, — ахнул Пам, — он что, пьян? Уж эта нынешняя молодежь! Сюда, Баррингтон, сюда, усадите его на стул, пока он не вывалился из окна. Давайте, к столу.
Баррингтон пододвинул мне стул и все трое у камина зловеще взирали пока я, извиняясь, расположился на нем, прямо напротив Пама. Блеснувшие глаза премьера пристально изучали каждый дюйм моей физиономии. При этом одной рукой он бережно нянчил свой стаканчик портвейна, а большой палец другой засунул в жилетный кармашек — ни дать ни взять — шериф канзасского городка, наблюдающий за порядком на улице (которым он, впрочем, и был — только в гораздо большем масштабе).
В то время Пам уже был очень стар, с подагрой и вставными зубами, которые то и дело выпадали, однако в ту ночь он был полон задора и отнюдь не пребывал в своем обычном благодушном настроении. Но по крайне мере, хоть не кусался.
— Молодой Флэшмен, — прорычал Пам, — очень хорошо! Штабной полковник на половинном жалованье, а? Ну что ж, с этого момента вы вновь на действительной службе, и все, что вы услышите нынче ночью, не должно стать известно никому больше, слышите? Ни одной живой душе, даже в этом замке, понятно?
Я смекнул — премьер считает, что об этом не должна знать даже королева. Обычное дело — он никогда ей ничего не говорил. Но это еще было ничего — в самом его тоне звучала такая угроза, что у меня волосы стали дыбом на загривке.
— Очень хорошо, — вновь повторил он, — прежде чем я поговорю с вами, лорд Элленборо кое-что покажет — интересно, что вы об этом думаете. Хорошо Баррингтон, я просмотрю эти персидские материалы, пока полковник Флэшмен взглянет на эти чертовы штуки.
Я подумал, что ослышатся, но он проскользнул мимо меня на свое место во главе стола и нетерпеливо зарылся в бумаги. Баррингтон протянул мне маленькую закрытую коробку из-под бисквитов, а Элленборо, присев рядом, жестом показал, что я должен ее открыть. Заинтригованный, я откинул крышку, под которой, на рисовой оберточной бумаге лежали три или четыре сероватые, черствые на вид лепешки, размером не больше обычной галеты.
— Вот, — буркнул Пам, не отрываясь от своих бумаг, — только не ешьте их. Скажите его светлости, что вы об этом думаете.
Я сразу понял в чем дело — этот странный восточный аромат невозможно было спутать ни с чем, но все же тронул одну из них, чтобы удостовериться.
— Это чапатти, милорд, — удивленно произнес я, — индийские чапатти.
Элленборо кивнул:
— Да, обычные лепешки, национальная еда. Вы не заметили в них ничего необычного?
— Но почему… да нет, сэр.
Вуд присел напротив меня.
— И вы, полковник, не можете представить ситуации, — произнес он сухим, спокойным голосом, — при которой подобные лепешки вызвали бы у вас… тревогу?
Конечно, королевские министры не задают дурацких вопросов просто так, но я мог только вытаращиться на него. Пам, все еще погруженный в свои бумаги, хрипя и посасывая свои зубы, что-то бормотал Баррингтону, затем сделал паузу и хрюкнул:
— Подайте мне этакую чертовщину к обеду, и лично я буду здорово обеспокоен.
Элленборо захлопнул бисквитную коробку.
— Эти чапатти на прошлой неделе доставлены из Индии на паровом шлюпе. Они были посланы нашим тамошним политическим агентом из местечка под названием Джханси. Знаете такое? Это сразу за Джамной в стране маратхи.[23] Несколько недель тому назад множество подобных лепешек появилось среди сипаев[24] нашего гарнизона в Джханси — причем не в качестве пищи. Сипаи передавали их из рук в руки во время беседы…
— Вы когда-либо слышали о подобных вещах? — вмешался Вуд.
Мне оставалось лишь отрицательно покачать головой и смотреть повнимательней, удивляясь, что все это, черт побери, может означать, а Элленборо продолжал:
— Наши политики знают, откуда они появились. Туземные деревенские констебли — вы знаете, човкидары — пекли их партиями по десять штук и рассылали по одной десяти разным сипаям, каждый из которых должен был сделать десяток других и передать их своим товарищам — и так далее, до бесконечности. Конечно, все это не новость; ритуальная передача лепешек — очень древний индийский обычай. Но три момента весьма примечательны: во-первых, это случается очень редко, во-вторых, даже туземцы не понимают, почему это делается — зная лишь, что должны испечь и передать лепешки, и, наконец, в-третьих, — он снова постучал по коробке, — они верят, что появление подобных лепешек предвещает настоящую катастрофу.
Он сделал паузу, а я пытался сделать вид, что все это произвело на меня впечатление, поскольку сам ничего не понимал — прямо какая-то «Алиса в Стране чудес». Но если вы знаете Индию и те трюки, которые туземцы способны выкинуть (обычно, из религиозных соображений), то можно уже ничему не удивляться. Это напоминало любопытное суеверие, но что было еще любопытнее — два министра Кабинета и бывший генерал-губернатор Индии обсуждали дело за закрытыми дверями и вдруг решили посвятить Флэши в этот секрет.
— Есть и еще кое-что, — продолжал Элленборо, — вот почему Скин, наш человек в Джханси, считает, что дело очень срочное. Подобные лепешки распространялись исключительно среди сипаев, не затрагивая гражданских лиц, лишь трижды за последние пятьдесят лет — в Веллоре в 1806-м, в Буксаре и Барракпуре. Не припоминаете эти названия? Ну так вот, в каждом из мест, где появлялись эти лепешки, реакция сипаев была одинаковой, — тут выражение лица Элленборо стало таким, как будто он выступал в палате лордов: — Мятеж.
Оглядываясь назад, я полагаю, что должен был вздрогнуть от ужаса при звуке этого страшного слова — но, помнится, все, что промелькнуло у меня в голове, так это — сипаям пора увеличить пайки. Я не придавал слишком большого значения мнению политического агента Скина — я и сам был неплохим политиком и знал, что эти ребята любят ловить рыбку в мутной воде. Но если он — или Элленборо, который отлично знал Индию изнутри — вдруг унюхали синайское восстание в нескольких обычных лепешках — это было просто смешно. Я знал обычного сипая (да все мы его знали, не так ли?) как самого преданного осла, на которого когда-либо удавалось натянуть военную форму — а именно так с ними поступала Ост-Индская компания. Правда, не мое дело было высказывать свое мнение в столь августейшей компании, тем более что нас слушал сам премьер-министр: он отодвинул в сторону свои бумаги, встал и налил себе еще немного портвейна.
— Ну ладно, — резко произнес Пам, сделав добрый глоток и перекатывая вино между зубами, — как вам понравились эти благородные пирожные? Чертовски неаппетитно они выглядят. Ладно, Баррингтон, ваши помощники могут идти — мы останемся вчетвером, понятно? Очень хорошо.
Он подождал, пока младшие секретари выйдут, бормоча что-то про безбожные времена и упрямство королевы, решившей уступить в вопросах Северного полюса, и тяжело ступая прошел к огню, где и уселся спиной к каминной решетке, уставившись на меня из-под своих кустистых мохнатых бровей, отчего обед вдруг вновь забурлил у меня в желудке.
— Признаки восстания в индийских гарнизонах, — проскрипел он. — Очень хорошо. Я перечитал один из ваших рапортов, Флэшмен — тот, что вы подали Дальхаузи[25] в прошлом году, в котором вы описываете открытия, сделанные во время пребывания в русском плену, про план вторжения в Индию, пока мы будем заняты в Крыму. Конечно, сегодня об этом не говорят — с Россией подписан мир, чертово взаимопонимание и сотрудничество — полагаю, могу вам об этом не напоминать. Но кое-что из вашего сообщения пришло мне на память, когда началось это дело с лепешками. — Он оттопырил губу, глядя на меня. — Вы писали, что русское наступление в Индии будет сопровождаться внутренними восстаниями в стране, инспирированными агентами царя. Наши ищейки разнюхали кое-что по этому поводу, так что эти чертовы лепешки стали последней точкой. Так что сейчас, — он устроился поудобнее, глядя на меня полузакрытыми, но внимательными глазами, — повторите мне поточнее все, что вы слышали в России насчет восстания в Индии — слово в слово.
Я рассказал ему все, что помнил — как мы со Скороходом Истом дрожали, лежа в одних ночных рубашках в галерее Староторска, подслушивая про «Номер семь», как назывался русский план вторжения в Индию. Русские бы исполнили его, но всадники Якуб-бека утопили их армию в Сырдарье, при этом Флэши, накачанный бхангом,[26] продемонстрировал образцы невиданной доблести. Я изложил все в своем рапорте Дальхаузи, опустив некоторые неприятные для меня детали (вы можете прочитать об этом в предыдущей части моих мемуаров, причем со всеми подробностями). Этот рапорт был образчиком скромности, призванным убедить Дальхаузи в том, что я практически сравнялся с образом Хереварда-Будителя[27] — а почему бы и нет? Я ведь пострадал ради своей репутации.
Но сведений об индийском восстании было немного. Все, что нам удалось узнать, было: когда русская армия достигнет Хайбера, их агенты в Индии подговорят туземцев — и особенно сипаев Ост-Индской компании — восстать против британцев. В то время я не сомневался, что это было правдой, хотя могло быть и обычной уловкой. Но все это случилось больше года тому назад и Россия, как я полагал, теперь уже не угрожала Индии.
Они выслушали меня в полной тишине, и молчание длилось еще добрую минуту после того, как я закончил свой рассказ. Наконец Вуд проронил:
— Все сходится, милорд.
— Чертовски хорошо, — кивнул Палмерстон и снова проковылял к своему стулу. — Причем своевременно. Видите ли, Флэшмен, как военная сила русские пока могут быть сброшены со счетов, но это не означает, что они оставят нас в покое в Индии, а? Это план восстания, клянусь святым Георгом! Если бы я был русским политиком, то с вторжением или без смог бы кое-чего достичь в Индии, если бы располагал ловкими агентами. Тем более я смогу сделать это сейчас! — он закашлялся, тяжело дыша и проклиная свои изувеченные подагрой ноги. — Знаете, что существует индийское предсказание, будто Британская империя падет ровно через сто лет после битвы при Плесси?[28] — Премьер взял одну из чапатти и пристально посмотрел на нее. — Черт, они даже не посыпают их сахаром. Так вот, сотая годовщина этой битвы приходится на двадцать третье июня следующего года. Интересно, правда? А теперь расскажите мне, что вам известно о русском графе по имени Николай Игнатьев?
Он выстрелил этим вопросом так неожиданно, что я подскочил на добрые шесть дюймов. Есть избранная коллекция страшных имен, упоминание которых может на часок-другой расстроить мое пищеварение — Черити Спринг и Бисмарк, Руди Штарнберг и Уэсли Хардин, — но Н. П. Игнатьева я всегда относил к лидерам этого перечня. Холодный вампир с жестокими глазами, человек, который половину пути в Китай протащил меня в цепях, угрожал посадить в клетку и до смерти забить кнутом — просто ради собственного удовольствия. Я и не думал, что наш разговор зайдет так далеко, со всеми их проклятыми лепешками для мятежников и тем, как министры уцепились за мой рапорт Дальхаузи — но при упоминании имени Игнатьева мои кишки хором запели «Аллилуя!». Мне стоило значительных усилий сохранить спокойное лицо и рассказать Паму все, что я знал — что Игнатьев был одним из самых близких советников царя и что он был политическим агентом высокого класса и невероятной жестокости. Когда я закончил воспоминанием о том, как встретил его в последний раз — под жуткой сенью виселиц в форте Раим, Элленборо с отвращением вскрикнул, Вуда слегка передернуло, а Пам, как ни в чем не бывало, продолжал цедить свой портвейн.
— Интересную жизнь вы вели, — заметил он, — похоже, как я узнал из вашего рапорта — он был одним из главных приверженцев русского плана вторжения и индийского восстания, насколько помню. Способный парень, а?
— Милорд, — поклонился я, — это сущий дьявол.
— Именно так, — покачал головой Пам, — и поле для своих козней дьявол всегда найдет. — Премьер кивнул Элленборо: — Расскажите ему, милорд, а вы, Флэшмен, слушайте внимательно.
Элленборо прочистил глотку и своим взглядом пьяного спаниеля посмотрел на меня.
— Граф Игнатьев, — начал он, — в прошлом году совершил два тайных визита в Индию. Вначале наши агенты услышали о нем в Газни; под видом торговца лошадьми из племени афридиев он прошел через Хайбер в Пешавар. Там мы его потеряли. Как вы и могли предположить, ему легко удалось спрятаться в такой разноплеменной толпе…
— Но, милорд, этого не может быть! — не сдержавшись, перебил его я. — Вы не могли потерять Игнатьева из виду, если бы знали, на что обратить внимание. При всем своем искусстве переодевания он не сможет спрятать одну приметную черту — глаза! Один из них у него наполовину карий, а наполовину — голубой!
— Он мог бы прикрыть его повязкой, — заметил Элленборо, — в Индии достаточно одноглазых. Так или иначе, мы вновь напали на его следы, причем в обоих случаях они вели в одно и то же место — в Джханси. Там он провел два месяца, к сожалению, незамеченным, так что наши люди не смогли до него добраться. Они также не смогли выяснить, что он там делал, мы уверены только, что нечто плохое, — и он указал на чапатти. — Без сомнения, подогревал мятежные настроения. Закончив же свою дьявольскую работу, он через горы вернулся в Афганистан. Этим летом он был в Санкт-Петербурге, но оттуда, как стало известно нашим агентам, вновь ожидается в Джханси. Мы только не знаем когда.
Несомненно, все это было спорно, но я вдруг понял, что не ощущаю ни грана тепла, от бушующего в камине пламени — мне показалось, в комнате вдруг стало холодно, и я слышал, как дождь барабанит по крыше и ветер завывает во мраке за окнами. Я посмотрел на Элленборо, но на его лице мне вдруг померещились жестокие разноцветные глаза Игнатьева, а в ушах у меня снова зазвучал мягкий ледяной голос, как в прошлом, когда он едва шипел, не выпуская зажатой между зубами сигареты.
— Достаточно, не так ли? — поинтересовался Пам. — Мина заложена в Джханси — и если она взорвется… Бог знает, что может за этим последовать. Пока Индия выглядит спокойной, но кто знает, сколько там еще таких Джханси и сколько других Игнатьевых? — Его передернуло. — Мы не знаем, однако можем предположить, что нет более чувствительной точки, чем это место. Русские не случайно выбрали Джханси — мы аннексировали ее всего лишь четыре года назад, после смерти старого раджи и еще не успели хорошенько закрепиться. В этой провинции всегда хватало тугов-душителей[29] и до сих пор нравы там дикие и при этом она — одна из самых богатых в Индии. Хуже всего, что ею управляет женщина — рани,[30] вдова раджи. Она была уже достаточно стара, когда вышла за него замуж, и раджа не успел передать жене право на престол, так что мы взяли рани под свое крылышко — а ей это не нравится. Теперь она правит под нашей опекой, но при этом остается нашим самым отчаянным врагом во всей Индии. Благодатная почва для заговоров маэстро Игнатьева.
Пам помолчал и взглянул мне прямо в лицо.
— Да, мина заложена в Джханси. Но когда именно и где они попытаются поджечь ее, и дойдет до этого вообще или нет — вот что мы должны узнать и любой ценой предотвратить.
Тон, которым он это сказал, заставил меня похолодеть. Я и до этого понимал, что мне все это рассказывают отнюдь не для развлечения. Но сейчас, глядя на мрачные лица, вдруг четко осознал, что если инстинкт прирожденного труса не подводит меня, то вот-вот появится какое-то дьявольское предложение. Я со страхом ожидал последнего удара, а Пам тем временем осторожно ощупал языком свои вставные зубы — чертовски неприятное зрелище, можете мне поверить — и наконец сказал:
— На прошлой неделе Совет по контролю решил направить в Джханси специального агента. Его задачей будет установить, что русские там затевают, насколько серьезны волнения в сипайском гарнизоне и постараться заключить сделку с этой ведьмой-рани, убедив ее, что лояльность по отношению к британской короне — в ее наилучших интересах. — Он постучал пальцем по столу: — А если и когда этот парень, Игнатьев, снова вернется в Джханси — то поработать и с ним также. Согласитесь, это задача не для рядового агента.
И тут, с волной поднимающегося во мне ужаса, я вдруг понял, кто, по их мнению, мог бы решить эту задачу. Но мне оставалось только сидеть и слушать с лицом внимательного идиота, в то время как дело шло к решительной развязке.
— Совет без колебаний выбрал вас, Флэшмен, а я одобрил это решение. Вам, конечно, это не известно, но я наблюдал за вами с тех самых пор, как стал министром иностранных дел. Вы готовый политический агент — и при том чертовски удачливый. Осмелюсь предположить, вы подумали, что работа, проделанная вами в прошлом году в Средней Азии, осталась незамеченной — но это не так. — Пам внушительно наклонился ко мне, покачивая своей огромной головой. — У вас лучшая репутация весьма инициативного офицера, вы знаете Индию, у вас способности к языкам, включая русский, что может иметь первостепенное значение, не так ли? Вы знаете этого Игнатьева в лицо и вам удалось перехитрить его ранее. Видите, Флэшмен, я все про вас знаю.
«Эх ты, старый дурак, — хотелось мне прокричать ему прямо в лицо, — ни черта-то ты не знаешь! Как ты вообще можешь быть премьер-министром, если рассуждаешь таким образом!»
Но я молчал, а Пам продолжил:
— Не знаю, кто бы смог лучше вас справиться с этим делом. Сколько вам лет? Тридцать четыре — вы достаточно молоды, у вас впереди еще длинный и славный путь — ради нашей страны и себя лично.
И этот старый шут со вставными зубами постарался принять величественный вид.
Я ужаснулся. Господь — свидетель: у меня было много приключений, но это превосходило все. Как не раз случалось в прошлом, я вновь пал жертвой моей славной, хоть и абсолютно незаслуженной, репутации — Флэш, герой Джелалабада, человек, последним покинувший Кабул и первым ворвавшийся на батарею под Балаклавой, самый лихой рубака легкой кавалерии, заслуживший медаль от самой королевы и благодарность Парламента. Толпа боготворит этого героя, хотя печенка у него давно пожелтела от страха, как вчерашний заварной крем, — если бы они об этом только знали! А теперь Пам смотрел прямо мне в глаза, а Элленборо и Вуд благоговейно ожидали, что я отвечу. О, если бы я мог последовать своим наилучшим инстинктам, я бы смылся куда-нибудь или, рыдая, уткнулся в чьи-нибудь уютные колени — но, конечно же, ничего этого я не сделал. От ужаса у меня перехватило дыхание, но я уже знал, что мне нужно делать — возвращаться в Индию, с ее жарой, грязью, мухами и черномазыми сифилитиками, чтобы приняться за самое гиблое дело после того, когда Бисмарк посадил меня на трон Штракенца.
Но что было значительно хуже — пусть банда Бисмарка состояла из самых отпетых негодяев, которые когда-либо скрывались от правосудия и резали глотки, но даже они, по сравнению с Игнатьевым, были людьми цивилизованными. Одной мысли, что мне придется «поработать» с этим дьяволом (как это деликатно обозначил Пам), было достаточно, чтобы отправить меня в обморок. И если бы даже этого было недостаточно, мне еще придется крутиться в диком индийском королевстве (стране тугов — в качестве дополнительной премии), шпионя за какой-то увядающей старой ведьмой — индийской принцессой, пытаясь против ее воли заставить поддерживать британские интересы. При этом вполне вероятно, что ее любимым развлечением на досуге является наслаждение видом подобных советчиков, брошенных под ноги дикому слону. (Известно, что большинство индийских владык — сумасшедшие и способны на все.) Но уклониться от выполнения этой миссии не было ни малейшей возможности. Все, что мне оставалось, это собраться с силами, изобразить на лице христианское смирение, бесстрашно посмотреть в глаза Палмерстону, как Бесстрашный Дик,[31] которому директор школы дал задание отучить фагов[32] сквернословить, и сказать, что сделаю все, что смогу.
— Отлично, — проскрипел он, — я в вас верю. Кто знает — возможно, все опасения окажутся пустыми. Признаки подготовки мятежа в районах, которыми интересуются русские, и где туземные лидеры не довольны нашей опекой — все это случалось и раньше и порой заканчивалось ничем. Но если опасения подтвердятся — не допустите ошибок, — он вновь пристально посмотрел на меня — это самая страшная опасность, которая поднимается перед нашей страной со времен Бонапарта. Мы доверяем вашим рукам не самое легкое дело, сэр, но, как я полагаю, это — самые надежные руки в Англии.
Помоги мне Боже — именно так он все и сказал. Как только такие вообще проходят на выборах? Помнится, в ответ я издал несколько воинственных звуков, а мой панический ужас, как всегда, проявился в том, что лицо мое побагровело, что у человека моего сложения часто принимают за проявление гораздо более благородных эмоций. Похоже, Пама это вполне удовлетворило, потому что он вдруг улыбнулся мне и снова уселся на свой стул.
— Ну, теперь вам понятно, почему вы здесь беседуете с премьер-министром, а? То-то вы все вертитесь, точно сидите на яичной скорлупе. Ладно. Не стесняйтесь — я рад возможности лично вас проинструктировать. Конечно же, вы получите более подробную информацию еще до отплытия — господа-лорды здесь и Манглс[33] в Лондонском Совете еще побеседуют с вами. Когда вы собираетесь распрощаться с Ее Величеством? На следующей неделе? Ну, это слишком долго. Баррингтон, когда там отплывает шлюп в Индию? В понедельник? Тогда будет лучше, если вы вернетесь в Лондон уже в пятницу. Оставьте-ка вашу милую малышку, миссис Флэшмен, развлекать королевскую семью. Потрясающая девчонка — ни разу не видел ее из своего окна на Пикадилли, но знаете, что я думаю: познакомьте нас, когда вернетесь домой. Приводите ее как-нибудь туда вечерком, в дом под номером 96 — пообедаем и все такое прочее, а?
И он развалился на стуле, сияя не хуже мистера Пиквика. Мой желудок к тому времени несколько успокоился, что удивительно, учитывая какая каша для меня заваривалась. И все же, когда я сегодня думаю о Паме, то вижу его именно таким: подкрашенные виски, неуклюжие вставные зубы и — широкая улыбка довольного собой мальчишки. Вам сложно представить такую молодую улыбку на усталом старом лице. Теперь, с высоты прожитых лет я могу сказать: несмотря на дьявольское дело, в которое он меня впутал, я бы охотно променял всех остальных политиков на одного старого Пама — черт его побери. [IV*]
Однако теперь, когда этот государственный муж предопределил мою судьбу, ему не терпелось поскорее от меня избавиться; я еще не успел выйти из комнаты, как он приказал Баррингтону найти какую-то телеграмму из Америки или что-то вроде, и прошепелявил Вуду, что скоро им нужно выходить, чтобы успеть на специальный поезд до Абердина. Было, наверное, уже около трех утра, но он все еще был полон энергии и последнее, что мне запомнилось — как он диктовал письмо даже тогда, когда ему помогали надеть пальто и шарф. Прислуга суетилась вокруг, а Пам все еще порывался подойти к столу и вновь взглянуть на чапатти, интересуясь у Элленборо, едят ли индусы эти лепешки с мясом и каковы они на вкус.
— Эти чертовы штуки, — ворчал он, — должно быть, хороши с джемом, как вы думаете? Хотя… скорее нет… наверное, жестковаты для моих проклятых зубов… — Он поднял голову и увидел, как я раскланиваюсь на прощание, стоя в дверях. — Доброй ночи вам, Флэшмен, — протянул он, — и счастливой охоты. Но держите ухо востро.
Вот так я получил свое задание — можно сказать, в одно мгновение. Еще два часа назад я был счастлив и мне не было дела до всего мира, а теперь меня намертво привязали к Индии, да еще обрекли исполнять самую опасную и безумную миссию в своей жизни. Клянусь Богом — я проклял тот день, когда написал рапорт Дальхаузи, расписав в нем мои заслуги. Теперь приходилось все это расхлебывать: слухи о мятеже, старая сумасшедшая индийская принцесса, туги, Игнатьев и его шакалы-сообщники, стерегущие меня на каждом шагу.
Как вы понимаете, за остаток ночи мне не пришлось слишком много отдохнуть. Элспет быстро уснула. Она выглядела прелестно — с отблеском пламени свечей на светлых волосах, разметавшихся по подушке, полуоткрытыми розовыми губками — и даже похрапывала. Я был слишком потрясен, чтобы разбудить мою женушку наиболее приятным для нее способом, так что просто растолкал и, должен признаться, она восприняла сообщение о предстоящем нам расставании с замечательным спокойствием. Конечно, в течение по крайней мере пяти минут Элспет безутешно рыдала от мысли, что останется одна, пока ее славный Гектор (то есть я) будет совершать подвиги в Индии, ласкала мои бакенбарды и причитала, что она и маленький Гавви будут совсем заброшены, горестно всхлипывала, чем невольно провоцировала меня в очередной раз овладеть ею. Но затем она вдруг вспомнила, что забыла на званом ужине свои лучшие шелковые перчатки, а еще о том, что на левом плече у ней выскочил прыщик, от которого не удается избавиться никакими кремами. Приятно сознавать, что по тебе будут скучать дома.
Мне оставалось пробыть в Балморале еще три дня и первый из них я провел, запершись с Элленборо и маленьким угловатым человечком из Совета по Контролю за Индией, которые посвящали меня в детали моей безумной миссии в Джханси и обстановки в Индии. Не буду утомлять вас подробностями, поскольку вы наверняка знакомы с прелестями и ужасами Джханси еще со школьной скамьи. Достаточно сказать, что все это лишь усугубило мои мрачные предчувствия. А потом, утром в среду, произошло нечто, что заставило все остальные страхи вылететь из головы. Это был такой шок, столь необычайное совпадение (учитывая все ранее произошедшее), что я до сих пор вспоминаю об этом с недоверием и покрываюсь потом от одной мысли.
Ночь напролет я пьянствовал в Абергелди, стремясь не думать о будущем, и когда на утро в среду проснулся с тяжелой головой, Элспет посоветовала мне вместо завтрака прокатиться верхом. Я выругался, крикнул, чтобы мне подали лошадь и, оставив мою женушку одну пучиться на свои вареные яйца, через десять минут уже во весь дух мчался галопом по дороге в Балморал. Я достиг замка и подъехал к подъезду для карет; за ним, на дальнем конце посыпанной гравием дорожки, стоял большой дворцовый экипаж, на которой в замок обычно привозили почетных гостей со станции. Лакеи как раз открыли дверцы и, кланяясь, помогали прибывшим выбраться из кареты и подняться по ступеням, ведущим к боковой двери.
«Ну, вот — еще несколько глупых бедняг прибыли, чтобы вкусить королевского гостеприимства», — подумал я и уже собирался повернуть лошадь в обратный путь, когда взгляд мой снова упал на группу джентльменов в дорожных шляпах, поднимающихся по ступенькам. Один из них обернулся, чтобы что-то сказать лакею и — я едва не вывалился из седла, удержавшись на лошади благодаря тому, что обеими руками вцепился ей в гриву. Мне показалось, что я брежу — потому что это было гораздо страшнее, чем призрак, но это было реальностью, хотя и абсолютно невозможной. Мужчина на ступеньках, одетый по моде обычного британского сельского джентльмена, который снова двинулся ко входу во дворец, был именно тем человеком, с которым я в последний раз виделся под сенью виселиц в форте Раим. Это был тот самый джентльмен, победить или убить которого посылал меня Палмерстон в Индию: граф Николай Павлович Игнатьев.
II
— Вы уверены? — прокряхтел Элленборо, — нет, нет, Флэшмен — это невозможно! Граф Игнатьев — тот самый, о котором мы говорили два дня назад — здесь? Невозможно!
— Милорд, — твердо сказал я, — я имел возможность познакомиться с ним ближе, чем бы мне хотелось, и я говорю вам, что сейчас он в замке, а с ним его пронзительный взгляд и все остальное. Как всегда, хладнокровный, в твидовом сюртуке и охотничьей шляпе, так что помогите! Не более десяти минут тому назад он был здесь, у самых дверей!
Он плюхнулся на стул, сдувая мыльную пену для бритья со своих щек — я почти отшвырнул с дороги его лакея, а до этого молнией взлетел по лестнице черного хода, торопясь увидеть Элленборо. Я все еще дрожал от возбуждения, если не сказать, что был в шоке.
— Я хотел бы получить объяснение всему этому, милорд, — задыхаясь проговорил я, — поскольку не верю в такие совпадения.
— Что вы имеете в виду? — спросил он, таращась на меня.
— Две ночи тому назад мы говорили именно об этом русском чудовище — как он шпионит в Индии вдоль и поперек, особенно в том месте, куда посылают меня. И теперь он здесь — тот самый человек! И это простое совпадение? — Я был настолько вне себя, что говорил без церемоний. — Как ему вообще удалось пробраться в страну? И вы мне скажете, что лорд Палмерстон ничего об этом не знает?
— Боже мой, Флэшмен! — его широкое, покрытое пятнами лицо выглядело озабоченным, — что вы имеете в виду?
— Я полагаю, милорд, — произнес я, стараясь держать себя в руках, — что есть весьма немного вещей, особенно в Англии, о которых неизвестно лорду Палмерстону — так возможно ли, чтобы он не знал, что самый опасный российский агент — и при этом один из их важных аристократов — гуляет здесь собственной персоной? И ни слова об этом в ту самую ночь, когда…
— Погодите! Погодите, — воскликнул он, сбитый с толку. — Это чудовищное предположение! Возьмите себя в руки, сэр! Вы абсолютно уверены, что это — Игнатьев?
Я был готов взорваться, но сдержался:
— Да, я уверен.
— Оставайтесь здесь, — бросил он и выскочил вон.
Добрые десять минут я провел, грызя ногти, прежде чем он вернулся, осторожно прикрыв за собой двери. Его лицо вновь обрело свой обычный, свекольно-красный, цвет, но выглядел он чертовски озадаченным.
— Это правда, — сбивчиво прошептал он, — граф Игнатьев здесь вместе со свитой лорда Абердина — в качестве гостя королевы. Вы же знаете, наш лорд Грэнвилл сейчас в Петербурге на коронации нового царя. Так вот, группа русских аристократов впервые после войны — прибыла вчера в Лейт с миссией доброй воли или Бог знает чего еще там, от своего нового монарха к королеве. Кто-то написал Абердину — я точно не знаю, кто — и он притащил всех сюда, на север — вместе с этим парнем. Это невероятно! Чудовищная игра случая!
— Случайность, милорд? — недоверчиво переспросил я. — Попробуйте это доказать!
— Боже милостивый, да что же еще? Согласен, что это очень странно, но уверен, что лорд Палмерстон не имел ни малейших намерений… — он на секунду замолчал, и я заметил, как на его мясистом лице промелькнуло сомнение в порядочности драгоценного премьер-министра. — О, все это лишь нелепые подозрения… да и какой смысл ему был утаивать это от нас? Нет — он, конечно же, сказал бы мне — да и вам, я уверен в этом.
Ну, я-то в этом совсем не был уверен — после всего, что я слышал о чувстве юмора Пама, от него всего можно было ожидать. Но все же даже для него было бы дико допустить чтобы я накануне моей поездки в Индию вдруг столкнулся лицом к лицу с этим русским. А затем у меня промелькнула еще более дикая мысль: «А что, если Игнатьев знает о моей миссии?»
— Никогда! — прогремел Элленборо, — нет, этого не может быть! О вашей миссии ему станет известно не раньше чем через две недели, — и то если возможности русской разведки соответствуют притязаниям России на роль сверхдержавы — но даже если и так, что он сможет сделать? Черт побери, это же владения королевы! Это не Средняя Азия, а цивилизованная страна…
— Но милорд, он — не цивилизованный человек, — заметил я, — что же делать? Мне нельзя с ним встречаться!
— Дайте мне подумать, — проворчал он и зашагал взад-вперед по комнате, тяжело раскачивая животом.
Наконец он остановился, с трудом обдумывая решение.
— Полагаю, вы должны… — начал Элленборо, — если он увидит вас или узнает, что были здесь… наверное, вам лучше уехать… нет! — Он щелкнул пальцами у меня перед носом. — Нет, напротив, вы должны остаться. Лучше сделать вид, будто ничего особенного не произошло. Постарайтесь не покидать своей комнаты, чтобы не возбуждать излишних подозрений — в конце концов, бывшие враги иногда встречаются и во время мира, не так ли? А мы уж за ним проследим — клянусь святым Георгом, мы постараемся! И думаю, узнаем кое-что интересное! Ха-ха!
И этот насквозь пропитанный портвейном шут когда-то управлял целой Индией! Никогда ранее я не слышал более идиотского предложения — но как я мог его изменить? Я умолял, во имя здравого смысла, позволить мне уехать тотчас же, но Элленборо так и не согласился. Полагаю, задним умом он все же подозревал, что Пам знал о приезде Игнатьева, так что теперь Элленборо просто боялся нарушить комбинацию своего шефа, какой бы она ни была.
— Вы останетесь, — наконец твердо сказал он, — это решено. Какого дьявола? Это просто ирония судьбы — но даже, если и нет, то что же этот русский мерзавец сможет вам сделать? Говорю вам, я не намерен пропустить момент, когда он впервые вас увидит. Вот уж будет встреча, а? С офицером, которому он угрожал пытками и, хуже того, вел себя с ним отвратительно грубо! С человеком, который в конце концов обвел его вокруг пальца. Ха-ха! — и Элленборо хлопнул меня по плечу. — Да ладно, полагаю не случится ничего, что могло бы опечалить королеву. Подумайте над этим, Флэшмен, вы ведь не собираетесь устроить какие-нибудь неприятности, а?
«Ну, ладно», — подумал я. Довольно странно, но к тому времени, когда вечером того же дня я вновь приехал в замок уже вместе с Элспет, тошнотворный ужас от мысли, что я могу встретиться с этим русским волком, немного прошел. Я напомнил себе, что теперь мы встречаемся не на его территории, а на моей, и власть, которую он когда-то имел надо мной, осталась в прошлом. Мне стало немного легче и я вдолбил Элспет в голову, что она не должна допустить не малейшего намека насчет моей поездки в Индию или встречи с Палмерстоном. Она приняла все это, широко раскрыв глаза от удивления, и заверила, что не проронит ни словечка, но я с раздражением понял, что никакие запреты не смогут надолго удержаться в этой хорошенькой, но пустой головке. Когда мы подходили к дверям зала для приемов, она все мучилась вопросом, какой же свадебный подарок стоит посоветовать королеве для Мэри Сеймур? Я, озабоченный совсем другими мыслями, предложил преподнести новобрачной здорового молодого кучера и тут же пожалел об этом — нет уверенности, что моя женушка именно так и не поступит. Тут двери распахнулись, дворецкий объявил о нашем прибытии и все головы в зале повернулись к нам.
Здесь были: королева, сидящая посреди дивана, между какими-то леди и джентльменом, Альберт, подпирающий камин и вещающий что-то Абердину, которого, похоже, совсем усыпил, с полдюжины других придворных и — Элленборо, уставившийся на меня с другого конца комнаты. После того как мы поклонились и королева произнесла: «О, миссис Флэшмен, вы прибыли как раз вовремя, чтобы помочь мне разливать чай», я проследил за взглядом Элленборо и обнаружил Игнатьева с другим, похоже, тоже русским дворянином, и парочкой наших джентльменов. Он также уставился на меня не мигая и, клянусь Богом, ни один мускул не дрогнул на его лице; я слегка поклонился Альберту и, когда снова обернулся к Игнатьеву, меня, непонятно почему, охватило отчаянное чувство: «а-пошло-оно-все-к-черту!»
— Мой дорогой граф! — удивленно воскликнул я и все вокруг замолчали.
Королева выпучила глаза и даже Альберт прервал свою речь, обращенную к благородному телу, мирно посапывающему рядом с ним.
— Неужели это граф Игнатьев? — вновь воскликнул я и тут же рассыпался в извинениях. — Прошу простить меня, Ваше Величество, — обратился я к Вики, — это так неожиданно! Я не знал, что граф Игнатьев также находится здесь! Простите меня.
Конечно же, к этому времени она обратилась в само любопытство и мне пришлось объяснить, что граф Игнатьев — мой, так сказать, старый собрат по оружию. При этом я широко усмехнулся в его сторону, королева так же улыбнулась — неуверенно, но вполне удовлетворенно, а Элленборо подыграл мне, шепнув на ухо Альберту, что, как он слышал, во время последней войны я был пленником графа Игнатьева, но и понятия не имел, что это тот самый джентльмен, и Альберт ответил, что находит это весьма примечательным.
— Действительно, Ваше Высочество, я был удостоен такой чести, — произнес Игнатьев, слегка прищелкнув каблуками и при звуках этого холодного голоса дрожь пробежала у меня по спине. Но ему ничего не оставалось делать, кроме как пожать протянутую мной руку.
— Это замечательно, старина! — с чувством проговорил я, обнимая его, словно нежданно вновь обретенного брата. — Где ты пропадал все это время?
Несколько человек вокруг нас рассмеялись, увидев, как бравый Флэш Гарри приветствует старого врага — впрочем, нечто подобное они и ожидали. И когда королеве объяснили ситуацию, она сказала, что это совсем как в истории Фитцджеймса и Родрика Дью.[34]
После этого все было очень весело и Альберт, собрав в кружок нас с Игнатьевым и Элленборо, расспрашивал меня, как мы познакомились, и я вкратце рассказал о том, как попал в плен и как мне удалось освободиться, поведав, каким замечательным тюремщиком был для меня Игнатьев. А этот грубый русский зверь невозмутимо стоял рядом, лишь иногда кивая своей большой темно-рыжей головой, временами прикладываясь к кубку, и только все косился на меня своим странным, наполовину голубым, наполовину карим глазом. Это было все то же красивое, холодное лицо со сломанным носом, которое я запомнил, — стоило мне закрыть глаза — и я снова слышал свист плетей и стоны во дворе казарм Арабата и словно чувствовал прочную казацкую хватку на моих руках.
Альберт, конечно же, был поражен нашей случайной встречей и произнес короткую речь о братстве по оружию, на что Игнатьев вежливо усмехнулся и воскликнул: «Так, так!» Трудно было догадаться, но, полагаю, моему зверю-московиту все это не очень-то нравилось и наверняка он терялся в догадках, почему я притворяюсь столь обрадованным встречей с ним. Но я был сама учтивость — я даже представил его Элспет, и граф поклонился, поцеловав ей руку. Она была с ним сдержанна и холодна настолько, что я сразу догадался — он понравился моей маленькой потаскушке.
Как вы знаете, моя природная дерзость всегда лезет наружу, особенно, если я уверен в своей полной безнаказанности; когда мы с Игнатьевым на несколько минут остались одни, я решил подпустить ему шпильку, чисто из спортивного интереса, так что вполне невинно спросил:
— Вы захватили с собой свой кнут, граф?
Он с мгновение посмотрел на меня, прежде чем ответить.
— Он остался в России, — наконец буркнул он, — и ожидает вас. Так же, как и дочь князя Пенчерьевского, я полагаю.
— Ах, да — улыбнулся я, — малютка Валя. Не слышали, как она там?
— Понятия не имею. Но если ей хорошо, то вы тут ни при чем. — Он покосился на Элспет и окружающих ее придворных. — Не так ли?
— Она никогда на меня не жаловалась, — снова улыбнулся я. — Кстати, если и я чувствую себя превосходно, то вы в этом также не виноваты.
— Это правда, — согласился он и его взгляд кольнул меня, как острие шпаги. — Тем не менее могу ли я предположить, что чем меньше мы будем рассказывать о наших предыдущих встречах, тем лучше? Слушая вашу гм… легенду, рассчитанную, без сомнения, на то, чтобы произвести впечатление на королеву, я понял, что вы по вполне понятным причинам не хотели бы, чтобы ваше истинное поведение стало известным.
— Да ладно, — махнул я рукой, — это уж не твоя забота, старина. — Представь, что подумает двор в Балморале, если узнает, что один очаровательный русский аристократ с забавным глазом на самом деле — кровожадное животное, что он засекал невинных людей до смерти и подвергал пыткам военнопленных? Ты об этом подумал?
— Если вы полагаете, что вас пытали, полковник Флэшмен, — произнес он с непроницаемым лицом, — то я могу позавидовать вашему воображению, — он поставил свой бокал. — Я нахожу этот разговор скучным, так что, если вы позволите… — и он отошел.
— Сожалею, что вам приходится скучать, — заметил я вдогонку. — Ох, я и забыл, ведь вы на этой неделе еще никому не перерезали глотку и не поджарили ни одного крестьянина.
Конечно, с моей стороны, это было глупо — еще два часа назад, я весь дрожал от одной мысли вновь встретить его, а теперь дразнил этого зверя, получая настоящее удовольствие. Но я не могу удержаться от насмешки, когда у врага связаны руки, как вам может рассказать Томас Хьюз.[35] Здесь, среди чайных чашек и подхалимов, лебезящих перед королевской семьей, Игнатьев уже не казался таким ужасным. Между тем подали сэндвичи с кресс-салатом, Элленборо тяжеловесно флиртовал с Элспет, а королева жаловалась Абердину, что, по мнению ее дядюшки Леопольда, лорда Хардинга убила пресса. Да, Игнатьев был теперь совсем нестрашен — без своих цепей и виселиц, без крепостных казематов, без власти над жизнью и смертью и без толпы головорезов-казаков из охраны. Но мне нужно было бы помнить, что люди, подобные Николаю Игнатьеву, опасны всегда и везде — особенно, когда вы менее всего ожидаете этого.
Так что я был далек от ожидания чего-то особенного на следующий день — последний полный день, который мне предстояло провести в Балморале. Помнится, это было ненастное морозное утро; снежные шквалы перемежались с дождем и тяжелые тучи спускались от Лохнагара. Словом, один из тех дней, когда хочется не высовывать носа из дома, растопить пожарче камин и провести время за пуншем и бильярдом. Но — не для принца Альберта. Ему, видите ли, доложили о большом стаде королевских оленей в Баллох Бью, и нам не оставалось ничего, кроме как, проклиная все на свете, собираться на охоту.
Если бы было возможно, я бы улизнул в Абергелди, но принц вместе с Элленборо наткнулся на меня в холле.
— О, полковник Флаш-манн, гдье ваши гетры? Ньеужели ви еще не посылайт за свой егерь? Пойдьемте, джентльмены, при такой погодье у нас остается всего ньесколько чьесов — мы уже должны выезжайт.
И он двинулся вперед в своей смешной альпийской шапочке и клетчатом шотландском плаще, а вокруг сзывали носильщиков, готовили коляски и егеря уже бездельничали на террасе, перебрасываясь шуточками среди ружей и прочей амуниции. Они знали, что я ненавижу подобную охоту, а Элленборо не способен без отдыха протащить свою требуху больше чем на десять ярдов, так что наши неудобства только забавляли этих грубиянов. Кроме нас собралось еще четверо или пятеро охотников, и наконец мы выехали под струи дождя, капли которого проникали сквозь брезент дождевиков, и двинулись прочь от замка по безлюдной дороге.
Местность вокруг Балморала выглядела жалкой даже в лучшие времена, а унылым осенним днем она и вовсе напоминала иллюстрацию из «Священной войны» Беньяна,[36] особенно в месте нашего назначения. Это был мрачный густой пихтовый лес среди гор, с обширными болотами, оврагами, забитыми обломками скал, и зарослями вереска по обе стороны долины. Здесь дорога заканчивалась. Мы выбрались из колясок и стояли, медленно пропитываясь дождевой влагой, пока Альберт, полный энергии и жажды крови, планировал кампанию. Мы должны были дальше рассыпаться в цепь и в сопровождении наших носильщиков идти по направлению к возвышенности, так как мгла к тому времени значительно сгустилась и двигаясь группой мы могли не заметить оленей.
Мы были уже почти готовы начать наше молчаливое восхождение, когда по дороге подкатилась еще одна коляска, в которой находились наши русские гости вместе с важными персонами из местных, все одетые для охоты в горах. Альберту, конечно же, это понравилось.
— Сьюда, джентльмены, — закричал он, — это великолепно! Што? В шотландских горах ньет мьедведей, но мы сможем отлично попрактиковайт на оленьях. Генерал Меньшикоф, не хотитье ли прогуляйться со мной? Граф Игнатьеф, а где же полковник Флаш-манн?
Я успел быстро глотнуть укрепляющего из фляги Элленборо, и когда принц повернулся ко мне, рядом с ним я увидел Игнатьева, очень ладного в своем твидовом костюме и высоких сапогах, меховой шапке на голове и тяжелым тесаком на поясе. Мне показалось, будто меня лягнули в живот. В эту секунду я очень живо представил себе окружающие нас дикие скалы, между ними тянулись густые леса, в которых можно было блуждать целыми днями, мглу, поглощавшую все звуки, в которой можно было раствориться, пройдя всего несколько шагов — и себя, такого одинокого, а рядом — Игнатьева, вооруженного до зубов, выглядывающего из зарослей вереска, чтобы взять меня на прицел своим разноцветным глазом. Я даже представить себе не мог, что он окажется в нашей охотничьей компании, но вот он шагал прямо ко мне, а рядом с ним тяжело переваливался с ноги на ногу огромный тяжеловесный парень — несомненно, русский мужик — в охотничьем кафтане и сапогах, тащивший его сумку.
Элленборо застыл и быстро взглянул на меня. Сам же я едва ли смел надеяться на то, что порядок следования охотников изменится в последнюю минуту. Я уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут Альберт предложил Элленборо взять на себя левый фланг, а Игнатьев все стоял, холодно глядя на меня и только стена дождя разделяла нас.
— У меня есть свой егерь, — сказал он, кивнув на мужика, — он привык к большой игре — с медведями, как изволили заметить ваше королевское высочество, и с волками. Тем не менее он обладает опытом охоты и на более мелких зверей, вплоть до гнид и прочих паразитов.
— Я… Я…
Все случилось настолько быстро, что я не успел даже придумать, что сделать или сказать. Альберт распределил остальных по исходным позициям; ближайший из моих коллег едва маячил в сгущающейся мгле. Пока я стоял, дрожа от возбуждения, Игнатьев подступил ближе, взглянул на моего помощника, который был в нескольких ярдах позади и тихо сказал по-французски:
— Я и не знал, что вы собираетесь в Индию, полковник. Примите мои поздравления с вашим… повышением? Полагаю, вы примете полк?
— Э-э? Что вы имеете в виду? — я замер в недоумении.
— Конечно же, это самое меньшее, — продолжил он, — для столь выдающегося воина, как вы.
— Не понимаю, о чем вы говорите, — прохрипел я.
— Неужели меня неправильно информировали? Или я неправильно понял вашу очаровательную жену? Когда я имел счастье засвидетельствовать ей мое почтение сегодня утром, она что-то об этом говорила — правда, тут я могу ошибаться. Когда кому-нибудь случается встретить женщину столь исключительной красоты, он предпочитает скорее смотреть, нежели слушать. — Он улыбнулся — такого я за ним раньше не замечал: казалось, вдруг треснул лед на замерзшей реке. — Но мне кажется, его королевское высочество зовет вас, полковник.
— Флаш-манн!
Я с трудом оторвал взгляд от гипнотического блеска его разноцветных глаз. Альберт нетерпеливо махал мне рукой.
— Нье возглавитье ли вы правый фланг? Идьемте, сэр, иначе стемнеет еще до того, как мы подбьеремся к зверьям!
Если бы у меня оставалась хоть капля здравого смысла, я бы отказался или рухнул в обморок, или, на худой конец, сказал, что подвернул лодыжку — но у меня не оставалось времени на размышления. Королевский прихлебатель махал мне, чтобы я поторопился, мой егерь уже скрылся из глаз за деревьями, а Игнатьев холодно усмехался, видя мое смущение. Я, поколебавшись, двинулся вслед за егерем. Достигнув деревьев, я быстро оглянулся: Игнатьев спокойно стоял у коляски, закуривая сигарету, в ожидании, когда Альберт укажет ему его место. Я судорожно вздохнул и нырнул в гущу деревьев.
Егерь ожидал меня под сводом из ветвей; он как раз и был одним из этих вечно ухмыляющихся веснушчатых, огненно-рыжих горцев, по имени Маклехоус или что-то в равной степени непроизносимое. Я видал его раньше — он был отличным охотником, впрочем, как и все они. «Теперь-то приклеюсь к тебе на все время предстоящей охоты, — подумал я, — и чем скорее мы уберемся подальше от этого русского спортсмена, тем лучше». Пробираясь сквозь пихтовый лес и раз за разом приседая, чтобы не получить веткой по голове, я услышал голос Альберта прямо позади нас и прибавил ходу.
На дальнем краю леса я приостановился, вглядываясь в холм впереди. Какого черта я так дергаюсь? — мое сердце стучало как паровой молот, и не смотря на холод пот струями стекал по спине. Это не Россия, это — небольшая охота в цивилизованной Шотландии. Игнатьев не посмеет выкидывать здесь свои дьявольские штучки — лишь полная неожиданность, с которой он в самую последнюю минуту присоединился к нашей компании, несколько выбила меня из колеи… ну, конечно же, он не посмеет. Но что он собирается предпринять? И ему известно о моей поездке в Индию — все из-за этой чертовой куклы, на которой я, как последний идиот, женился в недобрый час. На охоте всякое может случиться, да еще наверху, в скалах, при плохом освещении… все можно будет легко представить как несчастный случай: «Думал, что это — олень… проклятая дымка… трагическая ошибка… никогда себе не прощу…»
— Вперед! — завопил я и споткнулся об обломок скалы, лежащий в промоине, что открылась по левую руку от нас — еще одна была прямо впереди, но я не хотел идти по ней. Егерь заспорил, что если мы заберем влево, то можем наткнуться на других стрелков, но меня это как раз устраивало, так что, не обращая на него внимания, я с трудом взобрался к подножию промоины, почти по колено увяз в болотистой луже и чуть не уронил ружье. Украдкой оглянувшись, я не заметил, чтобы еще кто-нибудь выходил из леса. Я спрыгнул в промоину и начал карабкаться вверх.
Это был изнурительный подъем, так как расщелина посредине заросла шестифутовыми кустами вереска, сквозь которую петляла лишь кроличья тропа. На вершине вновь начинался пихтовый лес, и я остановился лишь после того, как мы достаточно в него углубились. Я тяжело дышал, а мой горец присел рядом и улыбнулся как ни в чем не бывало.
— Вот так гонка, — недоуменно произнес он, — наверное, хотите стать героем дня. Куда так бежим и зачем?
— Эта штука заряжена? — вместо ответа спросил я, крепко сжимая ружье.
— Для чего бы это? — расплылся в улыбке этот клоун, — мы доберемся до оленей не раньше чем через добрые полчаса. А здесь стрелять не в кого.
— Заряди эту чертову штуковину, — приказал я.
— Да что вы себе вбили в голову, что так торопитесь? Ружье можно тащить и без заряда.
— Проклятье, делай, как говорю! — воскликнул я, так что парень пожал плечами, сплюнул сквозь зубы, чтобы выразить свое презрение, и неохотно начал закладывать заряды.
— Смотрите, теперь в стволах две большие пули, — проворчал он, передавая мне ружье. — Если вы начнете стрелять так же быстро, как бегать, то успеете сбить парочку охотничьих фуражек, прежде чём мы увидим оленя.
Эти шотландцы и понятия не имеют о том, как себя вести.
Я выхватил ружье у него из рук и двинулся дальше через лес. Минут десять мы продирались сквозь заросли, все вверх и вверх по очередной промоине, затем прошли по скалистому выступу над глубоким протоком, где мгла висела над водоворотами в тени рябиновых деревьев, а клочья пены медленно дрейфовали к бурым заводям. Сумрак по-прежнему все сгущался, хотя совсем недавно был полдень; не было ни следа, ни звука живой души вокруг и ничего, ни малейшего движения на невысоких холмах, лежащих ниже нас.
К этому времени все спрашивал себя — а не слишком ли я подозрителен? — и в то же время размышлял, не безопаснее ли будет прилечь здесь до темноты и купить молчание моего проводника за соверен или же продолжать смещаться влево, чтобы встретиться с другими нашими охотниками. Вдруг егерь вскрикнул, нахмурился и приложил руку к груди. Он издал какой-то лающий кашель, а его веснушчатое лицо, когда он повернулся ко мне, было мертвенно-бледным.
— Ох! — простонал он, — что это? Что-то кольнуло, да так неожиданно.
— Что это было? — нетерпеливо спросил я, и шотландец присел на обломок скалы, обхватив себя руками и тяжело дыша.
— Я… я не знаю. Мой живот — с ним что-то неладно — ой!
— Ты что, болен?
— О боже — я не знаю. — Его лицо позеленело. — И что только пьют эти иностранцы? Это… это, наверное, тот спирт, которым меня вчера угощал перед выходом тот большой косматый парень — о, черт возьми, это какой-то дьявольский напиток. О, подождите, меня сейчас стошнит!
Но это ему не удалось и он повалился на скалу, скрюченный жестокой болью, стоная и раздирая на себе одежду. Я в ужасе смотрел на него, так как уже понял в чем дело — подручный Игнатьева заранее опоил или отравил его, так что теперь я остался на холме в полном одиночестве. Откровенная жестокость и дьявольская расчетливость моего противника заставила меня задрожать от макушки до пяток. Теперь они придут за мной и… Но погодите-ка, что бы ни произошло, ситуация не представлялась такой уж фатальной: смерть сразу двух человек будет трудно списать на неудачный выстрел, особенно если один из них был отравлен. Так значит, это какое-то снадобье, чтобы временно вывести моего егеря из игры, и, конечно же, мне нужно будет спуститься обратно к подножию холма за помощью, а там…
— Лежи здесь, я приведу кого-нибудь на подмогу, — сказал я и снова двинулся по промоине, но не в том направлении, откуда мы пришли; Флэши нужно было карабкаться вверх, а позаботиться о моем стонущем горце можно будет и позже. Я бегом обогнул скалу, торчащую в конце промоины и выбрался на поляну среди зарослей папоротника, а затем нырнул в очередную полосу пихтового леса, где и остановился, чтобы перевести дух и сориентироваться. Если я сильно забрал влево от холма, но где именно это самое «лево»? Мы столько напетляли, огибая заросли и болота, что теперь я был ни в чем не уверен, а солнца, которое могло бы мне помочь, не было видно. А вдруг я сбился с дороги и сейчас иду прямо в лапы Игнатьеву? Господь — свидетель: в этой мешанине холмов и вересковых зарослей это вполне может случиться. А может, мне лучше вернуться к моему страдальцу-егерю и подождать там? В его компании мне будет все-таки безопаснее — но к этому времени мои враги могли уже подобраться ближе и караулить меня, прячась за краем промоины. Я стоял и обливался потом, судорожно сжимая в руках ружье.
Под ветвями пихт было сумрачно и тихо, как в могиле. Впереди я разглядел купу папоротников — место, где можно будет залечь — и снова двинулся вперед, крадясь почти на цыпочках, бесшумно ступая по мягкому ковру из мха и хвои. На опушке я опять приостановился, прислушавшись: ни один звук не нарушал тишину леса, кроме моего дыхания. Я повернул, чтобы вступить на папоротниковую поляну, — и замер, окаменев от ужаса, с трудом подавив испуганный крик. У меня за спиной, на дальнем конце леса вдруг громко хрустнула ветка.
На мгновение я застыл, парализованный страхом, и тут же припустился бежать через открытый участок торфяника к спасительным зарослям папоротника. Я пролетел несколько ярдов, прежде чем решился обернуться. Сквозь путаницу ветвей и стеблей я разглядел деревья, под которыми недавно стоял — мрачные и молчаливые. Но теперь я был в хорошем укрытии — если я буду лежать смирно, так, чтобы ни один папоротник надо мной не шелохнулся, никто не сможет меня обнаружить — разве что случайно наступит. Я зарылся в мокрую траву, пытаясь восстановить дыхание и внимательно прислушиваясь.
Минут пять ничего не происходило; слышался лишь стук падающих капель и стук моего сердца. Адского привкуса этой неопределенности добавляла абсолютная несправедливость такого моего печального положения. Мне доводилось бывать в гораздо более диких уголках мира — в Афганистане и на Мадагаскаре, в России и Сент-Луисе — но проклятье: теперь мне приходилось дрожать за свою жизнь в Англии — или даже в Шотландии! Такого страха на английской земле я не испытывал с тех пор, когда был ничтожным фагом в Рагби и таскал за забиякой Доусоном его спортивную сумку, прячась от сторожей в Браунсовере. Правда, они таки меня поймали и мне удалось освободиться только благодаря тому, что я сдал Доусона и его приятелей, а также показал сторожам, где… Но тут вдруг, в абсолютно пустынном еще секунду назад месте, в тени деревьев шевельнулась тень, замерла и начала обретать форму в сумеречном полусвете. Прямо на опушке пихтового леса стоял Игнатьев.
Когда он повернул голову в мою сторону, я даже перестал дышать. Русский держал свое ружье наперевес и — видит Бог — выслеживал не оленя. Затем он щелкнул пальцами и его мужик вышел, переваливаясь, из тени деревьев; он, как обычно, был начеку и глаза его поблескивали среди зарослей нечесаных волос. Граф кивнул ему влево, и гигант двинулся в указанном направлении, держа ружье перед собой; сам же Игнатьев выждал несколько секунд и двинулся правее. Оба они бесшумно исчезли, а я лихорадочно ощупал свое ружье и дрожащими пальцами взвел курки, судорожно размышляя, оставаться мне здесь или ползком пробраться в подлесок. Вскоре они могли обойти меня с обеих сторон, и если они свернут к папоротникам, то легко могут… но тут слева от меня в зелени зарослей что-то зашелестело; затем звуки замерли и вновь раздались, все приближаясь. Несомненно, кто-то осторожно крался к моему укрытию.
Это наконец вывело меня из ступора, вызванного страхом. Я перекатился на бок, пытаясь направить дуло в сторону, откуда исходил странный шелест; ружье зацепилось за стебель папоротника, и я отчаянно потянул, чтобы освободить его. Боже, ну и шума же я наделал — а вслед за тем чертов замок, очевидно, задел за ветку, потому что один из стволов выстрелил с громовым грохотом, а я вскочил на ноги и бросился бежать вниз по склону. Я как раз продирался через высокие заросли, когда вдруг раздался треск выстрела и пуля зловещим шершнем прогудела у меня над головой. Я проломился сквозь препятствие, выбрался на прогалину между пихтами, перепрыгнул через невысокие кусты и — рухнул в болото. Я по пояс погрузился в вонючую жижу, но в одно мгновение уже выкарабкался на твердую землю, так как слышал треск в зарослях папоротника у меня за спиной и понимал, что стоит мне задержаться хоть на секунду — и последует второй выстрел… Я уделался с ног до головы, как торговец, которого за плутни обмазали дегтем и вываляли в перьях, но в руках у меня все еще было ружье. Вдруг у меня под ногой подвернулся камень и я полетел кувырком, скатился вниз по склону, врезался в обломок скалы и свалился в ледяной поток, отчаянно пытаясь выбраться и оскальзываясь на покрытом илом гравии.
Раздался стук сапог, я повернул голову и увидел мужика, выскочившего на берег не далее чем в десяти ярдах от меня. У меня даже не оставалось времени оглянуться в поисках ружья; я стоял по пояс в воде, а этот сукин сын вскинул ружье к плечу, так что его ствол смотрел прямо мне в лицо. Я вскрикнул и попытался ухватиться за камень, но тут раздался выстрел — и мужик уронил свое ружье, застонал и, схватившись за руку, рухнул навзничь среди скал.
— Осторожнее, полковник, — произнес голос рядом со мной, — он только ранен.
Не более чем в пяти ярдах стоял высокий парень в твидовом костюме с дымящимся револьвером в руке; он небрежно кивнул мне, а затем легко перепрыгнул с камня на камень и остановился рядом с мужиком, который кряхтя пытался зажать кровоточащую рану на руке.
— Что скажешь, чертов убийца? — почти ласково сказал мой спаситель и пнул его ногой в лицо. — Боюсь, что это единственное наказание, которое ты понесешь, — добавил он, оглянувшись через плечо. — Видишь ли, дипломатические скандалы нам не нужны.
И когда он обернулся ко мне, я с удивлением узнал в нем Хаттона, того самого высокого парня с лошадиной челюстью, который привез меня к Палмерстону всего пару дней назад. Он сунул свой пистолет в кобуру под мышкой и наклонился ко мне.
— Ничего себе не сломали? Извините, ну и видок же у вас! — Он помог мне подняться на ноги. — Должен заметить, полковник, что вы лучший бегун по пересеченной местности, за которым мне до сих пор приходилось следить. Я потерял вас из виду уже через пять минут, но зато шел по следу наших друзей. Хорошенькая парочка, не так ли? Молю Господа, чтобы и второй оказался у меня на мушке — но его мы уже не увидим, по крайне мере до тех пор, пока все охотники не соберутся у подножия холма. Тогда-то и появится наш русский друг — хладнокровный, как всегда, будто он целый день не ходил за вами словно тень.
— Но… но… вы имеете в виду, что ожидали чего-то подобного?
— Не-ет — по крайней мере, не именно этого. Но я был наготове с тех самых пор как прибыли эти русские гости. Мы же не верим в случайности, не так ли? По крайней мере, не с такими мастерами, как Игнатьев — предприимчивый господин, ничего не скажешь. Когда я услышал, что он собирается принять участие в сегодняшней охоте, то решил за ним присмотреть, — сказал этот удивительный малый. — А теперь, если вы уже пришли в себя, полагаю, нам стоит спуститься вниз. Не волнуйтесь за нашу маленькую подстреленную птичку — если парень не истечет кровью, то как-нибудь найдет дорогу к своему хозяину. Жаль, что он по неосторожности сам прострелил себе руку, не так ли? Осмелюсь предположить, именно так русские все и объяснят, а мы не будем с ними спорить, — что вы об этом скажете, сэр?
Я склонился за своим упавшим ружьем — теперь, когда опасность миновала, я был полон убийственной жаждой мщения.
— Я прострелю голову этому чертовому мужлану! — заорал я, возясь с курками. — Я научу…
— Стойте! — крикнул Хаттон, хватая меня за руку и понимающе ухмыляясь. — Идея замечательная, но, видите ли, мы не должны так поступать. Одну пулю в теле еще можно объяснить его собственной неловкостью, но ведь не две же? Мы не должны допустить скандала, полковник, к тому же, затрагивающего гостей королевы. Пойдемте. Давайте спустимся вниз, чтобы граф Игнатьев — я не сомневаюсь, что сейчас он следит за нами — смог прийти на помощь своему слуге. После вас, сэр.
Конечно же, он был прав; ирония судьбы заключалась в том, что несмотря на тот факт, что Игнатьев и его егерь пытались убить меня, мы не могли заявить об этом из дипломатических соображений. Одному Богу известно, какие международные осложнения это могло бы вызвать. Все это не сразу дошло до моего сознания, но напоминания Хаттона, что граф Игнатьев все еще бродит вокруг, было достаточно. Вниз с холма я летел, точно на крыльях. Конечно, он вряд ли бы решился подстрелить меня в присутствии Хаттона, но я не хотел оставлять графу никаких шансов на это.
Что же касается секретной службы — где и служил Хаттон — то должен заметить, что это весьма ловкие ребята. На дороге его ожидал экипаж, одного из своих подчиненных он отправил помочь моему егерю, и спустя полчаса я входил в Балморал через боковой вход, уже хорошенько почистившись и получив указание от Хаттона рассказывать всем, что я покинул охоту из-за небольшого растяжения.
— Я проинформирую моих начальников в Лондоне, что полковник Флэшмен счастливо избежал неожиданной опасности, возникшей из-за случайной встречи со своим старым русским другом, — сказал он мне на прощание, — и что вы сейчас полностью готовы выполнить поставленную перед вами важную задачу. Между тем я буду следить за русским. Нет, сэр, к сожалению, я не могу ответить на ваши вопросы и не стал бы на них отвечать, даже если бы мог.
Все это привело меня в испуг и замешательство — я никак не мог понять, что, собственно, происходит. Первой моей мыслью было, что Палмерстон сам организовал все это дело в надежде, что я убью Игнатьева, но даже при всем моем возбуждении это показалось мне бессмысленным. Гораздо проще было предположить, что Игнатьев, случайно заехавший в Балморал, неожиданно встретил тут меня и решил воспользоваться возможностью убить, отплатив за проделку, которую я сыграл с ним в прошлом году. Учитывая, что я знал этого человека, а в особенности — его ледяную жестокость, это представлялось, по крайней мере, правдоподобным. Но существовала и более ужасная возможность: что, если он узнал о задании, которое поручил мне Палмерстон (одному Богу известно, как ему это удалось — но он все-таки узнал от идиотки Элспет, что я еду в Индию), и хочет убрать меня с дороги?
— Это нелепые предположения! — отрезал Элленборо, когда я той же ночью рассказал ему о своих опасениях. — Игнатьев не мог об этом узнать. Как! Ведь решение Совета строго засекречено и известно только узкому кругу доверенных лиц премьер-министра. Нет, это просто очередной пример явной дикости русского медведя! — Он опять накачался портвейном и язык у него заплетался. — К тому же… условно говоря, в присутствии Ее Величества! Проклятье! Но, конечно же, Флэшмен, мы ничего не должны об этом говорить. Вам остается только, — пыхтел он, тяжело дыша, — хорошенько рассчитаться с этим негодяем, если вы вдруг встретите его где-нибудь в Индии. Между тем уж я постараюсь, чтобы лорд-камергер исключил его из всех приглашений, которые в будущем могут быть высланы в Санкт-Петербург. Видит Бог, уж я постараюсь!
Я высказал робкое предположение, что после всего случившегося лучше, наверное, было бы послать в Джханси кого-нибудь другого — раз уж граф Игнатьев так прилип ко мне — но Элленборо не стал меня и слушать. Он был в полном негодовании от дерзости русского — заметьте, не из-за меня — а из-за того, что из этого мог разгореться скандал, задевающий королеву. (Конечно, было невозможно сообщить ей, что ее гости мечтают поубивать друг друга — бедная женщина и без того имела достаточно хлопот заманить к себе на чай кого-нибудь, когда Альберт пребывал рядом.)
Поэтому, конечно же, мы хранили молчание, и, как предвидел Хаттон, скоро распространилась (и была принята) версия, в соответствии с которой егерь Игнатьева прострелил себе руку из-за собственной неосторожности, так что все сочувственно качали головами, а королева послала несчастному несколько хлебцев и бутылку виски. Игнатьев вынужден был даже поблагодарить ее за это после обеда и я чувствовал, как Элленборо, стоящий рядом со мной, буквально трясется от едва сдерживаемой ярости. В довершение всего этот русский негодяй пригласил меня на партию в бильярд — и разгромил наголову в присутствии Альберта и полудюжины других зрителей: я вынужден был собрать вокруг нас целую толпу, ибо бог знает на что он мог решиться, если бы я остался с ним в бильярдной один на один. Что можно сказать — у этого Николая Игнатьева были железные нервы. Граф был готов выпустить мне кишки и после этого объяснить, что это был несчастный случай.
Теперь-то, выслушав прелюдию к моим приключениям во время индийского мятежа, вы уже понимаете, почему я не слишком люблю Балморал. А ведь все, что случилось в этом замке тогда, в сентябре, было еще только цветочками по сравнению с дальнейшими событиями — ну что ж, этого я предвидеть не мог. И верно — когда следующей ночью я пытался подзакрепить свои истрепанные нервишки при помощи бренди, то вдруг вспомнил, что на свете есть места и похуже Индии: например Абердиншир, с Игнатьевым, затаившимся в зарослях папоротника, в надежде поймать мою голову на мушку. Тут уж я, конечно, не смог избежать встречи с ним, но не моя будет вина, если мы вдруг опять столкнемся с ним — например, где-нибудь на коралловом берегу.
Кстати, с того самого дня и до сих пор я так и не охотился на оленей. Элленборо прав — в тех местах собираются слишком уж разношерстные компании.
III
Помню, молодой Фредди Робертс (теперь он фельдмаршал) говаривал, что любой возненавидит Индию через месяц, а потом полюбит навсегда. Я не совсем с ним согласен, но допускаю, что в добрые старые времена этот край был весьма привлекателен: можно было жить как лорд, не ударяя пальцем о палец, делать деньги (если вам этого хотелось) и не заниматься ничем, кроме как охотиться на диких зверей, сечь мужчин и охмурять женщин. Правда, надо было быстро соображать, чтобы не попасть в какую-нибудь переделку, которых тоже хватало — с чем, признаться, мне не слишком везло. Но даже так — Индия была совсем неплохим местечком.
Особенно хотел бы обратить внимание на тот факт, что во времена моей молодости в Индии было весьма уютно британцам даже среднего класса, а люди из высшего общества вообще предпочитали там не служить, если могли этого избежать. (Например, Кардиган пробыл там весьма недолго и смылся.) Сейчас, конечно же, все иначе — с тех пор как эта страна превратилась в абсолютно безопасное место, многие наши лучшие люди, особенно обладающие выгодными связями, предпочитают сиять на индийском небосклоне, со вполне ожидаемым результатом: цены повышаются, качество обслуживания падает, а женщины набивают себе цену. По крайней мере, мне так говорили.
Учтите, я видел, как обстановка менялась уже в 1856-м, когда сошел на берег в Бомбее. Мой первый вояж в Индию, шестнадцать лет назад, длился четыре месяца на скрипучем судне Ост-Индской компании; теперь же, на аккуратном маленьком правительственном паровом шлюпе, путешествие заняло лишь около половины этого срока, даже с учетом этого мерзкого переезда на верблюдах по Суэцкому перешейку. И уже тогда в Бомбее ощущался аромат цивилизации; тут появился телеграф, были проложены первые рельсы, стало больше белых лиц и расцвел бизнес. Люди уже не говорили об Индии как о дикой, покрытой джунглями стране, в которой то тут, то там торчали форпосты. На заре моих дней поездка из Калькутты в Пешавар представлялась почти кругосветным путешествием. Вслед за Компанией все считали Индию одной обширной страной и полагали, что войны с сикхами, маратхи и афганцами остались в прошлом. Это была настоящая империя, которой надо было управлять и которую надо было благоустраивать, лежащая далеко от возни и борьбы за прибыль на Лиденхолл-стрит.[37]
Народу вокруг прибавилось, причем штатские теперь бросались в глаза чаще военных. Раньше разговоры на верандах вертелись вокруг войны на севере, или о тугах, или люди судачили о вожаках горных бандитов, которых можно было легко повстречать. Сейчас же все больше рассуждали о новых мельницах, фабриках и даже школах, а еще — про то, как за пять лет проложат железную дорогу на Мадрас и можно будет совершить путешествие из заведения миссис Блэкуэлл в Бомбее до «Окленда» в Калькутте, даже не надевая сапог.
— Все это звучит вполне мирно и обнадеживающе, — помнится, говорил я, направляя свои стопы в веселый дом матушки Соузы.
Видите ли, в качестве опытного агента я решил начать свои исследования в самом лучшем гнезде сплетен, какое только мог найти (отличные разноцветные девчушки матушки Саузы — и ни в одной из них не было более четверти индийской крови, а еще зажигательные представления, которые смутили бы даже парижских жандармов — если все эти лакомые кусочки вертятся у вас перед носом, вы ведь не пойдете молиться в собор, не так ли?).
Парень, вместе с которым я пил в холле этого заведения, рассмеялся и сказал:
— Процветание? Думаю, да — дивиденды моей фирмы выросли на сорок процентов и к Пасхе мы запустим новые фабрики в Лахоре и Аллахабаде. Строим церкви, а ко времени окончания моего контракта здесь появятся и университеты.
— Университеты? — удивился я, — но ведь, конечно, не для черномазых?
— Местное население, — произнес он наставительно, почесывая свой шелушащийся нос, торчащий из-под недостаточно длинного козырька шлема, — вскоре намного опередит туземцев в других уголках Земли. Я имею в виду языческие страны. Лежи смирно, черная сука, не видишь, что ли — я устал? Да, лорд Каннинг весьма силен в образовании населения, да и в распространении Евангелия также. Да, это кирпичики и скрепляющий раствор новой жизни — вот куда надо вкладывать свои деньги, мой мальчик.
— Дорогой мой, — улыбнулся я, — видишь ли, в этом деле я — пас.
— А-а, так ты военный? Да ладно, не расстраивайся, старина, — ты всегда сможешь попроситься, чтобы тебя отправили на границу.
— А как, везде тут тихо? Даже в Джханси?
— А где это, дорогуша?
Конечно, этот парень был пустышкой и ничего не знал. Маленькая смуглая шлюха, которую я ангажировал, также о Джханси ничего не слыхала и, когда я поинтересовался у нее, для чего еще можно использовать чапатти кроме еды, она и глазом не моргнула, а только захихикала и сказала, что я о-очень забавный му-ужчина и что должен купить ей пирожных-безе, а не чапатти. Вам может показаться, что я зря тратил время, разнюхивая все это в Бомбее, но исходя из моего опыта, если в стране что-нибудь не так — даже в такой большой, как Индия, — узнать об этом можно в самых неожиданных местах, даже по виду туземцев и тому, как они говорят. Но, с кем бы я ни заговаривал — купцом или военным, шлюхой или миссионером — все твердили в один голос: никаких признаков волнения. Через пару дней, освежив свое знание урду настолько, что говорил на нем, не задумываясь и немного загорев, я надел пуггари,[38] натянул короткие полотняные штаны с курткой, как у местных, и отправился на рынок Банд, выдавая себя за каботажника из Мекрана, чтобы послушать, о чем судачат в толпе. Я возвращался домой, усеянный блохами, пропахший благовонными маслами, дешевыми духами и ароматами гхи.[39] Меня оглушали вопли нищих, клекот стервятников, лязг металла — но все это помогало быстрее вновь привыкнуть к Индии после долгого отсутствия и было просто необходимо, чтобы добиться чего-нибудь в работе агента.
«Ого! — воскликните вы. — А это еще что такое? Неужели Флэши вдруг начал воспринимать свои обязанности близко к сердцу?» Да, все именно так, и к этому у меня был важный повод. Я не думал об опасениях Пама всерьез, но знал, что мне придется ехать в Джханси и, по крайней мере, сделать вид, что выполняю там его задание — главное, что сделать это нужно было быстро. Если мне удастся пару раз официально переговорить с принцессой-рани, разобраться с этими сипайскими лепешками и доказать, что местный резидент Скин — всего лишь старая нервная баба, тогда я смогу отправить рапорт в Калькутту и изящно исчезнуть. Засиживаться я не собирался, так как если для беспокойства Пама были хоть какие-нибудь основания, княжество Джханси могло быть битком набито Игнатьевыми и их приспешниками, так что я хотел быть подальше оттуда, пока что-либо не случилось.
Поэтому я не стал засиживаться в Бомбее. Уже на третий день, я двинулся в путь, на северо-восток по направлению к Джханси, путешествуя со всеми удобствами на запряженной волами повозке. Это была огромная деревянная комната на колесах, в которой можно было спать и есть, а грум, повар и кучер устроились на крыше. Теперь, с появлением железных дорог, подобный транспорт, конечно же, ушел в прошлое, но тогда это было весьма удобное средство для путешествия. Время от времени я останавливался у придорожных харчевен и держал ушки на макушке. Ничто в услышанном не напоминало мне о тревогах Балморала и общее впечатление было такое, что в стране еще никогда не было столь спокойно.
Я намеренно избегал контактов с другими белыми, поскольку хотел составить свое собственное суждение об обстановке и не хотел слышать неудобных для меня новостей. Однако подъезжая ко Мхоу, я вдруг наткнулся на — кого бы вы думали? — Джонни Николсона собственной персоной, которого я не видал уже пятнадцать лет, с самого Афганистана. Джонни ехал шагом на персидском пони и был одет как настоящий разбойник-белуджи, с бородой до пояса и парой сикхских кинжалов за кушаком. Мы были старыми приятелями — конечно же, он знал меня не слишком хорошо, зато с уважением относился к моей грозной репутации. Джонни был одним из эдаких отважных и богобоязненных паладинов, рыцарей долга и славы. Он регулярно возносил молитвы Господу, не пил и полагал, что каждая женщина должна быть монахиней или матерью. Выяснилось, что он здорово продвинулся по службе и как раз сейчас ехал в отпуск, перед тем как занять пост резидента в Пешаваре.
Согласно правилам я не должен был никому раскрывать суть своей миссии, но это был слишком хороший шанс, чтобы его упускать. В Индии не было никого, кто бы знал страну лучше Николсона, и ему можно было верить во всем, включая денежные дела. Так что я рассказал ему, что направлен в Джханси и почему — про чапатти, рани и русских. Он слушал, задумчиво перебирая бороду и косясь куда-то вдаль, пока мы сидели у дороги и пили кофе.
— Так говоришь, Джханси? — наконец протянул он, — настоящая разбойничья страна племени пиндари, да и тугов-душегубов там хватает. Полагаю, тебе достался самый твердый орешек к югу от Хайбера. Там вожди маратхи — не рискнул бы повернуться к ним спиной, и если бы ты сказал, что среди них работают русские агитаторы, я бы не удивился. По этому пути за последний год прошло с караванами немало торговцев и просто разных подозрительных типов, но не слишком много оружия — видишь ли, мы за этим следим. Однако мне не нравятся эти новости про чапатти, которые ходят среди сипаев.
— Ну, не думаешь же ты, что что-нибудь может случиться? — я был чертовски смущен его откровениями насчет тагов и пиндари; получалось, что в Джханси не лучше, чем в Афганистане.
— Не знаю, — ответил он задумчиво, — но мне кажется, что во всей этой округе становится беспокойно. Не спрашивай меня, почему я это чувствую — возможно это мой ирландский инстинкт. О, да, я знаю, что из Бомбея и Калькутты все выглядит превосходно, но иногда я оглядываюсь по сторонам и спрашиваю себя — а для чего мы здесь сидим? Посмотри — мы охраняем северную границу от самых отчаянных негодяев на Земле — пуштунов, сикхов, белуджи. Афганистан мы бросили, а Россия, сидя наготове, ожидает своего часа. К тому же внутри страны мы номинально являемся господами целой кучи туземных государств, половина из которых — варварски-дикие, где правят принцы, готовые за гроши перерезать глотку кому угодно. Почему? Потому что мы пытались цивилизовать их — подрезали крылья тиранам, отменили дикие обычаи вроде сутти[40] и запретили секту тугов. Заменили их плохие законы своими, хорошим. Мы завалили туземцев реформами, пока они им поперек горла не встали, а затем начали, прокладывать телеграф и железные дороги, строить школы, больницы и все прочее.
Парень, похоже, оседлал любимого конька, но я не мог его понять, ведь для чего еще нужны все эти штуки, как не для того, чтобы делать жизнь более приятной?
— С людьми не считаются. С ними никогда не считались. Все дело в правителях — эти раджи и набобы вроде твоей рани в Джханси. Они веками тянули соки из этой страны, а Дальхаузи положили этому конец. Конечно, все это сделано на благо бедного народа, но он не понимает этого — он верит в то, что ему говорят принцы. А они говорят, что британский Сиркар[41] — их враг, поскольку не дает их вдовам всходить на костер или убивать друг друга во имя Кали, и что британцы против их религии и в конце концов заставят всех принять христианство.
— Да ладно тебе, Джон, — махнул я рукой, — они твердят это уже многие годы.
— Нет, в этом что-то есть, — Джонни выглядел обеспокоенным, на свой религиозный лад. — Сам-то я — христианин или, по крайне мере, пытаюсь им быть, и я молюсь, чтобы увидеть тот день, когда Евангелие станет хлебом насущным для каждой бедной угнетенной души на этой Земле, а слово Господне прогремит в тысячах церквей. Но я хотел бы, чтобы мы были осторожнее с этим. Это очень религиозные люди, Флэшмен и их суеверия, какими бы бессмысленными они ни были, не заслуживают пренебрежения. Что они думают, когда узнают, что христианству учат в школах и в тюрьмах — и даже полковники проповедуют перед своими полками? [V*] Достаточно какому-нибудь местному принцу или агитатору шепнуть им на ухо: «Смотрите, как британцы попирают ваши святыни, которые они не почитают. Смотрите, как они делают из вас христиан!» Люди поверят этому. Это такой простодушный народ — они верят слепо. Знаешь, — улыбнулся Николсон, — в Кашмире даже есть секта, которая возносит молитвы мне самому.
— Тем лучше для тебя, — говорю. — Ты еще не установил десятину?
— Я пытался переубедить их, но ничего хорошего из этого не вышло. Говорю тебе, Индию не удастся изменить ни за день, ни за долгие годы. Процесс должен идти медленно, но уверенно. А наши миссионеры — добрые, достойные люди — перегибают палку и не способны увидеть весь вред, который этим причиняют. — Он перекрестился. — Но у кого же язык повернется упрекнуть их, старина, если каждый из них уверен, что несет в эту пребывающую во мраке страну благословение Господне? Все это очень сложно. — Джонни выглядел озабоченным и охваченным благородной скорбью; Арнольду бы он понравился. Затем Николсон нахмурился, заворчал и вдруг взорвался:
— Все не было бы так плохо, если бы мы не проявляли этой проклятой мягкотелости! Если бы мы серьезно занялись благородным делом — реформы, даже миссионерская работа. Если бы мы делали все это как следует. Но, видишь ли, мы ведем себя не так, предпочитаем полумеры и слишком нежны для здешних нравов. Если мы действительно хотим низвергнуть их лживых богов, реформировать их старые коррумпированные государства и превратить индийцев в достойных мужчин и женщин — так давайте действовать силой! Дальхаузи — сильная личность, но насчет Каннинга я не уверен. Думаю, если бы я был на его месте, то прижал бы к ногтю всех этих предательски улыбающихся местных принцев, — его глаза вспыхнули и он притопнул сапогом. — Я бы дал им правительство, твердое и честное. Я был бы менее мягок с сипаями — да и с некоторыми британцами тоже. Это еще одна беда — тебя давно тут не было, но за это время к нам в армию да и в офисы Компании прибыло немало не самых лучших экземпляров. Разорившиеся буфетчики и сынки лакеев, представляешь? Ну, ты еще на них насмотришься — невежественные, ленивые малые из бедняков — и мы на десять лет ставим их командовать индусами высших каст! Они знать не хотят своих подчиненных и относятся к ним, как к детям или животным, и не хотят думать ни о чем, кроме как об охоте, пьянках и… и… — он вдруг покраснел до самых корней своей огромной бороды и отвернулся. — Некоторые из них даже сожительствуют с… с худшими отбросами среди туземных женщин. — Джонни закашлялся и похлопал меня по руке. — Вот как обстоят дела, старина. Мне чертовски неприятно говорить о таких вещах, но, к сожалению, это правда.
Я покачал головой и заметил, что это разбивает мне сердце.
— Теперь ты понимаешь, почему меня так огорчили твои новости? Эти признаки мятежа в Джханси — они могут послужить искрами, чтобы поджечь фитиль у бомбы, которая, как я показал тебе, уже заложена в Индии, из-за нашей слепоты и мягкости. Если бы мы были сильнее и решительнее поступали бы с принцами, если бы укомплектовали свою администрацию людьми с должным понятием о долге и дисциплине — о, тогда бы эту искру было легко погасить, но сейчас… — Джонни пожал плечами, — мне все это не нравится. Благодарение Богу, что у них достало ума послать в Джханси кого-либо вроде тебя. Хотел бы и я последовать за тобой, чтобы разделить все предстоящие там опасности. Из всего того, что я слышал, — это очень странное и дикое место, — добавил этот чертов ворон, с мрачным удовлетворением пожимая мне руку. — Пойдем, старина и вместе помолимся — за твою безопасность и выбор верного пути среди всех опасностей, которые встретятся тебе на пути.
Он плюхнулся на землю и, стоя рядом со мной на коленях, уверенным голосом начал отдавать Господу приказания глаз не спускать с раба своего. Не знаю, что во мне такого особенного, но эти святые парни вроде Николсона всегда готовы молить за меня Создателя — даже те из них, кто знают меня недостаточно хорошо, чтобы догадаться о размерах взятки, которую надо подсунуть Всевышнему, чтобы старина Флэши хотя бы понюхал ладана спасения. Я словно до сих пор вижу его — большую темную голову и нос, на фоне кровавого заката, борода трепещет от воодушевления, и даже различаю веснушки на его молитвенно сложенных руках. Бедный старина Джон — лучше бы он молил Господа за себя, ибо, если я все еще хожу по Земле спустя полвека, он сошел в нее в том же году, подстреленный из засады во время атаки на Дели и брошенный медленно умирать на обочине дороги. Вот чего потребовал от него его долг; а если бы он предпринял некоторые предосторожности, то мог бы стать вице-королем. А Дели все равно бы пал. [VI*]
Молитвы его пошли на пользу моему телесному здоровью, зато его рассказы о Джханси не в лучшую сторону отразились на душевном благополучии. «Странное дикое место», — сказал он и еще твердил что-то о бандитах-пиндари, тугах и негодяях-маратхи. Я и без того знал, что в старые времена там все кипело, как в дьявольском котле, но полагал, что с тех пор как мы аннексировали эти земли, там должно было стать потише. Манглс в Лондонском Совете по контролю говорил про них как об «умиротворенных под благодетельной властью Компании», но ведь он был напыщенным ослом, с необыкновенным талантом нести всякий вздор по вопросам, в которых считался авторитетом.
Когда я достиг Бандельканда, стало казаться, что Манглс явно ошибался, а Николсон был прав — это была дикая, холмистая страна, густо поросшая джунглями. Вокруг не сыскать белого лица, а рожи туземцев с каждой милей становились все более зловещими. Дороги были такими разбитыми, что повозку ужасно трясло, так что я вынужден был пересесть на моего пони по кличке Пегу. Сам дьявол не нашел бы здесь следов цивилизации — только деревни, окруженные глинобитной стеной и кое-где зловещие замки махараджей, чернеющие на вершинах гор, словно напоминание о том, кто на самом деле владеет этой землей. «Самый твердый орешек к югу от Хайбера» — я готов был поверить в это, осматривая недружелюбные, поросшие джунглями холмы, на которых не было заметно ничего приятнее тигра, крадущегося в отдалении среди колючих зарослей. Вот какой была страна, которой мы «правили» — при помощи одного батальона сомнительной сипайской пехоты и горстки британцев, собирающих налоги.
Сам Джханси, на первый взгляд, меня абсолютно не вдохновил. Он тянулся вдоль дороги, опоясывающей высокий холм и предстал передо мной во всей красе под скучным вечерним небом — массивный форт, башни которого грозно возвышались на скале, и раскинувшийся у ее подножья городок, окруженный стеной. Он был больше, чем я это себе представлял, — окружность его стен должна была составлять не менее четырех миль, а воздух над городом был пропитан дымом тысячи очагов. С одной стороны города виднелись белые линейки британского лагеря и городского управления — Боже, какими маленькими и слабыми они казались под сенью могучего форта Джханси! Я возвратился мыслями в Кабул, вспомнив, как наш лагерь казался карликом по сравнению с Бала-Хиссаром. Но в Кабуле у нас была десятитысячная армия, а спастись удалось лишь единицам. Я подумал, что здесь все будет по-другому: что менее чем в ста милях впереди, вдоль Большого тракта, стоят наши гарнизоны и к тому же Джханси сегодня — часть Британской империи и находится под защитой Сиркара. Но вот защиты что-то не было заметно — только наш до слез маленький поселок, подобный блохе, сидящей на губе льва, и в этой самой цитадели, в которую наши войска никогда не входили, эта старая сука рани плетет против нас интриги, а тысячи дикарей вокруг только и ждут ее слова. Вот, что говорило мое воображение — как будто не достаточно было Игнатьева, головорезов тугов и диких пиндари, предателей-сипаев и мрачных предсказаний Николсона.
Первым моим делом было найти Скина, агента, чей рапорт положил начало всему этому приключению, так что я отправился в управление, представлявшее собой небольшой городок из почти сорока бунгало, окруженных садами, и обычных компаний, собравшихся на верандах, чтобы выпить и поболтать после захода солнца. Здесь стояли в ожидании несколько экипажей с грумами, чтобы везти своих владельцев на обед, и еще парочка офицеров приехала домой верхом. Я прошел мимо них и, по совету старосты-човкидара, направился в маленький Звездный форт, где был офис Скина. По словам човкидара, он все еще был на месте, что утверждало меня в мысли о его добросовестности как агента.
Честно говоря, я рассчитывал, что Скин окажется глупцом или трусом — но он не был ни тем, ни другим. Это был один из тех честных молодых людей, которые всегда рады вам помочь и готовы работать дни и ночи напролет. Пока я представлялся, он смущенно переминался с ноги на ногу и, похоже, был ошеломлен встречей с самим великим Флэши, но его спокойные серые глаза говорили о том, что этот парень не поднимет паники из-за пустяков. Он послал клерков и носильщиков, суетящихся вокруг, чтобы отнести мой багаж на квартиру, побеспокоился о том, чтобы я мог принять ванну, и затем пригласил меня на обед в свое собственное бунгало, за которым не стал терять времени, а сразу перешел к делу.
— Никто, кроме меня, не знает, почему вы здесь, сэр, — важно произнес он, — полагаю, что Каршор, сборщик налогов, что-то подозревает, но он солидный человек и не скажет ни слова. Конечно же, Эрскин, комиссионер в Сагоре, знает об этом все, но больше — ни одна живая душа. — Он замялся. — Я немного не понимаю, сэр, почему они послали именно вас, а не кого-нибудь из Калькутты.
— Видите ли, им нужен убийца, — небрежно сказал я. — Может случиться, что я встречусь с одним русским джентльменом, который проявляет слишком большую активность в здешних местах, а возиться с таким противником — работа не для обычного агента, не так ли? — В конце концов, это было правдой — Пам сам говорил об этом. — Это значит также, что Калькутта, лично вы и комиссионер Эрскин — при всем моем уважении — не имели счастья уладить дела с этой титулованной леди в ее дворце. Затем появились эти лепешки и все начали уговаривать лорда Палмерстона, что лучше всего сюда направить меня.
— Лорд Палмерстон? — глаза Скина округлились от удивления, — я не думал, что это зайдет так далеко.
Я заверил парня, что сам премьер лишился сна из-за его докладов. Он присвистнул и протянул руку за графинчиком.
— Так или иначе, — заметил я, — мне тоже пришлось не поспать из-за вас пару ночей. Главное сейчас — выяснить, не вернулись ли сюда эти русские?
К моему удивлению, он выглядел сконфуженным.
— Правду говоря, сэр, я и не знал, что они где-то рядом. Это сообщение пришло из Калькутты — один из наших людей на границе выследил, что они трижды ездили сюда — так меня информировали. Но если бы не это, я бы нипочем не догадался.
Знаете, меня это даже разозлило.
— То есть вы хотите сказать, что если русские снова вернутся — или они уже прячутся где-то здесь — вы ничего об этом не узнаете, пока вас не соблаговолят оповестить из Калькутты?
— О, наши агенты на границе сообщат мне сразу же, как только подозрительные лица попытаются ее пересечь, — ответил он. — Да и у меня здесь есть парочка туземных агентов — смышленые парни.
— Они знают, что должны особо следить за одноглазым человеком?
— Да, сэр — у него странная примета, которую, как известно, он прячет под повязкой — один глаз у него наполовину голубой, наполовину — карий…
— Вы мне раньше об этом не говорили, — проворчал я. Клянусь святым Георгом, я и не знал, что наша политическая разведка находится в таком примитивном состоянии. — Капитан Скин, это и есть тот человек, которого я должен убить — так что если кто из ваших… гм… смышленых парней будет иметь случай избавить меня от лишних забот, то я благословляю его на это.
— О, конечно, сэр. О, они, разумеется, захотят вам помочь. Некоторые из них, — заметил он воодушевленно, — настоящие бандиты-пиндари или нечто в этом роде. Мы все узнаем заранее, сэр, прежде чем эти русские появятся поблизости.
Хотелось бы мне разделять его уверенность.
— Калькутта не имеет никаких предположений о том, что русские шпионы собираются здесь делать? — поинтересовался я, но он лишь покачал головой.
— Ничего определенного — только то, что они здесь побывали. Мы были уверены, что в основном это должно быть связано с чапатти, но потом все затихло. С октября ничего не происходило и сипаи Двенадцатого Северо-Индийского — вы же знаете, это стоящий здесь полк — ведут себя абсолютно спокойно. Их полковник клянется, что они полностью лояльны — он утверждал это с самого начала и кровно обижен за то, что я доложил про чапатти в Калькутту. Возможно, он и прав — я заслал к сипаям нескольких моих людей, но и они не услышали ничего подозрительного. Калькутта обещала уведомить меня, если эти лепешки появятся еще где-нибудь, но пока никаких новостей нет.
«Ну, что ж, — подумал я, — это уже решительно лучше. Похоже, Пам развел много шума из ничего, так что мне нужно лишь создать видимость активной деятельности и затем, через несколько недель вернуться в Калькутту, доложив, что Джханси ничто не грозит. И стоило из-за всего этого создавать мне массу неудобств?»
— Итак, Скин, — важно кивнул я, — вот как, по-моему, обстоят дела. С тем, что премьер-министр называет «этими чертовыми лепешками», пока ничего поделать нельзя — разве что они появятся опять. Что касается русских — что ж, если мы снова о них услышим, я на время исчезну, понимаете? — я действительно надеялся, что Бог пошлет мне на этот случай какое-нибудь тихое укромное местечко, чтобы отлежаться там и снова вынырнуть на свет, когда на горизонте будет чисто. — Конечно, вы не будете знать, где я, — но не бойтесь, я всегда буду рядом, и если наш одноглазый друг или кто-нибудь из его приспешников только покажутся, ну что же…
Похоже, мое бесстрашие впечатлило Скина:
— Понимаю, сэр. Вы, конечно же, хотите работать… самостоятельно. — Он подмигнул мне и воскликнул с ноткой искреннего почтения в голосе: — Клянусь Юпитером, не завидую я этим русским парням — если вы позволите так выразиться, сэр…
— Скин, дружище, — я похлопал его по плечу, — я тоже им не завидую. — И поверьте мне, с этой секунды он стал моим рабом до конца жизни.
— Теперь еще одно дело, — продолжил я, — рани. Мне нужно попробовать кое в чем ее убедить. Пока, осмелюсь предположить, я не смогу сделать многого, поскольку, как мне известно, она дала понять вам с Эрскином, что не слишком дружески к нам расположена, но все же я постараюсь. Так что буду весьма обязан, если вы послезавтра организуете мне с ней аудиенцию.
Он встрепенулся и наполнил мой бокал.
— Наверное, вы подумаете, что это странно сэр, но за все то время, пока я здесь, мне так и не удалось ее увидеть. Я часто встречал ее во дворце, но она говорила со мной из-за занавески — а еще чаще ее слова передавал мне дворецкий. Рани — ярая поборница этикета, а поскольку правительство после смерти ее мужа гарантировало ей дипломатический иммунитет — конечно, так мы просто подсластили пилюлю, ведь провинция попала под нашу опеку — то с принцессой довольно трудно вести дела. Одно время она довольно дружелюбно относилась к Эрскину — но я абсолютно не имею на нее влияния. Видите ли, она чертовски хитра. Когда умер ее муж, старый раджа Гангадар, у них так и не было общих детей. Да, странный он был фрукт, — Скин вдруг неистово покраснел и отвел взгляд. — Видите ли, он ходил в женском платье, носил браслеты, да еще духарился.
— Неудивительно, что она так озлобилась, — кивнул я.
— Нет-нет, я имел в виду, что раджа не оставил официальных наследников, только приемного сына, но Дальхаузи не признал прав этого младенца. Новый закон о наследовании, знаете ли. Так что провинция была аннексирована — а рани впала в гнев, подала петицию королеве и послала своих агентов в Лондон, однако ничего из этого не вышло. Приемный сын, Дамодар, был лишен наследства, а рани, которая надеялась быть регентшей, была официально отстранена от власти. Но, между нами, мы позволяем ей править по ее собственному усмотрению — да и можем ли поступить иначе? Ведь у нас всего один батальон сипаев и три десятка британцев, которые составляют администрацию провинции — а ее слово — закон для всего народа.
— А ее это не устраивает?
— Абсолютно. Видите ли, ей отвратителен сам факт, что официально она лишь исполняет волю Сиркара. А еще рани до сих пор в бешенстве от завещания раджи — казалось бы, четверти миллиона в сокровищнице ей должно было бы хватить, но кое-какие украшения и прочее конфисковала Калькутта, и этого она нам никогда не простит.
— Интересная леди, — заметил я. — Как вы думаете, она опасна?
Он слегка вздрогнул.
— С политической точки зрения — да. Стоит лишь дать ей шанс — она тут же отомстит нам. Войска, как такового, у нее нет, но при том, что в Джханси каждый мужчина — прирожденный воин, да еще и грабитель, она в нем и не нуждается. А они бросятся, стоит ей только свистнуть, потому что готовы целовать землю под ее ногами. Она тщеславна, как сестра Люцифера, и дьявольски строга, чтобы не сказать — жестока, когда творит свой суд, но необыкновенно добра к простому народу и к тому же весьма печется о своем благочестии — проводит по пять часов в день в медитациях. Так что, несмотря на то что она — бешеная дикарка, народ считает ее милой девочкой. Ее воспитали как маратхского принца при старом дворе Пешвы — лучшие из воинов учили ее ездить верхом, стрелять и фехтовать. Еще поговаривают, что у нее дьявольский характер, — Скин ухмыльнулся, — но со мной она всегда была вполне учтива — на расстоянии. Однако, несомненно, она опасна, так что если вам удастся умаслить ее, сэр, мы все будем спать спокойнее.
Так вот в чем дело — ну что ж, какой бы искусной интриганкой она ни была, ей пришлось бы стать необыкновенной женщиной, чтобы устоять перед мужественным видом Флэши и его роскошными кавалерийскими бакенбардами — что, очевидно, и учитывал Пам в первую очередь. Да, хитер, старый дьявол! В общем, помнится, той ночью я решил, что мне удастся обвести ее вокруг пальца дня за два, хотя, глядя из окна моего бунгало на цитадель Джханси, залитую светом звезд, я все же подумал, что, когда мы отправимся на чашку чая к этой леди, лучше прихватить с собой порядочный эскорт улан.
Однако пока не это занимало меня. На следующий день я собирался осмотреть город, возможно — перекинуться парой слов со сборщиком налогов Каршором и полковником сипаев, но когда мой сайс[42] подвел моего пони к крыльцу бунгало, во двор вихрем влетел Скин. Оказалось, стоило ему дать знать во дворец, что полковник Флэшмен, лучший солдат Сиркара просит аудиенцию на следующий день, ему ответили, что обычно важные гости стараются засвидетельствовать свое почтение ее высочеству немедленно по прибытии, так что бравый полковник Флэшмен должен срочно нести свою выдающуюся задницу во дворец.
— Я… Я полагал, ввиду особых обстоятельств вашего визита, — извиняющимся тоном проблеял Скин, — что вы могли бы согласиться, что лучше уступить.
— Вы полагали? — хмыкнул я, — неужели каждый британец в Джханси готов встать по стойке смирно, стоит этой прекрасной даме лишь щелкнуть пальцами, а?
— Скажем так, мы предпочитаем делать приятное ее высочеству, — ответил Скин — этот малый был большим дипломатом, чем могло показаться на первый взгляд, так что я поворчал еще немного, чтобы выдержать характер, а затем сказал, что он должен мне обеспечить эскорт уланов для сопровождения.
— Сожалею, сэр, — грустно качнул головой Скин, — но у нас нет улан, а если бы даже и были, согласно договоренности мы не направляем воинские подразделения в пределы городских стен. А поскольку я сам не удостоен… гм… приглашения, то боюсь, что вы должны поехать один.
— Что? — воскликнул я, — проклятие, да кто тут правит — Сиркар или эта старая карга? — мне абсолютно не улыбалось ехать без охраны в эту зловещую крепость, но я хотел сохранить достоинство. — Вы сами готовите розги для своих спин, слишком мягко обращаясь с этой… с этой женщиной. Это же вам не королева Елизавета!
— Но она полагает, что это именно так, — искренне вздохнул Скин, так что в конце концов мне пришлось согласиться.
Я надел свой парадный кавалерийский мундир, с саблей, револьвером и прочим. Четырнадцать стоунов живого, рослого Флэши, упакованное во все это — выглядело неплохо. Мне было ясно, почему рани хочет, чтобы я нанес ей визит в одиночку: здесь, на границе, о человеке принято судить по его собственному виду, в то время как в глубине страны в первую очередь оценивают численность эскорта. Я вытащил пару свертков из моего сундука, положил их в седельные сумки, махнул рукой Скину и шагом выехал со двора на встречу с ее высочеством, в сопровождении одного лишь грума, показывавшего мне дорогу.
Городок Джханси лежал всего в паре миль от британского сеттльмента,[43] и у меня оставалось достаточно времени для размышлений. Дорога, вдоль которой тянулись храмы и небольшие здания, вела к городу и была забита повозками, запряженными буйволами, которые поднимали тучи пыли, верблюдами, паланкинами и целой толпой путешественников, едущих верхом и бредущих на своих двоих. Большинство из них составляли крестьяне, добирающиеся на базар, но то тут, то там виднелись слоны, несущие на спинах красные с золотом паланкины, под которыми ехали знатные набобы или богатые местные леди. Попадались и купцы, трясущиеся на своих мулах в сопровождении слуг, а один раз сайс указал мне на группу, которая, по его словам, состояла из личных телохранителей рани — дюжину рослых хайберцев-пуштунов, по-военному шагавших в колонне по два, в кожаных куртках и красных шелковых шарфах, повязанных вокруг остроконечных шлемов. Возможно, у рани и не было войска, но, судя по этим парням, сил у нее хватало.
Городские укрепления также заслуживали внимания — массивные стены двадцати футов высотой, а за ними — путаница улочек, растянувшаяся приблизительно на милю до замковой горы, которая ощетинилась своими собственными бастионами и круглыми башнями. Штурмовать это укрепление было бы дьявольски трудно — а перед этим пришлось бы еще пробиваться через город. В амбразуры выглядывали пушки, а на стенах виднелась стража — в кольчугах и с копьями — так что все выглядело серьезно.
Мы с трудом заставляли наших лошадей продираться через этот переполненный ад потной, шумной и вонючей толпы смуглых туземцев, пока не достигли дворца, стоящего в стороне от форта, на берегу небольшого озера, окруженного тенистым парком. Это было красивое четырехугольное здание, наружные стены которого украшали огромные картины, изображающие охотничьи и военные сцены. Я назвал свое имя стоящему пуштуну, командовавшему стражей у ворот, который великолепно выглядел в своем панцире и пуггари с длинным концом, после чего мне пришлось ждать, обливаясь потом под жарким солнцем, пока он послал кого-то сообщить дворецкому. Пока я нетерпеливо переминался с ноги на ногу, пуштун медленно шагал вокруг, меряя меня взглядом с головы до ног, а потом вдруг остановился, засунул большие пальцы рук за пояс и плюнул точно на мою тень.
К тому времени у ворот столпилось порядочно людей — обычное дело: продавцы лимонада, факир, у которого прямо на ладони росло небольшое деревце, всякие нищие и нечто вроде театра марионеток, за спектаклем которого наблюдала группа леди в паланкинах. Кстати, эти дамы сразу же обратили на себя мое внимание, так как были настоящими образчиками красоты женщин маратхи, да притом четырьмя такими маленькими озорницами, каких я еще не встречал. Одна из них была очень стройной и томной на вид милашкой в золотом сари, которая полулежала, откинувшись, на подушках паланкина, другая была настоящей пышечкой в алых шароварах и курточке, а третья, очень смуглая, но сложенная плотно, как шведка, в шапочке, украшенной жемчугами стоимостью в мое годовое жалованье, сидела на чем-то вроде раскладного стула. Даже их служанка, стоящая за паланкинами, была весьма привлекательна — с большими блестящими глазами и фигурой настоящей богини из индуистского храма, словно облитой белым сари. Я было коснулся своей каски, слегка поклонившись им, — но тут стражник закашлялся. Служанки рассмеялись, леди переглянулись, а пуштун высокомерно вздернул голову и снова сплюнул.
Конечно, обычно каждый может попытаться попробовать меня оскорбить и увидит, что из этого выйдет — особенно если мой обидчик огромен, безобразен и вооружен тулваром.[44] Но, учитывая достоинство Сиркара и необходимость сохранения моего собственного лица в присутствии женщин, мне необходимо было что-нибудь предпринять, так что я смерил пуштуна взглядом с головы до ног и очень спокойно сказал на пушту:
— Полагаю, когда ты служил в полку Проводников, то плевал поаккуратнее, хубши.[45] [VII*]
Он широко распахнул глаза и выругался.
— Кто называет меня хубши? И кто тебе сказал, что я служил в Проводниках? Ты, феринджи,[46] ты, свинья?
— У тебя под блестящим нагрудником — старый мундир, — заметил я, — но, наверное, ты стянул его с убитого пехотинца, потому что ни один мужчина, имеющий право носить военную форму, не рискнет плевать на тень Кровавого Копья.
Это заставило его аж присесть от удивления.
— Кровавое Копье? — ошарашенно переспросил он, — так это ты? — Он подошел ближе и впился в меня взглядом. — Так это ты — тот самый Ифласс-ман, который убил четырех гильзаев?
— В Могале, — спокойно уточнил я.
В свое время это наделало много шума в стране гильзаев и принесло мне широкую известность (и экстравагантное прозвище) на Кабульской дороге. На самом деле четырех всадников убил старый Мухаммед Икбал, пока я прятался в кустах, но ни одной живой душе это не было известно.[47] Похоже, легенда продолжала действовать, поскольку пуштун вновь выругался, а затем вдруг резко вытянулся по стойке «смирно» и отдал мне барра салам,[48] который вполне подошел бы и для Конной гвардии.
— Шер-Хан, хавилдар,[49] раньше служил в роте Исмит-сагиба в Седьмом полку Проводников, как ваша честь изволили заметить, — прохрипел он. — О позор мне, что я не узнал Кровавое Копье и нанес ему оскорбление! Не думайте обо мне плохо, хузур,[50] ибо…
— Пусть скверные люди думают о плохом, — произнес я небрежно, — плевки дурвана[51] не могут задеть солдата.
Уголком глаза я следил за тем, как на всю эту сцену реагируют леди, и с удовлетворением отметил, что они потешаются над растерянностью хавилдара. — Расскажешь своим детям, гази,[52] который-был-Проводником-а-теперь-стал-привратником-Рани, что ты плюнул на тень Ифласс-мана Кровавого Копья и остался жив.
И я, наслаждаясь произведенным впечатлением, направил свою лошадь мимо него, во внутренний дворик — через час об этом станет известно всему Джханси.
Но это был всего лишь незначительный инцидент и я сразу забыл о нем, стоило мне только глянуть на дворец рани. Если снаружи царили жара, пыль и шум, то внутри был настоящий сад — тенистый и прохладный, в котором на лужайках паслись маленькие антилопы, важно вышагивали павлины, а попугаи с обезьянами кувыркались на ветвях деревьев. Вокруг игриво журчали фонтаны, всюду виднелись тенистые зеленые аркады, а тут и там можно было заметить хорошо одетых людей, очевидно — придворных, вокруг которых хлопотали слуги. Пам говорил, что это — одна из богатейших монархий Индии, и теперь я мог в это поверить. Вокруг было столько шелков и драгоценных камней, прекрасных статуй из мрамора и цветного камня, что я даже несколько растерялся — ведь даже у голубей, клюющих зерно на мраморных плитках двора, были серебряные кольца на лапках. Вы и представить себе не можете, в какой роскоши жили эти индийские принцы — и после этого в Англии находятся люди, которые говорят, что это Ост-Индская компания занимается грабежом!
Мне пришлось дожидаться здесь добрый час, пока с приветствиями не подошел мажордом, чтобы проводить меня сквозь еще одни ворота, а затем вверх по узкой винтовой лестнице — в зал торжественных приемов на втором этаже. Здесь снова все было само богатство — прекрасные шелковые драпировки на стенах, огромные подсвечники пурпурного хрусталя, свисающие с резного с позолотой потолка, роскошные ковры на полу (причем рядом с персидскими я заметил и изделия из доброго старого Эксминстера) и все виды превосходных украшений из золота и слоновой кости, серебра и черного дерева. Все это свидетельствовало бы о дурном вкусе, если бы не стоило так чертовски дорого, а дюжина или около того мужчин и женщин, сидевших и полулежавших на кушетках и подушках, были наряжены соответственно — те, которых я встретил во дворе, теперь смотрелись бы их бедными родственниками. Каждая из женщин была прекрасна, как Геба — я только успел оглядеть словно вылепленные из алебастра прелести одной из них, одетой в облегающие пестрые шаровары; играя с попугаем, она чуть приоткинула свою шелковую шаль — как вдруг где-то загудел гонг. Все встали, вошел коротышка в огромном тюрбане и объявил, что прием начался. Тут заиграла музыка и все повернулись и поклонились стене, которая, как я вдруг понял, была вовсе не стеной, а колоссальным экраном из слоновой кости, прекрасным как кружево, делившим залу на две части. По ту сторону экрана можно было лишь различить скольжение легкой тени — таким образом рани могла избегнуть жадных языческих глаз, подобных моим.
Похоже, я был самым важным гостем, поскольку мажордом подвел меня к маленькому золотому стульчику, стоящему всего в нескольких футах от экрана, и объявил мое имя, звание, награды и (это факт!) названия моих лондонских клубов. Вокруг поднялся гул голосов, затем мажордом спросил меня, чего я желаю. Я ответил на урду, что привез поздравления от королевы Виктории и подарок Ее Величества для рани, если принцесса соблаговолит принять его. (Это была чертовски плохая фотография Виктории и Альберта, с изумлением взирающего на книгу, которую с угрюмым видом держал принц Уэльский — все это в серебряной раме, завернутой в муслин.) Я протянул сверток, камергер осторожно принял его, внимательно выслушал, а затем поинтересовался, что за толстый ребенок изображен на фото. Я объяснил ему, после чего подарок отнесли рани, а камергер торжественно объявил приятную новость — что ее высочество с радостью принимает подарок своей сестры-королевы. Эффект был немного испорчен грохотом по ту сторону экрана, который свидетельствовал о том, что фотография упала (или была брошена) на пол, но я лишь невозмутимо поглаживал бакенбарды, а придворные, щебеча, толпились вокруг меня — вы же знаете эту чертову дипломатию.
Последовал дальнейший обмен любезностями через камергера и затем я попросил о личной аудиенции с рани. Толстяк ответил, что она никогда не дает их. Я объяснил, что то, что намерен ей поведать, касается взаимных, но приватных интересов Джханси и британского правительства; он сунулся за экран за указаниями и затем многообещающе произнес:
— Означает ли это, что ваши предложения касаются возвращения трона ее высочеству, признанию ее приемного сына, а равно и всей принадлежащей ей собственности — всего, что было украдено у нее Сиркаром?
Конечно же, ни о чем подобном не было и речи.
— Все что я должен сказать, предназначено только для ушей ее высочества, — торжественно произнес я.
Камергер снова заглянул за экран и долго совещался, прежде чем продолжил разговор со мной:
— Что это за предложения? — спросил он и я снова ответил, что не могу говорить об этом на открытом приеме, и тут по другую сторону экрана послышался быстрый женский голос.
Камергер поинтересовался, что я могу сообщить такого, чего раньше не мог поведать капитан Скин, но я вежливо заметил, что расскажу об этом только рани и никому больше. Они снова начали совещаться, а я все пытался разглядеть рани сквозь экран — ее лицо и фигуру, казавшуюся бесформенной из-за окутывающей ее шали, и все недоумевал, что это за постоянный странный шум слышится мне сквозь негромкие звуки оркестра — какой-то легкий ритмический шелест, доносящийся из-за экрана, словно кто-то размахивал гигантским опахалом. При этом в зале было прохладно и свежо, так что ничего подобного не требовалось.
Камергер вновь вынырнул и с упрямым видом заявил, что ее высочество не видит оснований продолжать этот разговор; если у меня нет ничего нового сообщить ей от имени Сиркара, то мне позволено удалиться. Так что я вскочил на ноги, прищелкнул каблуками, отдал честь экрану, подхватил второй принесенный с собой сверток и, поблагодарив камергера и его повелительницу за их любезность, сделал ловкий поворот кругом. Но я не прошел и ярда, как он снова остановил меня.
— Пакет, который вы несете, — поинтересовался этот толстяк, — что в нем?
На это я и рассчитывал, объяснив, что это — мои вещи.
— Но он завернут точно так же, как и подарок ее высочеству, — заметил камергер, — очевидно, это также подарок.
— Да, — медленно подтвердил я, — это был подарок.
Камергер уставился на меня, а потом вновь нырнул за экран, а выглянул оттуда с весьма озабоченным видом:
— Тогда вы могли бы его также здесь оставить.
Я помялся, взвешивая пакет в руке.
— Нет, сэр, — наконец произнес я. — Это мой личный подарок. Но в моей стране мы передаем подобные вещи из рук в руки, ибо это честь и для того, кто дарит, и для того, кто получает дар. Прощайте! — я вновь поклонился в сторону экрана и пошел к выходу.
— Подождите, подождите! — закричал он.
Я остановился. Ритмический шум, доносящийся из-за перегородки, вдруг прекратился и женский голос снова заговорил — теперь очень ясно. Камергер появился оттуда раскрасневшись и, к моем удивлению, начал выгонять из зала всех этих разодетых леди и джентльменов, словно стадо гусей. Затем он поклонился мне, указал на экран и удалился через одну из боковых дверей, оставляя меня одного, с подарком в руке. Я насторожился — вдруг снова послышался шелестящий звук.
Я приостановился, подкрутил усы, подошел к перегородке и слегка постучал по ней костяшками пальцев. Поскольку ответа не последовало, я позвал: «Ваше высочество?», но снова ничего не было слышно, кроме этого проклятого шелеста. «Ну ладно же, — подумал я, — вот для чего ты приехал в Индию, а значит должен быть вежливым и вести себя прилично — во имя старого Пама». Я заглянул за экран из слоновой кости и — замер, будто налетел на стену.
Причиной моего остолбенения был не чудесный резной золотой трон или великолепие обстановки, превышающее все, что я ожидал увидеть, и даже не переливающийся всеми красками радуги шелковый китайский ковер, по которому я ступал, и не удивительный эффект отражающихся друг в друге стен и потолка, облицованных сияющими цветными панелями. Удивительнее всего, что с потолка свисали на шелковых веревках большие качели, в которых, уютно устроившись, раскачивалась девушка, кроме которой во всем зале не было ни души. И какая девушка! Прежде всего в глаза мне бросились огромные темные влажные глаза на лице цвета кофе с молоком, длинный прямой нос, хорошо очерченные красные губы и твердый подбородок, черные как ночь волосы, перевитые драгоценностями. Она была одета в белый шелковый корсаж и сари, которые оставляли открытыми темный бархат кожи ее рук и тела от груди до живота, а на голове у нее была маленькая белая шапочка, усыпанная драгоценными камнями, с которой на лоб свисала одинокая жемчужина — чуть выше метки, обозначающей ее касту.
Пока я стоял в изумлении, она успела трижды качнуться туда-сюда, а затем опустила туфлю на ковер и приостановила качели. Она внимательно смотрела на меня, держась стройной смуглой рукой за веревку, и вдруг я узнал ее — это была одна из служанок, которая стояла за паланкином у дворцовых ворот. «Служанка рани? — тогда леди в паланкине должна быть…»
— Твоя госпожа, — начал я, — где она?
— Госпожа? У меня нет госпожи, — твердо ответила она, выпятив подбородок, — я — Лакшмибай, махарани Джханси.
IV
На мгновение я ей не поверил: за последние три месяца я так часто представлял ее себе в виде настоящей старой жабы с высохшими руками и ногами, что мог только стоять и глазеть. [VIII*] Но чем больше я смотрел на нее, тем больше убеждался, что она говорит правду: богатство ее наряда просто кричало о ее королевском происхождении, а посадка головы, вместе с царственным взглядом темных глаз, также говорили о том, что передо мной женщина, которой никогда в жизни не приходилось просить разрешения у кого-либо. Каждая ее черточка буквально излучала силу, несмотря на женственность. Клянусь святым Георгом, я не припомню, чтобы когда-либо видел так дерзко вздернутые грудки, которые, подобно маленьким тыковкам вырисовывались под тонким муслином ее корсажа, перехваченного посредине всего лишь единственной драгоценной пряжкой, — если бы по обоим его бокам не были вышиты чуть заметные цветочки, то скрыть что-нибудь вообще было бы невозможно. Перед столь царственной красотой я мог только безмолвно стоять, лихорадочно размышляя о том, как бы распахнуть муслин, сунуть туда усы и — аах!
— Вы собирались вручить подарок, — эти слова, которые она произнесла быстрым мягким голосом, заставили меня прийти в себя.
Щелкнув шпорами, я вручил ей сверток. Она взяла его и взвесила на руке, все еще полулежа в своих качелях, и вдруг резко спросила:
— Почему вы так смотрите на меня?
— Простите меня, ваше высочество, — ответил я, — я и не рассчитывал увидеть королеву, которая выглядит так… — я хотел было сказать «молодо и соблазнительно», но быстро сменил комплимент на менее личный: —…так по-королевски.
— Как эта королева? — спросила она, указывая на фото Вики и Альберта, валяющееся на подушке.
— Каждая из ваших величеств, — дипломатично ответил я, — выглядит королевой по-своему.
Она серьезно посмотрела на меня и протянула мне сверток.
— Можете открыть его.
Я снял обертку, открыл коробочку и вынул подарок. Можете смеяться, но это был флакончик духов — как видите, Флэши не так уж глуп, как могло показаться. Возможно, ехать с духами в Индию было все равно, что везти уголь в Ньюкасл, но по моему опыту, который не назовешь незначительным, ни одна женщина не устоит перед благовониями, в каком бы возрасте она ни была. К тому же именно такой подарок как раз и мог выбрать прямолинейный, честный солдат в своей простоте душевной. Кроме того, они были прямо из Парижа и влетели в добрых пять совов одному старому козлу, который презентовал их Элспет (воспользоваться ими она так и не успела). Я протянул принцессе флакончик с легким поклоном, и она капнула немного на свое изящное запястье.
— Французские, — заметила она, — и очень дорогие. А вы, полковник, богаты?
Это застало меня врасплох. Я пробормотал что-то насчет того, что не каждый день имею честь выполнять поручение королевы.
— А почему вас послали с ним? — холодно поинтересовалась она, — что такого особенного вы можете сказать мне наедине?
Я заколебался, а рани вдруг одним быстрым движением поднялась — клянусь Юпитером, они там всколыхнулись, точь-в-точь как пудинг во время шторма.
— Пойдемте, там вы расскажете мне, — продолжила она и прошла на террасу в другой стороне комнаты легкой и изящной походкой, от которой ее сари колебалось более чем соблазнительно.
Раздался мелодичный перезвон — как и на всех богатых индийских женщинах, на принцессе было надето столько украшений, сколько она могла унести, с браслетами на запястьях и лодыжках, бриллиантовым ожерельем на груди и даже маленькой жемчужинкой, поблескивающей на одном из крыльев носа. Я последовал за ней, оценивая по пути все линии ее высокой, полной фигуры и в который раз ломая себе голову над тем, что же мне ей сказать.
Видите ли, Пам с Манглсом вообще не дали мне никаких конкретных указаний: предполагалось, что мне удастся уговорить рани стать хоть немного лояльней к Британии, но у меня не было полномочий гарантировать уступки по каким-либо ее требованиям. Дело обещало быть нелегким — с одной стороны принцесса была прекрасна, что облегчало разговор с ней, с другой же — меня здорово смущала ее прямолинейность. Это была настоящая королева — умная и опытная (она даже различила французские духи по запаху); обычная политическая болтовня, похоже, не произвела бы на нее впечатления. Так что же мне сказать? «Да дьявол все побери, — решил я, — думаю, что ничего не потеряю, если буду столь же прямолинеен, как и она».
Так что, когда принцесса расположилась на кушетке, я, с трудом заставив себя выбросить из головы полоску шелковистой кожи под корсажем и изящные смуглые лодыжки, выглядывающие из-под сари, поставил свой шлем на пол и устроился рядом.
— Ваше высочество, — начал я, — я не могу говорить так же красиво, как мистер Эрскин или даже капитан Скин. Я солдат, а не дипломат, так что не умею играть словами.
И сразу за этим я как раз и начал играть ими изо всех сил, рассказывая ей о той озабоченности, которую вызывает в Лондоне охлаждение взаимоотношений Джханси с Сиркаром и Ост-Индской компанией; как подобное положение дел тянется уже четыре года и приносит неудобства обеим сторонам; как все это беспокоит королеву, которая ощущает сестринскую любовь к правительнице Джханси, не только как к монархине, но и как к женщине, и тому подобное. Я перечислил все обиды Джханси, указал на желание Сиркара удовлетворить их как можно быстрее, намекнул, что я послан лично от лорда Палмерстона, и закончил горячим призывом к принцессе открыть свое сердце Флэши — чрезвычайному и полномочному представителю, так чтобы мы могли стать друзьями и жить долго и счастливо. Это было сплошной болтовней, но я выдал все в своем лучшем стиле, с выражением благородного сочувствия в глазах и даже растрепавшимися от пыла локонами.
Принцесса выслушала меня, причем ни один мускул не дрогнул на ее красивом лице, а затем спросила:
— У вас есть полномочия, чтобы исправить дело? Чтобы изменить сделанное раньше?
Я ответил, что все могу доложить непосредственно Паму, но она возразила, что то же самое мог сделать и Скин. Ее же собственные представители в Лондоне также обращались прямо в Совет по контролю, но безуспешно.
— Ну, — заметил я, — видите ли, ваше высочество, здесь есть небольшая разница. Его светлость будет знать, что я услышал все из ваших собственных уст, а значит, мы сможем говорить о…
— Здесь не о чем говорить, — отрезала она, — что мне еще добавить к сказанному — чего еще бы не знал Сиркар? Что можете вы…
— Могу ли я узнать, госпожа, какие действия Сиркара кроме вывода войск из Джханси и признания прав вашего приемного сына могли бы удовлетворить ваши требования — или хотя бы способствовать их удовлетворению?
Услышав это, принцесса приподнялась на локте, глядя на меня своими чудесными глазами. То, на что я намекал, — и, заметьте, без малейших полномочий на это — было уступками, которых она тщетно ожидала все четыре года.
— Ладно, — произнесла она задумчиво, — но ведь все уже давно известно. Я сообщила свои требования еще четыре года назад — и все это время их игнорировали. Чем же поможет их повторение?
— Разочарованный истец может найти нового адвоката, — сказал я с самой обезоруживающей из своих улыбок. Она посмотрела на меня долгим взглядом, а затем встала и подошла к балюстраде, глядя через нее на город. — Если ваше высочество будет говорить со мной открыто…
— Погодите, — бросила принцесса и на мгновение замерла, трепеща, прежде чем вновь обернулась ко мне.
Она не знала, что обо всем этом думать, ее терзали сомнения, она едва смела надеяться и все же была удивлена. Боже! Это была настоящая смуглая красавица — будь я на месте Сиркара, она бы получила Джханси и еще фунт чая в придачу всего лишь за полчаса, проведенных на кушетке.
— Если лорд Палмерстон, — начала она (старина Пам лично бы пожелал вернуть ей трон, если бы услышал, как мило эта красавица произнесла «Ло-од Паммер-стан»), — действительно желает загладить нанесенные мне обиды, то это вызвано лишь тем, что он надеется извлечь некую выгоду из подобных изменений — или обещаний таковые изменения произвести. Я не знаю, в чем состоит эта выгода, и вы мне об этом не скажете. Но это не просто милосердное желание восстановить справедливость по отношению к моему Джханси. — Тут принцесса гордо подняла голову: — Это абсолютно точно. Но если он хочет моей дружбы — с какой бы то ни было личной целью — то может доказать искренность своих намерений, восстановив мои доходы, которые должны были перейти ко мне после смерти моего мужа, но были конфискованы Сиркаром.
Она замолчала, вызывающе выпятив подбородок, и я спросил:
— И что потом, ваше высочество? Что дальше?
— Он сможет пойти на это? И Компания?
— Я не могу сказать, — замялся я, — но если дело будет хорошо подготовлено — когда я доложу лорду Палмерстону…
— А будете ли вы поддерживать это требование?
— Это мой долг, госпожа.
— А другие… требования… которые я могу выдвинуть? — Она вопросительно посмотрела на меня, и легкая улыбка притаилась в уголках ее губ. — Тогда я сначала изложу их вам — несомненно, вы сможете подсказать, как лучше одеть их в слова… или изменить. Вы посоветуете мне и… постараетесь сделать их убедительнее?
— Конечно, — заверил я, — я постараюсь помочь вашему высочеству чем только смогу…
К моему удивлению, принцесса звонко расхохоталась, блестя полоской зубов и грациозно откинув головку.
— Ох, уж эта британская тонкость! — воскликнула она. — Деликатны, словно слоны в болоте! Лорд Палмерстон желает, по своим тайным причинам, ублаготворить рани Джханси. И для этого предлагает ей повторить просьбы, которые постоянно отвергаются уже на протяжении четырех лет. Но разве он присылает законника или адвоката, или хотя бы официального представителя компании? Нет — простого солдата, который должен обсудить с ней новую петицию и то, как лучше представить эти просьбы его светлости. Неужели законник не даст лучшего совета? — Она потерла руки и медленно двинулась вокруг меня. — Но разве многие законники так высоки и широкоплечи и… да ладно — так симпатичны и убедительны, как Флэшмен-багатур?[53] Вне сомнения, он лучше всех убедит глупую женщину в том, что ее скромная просьба может быть услышана — и она, бедная маленькая девочка, откроет ему всю свою душу и при этом будет меньше настаивать на своих правах. Не так ли?
— Ваше высочество, вы абсолютно не правильно поняли… Заверяю вас…
— Неужели? — презрительно удивилась она, все еще смеясь. — Мне не шестнадцать лет, полковник. Я уже солидная леди двадцати девяти лет. Я могу не знать целей лорда Палмерстона, но прекрасно ориентируюсь в его методах. Ну-ну, похоже, его светлость и не предполагает, что даже бедная индийская леди так же может быть весьма сметлива. — И она взглянула на меня несколько вызывающе, уверенная в своей красоте, — чертова шалунья! — и в том действии, которое она оказывает на меня. — Похоже, лорд Палмерстон недооценил меня, а?
Что мне оставалось делать, кроме как улыбнуться ей в ответ?
— Не осуждайте его светлость, ваше высочество — он никогда не видел вас, да и многие ли могут похвастаться этим, если вы пурдах-нишин?[54]
— Надеюсь, достаточно будет рассказать ему, какая я. Как он инструктировал вас — развлеките ее, какова бы она ни была: простодушная или лгунья, молодая глупышка или старая уродина? Обворожите ее так, чтобы она поступилась своими требованиями задешево, так? Покорите ее, как это может сделать только герой, — она нахмурила брови, — да и кто сможет устоять перед воином, сразившим четырех гильзаев — где это было?
— При Могале, в Афганистане — как ваше высочество слышали у ворот. Так вы приказали, чтобы пуштун плюнул на мою тень, чтобы испытать меня?
— Его грубость не нуждалась в приказах, — отрезала она, — сейчас его секут за это. — Рани отвернулась от меня и вернулась в приемную. — Если захотите, язык, который оскорбил вас, будет отрезан, — небрежно бросила она через плечо.
Это меня встряхнуло — уж можете мне поверить. Мы так свободно болтали, что я позабыл о том, кто она — настоящая индийская принцесса, со всей своей капризной жестокостью, прикрытой нежной красотой. Несмотря на то, что она так небрежно напомнила мне об этом, я решил выдержать характер.
— В этом нет необходимости, ваше высочество, — сказал я, — я уже забыл про него.
Она кивнула и ударила в маленький серебряный гонг, висящий у нее на запястье.
— Время моей полуденной трапезы, после чего я принимаю двор. Вы можете вернуться завтра и мы обсудим, как вы представите мои требования утонченному лорду Палмерстону, — она слегка улыбнулась мне на прощание: — Благодарю вас за подарок, полковник!
Вошли ее служанки и маленький толстый камергер, так что я почтительно поклонился.
— Госпожа, — сказал я, — ваш самый преданный слуга.
Она высокомерно подняла голову и отвернулась, но, заглянув за перегородку, я заметил, что она взяла мой флакончик духов со столика и предложила понюхать своим девушкам.
Я вышел с этой аудиенции, размышляя о своих не слишком больших дипломатических успехах. Ну, во всяком случае, я продвинулся в отношениях с нею дальше, чем любой другой представитель Сиркара до сих пор, даже если мне для этого пришлось дать Джханси лживые обещания. Господь — свидетель, у меня не было ни малейших прав обещать отмену каких-либо решений по судьбе княжества, и если привезу в Лондон перечень требований, Совет, без сомнения, снова положит его под сукно. Но принцесса не может знать об этом, и если я смогу развлекать ее в течение одной-двух недель, намекая на те или иные возможные уступки, то смогу настроить ее более дружественно по отношению ко мне — в конце концов, именно этого и хочет Пам. Ее надежды оживут, а к тому времени как их окончательно похоронят, я снова буду в Англии.
Кончено, это была только официальная сторона дела; более важным оказался приятнейший сюрприз — «старая ведьма из Джханси» оказалась красавицей, вполне подходящей именно для моего способа ведения дипломатических переговоров. Она была заносчивой шлюхой, умело пользующейся своим королевским положением, но меня не сбила с толку ее болтовня — на самом деле она давала понять, чтобы я не тратил времени, ходя вокруг да около. Это был чистой воды флирт, чтобы подзадорить меня — видите ли, я знал подобных красоток, а то, что они были крестьянками или королевами, значения не имело. Когда такие начинают корчить из себя холодную гранд-даму — это верный знак того, что они ждут, когда же наконец ты решишься их оседлать. Когда принцесса оглядывала меня, я заметил, как вспыхнули ее глаза, и спокойно сказал себе: «ничего, девочка, ты еще попыхтишь у меня, не пройдет и двух недель».
Вы, наверное, сочтете меня самонадеянным, тем более что объект моих воздыханий был королевских кровей — умная, угрожающе могущественная индийская леди высшей касты, свято хранящая свою репутацию. Но все это ерунда, если женщина заинтересовалась самцом вроде меня; а кроме того, я кое-что знал об этих высокорожденных индийских девках — большинство из них были похотливы как хорьки и к тому же имели все возможности удовлетворять свои капризы. Женщина с лицом и фигурой Лакшмибай вряд ли могла позволить зря терять время в течение четырех лет вдовства (тем более после того, как ее выдали замуж за старую развалину) — причем не только с жеребцами из дворцовой гвардии, готовыми на все по одному знаку ее маленького пальчика. Ну что ж, я смогу обеспечить принцессе некоторое разнообразие — а если ее здоровые инстинкты и нуждаются в некотором стимулировании, она вскоре поймет, что приветливое отношение к послу Флэши — самый короткий и приятный путь к тому, что она хочет получить для себя и своего государства. Dulce et decorum est pro patria rogeri,[55] — так может подумать принцесса и — тут я погрузился в плен сладостных мечтаний, живо представляя себе, как будет выглядеть это страстное смуглое тело, когда я наконец сорву с него сари, и размышляя о том, какими приятными штуками можно будет с ней заняться — в интересах поддержания дипломатических отношений…
Но между тем я должен был исполнять и другие поручения Пама, так что конец дня я провел в лагере туземных пехотинцев, изучая сипаев Компании, чтобы получше понять их настроения. Прилежничал я не особо, потому как они выглядели достаточно вымуштрованными и дисциплинированными, но все же это был важный визит — ибо он привел к встрече, которая спасла мне жизнь, а заодно — заставил меня пережить одно из самых странных и ужасных приключений в моей карьере, которое, возможно, определило дальнейшую судьбу Британской Индии.
Я как раз закончил разговор с группой джаванов,[56] рассказывая им, что, по моему мнению, после принятия нового акта [IX*] их теперь не могут послать на службу на заморские территории, когда сидевший рядом офицер — малый по имени Тарнбулл — поинтересовался, не хотел бы я взглянуть на отряд иррегулярной кавалерии, расположившийся неподалеку. Будучи кавалеристом, я согласился. Это была неплохая картина: в основном пенджабцы и жители пограничья — огромные, перетянутые ремнями амуниции здоровяки с напомаженными усами, в рубахах, заправленных в бриджи. Они смеялись и шутили, возясь с упряжью, столь отличные от гладко выбритых пехотинцев — как индейцы шайены от готтентотов. Я с удовольствием болтал с ними, поскольку во время моих афганских приключений мне пришлось побывать (хоть и поневоле) в гостях у подобных негодяев, как вдруг подошел риссалдар[57] — и при виде меня остолбенел у дверей, как будто не веря собственным глазам. Это был огромный бородатый гази, судя по дьявольскому выражению лица — афганец, я бы сказал, гильзай или дурани — в шапке, сбитой на затылок, и старой желтой куртке полка Скиннера на плечах. [X*]
— Джеханнум![58] — проговорил он, вновь вгляделся в меня, а затем упер руки в бедра и разразился смехом.
— Салам, риссалдар, — поздоровался я, — чего тебе нужно от меня?
— Взглянуть на твое левое запястье, Кровавое Копье, — ответил он, скалясь, как череп мертвеца. — Нет ли там шрама, похожего на вот этот?
И он подтянул рукав, а я с недоверием уставился на маленькую сморщенную царапину, поскольку человек, оставивший ее, должен был умереть еще пятнадцать лет назад, а вместо этого юный гильзай, чье окровавленное запястье когда-то соприкоснулось с моим, вырос в настоящего здоровяка. Эту церемонию совершил его сумасшедший отец, Шер-Афзул, унося с собой на небеса уверенность в том, что жизнь его сына теперь навечно посвящена службе Белой Королевы.
— Ильдерим? — я был поражен. — Ильдерим-Хан из Могалы? — а он заключил меня в объятия и пустился в пляс, в то время как его совары[59] ухмылялись и подталкивали друг друга.
— Флэшмен! — он похлопал меня по спине, — сколько лет прошло с тех пор, как ты привел меня на сторону Сиркара? Постой, старый дружище, дай мне на тебя наглядеться! Бисмилла,[60] ты подрос и пополнел на этой службе — настоящий барра сагиб[61] и к тому же, стал полковником! Хвала Всевышнему, что я встретил тебя!
И он начал знакомить меня со своими парнями, рассказывая, как мы встретились с ним в старые кабульские деньки, когда его отец удерживал проходы к югу от города и как я убил четырех гильзаев (странно, что одна и та же лживая легенда всплыла два раза за один день), и как он стал моим заложником, а потом мы потеряли друг друга из виду во время Великого Отступления. Обо всем этом я рассказывал в своих прошлых мемуарах и, не смотря на все ужасы, эти приключения заложили основу моей славной карьере.[62]
Словом, начался вечер разговоров: мы делились старыми воспоминаниями и похлопывали друг друга по плечам около часа или что-то вроде этого. Затем Ильдерим спросил меня, что я тут делаю, и я осторожно ответил, что направлен с поручением к рани, но вскоре снова возвращаюсь домой. Он недоверчиво взглянул на меня, но ничего не сказал, до тех пор как я собрался уезжать.
— Все это, без сомнения, паллитика, — пробормотал мой побратим, — ничего не говори мне об этом. Вместо этого послушай, что тебе скажет друг. Если будешь говорить с рани, будь осторожен — это индийская женщина, и для женщины она знает слишком много.
— А что ты знаешь о ней? — спросил я.
— Немного, — пожал он плечами, — кроме того, что она похожа на серебряную звезду, что она прекрасна, хитра и любит поддеть сагибов. Компания сделала из нее кутч-рани,[63] Флэшмен, но она до сих пор точит когти. Это, — добавил он с горечью, — стало возможным из-за слабости правительства в Калькутте, из-за этих уток и мулов,[64] которые слишком долго грелись на солнце. Так что остерегайся ее и иди с Богом, старый друг. И помни, пока ты в Джханси, Ильдерим будет твоей тенью, а если и не я сам, то эти луз-валла и джангли-адми.[65] Они тебе пригодятся, — и он ткнул пальцем в сторону своих товарищей.
Так я встретился с афганским «аппер роджером»[66] который оказался еще и моим другом, что было лучшей страховкой, какой только можно пожелать, — хотя я был настолько глуп, что новых страхов относительно пребывания в Джханси у меня пока не возникло. Что же касается сказанного им о рани — ну что ж, я все это уже знал, а к женщинам афганцы относятся еще более сурово — настоящие звери. Тем не менее я не сомневался в своих способностях приручить Лакшмибай — во всех смыслах этого слова.
Я вспомнил его слова на следующий день, когда снова прибыл в зал для приемов и увидел принцессу, восседающую на троне и принимающую просителей. Она была одета в серебристое сари, которое облегало ее как вторая кожа, с расшитой серебром шалью, обрамляющей прекрасное смуглое лицо. Стоило ей повернуться, казалось, что танцует гибкая блестящая змейка. Она была спокойна и выглядела по-королевски, а ее придворные и просители пресмыкались пред ней и готовы были сквозь землю провалиться, стоило ей поднять свою розовую ручку. Когда был выслушан последний посетитель и гонг возвестил окончание приема, она сидела, гордо вскинув голову, пока чернь, кланяясь, пятилась к выходу. Наконец остались лишь мы с ней и еще двое ее главных советников. Тут она соскользнула с трона, вскрикнув от облегчения, свистнула одной из своих обезьянок и погнала ее на террасу, хлопая в ладоши в притворном гневе, а затем вернулась, абсолютно спокойная, чтобы вновь уютно устроиться на своих качелях.
— Теперь мы можем поговорить, — сказала принцесса, — и пока мой вакиль[67] зачитает суть моего «прошения», вы, полковник, можете освежиться.
И она указала на маленький столик, уставленный флягами и чашками.
— И еще, — добавила рани, вынимая из-под сари маленький носовой платочек, — сегодня я попробовала ваши французские духи, вы заметили? Миледи Вашки полагает, что я ничем не лучше вероотступницы.
Это действительно были мои духи. Я понимающе поклонился, она рассмеялась и устроилась поудобнее, а вакиль начал читать ее прошение на официальном персидском.
Оно стоило того, чтобы его повторить, поскольку являлось ярким образчиком претензий, которые имелись к британским властям у многих индийских принцев — требования вернуть доходы ее мужа, компенсации за убитых священных коров, введение должностей придворных палачей, упраздненных Сиркаром, возвращение конфискованных средств храмов, признание ее прав регентши и тому подобное. Все это была сплошная трата времени и она, очевидно, знала это, но это была прекрасная тема для наших с ней бесед в течение следующей недели или двух, до тех пор пока я не добьюсь гораздо более важного — не уговорю ее прилечь со мной на часок.
У меня не было сомнений, что она хочет того же, что и я — она испробовала мои духи и дала мне об этом знать, и она была довольно любезна со мной во время встречи — хотя и в своей обычной холодной манере. Принцесса грациозно кивала, когда я обсуждал с ее советниками текст петиции, улыбалась, когда я шутил, предлагала соглашаться с моими доводами (что они были вынуждены делать), при случае даже спрашивала моего совета и, когда я говорил, все время томно поглядывала на меня своими большими темными глазами. Все это казалось весьма дружелюбным после нашего свободного разговора при первом свидании — но с тех пор она оценила политические преимущества своего хорошего ко мне отношения и делала все, чтобы я исполнил свою работу с удовольствием.
Но во всем этом была не только политика — я знаю, когда под ложечкой у женщины дрожит от чувства ко мне и во время наших встреч я видел, что ей доставляет удовольствие испытывать на мне свою красоту, причем делала она это так, что ей могла бы позавидовать сама Лола Монтес. Должен сказать, что я находил ее очаровательной. Конечно же, она обладала всеми преимуществами королевы, что делало ее красоту еще более притягательной, но даже мне было трудно представить себе, как я после короткого знакомства, схвачу ее одной рукой за грудь, а другой за задницу и опрокину на спину, что-то страстно шепча — хотя именно так я бы в другом случае и поступил. Но нет, с дамой королевских кровей следовало немного подождать. Не то чтобы я колебался при этих первых встречах, когда она отпускала своих советников и мы оставались одни — раз или два, под теплым взглядом ее глаз, когда она раскачивалась на качелях или лежала на кушетке, я думал, что вот бы… но все же решил торопиться медленно и сыграть свою партию, когда придет время.
Иногда казалось, что это может произойти достаточно быстро, но несмотря на то, что обычно рани достаточно легко относилась к политике, я вскоре заметил, что она становилась чертовски серьезной, если затронуты были дела Джханси или ее собственные амбиции; стоило разговору свернуть в это русло — и страсть ее чувств прорывалась наружу.
— Много ли нищих было на улицах пять лет назад? — воскликнула она как-то. — Едва десятая часть того, что мы видим сегодня. А кто виноват в этом? Кто же, как не Сиркар, так организовавший ведение государственных дел, что теперь один белый сагиб исполняет работу, которой занималась дюжина наших людей, а теперь должны умирать от голода. Кто охраняет государство? Конечно же, солдаты Компании, а значит, армию Джханси надо разогнать, чтобы воины грабили, воровали или голодали!
— Ну же, ваше высочество, — мягко говорил я, — трудно винить Сиркар в том, что он старается быть эффективным, а что касается ваших безработных солдат, то их с радостью примут на службу в Компанию.
— В иностранную армию? А будут ли им сохранены их звания, как, впрочем, и тем знатным индийцам, которым эффективность Сиркара стоила рабочего места? А купцы, чья торговля приходит в упадок под благословенной властью Раджа?[68]
— Вы должны дать нам немного времени, госпожа, — произнес я, стараясь подбодрить ее, — да и не все так плохо, как вам известно. Бандитов разогнали, бедным людям теперь не грозят дакойты-грабители и туги — да и ваш собственный трон теперь в безопасности от жадных соседей вроде Кат-Хана и девана[69] Орчи…
— Мой трон в безопасности? — вспыхнула она, прекращая раскачиваться на качелях и нахмурившись. — О да, в полной безопасности, причем все доходы достаются Сиркару, который фактически занял мое место, лишив моего сына наследства — ха! Что же касается Кат-Хана и этого шакала из Орчи, которым Компания по своей великой мудрости оставила жизнь, — если бы я правила этой страной и располагала бы моими солдатами, а Кат-Хан и его гад-приятель посмели бы двинуться против нас, то… — она выбрала фрукт из корзинки, стоящей у самого ее локтя, изящно надкусила его и твердо закончила: — эти двое уползли бы обратно корчась, без рук и ног.
— Не сомневаюсь, мадам, — поклонился я, — но факт остается фактом — когда Джханси было самостоятельным княжеством, вы не могли управиться с этими жуликами и даже утихомирить тугов…
— О, да — мы наслышаны о них, а также о том, как Компания пытается пресечь зло, которое они творят. Но почему — только ли из-за того, что они убивают путешественников, или потому что они служат индийскому богу, а значит — мешают христианской компании? — Должно быть, если бы туги исповедовали христианство, им бы позволили бродяжничать и дальше — особенно если бы они выбирали свои жертвы среди индусов.
С таким предубеждением было просто невозможно спорить, так что я скорчил дружелюбную мину и произнес:
— И, несомненно, если бы сутти, этот прекрасный старинный индийский обычай, согласно которому вдов замучивают до смерти, был бы христианским, то мы бы поддерживали его? Но в своей злости и невежестве мы запретили его — вместе с милосердными законами, которые обрекали вдов, отказавшихся от сожжения на костре, влачить жалкое существование в рабстве, с наголо обритой головой и бог знает чем еще. Ну что ж, госпожа, неужели мы не сделали ничего хорошего? — И, не подумав, я добавил: — Полагаю, ваше высочество, вы как вдова имеете некоторые основания поблагодарить Сиркар хотя бы за это.
Как только у меня вырвались эти слова, мне показалось, что пора уносить ноги. Качели резко остановились и принцесса вскочила, глядя мне прямо в глаза, с лицом, застывшим как маска.
— Я? — воскликнула она, — я? Благодарить Сиркар? — Внезапно она швырнула тарелку с фруктами в дальний угол комнаты и выпрямилась, испепеляя меня взглядом: — И ты смел предположить такое?
Конечно, я мог бы униженно просить о прощении, но я не привык пресмыкаться перед хорошенькими женщинами — разве что мне грозит опасность или чертовски не хватает денег Я лишь неразборчиво что-то пробормотал, а она произнесла ледяным голосом:
— Я ничем не обязана Компании! Даже если бы Компании и вовсе не существовало, неужели вы думаете, что я была бы приговорена к сутти или позволила бы сделать из себя рабыню? Думаешь, я настолько глупа?
— Клянусь Богом, нет, мадам! — поспешно воскликнул я, — ничего подобного, и если я чем-то случайно оскорбил вас, то прошу прощения. Я просто полагал, что этот закон распространяется на всех… э-э… леди и…
— Махарани сама творит законы, — гордо отчеканила она с видом Доброй королевы Бесс, посылающей ко всем чертям даго,[70] и я поспешно поблагодарил небеса за такую удобную возможность. Принцесса удивленно уставилась на меня:
— Почему ты думаешь не так, как Компания и твоя страна? Какое тебе до этого дело?
Конечно, я ожидал этого намека; пару секунд я колебался, а затем вдруг взглянул ей прямо в глаза — очень свободно и мужественно.
— Потому что я видел ваше высочество, — спокойно сказал я, — и… да… для меня это важно, очень важно.
Здесь я остановился, постаравшись изобразить самую милую улыбку с оттенком глубокого восхищения и через некоторое время ее взгляд смягчился и она даже улыбнулась, когда снова села и сказала:
— Так вернемся к конфискованным сокровищам храмов?
Наши отношения в эти первые дни напоминали какую-то опьяняющую игру — особенно для принцессы, которая оказалась настоящим тираном, однако как только в наших разговорах возникало какое-либо противоречие, она позволяла смягчить его с теплой загадочной улыбкой. Игра захватывала и меня, поскольку я день за днем проводил взаперти наедине с этим соблазнительным кусочком плоти и даже ни разу ее не коснулся. Но я все еще ожидал своего часа и, поскольку она находила столь очевидное и естественное удовольствие от моего общества, берег свой пыл для нужного момента — конечно же, в интересах дипломатии.
Между тем я уделял внимание и другим интересам Пама, беседуя со Скином, сборщиком налогов Каршором и убеждая себя в том, что среди сипаев все обстоит благополучно. Не было заметно ни малейших признаков агитации, мои прежние страхи насчет Игнатьева и его негодяев представлялись просто ночными кошмарами и теперь, когда я снискал расположение рани, казалось, что последняя тучка над моей головой вот-вот растает. Смешно — если вспомнить, что дело было в 1856-м — и вы можете спросить, как я, да и все остальные могли быть столь слепы, несмотря на то что жили буквально на пороге ада? Но если бы вы сами тогда находились здесь, то что бы увидели? Мирное туземное государство, управляемое очаровательной женщиной, крепко обиженной британской властью, которая проводит большую часть своего времени, принимая авансы влюбленного в нее британского полковника. Порядок при этом охраняется преданными туземными солдатами — спокойная и счастливая британская колония!
Я был близок к завершению большого дела, а все люди вокруг — столь любезны и приятны. Помню обед в бунгало Каршора, с его семьей, Скином и его маленькой хорошенькой женой, такой взволнованной и красивой в своем новом розовом платье, веселого старого доктора Макигена, с запасом ирландских историй, а также офицеров гарнизона, развалившихся на стульях, с лицами под цвет своих красных мундиров, их болтливых жен и меня самого, вызвавшего взрыв смеха своей успешной попыткой накормить одну из девиц Уилтон «сельским капитаном»[71] — благодаря обещанию, что от этого у нее со временем начнут виться волосы.
Все было так удобно и просто, что напоминало семейный обед в старой доброй Англии, если бы не смуглые лица и блестящие глаза слуг, застывших вдоль стен и огромных ночных бабочек, порхающих вокруг ламп. После этого была какая-то простенькая игра в карты, шарады «правда или ложь» и сплетни о местном скандале, и разговоры об отпуске и об охоте под чируты и портвейн на веранде. Достаточно обычные воспоминания, если не думать о том, что случилось потом — я все еще помню, как юная Уилтон шутливо дернула меня за руку и крикнула:
— О, полковник Флэшмен, папа сказал, что вы великолепно поете «Скачущий майор» — о, спойте, пожалуйста!
И снова вижу эти сияющие глаза и кудрявую головку девушки, которая тянет меня туда, где ее сестра уже ожидает за фортепиано.
Увы, мы не можем знать будущего, а жизнь была прекрасной — особенно для меня, с моими дипломатическими обязанностями, а они с каждым часом становились все приятнее. Что касается рани Лакшмибай, то она знала толк в том, как превратить дела в удовольствие. Большую часть времени мы беседовали даже не во дворце — как и говорил Скин, она оказалась отличной наездницей и не знала большего удовольствия, чем натянуть свои бриджи для верховой езды и тюрбан, заткнуть за пояс два маленьких серебряных пистолета и галопом промчаться по майдану или же поохотиться с соколом на берегу поросшей лесом речки неподалеку от города. Здесь же был очень милый маленький павильон, двухэтажный, с дюжиной комнат, укрытый среди деревьев, в котором я пару раз принимал участие в пикниках, вместе с несколькими ее приближенными и слугами. В другое время мы разговаривали в дворцовом саду, среди множества ручных животных и птиц, содержащихся здесь, а однажды она пригласила меня на что-то вроде девичника в зале приемов, во время которого она угощала чаем и пирожными самых знатных леди Джханси, а меня заставили прочесть настоящую лекцию об европейских модах — перед почти полусотней хихикающих индийских женщин, одетых в сари, звенящих браслетами и непрерывно стреляющих своими шустрыми черными глазками. Вопросы, которые они задавали о кринолинах и нижнем белье, могли бы вогнать в краску даже матроса.
Но главное удовольствие принцессы заключалось в пребывании за пределами стен дворца, на природе, где она любила играть со своим приемным сыном Дамодаром, восьмилетним мальчиком с безжизненным выражением лица, или проводила полевые учения со своей гвардией. Порой она наблюдала за состязаниями борцов и скачками, в которых принимали участие некоторые из наших гарнизонных офицеров. Я с удивлением отметил, что в этих случаях она надевала плотную накидку-пурдах и глухое бесформенное платье, хотя во дворце всегда ходила с открытым лицом и к тому же полуголой. И, несмотря на то что принцесса могла быть строго официальной — ни дать ни взять, биржевой маклер, только что купивший дворянский титул — она очень ласково относилась к простому народу. Никогда она не была столь счастлива и весела, как если ей удавалось устроить для городской детворы вечеринку в саду и разрешая малышам бегать среди птиц и обезьян. А во время раздачи милостыни она пристально следила, как ее казначей раздавал монеты толпе уродливых и вонючих нищих, осаждавших ворота дворца. Она отнюдь не всегда вела себя как принцесса, поскольку представляла собой смесь школьницы и опытной женщины — то сплошной огонь и порыв, а то — спокойствие и достоинство. Чертовски непредсказуемо и при том — привлекательно. Порой я ловил себя на мысли, что приглядываюсь к ней с интересом, в котором вожделение составляло не более четырех пятых — а это, надо сказать, совсем на меня не похоже. Это случилось как раз после раздачи милостыни, когда она выехала в свой павильон среди деревьев, а я ехал рядом, разглагольствуя о том, что Индии не хватает закона о бедняках и парочки исправительных домов для парий, она вдруг повернулась в седле и буквально взорвалась:
— Разве ты не понимаешь, что это — не наш путь, что вообще наши пути не совпадают с вашими? Вы толкуете о реформах, преимуществах британского закона и Сиркара и даже не предполагаете — то, что кажется вам идеальным, не подходит для остальных. У нас есть свои обычаи, которые вы считаете странными и бессмысленными, но ведь они существуют и они — наши собственные! Вы пришли сюда, с вашей силой и уверенностью в себе, с вашими холодными глазами и белыми лицами как… как машины, появившиеся на свет из ваших северных льдов. Вы все приводите в порядок, заставляете двигаться мерным шагом — как шагают ваши солдаты, при этом не заботясь о том, хотят ли этого те, кого вы завоевали и, по вашим словам, цивилизуете. Разве вы не понимаете, что лучше оставить людей в покое — пусть живут как хотят?
Она говорила без малейшей злости, но была столь выразительна, как никогда раньше, а ее глаза (что было самым необычным) смотрели на меня почти умоляюще. Я ответил, что думал только о том, чтобы как-то облегчить участь тысячам больных, нищих и голодных, населяющих ее город. Да и для самой правительницы будет выгоднее, если нищие смогут заработать себе на кусок хлеба, разбирая пряжу или ремонтируя дороги.
— Ты говоришь о системе! — воскликнула она, похлопывая своим хлыстом по седлу, — а мы не заботимся о системах. О, да, мы понимаем те преимущества, о которых вы нам рассказываете, но не хотим их. Нам они не нужны. Помнишь, мы говорили о том, как двенадцать индийских бабу[72] выполняли работу одного белого…
— Ну, да — это же напрасные траты, мадам, — почтительно заметил я, — это же бесспорно…
— Напрасно или нет, это не имеет значения, если люди счастливы, — нетерпеливо воскликнула она. — В чем смысл вашего знаменитого прогресса, ваших телеграфов и железных дорог, если нас вполне устраивают наши сандалии и тележки с буйволами?
Я мог заметить, что денег, вырученных от продажи ее сандалий, могло бы хватить на пропитание сотне беднейших семей Джханси и что она в жизни своей не приближалась к повозке, запряженной быками, ближе чем на десять ярдов, но решил сохранять такт.
— С этим мы ничего не можем поделать, госпожа, — сказал я, — мы вынуждены делать лучшее из возможного — так, как мы это видим. И дело не только в телеграфе и железной дороге — со временем вы убедитесь в их пользе — почему бы, спрашиваю я вас, здесь со временем не появиться университетам и школам?
— Чтобы готовить философов, которые нам не нужны, и развивать науки, в которых мы не нуждаемся. А еще — изучать чужой закон, который наши люди никогда не смогут понять.
— Ну, что ж, в этом они не слишком отличаются от среднего англичанина, — заметил я, — но это справедливый закон — и, при всем моем уважении, более справедливый, чем те, которыми пользуются суды в Индии. Помните, что случилось, когда два дня назад на улице перед вашим дворцом возник скандал? Ваши гвардейцы не нашли зачинщиков, так что они схватили первого же попавшегося им бедняка и притащили его в ваш диван.[73] Виноват он был или нет — не имело значения: его приговорили к подвешиванию за большие пальцы рук на двое суток, чтобы «подсушиться на солнышке» прямо на месте преступления. Этот малый чуть не умер — а ведь он ничего не сделал! Позвольте спросить вас, мадам, — и это правосудие?
— Он был бадмаш,[74] и притом весьма известный, — прошептала она, удивленно расширив глаза, — неужели ваш суд позволил бы ему уйти?
— В этом случае — да, поскольку он ни в чем не был виноват. Мы наказываем только преступников.
— Но если их невозможно найти? Если не на ком показать пример? Полагаю, теперь перед дворцом не возникнет скандалов, — и, заметив мой взгляд, она продолжала, — я знаю, что тебе это не нравится и в твоих глазах выглядит несправедливым, даже варварским. Мы понимаем это — и разве этого не достаточно? Ты находишь это странным — подобно нашей религии, запрещенным вещам и нашим обычаям. Но разве твой Сиркар не может понять, что они столь же драгоценны для нас, как ваши — для твоего народа? Почему для вашей Компании не достаточно ее прибылей? Почему она так жадно требует еще и человеческие жизни?
— Это действительно так, ваше высочество, — сказал я, — но ведь нельзя торговать на поле непрерывного боя, не так ли? Для начала нужно установить мир и порядок, а вы не сможете обеспечить всего этого без… скажем, сильной руки и Закона, который справедлив для всех — или хотя бы для большинства людей. — Я знал, что она не поймет, если я скажу, что закон должен быть одинаков и для принцесс, и для их подданных. — И если мы даже допускаем ошибки, то пытаемся их исправить — ведь я и прибыл сюда, чтобы проверить, что вам принесло правосудие — наше правосудие…
— Думаешь, дело только в этом? — спросила рани.
Мы остановились в саду у павильона, лошади мирно щипали траву, а ее слуги ожидали в отдалении. Она посмотрела на меня, вздрогнула и ее глаза ярко засияли.
— Думаешь, доходы, драгоценности — даже права моего сына; неужели ты думаешь, что я забочусь только об этом? Это ошибки, которые должны быть исправлены, но что делать с теми, которые исправить нельзя? Что делать с жизнью этой земли, этой страны, которую вы измените, как изменяете все, к чему только прикасаетесь? Пока она еще яркая — а вы сделаете ее серой; сегодня она еще свободна — хотя, без сомнения, по-вашему, она неправильна и дика — а вы сделаете ее спокойной, упорядоченной и бледной, так что люди забудут, кем они были раньше. Вот что вы делаете с нами — и вот почему я буду сопротивляться этому как только смогу. Скажи лорду Палмерстону… — Клянусь святым Георгом, ее голос дрожал, но хорошенький ротик оставался твердым, — скажи ему, когда вернешься в Англию — что бы ни случилось, я не отдам мой Джханси. Мера Джханси денге най. Я не отдам мой Джханси!
Я был поражен; я и раньше не сомневался, что под нежной женской оболочкой скрывалась настоящая тигрица, но я никогда не думал, что это был столь страстный и сентиментальный зверь. Знаете, на мгновение я был почти тронут. Она показалась мне такой пылкой малышкой, что хотелось успокоить ее, погладить по руке (или даже по груди) или еще что-то в этом роде — но тут она вдруг успокоилась, выпрямилась в седле, как будто пришла в себя и вновь стала выглядеть так чертовски царственно и привлекательно, что я ничего не мог с собой поделать.
— Госпожа, вы не должны были заставлять меня говорить это. Приезжайте в Лондон сами, лично повторите эти слова лорду Палмерстону — и я клянусь, что он отдаст вам не только Джханси, но и Бомбей и даже Хакни Уик.[75] — Я действительно так думал, в Лондоне она стала бы сенсацией и всех бы там приручила. — Лично повстречайтесь с королевой — почему нет?
Она на секунду задумалась и вполголоса пробормотала:
— Королева… Боже, храни королеву — что же за странные люди, эти британцы.
— За британцев не беспокойтесь, — улыбнулся я, — конечно, они будут распевать «Боже, храни королеву», но думать будут о королеве Джханси.
— Вот тут вы нарушаете присягу, полковник, — проронила принцесса и легкая улыбка вновь появилась в уголках ее глаз; она повернула лошадь и поехала шагом, а я последовал за ней.
Вы, наверное, подумали сейчас: «Да что случилось со стариной Флэшем? Неужели он размяк от этой юбки?» Знаете, наверное, дело в том, что я слегка увлекался каждой из моих девчонок — Лолой и Касси, Валей и дочерью Ко Дали, сводницей Сьюзи и Разгоняющей Облака, да и всеми остальными. Конечно же, меня привлекала в первую очередь плоть, но в то же время я испытывал подлинное чувство по отношению к ним — и тогда, и сейчас. С этим ничего не поделаешь — предаваться похоти — дело чертовски романтическое, и мне кажется, что Галахад совершил больше подвигов в постели, чем даже сам Ланселот.[76] Это так, к слову, но все же стоит запомнить, если вы хотите понять наши отношения с Лакшмибай — я специально так много говорю о ней, потому что она была такой загадочной и противоречивой женщиной, что я не могу даже надеяться объяснить ее поступки (впрочем, этого не могут и историки) — так что вам остается только судить о ней по тому, что я написал — и тому, что за этим последовало.
Поскольку на следующее утро после нашего разговора у павильона — к тому времени прошло ровно две недели после моего прибытия в Джханси — произошли серьезные события. По крайней мере, в отношении меня.
Я почувствовал это, сразу после того как прибыл в приемный зал; принцесса была весьма приветливой и даже оживленной. Она рассказывала мне об охоте, которую для нее устроили, но ее вакиль и премьер-министр избегали взгляда своей госпожи, а ее ножки в нетерпении притоптывали под золотистым подолом сари. «Ага! — подумал я. — Что-то вертится на языке у этой плутовки». Похоже, она не была расположена к делам и пару раз я заметил, как она, даже смеясь, настороженно поглядывала на меня. Если бы речь шла о ком-нибудь другом, я бы сказал, что это нервное. Наконец рани прервала разговор, сказав, что на сегодня хватит, и мы стали смотреть на ее гвардейцев, которые фехтовали во дворе.
Даже сейчас, когда мы смотрели на пуштунов, которые размахивали своими саблями, — эти парни выглядели чертовски грозно, скажу я вам — ее пальчики продолжали нетерпеливо постукивать по балюстраде, но через несколько минут она взяла себя в руки, начала говорить о приемах владения клинком и отражения ударов и наконец, искоса взглянув на меня, спросила:
— Вы фехтуете так же хорошо, как ездите верхом, полковник?
Я ответил, что достаточно хорошо, и принцесса, одарив меня ленивой улыбкой, предложила:
— Тогда мы устроим поединок.
После чего приказала слугам проводить меня в зал для приемов и принести туда же две рапиры, а сама вышла, чтобы переодеться в куртку и бриджи для верховой езды. Ну, конечно же, Скин говорил, что она росла вместе с мальчишками и училась владеть оружием у лучших мастеров, однако все это было чертовски странным. Затем принцесса вернулась, велела своим слугам выйти, повязала свои волосы широкой лентой и весьма деловым тоном скомандовала мне: «Защищайтесь!»
«Дома мне не поверят», — подумал я, однако последовал ее приказу, впрочем, достаточно снисходительно и… на первой же минуте она трижды коснулась меня клинком. Я сосредоточился, напряг все свои силы и на следующей минуте она уколола меня лишь один раз, рассмеялась и предложила попробовать еще.
Клянусь Богом, это меня взбесило: теперь мне было наплевать, что мой противник королевских кровей, — и я принялся за работу. Я сильный фехтовальщик, хотя и не сторонник классической школы — так что навалился на нее изо всех сил. Ее мускулы были крепче, чем о том можно было судить по внешнему виду, к тому же она была быстра как кошка, так что мне пришлось потрудиться, чтобы заставить ее отступить, что она и сделала, задыхаясь от смеха, пока не уперлась спиной в стеклянную стену. Она сделала выпад, удерживая меня на расстоянии, но затем, когда мне показалось, что ее защита неожиданно ослабела, я прыгнул вперед, пытаясь провернуть старую кавалерийскую штучку, ударив своим эфесом по сильной части ее клинка[77] так, что рапира вылетела у нее из рук. На секунду мы сошлись грудь с грудью, мои глаза оказались всего в нескольких дюймах от ее смуглого лица и приоткрытого, смеющегося ротика — а ее огромные темные глаза были широко открыты и смотрели на меня с ожиданием. И тут мой клинок с лязгом упал на пол, а я заключил ее в объятия, впившись поцелуем в губы и ощущая сладость ее маленького язычка, а ее мягкое тело охватило меня, окутывая ароматом желания. Я почувствовал, как ее руки заскользили по моей спине к голове, наши лица замерли друг перед другом на долгое сладостное мгновение, а затем она прервала поцелуй, вздохнула, открыла глаза и спросила:
— А хорошо ли вы стреляете, полковник?
После этого принцесса вдруг выскользнула из моих рук и быстро прошла в двери, ведущие в ее личные апартаменты, а я, похрюкивая от нежности, бросился в погоню, но стоило мне только приблизиться, она подняла руку и, не останавливаясь и не поворачиваясь ко мне, твердо сказала:
— Прием закончен… на сегодня.
Двери за ней закрылись, а я остался среди разбросанных клинков, распаленный как буйвол перед случкой, и думал: «ну, мой мальчик, все прямо как дома — проклятая маленькая дразнилка». Я колебался, размышляя, не пойти ли мне на штурм будуара, но тут вошел толстый камергер, ошарашенно глядя на валяющиеся на полу рапиры, так что я раскланялся и, переполненный раздражением, поехал обратно в городок. Мне дали знать, что в конце концов скажут: «Играй!», так что пока ничего не оставалось, как следовать правилам игры.
Вот почему она так прыгала с утра, хитрая шалунья, — небось все думала, как бы получше меня расшевелить. «Хорошо ли вы стреляете?» — похоже, продолжение должно было последовать уже скоро — несомненно, мы закончим наше дело уже на завтрашнем приеме. Чтобы отметить это дело, я выпил слишком много игристого за обедом и даже захватил порядочную порцию с собой в бунгало — как оказалось, на счастье, так как около десяти ко мне, как обычно, заскочил поболтать Ильдерим — а мало найдется парней, более охочих до выпивки, чем жаждущий гильзай. Если же вы полагаете, что все мусульмане не пьют вина, то про одного могу вам точно сказать, что это не так. Так что мы хлопнули пробкой и выпили за добрые старые времена, а потом закурили и я наслаждался всякими откровенными мечтами о моей Лакшмибай и размышлял о возвращении домой, как вдруг кто-то заскребся в задние двери бунгало и вошел кхитмагар[78] который сообщил мне, что пришла биби,[79] которая настаивает на встрече со мной.
Ильдерим ухмыльнулся и покачал своей уродливой головой, а я чертыхнулся. Полагая, что какая-нибудь базарная гурия предлагает свои услуги именно тогда, когда они менее всего нужны. Но я все-таки вышел и, действительно, внизу у лестницы увидел женщину в сари, лицо которой было скрыто вуалью, а чуть подальше, у ворот, толпился ее внушительный эскорт. Женщина не была похожа на шлюху, и когда я спросил, что ей нужно, быстро поднялась по ступенькам, поздоровалась и передала маленький кожаный мешочек. Я удивленно принял его — внутри лежал носовой платок, и даже хмельные пары шампанского не могли сбить меня с толку — он был насквозь пропитан моими духами.
— Это от моей госпожи, — проговорила женщина, пока я таращился.
— Клянусь Богом, — пробормотал я, снова обнюхивая его, — кому взбрело в голову…
— Не называйте имен, господин, — попросила женщина звучным голосом на хинди. — Моя госпожа посылает его и просит, чтобы через час вы пришли к речному павильону.
Посланница попрощалась и тенью соскользнула по лестнице. Я попытался ее остановить и даже сделал несколько неуверенных шагов, но она не остановилась и, вместе с эскортом, растаяла во мраке.
«Ну, будь я проклят, — подумал я — удивление уже сменялось радостным предвкушением. — Она не может ждать, клянусь небесами… и, конечно же, павильон у реки, да еще ночью, — самое подходящее место… гораздо лучшее, чем дворец, где вьется столько народу. Уютно, безопасно и абсолютно секретно — как раз, чтобы маленькой проказнице-рани было где разгуляться».
— Сайс! — позвал я своего грума прежде чем вернуться в дом — немного покачиваясь и проклиная шампанское.
Некоторое время я изучал свой подбородок в зеркало, потом решил, что сойдет, и крикнул, чтобы мне принесли чистую рубашку.
— Снова куда-то собрался? — поинтересовался Ильдерим, сидевший на корточках на ковре. — Полагаю, не за какой-нибудь базарной девкой?
— Нет, брат, — качнул головой я, — кое-что гораздо лучше шлюхи. Если бы ты ее увидел, то навсегда отрекся бы не только от мальчиков, но даже от дынь.
Клянусь Юпитером, я прекрасно себя чувствовал. Быстренько приведя себя в порядок, сполоснул лицо, чтобы хоть немного убрать следы выпивки, и поднялся на веранду как раз к тому времени, когда сайс подвел моего пони.
— Ты с ума сошел, — рявкнул Ильдерим, — ты что, собрался ехать один? Куда?
— Я не собираюсь ею делиться, если ты это имеешь в виду. Я возьму с собой сайса, — сказал я (поскольку я не слишком хорошо знал, как доехать к павильону ночью, — а было абсолютно темно).
Должно быть, я был пьянее, чем мне казалось, так как мне удалось взобраться в седло лишь с третьей попытки, а затем, помахав на прощание Ильдериму, который с сомнением взирал на меня с веранды, я тронулся шагом, с сайсом, трусившим у меня за спиной.
Сейчас я могу признаться, что тогда был несколько не в себе, но должен сказать, что поехал бы, даже если бы был трезв как стеклышко. Уж и не помню, когда я так рыл копытом землю из-за женщины — наверное, за эти две недели ожидания я здорово распалился, так что две мили до павильона показались мне бесконечными. К счастью, мой сайс был сообразительным малым, потому что он не только удачно довел нас до цели, но и благополучно удерживал в седле. Сам я мало что помню из этого путешествия за исключением того, что оно, казалось, длилось целую вечность, а затем мы вдруг оказались среди деревьев, копыта мягко застучали по траве, сайс молча сжал мою руку и впереди показался павильон, полускрытый в листве.
Я не хотел, чтобы мой слуга подглядывал, так что я спешился и приказал ему ждать здесь, а сам двинулся вперед. Несмотря на ночную свежесть, мое опьянение как будто стало сильнее, но ориентировался я достаточно хорошо, хотя то и дело отклонялся от курса. Я внимательно осмотрел павильон: слабые огни горели на первом этаже и в одной из комнат наверху и, клянусь Георгом, до меня даже доносились едва слышные звуки музыки. Я вгляделся во тьму. Оркестр внизу, мягкий интимный свет наверху и, без сомнения, там найдется чем освежиться. Я вытер лицо и поспешил вперед, через сад ко внешней лестнице, ведущей сразу в верхние комнаты, ступая осторожно, так, чтобы не потревожить укрытых где-то поблизости музыкантов, которые сладко играли на флейтах.
Я взгромоздился на лестницу, стараясь держаться прямо, и вскоре достиг верхней площадки. Дальше был короткий коридор с дощатой дверью в конце, сквозь которою пробивался свет. Я на минуту задержался, возясь со своими просторными штанами, — по крайне мере, я не был настолько глуп, чтобы прийти в сапогах — сделал глубокий вдох, нетерпеливо надавил и почувствовал, как дверь подается под тяжестью моего тела. Воздух внутри был тяжелым от благовоний. Я сделал шаг, запутался в муслиновой занавеске, тихонько выругался, пытаясь из нее выпутаться и ухватившись за деревянный столбик, чтобы не потерять равновесия, осмотрелся в окружавшем меня полумраке.
У стены тускло горели розовые лампы, давая ровно столько света, чтобы увидеть широкое ложе, прикрытое москитной сеткой, стоящее в дальнем углу комнаты. И тут же была принцесса — ее силуэт четко выделялся на белом покрывале. Она сидела среди разбросанных подушек: одна нога вытянута вперед, а вторая согнута в колене. Послышалось тонкое позвякивание браслетов, я наклонился, все еще держась за столбик, и проскрипел:
— Лакшмибай? Лаки? — это я, дорогая… чабели…[80] я здесь!
Она повернула голову и вдруг одним движением откинула сетку и скользнула на пол, застыв у ложа подобно безмолвной бронзовой статуе. Она действительно была в браслетах, в узеньком золотом пояске на бедрах и каком-то металлическом головном уборе, с которого свисала тонкая вуаль, закрывающая ее лицо до самого подбородка — и больше ничего. Я крякнул от удивления и собирался было броситься на нее, но она остановила меня жестом, выдвинула одну ногу вперед, сложила руки над головой и медленно заскользила ко мне, покачивая своими прекрасными золотистыми формами в такт музыке, доносившейся снизу.
Я мог только остолбенело смотреть; может, это было следствием опьянения или восхищения — не знаю, но я чувствовал себя как будто парализованным — во всех частях тела, за исключением одного. Она приблизилась ко мне, извиваясь; браслеты позванивали, а темные глаза ярко сияли в приглушенном свете. Под вуалью мне не было видно ее лица, но я и не пытался разглядеть его. Она попятилась, поворачиваясь и покачивая бедрами, а затем вновь приблизилась и, наклонившись, игриво провела кончиками пальцев по моей груди. Задыхаясь, я пытался схватить ее, но она ускользнула, теперь уже быстрее, поскольку музыка ускорила темп, затем снова вернулась ко мне, шепча что-то сквозь вуаль, приподнимая руками свои прекрасные груди, и тут я все-таки изловчился ухватить ее за грудь и бедро, просто клокоча от страсти, когда она вдруг прильнула ко мне, приподняв вуаль ровно настолько, чтобы прижать свои губы к моим. Ее правая нога скользнула вверх по внешней стороне моей, выше колена на уровень бедра, а затем как бы охватила его, так что ее пятка почти касалась моей спины — одному Богу известно, как они это делают, двойные соединения или что-то в этом роде — а затем она начала прыгать вверх-вниз, как сумасшедшая обезьяна на ветке, царапая меня ногтями, целуя и слегка постанывая, до тех пор пока тысячи факелов, которые бушевали пониже моей поясницы, не слились в одну сверкающую вспышку. Тогда она вдруг обвисла у меня на руках, а я подумал: «О Боже, сколь благодарен Тебе раб Твой!» — и осторожно опустился на пол, полностью обессиленный от экстаза, под восхитительным бременем, которое трепетало, цепляясь за мою грудь.
Учителя, которые обучали подобным танцам королевских отпрысков, должны были быть необычайно здоровыми; она почти полностью измотала меня, но, очевидно, я все-таки как-то смог добраться до ложа, так как следующее, что я помню — как лежал там, а мой нос упирался прямо в чудесные розовые бутоны ее грудей. Аах! Я собирался было снова нырнуть в них, но она повернула мою голову и поднесла чашку к моим губам. Несмотря на то, что я уже достаточно принял на борт, я жадно выпил и рухнул навзничь, тяжело дыша, удивляясь, что еще живой. Но она вновь взобралась на меня, ее руки и губы гладили мое тело, лаская и возбуждая, ее бедра вновь оседлали меня, но теперь она уселась спиной ко мне и — факельное шествие разгулялось во мне с новой силой, промаршировав до самой высшей точки и сокрушительно рухнув вниз. После этого она оставила меня в покое уже на добрые полчаса, насколько я мог об этом судить в своем полуобморочном состоянии. Единственное, в чем я был уверен, так это в том, что если бы я был трезв, она никогда бы не раздразнила меня до того, чтобы совершить это в третий раз — а она все-таки добилась своего, вытворяя такие штуки, что я сам с трудом верю в это, когда вспоминаю о них. Но все же я помню эти огромные глаза под вуалью и жемчужину на ее лбу, ее запах и смуглый бархат ее кожи в тусклом свете ламп…
Я проснулся в холодном поту, с трясущимися руками и ногами, пытаясь сообразить, где я нахожусь. Откуда-то из темноты дул холодный ветер. Я с трудом повернул раскалывающуюся от боли голову: розовые лампы еще горели, отбрасывая причудливые тени, но принцессы уже не было. Впрочем кое-кто кроме меня в комнате все же остался — я видел темную фигуру у дверей, но она не была обнаженной — в полумраке белела набедренная повязка, а на голове вместо золотой диадемы был туго повязан тюрбан. Мужчина? А что у него в руках — палка? Нет, на ней был какой-то резной набалдашник — а за спиной у него стоял еще один человек. Пока я пытался их рассмотреть, оба неслышно проскользнули в комнату и я заметил, что в руке у второго был кусок ткани.
Несколько секунд я неподвижно лежал, пристально вглядываясь, но тут до меня дошло, что это не сон, что они идут к кровати, и от этого повеяло ужасной, необъяснимой опасностью. Москитная сетка была откинута, и я мог хорошо рассмотреть их, с глазами, белеющими на смуглых лицах, а затем перекатился по ложу в противоположную сторону, соскользнул на пол и бросился к окну, прикрытому жалюзи. За спиной у меня раздалось негромкое рычание, что-то просвистело в воздухе, раздался глухой удар; краем глаза я заметил маленький топор, дрожавший в ставне — и бросился головой вперед прямо сквозь жалюзи, подвывая от ужаса. Хвала Господу, что я вешу четырнадцать стоунов — они с треском проломили преграду и я приземлился на маленькой веранде, выбрался из-под обломков и вскарабкался на балюстраду, окаймляющую павильон.
Мельком я разглядел темную тень, прыгнувшую ко мне через кровать; рядом с верандой росло дерево, раскинувшее свои листья на высоте добрых пяти футов, и я бросился прямо в эту листву, тщетно пытаясь ухватиться за ускользавшие ветви, и здорово ударился обо что-то бедром, да так, что мне показалось, будто я сломал ногу. На несколько секунд я словно повис в воздухе, но тут же свалился и с глухим стуком упал на спину, чуть не вышибив из себя дух. Я перекатился, пытаясь подняться, но тут две темные фигуры спрыгнули с дерева почти прямо на меня. Я бросился на одного из преследователей и ударил его кулаком в лицо — и тут что-то мелькнуло у меня перед глазами и я едва успел подставить руку, чтобы перехватить гаротту, которую второй уже накидывал мне на шею.
Я захрипел, пытаясь ослабить удавку; мое запястье было прижато к подбородку этой смертоносной петлей, но правая рука оставалась свободной, и, протянув ее назад мне удалось схватить негодяя за горло и рвануть изо всех сил. Он застонал в агонии, удавка ослабла и тело убийцы осело наземь. Однако, прежде чем я успел нырнуть за ближайшее дерево, его товарищ оказался у меня за спиной. Он действовал безошибочно — новая петля перехватила мою глотку, а коленями он придавил мне спину и я только беспомощно бился, ощущая его дыхание на своей щеке. «Пять секунд, — промелькнуло у меня в мозгу, — всего лишь пять секунд нужно опытному душителю, чтобы убить свою жертву. О, Иисусе!» — у меня потемнело в глазах, голова свесилась на грудь, горло раздирала жуткая боль и я почувствовал, что умираю, все глубже погружаясь в небытие. Затем вдруг я понял, что снова лежу на спине, жадно глотая воздух, а лица, плывущие у меня перед моими пылающими глазами, постепенно слились в одно — Ильдерим-Хан держал меня за плечи, приговаривая:
— Флэшмен! Лежи спокойно! Вот так — просто полежи немного и подыши! Иншалла![81] Пережить прикосновение душителя — это не так просто. — Его сильные пальцы массировали мне горло, а сам он улыбался, глядя на меня сверху вниз. — Видишь, что может выйти, если бегаешь за падшими женщинами? Еще минута — и нам бы пришлось с тобой распрощаться. Скажи спасибо, что у меня возникли подозрения и я со своими бадмашами поехал посмотреть, что за кунчуни[82] так искусно заманила тебя в свою постель. Ну, как себя чувствуешь, дружище? Сможешь встать на ноги?
— Что случилось? — пробормотал я, пытаясь подняться.
— Лучше спроси почему. Может, у девчонки оказался слишком ревнивый муж? Мы видели огни и слышали музыку, но до поры все было тихо, лишь несколько человек вышли и сели в паланкин — вроде того, на котором путешествуют женщины, и уехали. Но тебя не было видно, пока мы не услышали, как ты проламываешь себе дорогу, а по пятам за тобой следовали два эти пса из преисподней. — И, проследив за его кивком, я увидел парочку его головорезов, сидевших на корточках рядом с двумя темными тенями, лежащими на траве. Одна из теней была абсолютно неподвижна, другая же задыхалась и хрипела, а по тому, как эта фигура скорчилась, я понял, что она принадлежала убийце, объятий которого мне удалось избежать. Один из соратников Ильдерима тщательно протирал пучком листьев свой хайберский нож, а еще один подошел, выступив из мрака.
— Сайс сагиба лежит там, — махнул он рукой, — богиня Кали укусила его своим зубом.[83]
— Что? — переспросил Ильдерим, поднимаясь. — О, Всевышний…
Афганец быстро подошел к телу мертвого душителя, выхватил фонарь из рук одного из своих людей и пристально вгляделся в лицо мертвеца. Я услышал, как он что-то резко крикнул и затем позвал меня.
— Взгляни, — коротко бросил Ильдерим и пальцем оттянул веко у трупа; даже в неверном свете фонаря я разглядел свежую татуировку на коже.
— Туг! — процедил Ильдерим сквозь зубы. — Ну, Флэшмен, и что же это все значит? [XI*]
Я пытался собраться с мыслями, но голова у меня раскалывалась, а по глотке словно прошел паровой каток. Это был настоящий кошмар — только что я, накачавшись шампанским, занимался любовью с Лакшмибай — и вот уже меня пытаются убить профессиональные душители, которые к тому же оказываются тугами. Я был слишком ошарашен, чтобы думать, так что Ильдерим обернулся к стонущему пленнику.
— Вот он-то нам все и расскажет, — проворчал хан и схватил беднягу за глотку. — Слушай, ты все равно умрешь, но твоя смерть может быть быстрой — или же я отрежу все лишнее от твоей грязной туши и заставлю тебя все это съесть. Это так, для начала. Так что выбирай — кто послал тебя и почему? — Туг захрипел и плюнул, на что Ильдерим спокойно приказал: — Оттащите его под ближайшее дерево. — И когда это было выполнено, вытащил свой нож, оправил его лезвие о подошву сапога и, бросив мне: — Подожди здесь, хузур, — мрачно последовал за ними.
Я не мог бы пошевелиться, даже если бы захотел. Это было так кошмарно и невероятно, что за несколько последующих минут, пока из-под деревьев доносились жуткие стоны и сдавленные крики ужаса, я пытался хоть как-то осмыслить происходящее. Лакшмибай просто оставила меня спящим — пьяным, одурманенным или и тем, и другим — в павильоне, вскоре после чего там появились туги. Но почему — почему она хотела моей смерти? Клянусь Богом, это было бессмысленно: если бы она обрекла меня на смерть, то приказала бы устроить засаду по дороге к павильону, и не стала бы удовлетворять меня, подобно безумной шлюхе. Однако у нее не было абсолютно никаких оснований убивать меня — что я такого сделал, чтобы удостоиться подобной чести? Она была так дружелюбна, весела, так добра. Я готов был поклясться, что она просто влюбилась в меня за прошедшие две недели. О, я знал коварных женщин, шлюх, которые одной рукой расстегивают вам рубашку, а другой тянутся за ножом — но она была совсем иной. Я не мог поверить в это, не мог — и все тут.
Я даже мог понять то, что она ускользнула, оставив меня одного — ведь в конце-концов это было всего лишь тайное свидание и ей нужно было заботиться о своей репутации. Что могло быть для нее лучше, чем вернуться потихоньку во дворец, предоставив партнеру самому найти дорогу домой? Я с легким раздражением подумал, что, наверное, она проделывала такие штуки множество раз, в этом самом павильоне — стоило ей только захотеть. Она явно не была новичком в подобных делах — ничего удивительного, ведь ее старый муж давно потерял к этому интерес, а потом еще и умер: впрочем, бедняге и без того пришлось бы отойти в сторону.
Но кто же натравил на меня тугов? Или они были обычными неразборчивыми убийцами — как это обычно бывает у тугов, убивающими каждого, кто попадется им на пути, просто для развлечения или во имя своей религии? Может, они случайно наткнулись на меня ночью и решили принести еще одну жертву Кали?
Но тут из темноты показался Ильдерим, вытирая свой нож, и присел на корточки рядом со мной.
— Упрямый, — проговорил он, поглаживая свою бороду, — но недостаточно упрямый. Флэшмен, плохие новости для тебя. — Он печально взглянул на меня: — Это их племя охотится на тебя. Начали на прошлой неделе. Их братство убийц, которое долгие годы до этого считалось уничтоженным или распавшимся, получило приказ выследить сагиба полковника Флэшмена в Джханси. Тот, под деревом, был одним из главарей. Шесть дней назад они собирались в Фирозабаде, где какой-то факир предложил им за это золото и, — Ильдерим сжал мое колено, — предсказывал скорый конец власти британцев и возрождение учения тугов. Они должны приготовиться к этому дню — и для начала принести тебя в жертву Кали. Так что я выяснил все, — закончил он с мрачным удовлетворением, — это все паллитика и ты идешь по опасному пути. Ну что ж, тебя вовремя предупредили. Но теперь тебе понадобятся резвый конь, чтобы добраться до побережья, и быстрый корабль, чтобы переплыть кала пани,[84] поскольку если эти ребята уже сели тебе на хвост, то на этой земле тебя ожидает смерть. Здесь ты нигде не найдешь спасения — от Декана до Хайберского перевала.
Я с трудом уселся, дрожа от ужаса; мне было страшно задавать следующий вопрос, но я хотел знать наверняка.
— Этот факир, — прохрипел я, — кто он?
— Про него никто ничего не знает, кроме того, что он приехал с севера. Это одноглазый человек со светлой кожей. Некоторые полагают, что он сагиб, но не из твоего народа. У него есть деньги и тайные последователи и он проповедует против сагиб-логов.[85]
Игнатьев! — меня словно подбросило. Значит, случилось так, как и предполагал Пам: этот ублюдок вернулся и выслеживает меня — и, дьявол побери, он знает все о моей миссии. Он и его агенты всюду сеют ядовитые семена и хотят возродить против нас дьявольский культ тугов, а я — номер первый в списке! Ильдерим прав, дело безнадежно, если мне только не удастся выбраться из Индии — но я не могу этого сделать! Именно потому я и нахожусь здесь, именно для этого в своей близорукой глупости послал меня сюда старый Пам — чтобы испортить игру Игнатьеву и избавиться от него самого. Я не могу, поскуливая от страха, вернуться в Калькутту или Бомбей с криком: «Убивают! Билет первого класса домой, и побыстрее, пожалуйста!» Неужели настал момент отрабатывать свое жалованье — сражаться против этих чертовых душителей и русских агентов? Я судорожно сглотнул, обливаясь потом — и тут у меня мелькнула еще одна мысль.
Была ли Лакшмибай частью этой игры? Бог видит, у нее не было оснований любить Сиркар — так не была ли она еще одной паучихой в этой дьявольской паутине, играя для русских роль Далилы? Но нет, нет, одно было совершенно ясно даже моему взбудораженному уму: она никогда не разделила бы ложа со мной, если бы вела двойную игру. Нет, это все Игнатьев, хитрая бестия. Я обхватил голову руками и задумался: «Иисусе, как же мне все-таки ускользнуть и на этот раз?»
Понемногу мои мысли стали проясняться: я не могу покинуть Индию или даже хоть как-то дать знать, что хотел бы бежать, но я же говорил Скину, что если начнется кризис, то я на время исчезну из вида, чтобы незаметно следовать за Игнатьевым — так вот, теперь самое время исчезнуть, что будет нетрудно устроить. Я быстро оценил обстановку, как это мне всегда удается, если пахнет паленым, и обернулся к Ильдериму.
— Знаешь, брат, — важно сказал я, — как ты правильно угадал, это большое паллитическое дело. Я не могу тебе всего рассказать и не могу покинуть Индию…
— Тогда ты умрешь, — спокойно сказал он, — рука Кали настигнет тебя при помощи ее посланцев, — и он показал на убитого туга.
— Подожди, — сказал я, потея, — они ищут полковника Флэшмена — но если полковник Флэшмен станет, скажем, хайкинским торговцем лошадьми или воином племени абизаев, который отслужил свой срок в уланах или в полку Проводников, то как они смогут его выследить? Я прикончу их раньше. Проклятие, да я говорю на пушту не хуже тебя, а на урду — даже лучше — разве я не был агентом Секундар-сагиба? Все что мне нужно — это безопасное место на некоторое время, чтобы залечь там и следить, куда подует ветер, — и для пущего эффекта я бессовестно приврал — прежде чем я возьмусь за дело и выполню свой план — уничтожу этого одноглазого факира, вместе со всей его бандой бродяг и душителей. Понимаешь?
— Иншалла! — воскликнул он, ухмыляясь во всю ширь своей злодейской рожи, — это большая игра! Лежать тихонько, присматриваясь, прислушиваясь и ожидая, ведя переговоры с другими паллитическими сагибами Сиркара, до тех пор пока пробьет час, а затем начать против этих злодеев-изменников раззиа![86] А когда это время наступит, я с моими парнями тоже смогу принять участие в забаве и сделать халлал[87] этим индусам и заморским свиньям? Ты же не забудешь тогда своего старого друга? — И он схватил меня за руку, этот кровожадный дьявол. — Ты ведь дашь знать своему брату Ильдериму, когда наступит время обнажить нож?
«Долго же тебе придется ждать, малыш, — подумал я, — дай мне только маскировку получше, да резвого пони — и ты меня не увидишь, по крайне мере, до тех пор как все не утрясется и какой-нибудь другой идиот не успокоит Игнатьева и его наемных убийц. Тут-то я и вынырну со своим донесением для Калькутты (и Пама), в котором распишу, как я крался по пятам за этим русским, но, к несчастью, мне не повезло». Тогда это будет звучать достаточно загадочно и убедительно, но сейчас мне нужна была маскировка и безопасное место — причем как можно дальше отсюда. Какой-нибудь удаленный уголок джунглей или пустыни был бы в самый раз. Я привык жить простой и грубой жизнью, так что сказал Ильдериму, что свободно сойду за жителя приграничья или афганца.
— Ты первым узнаешь о том, что настало время резать глотки русским, — заверил я гиганта, и он обнял меня, довольно ухмыляясь, и заявил, что я лучший из братьев.
Мысль о маскировке напомнила мне, что я до сих пор оставался полуголым и дрожал от холода. Я сказал Ильдериму, что хотел бы получить комплект одежды, как у его собратьев по оружию, и он поклялся, что я получу его и еще пони в придачу.
— Можешь передать от меня сагибу Скину, что время пришло, — предложил я, — и что капитан может начинать жалеть русских — он поймет. — Я не хотел возвращаться в английский поселок, а решил еще сегодня ночью выехать куда глаза глядят. — Расскажи ему про одноглазого факира, о том, что туги вновь собираются на границе и что обстановка накаляется. Можешь сказать, что у меня уже была стычка с врагами — но о том, что еще я делал сегодня ночью, ему рассказывать не обязательно. — Я подмигнул Ильдериму. — Понял меня? Да, еще — если он будет расспрашивать обо мне от имени рани Джханси, можешь сказать, что я был срочно отозван, и передать мои извинения.
— Рани? — удивленно переспросил он и глаза его вновь скользнули по павильону, — хорошо. — Он закашлялся от смеха. — Сегодня ночью я видел паланкин одной знатной дамы и множество слуг. Случаем, это была не…
— Язык гальзая — праматерь скандала, — ответил я пословицей, — знай свое чертово дело и не суйся в чужие. А сейчас будь хорошим мальчиком и дай мне одежду и пони.
Он подозвал одного из своих негодяев и поинтересовался, жив ли еще туг, которого подвергли пыткам.
— Да, но поведать ему больше нечего, — ответил тот, — потому что он ничего не сказал, когда я… — вы наверняка не хотели бы услышать, что последовало за этим. — Можно ли мне дать ему понюхать немного его же табачку? — спросил совар, закончив свой рассказ. [XII*]
— Да, — согласился Ильдерим, — и еще, скажи Рафику Тамвару, что мне нужна вся его одежда, его нож и лошадь. Иди!
Совар кивнул в ответ, вынул свой хайберский нож и вернулся назад, под деревья, где его товарищи стерегли пленного или же то, что от него осталось. Я слышал, как он обратился к умирающему — и даже в такое время и в таком месте последовавший диалог был настолько любопытен, что навсегда запечатлелся в моей памяти. Это была одна из самых удивительных вещей, о которых я когда-либо слышал, даже в Индии.
— Все кончено, душитель, — сказал он. — Вот нож, выбирай — в глотку или в сердце?
— В сердце, только быстро! — прохрипел туг, содрогаясь в агонии.
— Ты уверен? Ну, как хочешь.
— Нет, подожди! — задыхаясь, прошептал душитель. — Приставь острие вот здесь… за ухом. Да так. Нажми посильнее — так почти не будет крови и я умру спокойно. Давай!
Наступило молчание, а затем голос совара произнес:
— Он был прав — крови почти не было. Туги разбираются в таких вещах.
Через несколько минут ворча подошел Рафик Тамвар, в одной набедренной повязке, с ворохом своей одежды, перекинутым через руку, ведя в поводу маленького аккуратного пони. Я сказал, что Скин-сагиб возместит ему стоимость его одежды, а вдобавок он сможет получить моего пегого пони, на что добрый Тамвар ухмыльнулся в свою густую бороду и сказал, что он с удовольствием менялся бы так хоть каждый день. Я нырнул в его рубашку и кавалерийские бриджи, натянул мягкие сапоги, накинул его мохнатый поштин,[88] засунул за пояс хайберский клинок, намотал на голову пуггари и как раз подумал, что неплохо бы достать где-нибудь револьвер, когда Ильдерим задумчиво поинтересовался:
— Куда ты поедешь, Флэшмен, — есть ли у тебя на примете местечко, в котором тебя не найдет ни один враг?
Я признался, что у меня такого нет, и спросил, не подскажет ли он мне что-нибудь. Ильдерим задумался, нахмурившись, потом вдруг улыбнулся, затем разразился хохотом так, что опрокинулся на спину и лишь через несколько минут немного успокоился, встал, пристально посмотрел на меня и вдруг ухмыльнулся.
— Немного орехового масла для твоей кожи, — проговорил он, — и когда у тебя отрастет борода, ты будешь выглядеть как настоящий головорез из Пешавара — ведь заносчивости тебе не занимать, остается только почаще подкручивать усы да презрительно сплевывать…
— Я все это знаю, — нетерпеливо сказал я, — ну и что, по-твоему, мне делать со всеми этими штуками?
— Есть одно место, где любой злоумышленник никогда не станет искать британского полковника, — с хохотом сказал афганец. — Хотел бы ты пожить веселой жизнью, есть и пить вволю и даже потолстеть, пока придет время расправиться с врагами королевы? А еще тебе будут хорошо за это платить — двадцать четыре рупии в месяц, плюс батта?[89] — Он хлопнул в ладоши от восторга, видя мое недоумение. — Почему бы и нет — вступай в армию Сиркара! Что за рекрут для туземной кавалерии — не пройдет и месяца, как тебя могут сделать даффадаром![90] — Он прищелкнул языком: — А со временем, кто знает, может быть, даже и риссалдаром!
— Ты с ума сошел? — воскликнул я, — мне — записаться в совары? И какого дьявола ты полагаешь, что мне это поможет?
— А что тебе мешает? Тебе же удалось сойти за своего на кабульском базаре и на Кандагарской дороге. Покрась себе лицо, как я тебе говорю, отрасти бороду — и ты станешь лучшим приобретением Сиркара во всей Индии! Разве это не то, что тебе нужно — держаться поближе к месту развития событий, да еще в компании преданных тебе людей, готовых к действию, стоит тебе пальцем пошевелить?
Это было смешно, но чем больше я об этом думал, тем более подходящим мне это казалось. Сколько я собирался прятаться — месяц? Возможно, два или три? Все это время мне на что-то нужно было жить, но клянусь, мне и в голову не приходило более скрытое от посторонних глаз и более удобное местечко, чем полк туземной кавалерии. К тому же я обладал нужным опытом и знаниями, и если буду соблюдать осторожность… Впрочем, я всегда это делал, чем бы ни занимался. Я стоял, размышляя, а Ильдерим убеждал меня со все большим энтузиазмом.
— Слушай, двоюродный брат моей матери, Гюлам-бек, бывший малик[91] одной из деревень моего отца, сейчас вурди-майор[92] в Третьем кавалерийском полку в гарнизоне Мирута. Если ты отправишься к нему и скажешь, что тебя прислал Ильдерим, он будет только рад такому прекрасному здоровому вояке — так что ты сможешь получить оружие и паек, а он ради меня и не подумает взять с тебя ассами.[93] Так, давай подумаем… — продолжал этот полоумный прохвост, — ты будешь пуштуном из Пешаварской долины. Нет, лучше сделаем тебя хазанзаем с Черной горы — они там все странные, склонные ко всяким сумасшедшим выходкам, так что на тебя не будут обращать особого внимания. Да, это мысль. Назовем тебя Маккарам-Хан, раньше ты служил в пешаварской полиции, так что знаком с обычаями сагибов; к тому же ты бывал и в перестрелках. Не бойся, Маккарам-Хан действительно жил на свете, пока я не застрелил его, когда был в отпуске. Он крикнет тебе шабаш[94] из пекла — в свое время он был отличным наездником. Правда, слишком беззаботным — иначе бы внимательнее следил за тем, кто прячется среди скал. Итак, Маккарам, — по-волчьи оскалился он, — готов ли ты предложить свое копье Сиркару? [XIII*]
Пока он говорил, я уже принял решение. У меня просто не было иного выхода. Если бы я только знал, к чему это приведет, я вбил бы предложение Ильдерима ему же в глотку, но в то время оно представлялось мне привлекательным.
— Подвязывай на ночь челюсть своим пуггари, не то сболтнешь чего во сне по-английски, — говорит он мне на прощание. — Будь мрачен, говори мало и служи хорошо, кровный брат, не опозорь Ильдерим-Хана.
Когда мы обменялись рукопожатием под сенью деревьев, пуштун рассмеялся и похлопал моего коня по седлу.
— Когда дорога приведет тебя назад, иди в храм Буйвола, что за Джокан-баг. Я буду посылать туда человека, чтобы ждал тебя по часу на закате и на рассвете. Салам, совар! — вскричал он, взяв под козырек, и я ударил пятками в бока моего пони, помчавшись легким галопом в предутреннем сумраке, все еще чувствуя себя как в дурном сне.
V
Вы могли бы подумать, что белому человеку невозможно сойти за туземного солдата Ост-Индской Компании, и правда — не думаю, чтобы кто-либо другой смог бы проделать это. Да, но в свое время мне пришлось побывать датским принцем, техасским работорговцем, арабским шейхом, псом-воином племени шайенов, лейтенантом американского флота — и это еще неполный перечень, — но ни одна из этих ролей ни в какое сравнение не идет с необходимостью пожизненно поддерживать образ британского офицера и джентльмена. Правда в том, что большую часть времени все мы живем под фальшивыми личинами — нужно только с уверенным лицом и с решительным видом двигаться вперед.
Я уже отмечал, что мой дар к освоению языков был моим самым важным капиталом, к тому же, как полагаю, я достаточно неплохой актер. В любом случае, мне достаточно часто приходилось играть роли азиатов-афганцев и прочих черномазых, так что не прошло и дня с начала моей поездки в Мирут, как я полностью преобразился, гнусаво распевая песенки с кабульского базара, свысока поглядывая на всех встречных и отвечая на приветствия похрюкиванием или рычанием. Первые три дня мне пришлось держать подбородок и рот прикрытыми, до тех пор пока моя борода дала вполне обнадеживающие ростки; помимо этого я не нуждался ни в какой маскировке, потому что сам был достаточно загорелым и грязным. К тому времени как я достиг Большого тракта, родная мать не узнала бы меня в огромном, волосатом разбойнике с приграничья, который скакал, небрежно покачивался в седле, вытащив ноги из стремян, с буйными черными кудрями, выбивающимися из-под пуггари; на седьмой же день, когда я с проклятьями протискивался на своем пони по запруженным толпами людей улицам Мирута, решительно, как настоящий хазанзай, расталкивая базарное отребье, я даже думал на пушту, и если бы вы предложили мне обед из семи блюд в «Кафе-Ройяль», я бы отказался от него в пользу тушеной баранины с рисом и вареными овощами.
Меня беспокоила только грядущая встреча с двоюродным братом Ильдерима, Гюлам-беком, которого мне предстояло разыскать в лагере туземной кавалерии за городом; он наверняка захочет повнимательнее присмотреться к новому рекруту и, стоит ему только заметить что-нибудь странное, мне придется здорово потрудиться, чтобы обман не раскрылся. Действительно, в последний момент мои нервы слегка разболтались и мне пришлось прогуляться пару лишних часов, прежде чем я набрался смелости предстать перед ним. Я проехал мимо лагеря пехоты и дальше — по мосту через нуллах[95] к бульвару британского городка; как раз когда я на своем пони не спеша трясся под деревьями, мимо проехала коляска с двумя английскими ребятами и их матерью, причем один из малышей взвизгнул от восторга и сказал, что я прямо как из сказки про Али-бабу и сорок разбойников. Определенным образом это меня подбодрило — в любом случае мне нужно было где-нибудь есть и спать, если уж я увильнул от своей службы. Так что в конце концов я все ж-таки объявился в штаб-квартире Третьего полка легкой туземной кавалерии и потребовал встречи с вурди-майором.
Как оказалось, мне не стоило беспокоиться. Гюлам-бек был крепким пожилым здоровяком с белоснежно-седыми бакенбардами и очками в серебряной оправе на носу, а когда я сказал, что меня рекомендовал Ильдерим-Хан из Могалы, то он просто расцвел. Так значит, я — хазанзай и раньше служил в полиции? Это хорошо, да и вид у меня бравый — безусловно, полковник-сагиб благосклонно отнесется к такому замечательному рекруту. А в армии я, случаем, не служил? Гм… Он насмешливо взглянул на меня и я постарался ссутулиться еще больше.
— Например, в полку Проводников, а? — проговорил Гюлам-бек, склонив голову набок. — Или в кутч-кавалерии? Нет? Значит тогда, несомненно, это случайное совпадение, что ты стоишь в уставных трех шагах от моего стола и держишь руки по швам большими пальцами вперед, а пони, на котором я тебя видел, оседлан и взнуздан в точности, как наши. — Он игриво хохотнул. — Прошлое человека — его личное дело, Маккарам-Хан — какая нам польза проявлять излишнее любопытство и вдруг узнать, что нашему новому «рекруту» когда-то уже пришлось покинуть службу Сиркару из-за мелочи, вроде междоусобицы или кровной мести, а? Ты пришел от Ильдерима — и этого достаточно. В полдень будь готов к встрече с полковником-сагибом.
Видите ли, он заподозрил во мне старого солдата, что было и к лучшему; поймав на маленькой лжи, ему и в голову не пришло заподозрить меня в большой. Похоже, он поделился своими умозаключениями и с полковником, потому что когда я сделал свой салам этому достойному офицеру на веранде комнаты для адъютантов, он оглядел меня с ног до головы и сказал вурди-майору по-английски:
— Неудивительно, что вы оказались правы, Гюлам-бек, он явно и раньше был на службе, это ясно. Наверное, ему просто наскучила гарнизонная рутина и одной прекрасной ночью он улизнул, прихватив с собой с полдюжины винтовок. А теперь, перерезав не ту глотку или угнав не то стадо, он снова вернулся на юг, чтобы избежать мести. — Полковник откинулся на стуле, поглаживая пальцами седые усы, закрывавшие большую часть его багрового лица. — Какой уродливый дьявол, а? Хазанзай с Черной горы, не так ли? Ха, так я и думал. Очень хорошо…
Он обернулся ко мне, нахмурился и очень медленно произнес: «Компани кавалри апка мангта?», что в переводе мерзко искаженного урду должно было означать: «хочу ли я вступить в кавалерию Компании?» На что я показал зубы в широкой улыбке и произнес: «Хан, сагиб» и подумал, что мог бы и еще сыграть в свою пользу, выдав кое-какие свои военные знания. Я кивнул головой, наклонился вперед и протянул ему рукояткой вперед свой хайберский клинок в ножнах — на что полковник расхохотался и коснулся ее, приговаривая, что Гюлам-бек, несомненно, прав и я знаю слишком много для парня, который никогда раньше не служил в армии. [XIV*] Он приказал мне поклясться и я присягнул на обнаженном лезвии сабли, съел щепотку соли, после чего мне было сказано, что теперь я — новый стрелок Третьего полка туземной легкой кавалерии, что мой даффадар — Кудрат-Али, что мне будут платить рупию в день с ежеквартальными премиальными надбавками и что, поскольку я привел свою лошадь, меня освободят от обычного рекрутского вклада. Еще мне сказали, что если я хоть наполовину такой хороший солдат, как это подозревает полковник, и буду держать свои руки подальше от чужих глоток и собственности, то в свое время я могу ожидать продвижения по службе.
Так я получил новый пуггари, полусапожки, полотняные бриджи, новый и очень красивый шитый серебром мундир, форменную саблю, пояс, нагрудный патронташ и кучу сбруи, которая была настолько старой и заскорузлой, что могла служить еще при Ватерлоо (так оно, вероятнее всего, и было). Хавилдар, жующий бетель, предупредил меня, что если я не доведу ее до блеска к следующему утру, то буду иметь кучу неприятностей. Затем он отвел меня в арсенал, где показал (запомните это хорошенько!), новый нарезной английский мушкет Энфилда, с серийным номером 4413 — некоторые вещи солдат никогда не забывает — который, как мне было сказано, с этого момента был закреплен за мной и который был более драгоценен, чем моя вшивая солдатская туша.
Машинально я взял ружье в руки и проверил работу замка, как множество раз проделывал это в Вулвиче, что вызвало остолбенение у индуса-арсенальщика.
— Кто тебя этому научил? — спросил он. — И кто разрешал тебе трогать его, ты, свинья из джунглей?! Тебя привели посмотреть, а получать мушкет ты будешь только для парадов. — И он выдернул оружие у меня из рук.
Я подумал, что будет полезно немного проявить характер, так что, выждав, пока он отвернется, достал свой хайберский нож и метнул его с таким расчетом, чтобы клинок вошел в деревянную стену в футе или около того перед ним. Рука немного дрогнула — нож вошел в стену, но по пути он задел руку моего начальника и тот со стоном повалился на пол, зажимая окровавленный рукав.
— Принеси мне нож! — прорычал я ему, оскалившись, и, когда он с трудом поднялся на ноги и, посерев от испуга, протянул мне его, я коснулся острием его груди и произнес: — Попробуй только еще раз назвать свиньей Маккарам-Хана, ты, улла кабаджа[96] и я этим самым острием сделаю кебаб[97] из твоих глаз и яиц.
Затем я дал ему лизнуть крови с лезвия ножа, плюнул ему в лицо и после этого почтительно осведомился у хавилдара, что я должен делать дальше. Тот, будучи мусульманином, был всецело на моей стороне и сказал, улыбаясь, что из меня выйдет отличный рекрут. Он рассказал об этом инциденте моему десятнику, Кудрату-Али, после чего по нашей большой казарме поползли слухи, что Маккарам-Хан — настоящий рубака, рожденный в седле, который сначала бьет, а потом спрашивает. И пусть он несомненный нарушитель границ и возмутитель спокойствия, но все же человек, который знает, как следует наказывать индусов за дерзость, а потому — достойный уважения.
Так вот я — полковник Гарри Пэджет Флэшман, служивший ранее в Одиннадцатом гусарском, Семнадцатом уланском и при штабе, бывший адъютант главнокомандующего — стал добровольцем-соваром разведывательного эскадрона Третьего кавалерийского полка Бенгальской армии, и если вы скажете, что меня занесло сюда сумасшедшее стечение обстоятельств, я с вами, пожалуй, соглашусь. Но как только я сам оценил всю нереальность происходящего и перестал бояться, что кто-нибудь сможет узнать меня в моей новой роли, то устроился достаточно удобно.
Поначалу было жутко непривычно сидеть на моей чарпаи[98] у стены, сняв пуггари, расчесывая волосы или натирая маслом упряжь, и, оглядывая комнату, видеть повсюду полуголые смуглые фигуры, которые болтали и смеялись — о тех вещах, про которые всегда говорят солдаты: о женщинах и офицерах, про казарменные сплетни и про женщин, о пайках и рационах — и снова о женщинах. Правда, говорили они на чужом языке, на котором, впрочем, я болтал не хуже их, причем изображал даже настоящий приграничный акцент, вовсе мне не свойственный. Как я уже говорил, я старался даже думать на пушту и при этом должен был постоянно держать себя в руках и помнить, кем я должен казаться. И все же туземные солдаты избегали обращаться ко мне с излишней фамильярностью, и даже наик,[99] у которого я официально находился в подчинении, готов был вытянуться по стойке «смирно», стоило мне пристально посмотреть в его сторону. Когда парень, занимающий соседнюю койку, Пир-Али, веселый мерзавец из племени белуджи, в первый же вечер хлопнул меня по плечу, предлагая сходить на базар, я недоуменно уставился на него, еле-еле сдержавшись, чтобы не воскликнуть: «Черт бы побрал твою дерзость!» — эти слова уже вертелись у меня на языке.
Это было непросто, так же как приветствовать командиров, подчиняться правилам и самому готовить себе обед на чуле.[100] Приходилось опасаться тысячи разных мелочей — я должен был помнить о том, чтобы сидя не закидывать ногу на ногу, не сморкаться, как это делают европейцы, и даже не произносить недоуменное: «М-м?», если кто-то сказал что-либо для меня непонятное, или прочищать глотку в деликатной британской манере, а также делать что-нибудь еще чертовски странное для жителя афганского приграничья. [XV*]
Конечно, мне случалось ошибаться — раз-другой я проявил незнание вещей, которые должны были быть мне привычными, например, как жевать маджун,[101] когда Пир-Али как-то угостил меня (время от времени вы должны сплевывать в руку, иначе можно отравиться), или как разделать овечий хвост для карри, или даже как точить нож в привычной манере. Когда кто-нибудь замечал мою ошибку, я просто пристально смотрел на него и глухо рычал.
Но чаще всего опасность таилась в тех знаниях, которые просто не могли быть известны Маккарам-Хану. Например, когда Кудрат-Али давал нам уроки владения клинком, я как-то поймал себя на том, что порой принимаю позицию «отдыха», заимствованную от одного германского фехтовальщика (хотя вряд ли кто во всей Индии смог бы это заметить), а в другой раз, вспоминая наши тяжкие денечки в Рагби, я как-то за чисткой сапог начал напевать «Красотка из Уиддикомба» — к счастью, чуть слышно. Самую же большую ошибку я совершил, когда прогуливался неподалеку от площадки, на которой британские офицеры играли в крикет. Мяч полетел прямо на меня — не подумав, я подхватил его и уже собирался бросить сквозь калитку, но, к счастью, опомнился и швырнул его обратно, неуклюже как только мог. Один или двое играющих посмотрели на меня, и я слышал, как кто-то из них заметил, что «из этого черномазого мог бы выйти неплохой игрок». Это насторожило меня и я стал вести себя еще более осторожно.
Как я вскоре понял, наилучшим для меня было говорить и делать как можно меньше, изображая из себя сурового, сдержанного горца, который предпочитает гулять сам по себе и которого лучше всего не задевать. То, что я так кстати оказался протеже вурди-майора и к тому же хазанзаем (что оправдывало мои эксцентричные выходки), привело к тому, что ко мне стали относиться с должным почтением. Мои внушительные размеры и грозный вид довершили остальное, так что большую часть времени я проводил в одиночестве. Пару раз я прогулялся с Пир-Али, чтобы посидеть на старом рынке, поглазеть на доступных девчонок и даже поразвлечься с ними где-нибудь в подворотне, однако он нашел мою компанию довольно скучной и предоставил меня моим размышлениям.
Как вы догадываетесь, поначалу это была не слишком веселая для меня жизнь — но пока альтернативы у меня не было. Солдатская служба не была трудной, и я быстро завоевал отличную репутацию у своего наика и джемадара[102] за ловкость и сообразительность, с которыми я исполнял свои обязанности. Поначалу мне было в новинку — учиться, работать, есть и спать с тремя десятками других индийских солдат — как будто жить по ту сторону решетки в обезьяннике — но когда вы замкнуты в небольшом мирке, четырьмя углами которого стали казарма, чула, конюшни и майдан, можно сойти с ума от необходимости постоянно находиться в обществе представителей низшей и чуждой расы, с которыми у вас общего не более, чем если бы они были русскими мужиками или бродягами с болот Ирландии. Это чувство становилось в десять раз тяжелее от сознания того, что всего в одной-двух милях люди вашего круга ведут жизнь полную, домашнего комфорта, — пьют барра, порции горячительного, курят отличные сигары, флиртуют и кувыркаются с белыми женщинами, да еще едят на десерт мороженое. Видите ли — я уже не был столь очарован пловом из барашка, приготовленным на гхи,[103] как раньше. Каждую ночь я мечтал снова поговорить с кем-нибудь по-английски, вместо того чтобы слушать болтовню Пир-Али о том, как он в последнем увольнении оседлал жену вождя местной деревни, бесконечные детали судебного процесса, который вел дядюшка Сита Гопала, жалобы Рама Мангла на хавилдара или скулеж Гобинда Дала насчет того, что он с братьями, оказавшись на военной службе, утратили значительную часть своего влияния, которым ранее наслаждались в своей деревне в Ауде, теперь занятой Сиркаром.
Когда становилось совсем невмоготу, я шел на бульвар и там пялился на прогуливавшихся мэм-сагиб,[104] с их большими круглыми шляпами и зонтиками, да на галопирующих офицеров, которые лишь подстегивали лошадей, когда я щелкал каблуками своих громадных сапог, отдавая им честь или же торчал возле церкви, чтобы услышать, как по воскресеньям мои соотечественники распевают «Ледяные горы Гренландии». Черт побери, я потерял своих милых англичан, причем все было гораздо хуже, чем если бы они были за сотни миль от меня. И что странно, но думаю, больше всего меня терзала мысль, что если вдруг рани даже и увидит меня в моем теперешнем положении, то, скорее всего, даже меня не заметит. Тем не менее, все это нужно было перенести — стоило только вспомнить об Игнатьеве — так что я возвращался в казармы и лежал, сердито насупившись, слушая солдатскую болтовню. И это принесло свои плоды — уже за три недели я узнал об индийских солдатах больше, чем за всю свою службу раньше.
Однако вскоре я понял, что дела с ними обстоят не так хорошо, как могло показаться на первый взгляд. В большинстве своем это были мусульмане с севера, немного разбавленные индусами высшей касты из Ауды — формирование воинских подразделений по национальному признаку тогда еще не вошло в практику. Это были отличные солдаты — Третий полк хорошо зарекомендовал себя в последней Сикхской войне,[105] а некоторые из них успели послужить и на границе. Но они не были счастливы — ловкие и грозные на параде, по вечерам они сидели мрачнее тучи. Поначалу я думал, что причина в обычной армейской суровости, но это было не так.
Сперва я слышал лишь туманные намеки, которые не хотел конкретизировать, боясь проявить свое незнание обстановки, — солдаты говорили об одном из священников гарнизона, сагибе Рейнольдсе, и про то, что полковник Кармик-аль-Исмит (так они называли командира Третьего полка Кармайкл-Смита) должен бы убрать его; говорили и об испорченной муке, про Акт вербовки, но я не обращал на все это особого внимания, пока однажды ночью совары из Ауды не вернулся с базара в страшном волнении. Не помню, как его звали, но вот что произошло. Наш солдат собирался принять участие в состязаниях по борьбе с одним из местных силачей, однако прежде, чем после схватки он успел натянуть рубаху, какой-то англичанин из гвардейских драгун в шутку разорвал священный шнурок, который совары носил на плече, прямо на голом теле — как это было принято у индусов его касты.
— Банчутс![106] Подонок! — индус чуть не плакал от гнева. — Он оскорбил меня — теперь я нечист!
И не смотря на то, что товарищи пытались его успокоить, говоря, что он сможет достать новый шнурок, благословленный святым человеком, солдат продолжал сыпать проклятьями — знаете, индусы очень серьезно относятся к подобным вещам, вроде как евреи и мусульмане к поеданию свинины. Вам это может показаться глупым, но чтобы вы почувствовали, если бы какой-нибудь черномазый взял да и помочился прямо в церкви?
— Я пойду к сагибу-полковнику! — воскликнул он наконец, и один из индусов, Гобинда Дал, ухмыльнулся:
— Что ему до этого — разве человек, который портит нашу атту[107] станет наказывать английского солдата за такую безделицу?
— Что это за дело с мукой? — спросил я Пир-Али, и он пожал плечами.
— Индусы говорят, что сагибы подмешивают в муку для сипаев молотые коровьи кости, чтобы уничтожить их касту. Что касается меня, то пусть они уничтожат хоть все их дурацкие касты — пожалуйста.
— Но какой смысл им делать это? — спросил я.
Сита Гопал, услышав, сплюнул и сказал:
— Где ты жил все это время, хазанзай? Сиркар уничтожит касты всех людей в Индии, а потом примется и за мусульман: в атте попадаются и толченые кости свиней, если ты этого не знал. Наик Шер-Афзул из второго эскадрона говорил мне — разве он сам не видел этого на фабрике сагибов в Канпуре?
— Это отрыжка глупой обезьяны, — буркнул я. — Кой прок сагибам в том, чтобы делать вашу пищу нечистой — разве только для того, чтобы солдат злить?
К моему удивлению, с полдюжины солдат громко воскликнули, услышав это: «Слушайте, что говорит мунши[108] с Черной горы!» «Сагибы так любят своих солдат, что позволяют британским кавалеристам рвать наши священные ленты!» «Разве ты не слышал об уборщике из Дум-Дум, Маккарам-Хан?» — и так далее. Рам Мангал, самый болтливый из индусов, презрительно сплюнул:
— Все это связано с разговорами нашего падре-сагиба, и новыми правилами, по которым наших воинов хотят посылать через кала пани — так они хотят уничтожить наши касты, чтобы сделать из нас христиан! Неужели об этом ничего не слыхали в твоих краях, горец? Ведь об этом говорят во всей армии!
Я проворчал, что не обращаю внимания на сплетни в нужнике — особенно, если этот нужник — индусский, на что один из воинов постарше, Сардул, или кто-то другой, покачал головой и серьезно сказал:
— Это не сплетни из отхожего места, Маккарам-Хан, — вести пришли из арсенала Дум-Дум.
И я впервые услышал невероятную историю, в которую, как в откровение Господне, верил каждый сипай в Бенгальской армии — историю об уборщике из Дум-Дума, который как-то попросил у сипая высшей касты выпить воды из его чашки. Получив отказ, этот несчастный посоветовал сипаю не быть столь дьявольски заносчивым, так как сагибы хотят уничтожить все касты среди солдат, натирая патроны коровьим и свиным жиром.
— Так оно все и было, — уверенно закончил старый Сардул, а он был из тех старых солдат, к которым прислушивались, — тридцать лет выслуги, медаль за Аливал и чистейший послужной список, черт его побери. — Разве не поступили в арсенал новые мушкеты Энфилда? Разве не приготовлены для них патроны в смазке? Как же теперь нам придерживаться правил нашей веры?
— Говорят, джаванам[109] в Бенаресе разрешили самим смазывать патроны, — заметил Пир-Али, но на него зашикали. [XVI*]
— Так говорят! — воскликнул Рам Мангал. — Это вроде тех историй, которые сочиняют о том, что для смазки используют только бараний жир — но если бы это так и было, то зачем бы нужно было каждому готовить свою смазку? Все это ложь, так же как и Акт о вербовке, когда нам твердят, что он касается только снабжения и никого не заставят ехать на службу за море. Спросите в Девятнадцатом полку, не говорили ли офицеры, что солдатам придется служить в Бирме, если они станут отказываться от патронов в нечистой смазке! Но только они откажутся — вот тогда и посмотрим! — Он отчаянно взмахнул рукой. — Нечистая атта — еще одно звено этой цепи, подобно проповедям, которые бормочет эта старая сова Рейнольдс-сагиб про своего Иисуса и которые Кармик-аль-Исмит разрешает ему вести нам на горе. Он хочет опозорить нас!
— Это абсолютная правда, — мрачно подтвердил Сардул, — но я все же не поверил бы в это, если бы такой сагиб, как мой старый майор Макгрегор — не он ли в Кандагаре принял на себя пулю, предназначенную мне — посмотрел мне в глаза и сказал, что это — ложь. Жаль только, что Кармик-аль-Исмит не такой, и сегодня таких сагибов уже не осталось, — добавил старый солдат с горечью, — а сама армия — лишь жалкое подобие того, чем была когда-то. Знали бы вы сегодня, какие были офицеры — если бы видели Сэйл-сагиба или Ларринш-сагиба[110] или сагиба Коттона — вот это были люди! — (Поскольку Сардул служил в Афганистане, я ждал, что он назовет и имя Ифласс-ман сагиба, но он так и не сделал этого, старый ворчливый ублюдок.) — Они бы скорее умерли, чем покрыли бесчестьем своих сипаев; они называли нас своими детьми и мы были готовы идти за ними даже в преисподнюю! Но теперь, — тут он снова покачал головой, — все это кутч-сагибы, не пукка-сагибы, да и рядовые английские солдаты ничуть не лучше. В дни моей юности английский воин называл меня братом, протягивал мне руку, предлагал мне свою флягу с водой (конечно же, не понимая, что я не могу взять ее). А теперь эти ничтожные людишки плюют на нас, называют нас обезьянами и хубши, и рвут наши священные шнурки!
Большая часть всех этих разговоров была полной ерундой и я не сомневался, что тут не обошлось без провокаторов, разжигающих недовольство всеми этими бессмыслицами насчет смазки для патронов и нечистой пищи. Я чуть не сказал об этом вслух, но подумал, что будет неразумно привлекать к себе внимание — да и к тому же, по большей части, это не была столь уж горячая тема, чтобы воспринимать ее слишком серьезно. Я знал, что все солдаты уделяют крайне серьезное внимание своей религии — в особенности индусы — и предполагал, что если инциденты вроде этого, со священным шнурком, возмутят их, все старые обиды выплывут наружу — но вскоре буду забыты. Однако должен признаться, что то, что Сардул сказал про британских офицеров и солдат, напомнило мне о предчувствиях Николсона. С момента моей вербовки на службу я редко видел британских офицеров, кроме как на парадах. Похоже, они с полным спокойствием оставляли свои войска на джемадаров и прочих унтер-офицеров — конечно же, «Мусор Эддискомба» [XVII*] — и, несомненно, порядка в британских частях гарнизона Мирута было значительно меньше, чем, скажем, в Сорок четвертом полку, памятном мне по прежним афганским денькам или полку горцев Кэмпбелла.
Я получил явное доказательство этому день или два спустя, случайно столкнувшись на базаре с драгуном: этот грубиян пер напролом и наступил мне на ногу.
— С дороги, черномазый ублюдок! — заорал он, не видишь, что-ли, банчутс, что перед тобой сагиб?
Драгун замахнулся было на меня кулаком, но я просто положил руку на рукоять моего ножа и глянул исподлобья — и тот не решился ни на что большее. — Иисусе! — только и проговорил он и прибавил шагу.
Лишь отойдя на другой конец улицы, он отважился поднять камень и швырнуть им в меня — разбив какое-то блюдо на лотке неподалеку — и смылся.
«Я запомнил тебя, парень, — подумал я, — и настанет день, когда тебя схватят и наславу выпорют». (Что я и сделал, когда возникла возможность.) Я никогда еще не был так зол — этот негодяй, зачатый в помойной канаве Уайтчепела, посмел наступить мне на ногу! Стоит сказать, что если бы двумя месяцами раньше он сделал бы то же самое с каким-то туземным солдатом, я бы и глазом не моргнул — да и теперь, наверное, тоже: эти черномазые понимают только пинки. Но я — совсем другое дело и должен вам сказать, что чувствовал я себя после этого препаршиво, так как не мог отплатить этой свинье той же монетой. Так что старый Сардул во многом был прав. Британцы теперь не испытывали к туземным солдатам того уважения, как в мои юные годы; возможно, мы тоже раздавали черномазым затрещины и пинки (помню, я и сам это делал), но все же к сипаям относились получше, чем к остальным.
Сомневаюсь также, чтобы кто-нибудь из командующих прежних дней допустил что-либо вроде парадов с проповедями, на которые решился Кармайкл-Смит. Сначала я было не поверил казарменным сплетням, но уже в первое же воскресенье, этот англиканский факир с физиономией гробовщика, преподобный Рейнольдс, делал нам смотр на майдане и нам пришлось выслушивать в его исполнении притчу о блудном сыне — как вам это понравится? Рейнольдс читал нам ее по-английски из Библии, а риссалдар, ощетинившись бакенбардами, стоял рядом по стойке «смирно», в полном парадном мундире, и орал на весь плац свой собственный перевод:
— У заминдара[111] было два сына. Это был сумасшедший заминдар, поскольку он еще при своей жизни отдал младшему его часть наследства. Несомненно, ему пришлось занять для этого денег у ростовщика. Конечно, младший сын потратил все, кувыркаясь со шлюхами на базаре и без меры потребляя шераб.[112] А когда деньги закончились, он вернулся домой, а его отец выбежал встретить его, так как был очень рад — одному Богу известно, почему. И в глупости своей, этот сумасшедший отец убил свою единственную корову — он, очевидно, не был индусом — и они праздновали, поедая ее мясо. А старшему сыну, который был очень ответственным и оставался дома, стало завидно — не могу сказать, почему — разве что корова составляла его часть наследства? Но отец, который не любил старшего сына, отругал его. Эта история была рассказана Иисусом евреям, и если вы поверите в нее, то не попадете в рай, а вместо этого воссядете по правую руку английского лорда Бога-сагиба, который живет в Калькутте. И там вы будете играть на музыкальных инструментах по приказу Сиркара. Парад — р-разойдись!
Не знаю, когда мне еще более пришлось устыдиться моей церкви и моей страны. Я не более религиозен, нежели любой человек — то есть я соблюдаю все внешние приличия и по праздничным дням читаю вслух заповеди Господни, потому что этого ожидают от меня мои арендаторы — но я никогда не был таким дураком, чтобы путать религию с верой в Бога. Многие священнослужители вроде этого невыразимого Рейнольдса поступают неправильно — и самоуверенно остаются слепыми ко всему тому злу, которое могут нанести. Этот идиот был так упоен своими проповедями, что просто не мог понять, каким он выглядит дурно-воспитанным и агрессивным. Полагаю, он считал индусов высоких каст упрямыми детьми или пьяными уличными торговцами — грешными и недалекими, но вполне созревшими для стези спасения, если только он укажет им путь. Он стоял, со своим елейным жирным лицом и поросячьми глазками, благословляя нас с пеной у рта, в то время как мусульмане едва сдерживали смех, а индусы — просто кипели от возмущения. Лично я бы нашел все это забавным, если бы не мысль, что все эти безответственные христианские подвижники только осложняют проблемы для армии и Компании, у которых и без того хватает работы. Все это было глупо и абсолютно не нужно — ведь всех этих языческих суеверий, несмотря на их кажущуюся бессмысленность, все же было достаточно для того, чтобы держать это отребье в узде — а для чего же еще нужна религия?
Тем не менее подобные дикие попытки спасти души индийцев предпринимались не только в Мируте, но и во многих других местах, в зависимости от религиозного пыла местных командиров и, по моему мнению, стали основной причиной последовавших волнений. [XVIII*] Я не одобрял этого — но не мог ничего с этим поделать. Кроме того, были и более важные вещи, которым мне следовало уделять внимание.
Через несколько дней после парада на майдане было устроено место для состязаний — гимхана, а я должен был выступать от разведчиков в соревнованиях по незабази.[113] Помимо моих успехов в освоении языков и любовных приключениях, кавалерийское дело было моим единственным достоинством, а владеть пикой меня еще раньше здорово научил Мухаммед Икбал, так что неудивительно, что я собрал больше всего колец и собрал бы еще больше, если бы подо мной был более известный мне скакун и если бы моя пика не треснула в последнем заезде. Но и этого было достаточно, чтобы взять приз и старый Кровавый Билли Хьюитт, командир гарнизона, почтил сломанное острие моей пики перед шатром, в котором собрались сливки Мирутского общества — леди вежливо поаплодировали, сидя в своих кринолинах, а джентльмены стояли за их стульями.
— Шабаш, совар, — сказал Кровавый Билли, — где ты научился так владеть пикой?
— В пешаварской долине, хузур, — почтительно ответил я.
— В кавалерии Компании? — поинтересовался он и я сказал, что нет, в пешаварской полиции.
— Я и не знал, что у них там когда-то служили уланы, — смеясь сказал ему на ухо по-английски Кармайкл-Смит, стоявший неподалеку.
— Не более, чем сейчас, сэр. Полагаю, тут более щекотливое дело — как я заметил, эта пташка поет, что никогда раньше не служил Сиркару, но у него же на лбу написано, что он — Проводник. Я бы не удивился, если бы он оказался риссалдаром — ну или, по меньшей мере, хавилдаром. Но мы не задаем неудобных вопросов, не так ли? В любом случае — он чертовски хороший рекрут.
— А-а, — протянул Хьюитт, улыбаясь (он был жирным старым болтуном), — ну, тогда не о чем и говорить.
Я как раз отдавал ему честь, когда налетел легкий порыв ветра, который подхватил лежащие перед ним бумаги и бросил их под копыта моему пони. Как заправский подхалим, я спрыгнул с седла, собрал их и, машинально, положил на стол, придавив сверху чернильницей — обычная, заурядная вещь — но я услышал удивленный вскрик и, обернувшись, увидал Даффа Мейсона, одного из пехотных полковников, который с изумлением вытаращился на меня. Я пробормотал «Салам», отдал честь и через секунду оказался в седле. Тут за призом вызвали следующего солдата, но, поворачивая своего пони, я все еще видел Мейсона, который с озадаченной улыбкой смотрел мне вслед, говоря что-то стоящему рядом с ним офицеру.
«Ого, — насторожился я, — неужели он что-нибудь заметил?» Но я и не думал, что сделал что-либо, что могло бы выдать меня — до тех пор пока следующим утром риссалдар не вызвал меня из строя и не приказал срочно прибыть в штаб полковника Мейсона в британском лагере. Я отправился туда с упавшим сердцем, ломая голову над тем, что, ко всем чертям, я буду делать, если ему удастся раскусить мою маскировку.
— Маккарам-Хан, не так ли? — спросил Мейсон, когда я стал по стойке «смирно» на его веранде, проделав ритуал касания эфеса. Это был высокий, живой, жилистый малый, с острыми глазками, которыми он ощупывал меня. — Хазанзай, полицейский из Пешавара, всего несколько недель на военной службе?
Он хорошо говорил на урду, а значит, был смышленее остальных офицеров, так что в животе у меня тревожно заныло.
— Ну, что ж, Маккарам, — сказал он почти нежно, — я не верю тебе, да и твой полковник тоже. Ты — старый солдат, ты так ездишь верхом, у тебя особая осанка и более того — тебе приходилось командовать. Не перебивай меня! Никто не пытается заманить тебя в ловушку или выяснять, сколько глоток ты перерезал в свое время в Хайбере — мне это неинтересно. Сегодня ты здесь — обычный совар, но при этом совар, который так ловко собирает бумаги, что можно подумать — ему подавали их на подпись так же часто, как и мне. Несколько необычно для пуштуна — даже если он повидал службу, не так ли?
— В полиции, хузур, — произнес я деревянным голосом, — много китабов[114] и бумаг.
— Конечно, конечно, — закивал головой он и вдруг добавил, плавно перейдя на английский: — А что там у тебя на правой руке?
Я и глазом не повел, но моя рука непроизвольно вздрогнула и Мейсон, рассмеявшись, откинулся на стуле, очень довольный собой.
— Я сообразил, что ты понимаешь по-английски, когда командующий говорил перед тобой с вашим полковником, — наконец пояснил он. — У тебя это было видно по глазам. Ладно, не волнуйся — все это к лучшему. Однако смотри, Маккарам-Хан — что бы ты ни натворил, кем бы ты ни был, стоит ли хоронить себя заживо рядовым в туземном пултане?[115] У тебя есть знания и опыт — так почему бы не использовать их? Сколько тебе придется служить в твоем нынешнем качестве, чтобы стать субедаром[116] или даже хавилдаром? Двадцать-тридцать лет службы. Вот что я тебе скажу — ты можешь сделать кое-что получше.
Конечно, было огромным облегчением услышать, что моя маскировка по-прежнему надежна, но все же я не хотел выделяться каким бы то ни было образом. Однако я почтительно слушал, и Мейсон продолжал:
— У меня был ординарец-пуштун, Айюб-Джан. Первоклассный парень, провел со мной десять лет, но теперь он поехал на родину, чтобы вступить в права наследства. Мне нужен кто-нибудь, чтобы заменить его. Ты помоложе и выглядишь даже сообразительнее — или я ничего не понимаю в воинах. Причем твой предшественник не был обычным ординарцем — ему никогда не приходилось исполнять обязанностей лакея; я и не пытался требовать от него чего-то подобного — ведь он был из племени юсуфзаев и джентльменом — как, полагаю, и ты сам? — Он внимательно смотрел на меня, улыбаясь: — Так что я хочу иметь рядом человека дела — такого, кому я мог бы доверять как солдату, посланнику, адъютанту, проводнику, кто мог бы прикрыть мне спину, — он пожал плечами. — Когда вчера я увидел тебя, то подумал: «Вот такой человек». Ну, что скажешь?
Мне нужно было думать быстро. Если бы я мог посмотреть на себя в зеркало, то, полагаю, что увидел бы именно такого дикаря, какой мог понадобиться Даффу Мейсону. Пуштуны были лучшими ординарцами-телохранителями и просто друзьями, как я уже мог убедиться в этом на примере Мухаммеда Икбала и Ильдерима. К тому же это будет приятное разнообразие по сравнению с казармой, но и рискованное при том. Это привлечет ко мне внимание; но с другой стороны, все мои проявления знакомства с бытом англичан могут теперь объясняться моим таинственным прошлым, которое, по мнению Мейсона и Кармайкл-Смита, у меня есть. Я колебался, и полковник спокойно заметил:
— Ты думаешь, что если покинешь казармы, то тебе будет грозить большая опасность — например, быть узнанным полицией или нежелательной встречи со своим прошлым… так этого не стоит опасаться. При необходимости всегда найдется быстрая лошадь и дустук,[117] чтобы вернуться в свои Черные горы.
Забавно — он думал, что я боюсь разоблачения, как дезертир или разбойник с пограничья, в то время как единственной моей заботой было не дать себя расшифровать как британского офицера. «Ирония судьбы», — подумал я и сказал, что принимаю его предложение.
— Спасибо тебе, Маккарам-Хан, — сказал Мейсон и кивнул на столик, который стоял за его креслом у перегородки: на нем лежала обнаженная сабля, и я понял, что он от меня ожидает.
Я подошел и протянул руку к лезвию — при этом я встал так, что со своего места он не мог различить, касаюсь ли я клинка или нет. «Старая увертка», — подумал я, но вслух произнес:
— Клянусь клинком и эфесом, я — твой человек и солдат!
— Отлично, — проворчал он, и когда я повернулся, протянул мне руку. Я пожал ее и, внутренне улыбаясь, проговорил:
— Не бойтесь, хузур, вы почувствуете запах лука на своих пальцах.
Видите ли, я знал, что для того, чтобы убедиться в истинности моей клятвы, он натер лезвие луком, так что потом мог бы проверить, касался ли я острия или нет. Пуштун, который собирается нарушить свою клятву, не дотронулся бы до клинка и, следовательно, его рука не пахла бы луком.
— Клянусь Юпитером! — воскликнул он и быстро обнюхал свою руку.
Затем он рассмеялся и сказал, что я настоящий пуштун по своей хитрости и перед нами славное будущее.
Должен сказать, что так оно и было — учтите, что наша совместная служба длилась недолго, но все это время я жил в свое полное удовольствие, играя роль мажордома в его хозяйстве, так как вскоре понял, что именно это от меня и требовалось. Его бунгало был обширным, аккуратным и располагался на восточной стороне бульвара, неподалеку от лагеря английской пехоты. В доме было около трех десятков слуг, а поскольку в доме не было соответствующей мэм-сагиб, а его хансамах[118] был почти старой развалиной, то порядка там вовсе не было. Так что вместо того, чтобы держать меня в своей полковой штаб-квартире, где мне нечего было делать, кроме как стоять столбом с угрюмым и свирепым видом, Дафф Мейсон решил, что я начну свою деятельность с того, что приведу его дом и прислугу в пукка-порядок (как я понимаю, Айюб-Джан в свое время сделал нечто подобное), и я занялся этим. Видите ли, Флэши оказался мастером на все руки: всего за несколько месяцев я успел побывать: джентльменом на отдыхе, штабным офицером, секретным политическим агентом, послом и сипаем — так почему бы для разнообразия не сыграть роль черномазого мажордома?
Вам это может показаться странным — и, учитывая мое прошлое, мало подходящим для меня делом, — но я щелкал новые проблемы как семечки. Мне и без того пришлось вести достаточно необыкновенное существование и я так дьявольски скучал в синайских казармах, что полагал себя готовым к любому времяпрепровождению, которое не требовало бы у меня слишком больших усилий. Работа у Даффа Мейсона оказалась настоящим счастливым билетом: я прекрасно устроился, имел лучшую еду и питье, собственную маленькую удобную койку в уютном уголке — и при этом никаких дел, за исключением обязанностей гонять слуг. Этим я и занимался с искренним удовольствием и вскоре так запугал этих дикарей, что все в доме заработало как часы. Словом, о более приятном вынужденном пребывании в Мируте не приходилось и мечтать. (Между нами, я даже подумал было, что если бы был более низкого происхождения, то из меня мог получиться чертовски ловкий дворецкий для какого-нибудь клуба или городского дома. Отличная работа — почаще говорить «Да, милорд», гонять лакеев, ставить выскочек на место, а на досуге — попивать хозяйский портвейн и покуривать сигары с лучшими из слуг.)
Я уже говорил, что подходящей мэм-сагиб в доме не было, что значит — не было жены полковника, чтобы управлять хозяйством, потому-то и понадобился я. Но фактически здесь были две белые женщины — абсолютно бесполезные для управления слугами — мисс Бланш, худая склочная незамужняя стерва, которая приходилась сестрой полковнику, и миссис Лесли, его дальняя родственница, которая также была соломенной (или настоящей) вдовой, напоминающей мне обычную матросскую шлюху. Это была пухлая женщина с бледной кожей и вьющимися рыжими волосами, вечно пялящая глаза на гарнизонных офицеров, с которыми она постоянно флиртовала и каталась верхом, если только не сидела, развалившись, на веранде, объедаясь сладостями. (Я лишь быстро окинул взглядом обоих дам, когда Дафф Мейсон впервые привел меня в дом, — мы, черномазые слуги, знаем свое место — а вместо них положил глаз на маленькую смугляночку — помощницу кухарки, с дерзким ротиком и пухлым задом).
Короче говоря, обе леди не могли мне ничем помочь в исполнении новых обязанностей, зато появилась третья — капитанша миссис Макдауэлл, которая жила рядом на бульваре и в первый же вечер заглянула к нам, якобы для того, чтобы попить чаю с мисс Бланш, а на самом деле — удостовериться, что новый ординарец Мейсона начал свою службу с нужных шагов. Это была пожилая, широкая в кости шотландка с рысьими глазками, чем-то похожая на мою тещу — тип женщины, которые больше всего на свете любят влезать в чужие дела и готовы посвятить этому всю свою жизнь. Она появилась, когда я распаковывал свои вещи. Я почтительно поздоровался, а гостья пронзительно взглянула на меня и требовательным тоном поинтересовалась, говорю ли я по-английски.
— Вот что, Маккарам-Хан, ты сделаешь в первую очередь, — важно сказала она, — в этом доме жуткий беспорядок; ты же сделаешь так, чтобы он стал лучшим в гарнизоне, после дома генерала Хьюитта, конечно. Этого можно достигнуть, если каждый из слуг всегда будет на своем месте — а если у тебя достанет ума, ты постоянно будешь это проверять. Мой отец, — продолжала она, — обычно порол слуг каждые два дня, после завтрака. Итак, имеешь ли ты хоть какое, хотя бы малейшее представление, о том, как добиться порядка? Полагаю, что нет.
Я покорно ответил, что мне приходилось бывать в домах сагибов.
— Ну, ладно, — милостиво прокудахтала эта старая клуша, — тогда слушай меня. Первой твоей задачей будет навести порядок на кухне — без этого невозможно жить в доме. Я обедала здесь как-то два дня назад и испытала отвращение. Так вот, я приготовила список, — она вытащила из сумочки пачку листов, — полагаю, ты не умеешь читать? Ну, хорошо, я расскажу тебе, что тут написано, и ты увидишь, что кухарка — кстати, совсем неплохая — не умеет правильно составить меню. Я не должна была бы всем этим заниматься, — тут она бросила убийственный взгляд на веранду, где восседали мисс Бланш с миссис Лесли (помнится, читая вслух «Корсара»).[119] — Но если не я, то кто же, позвольте вас спросить? Хм-м, бедный полковник Мейсон! — Миссис Макдауэлл взглянула на меня. — Но это тебя не касается, ты понял? — Она протерла свои очки. — Итак, завтрак… Рубленый бифштекс — перепела — жареная рыба — тушеный цыпленок, причем птица должна быть не более чем суточной свежести. Никаких слуг в комнате для завтрака — все можно сервировать в буфетной. Умеешь ли ты делать чай — я имею в виду такой, который можно пить?
Ошеломленный этим натиском, я пробормотал, что да.
— Угу, — протянула она с сомнением, — хозяйка дома должна всегда сама заваривать чай, но здесь… — Она потянула носом. — Ну, хорошо — всегда два чайничка, причем в каждый нужно класть не более трех чайных ложечек заварки и еще щепотку соды в молоко. Следите, чтобы кухарка с утра заваривала очень крепкий кофе и затем доливала кипятка в течение дня. Подчеркиваю — кипяток, а еще можно добавлять горячее молоко или холодные взбитые сливки. Так, а теперь… — и она достала очередной лист. — Ланч — также в буфетной. Баранина — острый бульон — белый холодный суп с миндалем — тушеные овощи — молоко — пудинг — фрукты. Никаких тяжелых жареных блюд, — она погрозила пальцем, строго глядя поверх очков, — они вредят здоровью. Послеполуденный чай — черный хлеб с маслом, лепешки, девонширский крем и пирожные. Есть ли у вас десертные ложки?
— Мэм-сагиб, — пробормотал я, сложив руки и скромно склонив голову, — я всего лишь бедный солдат и не знаю, что…
— Я пришлю вам две дюжины. Обед — седло барашка — вареная птица — ростбиф… ну ладно! — прервала она, — про все это я скажу кухарке сама, но ты, — она снова погрозила мне пальцем, длинным как акулий плавник, запомни все, что я сказала и следи, чтобы все мои инструкции тщательно выполнялись. Следи также, чтобы соль в солонках меняли каждый день и чтобы никто в кухне не носил суконной одежды. А если кто-нибудь порежет палец — сразу же посылайте его в мое бунгало. Каждый дюйм в доме должен быть очищен от пыли два раза в день — перед приемом посетителей с полудня до двух и перед обедом. Это ясно?
— Хан, мэм-сагиб, конечно, мэм-сагиб, — твердил я, энергично кивая (помоги мне, Господи!).
Миссис Макдауэлл одарила меня мрачным взглядом и пообещала, что будет наведываться к нам время от времени и проверять, все ли я делаю как надо. Чтобы полковника Мейсона обслуживали соответствующим образом, и если она вдруг заметит, что я недостаточно строго спрашиваю с прислуги, то… Тут она снова потянула носом воздух и обратила свой взгляд к веранде, после чего отправилась стращать кухарку, оставив меня размышлять над тем, что в обязанности ординарца входит многое, о чем я раньше и понятия не имел. [XIX*]
Хоть все эти разговоры и не имеют непосредственного отношения к моему рассказу, я говорю об этом, чтобы вы могли лучше понять Индию того времени и сам Великий мятеж, а также людей, которые попали во всю эту историю. Такие женщины, как миссис Макдауэлл, значили в то время ничуть не меньше, чем Аутрам и Лакшмибай, старый Уилер или Тантия Топи.[120] Страшные по-своему были женщины, все эти мэм-сагиб, но без них страна была бы другой, и я даже не уверен, что Радж пережил бы 1857 год, если бы они не вмешивались в развитие событий.
Во всяком случае, благодаря руководству капитанши, громовым разносам и многословным выговорам, мне удалось выдрессировать слуг Мейсона так, что порядок в доме воцарился не хуже, чем на возвращающемся в Англию чайном клипере. Вы, конечно, воспринимаете все это как само собой разумеющееся, но я получал бесконечное удовольствие от подобной дрессировки — видите ли, больше этого меня ничто не занимало и, как говаривал благочестивый Арнольд, делай то, для чего предназначены твои руки. Я хорошенько вздул уборщиков, запугал матейев,[121] заставил горничных дважды в день выходить на уборку, как на парад — со всеми их тряпками, метелочками из перьев и бутылочками с раствором для полировки мебели, а сам мрачно расхаживал по дому, с удовольствием наблюдая за тем, как крышки столов и серебро натираются до блеска, на полах нет ни соринки, а подносы с чота хазри[122] и дарвазабанд[123] подавались точно в срок. Странно, но теперь я вспоминаю ту гордость, которую я ощутил, когда Дафф Мейсон давал обед для сливок местного гарнизона, а я стоял у буфета в своем лучшем сером мундире, новом красном поясе и пуггари, с напомаженной бородой, наблюдая с достоинством, но как сокол зорко за тем, как хансамах и его помощники суетились с блюдами вокруг стола, залитого светом свечей. Когда леди покидали стол, миссис Макдауэлл поймала мой взгляд и чуть заметно кивнула — наверное, это был в некотором роде самый большой комплимент, которым меня когда-либо одаривали.
Так что прошло еще несколько недель и я с головой погрузился в эту прекрасную и легкую жизнь, как это всегда бывает со мной, когда все спокойно. Я рассчитывал, что проведу так еще около месяца или вроде того, а затем, в одну прекрасную ночь, исчезну, чтобы появиться в Джханси, где я удивлю Скина, явившись перед ним в образе пуштуна, и расскажу ему сказочку про то, как я тайно шел по пятам за Игнатьевым, и наконец очутился здесь. Я планировал также повидать Ильдерима и разузнать, все ли еще туги охотятся за мной. Если бы оказалось, что опасность миновала, я смог бы сбрить бороду и вновь превратиться во Флэши и отправиться в Калькутту, уверяя всех, что я сделал все, что только было возможно. Кстати, по дороге я мог бы засвидетельствовать свое почтение Лакшмибай…
Пока же я оставался тем, кем был, ел и пил от щедрот Даффа Мейсона, присматривал за его домочадцами, поторапливал слуг и резвился с помощницей кухарки — она была лишь бледным подобием моей рани, — а раз-другой мне даже показалось, что глаза миссис Лесли жадно ощупывали мою ладную, совсем как у настоящего пуштуна, фигуру и бородатую физиономию, так что некоторое время я тешил себя мыслью, что удастся покувыркаться и с ней. Хотя лучше не стоит — в бунгало слишком много любопытных глаз, что весьма осложняет жизнь соломенным вдовушкам и незамужним женщинам в индийских гарнизонах: они могут решиться не более чем на безопасный флирт.
Иногда мне приходилось возвращаться в казарму. Кармайкл-Смит был не против прикомандировать меня к Даффу Мейсону, но все же мне необходимо было участвовать в наиболее важных парадах, когда все сипаи должны были становиться в строй своего полка. Во время одного из таких визитов я услышал разговоры о том, что Девятнадцатый синайский полк поднял мятеж в Бехрампуре из-за смазки для патронов, как это и предсказывал сипай Рам Мангал.
— Полк был распущен решением специального суда, — прошептал он мне, едва шевеля губами, когда мы столкнулись в арсенале, чтобы сдать наши винтовки. Рам был охвачен возбуждением: — Сагибы отослали джаванов по домам, потому что Сиркар боится доверить оружие таким храбрым парням! Вот тебе и мужество твоих британских полковников — они уже начинают испытывать страх. Ну, теперь то им не придется бояться без причины!
— Нужен более веский повод, чем скулеж этих мартышек из Девятнадцатого полка, — заметил Пир-Али. — Кому какое дело, если несколько индусов обмакнут пальцы в коровий жир?
— А это вы видели? — Мангал вытащил из-за пазухи лист бумаги и сунул ему под нос. — Вот люди из твоего народа — твои мусульмане, которые обычно столь преданно лижут задницы сагибам, — даже к ним стало возвращаться мужество! Прочти здесь о великом джихаде,[124] который ваши муллы[125] провозгласили против неверных — и не только в Индии, но также в Аравии и Туркестане. Прочти это и узнай, что афганская армия готовится к вторжению в Индию, при поддержке русских пушек и артиллеристов — что ты на это скажешь? «Тысячи гази, могучих, как слоны», — он с присвистом рассмеялся. — Они могут прийти на помощь, но кто знает — может, они и опоздают к празднику? Ведь богиня Кали может и сама уничтожить британцев — как это предсказывают мудрые люди.
Без сомнения, это была еще одна бессмысленная прокламация, но рожа этой черномазой обезьяны, злорадно ухмыляющейся при виде антиправительственной агитации, разозлил меня. Я выхватил у него бумагу и с размаху приложил к своей заднице. Пир-Али и несколько сипаев ухмыльнулись, но остальные глядели мрачно, а старый Сардул сказал, покачав головой:
— Девятнадцатый полк нарушил свою присягу, а это плохое дело, — произнес он, и Мангал перебил было его, твердя, что, мол, сагибы первыми нарушили свои обещания, пытаясь уничтожить сипайские касты.
— Сначала Бехрампур, а теперь здесь? — кричал он. — Какой пултан будет следующим? Это грядет, братья, это грядет! — Он самодовольно покивал головой и отошел, бормоча что-то своим приятелям. [XX*]
Тогда я не придал этому особого значения, но я вспомнил об этом пару дней спустя, когда Дафф Мейсон принимал Арчдейла Уилсона, бинки-набоба[126] а также Хьюитта, Кармайкл-Смита и еще нескольких офицеров на веранде своего бунгало и я услышал, как Джек Уотерфилд, старший офицер Третьего полка туземной кавалерии, говорил о событиях в Бехрампуре и спрашивал, будет ли разумно настаивать на доставке новых патронов.
— Конечно стоит, — коротко отрезал Кармайкл-Смит, — особенно сейчас, когда от них отказались в Бехрампуре. Только дай им волю — и чем это закончится? Это всего лишь чертова бессмыслица — какой-то агитаторишка забивает сипаям голову россказнями про говяжий и свиной жир в смазке, в то время как власти абсолютно ясно объяснили, что в новых патронах нет ничего такого, что могло бы уязвить чувства мусульман или индусов. Но все это используется провокаторами, которые так и вьются вокруг.
— К счастью, не в нашем полку, — сказал другой. — Плоуден, командовавший моей же собственной ротой.
«Клянусь Богом, — подумал я — и это все, что тебе известно!» И тут Кармайкл-Смит взревел, что хотел бы он посмотреть на сипая, который посмеет отказаться от новых патронов, черт побери, очень хотел бы.
— Этого не случится, сэр, — сказал другой майор из Третьего полка, Ричардсон, — наши парни — слишком хорошие солдаты и не дураки притом. Не могу понять, что случилось в Девятнадцатом — не удивлюсь, если слишком много офицеров полка предпочли перейти на штабную службу, а новички не смогли удержать людей в кулаке.
— Но вдруг и наши ребята откажутся? — неуверенно произнес один из молодых офицеров, — предположим…
— Все это чертово карканье! — злобно воскликнул Кармайкл-Смит. — Вы не знаете сипаев, Гауг, это абсолютно ясно. Я же отлично знаю их и не могу допустить даже предположения, что головы моих солдат могут быть забиты каким-то… бунтарским вздором. Какого черта — они знают свой долг! Но если они только заметят, что кто-нибудь из нас сомневается в этом или может проявить слабость — это худшее, что можно себе представить. Я буду признателен, если вы оставите свои непродуманные предположения при себе!
Услышав это, Гауг быстро заткнулся, а Дафф Мейсон еще больше подлил масла в огонь, добавив, что он уверен в правоте Кармайкл-Смита, а если у Гауга есть сомнения, то почему бы не изложить прямо их сейчас.
— Полагаю, ваш полковник не будет против, если мы прямо спросим об этом у одного из ваших же соваров — не волнуйтесь, Смит, это преданный человек. — И он подозвал меня с моего местечка в тени у сервировочного столика, на котором слуги наполняли бокалы. — Ну, Маккарам-Хан, — сказал он, — ты ведь знаешь об этой ерунде с патронами. Итак, сам ты — мусульманин… что об этом думаешь?
Я почтительно стоял у его стула, скользя взглядом по окружающим меня лицам — Кармайкл-Смита, красное и поблескивающее от пота, худое и проницательное — Уотерфилда, взволнованное — у юного Гауга и ухмыляющееся — у старого Хьюитта, который втихомолку срыгнул.
— Если их пули полетят прямо в цель на три тысячи ярдов, — отчеканил я, — то я возьму их, хузур.
Конечно же, они взревели от удовольствия, а Хьюитт заметил, что это ответ настоящего пуштуна.
— А твои товарищи? — поинтересовался Арчдейл Уилсон.
— Если полковник-сагиб честно скажет им, что патроны чисты, то почему бы им не взять их? — сказал я и вокруг раздался одобрительный гул.
«Ну, — подумал я, — это удачный намек, так что Кармайкл-Смит сможет заткнуть пасть этому болтуну Манглсу».
Так бы оно, наверное, и случилось, но уже на следующий день казармы загудели от новых слухов — и тогда мы впервые услышали имя, впоследствии прогремевшее по всей Индии и всему миру.
— Панди? — спросил я Пир-Али, — кто это может быть?
— Сипай Тридцать четвертого полка, из Барракпура, — ответил белуджи. — Он выстрелил в своего капитана-сагиба прямо на плацу — говорили, что он был пьян или накурился гашиша — и призвал сипаев восстать против их офицеров. Что я могу сказать? Может, это и правда, а может, и слухи. Рам Мангал из сил выбивается, убеждая этих глупых индийских овец, что это в действительности произошло. [XXI*]
А Рам уже был тут как тут. Толпа окружила его посреди казармы и хлопала в ладоши, слушая его речь.
— Сипай Панди не был пьян — это ложь! — кричал индус, — ложь, придуманная сагибами, чтобы обесчестить героя, который до самой смерти защищал свою касту! Он не взял в руки нечистых патронов и, когда его арестовали, призвал своих братьев быть настороже, потому что британцы привозят все новые батальоны английских солдат, чтобы разрушить нашу религию и превратить нас в рабов. А капитан-сагиб в Барракпуре сам стрелял в Панди и ранил его, но они оставили нашего брата в живых, чтобы придать пыткам!
Рам Мангал кричал все это с пеной у рта, и, что меня удивило — на этот раз никто, даже мусульмане, не решались ему противоречить, а наик Кудрат-Али, отличный солдат, стоял, закусив губу, но ничего не предпринимал. Когда Мангал накричался до хрипоты, я решил вмешаться и спросил у него, почему он не пойдет к полковнику, чтобы узнать всю правду, какая бы она ни была, и получить заверение, что патроны — не осквернены.
— Только послушайте его! — презрительно воскликнул он, — узнать правду от сагиба? Ха! Такое мог предложить лишь комнатный песик полковника! Может, я и спрошу самого Кармик-аль-Исмита, но в свое время! — Он поглядел на своих приспешников с особенной мерзкой улыбкой: — Да, может быть, я спрошу… мы еще увидим!
Ну что же, одна ласточка весны не делает так же, как и один злобный агитатор не делает революции. Несомненно, то, что я сейчас рассказываю вам про споры сипаев в казармах, выглядит серьезным доказательством назревающих неприятностей, но тогда все казалось не столь уж печальным. Конечно, были разногласия и Рам Мангал умело играл на них, используя каждый слух, но вы можете заглянуть в любую казарму любой армии мира — и всегда обнаружите там ту же самую картину. Дальше недовольных разговоров дело не двигалось, парады и смотры шли своим чередом, сипаи исполняли свой долг, а британские офицеры держались достаточно уверенно — в любом случае я нечасто сам бывал в казармах, чтобы слышать все это ворчание. Когда пришла весть, что сипай Панди повешен в Барракпуре за призывы к мятежу, я подумал было, что среди наших солдат поднимется недовольство, но все оставалось спокойным.
Между тем мое внимание отвлекли другие события: эта рыжеволосая лентяйка миссис Лесли начала проявлять ко мне все более явный интерес. Все началось с якобы случайных встреч и заданий, которые заставляли меня проводить время в ее обществе, затем последовала ее просьба полковнику Мейсону, чтобы я сопровождал их с мисс Бланш во время визитов («гораздо солиднее выглядит, если нас сопровождает Маккарам-Хан, а не обыкновенный сайс»), а потом я вдруг обнаружил, что все чаще сопровождаю ее, когда она выезжает одна. Теперь оправданием служило, что миссис Лесли якобы удобнее иметь под рукой слугу, говорящего по-английски, который бы смог отвечать ей на вопросы об Индии, которой она стала вдруг живо интересоваться.
«Знаю-знаю, моя девочка, что тебя на самом деле интересует, — подумал я, — но первый ход ты должна сделать сама». Я-то был не против — в своем духе она была неплохим кусочком плоти. Забавно к тому же было видеть, как она пытается набраться смелости; видите ли, для нее я был всего лишь черномазым слугой и она разрывалась между естественным высокомерием и желанием приручить дикого волосатого пуштуна. Сначала во время наших поездок она флиртовала совсем немного и беспорядочно, но потом призадумалась; я же ограничивался корректной и сдержанной манерой поведения некоего благородного животного и только время от времени улыбался, да еще слегка тискал ее, помогая спуститься с лошади. Но все же я понял, что рыжая миссис готова сделать последний шаг, когда в один прекрасный день она сказала:
— Ведь вы, пуштуны, ненастоящие… индийцы, правда? Я имею в виду, что некоторым образом вы почти… ну, почти… белые.
— Мы совсем не индусы, мэм-сагиб, — гордо сказал я, — мы произошли от народа Ибрагима, Исхака и Якуба, которых Моисей привел из страны хедива.
— Так значит — вы иудеи? — удивилась миссис Лесли. — Ох! — С минуту она ехала молча. — Теперь понимаю. Как странно. — Она еще подумала немного. — Я… у меня есть знакомые евреи… в Англии. Весьма почтенные люди и, конечно же, совсем белые.
Ну, что ж, пуштуны ей вполне подходили и она была этому рада, так что я решил ускорить события и предложил на следующий день показать ей развалины в Алигате, милях в шести от города. Это был заброшенный храм, весь окруженный зарослями, но о чем я не сказал своей спутнице — так это о том, что внутри его стены сверху донизу были покрыты резьбой, изображающей все индийские способы совокупления. Знаете, ну, когда такие женоподобные парни запечатлены в самых невероятных позах с толстомясыми тетками. Миссис Лесли взглянула и обомлела; я стоял у нее за спиной, держал лошадей и ждал. Было видно, как ее глаза скользят с одной скульптурной группы на другую, еще более невероятную. Она судорожно сглотнула, лицо у нее пошло красными и белыми пятнами, к тому же она не знала, что ей делать — возмущаться или хихикать, так что я подошел и вполне спокойным голосом объяснил: мол, это — сорок пятая позиция, которая пользуется большим успехом. Дрожь прошла у нее по спине, а затем она обернулась и я увидел, что глаза у нее прямо бешеные, а губы дрожат. Я издал вопль дикого похитителя белых женщин, схватил ее в объятия повалил на заросший мхом пол. Она издала слабый испуганный стон, еще шире раскрыла глаза и прошептала:
— Ты уверен, что ты иудей, а не… не индус?
— Хан, мэм-сагиб, — твердо сказал я, почтительно отстраняясь, но тут она всхлипнула с облегчением и вцепилась в меня, как борец.
С тех пор мы ездили в Алигат довольно часто, попутно изучая индийские обычаи, и если до сорок пятой позиции мы так и не дошли, то не из-за отсутствия желания. У этой миссис Лесли была просто какая-то страсть к новым знаниям, и даже теперь я с удовольствием вспоминаю прохладу внутреннего двора храма, тусклый свет, запах плесени, белое пухлое тело, распростертое среди папоротников, и то, как она задумчиво прикусывала нижнюю губку, выбирая среди барельефов урок на день. Жаль, что миссис Лесли так вторично и не вышла замуж — какой-нибудь парень много потерял, впрочем, как и она сама.
Апрель к тому времени сменился маем, все изнемогало от зноя, а горячий ветер, насквозь продувавший плац и казармы Мирута, не давал надежды на изменение погоды. Напряжение буквально витало в воздухе, как электрический заряд. Сипаи Третьего кавалерийского полка несли службу с угрюмым автоматизмом, туземные офицеры избегали смотреть в глаза своим подчиненным, а британские офицеры стали или тихими и осторожными, или же, напротив, раздражительными и вспыльчивыми, так что количество провинившихся, отправляемых на рапорт,[127] выросло до неимоверных пределов. Всюду кружили ужасные слухи и мрачные предзнаменования: Тридцать четвертый полк сипайской пехоты — в котором служил казненный Панди, — был распущен в Барракпуре, загадочный факир, сидящий на слоне, вдруг появился на базаре Мирута, предрекая, что гнев богини Кали вот-вот обрушится на головы британцев. Поговаривали, что в некоторых казармах вновь начали переходить из рук в руки чапатти, и снова стали шептаться о легенде годовщины битвы при Плесси. В результате из всех обид и недоверия, которое разжигали люди, подобные Раму Мангалу, в несколько недель выросла волна недовольства — и еще одна новость вдруг разнеслась по всему гарнизону Мирута: стало абсолютно ясно, что, когда начнут выдавать патроны в новой смазке, Третий кавалерийский откажется их получать.
Теперь, зная, что за этим последовало, вы можете сказать, мол, что-то надо было делать. И я со всей почтительностью спрошу вас: и что же? Ведь хотя каждый чувствовал, что напряжение нарастает с каждым часом, никто и на мгновение не мог себе представить, что из этого выйдет. Это было невообразимо. Британские офицеры и подумать не могли, что их любимые сипаи изменят своей присяге — да, черт возьми, и сами сипаи не предполагали этого. Если в чем я и мог быть уверен, так это в том, что ни одна живая душа — даже мерзавцы вроде Рама Мангала — не могла предположить, что недовольство может вызвать взрыв жестокости. Даже если бы солдаты и отказались от патронов — худшее, что могло последовать за этим, было бы расформирование полка, но даже это казалось маловероятным. Я и представить себе не мог, что нас ждет впереди — несмотря на все предостережения последних месяцев.
И я оставался на месте — я, который чувствует ужас перед надвигающейся опасностью раньше всех. Так что, когда я узнал, что Кармайкл-Смит приказал провести учения с боевой стрельбой, на которой разведчики (к которым я принадлежал) продемонстрируют действие новых патронов, я только подумал: «ну, что ж, все устроится — или солдаты примут патроны и весь этот мыльный пузырь лопнет, или они откажутся — и тогда Калькутте придется придумать что-нибудь еще».
Уотерфилд попытался сгладить ситуацию, по одиночке разговаривая со старыми разведчиками и уверяя их, что боеприпасы не подвергались «нечистой» смазке, но они не хотели его и слушать, более того — умоляли полковника не приказывать им получать эти патроны. Полагаю, Уотерфилд пытался убедить Кармайкл-Смита — но все же было объявлено, что учение со стрельбой будет проведено в соответствии с приказом.
После неудачи Уотерфилда это действительно напоминало вызов; если бы я был на месте Кармайкл-Смита, то вряд ли пошел бы на это, поскольку меня учили, что офицер не должен отдавать приказ, если не уверен, что тот будет выполнен. А если бы в то утро вы были среди разведчиков и видели, с какими угрюмыми минами они надевали свои ремни с патронташами и получали «энфилды» из арсенала, то и одного к сотне не поставили бы на то, что они примут эти чертовы патроны. Но этот осел Кармайкл-Смит был настроен решительно, так что мы стояли развернутым строем между другими эскадронами полка, развернутыми внутрь строя. Туземные офицеры заняли места перед своими подразделениями, а риссалдар подал нам команду «смирно» для встречи Кармайкл-Смита, который подъехал мрачнее тучи и отсалютовал.
Мы ожидали, держа «энфилды» на караул, пока он проезжал вдоль вытянувшихся шеренг, оглядывая нас. Не было слышно ни звука; мы замерли, а солнце нещадно жарило наши спины. Тут и там на плацу порывы горячего ветра поднимали фонтанчики пыли. Лошадь Плоудена испуганно шарахнулась и он выругался, пытаясь ее успокоить. Я смотрел на тени шеренг, люди в которых изо всех сил старались держаться навытяжку, и ручьи пота стекали у меня по груди. Наик Кудрат-Али, справа от меня, был прям как копье; с другой стороны слышалось хриплое дыхание старого Сардула. Кармайкл-Смит закончил свой неспешный объезд войск и остановился почти прямо передо мной; его красное лицо под форменной фуражкой было тяжелым и неподвижным, как у статуи. Затем он коротко бросил приказ; старший хавилдар вышел вперед, отдал честь и встал рядом с Кармайклом-Смитом, обернувшись лицом к нам. Джек Уотерфилд, сидя на лошади чуть позади полковника, начал подавать команды взводу на выполнение упражнений с оружием.
— Готовься заряжать! — крикнул он, добавив тише: — Клади-винтовку-на-левую-руку.
Старший хавилдар одновременно показывал прием на своей винтовке.
— Заряжай! — скомандовал Джек и вновь добавил вполголоса: — Возьми-патрон-в-левую-руку-правый-локоть-поднять-надорвать-патрон-пальцами-правый локоть-опустить…
И вот настал этот момент; заметно было, как дрожь прошла по шеренге, когда старший хавилдар с решимостью, написанной на его бородатом лице, взял маленький блестящий цилиндр, разорвал его поперек и засыпал порох в дуло. Сто восемьдесят глаз внимательно следили, как он сделал это; как будто вздох прокатился по рядам, пока хавилдар утрамбовывал заряд шомполом, затем все снова замерли по стойке «смирно». Уотерфилд подал команды: «Целься» и «Огонь!», после чего над плацем прогрохотал одиночный показательный выстрел. С обеих сторон остальные эскадроны полка ожидали, поглядывая на нас.
— Итак, — прокаркал Кармайкл-Смит, и хотя он даже не повысил голоса, его слова четко разнеслись над плацем, — вы видели учебное заряжание. Вы видели, как старший хавилдар, воин высокой касты, взял патрон. Хавилдар знает, что жир, которым он смазан, — чистый. Я вновь заверяю вас — ничего, что могло бы оскорбить индусов или мусульман, вам не будет предложено — я не позволю этого. Продолжайте, старший хавилдар!
Хавилдар двинулся вдоль рядов, с двумя наиками, которые тащили большие сумки с патронами, из которых он предлагал по три каждому из стрелков. Я смотрел прямо перед собой, отчаянно потея и мечтая только об одном — чтобы моя нога перестала чесаться. Я не видел, что происходило в строю, но слышал все повторяющийся ропот, по мере того как старший хавилдар приближался — «Нахин,[128] хавилдар-майор сагиб; нахин, хавилдар-майор сагиб». Кармайкл-Смит напряженно повернул голову, прислушиваясь, — я заметил, что его рука, сжимающая поводья, побелела от напряжения.
Хавилдар остановился напротив Кудрата-Али и протянул ему три патрона. Я почувствовал, как Кудрат оцепенел — а он был огромным, здоровенным мусульманином из Пенджаба, ветераном Аливала и службы на границе; он дьявольски гордился своими нашивками и сам собой — один из тех ослов, который считает полковника своим отцом и даже вздохнуть не смеет в его присутствии. Я покосился на него; его губы дрожали под густыми усами, когда он пробормотал:
— Нахин, хавилдар-майор сагиб.
Неожиданно наступившую тишину нарушил сам Кармайкл-Смит — очевидно, его гнев все больше закипал с каждым отказом.
— Что, дьявол побери, это значит? — его голос охрип от волнения — вы что, не слышали приказа? Вы понимаете, что означает неповиновение?
Кудрат дернулся было, но все же взял себя в руки. Он сглотнул с шумом, который можно было расслышать на другом краю плаца и твердо сказал:
— Полковник-сагиб, я не могу опозорить свое имя!
— Опозорить имя! — заорал Смит, — да знаете ли вы имя худшее, чем бунтовщик?
Он сердито уставился на индуса, и Кудрат вздрогнул; затем рука старшего хавилдара протянулась ко мне, и его карие, налитые кровью глаза взглянули на меня. Я посмотрел на три маленьких цилиндрика, зная, что Уотерфилд пристально наблюдает за мной, а рядом тяжело, как морж, пыхтел старый Сардул.
Я взял патроны — шквал восклицаний пронесся по шеренге, но я сунул два из них в патронташ, а третий зажал в руке. Когда я взглянул на него, то сразу понял, что бумага не была пропитана жиром — она была просто провощена. Дрожащими руками я разорвал его, высыпал порох в дуло, смял оболочку патрона и бросил на землю. Затем я снова стал навытяжку, ожидая. [XXII*]
Старый Сардул расплакался. Когда ему дали патроны, он протянул трясущуюся руку, но не взял их. Он сделал слабый, неловкий жест и вдруг вскрикнул, срываясь на визг:
— Полковник-сагиб, это невозможно! Никогда, никогда я не проявлял неповиновения — никогда не нарушал присяги! Сагиб, не просите меня об этом — возьмите что угодно, даже саму мою жизнь! Но не мою честь! — Он бросил свой «энфилд», заламывая руки: — Сагиб, я…
— Дурак! — загрохотал Кармайкл-Смит. — Ты полагаешь, что я прикажу тебе уронить свою честь? Неужели кто-либо думает, что я способен на это? Говорю тебе, патроны чисты! Посмотри на старшего хавилдара — посмотри на Маккарам-Хана! Неужели они бесчестные люди? Нет — но они и не мятежные псы!
Это был не лучший способ разговора со старым сипаем — Сардул завопил как безумный, но так и не коснулся патронов. Раздача продолжалась; когда разносчики патронов дошли до конца шеренг, оказалось, что только четверо солдат из девяноста взяли новые заряды — четверо и еще незыблемый столп преданности Флэши Маккарам-Хан (он помнил свой долг, как, впрочем, и про свою выгоду).
Кармайкл-Смит едва мог говорить от душившей его ярости, но вел он себя достаточно примитивно, обещая нам ужасное возмездие, и наконец вынужден был распустить строй. Солдаты разошлись в полном молчании — одни с окаменевшими лицами, другие — с озабоченными, некоторые (вроде старого Сардула) открыто плакали, но большинство были просто угрюмыми. Кстати, никто не бросил ни слова упрека тем из нас, кто взял патроны, — так много было среди сипаев последователей нашего терпеливого малыша Тома Брауна.
Конечно, всего этого Кармайкл-Смит понять не мог. Он думал, что отказ от патронов вызван откровенной тупостью сипаев, взбудораженных несколькими недовольными. Так оно, в общем, и было, но прежде всего за этим стояли искренние религиозные чувства и недоверие к Сиркару. Если бы у генерала оставалась хоть капля соображения, он бы на время оставил эту возню с патронами и добился, чтобы эти умники из Калькутты прислали новые, которые сипаи могли бы смазывать сами (что, как мне кажется, было сделано в других гарнизонах). Кармайкл-Смит мог бы для примера наказать одного-двоих ослушников из числа старых солдат, но ему этого было недостаточно. Его посмели ослушаться его собственные солдаты и он не намерен был оставлять это дело безнаказанным. Так что все восемьдесят пять человек были отданы под трибунал и суд, составленный исключительно из туземных офицеров, приговорил солдат к десяти годам каторжных работ.
Не могу сказать, что испытывал особую симпатию к осужденным, — любой, кто готов провести десяток лет в каменоломнях из-за своих суеверий, по-моему, не заслуживает сочувствия. Но должен сказать, что после того как судебное решение было вынесено, выполнить его решили наихудшим образом — вместо того чтобы по-тихому отправить восемьдесят пять осужденных в тюрьму, этот шут Хьюитт решил, чтобы весь мир — а в особенности все остальные сипаи — увидели как поступают с мятежниками, так что публичная церемония наказания была назначена на следующую субботу.
Само по себе мне это понравилось, поскольку я также должен был при этом присутствовать и, таким образом, был избавлен от очередной экскурсии в Алигат с миссис Лесли — аппетиты этой женщины к все новым экспериментам постоянно росли и я бы с удовольствием отдохнул от нее с недельку. Но с официальной точки зрения, эта церемония была глупым, опасным фарсом и в результате едва не стоила нам целой Индии.
Восход в то утро был багровым и угрюмым, небо нависало тяжелыми облаками и резкие порывы горячего ветра гнали пыль по майдану. Дышать было практически нечем, так как на плацу собрался весь гарнизон — гвардейские драгуны с обнаженными саблями; бенгальская артиллерия с британскими канонирами и их туземными помощниками в кожаных штанах, стоящими у пушек. Ряд за рядом туземная пехота в красных мундирах, заполнила почти все свободное место, а в центре Хьюитт и его штаб, а также Кармайкл-Смит и командиры полков, все верхом. Затем вывели и построили в две шеренги восемьдесят пять осужденных. Они были в полной форме, за одним исключением — все босиком.
Не помню, видел ли я когда-нибудь более безрадостную картину, чем вид этих двух серых шеренг, выставленных на позор, пока кто-то зачитывал решение суда, а затем медленно забили барабаны и церемония началась.
На своем веку мне довелось присутствовать на стольких экзекуциях, что всех я уже и не упомню и в большинстве своем они мне нравились. Есть что-то захватывающее в казни через повешение или порядочной порке, а когда я впервые увидал, как человека разорвало выстрелом из пушки — это было в Кабуле — то, помню, не мог отвести глаз от этого зрелища. Я замечал также, что большинство благочестивых и гуманных людей, всегда стремятся при этом занять самые удобные места и, даже делая вид, будто они огорчены и шокированы увиденным, стараются все же не пропустить ни одной интересной подробности. Но то, что произошло тогда в Мируте, превосходило все увиденное ранее — и весьма отлично от всех экзекуций, которые я помню. Обычно эти мероприятия вызывают возбуждение, страх или даже экзальтацию, но здесь была только мрачная депрессия, которая словно окутывала весь обширный плац.
Под медленную барабанную дробь хавилдар с двумя наиками шли вдоль шеренг осужденных, обрывая с мундиров форменные пуговицы; они были подрезаны заранее, чтобы облегчить процесс обрывания, и вскоре перед длинными серыми шеренгами появились кучки пуговиц, тускло блестящих в рассветных лучах душного утра; серые куртки обвисли бесформенными мешками, над каждым из которых темнело мрачное смуглое лицо.
Затем началась заковка в кандалы. Группы оружейников, каждую из которых возглавлял английский сержант, переходили от одного осужденного к другому, надевая на их лодыжки тяжелые цепи; быстрый перестук молотков и барабанный бой сливались в жуткую мелодию: клинк-клан-бум! Клинк-клан-бум! — к которой присоединилось тонкое подвывание откуда-то из-за рядов туземной пехоты.
«Заставьте этих проклятых нытиков замолчать!» — крикнул кто-то из офицеров, другой пролаял приказ, раздалось несколько слабых вскриков и вой стих. Но тут его подхватили сами осужденные; некоторые из них стояли, другие, плача, присели на корточки в своих цепях. Я видел, как старый Сардул, стоя на коленях посыпал свою голову прахом и бил кулаком по земле; Кудрат-Али стоял по стойке «смирно», глядя прямо перед собой; мой сосед по койке, Пир-Али, который, к моему удивлению, также отказался взять патроны, — что-то злобно бормотал стоящему рядом солдату; Рам Мангла потрясал кулаком и что-то кричал. Шум, доносящийся из серых шеренг, все усиливался и старший хавилдар, выйдя из строя, прорычал: «Чуббарао! Молчать!» — а молотки все стучали, а барабаны все били — никогда не слышал столь адской музыки. Старый Сардул, должно быть, обращался к Кармайкл-Смиту, протягивая руки; Рам Мангал начал выкрикивать проклятья еще громче, а стоящий неподалеку от меня сержант-англичанин из бомбейской артиллерии выбил свою трубку о колесо пушки, сплюнул и произнес:
— Клянусь Иисусом, вот черномазый ублюдок, которого я с удовольствием примотал бы к жерлу своей пушки! Далеко бы разлетелись его потроха, а, Пэдди?
— Ага, — ухмыльнулся его приятель, переминаясь с ноги на ногу, — ты прав Майк, паршивое это дело. Чертовы черномазые! Плохо дело!
— Когда секут до крови, видок похуже, — заметил Майк, — изнеженные сволочи, послушай только как они скулят! Когда б их пороли в этой их черномазой армии, они бы еще не так хныкали — зато если бы они время от времени полировали друг другу задницы, им бы и в голову не пришла вся эта глупость с патронами. А вместо этого их только припугнули да заковали в кандалы. Что меня бесит — когда секут меня, англичанина, эти свиньи могут себе стоять и ухмыляться, а стоит только оборвать с них пуговицы — так тут же распускают слюни, как сопливые дети! [XXIII*]
— Да уж, — протянул другой, — отвратительно. Печально, печально.
Полагаю, для жалостливого человека это так бы и было — трагический вид этих созданий в своих бесформенных лохмотьях, с кандалами на ногах; кто-то плачет, кто-то молит, некоторые стояли с безразличным видом, но большинство были просто раздавлены стыдом — а перед фронтом Хьюитт, Кармайкл-Смит и остальные офицеры верхом, не моргая смотрят на все это. Я отнюдь не мягкосердечен, но именно тогда я испытал сложное чувство. «Ты, Хьюитт, делаешь ошибку, — подумал я, — все это принесет больше вреда, чем пользы». Похоже, он не понимал этого, но он задел их гордость (может, у меня самого ее и немного, но я могу различить это качество в других, а играть с ней небезопасно). Но даже сейчас можно было заметить угрозу в мрачных взглядах туземной пехоты; они также чувствовали стыд — за эти кандалы, за плачущих и стенающих осужденных, за старого Сардула, который с трудом разыскал в пыли одну из сорванных с его мундира пуговиц и прижимал ее к груди, а слезы текли по его морщинистому лицу…
Он был единственным, к кому я испытывал некоторую жалость, когда заковка в кандалы была завершена, оркестр заиграл «Марш негодяев»[129] и осужденные толпой двинулись с плаца в Новую тюрьму, что за Большим трактом. Он все еще оборачивался и кричал что-то Кармайкл-Смиту, напоминая мне, как плакал мой старый папаша-сатрап, когда я в последний раз провожал его в ту богадельню в деревне, где он и умер от белой горячки. Все это чертовски угнетало — когда я шагом ехал с плаца вместе с четырьмя другими лояльными стрелками и бросил взгляд на их самодовольные смуглые лица, то подумал: «ну и чертовы же вы подхалимы!» Но, в конце концов, они были индусами, а я — нет.
Так или иначе, вскоре мне представился случай сорвать свое раздражение в бунгало Даффа Мейсона, закатив оплеуху одному из слуг, который потерял свою воронку для керосиновой лампы. А затем я должен был присутствовать на торжественном обеде в честь Кармайкл-Смита, который давался в тот вечер (несомненно, чтобы отпраздновать децимацию[130] его полка), а миссис Лесли, разодетая по этому поводу, шепнула, многозначительно посмотрев на меня, что намеревается на следующий день предпринять длительную поездку по округе, так что я должен распорядиться насчет пикника. А еще были слуги, которых нужно было подгонять, кухарка и поварята, которым необходимо было дать нагоняй, и маленькая мисс Лэнгли, дочь инструктора верховой езды, от которой нужно было вежливо избавиться, — видите ли, это была прелестная крошка семи лет от роду, любимица мисс Бланш, умудрявшаяся доставлять чертовски много хлопот, когда по вечерам приходила поиграть к нам на веранду, отвлекая от дела слуг и выпрашивая сахарные пирожные.
Среди всего этого я вскоре забыл про экзекуцию, пока после обеда Дафф Мейсон, Кармайкл-Смит и Арчдейл Уилсон с бокалами и сигарами не устроились на веранде и я услышал, как Смит вдруг что-то громко сказал. Я остановил лакея, несущего поднос, и сам подал его офицерам, так что подошел в самое время, как Смит говорил:
— … из всей проклятой ерунды, какую мне только приходилось слышать! Кто этот хавилдар?
— Имтияз Ахмед — и он отличный солдат, сэр, — это был молодой Гауг, с покрасневшим лицом и одетый в повседневный мундир, хотя все остальные собрались на обед в парадных.
— Вы имеете в виду — отличный сплетник! — со злостью бросил Смит. — И вы стоите здесь и рассказываете мне всякие выдумки о том, что в кавалерии зреет заговор, чтобы двинуться на тюрьму и освободить заключенных? Полная ерунда — а вы достаточно глупы, чтобы все это слушать…
— Прошу прощения, сэр, — заметил Гауг, — но я заезжал в тюрьму — и обстановка там угрожающая. А потом я побывал в казармах: люди замышляют что-то нехорошее и…
— Ладно-ладно, — махнул рукой Уилсон, — спокойнее, молодой человек. Возможно, вы еще не успели узнать их так же хорошо, как мы. Конечно, они в дурном настроении — ведь они видели своих товарищей, бредущих в кандалах, и огорчены этим. Некоторые из них могут даже разрыдаться из-за этого… Хорошо, Маккарам-Хан, — прервал он свою тираду, заметив меня за буфетом, — вы можете идти.
Вот и все, что я услышал, но поскольку этой ночью так ничего и не произошло, я не придал этому особого значения. [XXIV*]
На следующее утро миссис Лесли решила выехать пораньше, так что я подкрепил свои силы перед этим днем, который обещал быть хлопотливым, полудюжиной сырых яиц сбитых с пинтой крепкого пива, и мы снова поехали в Алигат. Она, чтобы ее черт побрал, была в прекраснейшем настроении и вскарабкалась на меня сразу же, как только мы достигли храма, так что к концу дня я даже удивился, как много индийской культуры могу я еще выдержать — при всем ее великолепии. К тому времени как мы тронулись в обратный путь, я был всего лишь выжатым как лимон и жестоко утомленным туземным ординарцем и с удовольствием подремывал, раскачиваясь в седле. Когда мы проезжали сквозь маленькую деревушку, лежащую в миле или около того от британского городка, — я даже расслышал звон колокола, зовущий к вечерне — миссис Лесли вдруг вскрикнула и натянула поводья своего пони.
— Что это? — испуганно воскликнула она, и когда я подъехал поближе, шикнула и прислушалась. Точно — теперь послышался еще один звук, похожий на отдаленный неясный ропот, как будто где-то вдалеке шумело море. Я не мог понять, откуда он исходит, так что мы быстро проскакали вперед, туда, где заканчивались деревья, и оглядели равнину. Прямо впереди были бунгало, стоящие на краю бульвара, — там все было спокойно; далеко влево виднелись очертания тюрьмы и за ней — темная масса города Мирута — там вроде тоже все было в порядке. Но когда я всмотрелся в покрасневший горизонт, то за зданием тюрьмы, там, где находились лагеря туземной пехоты и кавалерии, я заметил черные клубы дыма, поднимающиеся на фоне оранжевого неба и проблески огня, пробивающиеся сквозь мглу. Строения пылали, а отдаленный шум теперь понемногу превращался в тысячи голосов, которые кричали все громче и громче. Я остановился, всматриваясь и ужасные предчувствия все нарастали в моем мозгу — я даже не замечал, как миссис Лесли настойчиво дергала меня за рукав, пытаясь выяснить, что же происходит. Я не мог ей ничего сказать, потому что и сам этого не знал; да и никто в то время не мог предположить, что этим теплым мирным майским вечером начался Великий индийский мятеж.
VI
Если бы у меня хватило ума на большее, чем просто гадать, что же случилось, то я развернул бы наших лошадей к северу и скоро оказался бы в безопасности в лагере английской пехоты, до которого было не более мили. Но первой моей мыслью было: «Гауг был прав: какие-то сумасшедшие ублюдки восстали и попытались освободить заключенных — и, конечно же, потерпели неудачу, потому что под рукой у Хьюитта есть британские части, которые сразу же двинут в дело, а может они уже там и режут черномазых». Как вы увидите, в чем-то я оказался прав, а в чем-то — ошибался, но прежде всего, после того как тревоги несколько улеглись, мной овладело любопытство. Так что в моем предложении миссис Лесли не было ни капли рыцарского духа:
— Езжайте прямо к бунгало, мэм-сагиб! Держитесь, ну — вперед! — и втянул ее кобылу плетью поперек крупа.
Эта рыжая шлюшка взвизгнула, когда лошадь рванулась, и продолжала звать меня, но я уже скакал по направлению к виднеющейся вдалеке тюрьме — я должен был любой ценой увидеть происходящую там забаву, и при том подо мной был отличный скакун, так что при первых же признаках опасности я мог благополучно смыться. Крики миссис Лесли еще слышались у меня за спиной, но я пустил своего пони в галоп и мчался к отдаленным строениям туземного базара, расположенного южнее, так чтобы миновать тюрьму на некотором расстоянии и посмотреть, что там творится.
На первый взгляд казалось, что ничего особенного не происходит; этот конец базара оказался неожиданно безлюдным, но в густеющей темноте я скорее ощутил, чем увидел, что между тюрьмой и большой дорогой идет какая-то странная возня — крики, топот бегущих ног и треск ломающегося дерева. Я свернул на базарную площадь, следуя в направлении шума, раздававшегося впереди. Теперь все небо за базаром стало оранжевым — непонятно только, из-за зарева пожара или от заката, но над городом поднимались столбы дыма. «Похоже, дьявольски хороший пожар», — подумал я и поскакал по базару, между лотков, вокруг которых суетились какие-то темные фигуры, очевидно, пытающиеся спасти свои товары или таились в тени, перемежая свою болтовню воплями. Я заорал на толстого торговца, который глазел по сторонам, стоя посреди улицы, но он молниеносно нырнул в свой магазин, захлопнув двери и опустив жалюзи — попробуйте добиться толку у испуганного индуса! Тут я резко натянул поводья, потому что чико[131] выскочил чуть ли не из-под копыт моего жеребца, а за ним, с плачем и стонами, бросилась его мать и прежде чем я успел опомниться, вся улица вдруг наполнилась людьми, которые бежали, крича и едва не обезумев от паники. Иногда они наталкивались на моего пони, а я сыпал проклятьями и стегал их наотмашь плетью. Тревожные звуки стали ближе — хриплые стоны и завывания, потом вдруг неожиданный грохот выстрелов — одного и другого.
«Время удалиться на безопасное расстояние», — подумал я, и направил своего пони сквозь толпу в боковую улочку. Несколько человек проскочили под брюхом моей лошади, толкаясь как овцы — и вдруг прямо передо мной появился человек в распахнутом мундире гвардейского драгуна, который ни с чем невозможно было спутать. Он бежал из последних сил, с непокрытой головой и бешеными глазами, а следом за ним, как гончие на охоте, с гиканьем мчалась толпа черномазых.
Драгун заметил меня и вскрикнул от отчаяния — конечно же, он увидел перед собой волосатого негодяя-туземца, преградившего ему путь. Он рванулся к ближайшей подворотне, на секунду замешкался и — толпа настигла его, набросившись подобно стае диких животных. Солдата буквально рвали на куски, выкрикивая ругань и непристойности. На минуту ему удалось было вырваться — кровь лилась у него из раны на шее — и буквально проползти под брюхом моего пони. Толпа тут же окружила нас, стремясь отрезать ему путь и хватая руками, а я изо всех сил старался удержаться в седле — не было и речи о том, чтобы хоть как-то помочь этому несчастному, даже если бы я и был настолько глуп, чтобы попытаться сделать это. Драгуна подхватили и повалили на стол перед пивной лавкой — одни держали его за руки и за ноги, а другие разбивали бутылки и вонзали осколки в тело жертвы.
Это был настоящий кошмар. Мне оставалось только покрепче натянуть поводья и смотреть на эту страшную, стонущую фигуру, наполовину покрытую пивной пеной, над которой то вздымались, то опадали эти ужасные стеклянные клинки. В несколько секунд драгун превратился в сплошную зияющую рану, а потом кто-то обвязал его веревкой и они вздернули его на перекладине, так что жизнь медленно уходила из этого изувеченного тела. [XXV*]
В панике я вонзил шпоры в бока моего пони, скорчился в седле и пустился вскачь очертя голову. Неожиданность всего случившегося просто шокировала меня — видеть, как белый человек был растерзан на клочки туземцами. Вы и представить себе не можете, что это значило для Индии: нечто такое, во что невозможно поверить, даже если увидишь собственными глазами. Несколько минут я скакал не разбирая пути, потому что следующее, что помню, как натянул поводья на краю Большого тракта, там, где он на выезде из Мирута поворачивал к северу, остолбенело глядя на огромную толпу, которая двигалась к британскому кварталу. К моему удивлению, большую ее часть составляли сипаи, некоторые — в одних куртках, другие — в полной форме вплоть до портупей, потрясающие мушкетами с примкнутыми штыками и ревущие в один голос: Мат каро! Мат каро![132] Сипай джай! — и тому подобное — лозунги смерти и восстания. Один мерзавец стоял в тележке, размахивая над головой кандалами, а тяжело волнующаяся масса сипаев и базарных нищих влекла его за собой, опьяненная дикими воплями.
За дорогой пылали казармы туземной кавалерии; на моих глазах крыша одного из зданий с треском рухнула, разбрасывая искры во все стороны. За спиной у меня горели какие-то постройки на базаре, и когда я обернулся, то заметил кучку негодяев, швыряющих керосиновые лампы в окна лавки, в то время как их приятели копошились вокруг распластанного тела ее владельца; наконец они подхватили его и бросили прямо в пламя, дико крича и приплясывая при виде того, как он безуспешно пытался оттуда выбраться. Несчастный превратился в живой факел — его рот открывался и закрывался в неслышных стонах, а затем он рухнул в пылающие развалины.
Не помню, сколько я сидел, смотря на все эти невероятные вещи, — помню только, что уже стемнело, пламя бушевало со всех сторон, а жуткая вонь отравляла воздух — когда я наконец пришел в себя настолько, чтобы понять — чем скорее я смоюсь отсюда, тем будет лучше. Конечно же, я был в достаточной безопасности, так как с виду выглядел вылитым туземцем — к тому же таким огромным и безобразным — но дольше испытывать судьбу не имело смысла. В любой момент на дороге могли раздаться звуки горнов, возвещающие про подход британских отрядов, а я не хотел бы попасть им в руки в таком виде. Так что я развернул моего пони мордой к северу и поехал вдоль обочины дороги, а обезумевший людской поток катился в том же направлении почти рядом со мной.
Даже к тому времени я все еще не представлял себе ясно, что происходит, но все мои сомнения разрешились, стоило мне поравняться со зданием тюрьмы. Здесь собралась огромная толпа, вопящая и приплясывающая вокруг костра, все как на подбор, в своих тюремных дхоти,[133] но уже без кандалов. Среди бывших заключенных я узнал Гобинду и еще пару других; незнакомый мне сипай стоял на тележке, что-то выкрикивая в толпу, хотя сквозь дикий шум его было едва слышно:
— Дело сделано!.. Смерть гора-логам!..[134] Сагибы уже повсюду бегут… видите, кандалы разбиты!.. О, братья, убивайте! Убивайте! Идем в квартал белых!
Вся толпа вскрикнула в один голос, и поток освободившихся заключенных, вопящих и размахивающих руками, выплеснулся на Большой тракт и хлынул к бульвару — Боже, там уже появились огни пожаров, особенно на его восточном конце. Должно быть, это горели бунгало по этой стороне бульвара, за нуллахом.
Мне оставался только один путь. Позади были Мирут и базар, в которых, судя по всему, продолжались отчаянная резня и грабеж; слева находились пылающие туземные казармы; впереди, между мной и британским кварталом, дорога была запружена тысячами безумных фанатиков, опьяненных жаждой крови и разрушения. Я выждал, пока напор толпы немного спал и свернул направо, направляясь к нуллаху, к северу от тюрьмы, собираясь проехать по восточному мосту, и, обогнув бульвар по длинной дуге к северу, прорваться к лагерю британских войск.
Выполнить первую часть плана было достаточно просто: я проскакал сквозь нуллах и обогнул восточную оконечность британского квартала, осторожно пробираясь в полумраке, так как луна еще не взошла. Здесь, под сенью деревьев, пока все было спокойно. Шум раздавался в отдалении, слева от меня, но тут и там мне попадались маленькие группки туземных слуг — очевидно, женщин, которые прятались в кустах. Единственным свидетельством того, что убийцы побывали и здесь, было тело старого човкидара, который валялся с проломленным черепом рядом со своим таким же древним мушкетом. Неужели они убивают всех подряд — даже своих собственных соплеменников? Ну конечно же, всем туземцам, подозреваемым в сочувствии к британцам, пощады не будет — в том числе и «любимому комнатному песику гора-полковника», как меня очаровательно назвал Рам Мангал. Я встрепенулся — уже неподалеку слышны были вопли и огонь факелов мелькал между деревьями. Так значит, чем скорее я…
— На помощь! На помощь! Ради бога — помогите нам!
Крик доносился справа от меня, из маленького бунгало за белыми воротами. Пока я стоял в нерешительности, другой голос крикнул:
— Заткнись, Томми! Один Бог знает, кто это может быть… смотри — вон огни!
— Но ведь Мэри умерла! — воскликнул первый голос так, что волосы у меня на голове встали дыбом. — Говорю тебе, она умерла — они…
В любом случае это были англичане и, не раздумывая, я спрыгнул с седла, распахнул ворота и закричал:
— Это друг! Кто вы?
— О, благодарение Господу! — воскликнул первый голос. — Быстрее — они убили Мэри… Мэри!
Я обернулся — факелы все еще виделись в двух сотнях ярдах позади, среди деревьев. Если я смогу заставить обитателей бунгало двигаться быстро, то они еще могут спастись. Я поднялся по ступенькам веранды и, заглянув через опрокинутую перегородку в разгромленную комнату, тускло освещенную керосиновой лампой, увидел белого мужчину, лежащего у стены. Его левая нога сочилась кровью, рука сжимала саблю, а глаза лихорадочно смотрели на меня.
— Неужели ты… — начал он и вскрикнул. — Иисусе — это мятежник! Третий кавалерийский! Джим!
Я не успел и рта раскрыть, как кто-то прыгнул на меня из темноты — я заметил лишь белое лицо, рыжие усы, горящие глаза и обнаженную саблю — а затем мы сцепились и рухнули на пол, и я завопил:
— Ты, чертов идиот! Я — англичанин, дьявол тебя побери!
Но мой противник, похоже, обезумел; даже когда я вырвал саблю у него из рук и отпрыгнул в сторону, он крикнул товарищу и тот протянул ему свой клинок. В следующее мгновение он налетел на меня, пластая воздух ударами и выкрикивая проклятья — я защищался и пытался образумить его. Я споткнулся обо что-то мягкое, оперся рукой и вдруг понял, что это была белая женщина в вечернем платье — или скорее ее тело, поскольку оно плавало в луже крови. Я резко вскинул саблю, чтобы отразить очередной удар этого маньяка, но было поздно: дикая боль обожгла мне голову как раз над левым ухом, и парень, лежащий у стены, простонал:
— Дай ему, Джим! Прикончи его, прикончи…
Грохот мушкетного выстрела заполнил комнату. Малый, стоящий надо мной с поднятой саблей, вдруг гротескно дернулся, выпустил клинок и рухнул мне на ноги; смуглые лица улыбались в окне сквозь пороховой дым. А затем мои спасители забрались в комнату, с триумфальными криками подняли на штыки тело несчастного Томми и принялись громить мебель. Наконец один из них наклонился помочь мне, воскликнув:
— Мы пришли вовремя, брат! Благодари Одиннадцатый пехотный, совар! Айи! Трое этих свиней! Хвала небесам — но где тут их добро?
Моя голова кружилась от боли, так что пока они громили бунгало, ревя подобно диким животным, я потихоньку выкарабкался через веранду и спрятался в кустах. Там я и лежал, чувствуя, как кровь стекает у меня по щеке. Рана не была тяжелой — не опаснее той, которую нанес мне несколько лет назад клинок де Готе. Но я не вылез из своего укрытия, даже когда черномазые ушли, забрав с собой моего пони, — я был слишком потрясен и испуган — этот идиот Джим чуть не прикончил меня. Боже мой, да это был Джим Льюис, ветеринар. Я кланялся ему на прощанье в бунгало Мейсона всего лишь пару ночей назад, а теперь он мертв, вместе со своей женой Мэри — а я все еще жив и уцелел благодаря двум бунтовщикам, которые их убили.
Я лежал, все еще в полубреду, стараясь понять, что же происходит. Это мятеж — сомнений нет — и притом большой. Конечно же, Третий кавалерийский принял в нем участие, и я видел на дороге вооруженных солдат из Двадцатого пехотного. Сипаи, которые случайно спасли меня, были из Одиннадцатого пехотного — значит, поднялся весь гарнизон Мирута. Но где же, дьявол побери, два британских полка? Их лагерь был не более чем в полумиле от места, где я лежал, за бульваром, но несмотря на то что с момента начала мятежа прошло уже два или даже три часа, признаков действий их командования так и не было видно. Я лежал, прислушиваясь к треску выстрелов, отдаленному шуму голосов и гулу разгоравшегося пожара — ни сигналов горна, ни звука команд, ни грохота залпов, ни грома тяжелых орудий. Хьюитт просто не может сидеть сложа руки — и тут меня поразила ужасная мысль: «Неужели их разгромили?» Но нет, даже мятежной толпе не справиться с двумя тысячами дисциплинированных солдат — но почему же, черт побери, все по-прежнему тихо? [XXVI*]
Следуя маршруту, который я запланировал для бегства, я должен был подняться к бульвару и, перейдя через него, проехать к лагерю британской пехоты. Этот путь пролегал мимо бунгало Даффа Мейсона и Макдауэллов, так что я смогу узнать, что там произошло, хотя, несомненно, все белые уже должны были уйти оттуда под защиту британских войск. Поднявшись, я увидел, что горят несколько бунгало к югу от бульвара, а адские крики и выстрелы доносятся из британского квартала дальше к западу — так что уж лучше держаться подальше от этих мест.
Осторожно пробираясь среди деревьев, я наткнулся на узенькую аллейку, ведущую к восточной оконечности бульвара. В сотне ярдов впереди ярко пылали бунгало, а с полдюжины сипаев стояли возле их оград, рассыпая проклятья и время от времени стреляя в бушующий огонь. По другую сторону дороги, под деревом, притаилась кучка слуг и, когда я украдкой подобрался к ним в тени, то услышал, как они плачут и причитают. Это было бунгало хирурга Доусона; когда я поравнялся с ним, то вспомнил, что Доусон как раз заболел оспой, так что он сам, его жена и дети вынуждены были сидеть дома — крыша которого с грохотом и искрами рухнула на остатки обгорелых стен на моих глазах. При мысли об этом у меня закружилась голова и я чуть не потерял сознание — а затем поспешил дальше, прочь от этой дьявольской картины; аллея впереди была пустынна до тех самых пор, пока ее не озарил свет восходящей Луны.
Наше бунгало не горело — но прежде чем я достиг его, мой взгляд упал на веранду дома Кортни, по другую сторону дороги. Там что-то шевелилось — человеческая фигура, пытающаяся подняться. Я настороженно поколебался, а затем все же проскользнул в ворота и вверх по лестнице. Темная фигура на веранде жутко захрипела и вдруг опрокинулась на спину — и я увидел, что это был слуга-туземец, в груди у которого торчал штык. Я замер, но тут его голова приподнялась и он заметил меня. Умирающий попытался приподнять руку, показывая на дом, но вновь обессиленно рухнул, застонав.
Клянусь жизнью, я даже не знаю, что заставило меня войти в дом — и лучше бы я этого не делал. Миссис Кортни лежала мертвой в своем кресле, с головой уткнувшейся в подушку — ее застрелили и добили штыками, а когда я огляделся, то меня вырвало — трое ее детей лежали тут же. Зрелище было душераздирающим: все вокруг напоминало бойню и буквально пропахло кровью. Я повернулся и выбежал, захлебываясь рвотой и бежал без оглядки, пока вдруг не заметил, что стою на веранде Даффа Мейсона.
Кругом все будто вымерло, но я должен был войти, так как мне было известно, что на дне конторки Дафф Мейсон всегда держал кольт с комплектом патронов — и то, и другое мне сейчас нужно было как воздух. Я взглянул на пылающий дом Доусона, однако приближения мятежников не было видно, так что я через раздвижные двери осторожно прошел в холл. И тут я чуть не умер прямо на месте — такой ужас мне пришлось испытать не более двух раз в своей жизни.
Причины этого были очевидны: голова миссис Лесли лежала на столе в холле. Ее тело, почти обнаженное — то самое пухлое, белое тело, которым я наслаждался всего лишь несколько часов назад, — лежало в нескольких футах от стола, обезображенное до неузнаваемости. А у входа в столовую миссис Макдауэлл неестественно изогнулась у косяка, буквально пришпиленная к стене тулваром. В мертвой руке она судорожно сжимала небольшую вазу, цветы из которой рассыпались по полу — я понял, что она пыталась использовать ее в качестве оружия.
Я не знаю, как я нашел револьвер Мейсона, но помню, что позже стоял посреди холла, стараясь не смотреть на весь окружающий меня ужас, и набивал его патронами, ругаясь и подвывая попеременно. Почему — почему, черт побери, они сделали это? — Я поймал себя на том, что бормочу это вслух. Я видел смерть и ужас чаще, чем большинство людей, но это было еще страшнее — это было уже за пределами зверства. Гобинда? Пир-Али? Старый Сардул? Даже Рам Мангал? Они не могли сделать этого — они никогда не поступали так даже со вдовами злейших своих врагов. Но дело было сделано — даже если не ими, то подобными им людьми. Это было дико, бессмысленно, невероятно — но это было, и если я рассказываю вам об этом сейчас, то не для того, чтобы испугать, а чтобы дать вам понять, что происходило в Индии в 1857 году и это было нечто, не виданное ни кем из нас раньше. И никто из нас, даже я, больше никогда не встречался ни с чем подобным.
Вы знаете, что я — чертов трус и негодяй, которого ничем не проймешь — но в этом доме я сделал одну странную вещь. Я не мог себя заставить коснуться миссис Лесли или даже посмотреть на эту ужасную отрубленную голову с кудрявыми рыжими волосами и широко раскрытыми глазами, но прежде чем покинуть бунгало, я подошел к миссис Макдауэлл и, с трудом освободив из ее пальцев вазочку, собрал в нее все цветы. Сперва я хотел поставить их на пол рядом с ней, но вспомнил ее ворчливый шотландский говорок и то, как она презрительно шмыгала носом — и поставил цветы на стол, подложив под вазочку салфетку. Я еще раз оглянулся по сторонам, посмотрев на руины места, которое мои подчиненные сделали лучшим домом в поселке: полированное дерево разбито и исцарапано, лепнина сорвана, скомканный ковер на полу пропитался кровью, прелестный подсвечник, который был гордостью мисс Бланш, небрежно заброшен в угол. Я вышел из этого дома с такой ненавистью, переполнявшей мое сердце, какой я никогда ни до, ни после этого не испытывал. Нужно было что-то делать — и быстро; шансы для этого появились у меня уже через пять минут после того, как я достиг конца аллеи и посмотрел на запад, вдоль бульвара.
В британском квартале все еще гремели выстрелы — интересно, уцелел ли там хоть кто-нибудь из наших? Сколько еще бунгало — сожженных или пока целых — таят в себе ужасы, подобные тем, которые я уже видел? Я не собирался это проверять — и не смел ступить и шагу далее. Горящие дома, воющие толпы, смерть и разрушение — все это было там, передо мной; когда я посмотрел на север, то увидел свет факелов и услышал крики как раз между мной и британским лагерем. Что бы ни собирались далее предпринять Хьюитт, Кармайкл-Смит и прочие — если, конечно, они еще были живы — я решил, что они могут делать это без меня. Все, что мне сейчас хотелось, это выбраться из Мирута и убраться подальше от этого ада как можно быстрее и найти где-нибудь мирное и безопасное местечко, чтобы преклонить мою раненую голову. Но прежде мне нужно было сделать то, чего я хотел больше всего на свете — и случай к этому представился — на бульваре показался силуэт кавалериста, пошатывающегося в седле и заплетающимся языком распевающего пьяные песни. Позади него на фоне отдаленного зарева по бульвару бродили кучки сипаев, к востоку же дорога была абсолютно пуста.
Когда совар подъехал, я вышел на бульвар; в руке у него был окровавленный клинок, на роже — дурацкий звериный оскал, а на плечах — серая куртка Третьего кавалерийского полка. Увидя на мне тот же мундир, он вскрикнул от удивления и натянул поводья.
— Рам-рам,[135] приятель, — произнес я и заставил себя улыбнуться ему. — Удалось ли тебе убить этих свиней больше, чем мне? А чья это кровь? — поинтересовался я, указывая на его тулвар.
— Хи-хи-хи, — затрясся он, пьяно раскачиваясь в седле, — какая кровь? Эта? Чья? — может быть, Кармик-аль-Исмита? — Он помахал лезвием, пьяно гогоча: — Или Хьюитт-сагиба? Най-най-най![136]
— Чья же тогда? — спросил я как можно более сердечно, кладя руку на круп его лошади.
— Сейчас-сейчас, — протянул он, задумчиво осматривая острие, — инструктора верховой езды Лэнгли-сагиба, а? Этого сына вонючей чесоточной собаки, поедающей свинину? Най-най-най! — Он небрежно свесился с седла. — Не Лэнгли. Хи-хи-хи! Он не дождется внуков от своей дочери! Хи-хи-хи!
И я вспомнил, как эта девочка играла в прятки на веранде еще прошлой ночью. Мне пришлось ухватиться за уздечку его лошади, чтобы не упасть, и изо всех сил сжать губы, чтобы с них не сорвалось ужасное проклятие. Я снова быстро окинул взглядом бульвар; ближайшие сипаи все еще находились на порядочном расстоянии от нас.
— Шабаш! — сказал я. — Это был удар настоящего храбреца.
И пока сипай расплывался в улыбке, я поднял свой кольт, тщательно прицелился ему прямо в пах и выстрелил.
Он опрокинулся навзничь, а я вцепился в поводья, чтобы удержать лошадь, пока ее бывший владелец не сполз с седла; на это понадобились считанные секунды. Затем я занял его место, а он растянулся на земле, хрипя в агонии — если повезет, то он будет умирать несколько дней. Я объехал его, рыча от ярости, бросил взгляд на бульвар, на отдаленные темные фигуры, снующие, как демоны, из Дантова «Ада» на фоне пылающего дьявольского пламени, и поскакал на восток, мимо крайних бунгало. Картины и звуки ужаса скоро растаяли у меня за спиной. [XXVII*]
* * *
Одному Богу известно, сколько я проехал в ту ночь — возможно, не так уж и много. Не думаю, что у меня тогда было все в порядке с головой — частью от ужасов, которые довелось увидеть, но гораздо больше из-за мучений, доставляемых мне моей раной, которая чертовски разболелась. Мне казалось, что в моем левом виске зияет широкая дыра и белый жар вливается через нее прямо в мозг; я с трудом мог разглядеть что-либо левым глазом и мучился от страха, что из-за этого удара останусь слепым. Однако я все же соображал, куда мне нужно ехать, — сперва на юго-восток, чтобы обогнуть Мирут, а затем — к юго-западу, пока я на безопасном расстоянии не достигну дороги, ведущей на Дели. Дели означало для меня безопасность, потому что там находился сильный британский гарнизон (по крайней мере, я так думал), а поскольку между Дели и Мирутом был проложен телеграф, я надеялся, что оттуда последует помощь. Тогда я не знал, что этот дурак Хьюитт даже не послал сообщение о бунте в Мируте.
Таким курсом я и следовал, полуослепший от боли, то и дело сбиваясь с пути даже при ярком свете луны, так что время от времени мне приходилось останавливаться, а потом короткими бросками преодолевать открытые пространства. Я медленно продвигался вперед и когда наконец достиг Делийской дороги, то что же я увидел на ней? Две роты сипаев, бодро маршировавших при лунном свете в сомкнутом строю и распевавших на ходу, а хавилдары даже отсчитывали шаг. На секунду мне показалось, что это — помощь из Дели, но тут же до меня дошло, что они идут в другом направлении. Но я был слишком измучен, чтобы думать об этом, и остановил своего пони на обочине. Когда сипаи заметили меня, то с полдюжины из них выбежали из строя, крича, что вот он, солдат из славного Третьего кавалерийского, и засыпали меня приветствиями, пока не заметили кровь на моем лице и мундире. Тогда сипаи помогли мне спуститься с лошади, отерли кровь с головы, дали мне выпить, а затем хавилдар сказал: «Ты уже ни за что не догонишь свой пултан сегодня, бхаи.[137] Сейчас они, наверное, уже на полпути к Дели», — на что остальные разразились приветственными выкриками, подбрасывая в воздух свои шапки.
— Неужели? — спросил я, теряясь в догадках, какого черта все это значит.
— Да, они, как всегда, первые в каждой стычке, — воскликнул другой сипай, — конечно, у них преимущество — быстрые ноги их лошадей, но и мы тоже будем там!
И они снова начали кричать и смеяться, смуглые лица ухмылялись, глядя на меня, а белые зубы блестели. Даже в моем состоянии я понял, что все это могло означать лишь одно.
— Так значит, Дели тоже пал? — спросил я, и хавилдар ответил, что пока нет, но три полка в городе точно восстали и с помощью всего гарнизона Мирута, который спешит им на подмогу, всех сагибов перережут еще до конца дня.
— И это только начало! — приговаривал он, перевязывая мою рану. — Уже скоро — Дели, затем — Агра, Канпур, Джайпур — да и сама Калькутта! Мадрасская армия также поднялась и вдоль всего Большого тракта сагибы загнаны в свои укрепления, как мыши в норы. Весь Север восстал — лежи спокойнее, приятель — еще хватит сагибов для твоего ножа, когда твоя рана затянется. Если можешь ехать, лучше двигай с нами: пойдем одной веселой солдатской компанией, разве что сагибы решатся выслать кавалерию, чтобы пощипать нас.
— Нет-нет, — отказался я, с трудом поднимаясь на ноги, — я поеду дальше, чтобы присоединиться к моему пултану, — несмотря на их возражения я вновь вскарабкался на своего пони.
— Он жаждет крови белых! — завопили сипаи. — Шабаш, со-вар! Но оставь немного, чтобы напиться и нам!
Я прокричал что-то бессвязное, вроде того, что хочу первым нести смерть, и, пока они подбадривали меня криками, с мрачной миной пустил пони рысью вдоль по дороге. Помнится, у некоторых сипаев из других рот, мимо которых я проезжал, на шеях красовались цветочные гирлянды. Я скакал, пока не отдалился от них на достаточное расстояние; голова у меня раскалывалась от боли и раздулась как воздушный шар. Затем я смутно помню, как свернул в лес и рыскал между деревьев, пока не свалился с седла в полном изнеможении.
Когда я пришел в себя — если это можно так назвать — то почувствовал себя очень плохо. Словно в тумане, помню, что было дальше: периоды смутного бреда перемежались мгновениями абсолютно четкого восприятия окружающего, но было чертовски трудно отличить одно от другого. Помнится, однажды я лежал ничком в канаве и пил затхлую воду, а рядом стояла маленькая девочка со своей козой и смотрела на меня — я даже помню, что вокруг рожек козочки была намотана красная нитка. В другой раз я увидел доктора Арнольда, который ехал среди деревьев в огромном тюрбане, крича: «Флэшмен, вы прелюбодействовали с Лакшмибай на первом уроке! Сколько можно повторять вам, сэр, что нельзя заниматься этим после утренней молитвы!» Или Джон Черити Спринг вдруг являлся мне, стоя на четвереньках и крича прямо в ухо: «Amo, amas, amat![138] Втолкуйте ему, доктор! У этого упрямого ублюдка одни только „amo“ на уме! Hae nugae in seria ducent mala![139] О, Боже!» А потом на смену ему возникли морщинистая туземка и костлявый индус с седыми усами. Она держала в руках чатти[140] и подносила ее к моему рту — сначала пить было трудно и жидкость казалась холодной, но потом край чашки стал мягким и теплым, а чатти вдруг превратилась в губы миссис Лесли, а в рот мне лилась уже не вода, а кровь и я беззвучно стонал, а вокруг меня кружились в хороводе ухмыляющиеся лица, но вдруг весь мир разлетелся на куски и прогремел голос: «Патрон берется в левую руку, а правый локоть поднимается»… а затем вновь появились старые мужчина и женщина, которые внимательно смотрели на меня, пока я снова не проваливался в темное забытье.
В их хижине я наконец-то и пришел в себя, а рана на моем виске наполовину затянулась. К тому времени я потерял бог знает сколько крови и сил, страшно похудел, обовшивел, ужасно вонял и ослаб, как котенок — но все же голова у меня была достаточно ясная, чтобы помнить, что со мной произошло. К сожалению, как выяснилось, мои мысли насчет того, что делать дальше, не были столь же ясными. Я прикинул, что в горячечном бреду пролежал в этой хижине около трех недель, а возможно, и дольше. Старики ничего не знали о том, что происходит вокруг, и были слишком напуганы — только когда я пришел в себя, мне удалось упросить их узнать новости у кого-нибудь в деревне. Наконец они нашли какого-то дряхлого старика, который, увидев меня, страшно перепугался. Еще бы — мой кавалерийский мундир, снаряжение и грязный вид могли кого угодно убедить в том, что я настоящий бунтовщик. Однако прежде чем старикашка успел выскользнуть за двери, я дрожащей рукой ткнул ему под нос свой револьвер и он обреченно присел рядом со мной, живо что-то бормоча, словно корреспондент Рейтерс,[141] а остальное население деревни, трепеща от страха, наблюдало за нами сквозь щели в стенах.
Дели пал — старик был в городе и там была страшная резня сагибов и их родственников. Был провозглашен король Дели, который сейчас правит всей Индией. Везде было одно и то же — Мирут, Барейли, Алигарх, Этавах, Майнпури (все это в округе сотни миль или около того), храбрецы-сипаи всюду торжествовали победу и скоро каждый крестьянин получит рупию и цыпленка. (Сенсация!) Сагибы попытались предательски напасть на туземных солдат в Агре, Канпуре и Лакноу, но, несомненно, во всех этих местах будет наведен порядок — два полка повстанцев с пушками прошли через эту самую деревню прошлой ночью, чтобы помочь своим братьям в Агре. Повсюду валяются мертвые сагибы, так что скоро их вообще не останется. Бомбей восстал, афганские воины потоком вливаются с севера, провозглашен великий мусульманский джихад. Форты проклятых гора-логов берут один за другим, после чего следует грандиозная резня. Несомненно, я внес в эту борьбу и свой вклад? — великолепно, тогда меня обязательно вознаградят троном наваба,[142] сокровищами и целой охапкой любвеобильных женщин. Меньшего я не заслуживаю, ведь я воин Третьего кавалерийского! Отличные бойцы — сам он тридцать один год прослужил в полку бомбейских саперов, правда, лишь жалкие нашивки наика украшают его пиншун — да-а-а, но теперь настали другие времена — коварный и продажный Сиркар изгнан навсегда…
Часть его новостей, конечно же, была полной ерундой, но я не мог судить, насколько большой была эта часть, и не сомневался в его информации о местных мятежниках. Возможно, я слишком охотно поверил его россказням о вторжении афганцев и пожарах в Бомбее — но вспомните, что я уже видел не менее невероятные вещи в Мируте — так что теперь все казалось возможным. В конце концов, в Индии на полсотни сипаев приходился лишь один британский солдат, не говоря уже о бандитах, разбойниках из пограничья, базарных грабителях и прочих. Господь милосердный, если уж пожар разгорелся, то почему бы ему было не проглотить все британские гарнизоны, городки и поселки от Хайбера до Коромандельского побережья? И мятеж будет расширяться — остолбенело сидя на своей чарпаи, я не сомневался в этом.
Можете считать, что это были мысли труса, но, благодарение небесам, по другому мыслить я не умел — по крайней мере, так всегда можно подготовить себя к худшему. А что могло быть хуже моего теперешнего положения, торчать прямо в центре бури? Проклятие, почему изо всех мест, чтобы спрятаться, меня угораздило выбрать именно Мирут?! Как теперь выбраться отсюда? Моя туземная маскировка оказалась достаточно надежной, но не могу же я всю оставшуюся жизнь скитаться по Индии в образе черномазого? Мне нужно найти британский гарнизон — крупный и безопасный. Канпур? Но, похоже, огонь мятежа охватил уже всю долину Ганга. На севере также ничего хорошего, Дели пал и Агра теперь на краю гибели. Юг? Гвалиор? Джханси? Индор? Я поймал себя на том, что бормочу эти названия вслух и все чаще произношу — Джханси, Джханси!
Учтите, что к тому времени я уже был в своем обычном состоянии исключительного малодушия, да к тому же еще плохо соображал — результаты ранения и шока, которые я пережил. Иначе я бы никогда даже и не мечтал о Джханси, до которого было добрых двести пятьдесят миль. Но в Джханси был Ильдерим, и если в этом ужасном мире можно было чему-нибудь верить — так это его обещанию, ждать меня у храма Буйвола. В Джханси должно быть безопасно — черт побери, я же провел несколько недель с их правительницей в цивилизованных беседах и любовных намеках; она прелестная, восхитительная девушка и твердо держит свое княжество в руках, не так ли? Да, выбор Джханси был сумасшествием — и теперь я знаю это, но тогда в моем болезненно-лихорадочном состоянии он казался единственно возможным.
Так что я двинулся на юг, по большей части разговаривая сам с собой и заезжая только в самые глухие деревеньки по пути, чтобы запастись провиантом. Я не разводил особых церемоний, а просто вытягивал мой кольт, пинками разгонял жалких обитателей хижин и брал все, что мне было нужно, — никогда я еще не был столь благодарен публичной английской школе за то, что она воспитала меня таким. Может, мне и не повезло, но пока я ехал все дальше на юг, мимо Кхурджа, Хатраса и Фирозабада, перебирался через реку и скакал мимо Гохада к границе Джханси, все, что я видел, лишь подтверждало мои худшие предположения. Несколько раз мне приходилось скрываться в зарослях, чтобы не попасть на глаза бандам сипаев — но все же это тоже оказались бунтовщики, судя по их неряшливому виду и по тому, как они болтали на марше. Теперь я знал, что по дороге оставались еще городки и станции, которые удерживали британцы, и даже кое-где в округе рыскали отряды нашей кавалерии, но я старался не попадаться у них на пути. Все что я видел — это были следы Смерти — сожженные бунгало, разоренные деревни, раздувшиеся от жары тела мертвецов, полуобъеденные стервятниками и шакалами. Помню один маленький садик за хорошеньким домиком и три скелета в траве — полагаю, дочиста обглоданные муравьями. Два были большие, а один, по-видимому, принадлежал ребенку. Тут и там на горизонте или над деревьями появлялись дымки и толпы жителей текли по дорогам, волоча на себе свои жалкие пожитки. Тогда мне все это казалось концом света, и, если вы знаете Индию, то должны были бы ощутить то же самое — представьте что-либо подобное в Кенте или Хэмпшире — и вы поймете мои чувства.
К счастью, благодаря моему тогдашнему состоянию воспоминания об этом путешествии не слишком ясны; они не были такими до того самого утра, когда я спустился с низких холмов, окружавших Джханси и увидел в отдалении скалу, увенчанную фортом, которая нависала над городом. Тут у меня в мозгу настало некоторое просветление — сидя на пони, я вдруг вспомнил все, что я сделал и почему я здесь. И тут мне показалось, что я, в конце концов, все сделал правильно. Вокруг все выглядело достаточно мирно, хотя с этого конца города я еще не мог рассмотреть британский квартал. Я решил прилечь где-нибудь до вечера, а затем проскользнуть в храм Буйвола, который располагался рядом с Джокан-багом — садом, окруженным целым выводком храмов, неподалеку от города. Если посланца Ильдерима не будет здесь к заходу солнца, я разведаю, как обстоят дела в британском квартале, и если там все благополучно, то поеду туда и представлюсь Скину.
Солнце скатывалось все ниже, а тени становились длиннее, когда я объехал лес, в котором притаился павильон Лакшмибай. «Кто знает, — подумал я, — может мы скоро снова станцуем там с ней, но уже под другую музыку», — и спустился к храму Буйвола уже в сумраке. Подходя, я не заметил ни единой живой души, но уже издалека меня поприветствовал сигнал горна. Несколько воспрянув духом, я двинулся вперед, к развалинам храма, но тут кто-то в тени громко прищелкнул языком и я резко натянул поводья.
— Кто здесь? — спросил я, нащупывая кольт.
Навстречу мне вышел человек, подняв руки, чтобы показать, что в них нет оружия. Это был пуштун в шапке со значком черепа, легкой куртке и прочем; когда он поравнялся с головой пони, я узнал совара, который отдал мне свою одежду и лошадь, когда я покидал Джханси — Рафика Тамвара.
— Флэшмен-хузур, — прошептал он тихо. — Ильдерим сказал, что вы придете.
И, не говоря ни слова более, ткнул большим пальцем в направлении храма, прижал руки ко рту и негромко ухнул по-совиному. Со стороны развалин донеслось ответное уханье и Тамвар кивнул мне, что можно идти дальше. «Ильдерим там», — сказал он и прежде, чем я успел спросить его, какого дьявола все это значит, растворился во тьме, а я продолжал с трудом продвигаться вперед, продираясь сквозь заросли и спотыкаясь о развалины, которые остались на месте старого храмового сада. В дверном проеме разрушенного здания показался отблеск огня и силуэт мужчины, замершего в ожидании, — даже на таком удалении я понял, что это был Ильдерим-Хан, а мгновением позже я уже был в его объятиях — его заросшая бородой физиономия ухмылялась, одной рукой он пожимал мне руку (я принял это с огромным облегчением), а потом, полуобняв, похлопал по спине — вторая его рука висела на перевязи. Затем пуштун издал горловой смешок и заметил, что я, наверное, заключил сделку с самим шайтаном, так как остался жив и смог прийти на эту встречу.
— Потому что мы слышали о Мируте, — заметил он, подводя меня поближе к костру, где с полдюжины его головорезов потеснились, чтобы освободить нам место. — И про Дели, Алигарх и остальное…
— Но какого черта ты делаешь здесь? — поинтересовался я. — С каких пор иррегулярная кавалерия разбивает бивуаки в развалинах, если у нее есть собственные квартиры?
Он уставился на меня, на минуту прекратив подбрасывать поленья в костер, и что-то в его взгляде заставило мою кровь заледенеть в жилах. Они все уставились на меня; несколько мгновений я переводил взгляд с одной ухмыляющейся рожи на другую и потом спросил вдруг охрипшим голосом:
— Что это значит? Ваш офицер — Генри-сагиб? Случилось что…
Ильдерим бросил полено в огонь и присел на корточки рядом со мной.
— Генри-сагиб умер, брат, — спокойно произнес он, — и Скин-сагиб, и сагиб — сборщик налогов, а также их жены и дети. Все они умерли.
VII
Я и сейчас вспоминаю все это так же ясно, как видел тогда — темные силуэты по-ястребиному хищных лиц на фоне стены храма, в красноватых отблесках пламени и яркую полоску слезы, скатившейся по его щеке. Нечасто можно увидеть плачущего пуштуна, но Ильдерим-Хан плакал, когда рассказывал мне о том, что произошло в Джханси.
— Когда пришли сообщения из Мирута, эта черномазая шлюха, именующая себя махарани, заявила Скин-сагибу, что ей необходимо увеличить количество телохранителей, чтобы обеспечить безопасность собственной персоны и сокровищ, собранных во дворце. Время было неспокойным, а она говорила так сладко, что Скин, будучи молодым и глупым, дал ей все, что она захотела, — он даже сказал, что наша свободная кавалерия должна служить ей, и Кала-Хан (чтоб ему жариться в аду!) принял ее соль[143] и ее деньги, а с ним и еще двое других начальников. Но большая часть ее новых телохранителей были базарным отребьем — бадмаши, клифти-валла[144] и прочие уличные убийцы, привыкшие нападать вдесятером на одного, по которым плакала не одна тюрьма.
— Затем, две недели назад, начались волнения среди сипаев Двенадцатого пехотного полка; там из рук в руки передавали чапатти и цветки лотоса, и некоторые из них ночью подожгли бунгало. Но полковник-сагиб поговорил с ними и все, казалось, успокоилось. Потом прошли еще один день и одна ночь и Фаиз-Али вместе с этой лживой свиньей — Кала-Ханом, во главе толпы сипаев и этих новых героев из гвардии рани, напали на Звездный форт и завладели пушками и порохом и двинулись на британский квартал, чтобы предать его огню, но Скин-сагиб получил предупреждение от верных сипаев, так что хоть несколько сагибов попали в руки этих паразитов и были перерезаны, большинству не только удалось запереться в маленьком городском форте вместе со своими мэм-сагиб и малышами, но и дать мятежникам порядочный отпор. Они держались пять дней — мне ли не знать этого? Я тоже был там, вместе с Рафиком Тамваром, Шадман-Ханом и Мухаммед-дином, которых ты видишь здесь. Там я получил это, — он коснулся своей раненой руки, — бунтовщики семь раз пытались ворваться на стены.
— Они лезли, как саранча, — проворчал один из соваров, сидящих у огня. — И мы их давили, как саранчу.
— Затем кончилась провизия и вода, не осталось и пороха для бундуков,[145] — мрачно продолжал Ильдерим. — И Скин-сагиб — видал ли ты, брат, когда-нибудь, чтобы молодой человек так постарел всего за неделю? — сказал, что держаться больше невозможно, так как дети могут умереть. Он послал трех человек под белым флагом к рани, прося ее о помощи. А она — она ответила им, что ей нет дела до английских свиней.
— Не могу в это поверить, — обронил я.
— Слушай, брат, — и верь мне, потому что одним из этих троих был я, а вторым — сидящий здесь Мухаммед-дин и мы пришли к дворцовым воротам вместе с Мюреем-сагибом. Ему одному разрешили войти, а нас двоих бросили в вонючую яму, но нам рассказали, что произошло вслед за этим — что она отказала Мюррей-сагибу, а потом он был растерзан на куски в ее темнице. — Ильдерим повернулся и посмотрел на меня горящими глазами. — Я не знаю, как было на самом деле — но вот, что мне сказали; выслушай, что было дальше, а потом суди сам.
Он уставился на пламя, сжимая и разжимая кулак, а затем продолжил:
— Когда Скин-сагиб не получил ответа и увидел, что население города перешло на сторону мятежников, а дети продолжали страдать от голода и жажды, он приказал сдаться. И Кала-Хан согласился, так что сагибы открыли ворота и сдались на милость бунтовщиков.
Я вновь заметил слезу, скользнувшую по его бороде; он не смотрел на меня, продолжая вглядываться в пламя и говорить очень ровным голосом:
— Они привели всех белых — мужчин, женщин и детей — к Джокан-багу и сказали, что все пленные должны умереть. Женщины рыдали и бросались на колени, умоляя сохранить жизнь их детям. Мэм-сагиб, брат мой, леди, которых ты знал — лежали у ног этой базарной сволочи. Я сам видел это! — неожиданно вскрикнул он. — И эти неприкасаемые ублюдки — эти черви из высших каст, которые смеют называть себя мужчинами, а сами в ужасе убегают прочь, стоит только тени настоящего воина упасть на их чатти — эти мерзкие создания хохотали, издеваясь над мэм-сагиб и гнали их прочь пинками.
— И я видел это — я, Мухаммед-дин, так как эти сволочи привели нас в Джокан-баг, говоря: «Поглядите на своих могущественных сагибов, поглядите на гордых мэм-сагиб, которые раньше смотрели на нас, как на грязь — смотрите, как они пресмыкаются перед нами, ожидая смерти!»
— За это в аду их ждет трижды раскаленная печь, — произнес один из соваров, — помни об этом, риссалдар-сагиб.
— Даже если они будут гореть вечно — это недостаточная кара, — проворчал Ильдерим, — первыми они убили сагибов — сборщика налогов, Эндрюс-сагиба, Гордона, Берджесса, Тэйлора, Тарнбулла — всех. Они построили их в ряд и зарубили топорами. Скин-сагиба они убили последним; он просил пощадить его жену, но они хохотали ему в лицо и били его и, прежде чем зарезать, хотели поставить его на колени. «Я умру стоя, — сказал он, — сожалея лишь о том, что меня коснулись руки такой бесчестной сволочи. Бей, трус — ведь мои руки связаны!» И Бакшиш-Али, эта тюремная гнида, перерезал ему глотку. И на все это они заставили смотреть женщин и детей, крича: «Смотри, это кровь твоего мужа! Гляди, малыш, это — голова твоего папочки, попроси его поцеловать тебя!» А потом они поубивали всех мэм-сагиб, а жители города смотрели на это с приветственными криками и осыпали палачей цветами. И Скин мэм-сагиб сказала Фаизу-Али: «Если это доставит тебе удовольствие, сожги меня живьем или сделай со мной что хочешь, но только пощади детей!» Но они швыряли грязью ей в лицо и поклялись, что дети тоже умрут…
Один из соваров добавил:
— На небесах ей на руку повяжут красную нить, как у гази.
— А я, — продолжал Ильдерим, — рвался как тигр и с пеной у рта осыпал их проклятьями. Я крикнул: «Шабаш, мэм-сагиб!» и «Гип-гип-гип-ура!», — как это делают сагибы, чтобы подбодрить ее. И эти мерзавцы ее зарезали. — Ильдерим рыдал, не стыдясь своих слез, продолжая свой рассказ: — А затем они принялись за детей — их было два десятка, — совсем малышей, которые плакали и кричали, зовя на помощь своих уже мертвых родителей. Их всех покрошили на кусочки ножами и топорами. А потом они бросили мертвых в Джокан-баге без погребения. [XXVIII*]
Слышать что-либо подобное все же не так ужасно, как непосредственно видеть; разум может это понять, но сознание, к частью, не сможет представить во всей полноте. Несмотря на то, что я был потрясен рассказом, все же не мог представить себе ужасную сцену, описываемую Ильдеримом, — все, о чем я мог думать, было красное веселое лицо Макигена, когда рассказывал свои забавные истории и маленькая миссис Скин, столь озабоченная тем, к лицу ли ей это новое платье на обеде у сборщика налогов, и Эндрюс, рассуждающий о поэзии Китса и Скин, утверждающий, что ему не сравниться с Бернсом, и маленькая забавная девчушка Уилтон, напевающая «боббити-бобити-боб» вместе со мной и хохотавшая до упаду. Казалось невозможным, что все они умерли — заколотые, как скоты на бойне, но полагаю, больше всего меня поразил вид великого воина гильзаев, которого, казалось, можно было зажарить живьем и не услышать при этом ничего, кроме насмешек и проклятий, который всхлипывал, как дитя. Мне нечего было сказать; через некоторое время я поинтересовался, как ему удалось остаться в живых.
— Они бросили нас с Мухаммед-дином в темницу и обещали замучить до смерти, но ребята из нашего отряда ночью прорвались в замок, так что нам удалось спастись. До вчерашнего дня мы скрывались в лесу, но потом бунтовщики ушли — бог знает куда — и мы вернулись сюда. Шадман и двое с ним отправились за лошадьми; мы ожидали их — и тебя, брат. — Ильдерим вытер лицо, с усилием улыбнулся и обнял меня за плечо.
— А что же рани?
— Бог ниспошлет ей справедливое наказание и она вечно будет лежать на раскаленной докрасна кровати, — сказал он и сплюнул. — Она здесь, в своей цитадели, а Кала-Хан дрессирует ее гвардию на майдане — возможно, ты слышал его рев? Рани рассылает сборщиков за налогами, чтобы увеличить свою армию. Для чего? — послушай и тебе станет смешно. Часть мятежников выбрали своим вожаком Садашео Рао из Парола. Он занял форт Карера и провозгласил себя раджой Джханси — вместо нее. — Ильдерим хрипло рассмеялся. — Говорят, что рани поклялась его распять на штыках его же сторонников — Бог даст, у нее получится. Затем она двинет силы против Кат-Хана или против девана Орчи, чтобы бросить их к своим хорошеньким ножкам. О, эта рани — предприимчивая леди и знает, как извлечь выгоду даже из того, что мир вокруг летит кувырком. И в то же время говорят, что она рассылает британцам письма, в которых клянется в своей преданности Сиркару — сгнить бы заживо этой твари, за всю ее ложь и предательство!
— Может быть, она и останется, — заметил я, — имею в виду, лояльной. Понимаешь, я не сомневаюсь в том, что тебе говорили — но видишь ли, Ильдерим, я кое-что о ней знаю — и поскольку довольно хорошо ее изучил, то не верю, что она приказала убивать детей — это не в ее духе. Тебе известны факты, что она присоединилась к мятежникам или поддерживала их, или могла противостоять им?
На самом деле я просто не мог представить, что рани — враг.
Ильдерим пристально посмотрел на меня и презрительно прищелкнул пальцами.
— Кровавое копье, — сказал он, — возможно ты самый храбрый наездник во всей Британской армии и Господь — свидетель, что ты не дурак, но когда дело касается женщин, ты глуп как дитя. Должно быть, ты пришпорил эту индийскую шлюху, а?
— Черт бы побрал твою грубость…
— Думаю, что да. Скажи-ка мне, мой кровный брат, сколько женщин ты покрыл в своей жизни? — и он подмигнул своим приятелям.
— Какого черта ты имеешь в виду? — вспыхнул я.
— Так сколько? Скажи мне как старому другу.
— Сколько? Проклятье, да что тебе до этого? Ну, ладно… во-первых, жена и… э-э… некоторые…
— Да ладно — ты ходил налево чаще, чем мне приходилось перебираться через ручьи, — заметил этот вежливый малый, — и неужели ты верил им только потому, что они позволили тебе получить удовольствие? Только из-за того, что они были красивы и доступны — но делало ли их это честными? Так вот, если эта рани просто очаровала тебя — ну что ж, иди прямо сейчас к воротам ее дворца и крикни: «О, любимая, впусти меня!» А я встану под стеной, чтобы потом собрать то, что от тебя останется.
Что мне было на это сказать? Конечно, смешно. Оставалась ли она лояльной британцам или нет — а я с трудом мог поверить, что нет — время было не слишком подходящее для того, чтобы это проверить, так как вся провинция просто кишела бунтовщиками. Боже милостивый, где же можно теперь найти тихое местечко в этой проклятой стране? Дели, Мирут, Джханси — сколько же гарнизонов еще осталось? Я расспрашивал Ильдерима и рассказывал ему то, что мне довелось видеть и слышать на моем пути к югу.
— Никому это не известно, — мрачно ответил он. — Но будь уверен, сипаи не разгромили всех, как они пытаются убедить в этом весь мир. Пока им удалось безнаказанно превратить в кровавое пепелище все земли между Гангом и Джамной — но даже здесь уже поговаривают о том, что британцы двинулись на Дели и отряды сагибов, которым удалось уцелеть при падении гарнизонов, рыщут в окрестностях, причем во все возрастающем количестве. Это не только военные, но и штатские сагибы. У Сиркара еще остались зубы — и гарнизоны, которые сохранили силы. Например, Канпур — всего лишь четыре дня езды отсюда. Говорят, что старый генерал Уилер стоит там с большими силами и уже потрепал армию сипаев и бадмашей. Когда Шадман приведет наших лошадей, мы двинемся туда.
— Канпур? — я почти испуганно пропищал это слово, так как оно означало путешествие еще дальше в глубь страны, охваченной жаждой мести. Однажды выбравшись оттуда, я не горел желанием снова возвращаться обратно.
— А что же еще? — спросил Ильдерим. — Более безопасного пути бегства из Джханси не существует. Дальше к югу я двигаться не решусь — там всего лишь несколько мест, где живут сагибы и нет больших гарнизонов. То же самое и на западе. Под Джамной округа тоже может пылать мятежом, но именно там живет твой народ — а теперь это и наш народ — мой и моих парней.
Я посмотрел на угрюмые лица сидящих вокруг костра людей — покрытых шрамами ветеранов множества приграничных стычек, в их грязных старых поштинах, с огромными хайберскими ножами за поясом — клянусь святым Георгом, мне действительно было бы безопаснее снова вернуться на север в их компании, чем попытаться скрыться где-нибудь в одиночку.
То, что говорил Ильдерим, также похоже, было правдой — Канпур и другие укрепления неподалеку от крупных рек, очевидно, и будут теми точками, в которых наши генералы постараются сконцентрировать свои силы — а значит, я снова смогу принять свое собственное обличье, соскоблить эту чертову бороду, сбросить сипайские тряпки и вновь почувствовать себя цивилизованным человеком. Почему бы не придумать пока какую-нибудь бессмыслицу насчет того, что мне пришлось исчезнуть из Джханси — например, преследуя Игнатьева или что-нибудь подобное? Мой бог, да я смогу совершенно забыть и о нем, и о тугах. Моя миссия в Джханси — Пам, эти лепешки и предупреждения — все это сейчас лишь сухая листва, развеянная ветром, обо всем этом можно забыть из-за урагана, который потряс Индию. Теперь никому не будет дела до того, куда я спрячусь или что буду делать. Мой дух рос с каждой минутой — когда я думал о моем первом бегстве из Джханси, то мог сказать, что ужасный опыт, полученный в Мируте, того стоил.
Вот вам другая сторона моего трусливого характера — если вас легко испугать, то вы так же быстро можете воспрянуть духом, стоит опасности миновать. Ну, конечно, она пока не совсем миновала меня, но зато я снова был среди друзей и к тому же как сказал Ильдерим, мятеж не был таким уж непреодолимым бедствием, как мне казалось. Конечно, как только британцы переведут дух, этим проклятым мятежникам останется только бежать без оглядки, а Флэши будет во всю глотку кричать: «Ату их!» — с безопасной дистанции. А ведь и меня могли зарезать вместе с остальными в Джокан-баге — я вздрогнул от ужаса, при воспоминании о страшном рассказе Ильдерима — или сжечь живьем в Мируте вместе с Доусонами. Клянусь Юпитером, в конце концов дела обстоят не так уж плохо.
— Хорошо, — важно сказал я, — Канпур подойдет.
Разве я сознавал тогда, что этими словами практически вынес себе приговор?
Между тем я наконец-то хорошенько выспался — ощущая себя в полной безопасности в окружении негодяев Ильдерима, и весь следующий день мы провели в развалинах храма, послав одного совара на поиски Шадман-Хана, добывавшего для нас лошадей. Весь этот день до нас доносились звуки горнов и барабанов из долины, где армия рани готовилась к ведению собственных маленьких войн с соседями. Вечером Ильдерим рассказал, что владычице Джханси удалось собрать несколько сотен пеших воинов и несколько отрядов конных маратхи, да еще с полдюжины пушек — неплохо для начала. К тому же в то тревожное время, благодаря сокровищнице Джханси, она могла обещать регулярную плату своим солдатам, а заодно обещать им отдать на разграбление Орчу — после того как она разделается с ее деваном.
На следующее утро объявился-таки Шадман, восторженно кудахтая от гордости за собственные успехи. Он с приятелями уже наложил лапы на шестерых лошадей, которых укрыл в чаще, в нескольких милях от города, а теперь у него созрел прекрасный план, как разжиться еще полудюжиной скакунов.
— Этой индийской шлюхе нужны кавалеристы, — ухмылялся он, — так что я просто пришел на майдан в ее лагере и предложил свои услуги. «Я могу подыскать шесть своих старых приятелей по службе Компании, которые способны проскакать до Джеханнума и обратно всего лишь за рупию в день и за долю в военной добыче, — сказал я этому безносому борову, который там у них командует кавалерией, — если вы дадите мне шесть добрых коней для них». «У нас хватает лошадей с избытком, — ответил он, — приводи своих приятелей и каждый получит пять рупий в день, карабин и расшитый чепрак в придачу». Я ударил с ним по рукам на десяти рупиях на нос — так что дайте только завтра шестерым из нас присоединиться к их кавалерии, и уже к ночи мы смоемся оттуда и встретимся с тобой, риссалдар, приведя лошадей на всех. Отважный план, не правда ли — да к тому же он обойдется этой шлюхе-рани в шестьдесят рупий, дюжину лошадей и кучу амуниции!
Никто не выглядит столь радостным, как пуштун, замышляющий какую-то пакость, — его приятели одобрительно похлопали Шадмана по колену и пятеро уехали с ним в тот же вечер. Ильдерим, я и оставшиеся трое подождали до вечера и пешком двинулись в район леса, где была назначена встреча. Здесь мы нашли шесть лошадей и охранявшего их совара, а около полуночи подъехал и Шадман с остальными, чуть не лопаясь от смеха. Им не только удалось увести еще шестерых лошадей, но и подрезать поджилки дюжине других, заколоть уснувшего начальника конницы и поджечь склад с фуражом — просто для того, чтобы доставить удовольствие кавалерии рани.
— Отлично, — прорычал Ильдерим, призывая их к молчанию. — Мы вернемся к этому делу, когда снова приедем в Джханси. Нам еще надо расплатиться за Джокан-баг, не так ли, мой кровный брат?
На мгновение он сжал мое плечо, когда мы уже сидели верхом в тени деревьев, а остальные выстраивались за нами в колону по двое. В отдалении, абсолютно черные на пурпурном фоне ночного неба, вырисовывались контуры цитадели Джханси и города, простершегося у ее подножия. Ильдерим вглядывался в них блестящими глазами — я так четко помню этот момент: теплый мрак, запах индийской земли и лошадиного пота, скрип кожи и мягкий топот копыт. Я вновь подумал об ужасах Джокан-бага — и о рани, этой прекрасной девушке, там, на своих качелях, в увешанном зеркалами дворце, с мягкими коврами и драгоценной мебелью — пытаясь убедить себя в том, что все это принадлежит одному миру.
— Одного мертвого мятежника и нескольких лошадей недостаточно, чтобы расплатиться за Скин-сагиба и остальных, — проворчал Ильдерим. — Нужно больше, намного больше. Ну что — в Канпур? Рысью — марш!
Он говорил, что это займет не более четырех дней, но за это время мы едва успели добраться до Джамны за Хаминпуром, поскольку, по моему совету, держались в стороне от больших дорог и старались двигаться лишь мимо небольших деревушек и бедных ферм. Но даже здесь были видны следы разорения, охватившего эту землю. Мы проезжали поселки, еще дымящиеся после пожара, почерневшие руины с разбитыми стенами, трупы людей и животных, валяющихся там, где они были застрелены или разорваны на части. Несколько раз нам попадались отряды мятежников, все, как и мы, направляющиеся к северу. Это заставило меня подумать, правильный ли путь мы избрали, но я успокаивал себя, что в более многочисленной компании ехать безопаснее — пока утром четвертого дня Ильдерим не разбудил меня, кипя от ярости сообщением, что восемь человек из нашего отряда ускользнули ночью, оставив нас только с Мухаммед-дином и Рафиком Тамваром.
— Это все продажный вор, ублюдочный сын кабульской шлюхи Шадман-Хан подговорил их! — Ильдерим весь кипел от гнева. — Он и этот навозный жук Асаф-Якуб, который нес караул на рассвете — они бросили нас, украв весь провиант и фураж!
— Ты полагаешь, что они собираются присоединиться к мятежникам? — воскликнул я.
— Нет! Если бы это было их целью, мы бы с тобой не дожили до рассвета. Нет — они решили заняться своим делом — то есть грабежами и мародерством! Я должен был об этом догадаться! Разве я не видал, как Шадман-Хан жадно облизывал свои разбойничьи губы, когда вчера вечером мы проезжали мимо покинутых бунгало? Он и остальные видят в этом разоренном краю больше возможностей набить свои карманы, нежели для честной службы, согласно присяге. Они снова станут бандитами — такими же, как и были, когда Сиркар в недобрый час призвал их на службу. А награбившись вдоволь, они вновь уйдут за северную границу — у них даже не хватит духу стать честными мятежниками!
И он презрительно сплюнул.
— Никогда не верь человеку из племени африди, — философски сказал Тамвар. — Я знал, что Шадман — бадмаш с того самого дня, как он пришел к нам в отряд. По крайне мере, они оставили нам наших лошадей.
Все это было для меня слабым утешением — в окружении одиннадцати отличных всадников я чувствовал себя почти в полной безопасности, но теперь их число сократилось до трех — и только одному можно было доверять — так что я снова почти дрожал от ужаса.
Однако теперь, когда мы забрались так далеко, нам ничего не оставалось, как двигаться дальше. До Канпура оставалось не более дня езды, а в лагере Уилера мы могли бы чувствовать себя в полной безопасности. Больше всего меня беспокоило то, что чем ближе мы подъезжали, тем выше была вероятность встретить значительные силы мятежников. Это подтвердилось, когда через несколько часов после подъема солнца мы услышали очень отдаленный гул канонады. Чтобы напоить лошадей, нам пришлось остановиться у колодца; дорога здесь по обоим краям густо поросла лесом. Ильдерим при этих звуках насторожился.
— Канпур! — пробормотал он, — что же может означать эта стрельба? Неужели Уилер-сагиб в осаде? Наверняка…
Прежде чем я успел ему ответить, раздался стук копыт и не далее чем в двухстах ярдах впереди нас показались три всадника; я едва узнал в них туземных кавалеристов, а значит, скорее всего — мятежников, когда вдруг разглядел их преследователей — и издал вскрик облегчения, так как впереди их мчался белый офицер с поднятой саблей и что-то кричал. За его спиной виднелся целый кавалерийский отряд, но у меня не было времени разглядывать их — я присел у обочины, выхватил свой кольт и навел его на ближайшего из беглецов. Затем я выстрелил — его конь сделал гигантский скачок и рухнул в пыль; двое его товарищей хотели было свернуть и скрыться среди деревьев, но одна из лошадей споткнулась и сбросила своего седока, так что только одному удалось пробиться к лесу, а группа преследователей уже ломилась сквозь кусты вслед за ним.
Остальные окружили оставшихся двоих, а я бросился к ним, крича:
— Ур-ра! Браво, ребята! Это я — Флэшмен! Не стреляйте!
Теперь я видел, что большую часть из этих кавалеристов составляли сикхи,[146] хотя среди них виднелось, по крайней мере, с полдюжины белых лиц, уставившихся на меня, по мере того как я подбегал; вдруг один из них выхватил свой револьвер.
— Ни с места! — прорычал он, — брось свой пистолет — и поживее!
— Нет, нет! — кричал я, — вы не поняли! Я — британский офицер! Полковник Флэшмен!
— Дьявол — вот ты кто! — британец переводил взгляд с меня на Ильдерима и обратно. — Выглядишь очень похоже. А это кто — герцог Кембриджский?
— Это — риссалдар иррегулярной кавалерии. А что касается меня, старина, то веришь ты или нет, но под этой бородой и местными тряпками скрывается полковник Гарри Пэджет Флэшмен — о котором, смею предположить, ты кое-что слыхал? — я едва мог говорить от слабости, вызванной волной облегчения, все протягивая ему руку.
— Ты похож на чертового панди,[147] — заметил он, — держись-ка от меня подальше!
— Да ладно, ты и сам не похож на конногвардейца, — сказал я, смеясь. Впрочем, таким был не он один — в отличие от сикхов, которые выглядели по-настоящему угрожающе, их белые спутники представляли собой самую странную толпу, какую только можно себе вообразить, одетую в обрывки мундиров дюжины полков, а сбруя — сплошное старье. Некоторые из них носили пуггари, другие — тропические шлемы, а на голове одного белобородого толстяка в едва сходящемся фраке, торчала соломенная шляпа. Все они были грязными и небритыми после нескольких недель, проведенных в седле, и единственное, чего у них было вдосталь — так это оружия: пистолеты, карабины, сабли, ножи за поясом, а у одного-двух были даже копья для охоты на диких свиней.
— Могу ли узнать, к кому имею честь обращаться? — поинтересовался я, пока они толпились вокруг, — и если у вас есть старший офицер, возможно, вы могли бы передать ему мои приветствия?
Это произвело на него впечатление, но он все еще смотрел на меня подозрительно.
— Лейтенант Чизмен из полка головорезов Роуботема, — ответил он, — но если вы один из наших, то какого черта одеты как черномазый?
— Вы говорите, что вы Флэшмен? — спросил другой — в пробковом шлеме, очках и чем-то, напоминающем старый фланелевый костюм для игры в крикет, брюки которого он заправил в высокие сапоги. — Ну, что ж, если это так — а хочу заметить, что вы ничуть на него не похожи — то вы должны знать меня, потому что Гарри Флэшмен был крестным отцом моего ребенка в Лахоре в 1842 году. Так как меня зовут, а?
Мне пришлось прикрыть глаза и задуматься — это случилась во время моего триумфального путешествия к югу после заварухи в Джелалабаде. Какое-то ирландское имя — да, клянусь Богом, его просто невозможно было забыть.
— О'Тул! — воскликнул я, — вы оказали мне честь, окрестив своего младшенького Флэшменом О'Тулом — надеюсь, он здоров?
— Клянусь Богом, так оно и было! — воскликнул очкастый, вглядываясь в мое лицо. — Это, должно быть, он, Чизмен! Эй, а где полковник Роуботем?
Сознаюсь, мне тоже было интересно — вид головорезов Роуботема был для меня новинкой и если их командир похож на своих солдат, то он должен быть необычным человеком. На дороге, позади группы всадников, окруживших меня, поднялся сильный гул и я увидел одного из беглецов, которого тащили два сикха. Они швырнули его в пыль перед одним из всадников, который наклонился с седла, вглядываясь в лицо человека, чью лошадь я подстрелил.
— Проклятье, и этот мертв! — воскликнул он со злостью. — Чертово невезение! Давайте-ка сюда этого второго негодяя! Сюда, Чизмен, кого вы там поймали — еще один из этих мерзавцев?
Он заставил лошадь переступить через мертвое тело и взглянул на меня так, что я подумал: «Никогда раньше не видал такого агрессивного человека». Все в нем просто дышало яростью — его круглое красное лицо, его мохнатые, торчащие пучками брови, его взъерошенные песчаного цвета бакенбарды, даже то, как он погонял свою лошадь, а когда он говорил, его хриплый писклявый голос, казалось, захлебывался от гнева. Он был невысок и коренаст, а на пони сидел, словно кабан на заборе; его пробковый шлем был обмотан пуггари, а на плечи был наброшен полинялый просторный плащ, напоминающий американское пончо, перетянутый ремнем с пряжкой в виде змеиной головы. Все вместе это представляло забавное зрелище, но отнюдь ничего забавного не было в его светлых, пристальных глазах и ли же в том, как подергивались его губы, пока он оглядывал меня.
— Кто это? — пролаял психованный, и когда Чизмен сказал ему, а О'Тул, который к тому времени уже рассмотрел меня и с уверенностью заявил, что я — Флэшмен, всадник что-то подозрительно проворчал и осведомился, какого черта я шляюсь здесь, одетый как туземец, и откуда я взялся.
Я коротко рассказал ему, что я — специальный политический агент, прибыл из Джханси, где мне вместе с тремя спутниками удалось избежать резни.
— Что вы такое говорите? — воскликнул писклявый. — Резня в Джханси?!
Остальные также столпились вокруг на своих лошадях, пялясь на меня и что-то восклицая, пока я рассказывал, что случилось со Скином и остальными — и лишь закончив рассказ, я был неприятно поражен, заметив, как странно они на него реагировали: это была достаточно шокирующая история, однако она вызвала среди них необычное возбуждение — изможденные лица пылали огнем, глаза лихорадочно блестели и я не мог понять, чем это вызвано. Обычно, когда англичане выслушивают страшные истории, то делают это молча, в большинстве своем — с гримасами омерзения и недоверия — но эта толпа нетерпеливо ерзала в седлах, что-то восклицая и бормоча, а когда я закончил, человечек разразился слезами, скрежеща зубами и размахивая руками.
— Отец небесный! — воскликнул он. — Неужели это никогда не кончится? Столько невинных — вы сказали, два десятка детей? И все женщины? Боже мой!
Он выпрямился в седле, вытер слезы, а его товарищи продолжали стенать, потрясая кулаками. Это была удивительная картина — дюжина огородных пугал, которые, судя по виду, провоевали в своих лохмотьях долгую кампанию, сыпала проклятьями и обращалась к небесам. Мне даже показалось, что у них не все в порядке с головой. Но тут коротышка взял себя в руки и повернулся ко мне.
— Прошу прощения, полковник, — сказал он и хоть теперь его голос звучал более твердо, он все еще вздрагивал от переполнявших его эмоций. — Эти страшные новости — этот шокирующий рассказ — заставили меня забыться. Я — Роуботем, Джеймс Кейн Роуботем, к вашим услугам, а это — мои головорезы, отряд конных добровольцев, собранных мною после падения Дели, а сам я произведен в офицерский чин губернатором Колвином в Агре.
— Произведены… штатским? — это звучало весьма необычно и чертовски странно, но и он, и вся его банда также выглядели весьма необычно. — Я полагаю, сэр, что вы не… не принадлежите к армии?
Он взвился при этих словах:
— Мы солдаты, сэр, так же как и вы! Всего месяц назад я был врачом, в Дели… — Его губы снова задрожали, а язык словно не слушался: — Моя… моя жена и сын, сэр… пропали во время восстания… убиты. Эти джентльмены… добровольцы, сэр, из Агры и Дели… купцы, юристы, служащие — представители всех классов. Пока мы действуем как летучий отряд, так как гарнизоны не могут выделить для этого регулярную кавалерию; мы стараемся удержать дорогу между Агрой и Канпуром, но поскольку сейчас силы мятежников под Канпуром нарастают, мы ведем разведку сельской местности, чтобы разузнать все об их передвижениях и нападаем на них, когда представляется возможность. Твари! — он прошипел это слово, задыхаясь от гнева и озираясь по сторонам, пока его взгляд не упал на пленного, лежащего в пыли, шею которого прижимал ногой сикх. — Да! — воскликнул Роуботем, — возможно, в ваших глазах, сэр, мы и не солдаты, но мы сделали кое-что для того, чтобы приструнить эту нечисть! О, да! Вы увидите это — своими собственными глазами! Чизмен! Сколько бунтовщиков мы захватили?
— Семерых, сэр, считая этого, — Чизмен кивнул на лежащего пленного. — Сейчас подойдет Филдс вместе с остальными.
Отряд, который показался мне остатками этого необычного полка Роуботема как раз приближался к нам по дороге бодрой рысью: с дюжину сикхов и двое англичан, в таких же лохмотьях, как и остальные. Между ними, привязанные за руки к стременам сикхов, бежали или волочились по земле с полдюжины индусов на последней стадии истощения; трое или четверо из них, судя по обрывкам мундиров и бриджей, явно были из числа туземных пехотинцев.
— Тащите их сюда! — дико закричал Роуботем, и когда пленников отвязали и построили перед ним в неровную шеренгу, указал на деревья у них за спиной. — Это отлично подойдет — готовьте веревки, Чизмен! Развяжите им руки и вздерните их в тенечке.
Он едва не подпрыгивал в седле от возбуждения и брызги слюны виднелись на его небритом подбородке.
— Посмотрите, сэр, — сказал он, обращаясь ко мне. — Вы увидите, как мы поступаем с этими грязными убийцами женщин и детей! Обычно мы вешаем их группами по тринадцать человек — но принесенные вами новости о Джханси — эти новые ужасы — делают необходимым… делают необходимым… — Он бессвязно забормотал, сжимая в руке поводья. — Мы должны немедленно дать им урок, сэр! Эта раковая опухоль мятежа… что? Пусть это послужит жертвой, принесенной в честь тех невинных, которые погибли в Джханси столь жестокой смертью!
Я понял, что Роуботем не был сумасшедшим — это был просто обычный маленький человечек, случайно оказавшийся на войне — я много раз видал подобное. По-своему, он был прав; я, переживший столько в Мируте и Джханси, был бы последним, кто осмелился это отрицать. Его соратники были такими же: пока сикхи перебрасывали веревки через ветви деревьев, они сидели и с ненавистью смотрели на своих пленников. Я огляделся по сторонам и заметил горящие глаза, сжатые зубы, языки, облизывающие вдруг пересохшие губы и про себя подумал: «Здорово же вы, ребята, наловчились убивать черномазых. Ну, что ж, удачи вам в этом; панди испытают много неприятностей, прежде чем их прикончат».
Представьте себе, обреченные не выглядели слишком огорченными в это время, а лишь тупо наблюдали, как сикхи накидывают им петли на шеи — за исключением одного — жирного мерзавца в дхоти, который стонал, бился и даже на секунду вырвался было из рук сикхов и бросился на землю перед Роуботемом, но солдаты тотчас оттащили его прочь. Он извивался в пыли, молотя по дороге руками и ногами, в то время как другие стояли молча.
— Посадим их на лошадей, сэр — ускорим это дело? — предложил Чизмен.
— Нет! — рявкнул Роуботем. — Сколько можно вам повторять — я не хочу быстрой смерти этим… этим мерзавцам! Они будут повешены в наказание, мистер Чизмен, и я не намереваюсь облегчать его! Пусть мучаются — и чем дольше, тем лучше! Неужели это слишком много за все те зверства, которые они сотворили? Нет и нет — даже, если бы с них живьем содрали кожу! Слышите вы, негодяи? — Полковник погрозил пленным кулаком. — Вы знаете, чем расплачиваются за мятеж и предательство — сейчас вы заплатите справедливую цену и благодарите любых ложных богов, которым вы молитесь, за то что вас ждет милосердная смерть — вас, которым совесть позволяла мучить и убивать невинных!
Теперь он почти бредил, потрясая руками в воздухе, а затем, заметив мертвое тело, лежащее на дороге, крикнул сикхам вздернуть и его, так чтобы все были повешены вместе, как того требует правосудие. Пока они тащили тело, полковник медленно проехал вдоль шеренги пленных, внимательно осматривая каждый узел на петлях, а после, сняв шляпу, начал молиться вслух, призывая Господа милосердного, как он его называл, в свидетели, что это лишь возмездие, которое они творят именем его, добавив по адресу обреченных, что им нисколько не помешает провести несколько тысяч лет в аду.
Затем он торжественно скомандовал сикхам тянуть, те дернули за веревки и панди повисли в воздухе, а толстяк при этом ужасно захрипел. Я был уверен, что он не был мятежником, но, очевидно, было бы не слишком тактично обсуждать это в такой момент. Остальные пленники корчились, задыхаясь, и бились в своих удавках — пока постепенно все не успокоились, и, посинев, не обвисли, слегка раскачиваясь под лучами яркого солнца. Зрители же завороженно следили за тремя счастливчиками, которым удалось ухватиться за веревки; теперь они пытались подтянуться, чтобы хоть немного ослабить петли на глотках. Они били ногами и судорожно стонали, дико раскачиваясь в разные стороны, и видно было, как их мускулы напрягаются в невероятных усилиях.
— Пять к одному на раджпута,[148] — предложил О'Тул, роясь в карманах.
— Ерунда, — ответил кто-то. — У него нет шансов; ставлю на вон того, маленького — видите ли, ему приходится поддерживать меньший вес.
— И все равно никто из них не пропляшет в петле столько, сколько тот артиллерийский хавилдар, которого мы поймали у Бартаны, — добавил третий. — Помнишь, которого старый Джей Кей нашел спрятавшимся под женской накидкой? Я уж думал, тот черномазый будет барахтаться до скончания века — сколько он выдержал, Чиз?
— Шесть с половиной минут, — ответил Чизмен. Он устроился в седле, подогнув ногу, и достал записную книжку. — Кстати, вместе с сегодняшними их набралось уже восемьдесят шесть, — он кивнул в сторону дергающихся фигур. — Считая троих, которых мы застрелили прошлой ночью, но без тех, которых удалось убить из засады на Майнпурской дороге. Если повезет, к завтрашней ночи мы округлим это число до сотни.
— Я бы сказал, что это неплохо — эй, О'Тул, вот и спекся твой раджпут! Не повезло тебе, сынок — пять монет, а? Говорил же я тебе, что мой маленький петушок — отличная лошадка, не так ли?
— Смотри-ка — да он того и гляди выберется из петли! Видал!
О'Тул ткнул пальцем в маленького сипая, которому удалось почти освободиться от удавки, просунув в нее локоть и оттягивая петлю другой рукой. Один из сикхов подскочил было, чтобы дернуть его за лодыжки, но Роуботем рявкнул на него, а потом вытащил револьвер и, тщательно прицелившись, выстрелил сипаю в живот. Пленник конвульсивно дернулся, затем тело его опало, голова свесилась набок и веревка натянулась; кто-то рассмеялся и крикнул: «Позор!», но другие загудели и через мгновение все повыхватывали пистолеты и начали палить по болтающимся в петлях фигурам, которые подергивались и раскачивались под ударами пуль.
«Получай, ублюдок!» «А вот это — за маленькую Джейн! А вот — еще и еще!» «Как тебе это нравится сейчас, ты, жирная черная свинья? Хотел бы я, чтобы у тебя было пятьдесят жизней — я выбил бы их все до одной!» «Умирай, проклятый — а потом жарься в аду!» «Это — за Джонсона, а это — за миссис Фокс — вот, вот и вот — это за Прайса!» Стрелки кружились на своих лошадях вокруг мертвых тел, которые сочились кровью из многочисленных ран.
— Они еще слишком легко отделались! — кричал белобородый вояка в соломенной шляпе, лихорадочно перезаряжая револьвер. — Полковник прав — после всего, что они натворили, с них надо было живьем содрать кожу! Получай, дьявол! Или сжечь этих негодяев. Говорю тебе, Джей Кей, почему бы нам их не изжарить?
Они палили до тех пор, пока Роуботем не приказал прекратить, и их пыл поугас. Дымящиеся пистолеты были убраны, толпа распалась и только рои мух громко жужжали над восемью лужами крови, образовавшимися под мертвыми телами. Я не удивился тому, что всадники вдруг притихли. Их возбуждение ушло, они обмякли в седлах, тяжело дыша, пока Чизмен проверял строй. Так обычно и бывает со штатскими, неожиданно попавшими на войну и получившими возможность убивать. Впервые после долгих лет, проведенных за заточкой карандашей или пересчитываем пенни, они вдруг ощущают освобождение от всего — от жен, семей, ответственности и могут наконец удовлетворить свои животные инстинкты. Через некоторое время они становятся немного сумасшедшими, и если вам удастся убедить их в том, что они стоят за правое дело, то им все это даже начинает нравиться. Ничто не разжигает жесткость в обычном богобоязненном человеке больше чем сознание справедливого возмездия, — я, который таковым не являюсь и не нуждаюсь ни в каких надуманных оправданиях своим самым диким выходкам, говорю вам это. Сейчас же, выпустив пар, они словно насытились и даже ощущали себя несколько потрясенными — как будто первый раз в жизни сходили по девкам (о чем, впрочем, эти благочестивые маленькие христиане никогда и не мечтали). Если вы спросите меня, что я думаю об увиденной картине — ну что ж, лично я поставил на предложенного О'Тулом раджпута и потерял свои деньги.
Так или иначе, теперь, когда кровавое правосудие свершилось, а Роуботем и его благочестивые спутники были готовы продолжить свой путь, я снова мог заняться решением вопроса — как благополучно добраться до Канпура.
К счастью, они сами туда направлялись, так как две недели охоты за панди в округе исчерпали запасы их фуража и патронов (чему я не удивился, помня, с каким пылом они расстреливали мертвецов). Но когда по дороге я расспросил Роуботема о том, что творится в округе и что это за канонада слышна к северу, то был весьма неприятно удивлен его ответами — худшие новости трудно было себе представить.
Канпур действительно был в осаде, причем уже две недели. Это означало, что Уилер, в отличие от других командиров, смог предвидеть надвигающиеся неприятности. Он и на чертов дюйм не доверял собственным сипаям и как только узнал о восстании в Мируте, тут же подготовил большие новые укрепления вокруг казарм на восточной оконечности Канпура, с траншеями и пушками, так что даже если бы четыре его туземных полка также взбунтовались, он смог бы запереться там с верными войсками, забрав с собой всех штатских британцев. Генерал понимал, что сам город, далеко растянувшийся вдоль Ганга, оборонять было невозможно и что он не мог надеяться спасти значительное количество белых, в том числе — женщин и детей — иным путем, кроме как эвакуировав их в новое укрепление, которое располагалось за площадкой для скачек и имело хорошие возможности для кругового обстрела.
Так что, когда панди начали мятеж, Уилер был к этому готов и в ту же ночь хорошенько им всыпал, несмотря на то что повстанцев поддержал местный туземный принц, Нана Донду Пант-сагиб, который предал его в последнюю минуту. У Роуботема не было никаких сомнений в том, что укрепление удастся удержать; ходили слухи, что помощь уже идет из Лакноу, расположенного в сорока милях к северу, а также из Аллахабада, который лежал немного дальше к востоку вдоль долины Ганга.
Все это было очень хорошо, но, как я заметил, мы намеревались с боем прорваться в осажденный город; разве не было бы более разумным обогнуть его и направиться в Лакноу, в котором, судя по всему, мятежников все еще не было? Однако Роуботем не согласился с этим — его отряд отчаянно нуждался в боеприпасах и в связи с неопределенной обстановкой в стране он должен был направиться к ближайшему британскому гарнизону. Кроме того, он не видел никаких особых сложностей с проникновением в Канпур: его сикхи уже давно следили за мятежниками, у которых, несмотря на значительную численность, практически не было порядка, так что всегда было много местечек, через которые можно было незаметно проскользнуть в город. Роуботему даже удалось переслать Уилеру донесение, в котором он сообщал время нашего прибытия и условный сигнал, так что мы сможем войти в укрепление, не опасаясь, что нас ошибочно примут за врагов.
Надо сказать, что для бывшего хирурга он стал неплохим маленьким бандитом, но после его слов меня бросило в дрожь. Получалось, я прыгнул с раскаленной сковородки Джханси прямо в пылающий огонь Канпура, но что же, дьявол побери, я могу с этим поделать? Из того, что рассказал Роуботем, следовало, что от Агры до Аллахабада не осталось ни единой безопасной щелки; никому не известно, сколько гарнизонов еще держится, да и те вряд ли могут быть безопаснее Канпура. Я не рискну даже попытаться бежать дальше в Лакноу вдвоем с Ильдеримом (одному Богу известно, что нас ждет, когда мы доберемся туда). Проведя лихорадочные подсчеты, я убедился, что у меня нет лучшего выбора, нежели оставаться с этим маленьким сумасшедшим и молить Бога в надежде на то, что полковник знает что делает. В конце концов, Уилер — опытный вояка — я помнил его по Сикхской войне — и Роуботем был уверен, что он удержит свои позиции и скоро получит помощь.
— И тогда этому проклятому восстанию придет конец, — уверенно заявил он, когда той же ночью мы разбили лагерь милях в десяти от Канпура, а небо на севере озарялось вспышками орудийного огня, который велся почти непрерывно. — Мы знаем, что наши войска уже подступают к Дели, так что вскоре должны проломить оборону бунтовщиков и сбросить нечистое создание, именующее себя королем Индии, прочь с его предательского трона — это посеет неуверенность в сердцах мерзавцев. А затем, когда с юга от Лакноу двинется Лоуренс, а другие наши силы продвинутся вверх по реке, это гнездо мятежников под Канпуром окажется в ловушке — уничтожить их, и дело сделано. Потом останется только восстановить порядок и назначить этим негодяям достойное наказание; им нужно будет преподнести незабываемый урок — даже если придется уничтожать этих выродков десятками тысяч. — Роуботем вновь погрузился в сладостные мечты, которые напомнили мне о повешенных в этот день, а его вояки, сидящие у костра, возбужденно загалдели. — …Даже сотнями тысяч. Это — минимум, который потребуется, чтобы раз и навсегда выбить из них даже саму мысль о мятеже. Милосердие было бы настоящим сумасшествием — его бы приняли за нашу слабость.
Эта проповедь вызвала небольшую, но весьма оживленную дискуссию, что делать с побежденными мятежниками — разорвать выстрелом из пушек, повесить или расстрелять. Некоторые предпочитали сжечь их живьем, кое-кто — засечь до смерти, а малый в соломенной шляпе настаивал на том, чтобы всех распять, но кто-то из присутствующих заметил, что это будет напоминать богохульство. Мои спутники всерьез и со знанием дела занялись обсуждением этого вопроса, и прежде чем вздымать руки в благочестивом ужасе, вспомните, что семьи многих из них были вырезаны в обстоятельствах, подобных тем, которые я наблюдал в Мируте, и они жаждали отплатить панди той же монетой, что, в общем-то, было вполне нормально. Кроме того, они были убеждены, что если не зададут бунтовщикам хороший урок, мятежи будут продолжаться, так что кара за убийство любого белого человека в Индии должна быть так ужасна, чтобы память о ней делала невозможным повторение этого преступления.
Должен признаться, мне все это было безразлично — я был слишком озабочен тем, как безопасно добраться до Канпура, чтобы печалиться о том, как они собираются расправиться с бунтовщиками; мне же все эти планы представлялись несколько преждевременными. Мои же новые спутники действительно оказались весьма странными — стоило им только закончить обсуждение деталей казней, как они ударились в спор о том, следует ли разрешить в футболе толчки и перенос мяча и поскольку я был настоящим воспитанником Рагби, то сразу же присоединился к поборникам толчков. Наверное, это странно выглядело со стороны — я, в своем образе заросшего волосами пуштуна, в поштине и пуггари — рассуждающий о том, что стоит только запретить толчки на поле — и с самой мужественной из всех игр будет покончено (несмотря на то что сам я ни за какие деньги не стал бы принимать в этом участие), а рядом седобородый оборванец, на куртке которого еще не высохла кровь сипаев, утверждающий, что подобное ведение игры — сущее варварство. Большинство других также присоединилось к спору, с одной или другой стороны, но были и такие, что, нахохлившись, сидели в сторонке, читали свои библии, чистили оружие или просто что-то бормотали себе под нос; это была не слишком душевная компания и даже сегодня меня пробирает дрожь, когда я думаю о них.
И тем не менее они умели воевать; меня поражало, как Роуботему удалось так сбить отряд менее, чем за месяц (и откуда у него взялись к этому способности), но когда на следующий день они планировали дальнейший марш, то делали это на удивление искусно: с разъездами на флангах и разведчиками, двадцатифунтовыми мешками с фуражом на седле у каждого, а оружие и все металлические части амуниции были обмотаны тряпьем, так чтобы ни одна железка не звякнула и даже кожаные башмаки для того, чтобы ночью приглушить стук лошадиных копыт, были заботливо приторочены сзади. Даже казаки Пенчерьевского и охотники за скальпами Кастера не могли бы выглядеть более браво, чем этот сборный отряд из клерков и прочего сброда, которых Роуботем вел в Канпур.
Мы подходили к городу с востока и, поскольку армия панди сконцентрировалась вокруг укрепления Уилера и в жилых кварталах, мы приблизились к Канпуру на расстояние двух-трех миль, а затем Роуботем приказал залечь в лесу и ожидать, пока стемнеет. Кстати, перед этим мы наткнулись в рощице на пикет мятежников, убив двух из них, а еще троих взяли в плен — только для того, чтобы повесить. Еще двух бродяг поймали несколько позже и, поскольку рядом не было подходящих деревьев, достойный Роуботем и риссалдар просто отсекли им головы. Сикх разделался со своей жертвой одним ударом; а Роуботему понадобилось три — он не слишком-то ловко владел саблей. Так что общее число жертв, по данным Чизмена, достигло пока девяноста трех.
Мы пролежали в духоте леса до конца дня, изнемогая от зноя и прислушиваясь к непрерывному гулу канонады; единственным утешением нам служили слаженные артиллерийские залпы, указывающие на то, что канониры Уилера отлично справляются со своим делом и пока не ощущают недостатка в порохе и снарядах. Выстрелы продолжались и после захода солнца, а один из сикхов, подобравшийся к траншеям менее чем на четверть мили, доложил, что слышал, как британские караульные четко, как часы, выкрикивают свое: «Все спокойно!»
Около двух часов утра Роуботем собрал нас и отдал свои приказы.
— Путь на Аллахабадскую дорогу свободен, — сказал он, — но прежде чем мы достигнем ее, должно принять немного вправо, чтобы выйти на нее за позициями пушек мятежников, не далее чем в полумиле от британских траншей. Ровно в четыре я выпущу ракету, по которой мы выскакиваем из укрытия и изо всех сил скачем к укреплению; часовые, увидев ракету, пропустят нас. Пароль — «Британия». А теперь запомните, ради собственной жизни, что наша цель находится слева от церкви, так что во время движения держитесь так, чтобы ее шпиль был чуть впереди и справа от вас. Наш путь будет проходить мимо беговой дорожки через поле для крикета…
— О! — воскликнул кто-то, — тогда нужно остерегаться крикетных калиток.
— …а затем нам придется заставить наших лошадей преодолеть траншейный бруствер, высота которого составляет около четырех футов. Ну, а теперь — Боже, благослови нас и дай нам встретиться снова — в английском лагере или на небесах!
Должен отметить, что подобные благочестивые напоминания о том, что все мы смертны, мне особенно нравятся. Пока они обнимались и пожимали друг другу руки в темноте, я прошептал Ильдериму, что он любой ценой должен держаться рядом со мной. От испуга я впал в свое обычное полуобморочное состояние и мне отнюдь не прибавилось бодрости, когда мы выехали на опушку леса и кто-то рядом прошептал:
— Эй, Джинкс, который час?
— Десять минут четвертого, — ответил Джинкс, — доброго солнечного утра двадцать второго июня — и будем надеяться на Бога, что нам удастся дожить до двадцать третьего.
Двадцать третьего июня; я вспомнил эту дату — как будто вдруг перенесся в просторную, обшитую панелями комнату Балморала, и как тогда сказал Пам «…империя падет через сто лет после битвы у Плесси… двадцать третьего июня следующего года». Клянусь святым Георгом — да это же знамение! Все вокруг было погружено во мрак, слышался только глухой перестук копыт; я стиснул поводья в потных ладонях, изо всех сил впиваясь взглядом в зыбкий темный силуэт всадника, скачущего впереди. Когда мы остановились, раздался тихий гул голосов, а затем мы долго ожидали сигнала в редеющей мгле, между двумя рядами полуразрушенных домов — пять минут, десять, пятнадцать, и наконец голос впереди выкрикнул: «Все готовы!» Чиркнула спичка, кто-то сдавленно выругался, затем огонек разгорелся поярче и вдруг брызнул снопом искр — и оранжевая ракета взлетела в пурпурное утреннее небо, таща за собой яркий хвост, как маленькая комета. Ее взрыв утонул в реве и воплях, где-то далеко Роуботем крикнул «Вперед!» — и мы вонзили шпоры в бока скакунов, буквально выстрелив в направлении траншеи всей нашей сплоченной конной массой.
Впереди было открытое пространство, а дальше — небольшая рощица, за которой виднелась какая-то насыпь и мечущиеся по ней тени. Когда мы двинулись, я понял, что это были мятежники — панди; мы обошли их позиции с тыла, и было уже достаточно светло, чтобы разглядеть пушки, установленные через правильные интервалы. Раздались крики тревоги, треск выстрелов, и через мгновение мы пронеслись мимо, огибая орудийные окопы; впереди меня и по бокам виднелись наши всадники, а у самого моего локтя скакал Ильдерим, низко склонившись в седле. Он что-то завопил, указывая вправо, и, оглянувшись, я увидел какую-то темную бесформенную массу, очевидно — церковь. Слева от нее, прямо перед нами на некотором расстоянии вспыхивали огоньки — защитники укрепления открыли огонь, прикрывая наш прорыв.
Кто-то заорал: «Браво, ребята!» — и тут же прямо за нами словно разверзся ад; раздался сокрушительный пушечный залп, земля впереди вздыбилась фонтанами пыли и ядра засвистели над нашими головами. Заржала лошадь и меня пронесло буквально в волоске от клубка, в который смешались конь и всадник — так близко, что его рука скользнула мне по колену. Голоса ревели во тьме и я расслышал неистовый вопль Роуботема: «Держитесь плотнее! Вперед!» Выбитый из седла кавалерист рухнул прямо передо мной и мой конь отбросил его в сторону. За спиной я услышал чей-то предсмертный стон, лошадь без седока догнала меня, а потом вдруг резко шарахнулась влево. Еще один грохочущий пушечный залп в тылу и снова адский вихрь пронесся сквозь наши ряды — словно я опять оказался под Балаклавой, только теперь все происходило в темноте. Неожиданно мой пони приостановился, и по тому, как он двинулся дальше, я понял, что его ранило; прямо в лицо меня хлестнуло ошметками земли, вперемешку с мелкими камнями, ядро пронеслось над головой и я увидел, что Ильдерим мчится уже далеко впереди.
— Стой! — взревел я, — моя лошадь ранена! Стой, черт тебя побери, помоги мне!
Я видел его спину и круп его лошади; затем он повернул и подскакал ко мне, так что когда мой пони вдруг пал прямо подо мной, рука Ильдерима вырвала меня из седла — клянусь Богом, ну и силач же он был! Мои ноги коснулись земли, но мне удалось уцепиться за узду и несколько ярдов его конь буквально волочил меня, а Ильдерим пытался подхватить и втянуть на седло. Когда, напрягая все свои силы, я уже взбирался на круп его лошади, что-то вдруг врезалось в нас: сильный толчок — и Ильдерим перекатился через меня, вылетев из седла.
Когда мне удалось утвердиться в седле, все вокруг вдруг залило ярким светом — какая-то свинья зажгла фальшфейер[149] и его дрожащее пламя осветило адскую картину, словно нарисованную сумасшедшим художником. Казалось, люди и лошади смешались в сплошную массу, которая со всех сторон обтекала меня, озаряемая вспышками новых залпов и отбрасывая вокруг причудливые тени. Я видел, как всего в нескольких ярдах корчился на земле Роуботем, придавленный упавшей лошадью; Чизмен, с лицом, похожим на кровавую маску, лежал рядом с ним навзничь, раскинув руки; Ильдерим, левая рука которого бессильно повисла, приподнялся на колено, цепляясь за мое стремя. В каких-нибудь ста ярдах перед нами можно было уже отлично рассмотреть укрепление — видны были головы его защитников, а какой-то осел даже взобрался на бруствер и размахивал оттуда шляпой. Огненные вспышки канонады позади нас вдруг исчезли и, к моему ужасу, в свете, отбрасываемом фальшфейером, я разглядел неровную линию всадников — сипайская кавалерия с саблями наголо шла в атаку под уклон и находилась уже не далее чем в фарлонге[150] от нас. Ильдерим все цеплялся за мое стремя, стоная:
— Вперед, вперед! Скачи, брат!
Я не колебался. Он повернул, чтобы помочь мне и его благородная жертва не пропадет даром, если я все-таки спасусь. Сзади к нам подбиралась безусловная смерть; я вонзил каблуки в бока лошади, скакун рванулся вперед и Ильдерима почти сбило с ног. Шагов пять он еще продержался — а вопли и стук копыт позади нас все нарастали — а потом вдруг споткнулся и упал. Я изо всех сил пытался стряхнуть его, но в этот момент чертова уздечка лопнула, я вылетел из седла и грохнулся на землю с такой силой, что задребезжали все кости. Резкая боль пронзила мою левую лодыжку — Боже, она же застряла в стремени, а лошадь все мчалась вперед, волоча меня по земле в путанице сбруи, которая еще каким-то чудом держалась на ее спине.
Если вам, молодые люди, когда-нибудь придется оказаться в подобных же обстоятельствах — когда вас тащит волоком по изрытой, твердой как камень земле, а за вами с воплями гонится целая толпа черномазых дьяволов — вспомните мой совет. Постарайтесь приподнять голову (стоны и крики помогут вам в этом) и обязательно попытайтесь перевернуться на спину — это будет стоить вам ободранной задницы, но все же лучше так, чем если ваши кишки размотает по кустам. Постарайтесь также, чтобы несколько ловких парней открыли по вашим преследователям беглый огонь, и позаботьтесь о верном друге-гильзае, который успеет освободить вашу ногу из стремени до того как ваш позвоночник треснет пополам. Я был почти без сознания и практически до основания стесал себе задницу, когда Ильдерим — одному Богу известно, откуда при его ране у него взялись на это силы — подтянул меня к самой траншее и втащил мое почти бесчувственное тело на бруствер. Я приподнялся в полном замешательстве, из последних сил крича: «Британия! Британия! Во имя Господа! Я свой!», а затем вдруг какой-то малый подхватил меня и, осторожно опустив мой несчастный скелет на землю, спросил:
— Хотите ли орешков или сигару, сэр?
Затем у меня в руках оказался мушкет и я с удивлением обнаружил себя уже в укреплении, а вокруг меня в дыму и облаках пыли сновали фигуры в красных мундирах. Ильдерим был рядом со мной и в руках у него был мой револьвер, из которого он всаживал пулю за пулей в наступающую толпу черномазых. Вокруг раздавался грохот залпов и громкий басовитый голос гремел: «Оддс, огонь! Заряжай! Эванс, огонь! Заряжай!» Боль из лодыжки растекалась все выше по ноге, отчего голова шла кругом и я чувствовал себя абсолютно разбитым. Я закашлялся от накрывшего меня облака порохового дыма, затем раздалось пение горна, гром приветственных возгласов — и следующее, что запомнилось было: я лежу под неяркими лучами восходящего солнца, опираясь головой на стену из мешков с песком, уставившись на толстую, изрытую пулями стену казармы, а высокий лысый старик с трубкой в зубах, снимает мой сапог и прикладывает влажную тряпку к моей распухшей лодыжке.
На все это взирает пара парней с мушкетами, а еще один малый — в кени и очках — бинтует руку Ильдериму. Вокруг снуют другие, перенося раненых в казармы, а вдоль бруствера видны изможденные лица солдат — белых и сипаев, с ружьями наготове. Страшный смрад поднимается вокруг, все покрыто толстым слоем пыли, перемешанной с кровью и потом, причем кажется, что люди движутся крайне медленно. Я еще чувствовал удивление, но полагал, что все это сон, так как третий слева от меня парень, стоящий у парапета, с головой, повязанной носовым платком, был не кто иной, как Гарри Ист. Второго такого курносого носа было не найти во всем мире и хотя в последний раз я видел его, когда сам лежал, придавленный санями в снегах южной России, а он в это время молнией летел навстречу свободе, казалось невероятным встретить его здесь.
VIII
Теперь должен рассказать вам кое-что любопытное о боли — и Канпуре. В моей лодыжке, которую я считал сломанной, оказалось лишь сильное растяжение связок, что в любом другом месте заставило бы меня несколько дней проваляться на спине, жалобно постанывая. В Канпуре же я поднялся на ноги уже через пару часов, испытывая страшную боль, но не имея другого выбора, кроме как терпеть ее. Такое уж это было место — на легкую работу там можно было рассчитывать, только если бы вам оторвало обе ноги.
Представьте себе огромное полевое укрепление, с каменно-земляным парапетом пяти футов высоты, вплотную примыкающее к двум одноэтажным казармам, одна из которых представляла собой лишь выгоревший дотла остов, а у второй оставалась только половина крыши. Вокруг была полностью открытая площадка, простирающаяся на сотни ярдов до самых позиций окруживших нас панди, которые разбили свой лагерь среди деревьев и полуразрушенных зданий. В миле или менее к северо-западу, вдоль берега реки раскинулась огромная бесформенная масса самого города Канпур — но если кто-нибудь из моего поколения говорит о Канпуре, то имеет в виду именно эти два полуразрушенных барака с окружающей их земляной стеной.
Это и была та твердыня, которую Уилер и его малочисленный гарнизон удерживали против целой армии уже две с половиной недели. Когда началась осада, в укреплении было девятьсот человек, причем около половины из них составляли женщины и дети; еще там было порядка четырех сотен британцев — военных и штатских и сотня лояльных туземцев. У них был один колодец и три пушки; им приходилось существовать на двух горстях муки в день, отбиваясь от трех тысяч осаждавших их бунтовщиков. Которые непрерывно обстреливали их из пятнадцати орудий, засыпали пулями из мушкетов и пытались штурмовать траншеи. В первые же две недели от пушечного огня, жары и болезней защитники укрепления потеряли более двухсот человек — мужчин, женщин и детей. Госпитальный барак сгорел дочиста вместе с теми, кто был внутри, и из трехсот человек, которые еще могли сражаться, более половины были либо раненые либо больные. Они стреляли из пушек и обороняли стены, вооружившись мушкетами, штыками и всем, что попадалось под руку.
Это, как я понял, к своем ужасу, и было то место, куда я бежал в поисках безопасного укрытия, неприступная крепость, которую, как болтал Роуботем, можно будет с легкостью удержать! Пока она держалась — благодаря усилиям голодных призраков, половина из которых никогда до этого не держала в руках мушкета и их жен и детей, до последнего дыхания помогающих перезаряжать ружья. Было ясно, что если помощь не придет достаточно быстро, эти полуразрушенные бараки и траншеи рано или поздно станут их братской могилой.
Роуботем не дожил до того, чтобы оценить глубину своей ошибки: вместе с половиной своего отряда он остался лежать в долине — его последним просчетом стало то, что время нашего прорыва совпало с моментом начала штурма мятежников.
Я был старшим офицером среди тех, кому удалось благополучно (?) добраться до укрепления, и когда стало известно кто я, а моя распухшая лодыжка была заботливо перевязана, мне помогли доковылять до отгороженного угла в одном из оставшихся бараков, где Уилер организовал свой кабинет. Мы недоверчиво смотрели друг на друга — он, потому что я больше напоминал какого-нибудь Абдула из Бульбула, а я — потому что вместо рослого, всегда оживленного офицера, каким я знал его десять лет назад, передо мной сидел изможденный, усталый старик. Его угрюмое лицо было покрыто морщинами, а в своем измятом и запачканном мундире и рваных бриджах он был похож на мертвого садовника.
— Боже милостивый, да это никак молодой Гарри Флэшмен! — так он приветствовал меня. — Ну и вид у тебя! Откуда, дьявол побери, ты такой взялся?
Я рассказал ему — и в несколько слов объяснил, что случилось в Мируте и Джханси, несмотря на то что дом успел за это время трижды содрогнуться от ударов ядер и со стен посыпалась штукатурка. Уилер лишь невозмутимо смахнул ее крошево со стола и произнес:
— Ну что ж — спасибо Господу за двадцать человек подкрепления — правда, даже не знаю, чем мы будем вас кормить. Впрочем, что значит потерпеть еще несколько месяцев? — видите ли, мы просто обязаны… Вы ничего не слыхали о том… о том, что наши выступили на выручку из Аллахабада или Лакноу?
Я ответил, что ничего не знаю об этом и он, с едва заметным жестом отчаяния, обвел взглядом своих старших офицеров, Вайберта и Мура.
— Полагаю, на это не стоит больше надеяться, — сказал он, — значит, мы можем только исполнять наш долг как можно дольше? Если бы только не дети, думаю, что мы могли бы держаться до бесконечности. До сих пор никакого нытья, представляете? — Он устало усмехнулся. — Не поймите неправильно, если я скажу, что рад вас видеть здесь, Флэшмен, и не против, чтобы вы приняли участие в нашем совете. Между тем лучшее, что вы можете сделать сейчас, — это занять свое место среди защитников вала. Мур покажет вам — и да благослови вас Бог! — сказал он, пожимая мне руку.
Именно от Мура, высокого светловолосого капитана, с рукой, висящей на заляпанной кровью перевязи, я и узнал о событиях последних двух недель и о том, насколько действительно отчаянным было наше положение.
Одно дело — читать об этом, но картина происходящего была просто ужасна. Мур, хромая, провел меня по укреплению, и мне то и дело приходилось приседать, поскольку ружейные пули, выпущенные из лагеря сипаев, постоянно свистели у нас над головой, расплющиваясь о стены казармы или находя себе цель за пределами здания. Это было ужасно — и тем не менее казалось, что никто не обращает на это особого внимания. Люди у бруствера то и дело приподнимались, чтобы взглянуть на противника, и лишь слегка пригибали головы, не делая даже шага в сторону, когда мимо пролетала пуля. Я продолжал нервно приседать, так что Мур улыбнулся и сказал:
— Скоро вы к этому привыкнете — стрелки панди никогда не попадают туда, куда целятся. Редко какие их выстрелы вредят нам — проклятие! — Облако пыли, выбитое пулей из бруствера, окутало нас. — Санитары, сюда! Живее!
Неподалеку от места, в которое попала пуля, корчилось чье-то тело. На крик Мура двое малых выскочили из казармы, чтобы помочь раненому. После краткого осмотра один из них покачал головой, они подняли тело и потащили его в сторону, где виднелось нечто, напоминающее колодец; они сбросили убитого туда и Мур заметил:
— Это наше кладбище. Я подсчитал, что мы относим туда кого-нибудь почти каждые два часа. А здесь — действующий колодец, из которого мы берем воду. Не стоит подходить слишком близко — самые меткие стрелки панди обстреливают его из вон той рощицы. Весь день он им виден как на ладони, так что приходится запасаться водой по ночам. Джок Маккиллоп занимался этим целую неделю, прежде чем им удалось в него попасть. Одному небу известно, скольких водоносов мы потеряли с тех пор.
Что мне казалось особенно нереальным, так это то, каким спокойным, обычным тоном капитан обо всем этом говорил. Таков был этот гарнизон, голодающих защитников которого мятежники отстреливали одного за другим, а Мур спокойно шел, чертовски хладнокровно рассказывая обо всем этом, а шальные пули продолжали свистеть вокруг нас. Я терпел все это сколько мог, но потом у меня вырвалось:
— Но во имя Господа — ведь это же безнадежно! Неужели Уилер не пытался вести переговоры?
Он только рассмеялся в ответ на это.
— Переговоры? С кем? С Нана-сагибом? Ведь вы же были в Мируте, а? Соблюдают ли эти мерзавцы договоры? Дорогой мой, они просто хотят всех нас перерезать. Они поубивали всех белых в этом городе и одному Богу известно, сколько своих собственных соплеменников вдобавок. Они до смерти замучили туземных ювелиров, чтобы завладеть их сокровищами; Нана сам из пушек расстреливал индийцев, проявлявших симпатии к англичанам, — одного за другим, их еле успевали привязывать к дулам! Нет, — покачал головой Мур, — переговоров не будет.
— Но какого дьявола — я имею в виду, что…
— Что вообще из этого может выйти? Думаю, мне не нужно рассказывать про всех людей — или не позже трех дней британская колонна прорвется к нам на помощь из Аллахабада или мы в конце концов настолько ослабеем от голода и расстреляем все патроны, так что панди смогут штурмом захватить стену. А тогда… — он пожал плечами. — Но конечно же, мы не будем говорить об этом нашим — по крайней мере, не при леди, хотя многие из них могут об этом догадаться и сами. Будем улыбаться и уверять всех, что со дня на день Лоуренс будет здесь с подкреплением и продовольствием, не так ли?
Полагаю, что нет смысла описывать, насколько сильно я пал духом, особенно учитывая, что деваться было некуда — да и я просто не мог бежать из-за моей распухшей лодыжки. Все выглядело абсолютно безнадежным, и что хуже всего — поскольку я был старшим офицером, то должен был, подобно Уилеру, Муру, Вайберту и остальным, делать вид, что готов сражаться до конца и погибнуть со славой. Даже я не мог вести себя по-другому — по крайней мере, не с теми, кто все еще держался бодро и уверенно — настолько, что мог бы не верно меня понять. Я унесу с собой в могилу картину этой пропитанной кровью земли, тучи мух, роящихся вокруг и изможденные фигуры на парапете за бруствером. Стены казарм были буквально источены пулями, которые вонзались в них каждые несколько секунд; то и дело раздавался вскрик, когда выстрелы мятежников все же находили свою цель; то и дело мимо пробегали санитары — и Мур с окровавленной рукой, хладнокровно шагающий сквозь этот ад, усмехался и сыпал остротами направо и налево; Уилер, в нахлобученной шляпе, с пистолетом, заткнутым за пояс, угрюмо вглядывался в ряды панди и топорща усы шептал что-то адъютанту, царапающему карандашом в записной книжке; сержант-кокни[151] спорил с рядовым о высоте столбов на станции Юстон-сквер, в то время как они вместе срезали куски мяса с мертвой лошади, швыряя их в закопченный медный котел, стоящий за изрытой пулями казарменной стеной.
— Сегодня будет жаркое, — заметил Мур, поворачиваясь ко мне, — это благодаря вашим прорвавшимся парням. Обычно же, когда нам хочется мяса, мы поджидаем, когда кавалерист-панди подъедет поближе, а затем стреляем в лошадь, а не во всадника.
— В лошадке же побольше мяса, чем в бунтовщике, а, Джаспер? — подмигнул сержант, и рядовой ответил, что так оно и есть, хотя некоторые из его знакомых унтер-офицеров (не будем называть имен) и без того — законченные людоеды.
Многие подобные вещи навсегда засели в моей памяти, но ярче всего я помню внутреннюю часть казармы, забитую ранеными, которые длинным стонущим рядом лежали вдоль стены, и буквально в нескольких ярдах от них, за наскоро сколоченными перегородками из досок и циновок — четыре сотни женщин и детей, которые провели в этой проклятой, провонявшей кровью и потом адской печи более двух недель. Первое, что поражало при входе, был смрад от крови, пота и больных, а затем уже звуки — голоса детей, крик новорожденного, ворчание стариков, порой даже смех, когда ядра падали далеко от входа; глухой гул женских голосов; неожиданный вскрик боли кого-то из раненых и резкие голоса из отгороженного занавесями угла, где Уилер разместил свой штаб. Потом уже взгляд падал на истощенные лица — озабоченных женщин, одни из которых были одеты в помятые фартуки поверх домашних платьев, а другие — так и остались в вечерних туалетах. Теперь они нянчили детей или ухаживали за ранеными. Тут же вдоль стен сидели прислонившись, сипаи, оставшиеся верными присяге, держа на коленях свои мушкеты. Какой-то штатский британец, что-то пишущий, прерываясь время от времени, задумчиво поглядывающий по сторонам, и вновь возвращающийся к своим записям. Рядом с ним — древний старик в дхоти и очках в стальной оправе, бормочущий себе под нос слова, вычитанные им тут же с обрывка газеты; изможденная девушка, зашивающая рубашку маленькому мальчугану, который ожидает, яростно отмахиваясь от мух, жужжащих у него над головой; двое офицеров в когда-то блестящих, а теперь — порванных и испачканных мундирах, мирно беседующих о разведении свиней — помню, простреленная рука одного из них была замотана разорванной рубашкой, а мундир был надет прямо на голое тело. Помню айю,[152] которая со смехом строила что-то из кубиков для маленькой девочки; здоровенного капрала, чистящего свою трубку; женщину, шепотом читающую что-то из Библии бледному человеку, лежащему на одеяле с обмотанной окровавленными бинтами головой, и старую, плотную седоволосую мэм-сагиб, раскачивающую колыбель.
Всех их ожидала смерть и некоторые знали об этом, но никто не жаловался на судьбу, и я не услышал ни единого слова отчаяния. Это казалось нереальным — то, с каким спокойствием они себя вели. Помню, как Мур сказал:
— Меня поражает, когда я вспоминаю, как наши женщины могли спорить и ругаться, сидя на верандах своих бунгало, а сейчас вдруг стали добрыми, как монахини. Помяните мое слово — если нам только повезет вырваться отсюда, они уже никогда не будут похожи на своих подруг.
— Вы не поверите, — говорил другой офицер, по имени Делафосс, — но они ведут себя спокойно только потому, что у них нет темы для сплетен. Не пройдет и недели после того, как все закончится — и они снова, как обычно, будут перебирать косточки леди Уилер, стоит им столкнуться с ней где-то на улице.
Все это лишь туманные воспоминания — в то время я не придавал им особого значения; не могу сказать, когда мы столкнулись нос к носу с Гарри Истом, но это было неподалеку от загороженного занавесками уголка Уилера, где я беседовал с двумя офицерами — Уайтингом и Томпсоном, а довольно симпатичная девушка по имени Белла Блэр сидела неподалеку и читала детям какие-то стихи. Похоже, я почти пришел в себя от испуга — настолько, чтобы встретить Иста с подобающим ехидством.
— Привет, Флэшмен, — кивнул он.
— Здорово, юный Скороход Ист, — спокойно ответил я. — Слыхал, ты таки дошел до Раглана.
— Да, — сказал он, заливаясь краской, — дошел.
— Тебе повезло, — заметил я, — хотел бы и я тогда пойти с тобой — но, как ты помнишь, я не мог.
Конечно, для всех остальных эти намеки были абсолютно непонятны, так что этот молодой осел вынужден был обо всем рассказать — как мы вместе спасались от погони в России и как он бросил меня, раненого (что, между нами говоря, было абсолютно правильным, так как нужно было доставить Раглану в Севастополь важные новости) и как казаки захватили меня в плен. Конечно же, ему не хватило воображения рассказать всю историю так, чтобы она звучала правдоподобно и я заметил, что Уайтинг вопросительно приподнял бровь и хмыкнул. Ист от этого запнулся, покраснел еще больше и в конце концов произнес:
— Я так рад, что тебе все-таки удалось выбраться, Флэшмен, и я… мне чертовски жаль, что тогда пришлось покинуть тебя, старина.
— Да уж, — заметил я, — полагаю, казаки были того же мнения.
— Я… Я надеюсь, то есть я имею в виду, что они… не обошлись с тобой слишком плохо, что они… — К моему живейшему удовольствию, по его лицу проскользнула гримаса откровенного ужаса: — Знаешь, это навсегда останется на моей совести… то, что случилось.
Уайтинг при этом обратил глаза к потолку, Томпсон нахмурился, а хорошенькая Белла прервала чтение, прислушиваясь.
— Да ладно, — сказал я, помолчав с минуту, — теперь-то, знаешь ли, уже все равно. — Я искоса взглянул на него. — Не бери этого в голову, юный Скороход. Зато если дело дойдет до худшего здесь, я тебя не брошу.
Ист вздрогнул, как от удара; он побелел, как мел, судорожно сглотнул, затем повернулся на каблуках и почти выбежал прочь. Уайтинг воскликнул: «Боже правый!», а Томпсон недоверчиво спросил: «Я не ошибся? Так он действительно смылся, бросил вас — спасая свою шкуру?»
— Что? Что вы такое говорите? — проворчал я, нахмурившись. — Да ладно, это слишком сильно сказано. Никакой пользы не было бы в том, если бы нас обоих схватили, отправили в каземат и… — я замолчал, прикусив губу. — Это просто бы означало, что казаки схватили бы двоих вместо одного, чтобы… поиграть с нами, не так ли? Но это лишь удвоило бы шансы на то, что один из нас сломается и выдаст все, что они хотели узнать. Вот почему я был не против, чтобы он спасся… Видите ли, я знал, что себе-то могу доверять. Но Боже, о чем это я болтаю? Все это в прошлом, — и я браво улыбнулся им. — Этот молодой Ист — хороший парень; знаете, мы с ним вместе учились в школе.
Я похромал прочь, предоставив им обсуждать все произошедшее, если на то будет охота, но позже этим же вечером Томпсон навестил меня на моем месте на валу и, не говоря ни слова, пожал мне руку, а затем, покусывая губку, появилась Белла Блэр, быстро поцеловала меня в щеку и исчезла. Любопытно, насколько можно поднять свою репутацию и уронить чужую, стоит только вовремя сказать несколько осторожных слов — и это было меньшее, чем я мог отплатить этому благочестивому ублюдку Исту. Хорошенькую же ночку предстояло ему провести, терзаясь между мной и угрызениями совести, взращенной благочестивым Арнольдом.
Сам я тоже спал не слишком хорошо. Миска жаркого из конины с пригоршней муки вряд ли сможет удовлетворить ваш аппетит, особенно если вас терзают все ужасы создавшегося положения. Некоторое время я даже поигрался было с идеей вновь напялить лохмотья пуштуна (с которыми я расстался, облачившись в рубаху и армейские бриджи) — и несмотря на свою хромоту скользнуть через бруствер и попробовать спастись. Однако мысль о том, что меня могут схватить панди, заставила меня отказаться от этого намерения. Так что я лежал, весь дрожа, слушая отдаленный треск выстрелов снайперов-бунтовщиков и удары пуль, которые время от времени падали неподалеку, мучаясь жаждой и голодными спазмами. Должно быть, мне все же удалось задремать, так как я был разбужен дикой суетой вокруг, в то время как громкий голос ревел: «Готовься! Готовься! Подносчики патронов, сюда!» Запел горн и вдоль вала разнеслись слова команд — парень рядом со мной лихорадочно забивал заряд, и когда я поинтересовался, какого черта тут происходит, он только ткнул пальцем за насыпь и предложил мне посмотреть самому.
В предрассветном сумраке по открытой площадке майдана, раскинувшегося перед артиллерийскими позициями мятежников, двигались массы людей — сотни воинов. Я заметил длинные ряды кавалеристов в белых накидках, видневшиеся сквозь дымку, а за эскадронами мелькали красные мундиры и белые бриджи туземной пехоты. Как раз, когда я выглянул через бруствер, мелькнула вспышка пушечного выстрела и раздался звук разрыва, за которым последовал треск выстрелов и грохот нескольких взрывов из казарм у нас за спиной. Туча пыли и битого камня поднялись от стен казармы, сопровождаемые воем, проклятьями и хором детских голосов. Забил большой барабан, прибежали подносчики патронов — это были в основном британцы-штатские, среди которых было даже несколько женщин и бхисти,[153] затем появился и Уилер собственной персоной, вместе с Муром, раздавая приказы, а за спиной у них на крыше казармы величаво поднялся и заплескался на влажном, горячем ветру потрепанный и простреленный «Юнион Джек».
— Они походят, вжарь по ним! — крикнул человек, стоящий рядом со мной. — Гляди-ка, вон Пятьдесят шестой полк — мадрасские фузилеры. И бенгальская кавалерия также — мне ли не знать их! Это же мои собственные парни, проклятые мерзавцы — и где! Ну что ж, ребята, ваш ротмистр ждет вас! — и он поднял свою винтовку. — Я задам вам побольше перцу, чем раньше в конюшнях.
Пушки панди теперь гремели во всю мочь, а пули свистали над головой. Я возился с револьвером, набивая барабан патронами; по ту сторону бруствера раздалась серия сильных ударов и Уилер прокричал:
— Смотрите, чтобы каждый ствол был заряжен! Подносчикам быть наготове со свежими зарядами! По три винтовки на каждого человека! Отлично, Делафосс! Мур, отзовите половину людей с южной стороны — ну же, быстрей! Пусть пожарные расчеты приготовятся! Сержант Грейди, я хочу, чтобы санитары с бинтами стояли на парапете через каждые десять ярдов!
Его едва можно было расслышать сквозь гул вражеских выстрелов, стук пуль и грохот падающих ядер. Все пространство между стеной и казармами бурлило облачками пыли, поднимаемыми выстрелами, а мы, вжимая головы в землю, лежали у самого бруствера. Кто-то, скорчившись, быстро протиснулся ко мне и положил на землю рядом два заряженных мушкета — к моему удивлению, я узнал Беллу Блэр. Толстый бабу,[154] которого я видел прошлой ночью, так же подал мушкет ротмистру, а заряжающим у парня по другую сторону от меня был очень хрупкий, на вид пожилой штатский, в пыльнике и шапочке для крикета. Они устроились позади нас. Белла была бледна как смерть, но все же улыбалась мне, то и дело откидывая волосы с глаз; помнится, на ней было желтое коленкоровое платье, а на лбу повязана лента.
«Всем приготовиться!» — орал Уилер. Он единственный остался стоять; изможденный, с обнаженной головой и разметавшимися по щекам седыми волосами. В одной руке у него был револьвер, а в другой — сабля, конец которой он упер в землю. «Мастерс — я хочу, чтобы выдали по порции муки и чашке воды каждому…»
Ужасающий залп унес остатки его фразы; казалось, все укрепление содрогнулось, когда ядра ударили в него, выбивая столбы едкой пыли из стен бараков. Дальше на валу кто-то тонко застонал от боли, потом позвали санитаров, облако пыли покрыло нас, а затем и шум начал куда-то отступать, даже крики сменились едва слышным хныканьем и тут же наступила странная, жуткая тишина.
«Всем приготовиться!» — это опять произнес Уилер, уже спокойнее: «Стрелки — на парапет! Не стрелять без моей команды! Спокойнее!»
Я взглянул поверх бруствера. На майдане повисла тишина, которую неожиданно пронзил резкий звук трубы. Враг стоял перед нами — ряды пехоты в красных мундирах в открытом строю, впереди разрушенных строений, а перед ними — эскадроны конницы, с полдюжины из которых значительно выдвинулись вперед. Где-то на валу треснул мушкетный выстрел и Уилер крикнул:
— Проклятье, прекратить огонь! Слышите?
Мы выжидали, наблюдая, как эскадроны строились для атаки, и старый ротмистр ругался вполголоса.
— Ублюдки, — сказал он, — и подумать только, ведь я сам их всему научил. Ну, конечно, третий взвод не держит строя! Это все их хавилдар Рам Хайдер! Только поглядите — чертов Поль Джонс,[155] да и только! Неужели нельзя выровняться по правому флангу? А остальные в целом выглядят недурно, а? Ну, вот, подравнялись — теперь получше, не правда ли?
Человек, стоящий за ним, что-то сказал и старый ротмистр рассмеялся.
— Если им придется нас атаковать, то я бы хотел, чтобы они сделали это как нужно — ради того, чтобы не разочароваться в своей работе — и все тут.
Я с трудом отвел глаза от наползающей массы людей и огляделся вокруг. Бабу, лежа на земле, повернул голову и заботливо протирал очки; лица Беллы Блэр не было видно, но я заметил, как она сжала кулаки. Уилер вновь нахлобучил шляпу и что-то говорил Муру; один из бхисти на четвереньках полз вдоль вала, таща за собой бурдюк с водой, чтобы напоить жаждущих.
Неожиданно в отдалении вновь запела труба, через майдан донесся рев голосов и крики приказов, а потом кавалерия двинулась — сперва шагом, потом рысью; над ее рядами яркими вспышками сверкнули вытащенные из ножен клинки.
«О, Иисусе, — подумал я, — это конец». Там их, наверное, целые орды, друг за другом надвигаются из предрассветного тумана, поднимая клубы пыли. Стрелки мятежников опять оживились и пули снова засвистели над головой.
— Спокойнее, все! — снова выкрикнул Уилер. — Помните — ждать приказа!
Я положил рядом револьвер и опер мушкет на бруствер. Во рту у меня до того пересохло, что я не мог даже сглотнуть — я вспомнил массы русской кавалерии, запрудившие высоты под Балаклавой, и как регулярный огонь остановил их на всем скаку — но там стреляли горцы Кэмпбелла, а у нас на валах была лишь жалкая шеренга истощенных развалин и штатских. Мятежники прокатятся по нам, как волна, прорвавшись сквозь наши жидкие залпы.
— Целься! — рявкнул Уилер, — чтобы каждый выстрел попал в цель, и ждите моей команды!
Теперь сипаи приближались галопом и были едва ли не в трехстах ярдах от нас, все еще держа сабли на плече. Они чертовски хорошо держали строй и я услышал, как ротмистр пробормотал:
— Смотрите, как они подходят, а! Разве не прекрасная картина? — и как они держат равнение! Держи их так, риссалдар, помни о равнении!..
Гром копыт накатывался на нас, как прибой; раздался одинокий крик и все острия медленно склонились, а за ними показались темные пятна лиц — всадники склонились вперед, и вдруг вся первая линия рванулась в атаку. Они быстро неслись прямо на укрепление; я конвульсивно схватил мушкет и тут Уилер проревел:
— Огонь!
Залп прогремел, окутав нас облаком дыма — но это их не остановило. Лошади и люди падали, а мы схватили вторые ружья и выстрелили опять, а потом дали залп в третий раз — но всадники все еще надвигались на нас, сквозь сущий ад из дыма и пламени, завывая как бешеные. Рядом со мной оказалась Белла Блэр, сунула мне в руки мушкет и бросилась лихорадочно перезаряжать остальные. Я снова выстрелил, и когда дым рассеялся, стал виден сплошной клубок бьющихся в агонии людей и лошадей, но добрая половина из них все еще была на ногах и все катилась вперед, воя и размахивая саблями. Я схватил револьвер и начал стрелять. Сразу трое кавалеристов бросились к тому месту, где я стоял, и мне удалось вышибить одного из седла; второй кубарем покатился с подстреленной лошади, а третий уже почти подскакал к валу, когда мой сосед справа выстрелил в него.
За передовыми стеной ломились остальные — белые куртки, темные лица; они ревели как звери и пытались заставить своих лошадей вскарабкаться на бруствер. Я бессвязно вопил всякие непристойности, едва успевая хватать мушкеты, как только их перезаряжали, и палил в эту кучу; вдоль всего укрепления завязалась рукопашная — штыки и шпаги против сабель, а среди всего этого по-прежнему грохотали выстрелы. Я услышал, как Белла застонала, и вдруг спешившийся сипай вскарабкался на бруствер прямо напротив меня. Передо мной мелькнули горящие глаза на смуглом лице и сабля, поднятая для удара, а затем он вдруг с хрипом повалился назад, исчезнув в клубах дыма. У меня за спиной снова что-то заревел Уилер, я схватил новый мушкет, и тут мятежники вдруг отхлынули обратно — благодарение Господу, они с визгом скакали назад, пропадая в дыму, и вот уже бхисти появился у меня под боком, поднося флягу с водой прямо к моим губам.
— Готовьсь! — прокричал Уилер, — они идут снова!
Мятежники перестраивались всего в нескольких сотнях ярдов от нас, а вся площадка между ними и укреплением была усыпана убитыми и умиравшими лошадьми и людьми. Я едва успел глотнуть теплой, грязноватой воды и снова поднять мушкет, как они бросились на нас, причем на этот раз между кавалеристами бежала и пехота панди.
— Еще один залп! — надрывался Уилер, — пока не стрелять! Цельте в лошадей! Мы не сдадимся! Готовься, целься — огонь!
Весь вал полыхнул огнем и линия атакующих приостановилась и заколебалась на мгновение, прежде чем снова двинуться вперед; полудюжине мятежников удалось вскарабкаться по валу и спрыгнуть внутрь укрепления — сабли сверкали у них над головами и мне пришлось откатиться в сторону, чтобы не попасть под копыта, так как еще один всадник заставил лошадь прыгнуть прямо на полуразрушенный бруствер. Едва я с трудом поднялся на ноги, как какой-то смуглый дьявол в красном мундире бросился на меня с парапета; я наотмашь двинул его прикладом мушкета и сбросил вниз, но другой уже с визгом замахнулся на меня саблей. Я взвыл от ужаса, когда клинок пронесся у меня над головой, но тут мы сошлись вплотную и я вцепился ему ногтями в лицо, сбив с ног тяжестью своего веса. Его сабля упала, я наклонился за ней, но еще один панди уже набегал сбоку, нацеливаясь надетым на мушкет штыком, но я уже нащупал эфес упавшей сабли и ударил вслепую. Тут я почувствовал болезненный толчок в голову и упал, мертвое тело рухнуло на меня и следующее, что я помню, — как стоял на четвереньках, земля кружилась у меня перед глазами, а Уилер орал; «Прекратить огонь! Прекратить огонь! Санитары, сюда!» Потом вопли и треск выстрелов понемногу стихли, а над призрачными очертаниями вала растаял последний дымок.
Казалось, что повсюду валяются убитые. По крайней мере, дюжина панди скорчились в радиусе десяти ярдов от того места, где я стоял на коленях; земля здесь просто слиплась от крови. Уилер также стоял на одном колене, поддерживая толстого бабу, который причитал, ухватившись за размозженную ногу. Хрупкий штатский лежал навзничь, крикетная шапочка скатилась с его головы, которая теперь представляла собой сплошную кровавую массу. Один из панди зашевелился и с трудом приподнялся на колено; Уилер, одной рукой все еще поддерживающий старика, поднял револьвер и выстрелил — панди снова рухнул в пыль. Подбегали санитары; я взглянул через бруствер на майдан, усеянный фигурами людей — корчащихся и уже неподвижных; здесь же со ржанием бились лошади, пытаясь подняться, а другие мертвыми лежали рядом со своими всадниками. В двухстах ярдах далее виднелась толпа убегавших людей — благодарение Господу, они бежали в противоположную сторону; дальше вдоль вала кто-то издал радостный крик и, подхваченный сотнями голосов, он страшным хриплым воплем прокатился вдоль всего укрепления. В глотке у меня пересохло и я слишком ослабел, чтобы кричать — но все же я был жив.
А Белла Блэр умерла. Она лежала на боку, вцепившись руками в ствол мушкета, штык которого вонзился ей в живот. Позади я услышал стон — это был старый ротмистр, распростертый у самого парапета. Его рубашка вся пропиталась кровью, а сам он из последних сил тянулся к фляге с водой. Я проковылял к нему и приложил флягу к его губам; ротмистр глотнул, тяжело застонал и в следующее мгновение его голова откинулась.
— Задали мы им, а? — с трудом произнес он.
Я мог только кивнуть; глотнув из фляги, я предложил ему еще воды, но он лишь бессильно склонил голову набок. Старику уже нечем было помочь — жизнь уходила из его тела.
— Мы побили их, — снова пробормотал он, — чертовски здорово… хотя на минуту мне показалось… что они просто проедут через нас. — Он закашлялся кровью и его голос перешел в едва слышный шепот: — Они держались хорошо… не правда ли?.. держались хорошо… Мои бенгальцы… — Он прикрыл глаза. — Думаю, они держались… необычайно хорошо…
Я оглядел укрепление. Полагаю, около половины его защитников оставалась на ногах и стояли на валу, а между ними лежали молчаливые фигуры остальных, раненые стонали и корчились в ожидании носильщиков и перевязки. И тут пушки мятежников вновь начали канонаду, снова и снова осыпая ядрами полумертвые остатки гарнизона Канпура, потрепанный флаг которого все еще развивался на мачте. «Ну что же, — подумал я, — теперь панди в любой момент могут войти сюда просто прогулочным шагом. Ничто уже не может остановить их».
Но этого не случилось. Последний генеральный штурм двадцать третьего июня, когда мы находились почти на грани гибели, истощил силы панди. Весь майдан был усыпан их трупами и хотя они еще в течение двух последующих ужасных дней громили нас из пушек, у них не хватило духу на новый приступ. Если бы они только знали, что половина наших людей, оставшихся на валах, были так измучены голодом и усталостью, что не могли поднять мушкет, казармы были забиты более чем тремя сотнями раненых и умирающих, а колодец был вычерпан до вонючей жижи, а оставшаяся мука по большей части состояла из пыли. Мы и двух минут не смогли бы сопротивляться решительному штурму — да и стоило ли им на него идти, ведь голод, жара и постоянно растущие потери от артиллерийского огня и без того бы скоро прикончили нас.
Помнится, в течение этих сорока восьми часов три человека сошли с ума — удивляюсь только, что эта участь не постигла нас всех. В душегубке казарм женщины и дети были настолько измучены голодом, что даже не могли плакать; похоже, и молодыми офицерами овладела какая-то летаргия от приближения неминуемой смерти. Теперь даже Уилер вынужден был признать, что это — единственное, что нам оставалось.
— Я направил Лоуренсу письмо, — сказан он нам, старшим офицерам, на следующую ночь. — Я написал ему, что нам больше не на что надеяться, кроме как на британский дух, но что это не может продолжаться вечно. Мы здесь, как крысы в клетке. Лучшее, на что мы можем рассчитывать — если мятежники снова пойдут в атаку и даруют нам быструю смерть. Это лучше, чем видеть, как женщины и дети медленно умирают день за днем. [XXIX*]
Я будто снова вижу эти изможденные лица за столом, в мерцающем отблеске свечей. Кто-то тихо вздохнул, кто-то вполголоса выругался и через пару минут Вайберт спросил, нет ли надежды на то, что Лоуренс все же успеет прийти нам на помощь.
Уилер покачал головой.
— Он бы уже пришел, если бы мог, но даже если он выйдет сегодня, то не доберется до нас ранее чем за два дня. А к этому времени… ну, да вы знаете меня, джентльмены. Я не впадал в отчаяние ни разу за все пятьдесят лет своей солдатской службы, не буду делать этого и сейчас, если скажу, что на такое чудо почти нет надежды. Мы в руках Господа, так что пусть каждый приготовится соответственно.
Тут я с ним был полностью согласен, только вот мои приготовления не имели ничего общего с делами духовными. У меня до сих пор сохранился мой комплект одежды пуштуна и я чувствовал, что подходит время и несмотря на свою лодыжку Флэши пора будет попытать счастье по ту сторону вала. Выбор был невелик — рискнуть или умирать в этой вонючей дыре, так что я оставил их молиться, а сам пошел на свое место на парапете, чтобы хорошенько все обдумать; я дрожал от страха при одной мысли, что придется покинуть британский лагерь, но чем дольше ждать — тем труднее это будет сделать. Я все еще боролся со своими тревогами, когда кто-то вынырнул из тьмы у меня за спиной и этот «кто-то» был Ист собственной персоной.
— Флэшмен, — спросил он, — можно с тобой переговорить?
— Ну-у, если это необходимо, — протянул я, — но буду признателен, если ты будешь краток.
— Конечно-конечно, — пробормотал он, — я понимаю. Как сказал сэр Хью, наступило время, когда каждый из нас должен подумать о своей душе; обещаю что не оторву тебя от твоих медитаций ни на секунду более, чем это будет необходимо. Все дело… в моей совести. Мне нужна твоя помощь, старина.
— Что? — я уставился на него, стараясь рассмотреть лицо в сумраке. — Какого дьявола?
— Пожалуйста… побудь со мной. Я знаю, что ты злишься, потому что думаешь, что я бросил тебя там, в России… что покинул тебя умирать, а сам спасся. О, я знаю, что это был мой долг — доставить донесение Раглану… но правда в том, — он замолчал и с трудом сглотнул, — правда в том, что я был рад это сделать. Ох, наконец-то я признался в этом — о, если бы ты знал, как тяжко и мучительно мне было все эти последние два дня! Это тяжким грузом лежало на моей душе — что я бросил тебя, охваченный яростью и греховным чувством мести. Нет… дай мне закончить! Я ненавидел тебя тогда… из-за того, как ты вел себя с Валей… когда ты выбросил ее из саней прямо в снег! Я чуть не убил тебя за это!
Он действительно был в странном состоянии; чертовски занятное представление — совесть выпускника Рагби, выпущенная на свободу! Но он не сказал мне ничего нового — уж я-то знаю этих благочестивых ублюдков лучше, чем они сами себя.
— Понимаешь, я любил ее, — продолжал Ист, бормоча, как старик, страдающий грыжей, — она была для меня всем… а ты украл ее так… так грубо. Пожалуйста, пожалуйста, выслушай меня! Ты же видишь — я исповедуюсь. И… и прошу у тебя прощения. Понимаю, что поздно — но, похоже, у нас остается не слишком много времени? Так вот… я хотел сказать тебе… и пожать твою руку, мой старый школьный товарищ, а еще услышать от тебя, что мой… мой грех мне отпущен. Прошу тебя — если ты сможешь найти для этого силы в своем сердце. — И он задушевно произнес:
— Я… я полагаю, ты сможешь.
В свое время мне приходилось слышать немало странных заявлений, но этот бред был самым необычным. Конечно, все шло от христианского воспитания и от холодных ванн — и то, и другое способствовало закреплению во впечатлительных умах мысли, что раскаяние уменьшает вину. В любое другое время я испытывал бы от его речей злорадное удовольствие; но даже в моем теперешнем состоянии мне показалось достаточно уместным поинтересоваться:
— Ты имеешь в виду, что если бы я не дал тебе повода ненавидеть меня, то ты бы тогда остался со мной и донесение Раглану пропало бы?
— Что? — воскликнул он, — я… я не понимаю, о чем ты говоришь. Я… я… пожалуйста, пожалуйста, Флэшмен, ты же видишь — моя душа терзается… Я пытаюсь… объяснить тебе. Пожалуйста — скажи мне, даже сейчас — что я могу для этого сделать?
— Ну, — задумчиво сказал я, — можешь пойти и пукнуть в бутылку, а после запечатать ее.
— Что? — ошеломленно спросил он, — что ты сказал?
— Я пытаюсь дать тебе понять, чтобы ты убирался отсюда, — проворчал я, — ты всего лишь маленький эгоистичный поросенок, Ист. Ты признаешь, что в отношении меня вел себя как мерзавец, да еще осмеливаешься тратить мое время — которое нужно мне для молитвы. Так отправляйся в ад — понял?
— Боже мой, Флэшмен… ты не можешь так думать! Ты не можешь быть таким черствым. Мне нужно одно только слово! Признаю, что принес тебе вред… возможно даже, не сознавая этого. Иногда… знаешь, я думаю, не любил ли ты сам Ваяю… но если да, и поставил на первое место долг… — Он снова сглотнул и уставился на меня. — Ты любил ее, Флэшмен?
— Четыре-пять раз в неделю, — ответил я, — но тебе не стоит так ревновать — в постели она далеко не так хороша, как ее тетушка Сара. Тебе бы стоило попариться с ней в баньке.
Ист снова бросил на меня изумленный взгляд и мне показалось, что я услышал, как стучат его зубы. Затем раздалось:
— Боже, Флэшмен! О… о, ты невыразим! Ты просто подлец! Да поможет тебе Господь!
— Может быть, я и подлец, — спокойно заметил я, — зато не лицемер вроде тебя — ведь последнее, чего бы ты хотел, так это чтоб Бог помог мне. Тебе, кстати, не нужно и мое прощение; ты просто хочешь заиметь повод простить самого себя. Ну, что ж, беги и сделай это, трусишка и скажи мне спасибо за то, что я облегчил тебе задачу. После того, что ты услышал сегодня ночью, твоя совесть никогда не будет беспокоить тебя за то, что ты бросил старину Флэши на произвол судьбы, не правда ли?
Услышав это, он поковылял прочь, а я остался размышлять над своей проблемой — стоит ли мне сбежать или пока остаться. В конце концов мои нервы не выдержали и я свернулся калачиком под парапетом, чтобы немного поспать. И, слава богу, это мне удалось, поскольку на следующее утро Уилер заполучил свое чудо.
IX
Она была самым странным посланцем Милосердия, которого вам когда-либо доводилось видеть, — старая полоумная чи-чи[156] торговка, звенящая серьгами и зонтиком, которую на тележке рикши-гхари везли два панди; еще парочка изображала почетный эскорт, а хавилдар, шедший впереди, размахивал белым флагом. Уилер велел стоять наготове, когда эта странная маленькая процессия показалась у восточного угла укрепления, и лично вышел встретить ее вместе с Муром. Спустя несколько минут послали за мной и Вайбертом, который находился на моем конце вала.
Уилер и другие старшие офицеры собрались с внутренней стороны бруствера, в то время как старуха, обмахиваясь большим листом и прихлебывая чатти, сидела по другую сторону вала, в окружении своего эскорта. В руках у Уилера был лист бумаги, и он недоуменно переводил глаза с него на старуху и обратно; когда мы подошли, кто-то сказал: «Я не верю этому и на ломаный грош! С чего вдруг они собрались вести переговоры именно в это время дня — объясните вы мне?», но Уилер покачал головой и передал бумагу Вайберту.
— Прочтите, — сказал он, — если верить тому, что там написано, Нана хочет вести переговоры.
Сначала ничего не было понятно; пока Вайберт вполголоса читал послание, я изучал текст, глядя через его плечо. Это было короткое, ясное письмо, написанное по-английски, уверенным почерком и адресованное Уилеру. Насколько помнится, в нем говорилось:
«Подданным Ее Всемилостивого Величества, королевы Виктории — каждый, кто не связан с преступными действиями лорда Дальхаузи и готов сложить оружие, получит право свободного прохода в Аллахабад».
Письмо было написано от имени Нана-сагиба и подписано именем, которое я не смог разобрать, пока Вайберт не пробормотал его: «Азимула-Хан». Он взглянул на Уилера, а затем на старуху. Уилер же махнул рукой и произнес:
— Это — миссис Джекобс из… ах — Канпура. Она получила эту записку лично от Азимулы-Хана в присутствии Нана.
— Добрый день, джентльмены, — проскрипела миссис Джекобс, поклонившись под аккомпанемент отчаянно заскрипевшего сиденья ее гхари. — Какая хорошая погода, не правда ли?
— Мне все это не нравится, — тихо проворчал Уилер, отвернувшись, так чтобы она не могла его слышать. — Как верно заметил Уайтинг, с чего бы это предлагать нам переговоры, когда мы и без того в его власти? Все что ему надо — только немного подождать.
— Возможно, сэр, — заметил Вайберт, — ему неизвестно, насколько нас стало меньше. — Он глубоко вздохнул. — И мы должны подумать о наших женах и детях…
В ответ послышался яростный гул приглушенных голосов: «Это западня!» «Нет-нет!» «Мы и без того столько держались против этих ублюдков…», «Предательство — я чую плутни черномазых за целую милю!» «Почему это должно быть западней — Бог мой, да что мы теряем? Если уж на то пошло, то нам конец…»
Несмотря на то, что я пытался сохранить на лице суровую мину, сладостная надежда начала проникать мне в сердце — мы спасены! Потому что в этот самый момент мне стало ясно, что несмотря на все разговоры и все чувства Уилера он собирается принять любые условия, которые панди решат предложить нам. Он просто не мог отказаться, обрекая тем самым женщин и детей на верную смерть в этих вонючих бараках, несмотря на все свои опасения о предательстве. Мы могли всего лишь рассчитывать на шанс выжить взамен неизбежной смерти — он будет вынужден принять его.
Я не сказал ни слова, пока они шепотом спорили у парапета. Глаза всех остальных защитников укрепления взволнованно смотрели на нас, так что эта старая карга, развалившаяся под навесом на своей гхари все кивала и важно кланялась, стоило кому-нибудь взглянуть в ее сторону. И, будьте уверены, наконец Уилер сам спросил:
— А каково будет ваше мнение, полковник Флэшмен?
Меня так и подмывало заорать: «Соглашайся же, чертов старый дурак — и отправляйся в Аллахабад хоть ползком!», но я пересилил себя и выглядел вполне хладнокровным.
— Ну что же, сэр, — важно произнес я, — это всего лишь предложение, не больше. Мы не можем ничего решить, пока не узнаем обо всем подробнее.
Это их всех просто заткнуло.
— Действительно, — кивнул Уилер, — но как…
— Кто-то должен поговорить с Нана-сагибом, — объяснил я, — возможно, он не слишком уверенно себя чувствует, а может быть, думает, что вся эта игра с осадой и штурмами не стоит свеч. А может быть, его драгоценным панди все это уже надоело.
— Верно, клянусь Богом! — вмешался было Делафосс, но я очень спокойно продолжал:
— Но мы не можем ни принять, ни отвергнуть это предложение до тех пор, пока мы не узнаем более того, что тут написано, — и я похлопал по листу бумаги в руке Вайберта. — Можно быть уверенным, что Нана-сагиб делает свое предложение отнюдь не из чистого милосердия, а значит, это — либо предательство, либо слабость. Давайте посмотрим ему в глаза.
Наверное, это звучало отлично — бесхитростный Флэши говорит абсолютно спокойно, в то время как все остальные аж порозовели от возбуждения. Они же не знали, чего мне стоило взять себя в руки, пока я читал письмо. Теперь же вся штука была в том, чтобы Уилер сделал свой ход — причем правильный. Потому что он был полон недоверия к Нана и уже почти готов был прислушаться к предложениям горячих голов, призывавших его швырнуть это письмо прямо в рожи бунтовщиков — большей бессмыслицы я в жизни не слышал. Вот нам, приговоренным к неизбежной смерти, предлагали спасение на самом пороге гибели и более половины идиотов на этом импровизированном совете собираются с ходу все отвергнуть. У меня так и похолодело внутри и я подумал, что тут нужно действовать осторожно.
Тем не менее Уилер увидел смысл в моем предложении и решил, что я вместе с Муром должны будем отправиться на встречу с Нана-сагибом и лично послушать, что он нам скажет. Слава богу, что он выбрал меня — как правило, я без особой охоты сую голову в пасть льву — даже под белым флагом перемирия — но именно в этих переговорах я намеревался участвовать лично. Я не хотел, чтобы что-либо помешало нашей сдаче — ибо если я хоть что-то понимал в этом деле, то все шло именно к ней. И тем не менее репутация моя должна была остаться на высоте.
В полдень Мура и меня под эскортом провели через позиции мятежников, причем миссис Джекобс в своем гхари тряслась рядом и тарахтела без умолку. О, да — это был настоящий стыд, хорошо хоть неопределенность ситуации предотвратила ее дальнейшее путешествие с нами по жаре — до самых холмов. Кстати, я так и не понял, кем она была; судя по виду — типичная сводня-полукровка, которую использовали в качестве посредницы, потому что выглядела она чертовски нейтрально и безобидно. Хотя, возможно, я и ошибался в этой леди.
Печально известный Нана-сагиб ожидал нас перед большим шатром, разбитым под сенью рощи, с кучей слуг и прихлебателей, толпящихся вокруг, и несколькими гвардейцами-маратхи, в нагрудниках и шлемах, стоящих по обоим краям большого афганского ковра, раскинутого перед его креслом. При виде этого ковра меня передернуло — он до боли напомнил мне тот, на котором Макнотена в Кабуле схватили и изрубили в куски при весьма сходных обстоятельствах. Так или иначе, мы с Муром расправили плечи и гордо вскинули головы, как и подобало британцам в присутствии мятежных черномазых, которые могут вот-вот наброситься даже на послов.
Сам Нана был расплывшимся толстомордым мерзавцем с вьющимися усами и бородкой, держался он очень надменно — таких называют тунг адми.[157] Шелков и драгоценностей на нем было больше, чем на французской шлюхе. Он то и дело переводил взгляд с Мура на меня и, прикрывшись рукой, что-то шептал женщине, стоящей позади него. Ее вид, между прочим, вполне мог вызвать парочку похотливых мыслишек — это была одна из здешних высоких красоток, с чуть обвислыми прелестями и капризно оттопыренной нижней губкой. Ее звали Султанша Адала и мне до сих пор жаль, что не удалось подобраться к ней ближе чем на двадцать футов. Во время последовавшего разговора мы парочку раз обменялись с ней взглядами, что позволило разгореться нашему воображению; еще бы десяток минут тет-а-тет — и дело сделано. Рядом с Нана-сагибом сидел какой-то мутноватый, отвратного вида шельмец. Я быстро смекнул, что это и есть его подручный, Тантия Топи.
Начал же разговор сам Азимула-Хан, высокий, светлокожий красавчик, одетый в затканный золотом халат и тюрбан с драгоценным аграфом. Он, улыбаясь, ступил вперед по ковру, протягивая руку. Мур тотчас же заложил руки за спину, а я сунул большие пальцы за пояс. Заметив это, Азимула-Хан улыбнулся еще шире и грациозным жестом убрал руку — сам Руди Штарнберг не смог бы сделать это лучше. Я назвал наши имена и он широко распахнул глаза от удивления.
— Полковник Флэшмен! Настоящая честь для нас! Я всегда сожалел о том, что нам не удалось встретиться в Крыму, — сказал он, блестя зубами, — а как поживает мой старый друг, мистер Уильям Говард Рассел?[158]
Настал мой черед недоуменно вытаращиться; я и не знал, что этому Азимуле довелось попутешествовать; он не хуже меня владел английским и французским, исполнял дипломатическую миссию в Лондоне — и в то же время успел пробежаться по глупым женщинам нашего высшего света, словно дикий жеребец. Обаятельный умный политик, цивилизованный облик которого удачно маскировал его змеиную сущность; он же, кстати, служил переводчиком для Нана, который не говорил по-английски. [XXX*]
Я очень холодно сказал Азимуле, что мы прибыли, выслушать предложение его хозяина. На что он кивнул, разводя руками.
— Конечно, джентльмены, это весьма печальное дело и никто не огорчен этим более, чем его высочество, что и послужило причиной отправки им письма генералу Уилеру, в надежде, что нам удастся положить конец кровопролитию…
Мур перебил его, заметив, что весьма печально также, что принц не прислал свое письмо ранее или, тем более, не сохранил верность британцам в начале восстания. Азимула-Хан лишь усмехнулся.
— Но мы ведь не говорим о политике, не правда ли, капитан Мур? Мы рассматриваем военные реалии — которые состоят в том, что ваше доблестное сопротивление, так или иначе, подходит к концу. Его высочеству претит сама мысль о бессмысленном кровопролитии; он желает, если вы согласны оставить в покое Канпур, разрешить вашему гарнизону покинуть укрепление с воинскими почестями; вы получите необходимое продовольствие и соответствующие условия для ваших женщин и детей (о которых его высочество проявляет особую заботу) и возможность уйти в Аллахабад. По-моему, это достаточно щедрое предложение.
Нана, который, очевидно, понимал о чем идет речь, при этих словах слегка наклонился вперед, расплылся в масляной улыбке и что-то пробормотал на наречии маратхи. Азимула-Хан кивнул и продолжил:
— Его высочество говорит, что уже идет сбор вьючных животных, чтобы довезти ваших раненых до реки, где вас ожидают лодки, чтобы доставить в Аллахабад.
Я задал вопрос, который так волновал Уилера:
— Какие гарантии личной безопасности будут нам предложены?
Азимула удивленно вскинул брови:
— Но разве они так уж необходимы? Если бы мы хотели вас уничтожить, то должны были бы атаковать или просто немного выждать. Видите ли, мы знаем, в каком положении вы находитесь. Поверьте мне, джентльмены, его высочеством движут исключительно человеколюбие и чувство милосердия…
Не знаю, было ли это спланировано нарочно, но его последняя фраза была прервана диким криком агонии — ужасным воем, донесшимся из-за деревьев. Крик повторился еще раз, а затем потонул в отчаянном вопле боли — так что я почувствовал, как волосы на загривке у меня встали дыбом, а Мур едва не выпрыгнул из своих сапог.
— Что это, во имя Господа? — воскликнул он.
— Полагаю, дипломатия махараджи, — ответил я с каменным лицом, хотя внутри у меня все тряслось. — Очевидно, с кого-то живьем сдирают кожу в нашу честь — чтобы мы могли это слышать и запомнить.
— … но если слова его высочества недостаточно, — спокойно продолжал Азимула, — он не будет возражать против того, чтобы вы забрали с собой личное оружие и… скажем, по двадцать патронов на человека? Согласитесь, что на открытом пространстве у вас будет не намного меньше преимуществ, чем за этими призрачными укреплениями. Но повторяю, джентльмены, его высочество ничего не выиграет, пойдя на обман, — даже напротив. Это просто невозможно для него, так как ударит по его политической репутации.
Я ни на грош не верил этому проклятому ублюдку, но лично сам чувствовал склонность с ним согласиться. Избавиться от британского гарнизона было важным делом, но он мог добиться этого в любом случае, даже не соблазняя возможностью свободного выхода. С другой стороны, заставив британцев спустить флаг, Нана добавил бы себе очков — хотя Азимула как мог избегал даже намекать на это, зная, что ничто более не заставило бы Уилера только усилить сопротивление.
Нана что-то быстро заговорил на маратхи, а я пока пытался забыть об ужасном крике, обменявшись откровенным взглядом с Султаншей Адалой, — такое никогда не повредит. Азимула-Хан дослушал Нану и снова повернулся к нам.
— Его высочество просит вас убедить генерала Уилера и добавляет, что на время, пока вы рассматриваете его щедрое предложение, он повелел своим войскам соблюдать армистицию.[159] Я лично прибуду завтра за ответом генерала Уилера.
Вот так оно и было. Мы с Муром тронулись в обратный путь через лагерь панди — и если бы мне нужны были доказательства необходимости сдачи укрепления, то я бы нашел их в сердитых взглядах этих нахмуренных смуглых лиц, на биваках и артиллерийских позициях. Возможно, они выглядели не так бодро, как в то время, когда верно служили Компании, но, клянусь Богом, их было много и нигде не было и признаков слабости или дезертирства.
Прошло довольно много времени, прежде чем мы вернулись в укрепление и доложили Уилеру о предложениях Нана-сагиба. Генерал созвал на совет всех офицеров и мы, кто сидя, кто стоя, набились в отгороженный угол казармы, служивший ему штабом. За занавеской по-прежнему раздавались стоны раненых и крики детей, пока мы в сотый раз перебирали аргументы «за» и «против», которые уже шепотом высказывались этим утром. Можете мне поверить, как сильно я перепугался, когда понял, что Уилер продолжает вынюхивать обман, а наши юные горячие головы просто криком кричали, ратуя против сдачи.
— Мы же продержались до сих пор, — разорялся Делафосс, — а теперь бунтовщики ослабели. Говорю вам — пошлите их ко всем чертям и — десять против одного — они снимут осаду.
Послышались одобрительные выкрики, однако Вайберт заметил:
— Но если они не снимут ее, что тогда? Через три дня в этом дьявольском месте у нас не останется в живых ни одной женщины или ребенка. Вы готовы согласиться с этим?
— А вы готовы поверить слову мятежника? — парировал Делафосс. — Пока мы удерживаем это укрепление, мы, по крайней мере, хоть как-то сдерживаем его — так что он может все-таки снять осаду или нам на помощь подойдет Лоуренс. Но стоит нам лишь поверить слову Нана-сагиба и выйти из-за вала, как мы окажемся в его власти.
— И нам придется спустить наш флаг перед кучкой бунтовщиков, — с горечью произнес Томпсон. — Как же мы вернемся домой, в Англию, и расскажем об этом?
Кто-то крикнул «Браво!» и стал убеждать Уилера ответить Нана отказом, но старый Эварт, который настолько ослабел, что на совет его доставили на носилках, поинтересовался, что скажет Англия, если мы обречем сотни женщин и детей на смерть, продолжая бесполезную оборону пары разрушенных грязных бараков. Пожилые офицеры согласно закивали, но молодежь закричала, чтобы он замолчал и Делафосс, покраснев от раздражения, повторил свои аргументы о том, что силы Нана-сагиба должны были ослабеть — иначе бы он не сделал своего предложения.
Уилер, который, пока они спорили, сидел, то и дело подергивая усы, посмотрел на меня и Мура.
— Вы видели их лагерь, джентльмены; каково ваше мнение о нем? Ведет ли он переговоры из-за слабости или из-за того, что его войска пали духом?
Я решил выждать и предоставил первым отвечать Муру. Он честно сказал, что не заметил никаких признаков падения боевого духа. Уилер угрюмо покачал головой.
— Не думаю, что Нана-сагибу стоит доверять, — проворчал он. — Но все же… это жестокий выбор. Все мое естество, все инстинкты говорят за то, чтобы защищать нашу позицию до конца. Умереть — это мой долг, как солдата, за которого отомстит страна. Но выполнить этот долг ценой жизни наших любимых… да еще столь многих…
Он замолчал и повисла тяжелая тишина; все знали, что сын Уилера умер накануне. Наконец генерал провел ладонью по лицу и огляделся вокруг.
— Если бы мы были одни, то на все предложения врага был бы лишь один ответ. Но поскольку дело обстоит иначе, признаюсь, что я склоняюсь к тому, чтобы принять условия этого убийцы во имя спасения наших любимых и детей, хотя предчувствие говорит мне, что он попытается обмануть нас. Я…
— Простите, сэр, — спокойно сказал Мур, — но если он сделает это, мы ничего не потеряем. Потому что, если мы не поверим ему, то все равно умрем — все мы. Мы знаем это и…
— По крайней мере, мы можем умереть с честью! — воскликнул какой-то дурак и все эти молодые идиоты разразились приветственными криками.
Тут Уилер поднял голову и я заметил, как он упрямо выпятил губу, и подумал: давай, Флэши, пробил твой час! — иначе этот старый ублюдок погубит всех нас во имя Чести и Долга. Так что я осторожно кашлянул и звякнул шпорой — это вовремя привлекло внимание генерала и он взглянул на меня.
— Вы так ничего и не сказали, Флэшмен, — заметил он, — каково ваше мнение?
Я почувствовал, что все глаза повернулись ко мне, а я все тянул время, так как видел, что Уилер на грани того, чтобы решить драться до конца, и собирался заморочить голову ему, да и остальным, чтобы уговорить на сдачу. Однако здесь нужно было сыграть тонко.
— Ну что ж, сэр, — начал я, — как и вы, я верю Нана-сагибу не более, чем продавцу сладостей. — (Кое-кто рассмеялся; ах, этот веселый старина Флэши со своими школьными метафорами.) — Но, как верно заметил Мур — это не имеет значения. Что касается возможной — или, как мне кажется, неизбежной — судьбы наших леди, — (тут я постарался благородно покраснеть), — и… малышей, то если мы примем предложение бунтовщиков, то они, по крайней мере, получат шанс выбраться отсюда.
— Вы — за сдачу? — напряженным голосом спросил Уилер.
— Лично я? — воскликнул я, глядя в пол. — У меня никогда не было привычки… идти против совести. Это дело чести — как кто-то сказал сейчас. И, полагаю, что честь требует, чтобы мы сражались до последнего…
— Шабаш! — выкрикнул Делафосс. — Отлично сказано, Флэши!
— …но, знаете ли, сэр, — продолжал я, — день, когда в жертву моей чести придется принести жизнь сынишки Вайберта, матери Танстелла или дочери миссис Ньюнхем, то… — тут я поднял голову и обвел окружающие меня лица взглядом сильного, но простоватого человека, потрясенного до глубины души. От наступившей тишины едва не звенело в ушах. — Не знаю — я могу ошибаться… но я не думаю, что моя честь может стоить так дорого, а?
Это было красиво и при этом от начала и до конца — самой отъявленной ложью, которую мне когда-либо приходилось произносить, зато для всех остальных — честных и храбрых душ, какими были эти офицеры, все звучало как чистая правда. Забавно было, что свою трусость и эгоизм я облек в такие высокопарные выражения, что мне удалось пробиться сквозь их бессмысленное упрямое преклонение перед Долгом. Никакими доводами нельзя было бы убедить их в этом, но предположить, что сохранение чести требует сдачи во имя спасения жизней женщин и детей — означало обмануть их здравый смысл.
Старый Эварт бросил последний довод:
— И заметьте, джентльмены, — он поглядел на Делафосса почти с вызовом, — что это говорит вам человек, который удерживал форт Пайпер и возглавил атаку Легкой бригады под Балаклавой.
Уилер формально вынес вопрос на голосование, но теперь его результаты были предопределены. Когда Мур и Уайтинг проголосовали за сдачу, даже самые упрямые из молодых людей вынуждены были сдаться и в течение получаса письмо с ответом Уилера, содержащее согласие на почетную капитуляцию, было уже на пути к лагерю Нана-сагиба. [XXXI*] При этом генерал добавил условие, что мы не только сохраним свое оружие, но и возьмем с собой по шестьдесят зарядов на человека, вместо предложенных нам ранее двадцати — «так что если они решат нас обмануть, то не особенно на этом выиграют», — сказал он нам, почти в точности повторяя мысль, выраженную накануне Азимулой: «Мы с тем же успехом можем драться в открытом поле, как и в этой смертельной ловушке». Как в воду глядел.
Как видите, Уилер по-прежнему опасался предательства, а я — нет. Скажете, я обманывал себя, но дело в том, что я действительно не видел, что Нана может выиграть, если попытается обмануть нас. Я и сейчас это говорю абсолютно честно, и если так подробно рассказываю о сдаче Канпура, так лишь потому, что это было памятное событие не только в истории мятежа, но и всей Индии. Я высказался в пользу сдачи — и, как полагаю, мой голос стал решающим — потому что я видел в этом единственный способ спасти свою шкуру. Но и помимо столь жизненно важных соображений, я по-прежнему считаю, что сдача была оправдана по всем солдатским канонам и здравому смыслу. Можете назвать меня дураком и качать головой в свете дальнейшего развития событий — ничего не могло быть хуже продолжения обороны этого проклятого укрепления.
Какие бы сомнения ни продолжал испытывать Уилер, мало кто решился бы разделить их с ним после того, как стало известно о принятом нами решении, и Азимула вместе с Джвала Першадом прибыли к укреплению, чтобы сообщить и засвидетельствовать все начинания Нана: вьючные животные должны были прибыть на рассвете, чтобы облегчить нам путь к реке, почти в милю длиной, где нас будут ожидать лодки. Так что всю ночь в гарнизоне царила суета сборов, которые перемежались вознесением благодарения Всевышнему за счастливое избавление. Казалось, тяжелый груз спал с наших плеч; впервые за многие недели огни для приготовления пищи были разложены за пределами казарм, раненых вынесли из вонючих каморок, чтобы они могли подышать свежим воздухом и даже дети играли на валу, где мы только пару дней назад насмерть резались с сипаями. Усталые, истощенные лица озарялись улыбками, никто не обращал больше внимания на грязь с вонью и даже не думал о толпе мятежников с пушками и ружьями, стоявших лагерем всего в нескольких сотнях ярдов. Стрельба прекратилась, страх смерти ушел, мы готовились двинуться навстречу безопасности и всю ночь сквозь шум приготовлений к ночному небу поднимались звуки благодарственных молитв.
Одним из тех, кто был настроен по-прежнему мрачно, был Ильдерим. Уилер сказал, чтобы сипаи, оставшиеся верными своей присяге и сражавшиеся на стороне британцев, под покровом темноты ускользнули из укрепления через южные ворота, так как боялся, как бы утром бунтовщики не расправились с ними, но Ильдерим не последовал этому совету. Ночью он подошел ко мне на северную сторону вала, где я покуривал сигару и радовался умиротворению своих мыслей.
— Пристало ли мне бежать, как трусу, в которого кто-то швырнул камнем? — ворчал он. — Нет — я пойду завтра, с Уилер-сагибом и другими вашими людьми. А чтобы любая собака из числа мятежников могла узнать меня, а специально для этого случая надену киллут,[160] — и когда пуштун подошел поближе, я увидел, что он одет в полную парадную форму офицера туземной кавалерии — белая куртка, перчатки с крагами, пуггари с длинным концом и прочее. — Это всего лишь мундир сипайского полка, который я снял с одного из тех, кого мы убили позавчера, но и этого достаточно, чтобы показать, что я солдат, — он ухмыльнулся, оскалив зубы. — И я возьму с собой все шестьдесят патронов — сделай и ты так же, мой кровный брат!
— Похоже, они нам не понадобятся, — заметил я, пожав плечами.
— Кто знает… Если тигр уже наложил свою лапу на спину козла и вдруг дружески улыбается ему… Уилер-сагиб не доверяет Нана. А ты?
— Но ведь выбора нет, не так ли? — спросил я. — И, в конце концов, этот Нана подписался под своими обещаниями…
— Но если он нарушит их, мертвые уже не пожалуются, — сплюнул Ильдерим. — Так что говорю тебе, Флэшмен-сагиб — возьми с собой эти шестьдесят патронов.
Я не обратил на его слова особого внимания, так как пуштуны известны своей подозрительностью, есть к тому основания или нет, а когда рассвело, было слишком много дел, чтобы терять время на размышления. Мятежники подошли при первых проблесках рассвета, ведя за собой буйволов, слонов и тележки для того, чтобы перевезти нас к реке, а перед нами стояла геркулесова задача — собрать всех в конвой. Нам нужно было перетащить две сотни раненых, а также женщин с детьми, некоторые из которых были совсем младенцами, да еще стариков, которые почти не держались на ногах после трех недель, проведенных на голодном пайке. Теперь, когда первая волна воодушевления схлынула, все чувствовали себя усталыми и павшими духом. И когда взошло солнце, оно осветило странный, кошмарный вид того, что до сих пор живет в моих воспоминаниях как серия отдельных картин — эвакуация гарнизона Канпура началась.
Я вижу эту процессию: повозки, запряженные буйволами, на которые санитары грузят окровавленные тела раненых, изможденных и исхудавших; оборванные белые женщины, сидящие в повозках или терпеливо стоящие рядом с ними, а дети, напоминающие беспризорников с Уайтчепела, цепляются за их юбки; солдаты, усталые и истощенные, в обнимку со своими мушкетами, занимающие места вдоль конвоя; красные мундиры и мрачные лица мятежников, сопровождающих нас через майдан и дальше к берегу реки, где за деревьями нас ждут лодки. Рассветный воздух казался тяжелым и густым — от тумана, подозрения и ненависти, когда Уилер, с Муром, который не отходил от него ни на шаг, стоял на валу, провожая взглядом потрепанные остатки своего войска, вытянувшиеся из укрепления и вяло ожидающие команд двигаться дальше. Все вокруг гудело шумом голосов, слышались приказы, торопливо сновали офицеры, трубили слоны, скрипели повозки, плакали дети и коршуны начинали кружить над пустеющими казармами.
Отдельные эпизоды и их участники запомнились очень живо — вот двое штатских спускают потрепанный флаг с крыши барака, бережно сворачивают его и подносят Уилеру, который принимает его с отсутствующим видом и тут же кричит: «Сержант Грейди! Все ли ушли с южной стороны вала, сержант Грейди?» Маленький мальчик с кудрявой головкой смеется и кричит: «Плоп-плоп!», при виде того, как обделался один из слонов; его мать, озабоченная молодая женщина в измятом бальном платье (помнится, на нем были вышиты розовые бутоны), со спящим младенцем у груди, ловит мальчишку свободной рукой, а затем поправляет волосы. Группка бунтовщиков, бродящих вокруг казарм, которые пинками гонят нашего повара-туземца, сгибающегося под грузом кастрюль. Британский рядовой в невообразимо грязном мундире, поддерживающий повисшую на нем старую мэм-сагиб, которую он подсаживал на повозку. «Спасибо, ты хороший парень, большое тебе спасибо», — проговорила она наконец усевшись, и начала рыться в ридикюле в поисках мелочи. Четверо мятежников, сновавших взад и вперед вдоль уродливо растянувшегося конвоя, перекликаясь и что-то ища, пока не заметили Вайберта с его семьей. Тут они подбежали к нему, крича: «О, полковник-сагиб! Мэм-сагиб!», и подхватили его багаж; один из них, расплывшись в улыбке и что-то лопоча, посадил младшего сына Вайберта себе на плечи, в то время как другие нашли в фургоне место для миссис Вайберт. Вайберт был ошеломлен, а двое из мятежников просто рыдали, когда пожимали ему руку и помогали тащить его вещи. Я видел и другое — старый, огромный, как медведь, хавилдар Пятьдесят шестого полка, стоял на валу, глядя на руины казарм и слезы струились у него из глаз, стекая по белой бороде; он горестно покачал головой и, не в силах более смотреть, развернулся и пошел по майдану, продолжая рыдать.
Конечно же, большинство мятежников не были столь сентиментальны. Один хотел вырвать из рук Уайтинга мушкет, и капитан отшвырнул его с криком.
— Хочешь заполучить ружье, а? Я скорее всажу в тебя заряд, проклятая собака, если ты не поостережешься!
Панди отступили, рыча и размахивая кулаками, а другая их стая остановилась, насмешливо наблюдая, как старого полковника Эварта на носилках несут к его месту в колонне.
— Отличный парад, полковник-сагиб, не правда ли? — загоготали они. — Хорошая выправка, а? — и мерзавцы, хохоча, сделали вид, что берут винтовки «на караул».
Мне ничуть не нравились подобные сцены, равно как и толпы панди, которые с угрожающим видом запрудили майдан. Обещания обещаниями, но мне хотелось бы быть подальше от этой толпы, так что я с облегчением вздохнул, когда Мур, спешащий куда-то в голову колонны, выкрикнул приказ, дунул в свисток и процессия начала движение, понемногу удаляясь от укрепления и выдвигаясь в долину. Я был неподалеку от тыловой части колонны, где Вайберт принял командование над фургонами с продовольствием; панди у нас за спиной все еще копались в опустевших казармах — клянусь Богом, не много же удалось им там найти!
До реки, где нас ожидали лодки, было около мили, но мы были настолько измучены, а конвой так неуклюж и растянут, что почти целый час ушел только на то, чтобы пересечь майдан. Это был адский путь, так как бунтовщики пытались задирать нас, осыпая насмешками и оскорблениями, а наши парни отругивались в ответ. Неуклюжие фургоны то и дело останавливались, погонщики хлестали животных, а один или двое из солдат гарнизона упали в обморок, и их пришлось погрузить на повозки. Толпы туземцев все надвигались со стороны Канпура, чтоб поглазеть и поиздеваться над нами; некоторые из них, вместе с наиболее агрессивно настроенными панди, протискивались поближе, чтобы выкрикнуть насмешку нам в лицо, ударить или даже стянуть кое-что из вещей. «Что-то вот-вот должно случиться», — подумал я, и действительно, как раз когда мы пытались перекатить один из фургонов с припасами через маленький белый мостик на дальней стороне майдана, где уже начинались заросли деревьев, раздался грохот выстрела, затем вскрик и снова грянули залпы.
Ездовой на моем фургоне в панике настегивал буйволов, одно колесо застряло на мосту и мы вместе с двумя штатскими пытались подтолкнуть фургон, когда подбежал Уайтинг, с мушкетом наперевес, спрашивая, что случилось. В этот самый момент один из наших капралов пулей вылетел из кустов, выкатившись прямо под колеса фургона, и вскочил на ноги с криком:
— Быстрее, сэр — идемте быстрее! Эти дьяволы убивают полковника Эварта! Они напали на него вон за теми деревьями и…
Уайтинг с проклятием прыгнул вперед, но один из мятежников, которые следили за нами на мосту, молнией метнулся ему наперерез и обхватил руками. На мгновение у меня мелькнула мысль: «О, Боже, сейчас они нас прикончат» и, похоже, капрал подумал то же самое, потому что он выхватил свой штык, но бунтовщик, схвативший Уайтинга, всего лишь хотел удержать его на месте, крича:
— Нахин, сагиб, хабадар![161] Если ты пойдешь туда, они тебя убьют! Не надо, сагиб! Иди вперед — к реке!
Уайтинг сыпал ругательствами, пытаясь освободиться, но мятежник — огромный, чернобородый хавилдар с медалью за битву при Чилианвалле — швырнул его наземь и вырвал из рук мушкет. Уайтинг в ярости вскочил на ноги, но капрал уже все понял и ухватил его за руку.
— Он прав, сэр! Эти эти свиньи попросту сарф карот[162] вас… как они уже и поступили с полковником! Лучше пробираться к реке, как он говорит! Иначе они могут всех поубивать — и женщин с детьми тоже, сэр!
Конечно же, он был прав — и я подумал о подобном отступлении в Афганистане, когда приходилось закрывать глаза на случайные жертвы и продвигаться вперед, иначе могла разгореться битва. Думаю, Уайтинг также понял это, поскольку он повернулся к хавилдару и уже спокойнее сказал:
— Я должен посмотреть. Ты пойдешь со мной?
Этот малый ответил:
— Да, сагиб, — и они скрылись среди деревьев.
Представлялось наиболее разумным, не тратя ни минуты, спешить к реке, поэтому я сказал капралу, что должен доложить о случившемся генералу Уилеру, приказал ему проследить, чтобы фургон благополучно перекатили через мост, и бросился вперед, мимо еле тащущихся повозок, пассажиры которых озабоченно спрашивали, что же произошло. Я, спеша, пробрался среди деревьев и скоро уже смог увидеть Сутти-Чоура-Гат,[163] а за ней — широкий спокойный простор Ганга.
Склон у реки кишел людьми. Передние фургоны достигли пристани и наши люди как раз выбирались из них, спускаясь к урезу воды, где на мелководье качалась длинная линия неуклюжих тростниковых барок. Фургоны, находящиеся поблизости от меня, отделились от конвоя, чтобы подъехать поближе к воде, и пока все еще не знали, что делать — некоторые вышли из повозок, другие оставались сидеть на месте. Все пространство вокруг было загромождено брошенными вещами и носилками с ранеными. Группки женщин и детей ожидали, не зная куда идти дальше, а их мужья, раскрасневшись, кричали, требуя приказов на погрузку в лодки. Кто-то орал: «Все леди и маленькие дети садятся в барки с двенадцатой по шестнадцатую!», однако никто не знал, где какая находится и даже собственного голоса нельзя было расслышать среди трубных криков слонов и гула толпы.
Везде на склонах стояли кучки панди, с ружьями и примкнутыми штыками, но они не делали ничего, чтобы помочь, а на небольшом холмике, чуть в стороне, я обнаружил группу пышно разодетых туземцев — там был Азимула-Хан, что-то говоривший Уилеру, который жестами указывал куда-то в сторону барок, так что я двинулся к ним, сквозь молчаливые ряды стрелков-панди. Когда я подошел поближе, Азимула как раз вещал:
— … но я уверяю вас, генерал, что мука уже в лодках — идите и убедитесь в этом сами. А-а, полковник Флэшмен, доброе утро, сэр! Полагаю, что вижу вас в добром здравии. Кстати, генерал, может, попросить полковника Флэшмена проверить лодки и удостовериться в том, что все так, как я вам говорю?
Так что меня отправили вниз, на берег, и мне пришлось вброд перебираться к баркам по мелководью; это были большие посудины, с тяжелым запахом плесени, однако довольно чистые, на каждой из которых было с полдюжины полуголых смуглых гребцов и действительно, на большинстве из них находились мешки с зерном, как и говорил Азимула-Хан. Я все соответственно доложил и затем мы начали погрузку, что попросту означало рассовывание людей по разным баркам и лодкам, перетаскивание через мелководье женщин, детей и раненых, чьи носилки при этом приходилось поднимать над головой, спотыкаясь и скользя в иле и прибрежной тине. Я сам дважды погружался с головой, но, спасибо Господу, не наглотался этой дряни — видите ли, Ганг — не та река, воду из которой можно пить. Это была дьявольская работа под адски жаркими лучами поднимающегося солнца; труднее всего было правильно разместить женщин, детей и раненых уже на барках — помнится, я с улыбкой подумал, как на руку мне сейчас мой опыт погрузки негров в трюм работорговца «Бэллиол Колледж», который я приобрел несколько лет назад. Вот как оно бывает — любые, даже необычные, знания рано или поздно могут вам пригодиться.
Клянусь Богом, грузить негров было легче. Думаю, я переправил на барки десятка два женщин (к моему счастью, ни одна из них не стоила и того, чтобы ее хоть немного потискали), вытащил из воды ребенка, который, плача, барахтался у берега и звал маму, врезал кулаком по роже одному панди, пристававшему к миссис Ньюнхем, пытаясь вырвать у нее зонтик, рявкнул на дряхлую старуху, которая отказывалась от погрузки до тех пор, пока точно не удостоверится, что предлагаемая ей барка действительно имеет 12-й номер, («Мистер Тернер сказал, что я должна сесть именно в номер 12; в другую я не сяду!» — как будто это был пароход «Грейт Истерн»),[164] а затем мне пришлось крутиться по шею в воде, помогая заменить гнилую веревку для руля. Странно, но когда вы работаете подобным образом, потея и выбиваясь из сил, чтобы навести хоть какой-то порядок в этом хаосе, то и думать забываете про смерть, опасность и возможность предательства — все ваши мысли крутятся вокруг того, где бы найти кусок веревки, чтобы привязать ее к перу руля или как найти саквояж, который горничная миссис Бартеншоу забыла в повозке.
Я вусмерть умаялся, когда наконец выкарабкался на берег и огляделся по сторонам. Почти всех к тому времени удалось погрузить, высокие барки лениво покачивались на маслянистой поверхности воды, и, скользя между ними, остатки утреннего тумана уплывали через широкую поверхность реки к противоположному берегу, находившемуся на расстоянии около мили, а жаркое солнце понемногу превращало воду в огромное пурпурное зеркало.
Всего лишь около пятидесяти наших людей, по большей части — из числа арьергарда, возглавляемого Вайбертом, еще оставались на истоптанном, усыпанном обломками и обрывками вещей склоне. Уилер, Мур и Вайберт стояли рядом, и когда я подошел к ним, то услышал голос Уайтинга, дрожащий от злости:
— …и он был застрелен прямо в своем паланкине, говорю вам — по крайней мере, полдюжины пуль! Ох, уж эти проклятые свиньи! — тут он ткнул сжатым кулаком в направлении храма на холме, возле которого Азимула сидел с Тантией Топи и маленькой группкой офицеров Нана-сагиба.
Конечно же, самого Нана не было видно.
— С этим ничего не поделаешь, капитан Уайтинг! — голос Уилера был хриплым, а его измученное лицо побагровело и покрылось потом. Казалось, он был на грани обморока. — Я знаю, знаю, сэр, что это — самое отъявленное вероломство, но этого уже не изменить! Давайте возблагодарим Господа за то, что нам удалось добраться сюда — нет, нет, сэр — мы не в том положении, чтобы протестовать или пытаться наказать виновных — нам нужно торопиться вниз по реке, прежде чем случится нечто более страшное!
Уайтинг топнул ногой и выругался, но Вайберт, успокаивая, отвел его в сторону. Панди, окружавшие склон, теперь двинулись вниз, сквозь ряды брошенных фургонов, приближаясь к месту погрузки.
— Алло, Флэш, — устало проговорил Мур; как и я, он был густо покрыт грязью, а его раненая рука выскользнула из повязки. — Знаешь, они убили еще и Масси. Они вместе с Эвартом протестовали, когда панди схватили четырех наших сипаев — и расстреляли их всех…
— Как собак, прямо на обочине! — закричал Уайтинг. — Клянусь Богом, если бы у нас только была пушка! — он смахнул пот со лба, всматриваясь в панди, на склоне. — Тут он заметил меня. — Флэшмен — один из этих сипаев был пуштун — твой адъютант, тот здоровый парень в мундире хавилдара — они пристрелили его в канаве!
С минуту я ничего не мог понять и, лишь остолбенев, уставился в его красное злое лицо. «В канаве, как собаку!» — снова воскликнул он и тут меня словно ударило: он говорит мне о смерти Ильдерима. Не могу описать, что я ощутил — это не были печаль, ужас — скорее недоверие. Ильдерим не мог умереть — он казался неуязвимым, даже когда много лет назад я встретил его в Могале еще мальчишкой, одним из тех людей, которые просто брызжут жизнью. Я вспомнил его ухмыляющееся, обросшее бородой ястребиное лицо — прошло ведь всего несколько часов — «Чтобы ни одна проклятая собака не смогла бы меня с кем-то спутать!» Он был прав — и вот он умер, но не той смертью, которой этот отважный идиот всегда хотел умереть, а просто предательски убит на обочине. «Эх ты глупый гильзайский ублюдок, — подумал я — почему же ты не сбежал из укрепления, когда это еще было возможно…»
— Идем! — Мур толкнул меня в плечо. — Мы поднимемся на борт последними. Мы… алло, а это что за черт?
Из-за деревьев на вершине склона запел горн и чистые звуки донеслись до нас. Я посмотрел на холм и увидел, что там происходит что-то необычное. Должно быть, я был до сих пор настолько поражен смертью Ильдерима, что мне это зрелище показалось скорее странным, нежели ужасным. Панди на склоне — а там их было не менее пары сотен — присели для стрельбы с колена, вскинули мушкеты и направили их на нас.
— Господи Иисусе… — послышался крик и тут же склон холма будто взорвался громом мушкетных выстрелов, просвистели пули и я услышал, как кто-то рядом со мной застонал, а потом рука Мура дернула меня вниз и я, разбрызгивая жидкую грязь, шлепнулся прямо в воду. Я погрузился с головой и отчаянно замолотил руками и ногами, придя в себя только после того, как врезался головой в борт одной из барок. Надо мной кричали женщины, затем раздался отдаленный выстрел из пушки и я увидел, что узкий участок воды между мною и берегом, весь покрылся рябью от ударившей в него картечи. Я приподнялся, уцепился за планшир и с трудом подтянулся, а затем всю барку словно качнула какая-то гигантская рука, и я снова плюхнулся в воду.
Когда, задыхаясь, я поднялся на ноги, панди уже спускались по холму, держа сабли и мушкеты со штыками наготове, надвигаясь на остатки нашей береговой партии, которые пытались перебраться через мелководье. Другие мятежники, стоя на гребне склона, стреляли по лодкам, а в тени под тремя деревьями я заметил отблески залпов трехорудийной батареи, раз за разом посылающие порции картечи и ядер в беспомощно сгрудившиеся у берега барки. Люди барахтались в воде всего лишь в нескольких ярдах от меня — я видел, как одного британского солдата зарубили саблей, другой опрокинулся на спину, когда сипай выстрелил в него почти в упор, а третий, пронзенный штыком, медленно тонул у самого берега. Уилер, побледнев, кричал: «Предательство! Отходите от берега — быстро! Предательство!» Спотыкаясь и скользя по илистому дну, он выхватил саблю, замахнулся на наседающего сипая, потерял равновесие и погрузился с головой, но руки, показавшиеся из-за планширя ближайшей барки, ухватили и потащили его на борт; с генерала текла вода и он судорожно кашлял. Рядом в воде стоял Мур, а Вайберт пытался доплыть до нас, волоча свою раненую руку. Когда Мур рванулся ему на помощь, я снова ушел под воду, ударившись о дно лодки, а когда вынырнул, то абсолютно ясно понял — ну что ж, Флэши, мой мальчик, вот ты и ошибся еще раз — все же Нана-сагибу нельзя было доверять.
Я перебрался к другому борту и первое, что увидел, было тело, падающее в воду с лодки. Наверху горела солома, и большой пылающий пучок, зашипев, упал в воду, Я отпихнул его подальше и огляделся: на следующих двух барках солома также пылала, а люди кричали и прыгали в воду — я видел, как одна женщина бросилась за борт, сжимая в руках младенца — похоже, это была та самая, старший сын которой так смеялся при виде обделавшегося слона. За баркой мне не было видно берега, но треск огня значительно усилился, а крики и стоны просто оглушали. Люди торопились покинуть барки; я видел, как ниже по течению двое бились среди горящей соломы, а третий, слегка покачиваясь на волнах, похоже, плыл к противоположному берегу. «Нужно и мне последовать за этим парнем», — подумал я, но тут тростниковый борт барки лопнул прямо у меня над головой, с грохотом рассыпая вокруг потоки искр, из под которых доносились стоны и проклятия.
Несмотря на ужас, царящий вокруг, мне стало абсолютно ясно, что произошло. Очевидно, Нана с самого начала задуман обман — он только и ждал, чтобы мы собрались на лодках, чтобы открыть огонь из мушкетов и засыпать нас картечью из всех своих пушек. С места, где я находился, мне было видно, что одна барка уже тонет, а люди барахтаются вокруг в воде; по крайней мере еще четыре были в огне, а две беспомощно дрейфовали по течению. Панди зашли в воду, окружив оставшиеся три лодки, в которых в основном были женщины и дети, но затем густая пелена дыма затянула от меня картину происходящего, и в ту же секунду я услышал треск выстрелов с противоположного берега — эти вероломные ублюдки зажали нас с обеих сторон! Я опустил голову и поплыл к следующей барке, которой, по крайней мере, кто-то управлял. Когда я был уже невдалеке от ее кормы, то рядом в воде разглядел Мура, который изо всех сил толкал руль, пытаясь отвести барку подальше от берега. За ним я увидел Уилера, Вайберта и пару других офицеров, которых также удалось втянуть на борт, а наши солдаты стреляли в панди, столпившихся на берегу.
Мур что-то крикнул мне, но я не расслышал. Когда я вцепился в руль рядом с ним, его лицо оказалось всего в футе от меня — и вдруг оно взорвалось фонтаном крови, так что я был буквально забрызган его мозгами. Я, визжа, выпустил руль из рук и когда мне удалось очистить глаза от жуткого месива, барка уже медленно плыла по реке, так как наши люди смогли разобрать весла и мне в последний момент удалось ухватиться за планшир, в смертельном ужасе волочась за ней и крича, чтобы меня втянули на борт.
Должно быть, мы проплыли пару сотен ярдов, прежде чем я вскарабкался на палубу и немного пришел в себя. Первым, кого я увидел, был Уилер, мертвый или умиравший; на шее у него зияла широкая рана, кровь из которой заливала рубашку. Рядом на досках растянулся раненый солдат; тлеющая солома наполняла все вокруг едким дымом, а люди с обоих бортов палили по берегу. Я выглянул через планшир, посмотрев за корму — теперь мы уже плыли почти в полумиле от Сутти-Гат вниз по течению, а большинство барок все еще колыхались на местах своей стоянки, окутанные столбами дыма; река вокруг них была забита людьми, гребущими к берегу. Стрельба вроде бы ослабела, но вспышки мушкетных выстрелов по-прежнему были видны, а время от времени над вершиной дальнего холма появлялась яркая вспышка выстрела тяжелой пушки, и глухой гул разносился над водой. Еще двум баркам за нами, похоже, удалось выбраться на чистую воду, но наша была единственной, которой удалось продолжить движение, так как с полдюжины парней гребли веслами с каждого борта.
Я быстро обдумал создавшееся положение. Итак, мы выбрались, выстрелы мятежников не достигают нас. Уилер — мертвым лежит на палубе, а рядом с ним у планшира лежит Вайберт — глаза закрыты, а обе руки сочатся кровью. Кто-то бредит в агонии и я увидел, что это Тернер, одна нога которого была согнута под невообразимым углом, а вторая плавала в луже крови.
Уайтинг окровавленным привидением цеплялся одной рукой за оттяжку тента, а второй ковырялся в замке карабина. Похоже, командовать на барке было некому. Я заметил за одним из весел Делафосса, за другим — Томпсона, а сержант Грейди, с перевязанной головой, как раз выстрелил по берегу. А затем вдруг, с легким удивлением я обнаружил, что одним из раненых, лежащих на палубе, был Ист — и он умирал.
Не знаю, почему, но я бросился к нему и почувствовал, что пульс еще бьется. Он открыл глаза и посмотрел на меня, а кто-то, стоящий рядом со мной — я так и не понял, кто это был — прохрипел:
— Панди ранили его на берегу… штыком в спину бедолагу.
Ист узнал меня и попытался что-то сказать, но так и не смог; было видно, как жизнь покидает его глаза. Губы раненого зашевелились и я с трудом расслышал, что он произнес:
— Флэшмен… скажи доктору… я…
Это был конец — он лишь крепко сжал мою руку, а стоящий рядом человек заметил, что на борту вообще нет врача.
— Он не это имел в виду, — сказал я, — он имел в виду другого доктора — директора нашей школы, но тот давно умер.
На губах Иста показалась призрачная улыбка, его ладонь напряглась, а затем вдруг бессильно обмякла в моей — и я неожиданно поймал себя на том, что рыдаю от слез и вспоминаю Рагби, печеный картофель в магазинчике Салли и маленького хромоножку, так трогательно ковыляющего за игроками в Биг-сайд — ведь сам он играть не мог из-за своей хромоты. Я ненавидел этого ублюдка, мальчишкой и взрослым, за его мужество и самодовольную порядочность — но не каждый же день у вас на глазах умирает человек, которого вы знали еще ребенком. Наверное, потому я и плакал, а может — от шока и ужаса после всего, что случилось — не знаю. Но что бы это ни было, я чувствовал это сильнее, сознавая, что сам-то я жив и даже все кости у меня пока целы. [XXXII*]
Память — странная вещь. Стоит вам пройти через нечто дьявольское — например, осаду и сдачу Канпура, Балаклаву и Кабул, Жирные Травы и Исандлвану — как она стремится побыстрее забыть об этом, до тех пор пока не случается новый ужас. К счастью, путешествие в барке почти изгладилось из моей памяти — знаю только, что наше судно было единственным вырвавшимся из Канпура, остальные были разнесены на куски ядрами или сгорели вместе со своими пассажирами — за исключением тех, на которых были женщины и дети. Панди захватили их и перевезли всех женщин и малышей обратно на берег — весь мир знает, что случилось после этого. Хорошо помню лишь несколько деталей нашего путешествия вниз по реке — если вам интересно, Томпсон подробно описал их. Помню, как умер Уайтинг — точнее, помню его уже мертвым — он лежал на носу лодки, очень маленький и бледный. Помню, как резко дернулся руль, плеск воды и треск, когда мы в темноте сели на мель. Помню, как на берегу били барабаны, как Вайберт закусил от боли свой кожаный ремень, когда перевязывали его сломанную руку, помню глухие всплески воды, когда мы опускали за борт мертвые тела и запах плесени от залежалой муки, составлявшей всю нашу еду. После смерти Иста моя память стала ясной и последовательной именно с того момента, как из темноты прилетела огненная стрела и, трепеща, вонзилась в палубу. Мы начали стрелять по смутным фигурам на ближнем берегу и новые пылающие стрелы адским дождем обрушились на барку, пока мы упирались веслами, пытаясь вывести ее на течение, за пределы дальности выстрела. Мы гребли как черти, до тех пор пока вспышки света на берегу не остались у нас далеко за спиной, а вопли и барабанный бой черномазых не замерли вдали. Тогда мы в измождении повалились на палубу и течение понесло нас, выбросив на другую отмель как раз перед рассветом.
На этот раз выбраться на чистую воду не удалось — мы прочно увязли в иле неподалеку от пустынного, поросшего джунглями берега, где не было слышно ничего, кроме криков обезьян и пения птиц в густых зарослях. На противоположном берегу виднелась все та же масса зелени, а коричневая, маслянистая река медленно катила свои воды. По крайней мере, это была мирная картина, что представляло приятное разнообразие.
Вайберт считал, что мы все еще находимся в сотне миль от Аллахабада, и если поведение туземцев, осыпавших нас огненными стрелами, было обычным для этих мест, то большую часть пути нам придется проделать по враждебной территории. На барке нас было около двух дюжин, но едва половина могла стоять на ногах. У нас было мало пороху и пуль и отчаянно не хватало даже муки, не было абсолютно никаких медикаментов, так что вполне вероятно, что если мы не доберемся до безопасных мест достаточно быстро, у половины из раненых начнется гангрена. «Не слишком приятные перспективы», — подумал я, оглядывая наше потрепанное суденышко, с дюжиной раненых, стонущих или безразлично ко всему валяющихся на палубе. Все вокруг было пропитано запахом крови и смерти, так что даже здоровые выглядели изнуренными и пали духом. Я был в лучшем состоянии, чем многие, — мне ведь не пришлось сидеть впроголодь всю осаду — и это снова навело меня на мысль, что неплохо бы мне смыться и попытать счастья добраться до Аллахабада на своих двоих; в конце концов, я опять мог прикинуться туземцем.
Так что, когда мы собрали наш маленький совет, я приготовил себе пути к отступлению — как обычно, тонко. Остальные, конечно же, спорили о том, как бы нам снова вывести барку на течение и двинуться дальше в Аллахабад — и тут я огорошил всех заявлением, что сам вовсе не тороплюсь попасть туда.
— Я согласен, что мы должны снять нашу барку с мели, чтобы вывести на ней раненых, — сказал я, — но остальные из нас, по крайней мере, я сам, должны как можно скорее вернуться в Канпур.
Тут все с недоверием уставились на меня.
— Да ты с ума сошел! — воскликнул Делафосс.
— Так велит мне мой долг! — твердо заявил я. — Когда нам приходилось думать о женщинах и детях, они были нашей основной заботой. Только поэтому мы сдались — не так ли? Ну, а теперь, когда они… погибли или стали пленниками этих мерзавцев — мне больше незачем бежать, — и я обвел всех самым воинственным взглядом, каким только смог. — За эти несколько часов не было достаточно времени, чтобы все обдумать — но теперь, полагаю, я твердо знаю, где хочу находиться, и это место — Канпур.
— Но… но… — пробормотал Томпсон, — мы не можем вернуться туда! Это — неизбежная смерть!
— Возможно, — сказал я с весьма деловым видом. — Но я уже видел однажды, как спускается флаг моей страны — чего никогда не ожидал увидеть — видел, как мы были вероломно преданы, а наших… наши любимых оторвали от нас… — тут я постарался выдавить скупую мужскую слезу. — Мне все это нисколько не нравится! Так что я — возвращаюсь и собираюсь загнать пулю в сердце этого черномазого ублюдка — все равно каким образом. И это — все!
— Клянусь Богом! — воскликнул Делафосс, загораясь, — клянусь Богом, я уже подумываю о том, чтобы пойти с тобой!
— Вы этого не сделаете! — вмешался Вайберт; он был смертельно бледен, обе руки бессильно повисли, но он все еще пытался командовать. — Наш долг — достичь Аллахабада — полковник Флэшмен, я запрещаю вам! Я не хочу, чтобы вы зря жертвовали жизнью в этом… абсолютно сумасшедшем предприятии! Вы будете исполнять приказы генерала Уиллера…
— Послушайте, старина, — примирительно сказал я, — ведь я никогда не состоял под командой генерала Уилера, помните? Я и не прошу никого идти со мной — но тут у меня остался мертвый друг — товарищ еще со старых афганских времен — верный парень с гор. Ну что ж, может быть, и я в большей степени просто честный солдат, чем гвардеец, привыкший лишь к парадам — и тем не менее я знаю, что должен делать. — Я улыбнулся ему с легкой насмешкой и слегка похлопал по ноге: — В любом случае, Вайберт, не забывай, что я старше тебя выслугой.
Тут они затараторили все наперебой, умоляя меня не быть дураком, а Вайберт добавил, что я не могу бросить наших раненых. Он собирался выслать отряд на берег, чтобы попытаться найти дружественно настроенных деревенских жителей, которые могли бы помочь стянуть нас с мели, и я более всего подходил, чтобы возглавить его, — заметил Вайберт, добавив, что мой главный долг — исполнить предсмертные пожелания Уилера и двигаться дальше вниз по реке. Я сделал вид, будто колеблюсь и наконец согласился возглавить береговой отряд.
— Но в конце концов, вы двинетесь в Аллахабад без меня, — твердо заявил я. — Все что мне понадобится — это винтовка, нож и рукопожатие каждого из вас.
Вот так, дюжина из нас сошла на берег, чтобы попытаться найти дружественную деревню. Если нам удастся ее обнаружить и перспективы добраться до Аллахабада станут более реальными, я, поломавшись, дам себя убедить и поплыву с остальными, а если нет — то я просто потихоньку исчезну, а они могут сколько угодно думать, что я вернулся в Канпур, терзаемый жаждой мести. (Вот, что значит иметь безупречную репутацию — вам верят, что бы вы ни сказали, да еще качают головами, восхищаясь вашей дьявольской отвагой.)
Мы и пяти минут не прошли, пробираясь среди джунглей, как я уже молил Бога о том, чтобы мне можно было вместо этого остаться в лодке. Пока мы не особо удалились от реки, заросли были не слишком густыми, но жутковатыми и до странности тихими, с огромными высокими деревьями, бросающими густую тень на нижний ярус леса, состоящий из вьющихся лиан и болотных растений — словно огромный собор, тишину в котором нарушал лишь редкий шорох, какого-нибудь обитателя этих деревьев. Мы нашли небольшую тропинку и следовали по ней, до тех пор пока не наткнулись на маленький храм — небольшое строение, стены которого были покрыты штукатуркой, выглядевшее так, словно его никто не посещал уже много лет. Делафосс и сержант Грейди осмотрели его и доложили, что храм пуст и я как раз скомандовал остальным заходить в него, когда мы услышали в лесу очень отдаленные и глухие звуки: медленный бу-ум-бум барабанов.
Ни один звук с тех пор так не вгоняет меня в дрожь. Я слышал его в Дагомее, когда за нами гнались амазонки, на южноамериканских болотах и ночью на реке Папар на острове Борнео, в ночь, когда ибанские охотники за головами вышли на тропу войны — глухой голос судьбы, звук которого вызывает видение призраков с лицами в боевой раскраске, ползущих к вам сквозь тьму. Причем обычно это чертовски реальные призраки, как случилось и на этот раз. Едва я успел отдать приказ, как послышался свист, затем глухой стук и Грейди, стоявший на краю поляны, рухнул со стрелой во лбу, а на нас прямо с деревьев, с леденящими кровь в жилах воплями обрушились темные полуголые фигуры, призывая к кровавому убийству. Я успел выстрелить лишь один раз — бог знает, куда ушла пуля — и тут же бросился бежать к храму. Мне удалось заскочить в него за долю секунды до того, как две стрелы, подрагивая, вонзились в дверной косяк — и вот все мы оказались внутри, а Делафосс с Томпсоном остались у дверей, стреляя по зарослям так часто, как только могли.
Дикари кинулись на штурм целой толпой, и в следующие пять минут у дверей разгорелась такая отчаянная кровавая свалка, в каких мне до тех пор не приходилось бывать. Мы были так стиснуты внутри храма — площадь свободного пространства там не превышала восьми квадратных футов — что только двое из нас могли одновременно стрелять через двери. Кем бы ни были атакующие — скорее всего на нас наткнулись какие-то полудикие обитатели джунглей, очевидно, зараженные общим безумием мятежа — у них, похоже, не было огнестрельного оружия, так что большинство атакующих можно было подстрелить, прежде чем им удалось подобраться настолько, чтобы пустить в дело свои копья и длинные клинки. Но их стрелы зудели вокруг подобно шершням, и двое наших парней были ранены, прежде чем атака захлебнулась. Мы как раз приходили в себя и я помогал Томпсону вытянуть стрелу, которая вонзилась в мышцу руки рядового Мэрфи — причем мы все время слышали, как осаждающие, яростно сопя, украдкой крутятся под самыми стенами храма — когда Делафосс вдруг крикнул:
— Огонь! Огонь! Они хотят поджечь нас!
И действительно, струйка дыма потянулась из-под дверей, внутрь влетела горящая стрела, вонзившись в бок рядового Райана, а черномазые победно завопили. Я почти задыхался в вонючем дыму, когда Томпсон сжал мне руку, воскликнув:
— Мы должны прорваться… два залпа прямо по ним и… бросаемся в атаку…
Все это было делом какой-то доли секунды; на то, чтобы думать или спорить, просто не было времени. Томпсон с Делафоссом и двумя рядовыми проковыляли к двери, Томпсон крикнул: «Огонь!» — и они разом выстрелили, а затем мы, наклонившись, выскочили из храма, который у нас за спиной пламя уже лизало изнутри, и бросились через поляну под спасительное прикрытие джунглей. При виде нас черномазые снова завопили. Я заметил, как человек, бегущий впереди меня, вдруг рухнул с копьем, торчащим из спины; я выстрелил в темную фигуру, выскочившую передо мной и дикарь упал, а затем мы пустились бежать среди деревьев и я потерял свой мушкет, не думая уже ни о чем, кроме как побыстрее смыться.
Делафосс был впереди меня; я бежал следом, по прокладываемому им пути, а стрелы свистели у нас над головами; за спиной у меня тяжело стучали сапоги, и Томпсон прокричал:
— Вперед, вперед — мы можем оторваться от них — вперед, Мэрфи, Салливан — к лодке!
Бог знает, как нам удалось прорваться — очевидно, дикарей застала врасплох неожиданность, с которой мы бросились на них из храма, — но мы все еще слышали их вопли, разносившиеся по джунглям у нас за спиной, и, конечно же, они продолжали охоту за нами. Мои легкие уже разрывались, когда мы из последних сил продирались сквозь густые заросли у самой реки, оставляя на сучьях клочья одежды, раздирая в кровь лица и хрипя от изнеможения. И вот мы выбрались на берег; Делафосс, поскользнувшись в грязи, едва удержался на ногах и вдруг воскликнул:
— Они ушли! Вайберт! Боже мой, лодка уплыла!
Илистый берег был пуст — на месте, где застряла барка была видна большая вмятина в глинистом склоне, но бурая полоса воды была спокойной до самой зеленой стены джунглей на дальнем берегу; от барки же не было и следа.
— Наверное, их унесло, — Делафосс чуть не плакал, и я подумал: «Ну, ладно, мой мальчик, хватит ломать голову над тем, как это могло случиться — тем более что вот-вот появятся черномазые».
Я даже не сбавил шага, а просто сиганул в реку самым отчаянным прыжком, на какой только был способен. Послышались крики и всплески — это остальные бросились в воду следом за мной. Я греб наугад, чувствуя, что течение тянет меня вниз по реке — мне это было безразлично, главное — поскорее убраться куда-нибудь подальше от этих черномазых дьяволов, орущих в лесу у нас за спиной. До противоположного берега было слишком далеко, но ниже по течению, где река разветвлялась на рукава, было множество островков и песчаных отмелей и нас несло к ним куда быстрее, чем наши преследователи могли надеяться туда добежать. Я плыл по течению, пока вопли дикарей не замерли в отдалении, а затем огляделся по сторонам, чтобы узнать, как там остальные. Из воды торчало лишь четыре головы — Делафосс, Томпсон, Мэрфи и Салливан; все они плыли следом за мной. Я как раз размышлял, не подплыть ли мне к ближайшей из песчаных отмелей или разрешить течению нести меня дальше, когда Делафосс высунулся из воды, что-то завопил и ткнул рукой куда-то впереди меня. Сперва я не понял его, но затем до меня донеслось хриплое: «Крокодилы!» — и когда я взглянул туда, куда он указывал, мне показалось, что парящие теплом воды Ганга вдруг превратились в лед.
На илистом берегу в сотне ярдов впереди и немного правее от меня шевелились тени — длинные, бурые, отвратительные чешуйчатые чудовища с ужасающей быстротой сползали к воде, плюхались на мелководье и настойчиво двигались нам наперерез; их наполовину погруженные в воду уродливые рыла рассекали темную поверхность реки. На мгновение меня будто парализовало — а затем я бешено заколотил по воде, охваченный страхом, борясь с вялым течением и пытаясь выбраться на стрежень. Я знал, что это бесполезно; чудовища должны были перехватить нас задолго до того, как мы достигнем островов, но я барахтался вслепую, пробиваясь через толщу воды, слишком испуганный для того, чтобы оглядываться по сторонам и в любую минуту ожидая, как смертоносные челюсти крокодила сомкнутся на моей ноге. Я почти выбился из сил от измождения и паники, но тут рядом оказался Салливан, который дернул меня за плечо и показал куда-то вперед — и я увидел, что плавное течение реки вдруг сменяется длинной чередой бурных водоворотов — там, где вода проносилась в узости между двумя низкими выступами глинистых берегов. Был всего лишь ничтожный шанс на то, что нам удастся достигнуть этого бурного потока и стремительное течение унесет нас прочь — крокодилы обычно не любят быстрой воды — и я ухватился за этот шанс со всей энергией отчаяния.
Я бросил быстрый взгляд направо — боже мой, одно из этих отвратительных созданий было уже в десяти ярдах, все приближаясь ко мне! Кошмарным видением передо мной мелькала его морда, рассекающая воду, а огромная мощная пасть вдруг ощетинилась зубами — с прискорбием должен отметить, что я так и не понял, выступает четвертый зуб на нижней челюсти или нет. Один парень-зоолог, которому я описал этот случай пару лет назад, рассказал мне, если бы я обратил на это внимание, то теперь знал бы, нападали на меня обычные крокодилы или гавиалы, а может, и еще какие-нибудь другие твари, что, несомненно, представляло для меня в тот момент огромный интерес. [XXXIII*] Могу только заметить, что чудовище напоминало настоящую Железную деву,[165] плывущую ко мне по воде, и я уже испустил было последний вопль отчаяния, но тут Салливан потянул меня за волосы, течение коснулось наших ног и увлекло нас в бурный поток между двумя островками; мы изо всех сил пытались удержаться на плаву, то погружаясь с головой в бурую жижу, то выныривая на поверхность — а потом вода вдруг сменилась полосой черной липкой грязи и Салливан закричал:
— Вверх, сэр, во имя спасения Христова! — и почти волоком протащил меня по жидкому илу к спасительному клубку кустарника на вершине глинистого берега.
Делафосс барахтался позади нас, Томпсон стоял по колено в воде и отмахивался куском корня, целя в голову крокодилу, который несколько раз бросался на него, щелкая зубами, прежде чем наконец повернул прочь, подняв целую тучу брызг ударом своего громадного хвоста. Мэрфи, с руки которого капала кровь, добрался уже почти до вершины берега, а теперь спускался, чтобы помочь нам. Я с трудом подтянулся к нему, дрожа как в лихорадке, и, помнится, подумал: теперь это, наконец, должно закончиться, больше уже ничего не может случиться, потому что если вдруг что-то еще произойдет, то я просто умру на месте, потому что уже ничего не смогу сделать. Салливан привстал на колено рядом со мной, и, помню, я сказал ему:
— Господь благословит тебя, Салливан. Ты — самый благородный из живущих ныне людей, — или что-то столь же замечательное — клянусь Богом, я так и думал — а он ответил:
— Полагаю, что вы правы, сэр; но вам стоит сказать об этом и моей жене — черт меня побери, если она думает так же.
А затем, похоже, я потерял сознание, так как последнее, что помню, были слова Делафосса: «Полагаю, что это друзья — смотри, Томпсон, они машут нам — они не собираются причинять нам вреда», а сам подумал: «Если это нам машут крокодилы, ни за что не верьте этим ублюдкам — они только прикидываются дружелюбными…» [XXXIV*]
X
Случай, как мне часто приходилась наблюдать, подобен проказнику-эльфу, который с равным проворством скачет во все стороны. Вы скажете, что злой рок занес меня в Мирут как раз накануне начала мятежа — но я спасся оттуда, и только для того, как выяснилось, чтобы попасть в ад Канпура, откуда я также выбрался в числе пятерых уцелевших после резни на берегу Ганга. Было худшей из неудач нарваться на этих дикарей в джунглях, а после — на крокодилов, но если бы они не преследовали нас, мы никогда не попали бы на илистый склон под стенами городка одного из тех маленьких индийских княжеств, правитель которого остался верен Сиркару. Потому что именно так и случилось — новые черномазые, которые, как заметил Делафосс, махали и кричали нам с берега, оказались подданными Дирибиджа Сингха, сурового старого махараджи, который правил из затерянного в джунглях форта и был одним из самых верных друзей Британии. Так что, как видите, весь секрет случая состоит в том, что удача обязательно улыбается вам напоследок.
Как вы понимаете, сама игра была еще не закончена; когда я вспоминаю о мятеже, то могу сказать, что худшее было еще впереди. Но все же, стоя на этом илистом берегу, я почувствовал, что что-то изменилось; во всяком случае, после долгого кошмара для меня настал период относительного спокойствия, во время которого мне можно было несколько укрепить расшатанные нервы и начать планировать, как бы мне выбраться из этой индийской заварухи и вернуться в Англию, к покою и безопасности.
Пока же оставалось только благодарить Бога и преданных дикарей, которые спасли нас с этого мелководья, кишащего крокодилами. Туземцы вытащили нас на берег и привели в дворец махараджи, а тот оказался молодцом — крепкий старик с белоснежными бакенбардами и брюхом с добрую пивную бочку, который сыпал проклятиями по адресу всех мятежников и обещал переправить нас к нашим соплеменникам, как только мы оправимся и можно будет безопасно продвигаться дальше. Однако это стало возможно не ранее чем через несколько недель, а между тем наша пятерка отдыхала, набираясь сил и как только можно проявляя свое нетерпение — Делафосс и Томпсон горели желанием побыстрее вернуться в самую гущу событий; Мэрфи и Салливан, два рядовых, держались в сторонке и жрали, как лошади, в то время как я, проявляя еще больше нетерпения, чем мои собратья-офицеры, был в глубине души вполне доволен отдыхом, покоем и возможностью поваляться на солнышке, лакомясь манго, которые пришлись мне весьма по вкусу.
Между тем, как стало нам известно позже, в окружающем нас мире произошло много разных событий. Новости о падении Канпура придали Мятежу страшный толчок; восстание распространилось вдоль всей долины Ганга и по Центральной Индии, восстали гарнизоны в Мхоу, Агре и еще в дюжине других мест, а примечательнее всего, что Генри Лоуренс был разбит, ввязавшись в чертовски глупое сражение при Чинхате, после чего ему пришлось укрыться в Лукнау, который был осажден. С другой стороны, мой лучший друг — Первый Могильщик (которого вы знаете под именем генерала Хэйвлока) наконец-то приподнял свою пуританскую задницу и двинул через Аллахабад на Канпур; он пробился туда после девятидневного марша и отбил город спустя неполные три недели после того, как нас вышвырнули оттуда — полагаю, всему миру известно, что он нашел, проникнув за его стены.
Вы помните, что когда мы спаслись от резни у Сутти-Гат, барки с женщинами и детьми были захвачены панди. Ну так Нана-сагиб вытащил их на берег, все две сотни человек и запер в месте под названием Бибигар, в такой грязи и духоте, что тридцать пленников умерло уже в первую же неделю. Он заставил наших женщин молоть кукурузу, а когда разнеслась весть, что Хэйвлок прорывается с боем, уничтожая всех на своем пути, Нана приказал зарезать всех женщин и детей. Говорят, что даже сами панди не хотели этого делать, так что он послал на дело худшее отребье, которое только смогли собрать на базаре Канпура; они поубивали всех белых, даже младенцев, и бросили их, мертвых и еще живых, в колодец. Люди Хэйвлока нашли Бибигар, залитый по щиколотку кровью, в которой еще плавали детские игрушки, шляпки и пучки волос, — британцы опоздали всего на два дня.
Не думаю, чтобы какое-нибудь страшное событие моих дней — ни Балаклава, ни Шайло, ни Роркс-Дрифт — ничто другое, приходящее на память, — имело бы столь ошеломляющее воздействие на сознание людей, как это избиение невинных в Канпуре. Конечно, я не видел всего этого ужаса, как солдаты Хэйвлока, но я побывал там несколькими неделями спустя и, бродя по Бибигару, видел окровавленные стены и полы, а возле колодца нашел объеденную до костей детскую ручку, белевшую в пыли подобно маленькому крабику. Как вам известно, я достаточно хладнокровен, но это просто лишило меня дара речи и если вы спросите, что я думаю о мести, которую придумал генерал Нейл, заставляя захваченных бунтовщиков отмывать кровь со стен в Бибигаре, и, под страхом порки принуждая их языками вылизывать эту кровь — прежде чем все они были повешены — так вот, я и тогда и сейчас считаю, что он был прав. Возможно, это потому, что я знал тех, чьи тела были сброшены в этот колодец, — я видел этих детей играющими в укреплении Канпура, и слышал, как они пытались учить уроки в этих ужасных бараках и слышал, как они смеялись над обделавшимся слоном. И быть может, детская ручка, которую я нашел в пыли у колодца, принадлежит младенцу, которого прижимала к груди женщина в измятом бальном платье. В любом случае, стоя среди развалин Бибигара, я был готов уничтожить все живое в Индии — и если вас это шокирует, так что ж — возможно, я лишь немного более похож на Нана-сагиба, чем вы.
В любом случае, мои мысли не имеют особого значения — гораздо важнее эффект, произведенный событиями в Канпуре на наших людей. Знаю, что это довело армию почти до безумия; теперь солдаты были готовы убивать любого при малейшем подозрении в мятеже. Не то чтобы раньше они были слишком снисходительны; Хэйвлок и Нейл вешали туземцев направо и налево — от Аллахабада и далее к северу, причем осмелюсь предположить, что невинных жертв тоже хватало — но ведь также поступали панди в Мируте и Дели. [XXV*]
Что меня поражает, так то, как близко принимают люди это к сердцу — а чего другого можно ожидать на войне? Ведь ее ведут не миссионеры или эти малые из либеральных клубов — самодовольные и всем обеспеченные. И что больше всего удивляет — как меняются взгляды на эти вещи в угоду моде. Ведь долгие годы после Канпура любые враждебные действия против индусов — мятежников или нет — считались лишь справедливой местью, и ничто не могло быть для них слишком суровой карой. Сегодня же все переменилось, и даже знаменитые писатели кричат: «Позор!» и считают, что ничто не оправдывало столь ужасного возмездия, какое принес Нейл, и что мы гораздо более виноваты, чем эти черномазые. Почему? Потому что мы — христиане и с нас больше спрос? Потому что в Англии всегда найдется огромная толпа шумных всезнаек, готовых оправдывать поведение наших врагов и рвать на себе волосы в благоговейном ужасе, сокрушаясь о нашем собственном поведении. Не могу понять, почему наши грехи всегда должны быть более тяжкими — а что касается Канпура, то мне не кажется более жестоким, если один, подобно Нейлу, убивает из мести, а другой — из жестокости, как Нана; по крайней мере первое более понятно.
Правда, конечно же, состояла в том, что обе стороны боялись. Взбунтовавшиеся панди боялись наказания и дали волю своей природной кровожадности — в глубине души все они жестокие ублюдки. А наши люди испытывали всепоглощающий страх и ужасы Канпура также выпустили на свободу их кровожадные инстинкты — дайте только им несколько хорошо подобранных текстов про месть и гнев Господень и они с охотой примутся за дело — как я уже отмечал на примере головорезов Роуботема, нет более жестокого создания, чем христианин, уверенный в своей правоте. За исключением, возможно, черномазого, выпущенного на волю.
Так что видите, какое милое лето было в тот год в долине Ганга — я с моими четырьмя товарищами поняли это, когда Дирибиджа Сингх наконец под охраной переправил нас из своего форта обратно в Канпур, который к тому времени вновь отбил генерал Хэйвлок. Я не видал старого Живодера с тех пор, как он вздыхая стоял у моей постели в Аллахабаде пятнадцать лет назад. Надо сказать, время не изменило его к лучшему: со своими унылыми бакенбардами и безумными глазами бладхаунда он по-прежнему выглядел как загинающийся от диареи Эйб Линкольн. Когда я рассказывал Хэйвлоку свою историю, он выслушал все в молчании, а затем схватил меня за запястье своей большой костлявой ручищей и, поставив меня на колени, сам стал рядом и возблагодарил Создателя за то, что он в своей безграничной милости вновь соизволил вытащить Флэша из очередной мясорубки.
— Щит правды Его защитил вас, Флэшмен! — воскликнул старый святоша. — Не та ли длань, что ранее спасла вас из когтей медведя в Кабуле и из пасти льва в Балаклаве, избавила ныне от рук филистимян в Канпуре?
— От всей души аминь — торжественно произнес я.
Однако стоило мне рассказать Хэйвлок о своем секретном задании — про Палмерстона и для чего именно я прибыл в Индию, предположив, не будет ли теперь разумным сразу отправиться домой, — он лишь покачал своей огромной головой, похожей на крышку гроба.
— Это невозможно, — твердо сказал он. — Пусть эта ваша миссия и закончена, но нам сейчас нужны любые свободные руки за плугом. Судьба всей этой страны висит на волоске и я не могу отказаться от помощи такого опытного солдата, как вы. Перед нами большая работа по очистке этой земли и умов от плевел мятежа, — продолжал Хэйвлок, и видно было, как священный огонь разгорается в его глазах, так что он едва справляется с переполняющей его страстью. — Я беру вас в свой штаб, Флэшмен — нет сэр, можете меня не благодарить; я на этом выиграю больше, чем вы.
Тут я готов был с ним согласиться, тем более что знал, что спорить с такими, как Хэйвлок, бесполезно — а пока я раздумывал, что же ответить, он успел подписать еще несколько приказов о повешении очередных бунтовщиков, одновременно диктуя резкое письмо Нейлу и рыча что-то своему адъютанту; будьте уверены — этот старый любитель Евангелия в те дни был занят под завязку.
Так что вот куда я попал, хотя могло быть и хуже. Я практически не имел надежды на то, что меня отправят домой — ни один из высших командиров, находящихся в здравом уме, не станет разбрасываться такими людьми, как знаменитый Гарри Флэшмен, тем более, когда на носу серьезная кампания, а уж если я обречен оставаться здесь, то лучше провести это время под крылышком Хэйвлока, нежели кого-то еще. Видите ли, он был отличным солдатом и в своем роде таким же хитрым, как и Кэмпбелл; там где командовал Гробокопатель, «Юнион Джеку» не грозила новая резня.
Итак, я устроился адъютантом Хэйвлока по разведке — настоящий счастливый билет, чтобы обеспечить себе безопасность, но если вас интересуют подробности наших с ним путешествий, то вам придется обратиться к моей официальной истории, «Дни и странствия солдата» (в трех очень мило отделанных марроканской кожей томах, по две гинеи штука или пять гиней за весь комплект. При этом у вас могут возникнуть проблемы с третьим томом, поскольку большая часть его тиража была изъята, а позже сожжена по приговору суда, после того как этот уайт-чепельский хорек Д'Израэли по совету одного из своих подхалимов подал на меня в суд за разглашение криминальной информации. Акции Суэцкого канала, слыхали? Но я еще полью имя этого ублюдка грязью, попомните мои слова. Правда всегда выходит наружу.).
Так или иначе, дело в том, что мой теперешний рассказ не вполне совпадает с общепринятой историей Великого мятежа — хотя поневоле пришлось в нем основательно отметиться — особенно касательно этой сумасшедшей миссии в Джханси и очаровательной Лакшмибай. Тем более что мои дела с принцессой были не закончены — что бы по этому поводу ни думал Хэйвлок и как бы мало я ни догадывался об этом сам — ибо все дальнейшее развитие мятежа было лишь дорогой, которая вела меня обратно к рани, а заодно — к ужасному финалу всех этих приключений в Джханси и пушкам Гвалиора, о чем я теперь и собираюсь поведать.
Между тем я коротко расскажу вам, что случилось в течение нескольких последующих месяцев после того, как я присоединился к Хэйвлоку в Канпуре. Сперва отовсюду поступали лишь чертовски дурные вести: восстание продолжало расширяться, Нана-сагибу удалось бежать после падения Канпура и он продолжил разжигать мятеж в глубине страны, панди все еще удерживали Дели, а наши войска пытались его взять, а у Хэйвлока в Каунрупе не хватало сил и средств, чтобы деблокировать Лукнау, который находился всего лишь в сорока милях, и где был заперт гарнизон Лоуренса. Он пытался это сделать несколько раз, однако обнаружилось, что, несмотря на неумение повстанцев грамотно использовать свое численное преимущество, в обороне они сражались весьма стойко, чего никто не мог предположить. Так что прежде чем пройти первые десять миль, Хэйвлок уже получил несколько чувствительных ударов и вынужден был откатиться. Еще больше осложнило обстановку то, что авангард Ллойда был отрезан при Арахе и ни одна живая душа в Калькутте понятия не имела об общей стратегии. Говорили, что этот клоун Каннинг мог лишь пускать ветры со страха и ни одного разумного приказа от него было не дождаться.
Впрочем, меня это особо не огорчало. Во-первых, я хорошо устроился в штаб-квартире Канпура, занимаясь бурным бандо-бастом[166] сбора информации от наших шпионов и передачей ее выжимок Хэйвлоку (работа в разведке — что семечки для меня, если только при этом мне не приходится отрываться от постели, бутылки, сытного завтрака и рисковать своей шкурой в сомнительных предприятиях). А во-вторых, я чувствовал, что обстановка меняется в нашу пользу; после того как бурный поток первых успехов панди исчерпался, конец мог быть только один, к тому же старина Кэмпбелл, который лучше всех генералов подходил для этого дела, прибыл, чтобы занять пост главнокомандующего.
В сентябре мы двинулись на Лукнау с новыми силами, подкрепленные свежими войсками под командой Аутрама — неопрятного на вид коротышки верхом на выносливой валлийской лошадке, который был больше похож на Храброго Портняжку, чем на генерала. Мне говорили, что это был просто дьявольский марш; все время дождь шел как из ведра и пришлось выдержать жестокие баталии при Мангалваре и Алум-баге, на самых подступах к Лакноу — я помню об этом, так как получил соответствующее донесение в моем разведывательном гхари, в котором следовал в тылу колонны, где я мог спокойно заниматься составлением рапортов, допросами пленных и получением новостей от дружелюбно настроенных туземцев — по крайней мере, они становились дружелюбными после того, как с ними предварительно беседовал мой ординарец-раджпут. Время от времени я высовывал голову под дождь и приветствовал подходящие подкрепления бодрыми криками или же отсылал гонцов к Хэйвлоку — помню, один из них как раз сообщил мне, что Дели все-таки пал, а старина Джонни Николсон, бедняга, получил пулю. Я выпил солидную порцию бренди за упокой его души, под шум дождя и гул далекой канонады, думая о том, чтобы Бог помог бедным солдатам в эту тяжелую ночь.
Однако взяв Лакноу, Хэйвлок с Аутрамом не знали, какого черта делать с ним дальше, потому что панди по-прежнему густо вились вокруг как мухи, и вскоре стало ясно, что в место того чтобы снять осаду, нашим войскам удалось лишь пополнить его гарнизон. Так что следующие семь недель мы все снова провели в осаде, и, доложу я вам, это, наверное, было нелегкое дело, так как пришлось сидеть на урезанном пайке, а панди все время пытались вести подкопы под стены, так что нашим парням приходилось драться с ними в минных галереях, словно в кроличьих норах. Я говорю «наверное», поскольку сам ничего об этом не знал — в ту ночь, когда мы вошли в Лакноу, мои кишки вдруг начали завязываться узлами и к утру я свалился пластом с холерой — во второй раз в жизни.
С одной стороны, это было даже хорошо, так как избавило меня от впечатлений осады, словно я снова оказался в Канпуре, если не хуже. Полагаю, большую часть времени я бредил и знаю лишь, что несколько недель я провел, лежа в маленькой комнатке, ослабевший как мышь и с помутненным рассудком. В себя я начал приходить лишь недели за две перед снятием осады, и к тому времени весь гарнизон был обрадован известием, что Кэмпбелл двинулся в поход. Я изображал самоотверженного героя, пытаясь сохранять благородно-изможденный вид и спрашивая: «Наше знамя еще развевается над городом?» и «Могу ли я что-нибудь сделать, сэр? — Я чувствую себя гораздо лучше, чем выгляжу, уверяю вас». Так оно, между нами, и было, но я старался посильнее хромать, опираясь на трость, и почаще присаживаться, тяжело дыша. Фактически делать было нечего, кроме как ждать и прислушиваться к стрельбе панди — они не слишком-то часто попадали в цель.
В последнюю неделю, когда нам было уже точно известно, что Кэмпбелл находится лишь в паре дней пути, вместе со своими горцами-гайлендерами, морскими пушками и прочим, я стал неосторожен настолько, чтобы снова выглядеть абсолютно здоровым. Теперь это уже представлялось совершенно безопасным — в Лукнау, в отличие от Канпура, нам приходилось оборонять более значительную площадь, так что если кто-то мог на законных основаниях избежать службы на стенах (как, например, выздоравливающие вроде меня), он мог в полной безопасности прогуливаться в саду резиденции губернатора. Здесь было много больших домов, теперь полуразрушенных, но вполне пригодных для жилья, которые мы и занимали или разбивали лагерь на свежем воздухе. Когда я окончательно встал со своего больничного ложа, меня направили было в бунгало, в котором квартировал Хэйвлок со своим штабом. Однако он послал меня в штаб-квартиру Аутрама в надежде, что я там для чего-нибудь пригожусь. Хэйвлок к тому времени прекрасно устроился и почти не принимал участия в командовании. Большую часть времени он проводил в саду Габбинса, читая какую-то чушь, написанную Маколеем,[167] и был очень заинтригован, услышав, что я встречал этого лорда-всезнайку и даже обсуждал его «Песни» с самой королевой; мне пришлось со всеми подробностями рассказать об этом Хэйвлоку.
Что касается остального, то я много болтал с Винсентом Эйри, который в свое время вместе со мной отступал из Кабула, а сейчас был одним из многочисленных раненых гарнизона, а также любезничал с дамами в старых садах резиденции, развлекая их рассказами о модах, — после шестимесячной осады все они были одеты кто во что горазд, а для ремонта и переделки платьев пришлось использовать даже занавески и полотенца. Кончено же, мне все были рады — божественный Флэш, герой, идущий на поправку — и наперебой расспрашивали о моих приключениях от Мирута до Канпура. Если слушательницы попадались достаточно хорошенькие, я, не моргнув глазом, рассказывал им самую скромную историю, изображая при этом повадки Маккарам-Хана, что привлекало внимание и вызывало смех. Как вы увидите дальше, вести себя так было сплошным идиотизмом — кое-кому в результате дали Крест Виктории, а мне чуть не перерезали глотку.
Вот что случилось. Однажды утром, где-то 9 или 10 ноября, в южной части крепости поднялось страшное волнение, так как кто-то в форте Андерсона заявил, что слышит в отдалении волынки Кэмпбелла. Все засуетились: мужчины, женщины, черномазые, даже дети носились среди руин, смеясь и издавая приветственные крики. Затем все смолкло, мы прислушались, и действительно, сквозь треск стрельбы откуда-то издалека донеслось повизгивание волынки и кто-то напел: «Кэмпбеллы идут — ура! Ура!» Тут все начали обниматься, пожимать друг другу руки, подпрыгивать, смеясь и плача одновременно, а некоторые бросились на колени в жаркой молитве — так как теперь конец осады точно был близок. Так что ликование в гарнизоне продолжалось, а Ауграм пошмыгал носом, похрюкал, пожевал свою сигару и созвал свой штаб на совет.
При помощи туземных шпионов нам удавалось пересылать сообщения в течение всей осады, а теперь генерал хотел направить Кэмпбеллу точные рекомендации относительно того, каким путем лучше всего проложить дорогу через улицы и сады Лакноу к губернаторской резиденции. Обстановка была сложной, и наши ребята двумя месяцами ранее потеряли много людей, вырезанных в путанице узких улочек. Аутрам хотел быть уверенным, что Кэмпбелл не будет иметь тех же сложностей, поскольку у него было всего около 5000 солдат против 60 000 панди, так что стоило только сбиться с дороги, и им пришел бы конец, а нам, соответственно, тоже.
Я не принимал особого участия во всех этих обсуждениях, помимо того, что помог Аутраму составить черновик его сообщения при помощи секретного заумного шифра, который он использовал и в котором безнадежно запутался. Один из саперов как раз начал рассказывать о наиболее удобном пути выхода из цитадели, а я, на правах выздоравливающего, спасаясь от полуденного зноя, вернулся в свою комнату, выходящую на большую веранду. Я снял сапоги и растянулся на койке; должно быть я задремал, так как, когда очнулся, было уже далеко за полдень, гул голосов за перегородкой затих и теперь разговаривали только двое. Аутрам произнес:
— … это, безусловно, безумный риск — белый человек предлагает, переодевшись в туземца, пробраться через город, набитый мятежниками! А если его поймают и донесение попадет к ним в лапы — что тогда, Нэпир?
— Абсолютно справедливо, сэр, — заметил Нэпир, — но направить Кэмпбеллу проводника, который сможет точно указать ему путь — лучше, чем послать ему тысячу писем с указанием маршрута. А Каваноу знает все улицы не хуже базар-валла.[168]
— Не сомневаюсь в этом, — проворчал Аутрам, — но он напоминает туземца не более, чем попугай моей тетушки. Что там говорить — он более шести футов ростом, огненно-рыжий с голубыми глазами, а говорит на ломанном хинди с акцентом уроженца Донегала! Кананджи, возможно, и не сумеет провести Кэмпбелла, зато мы, по крайне мере, можем быть уверены, что он передаст ему послание.
— Кананджи клянется, что не пойдет, если мы пошлем с ним Каваноу. Он готов идти один, но утверждает, что Каваноу сразу привлечет к себе внимание.
— Так-так-так! — слышно было, как Аутрам, бормоча, раскуривает свежую сигару. — Проклятье. Нэпир, он — отважный человек… и я уверен, что если ему удастся добраться до Кэмпбелла, его знания подходов к Лакноу будут неоценимы — но его сложнее замаскировать, чем… любого другого человека в гарнизоне.
Я слушал все это с некоторым интересом. Я знал Каваноу, огромного веснушчатого ирландского увальня — штатского, который провел все время осады играя в жмурки с панди в туннелях под нашими позициями. Он всегда казался мне несколько безумным, а сейчас он явно сошел с ума, так как, исходя из того, что я слышал, предлагал пробраться сквозь вражеский лагерь к Кэмпбеллу. Я понял, в чем состоит проблема Аутрама — Каваноу был единственным человеком, который смог бы провести войска Кэмпбелла, если только ему удастся до него добраться. Однако можно было поставить всю лотерею Таттерсолл[169] против пустой жестянки, что панди сразу же схватят его, под пытками вырвут из него донесение и будут наготове, чтобы встретить надвигающегося Кэмпбелла. Ну что ж, слава богу, что не мне все это решать…
— … если он сможет замаскироваться так, что проведет даже меня, то пусть идет, — в конце концов сказал Аутрам. — Но я, во имя всего святого, хотел бы, чтобы Кананджи шел вместе с ним — учтите, я не упрекаю его за то, что он отказывается, но… если бы нашелся кто-нибудь еще, готовый идти в одиночку — какой-нибудь хладнокровный человек, который бы сумел без вопросов пробраться через лагерь туземцев и даже смог ответить, если бы панди пришло бы в голову о чем-нибудь его спросить — потому что если в ответ на это Каваноу распахнет свою ирландскую пасть… стоп! Ну конечно же, Нэпир, это тот самый нужный нам человек! Как нам не пришло в голову…
Я сорвался с койки и был уже на полпути к выходу, прежде чем Аутрам закончил последнюю фразу. Я прекрасно понял, чье имя вот-вот всплывет в его памяти в качестве кандидата на этот последний безумный подвиг. Я задержался лишь для того, чтобы схватить сапоги и на цыпочках быстро подбежал к ограде у веранды. Теперь один рывок в сад — и потом меня могут искать хоть до рассвета… но, проклятье — не успел я спуститься и на пять ступеней, как двери распахнулись и показался Аутрам, указывающий своей сигарой прямо на меня и с видом Сэма Гранта, пропустившего пару стаканчиков, воскликнул:
— Флэшмен! Смотрите, Нэпир — вот наш человек! Могли бы вы выбрать лучшего?
Конечно же, Нэпир не мог — да и кто бы мог, если под рукой оказался сам знаменитый Флэши, вполне созревший для того, чтобы его сорвали и бросили прямо в очередную кровавую кашу? Черт побери — вот это способ выбирать человека, а все благодаря моей раздутой репутации отчаянного храбреца и сорви-головы. И, как всегда, я ничего не мог с этим поделать, кроме как стоять, невинно хлопая глазами, в одних чулках, пока Аутрам повторял все, слышанное мною раньше, подчеркивая, что именно я — тот самый человек, который может счастливо пройти через всю эту мерзкую эскападу, чтобы протянуть руку помощи отважному ирландцу. Я слушал его со все возрастающим ужасом, который скрывал за сосредоточенным и задумчивым выражением лица, а затем ответил, что, конечно же, они могут всецело располагать мной, но разумно ли все это, джентльмены? Не то чтобы я имел в виду сам риск (Боже, что мне только приходилось говорить!), но я действительно сомневаюсь, чтобы Каваноу удалось пройти. Конечно, слегка смущает то, что я еще не вполне оправился от болезни… правда, было бы обидно, если бы все дело провалилось из-за простой нехватки сил… особенно если туземец абсолютно точно сможет пробраться…
— В этом гарнизоне нет преданного сипая, который мог бы сравниться с вами по ловкости и хитрости, — отрывисто бросил Аутрам, — или который мог бы хоть как-то гарантировать, что Каваноу доберется до цели живым и невредимым. Не вы ли недавно изображали перед леди старого пуштуна? Что же касается вашей болезни, то я заметил: что бы ни случилось, ваши физические силы всегда соответствуют силе вашего духа. Все что вам нужно Флэшмен, это хорошее еда и выпивка — тогда вы готовы снова ввязаться в любое опасное дело, не так ли?
— Мне кажется, — улыбаясь заметил Нэпир, — что он больше заботится о Каваноу, чем о себе самом — не правда ли, Флэшмен?
— Ну, сэр, поскольку вы сами сказали об этом…
— Я знаю это, — проворчал Аутрам, затягиваясь своей чертовой сигарой, — у Каваноу — жена и дети, но, видите ли, он вызвался добровольцем и именно такой человек сейчас может пригодиться Кэмпбеллу — в этом также нет сомнения. Остается только доставить туда нашего ирландца. — И этот грубоватый простак окинул меня тяжелым взглядом и пожал мне руку, словно все уже было решено.
В общем-то, так оно и было. Что же я мог поделать, чтобы не потерять свою репутацию? Поскольку к тому времени моя слава храбреца была такова, что даже если бы я хлопнулся на пол, визжа от страха, они скорее всего не приняли бы этого всерьез, а подумали бы, что это одна из моих глупых шуток. Как собаку назовете — клянусь Богом, так она и проживет свою жизнь, причем хорошее имя вовсе не означает, что жить она будет дольше.
Так что вечер я провел, натираясь сажей и гхи, содрогаясь от ужаса и проклиная свою глупость и печальную судьбу. Ну вот, одиннадцать часов! Я подумал было сделать еще одну попытку замолвить словечко Нэпиру, ссылаясь на свою болезнь, но не рискнул; он обладал острым взглядом на такие вещи, а Аутрам будет еще более жесток, если только заподозрит, что я пытаюсь уклониться. Я чуть не разрыдался, когда увидел Каваноу; он был похож на Синдбада-морехода, со взглядом сказочного менестреля, в гаремных шлепанцах, с огромным мечом и щитом. Я замер в дверях, прошептав Нэпиру:
— Боже мой, да ведь этим не обманешь и ребенка! Все эти чертовы панди бросятся за нами с криками: «Пенни для Гарри Фокса!»[170]
Но он успокаивающе заметил, что будет достаточно темно, а Аутрам и другие офицеры согласились, что Каваноу вполне сойдет. Все они с восхищением отнеслись к моему перевоплощению — я выглядел как обыкновенный базарный нищий — а Каваноу подошел ко мне, не скрывая слез, и торжественно сказал, что я самый лучший парень на свете, который мог бы отправиться с ним на это дело. Остальные засыпали нас пожеланиями счастливого возвращения из этой вылазки, а потом Аутрам вручил Каваноу послание для Кэмпбелла, прикусил свою сигару и тяжело посмотрел на нас.
— Думаю, не стоит повторять вам, — буркнул он, — что письмо не должно попасть в руки врагов. Это означало бы катастрофу для всех нас.
Очевидно, просто для того, чтобы что-то спросить, Аутрам поинтересовался, есть ли у нас оружие (наверное, чтобы в случае чего мы могли пустить себе пулю в лоб), а затем рассказал нам, как мы должны идти. Нам предстояло переплыть реку за северной стеной крепости, вновь пересечь ее уже по мосту к западу от резиденции губернатора, а дальше свернуть прямо на юг, сквозь Лакноу, в надежде добраться до пикетов Кэмпбелла с другой его окраины. Каваноу, который знает город, будет выбирать дорогу, а я буду вести и при необходимости говорить с туземцами.
Затем Аутрам посмотрел каждому из нас в глаза и благословил нас, а все остальные с важным и благородным видом пожали нам руки, и когда я уже думал, что пора выдвигаться, этот таинственный Каваноу, дрожа от возбуждения вдруг прочистил глотку и прохрипел:
— Мы знаем, что должны сделать, сэр, — и мы с радостью отдадим наши жизни в попытке сделать это. Мы знаем, как это рискованно, старина, — ну разве не ага? — добавил он, оборачиваясь ко мне.
— О да, конечно, — откликнулся я, — на этом базаре полно всякой заразы — мы и за неделю потом не избавимся от вшей. — Поскольку деваться было некуда, нужно было подбросить им на память еще одно bon mot[171] от Флэши.
Это тронуло их — так, как только может тронуть комический героизм. Хардинг, адъютант Аутрама, выпучил глаза и важно заявил, что Англия нас никогда не забудет, и каждый из присутствующих счел своим долгом ободряюще похлопать нас по плечам и подтолкнуть в направлении стены, через которую мы должны были покинуть крепость. Я слышал тяжелое дыхание Каваноу — это животное, похоже, даже сопело по-ирландски — и прошептал ему на ухо, чтобы он и не думал заговорить со мной.
— Ага-ага, Флэши, я не буду, — прогундосил он, ковыляя рядом и поминутно спотыкаясь о свой опереточный меч.
С самого начала все оказалось сплошным фарсом. К тому времени, когда мы должны были выскользнуть из укрепления и пробираться дальше сквозь темноту к берегу реки Гумти, я уже понял, что оказался в компании безответственного сумасшедшего, который и понятия не имеет о том, что делает. Даже когда мы раздевались, перед тем как войти в воду, он вдруг резко дернул головой при звуке странного всплеска, донесшегося с воды.
— Будто кто-то ловит форель на блесну, — заметил он, когда вдруг раздался другой, еще более громкий, всплеск. — А это вроде как выдра бросилась за блесной, — сказал он с удовольствием. — Ты как, не рыбак? — И прежде чем я смог прервать его болтовню, он вдруг схватил меня за руку — а сам он в это время стоял полностью раздетым, с тюком своей одежды на голове — и пылко произнес: — Слушай, а мы ведь собираемся совершить подвиг, который спасет империю — во мы какие! И знаешь, я не стесняюсь сказать тебе то, чего не говорил еще никому — в первый раз в моей жизни я немного испуган!
— В первый раз! — простонал я, но дубина-ирландец уже бросился в реку с таким громким всплеском, словно на воду спустили «Грейт Истерн», отдуваясь и громко молотя руками и ногами в темноте, оставив меня ужасаться сознанием того, что впервые в жизни я нахожусь в компании с человеком, который боится не меньше меня.
Положение становилось отчаянным — имею в виду, что во время прошлых моих приключений я всегда мог было положиться на какого-нибудь храброго идиота, способного сохранить трезвую голову, а сейчас я оказался один на один с этим шутом, который не только был сумасшедшим ирландцем, но к тому же еще и опьяненным идеей сыграть роль Бесстрашного Дика и Спасителя Отечества, а сам в то же время дрожал так, что чуть не выпрыгивал из сапог. Более того, он мог мечтать о блеснах и выдрах в самый неподходящий момент и имел не больше понятия о том, как бесшумно передвигаться в темноте, чем медведь с колокольчиком на цепи. Но теперь уже с этим ничего не поделаешь. Я скользнул в ледяную воду и проплыл с полфарлонга к противоположному берегу, где Каваноу уже стоял в грязи на одной ноге, натягивая штаны и чертыхаясь по этому поводу.
— Ты здесь, Флэш? — спросил он хриплым шепотом, который, наверное, можно было расслышать даже в Дели. — Нам нужно вести себя чертовски тихо, ты ж знаешь. Думаю, что панди уже тут, на берегу!
Поскольку мы ясно видели их пикеты неподалеку от бивачных огней, не далее чем в пятидесяти футах, это было весьма меткое замечание. Не успели мы отойти и на двадцать ярдов от берега, как нас кто-то окликнул. Я отозвался, и мой собеседник заметил, что сегодня достаточно холодно, и тут этот дурачок Каваноу заставил меня просто окаменеть от ужаса, проревев в ответ: «Хан, бхаи, бахут тундер!»[172] с произношением первоклассника, отвечающего урок по хинди. Я дернул его в сторону, стиснул за шею и прошипел:
— Да захлопнешь ты наконец свой поганый рот, ирландская ты картофелина?!
Он нервно зашептал слова извинения и забормотал что-то про королеву и нашу державу, а его глаза лихорадочно заблестели.
— Понял-понял, я буду более осторожным, Флэш, — сказал он и мы двинулись дальше.
Мне пришлось ответить на оклики еще несколько раз, прежде чем мы достигли моста, пересекли его и благополучно пробрались в город Лакноу.
Наступил решающий момент, поскольку улицы были освещены, попадались прохожие, так что в Каваноу легко могли разглядеть ряженого. Купание в реке не прибавило смуглости его коже, так что вместе со своей европейской походкой и непохожим на туземцев телосложением, ирландец теперь был просто ходячей опасностью. «Ну что ж, — подумал я, — если его обнаружат, то для Флэши вокруг достаточно темно, так что старине О'Хулигану[173] придется самому о себе позаботиться».
Хуже всего было то, что он, похоже, просто не мог молчать, то и дело бормоча: «Мечеть, ага, правильно — а теперь тут должен быть маленький каменный мостик — где он, ко всем чертям? Видишь его, Флэши? — он должен быть где-то здесь…» Я предложил ему, чтобы, если уж это необходимо, он бормотал на хинди и этот осел тут же, не задумываясь, ответил: «Ой, да, я буду, буду, не беспокойся. Ох, хотел бы я, чтобы у нас был компас». Похоже, он думал, что гуляет по Феникс-парку.[174]
Вначале все шло не так уж плохо, потому что мы крались через сады, где было мало народа, но затем мы вышли на большой Чаук-базар. Благодарение Господу, он был плохо освещен, зато повсюду шатались группы панди, какие-то люди копошились возле конюшен, на каждом шагу торчали всякие бездельники и даже несколько факелов горели в узких проходах. Я принял самый бодрый вид и, стараясь идти так, чтобы Каваноу все время находился между мной и стеной, важно двинулся вперед, то и дело сплевывая. Никто не обращал на меня особого внимания, но, на наше дьявольское несчастье, мы прошли близко от группы панди, на буксире у которых была парочка шлюх, одна из которых ухватилась за рукав Каваноу, делая ему недвусмысленное предложение. Ее кавалер-сипай уставился на нас и обиженно заворчал. Тут сердце у меня ушло в пятки и я потянул Каваноу за собой, крича через плечо, что мой друг как раз вчера женился, так что сейчас уже совсем истощил свои силы — на что эти негодяи рассмеялись и отстали от нас. По крайней мере, это заставило моего спутника хоть на время заткнуться, но не успели мы пересечь базарную площадь, как он уже снова с облегчением забормотал и остановился, чтобы подхватить с овощного лотка пару морковок, заметив почти в полный голос, что это: «самые сладкие конфетки», которые ему удалось попробовать за многие месяцы.
А потом он заблудился.
— Это чертовски напоминает Кайзер-баг, — сказал мой поводырь и провалился в сточную канаву.
Я вытащил его, он побрел было куда-то в темноте и вдруг, к моему ужасу, остановил какого-то старика, интересуясь у него, где мы находимся. Тот ответил: «Джангли Гандж», — и заторопился прочь, подозрительно оглядываясь на нас. Каваноу остановился, почесал затылок и сказал, что этого не может быть.
— Если это Джангли Гандж, — пробормотал он, — тогда где же, к дьяволу, Мирза Кера, скажите на милость? Вот что я скажу тебе, Флэшмен, просто этот старый клоун абсолютно не знает, где находится — не знает и все.
После этого мы снова двинулись в темноту — два дерзких и отчаявшихся человека, выполняющих жизненно важную и секретную миссию, как вдруг Каваноу громко расхохотался и сказал, что все в порядке, что он наконец знает, где мы находимся: это должно быть сады Мулви Дженаб, так что сейчас нам следует принять влево.
Мы так и сделали, уткнувшись вскоре в Хайдар-канал — по крайней мере, Каваноу сказал, что это место так называется — а он хорошо это знает, так как побывал здесь уже дважды — и тут он свалился в воду, проклиная все на свете. Когда он наконец выбрался, то буквально кипел и пенился, ругая инженеров за то, что они всучили ему негодную карту Лакноу, но что мы все равно должны были перебраться через канал, а после забирать влево, пока не упремся в дорогу на Канпур. «Эта чертова дорога должна быть где-то здесь!» — кричал он и выглядел таким уверенным в этом, что я немного подавил в себе зародившуюся было тревогу, и мы пошли дальше. Каваноу то и дело спотыкался и через каждые два шага останавливался, чтобы уставиться во тьму, вопрошая: «Как думаешь, этот сад может быть Чар-багом? Нет, нет и нет! И все же может быть. А? Как думаешь, Флэши?»
Полагаю, вы догадываетесь, что было дальше; нам пришлось так бродить несколько часов и в конце концов стало ясно — мы снова оказались перед губернаторской резиденцией. Каваноу то и дело терял свои шлепанцы, и всякий раз мы должны были останавливаться и обшаривать каждый дюйм, пока он не находил их. Его ноги были разбиты и он давно бросил свой щит, но все же был непоколебимо уверен в том, что все наши блуждания — из-за ошибки старика, у которого он спрашивал дорогу. Потом ирландец подумал, что нам нужно повернуть направо, мы так и сделали и вскоре обнаружили, что блуждаем по Дилкуша-парку, набитому артиллерией панди. Тут даже я догадался, что мы сбились с пути и Каваноу наконец был вынужден признаться, что он таки допустил ошибку, но подобные недоразумения случаются достаточно часто. Нам нужно было двигаться на юг, что мы и попытались сделать, и я спросил крестьянина, сидящего у своих грядок, не проводит ли он нас к Алам-багу. Он ответил, что слишком стар и слаб для этого, на что Каваноу уже не выдержал и заорал на него. Старик-крестьянин, испуганно вскрикнув, бросился бежать, залаяли собаки и нам тоже пришлось спешно ретироваться. При этом Каваноу умудрился со всего маху влететь в терновый куст. (Это так же, как он отметил, было одним из «Деяний, спасших империю» — так написано во всех книгах.)
Этот парень просто без конца притягивал к себе неприятности. Выбирая путь, он избрал именно тот, что привел нас прямым ходом в лапы патруля панди, и мне пришлось объясняться, сказав, что мы бедные люди и идем к нашему другу Умруле, сказать, что британцы убили его брата. Когда мы вошли в деревню, то стоило мне только отвернуться, как он забрел в хижину и, нащупывая путь в темноте, схватил за бедро спящую женщину. К счастью, она была слишком испугана, чтобы кричать, и нам удалось убраться. А потом он вдруг завопил:
— Это Джафирабад, я уверен в этом. А это Салехнагар, да это он. — Затем последовала пауза и: — Ну, я так думаю.
А кульминацией всего действа стало то, что мы увязли в болоте и около часа барахтались в грязи, причем Каваноу опять было прекрасно слышно. Мы снова и снова погружались в жидкое месиво, прежде чем нам удалось выбраться на твердую землю. Тут я заметил неподалеку дом, в верхнем окне которого горел огонек, и настоял на том, чтобы Каваноу отдохнул, пока я попытаюсь разобраться, где мы находимся. Он согласился, сыпля богохульствами, поскольку остатки своего благочестия, по-видимому, окончательно растерял в болоте.
Я подошел к дому и кто же сидел у окна? Милейшая смуглая девушка, которая сказала, что мы находимся неподалеку от Алам-бага, но что сюда идут британцы, так что все люди убежали. Я поблагодарил ее, скрывая радость и она лукаво глянула на меня поверх подоконника:
— Ты очень промок, Большой человек. Почему бы тебе не пройти в дом, не обсохнуть и отдохнуть, пока я высушу твою одежду? Всего пять рупий.
«Клянусь святым Георгом, — подумал я, — а почему бы и нет?» Я устал, чувствовал себя разбитым и так долго мучился — сперва из-за осады и холеры, а теперь — с этим проклятым ирландцем, заставившим меня искупаться в болоте. Именно это мне сейчас и было нужно, так что я вошел в дом, и тут спустилась она — вся такая круглолицая, смуглая, сияющая, хихикая в свой чарпой и колыхая грудью перед самым моим носом. Я схватил девчонку в объятия, почти крича от обрушившегося на меня урагана желания, и в мгновение ока проволочил ее по комнате, в стиле конной артиллерии, а она в это время визжала и приговаривала, что за пять рупий я не должен быть таким нетерпеливым. Но я был именно таким и успел закончить это приятное дело как раз, когда продрогнувший Каваноу появился под окном, пытаясь на своем ужасном урду узнать, где я и чем вызвана такая задержка?
Я высунулся наружу и взял у него пять рупий, объяснив, что это плата больному старику, у которого я расспрашивал дорогу. Он проглотил это, так что я вернулся в комнату, натянул свои мокрые лохмотья, поцеловал на прощание мою хихикающую Далилу[175] и, пожелав ей доброй ночи, вышел из дома, снова готовым к любым испытаниям.
Дальнейшая дорога заняла у нас еще около двух часов, так как Каваноу устал до полусмерти, и к тому же нам приходилось то и дело прятаться в тени деревьев, избегая попадаться на глаза крестьянам, которые двигались к Лакноу. Я уже начал беспокоиться. Так как взошла луна и было ясно, что до рассвета уже недалеко; если придется двигаться дальше при дневном свете, с бледным, как призрак Каваноу, то нам конец. Я проклинал себя за то, что потратил столько времени, кувыркаясь с девчонкой, когда нам нужно было двигаться дальше, — о чем я только тогда думал? И знаете, я вдруг понял, что во время моих похождений с Каваноу, пока мы блуждали в поисках нужной дороги, пока его то и дело приходилось выуживать из луж, каналов и болот, — за всем этим я и забыл о серьезности всего предприятия. Очевидно это случилось от того, что я еще не вполне пришел в себя после болезни, но мне даже удалось забыть о своих страхах. Зато теперь они вернулись с новой силой; я был изможден почти так же, как мой спутник, в голове у меня все плыло, а последнюю милю я, должно быть, проковылял, словно в полусне, поскольку следующее, что я помню, были бородатые лица, преградившие нам путь и солдаты в голубых мундирах и белых пуггари. «Девятый уланский…» — подумал я.
Затем какой-то офицер схватил меня за плечи и, к моему удивлению, это оказался Гауг. Которому я в свое время подносил бренди и сигары на веранде в Мируте. Он не узнал меня, но сразу вцепился в нас и доставил в лагерь, где пели горны, разъезжали кавалерийские пикеты, перед штабом поднимали флаг, и все это выглядело так живо, упорядоченно и безопасно, что хотелось просто плакать от облегчения. Однако весь этот замечательный вид сразу померк в моих глазах на фоне костистой фигуры, стоящей перед штабной палаткой и сурового морщинистого лица под помятым шлемом. До этого я не видел Кэмпбелла вблизи со времен Балаклавы. Это был уродливый старый дьявол, обладающий чертовски острым языком и чувством юмора могильщика, но я никогда еще не видал человека, чье присутствие заставляло бы почувствовать себя в большей безопасности.
Он, должно быть, вызвал у Каваноу редкое по своей силе разочарование. При виде генерала мой дурачок Пэдди[176] сразу же позабыл о своей усталости, с величайшей торжественностью объявил кто он, и, выудив из-за пазухи послание, вручил его как последний оставшийся в живых гонец, доставивший Великую Весть с поля брани. Вам трудно будет представить мину более уязвленного благородства, чем та, которая возникла на роже Каваноу, когда в ответ на его цветистый рассказ о нашем прорыве из Лакноу, Кэмпбелл лишь подергал свой темный ус и проронил лишь: «М-да», добавив через мгновение: «Это удивительно». Каваноу, который, очевидно, ожидал встретить бурное восхищение, выглядел несколько разочарованным, и когда Кэмпбелл посоветовал ему: «А теперь идите и прилягте где-нибудь», — повиновался, почти не скрывая злости.
Конечно же, я знал Кэмпбелла, так что я был несколько удивлен тем, как он меня приветствовал, когда понял кто я.
— Неужели это снова ты? — спросил он, как пьянчужка, недоверчиво присматривающийся к содержимому стакана. — Бог мой — ты выглядишь ничуть не лучше, чем тогда, когда я видел тебя в последний раз. А я-то думал, Флэшмен, что ты стал более предусмотрительным. — Он вздохнул и покачал головой и, уже поворачиваясь к палатке, оглянулся на меня и сказал: — Представляешь, я рад тебя видеть.
Полагаю, что найдутся такие, что скажут, мол нет большей чести, чем услышать подобное от старины Тише-едешь; если это так, то я вынужден буду поверить, так как это и была вся благодарность за то, что я провел Каваноу из Лакноу. Не то чтобы я жаловался на судьбу, поскольку, видит Бог, я получил свою часть признания, однако факт состоит в том, что, когда история вышла наружу, все сливки достались Каваноу. Уверен, что лишь жажда славы заставила его взяться за это дело, потому что когда после разговора с Кэмпбеллом я присоединился к нему в палатке для отдыха, этот увалень-ирландец сразу вскочил с колен, на которые он бухнулся было для благодарственной молитвы, повернул ко мне свое веснушчатое лицо обычной деревенщины и озабоченно спросил:
— Думаешь, они дадут нам за это Крест Виктории?
И что же вы думаете? — В конце концов они дали ему этот крест за все ночные приключения, в то время как я получил за это лишь ужасный приступ дизентерии. Ну, да — он был штатским, потому-то с ним так возились, да к тому же слишком многие охотились тогда за этой наградой. Именно поэтому, наверное, наверху и подумали, что признанные герои вроде меня могут обойтись и без этого креста — смешно, не правда ли? Так или иначе, тогда я вообще не был представлен ни к какой награде, что, в принципе-то дело вполне обыкновенное, а отваги Каваноу, как вы понимаете, я и не отрицаю. Каждого, кто обладает такой тушей, как этот дурак и при этом старательно ищет себе неприятности, просто необходимо назвать смельчаком. Но все же… если бы я не нашел его проклятый шлепанец, не выудил его из канала и, что самое главное, — не узнал бы у моего смуглого фонтана любви, куда нам нужно идти — дружище Каваноу, возможно, и до сих пор блуждал бы вдоль берега Хайдар-канала, спрашивая дорогу. Однако, если хорошенько подумать, пожалуй, я все же оказался в большем выигрыше — ведь она была такой изящной и горячей малюткой, а пять рупий, в конце концов, я взял у Каваноу… [XXXVI*]
XI
Если Кэмпбелл был скуп на комплименты, то столь же осторожно он относился к солдатским жизням, особенно его драгоценного Девяносто третьего полка шотландских горцев. Освобождение Лакноу заняло у него целую неделю — он медленно продвигался по рекомендованному нами пути, громя панди артиллерией и напуская на них сикхов, так что шотландцам почти не пришлось даже измять своих килтов. Конечно, по дороге они вырезали все живое, что попадалось им на глаза, но дело шло медленно, и Кэмпбелла сильно осуждали за это позже. По моему же мнению, он был абсолютно прав — и он сам, и Мэнсфилд, его начальник штаба, когда они не рисковали жизнью солдат просто ради того, чтобы преследовать и наказывать разбегающихся мятежников. Главной задачей было выиграть кампанию с минимально возможными потерями, но, конечно же, это не устраивало критиков, окопавшихся в клубах и офицеров, предпочитающих воевать на страницах газет — эти мерзавцы были в полной безопасности, а потому и жаждали крови, чтоб им сгореть, так что они подтрунивали над стариной Тише-едешь, называя его «застрявшим в грязи воякой». [XXXVII*]
Фактически Кэмпбелл спас Лакноу, хотя шансы на это были пятнадцать к одному, а само дело стало примером твердости духа и здравого смысла. Он прорвал блокаду, вывел из города гарнизон и в полном порядке отступил, с угрюмым видом и чутко прислушиваясь к тому, что происходит вокруг, пока бездарные ослы вроде Каваноу аж пританцовывали в нетерпении. Знаете ли вы, что этот сумасшедший ирландец рвался под самый огонь панди, чтобы пробиться обратно в Лакноу и лично освободить Аутрама и Хэйвлока (а бедняге Гробокопателю вряд ли удалось бы доковылять самостоятельно), так чтобы они могли приветствовать сэра Колина, когда тот будет преодолевать последние фарлонги? Кровавая бессмыслица, но выглядит весьма доблестно, да к тому же вся эта картина увековечена на полотне, на котором верблюды и черномазые восхищенно улыбаются, а наши вожди пожимают друг другу руки. (Я также там присутствую, словно Иоанн-Креститель, верхом на лошади и совершенно бесцельно вскинув руку вверх, что, конечно же, полная ерунда — как раз в это время я сидел в нужнике, выворачиваемый наизнанку очередным приступом дизентерии и желая только одного — поскорее сдохнуть). [XXXVIII*]
Бедный старый Гробокопатель — после этого он прожил всего несколько дней. Дизентерия прикончила генерала, так что мы похоронили его под пальмой в Алам-баге и начали отступление. Думаю, его это вполне устроило. Помнится, в голове у меня мелькнула строчка эпитафии «И Никанор пал в своем всеоружии», которую он сам произнес пятнадцать лет назад, рассказывая мне о сержанте Хадсоне, умирающем в форту Пайпер. Что ж, никому из нас не дано жить вечно.
Во всяком случае, Лакноу пришлось оставить в руках мятежников и Кэмпбелл отвел армию обратно в Канпур, гарнизону которого в то время не давал покоя Тантия Топи. Кэмпбелл быстренько отогнал его, а затем принялся выжигать мятеж в долине Ганга, одновременно собирая войска, которые смогли бы снова ударить на Лакноу после Рождества, выгнать оттуда мятежников уже навсегда и взять под контроль все королевство Ауда. Представлялось абсолютно очевидным, что несмотря на бунтовщиков, вьющихся повсюду густо, как москиты и до сих пор обладающих силами нескольких полевых армий, методические операции Кэмпбелла покончат с мятежом уже в течение нескольких месяцев — если только Калькутта оставит его в покое. Я отважно предложил свою помощь в организации разведывательной работы в Унао, местечке, лежащем на берегу реки напротив Канпура, где собирались наши новые армии; работа легкая и ничего более опасного, чем случайные стычки между конными отрядами пуштунов и «Собственностью дьявола»,[177] что меня вполне устраивало. Единственным, что омрачило мое спокойное существование той зимой, был выговор, который я получил за то, что пригласил первоклассную шлюху из смешанной касты на парад с оркестром в Канпуре. [XXXIX*] Это лучшим образом свидетельствует о том, что обстановка стала полегче — ведь если генералам больше нечего делать, кроме как заботиться о моральном облике штабных полковников, то можете быть уверены — забот у них немного.
И действительно, зимой мы так задали жару панди вдоль всего Большого тракта, что казалось, их основные силы начали отступать все дальше и дальше к югу, в княжество Гвалиор, куда Тантия Топи отвел свою армию и где собрались другие мятежные князьки. Это было уже неподалеку от Джханси — я ежедневно встречал это название в разведывательных сводках, со все более частыми упоминаниями о Лакшмибай. «Мятежная рани» и «вероломная королева» — вот как ее называли сейчас, так как за несколько предыдущих месяцев она сбросила личину показной преданности, под которой таилась со времен резни в Джханси и соединила свою судьбу с Нана-сагибом, Тантия и другими бунтовщиками. Я был в шоке, когда впервые услышал об этом, хотя на самом деле не очень удивился — стоило вспомнить ее отношение к нам, англичанам, затаенные обиды и это милое смуглое личико, которое так мрачно хмурилось: «Мера Джханси денге най! Я не отдам мой Джханси!»
Теперь-то ей предстояло отдать его довольно быстро, поскольку южные армии под командованием генерала Роуза уже наступали к северу, на Гвалиор и Бандельканд. Она будет сметена вместе с другими бунтарями-монархами со всеми их армиями, состоящими из сипайско-бандитского отребья. Но я не слишком переживал из-за этого. Когда мои мысли обращались к ней — а по некоторым причинам случалось это частенько в ту беззаботную для меня зиму — я не мог думать о ней как о части местного хаоса, состоящего из беспорядков, пожаров и резни. Если я читал о распутной «Иезавель из Джханси», которая плетет заговоры вместе с Наной и разжигает мятежный дух, я никак не мог сопоставить ее в своей памяти с той очаровательной фигуркой, раскачивающейся на шелковых качелях туда и обратно в сказочном зеркальном дворце. Я ловил себя на мысли, что она все еще должна быть там или играть с попугаями и обезьянками в солнечном садике, а может быть скакать по лесам вдоль реки — только с кем теперь? Сколько новых любовников было у нее после той ночи в павильоне? Этого было достаточно, чтобы волны возбуждения прокатывались где-то внизу живота и поднимались все выше — потому что это было нечто большее, чем желание. Когда я думал об этих сияющих глазах, игривой грустной улыбке и смуглой изящной руке, протянувшейся вдоль шелковой веревки ее качелей, я чувствовал странное, абсолютно неплотское желание вновь увидеть ее и услышать звук ее голоса. Это чертовски раздражало меня, поскольку я привык, что старая любовь — это всего лишь груди и бедра. В конце концов я же не был зеленым юнцом и никогда не ожидал, что поймаю себя на подобных мыслях. Наконец я решил, что недели две постоянных упражнений с нею в постели смогли бы мне помочь и выбить из головы все эти телячьи нежности, но пока на это не было никаких шансов.
Именно так я и думал в своем самодовольном невежестве, а между тем зима шла на убыль и наша кампания на севере приближалась к своей кульминации. Я понял, что все действительно идет на лад, когда к нам приехал Билли Рассел из «Таймс», чтобы принять участие в заключительном марше Кэмпбелла на Лакноу: когда корреспонденты вьются вокруг как стервятники — это верный признак грядущей победы. Наши наступали с 30 000 солдат и многочисленной артиллерией, а лично я перебирал кипы никому не нужных бумаг в разведывательном отделе Мэнсфилда и изо всех сил избегал какой-либо опасности. Армия продвигалась вперед медленно и неумолимо: артиллерия систематично разносила оборону панди вдребезги, ирландцы и шотландские горцы тут же на месте вырезали сипайскую пехоту, инженеры с саперами уничтожали деревни и храмы, чтобы показать, кто здесь хозяин, и каждый грабил столько, сколько мог унести.
Это был огромный кровавый карнавал, и каждый брал от войны все, что только мог. Припоминаю случай в одном из дворов в Лакноу (по-моему, это было во дворце бегумы)[178] где я видел шотландцев, которые, отложив сторону свои окровавленные штыки, рылись в сундуках доверху набитых драгоценными камнями, а маленькие гуркхи[179] чисто для развлечения громили дорогие зеркала и кромсали своими кривыми ножами шелка и парчу, которые стоили целое состояние — они просто не знали, что делать с этим богатством. Там же были пехотинцы-сикхи, танцующие с золотыми цепями и ожерельями на шее, и молодой пехотный офицер, сгибающийся под грузом огромного эмалевого горшка, переполненного золотыми монетами, моряк-канонир, истекший кровью до смерти, после того как острие огромной блестящей золотой застежки распороло ему руку — а вокруг лежали мертвые и умирающие люди, наши парни и панди. У стены же дворца все еще шла отчаянная рукопашная схватка: палили мушкеты, стонали люди, а двое ирландцев сцепились в драке над белой мраморной статуэткой, перемазанной кровью. Билли Рассел переминался с ноги на ногу и проклинал свое невезение, поскольку у него не было рупий, чтобы на месте скупить сокровища, которые солдаты тут же продавали по цене бутылки рома.
— Отдам прямо сейчас за сотню рупий! — вопил один из этих простаков, размахивая золотой цепью, усеянной рубинами размером с яйцо чайки. — Всего сотня, клянусь честью, и она — твоя!
— Но… но ведь она стоит, по меньшей мере, в пятьдесят раз больше! — воскликнул Рассел, раздираемый между жадностью и честностью.
— А, ко всем чертям! — орал этот Пэдди, — я сказал — сотня, значит — сотня!
Хорошо, согласился Рассел, но нужно будет прийти за деньгами в его палатку этой ночью. Но Пэдди в ответ на это закричал:
— О, Боже, да не могу я, сэр! Откуда мне знать, может, к тому времени или меня, или вас убьют? Живые деньги, ваша честь, ну давайте хотя бы пятьдесят монет — и она ваша. Теперь по рукам?
Но у Билли не было и пятидесяти рупий, так что солдат грустно покачал головой и сказал, что продает свой товар только за наличные. В конце концов он заорал:
— Ай, да не могу я видеть, чтоб джильтмен вроде вашей чести остался с пустыми руками! Нате вот, возьмите эту безделицу даром и помолитесь за рядового Майкла О'Халлорана, — с этими словами он сунул в руку Рассела бриллиантовую брошь и с криком побежал дальше, чтобы догнать своих товарищей.
Вас может удивить, что я делал так близко от места драки? Отвечу — следил за двумя своими ординарцами-раджпутами, которые скупали для меня золото и драгоценные камни по рыночным ценам, используя для этого деньги, выданные мне на цели разведки. Заметьте, все их я вернул с барышей после продажи этих трофеев — так что никаких злоупотреблений — и еще мне осталась весьма круглая сумма, которой хватило, чтобы отстроить Гандамак-лодж в Лестершире, где можно было бы доживать свой век. (Кстати, мои раджпуты купили рубиновую цепь О'Халлорана всего за десять рупий и две унции табачку — скажем, за два фунта для круглого счета. Я же продал ее ювелиру в Калькутте за 7500 фунтов, что составляло едва ли половину ее настоящей цены, но все же, по-моему, было весьма неплохой сделкой.) [XL*]
Позже я спросил Билли, в какую бы сумму он оценил богатства, которые на наших глазах разграбили только в одном том дворике, на что он коротко бросил: «Миллионы фунтов, черт побери!» Думаю, что так оно и было: там была массивная золотая и серебряная посуда с орнаментом, инкрустированная драгоценными камнями, целые мили златотканой парчи, редкие картины и статуи, которые солдаты просто срывали со стен и разбивали. Под сапогами у них хрустел прекрасный хрусталь и фарфор, а они яростно срывали со стен дорогое оружие и доспехи — и все это среди порохового дыма и крови. Туземные солдаты, за всю свою жизнь не видевшие больше десяти рупий и громилы из трущоб Глазго и Ливерпуля — все они были охвачены единой жаждой — грабежа, убийства и разрушения. В одном я абсолютно уверен: погибло сокровищ в два раза больше, чем было увезено и мы, офицеры, были столь озабочены тем, чтобы ухватить свою долю, что больше ни на что просто не оставалось времени. Осмелюсь предположить, что настоящий философ смог бы многое сказать при виде этой сцены, если бы у него оставалось для этого время — свободное от набивания карманов.
Я был вполне доволен своими приобретениями и всю ночь мечтал о том, как распоряжусь ими, когда вернусь домой, чего теперь, казалось, было уже недолго ждать. Помнится, мне думалось: «Это — конец войны, Флэш, старина, или что-то вроде этого, и, черт побери, здорово, что ты оказался здесь!» Я чувствовал себя превосходно, сидя у походного костра под сенью садов Лакноу, покуривая сигару и потягивая портвейн, и заодно прислушиваясь к далекому гулу ночной канонады и весело болтая с Расселом, Скелетом-Ходсоном (который так гонял меня еще фагом в Рагби), Обдиралой-Макдоналдом, Сэмом Брауном и маленьким Фредом Робертсом, который был не более, чем грифом, зато знал, как половчее пристроиться и погреться в лучах нашей славы. [XLI*] Размышляя о всех них, я удивляюсь, со сколькими знаменитыми людьми мне довелось столкнуться в начале их карьеры — правда, Ходсону так и не пришлось уйти слишком далеко, поскольку его застрелили во время грабежа уже на следующий день, так что вся его слава осталось в прошлом. Зато Робертсу удалось взобраться почти на самую верхушку социальной лестницы (жаль, что я не был более добр к нему в его молодые годы — иначе теперь и сам мог бы скакнуть на пару ступенек выше) и, полагаю, что имя Сэма Брауна сегодня известно во всех армиях мира. Хотя бы потому, что он потерял руку и изобрел пояс. Только дайте людям назвать какую-нибудь нужную деталь одежды вашим именем — и слава вам обеспечена, свидетельством чего являются Сэм, Раглан и Кардиган. Если бы у меня было на это время, я запатентовал бы какую-нибудь «Летучую пуговицу Флэшмена» и тоже вошел бы в историю. [XLII*]
Не помню точно, что мы тогда обсуждали, за исключениями того, что Билли был переполнен негодованием от сцены, когда несколько сикхов сожгли захваченного панди живьем, а белые солдаты, смеясь, смотрели на это. Билли вместе с Робертсом утверждали, что нельзя позволять подобных жестокостей, но Ходсон, который сам был настоящим диким животным, каких было еще поискать даже в иррегулярной британской кавалерии, заметил, что чем более страшной смертью умирают мятежники, тем лучше; оставшиеся будут менее склонны вновь поднять восстание. Я как сейчас вижу его — наклонившись вперед и вглядываясь в огонь, он своим привычным нервным жестом откидывает назад светлые волосы, а спокойный Сэм Браун насмешливо щурится, глядя на него и молчаливо потягивает сигару. Помню, мы как раз говорили о легкой кавалерии и Рассел поддразнивал Ходсона, превознося черноморских казаков, подмигивая при этом мне, когда сама Судьба, в неожиданном облике генерала Мэнсфилда, похлопала меня по плечу и произнесла: «Сэр Колин хочет видеть вас прямо сейчас».
Я, недолго думая, бросил свою сигару в огонь и отправился сквозь лагерь к палатке главнокомандующего, подсчитывая в уме свои барыши от добычи и с несказанным удовольствием вдыхая теплый ночной воздух. Я не был неприятно удивлен, даже когда Кэмпбелл приветствовал меня вопросом: «Насколько хорошо вы знаете рани Джханси?» — мы как раз получили депешу о начале кампании на территории княжества, а Кэмпбелл уже знал про мою миссию по заданию Палмерстона; какой давнишней она теперь казалась!
Я ответил, что знаю ее очень хорошо и что мы провели много времени в совместных беседах.
— А ее город и крепость? — спросил Кэмпбелл.
— Не слишком, сэр. Я толком и не бывал в самой крепости. Наши встречи преимущественно проходили во дворце, так что сам город я знаю не очень хорошо…
— Однако, полагаю, все же лучше, чем сэр Хью Роуз, — заметил он, постукивая пальцами по лежащим перед ним бумагам. — Он и сам так думает по этому поводу — и пишет мне в своих последних депешах.
Я не придал этим словам особого внимания — мало ли что говорят о тебе генералы. Я даже не обратил внимания на то, как Кэмпбелл посмотрел на меня, прикусив ноготь своими великолепными зубами, которые странно смотрелись на его дряхлом лице.
— Эта рани, — протянул он задумчиво, — какая она?
Я начал было говорить о том, что она вполне способная правительница, которую трудно обмануть, но он прервал меня одним из своих варварских шотландских выражений.
— Йо! Да брось ты, парень! Она хорошенькая? М-м? И насколько хорошенькая?
Я отметил, что она исключительно красива, и он вновь ухмыльнулся, покачав своей седой головой.
— Ай-ай, — проговорил он, прищуриваясь, — странный вы человек, Флэшмен. Признаюсь, я имел на ваш счет некоторые подозрения — не спрашивайте только, какие, все равно я вам не скажу. Видите, я с вами достаточно откровенен?
Я ответил, что всегда знал и рассчитывал на это.
— В чем я абсолютно уверен, — продолжал Кэмпбелл, — так это в том, что вы всегда остаетесь в выигрыше. Бог знает как — и я рад, что мне самому это неизвестно, потому что мне хочется думать о вас только хорошее. Но — к делу: вы нужны сэру Хью в Джханси и я посылаю вас к нему на юг.
Я не знал, что обо всем этом и думать — а заодно и о странном мнении, которое у него обо мне сложилось. Оставалось стоять и взволнованно ждать, чем все это кончится.
— Это недоразумение с мятежом уже почти закончено — достаточно только подтянуть остальные армии сюда, к Ауде и Рохилканду и вот сюда, к Бандельканду. Тогда нам останется только вздернуть этого негодяя Нана, да и Тантию с Азимулой за компанию. Джханси — один из последних орешков, которые нам предстоит разгрызть — и он достаточно твердый. В этом своем убежище рани может рассчитывать на десять тысяч войска и толстые городские стены. К тому времени, как вы прибудете туда, сэр Хью возьмет город в осаду и даже, возможно, попробует взять его штурмом. Но этого недостаточно — вот почему вы, с вашим особым… э-э… дипломатическим опытом общения с рани, так необходимы сэру Хью. Видите ли, Флэшмен, мы с лордом Каннингом и сэром Хью задумали одну штуку… И ваше знание этой женщины может помочь нам осуществить задуманное. — Он внимательно посмотрел мне в глаза. — Что бы ни случилось, мы должны захватить рани Джханси живой.
XII
Если бы она была страшна как смертный грех или хотя бы на двадцать лет постарше и менее красива, то — никаких проблем. Джханси был бы захвачен и более старая рани была бы заколота штыками или застрелена во время штурма — и никто бы не обратил на это особого внимания. Но Каннинг, наш просвещенный генерал-губернатор, оказался сентиментальным дураком, вознамерившимся укротить мятеж с минимально возможным кровопролитием, и уже был обеспокоен жестокостью мести, с которой за дело взялись люди вроде Нейла и Хэйвлока. Он полагал, что рано или поздно справедливый гнев британцев в Англии пойдет на спад, и если мы поубиваем слишком много панди, смена настроений будет более резкой — что, конечно же, и случилось. Полагаю также, что он опасался гибели молодой и красивой мятежной принцессы (слава и любовь к ней к этому времени распространились уже по всей Индии), потому что это могло бы нарушить равновесие в сознании общества — и к тому же не хотел, чтобы либеральная пресса изображала ее кем-то вроде индийской Жанны д'Арк. Итак, несмотря на гибель многих других черномазых, мужчин и женщин, Лакшмибай нужно было взять живой.
Представьте, я вполне понимал точку зрения Каннинга и лично сам полностью ее разделял. Жизнь ни одного живого существа — за исключением Элспет и нашего маленького Гавви — не была мне так дорога, как жизнь Лакшмибай, и я, не стесняясь, признавался себе в этом. Но, положа руку на сердце, я хотел бы, чтобы она спаслась безо всякого моего вмешательства, которое могло быть опасным лично для меня, так что чем дольше мне удавалось держаться подальше от Джханси, тем больше мне нравилось это местечко — ведь там мне было так хорошо.
Так что я сделал все что мог, чтобы добираться туда как можно дольше — рассчитывая на то, что все будет закончено еще до моего прибытия. Оправданием для меня могло послужить то, что двести миль, разделяющих Лакноу и Джханси, были чертовски опасными, поскольку повсюду здесь были панди и армии мятежных князей. У меня был солидный эскорт из конных пуштунов, но даже при этом мы продвигались очень осторожно, так что увидели этот мрачный форт на хмурой скале не ранее последней недели марта. Роуз к тому времени уже был здесь, бомбардируя городские укрепления из пушек, а его армия окружила стены гигантским кольцом, плотно запечатав наблюдательными постами и кавалерийскими пикетами все возможные выходы из мышеловки.
Он был хорошим солдатом, этот Роуз — такой же осторожный, как и Кэмпбелл, зато решения принимал раза в два быстрее его, и один лишь взгляд на позиции бунтовщиков говорил о том, что именно такой генерал здесь и нужен. Джханси лежал, огромный и неприступный, под лучами бронзового солнца, окруженный стенами и бастионами, а красное знамя мятежников лениво хлопало над цитаделью. Снаружи стен пыльная долина была лишена каких бы то ни было укрытий и пушки мятежников гремели в ответ нашим батареям, как бы предупреждая осаждающих, что их ждет, если они захотят подойти слишком близко. А за стенами сидело десять тысяч бунтовщиков, готовых сражаться до конца. Твердый орешек, как назвал его Кэмпбелл.
«Думаю, мы выкурим их за неделю — можете не беспокоиться», — таким был вердикт Роуза. Это был еще один шотландец (конечно же, как всегда, Индия просто кишмя кишела ими), живой, с горящими глазами и очень подвижный; я хорошо знал его еще по Крыму, где он был офицером связи в штаб-квартире лягушатников, и наименее противным из всех этих дипломатов-солдат. В Индии он был новичком, но вы ни за что бы об этом не догадались — с такой уверенностью он говорил и так щегольски был одет. Сказать по правде, в своих воспоминаниях мне часто трудно отличить его от Джорджа Кастера. Оба они обладали неукротимой энергией, а еще — светлыми шевелюрами, заботливо прилизанными штормом и совсем уж незатейливыми усиками. На этом сходство заканчивается. Будь Роуз с нами при Литтл-Бигхорне, Бешеный Конь с Желчным Пузырем профукали бы свой банкет.
— Да, через неделю — это крайний срок, — повторил он и показал мне, как планирует организовать атаки с правого и левого флангов на наиболее укрепление точки позиций мятежников, которые наши канониры обкладывали калеными ядрами, чтобы не дать расслабиться пожарным командам панди. Там и здесь за стенами были видны бушевавшие в городе языки огня. — Ночной штурм по всему фронту, как только удастся пробить достаточно большие бреши в стенах, а потом… — Он резко сложил свою подзорную трубу. — Пойдет кровавая работа, раз уж панди собрались драться до последнего — так мы ее сделаем. Вопрос лишь в том, как в этой резне сохранить жизнь ее высочеству? Вы должны быть нашим оракулом в этом вопросе, ага? Как думаете, она лично может сдаться?
Я огляделся по сторонам с холмика, на котором мы стояли с ним, окруженные группой штабных офицеров. Прямо перед нами были позиции осадных пушек, установленных в окопах; земля содрогалась от их залпов, дым от выстрелов относило к нам, а канониры, как муравьи, суетились вокруг своих орудий, перезаряжая и стреляя вновь и вновь. Во все стороны, насколько видел глаз, были выдвинуты летучие отряды кавалерии — красные мундиры легких драгун, серое хаки курток хайдерабадского полка, густо припорошенное пылью. В двух милях позади нас, неподалеку от руин старых казарм, виднелись бесконечные ряды палаток пехотных бригад, терпеливо ожидающих, пока пушки сделают свою работу, пробив бреши в массивных стенах Джханси, за которыми в тучах дыма тянулись путаные улочки и теснились дома — вплоть до мрачно парящей над городом цитадели. Принцесса должна быть где-то там, возможно, в прохладном зале для приемов или играет на террасе со своими ручными обезьянками; а может, она вместе со своими командирами и солдатами осматривает со стен огромную армию, которая готовится нахлынуть и поглотить город, превратив в руины дома и дворцы. «Мера Джханси денге най», — вспомнил я.
— Сдаться? — проговорил я. — Сомневаюсь, что она на это пойдет.
— Ну, ладно, вы ее лучше знаете.
Генерал посмотрел на меня с каким-то особенно лукавым выражением лица, которое, как я уже успел заметить за несколько часов пребывания в его штаб-квартире, появлялось всегда, стоило кому-нибудь произнести ее имя. Очевидно, ее представляли этакой великолепной тигрицей в человеческом облике, которая в полуобнаженном виде расхаживает по своим роскошным апартаментам, наслаждаясь тем, как пытают отвергнутых ею любовников — о, у моего набожного поколения было весьма живое воображение, это я вам говорю! [XLIII*]
— Мы, конечно, попробуем вести переговоры, — продолжал Роуз, но, поскольку мы не можем гарантировать неприкосновенности ее последователям, лучше и не тратить зря силы. С другой стороны, может быть, она и не захочет, чтобы жители города подвергались постоянным бомбардировкам, а затем испытали все ужасы штурма, а? Я имею в виду, что, будучи женщиной… кстати, какая она?
— Это настоящая леди, — сказал я, — исключительно красивая, пользуется французскими духами, очень добра к животным, фехтует, как венгерский гусар, молится по нескольку часов ежедневно, отдыхает, раскачиваясь на шелковых качелях в зеркальной комнате, устраивает послеполуденные чаепития для других леди и развешивает преступников на солнышке за большие пальцы рук. И еще она горячая наездница.
— Боже правый! — воскликнул Роуз, уставившись на меня, а за его спиной и весь штаб выпучил глаза от изумления, облизывая губы. — Вы это серьезно говорите?
— А что насчет ее любовников, а? — поинтересовался один из штабных, потный, с бегающими глазками. — Говорят, у нее целый гарем мускулистых молоденьких самцов, которых регулярно накачивают любовными микстурами…
— Она мне об этом не рассказывала, — мягко ответил я, — а я не спрашивал. Полагаю, что и вы бы не спросили на моем месте.
— Ну, ладно, — проворчал Роуз, снова странно посмотрев на меня. — Мы должны определенно решить, что с ней делать.
Этим я и занимался на протяжении трех последовавших дней, пока пушки и восьмидюймовые мортиры продолжали грохотать, пробивая солидную брешь в южной стене и поджигая баррикады повстанцев калеными ядрами. Мы подбили большую часть ее тяжелых пушек и на 29-е Роуз отдал окончательные приказы своим пехотным штурмовым отрядам — а мы все еще не имели твердого плана как захватить Лакшмибай невредимой. Чем больше я думал над этим, тем больше убеждался в мысли, что она и сама будет драться в рукопашную, когда наша армия прорвется ко дворцу. Теперь, после Лакноу, мне было несложно представить себе истекающие кровью тела на расшитом китайском ковре, разбитые пулями зеркала и вопящих мародеров, которые громят и рвут на куски все в этих бесценных апартаментах, кромсая саблями и штыками всех, что встает у них на пути. Господь — свидетель в этом для меня не было ничего нового, и я сам охотно прикладывал руки к подобном делам, особенно если они не представляли для меня опасности. Но это будут ее комнаты, ее собственность и я был достаточно сентиментален для того, чтобы сожалеть об этом, ведь я любил все это и был так счастлив там! Клянусь святым Георгом, должно быть, глубоко она запала мне в душу, если я даже начал жалеть ее чертову мебель…
Что же станет с ней в этом безумии крови и стали? Сколько я ни пытался, мне в голову не приходило ничего лучшего, как специально выделить взвод и приказать ему, ворвавшись во дворец, следовать прямо в покои принцессы и обеспечить ее безопасность. Клянусь Богом, по крайней мере одной мелочи — личного участия во всем этом — я любой ценой хотел избежать. Нет уж, мое дело будет принять ее и охранять уже после того, как вся резня закончится. Флэши, суровый и печальный тюремщик, строгий, но добрый, скрывающий принцессу от слишком любопытных глаз и похотливых штабных, одержимых грязными мыслями, — вот это мое! Ее нужно будет увезти отсюда, возможно, даже в Калькутту, где и решат, что с ней делать. Хорошенькое долгое путешествие — и принцесса будет благодарна видеть хоть одно дружеское лицо среди врагов — особенно если это человек, к которому она в прошлом была столь неравнодушна. Я вспомнил о павильоне и блестящем бронзовом теле, приближающемся ко мне, чувственно трепеща под звуки музыки. Ну что ж, теперь мы сможем танцевать так хоть каждую ночь в нашей личной повозке и если к прибытию в Калькутту я не похудею до двенадцати стоунов, то это будет не из-за недостатка ночных упражнений.
Я изложил мои соображения Роузу — их первую часть, конечно, про специально выделенный взвод — прямо за обедом в его палатке, и он в ответ пожал плечами и покачал головой.
— Слишком ненадежно, — заметил сэр Хью, — нам нужно сработать решительно и наверняка прежде чем битва подойдет к ее дворцу; нужно ее захватить и вывести в безопасное место еще до этого.
— Ну, тогда клянусь жизнью, что не могу себе даже представить, как вы собираетесь это сделать! — воскликнул я. — Не можем же мы послать кого-нибудь перед атакующим отрядом, чтобы он выкрал ее или сделал еще что-либо в этом роде? Он и ста ярдов не пройдет по улицам Джханси, а даже если это ему и удастся, то у рани несколько сотен гвардейцев-пуштунов, которые стерегут каждый дюйм в ее дворце.
— Нет, — задумчиво проговорил Роуз, затягиваясь своей чирутой. — Согласен, силой здесь ничего не добиться, но вот дипломатией? Как вы думаете, Листер?
Это был юный Гарри Листер, адъютант Роуза и единственный свидетель нашего разговора. За последние десять лет я встречался с ним несколько раз; он был специальным констеблем во время чартистского фарса 1848 года, когда мне пришлось взять жезл старого Моррисона и выполнять за него его гражданский долг. Тогда мы втроем — я, Гладстон и Луи Наполеон — не дали этой плебейской толпе выйти из берегов. Листер также был сообразительным малым; если бы ему повезло больше, то сейчас бы он уже стал фельдмаршалом.
— Может быть, подкуп, — если нам удастся найти подходящего среди ее офицеров? — предположил он.
— Слишком сложно, — буркнул Роуз, — и скорее всего мы просто потеряем деньги.
— Они едят ее соль, — заметил я, — вы не сможете подкупить их. — Кстати, в этом я был совсем не уверен, но мне очень хотелось прекратить этот разговор про интриги и секретные послания — слишком часто мне приходилось слышать это раньше и я прекрасно догадывался, кому в финале придется красться во вражеский лагерь — в полной темноте, с бурчащим от страха животом и вздыбленными от ужаса волосами. — Боюсь, что в конце концов мы вернемся к специально выделенному взводу, сэр. Хороший туземный офицер с ловкими джаванами…
— Это совет отчаяния, Флэшмен, — Роуз решительно покачал головой. — Нет, нам нужно выманить ее. В этом и заключается единственная возможность — штурмовать город, как мы и намеревались. Но оставить для принцессы лазейку. Если мы уберем кавалерийские пикеты от ворот Орча, бунтовщики увидят нашу слабую точку, и когда мятежная леди поймет, что ее город обречен, я буду очень удивлен, если она не попытается там прорваться. Хорошо ли индийские женщины ездят верхом?
— Она? Не хуже польского улана. Да, это может сработать, — кивнул я. — Если у рани не возникнет подозрений, что мы ее поджидаем. Но у нее крысиный нюх…
— К тому времени она наглотается слишком много порохового дыма, чтобы почувствовать что-то еще, — доверительно сказал Роуз. — Она попытается вырваться из города, чтобы примкнуть к Тантии или к другому главарю мятежников, а мы будем поджидать ее на дороге в Орчу. Что скажете, джентльмены? — улыбаясь спросил он.
Ну что ж, меня это устраивало, хотя, по-моему, Роуз недооценивал ее сообразительности. Но Листер согласно кивнул [XLIV*] и Роуз продолжал:
— Да, думаю мы попробуем так сделать — но только в качестве запасного варианта. Этого все еще недостаточно. Лорд Каннинг придает особо важное значение тому, чтобы рани не получила ни царапины; чтобы добиться этого, мы должны использовать все наши карты. А у нас есть козырь, который было бы глупо не использовать, несмотря на всю его ценность. — Он повернулся и указал пальцем на меня: — Вас, Флэшмен.
Я застыл со стаканом в руке и попытался скрыть охвативший страх приступом кашля.
— Я, сэр? — я тянул время, как бы пытаясь отдышаться. — Но как, сэр? Я имею в виду, что…?
— Мы не можем позволить себе пренебрегать возможностями, которые предоставляет нам то, что вы знаете эту женщину — ваше знакомство с ней. Не думаю, что существует еще какой-нибудь белый, которому пришлось бы столь тесно общаться с принцессой — не так ли?
— Ну, не знаю, сэр…
— Мне все еще кажется, что мы сможем ее уговорить. Согласен, публичные предложения сдачи бесполезны — но личное предложение, переданное тайно, подкрепленное словом чести — моим и лорда Каннинга… это может быть совсем другим делом. Особенно если это убедительно предложит ей британский офицер, которому она может доверять. Понимаете?
Я понимал его слишком хорошо; я снова видел, как бездна страха и отчаяния вновь разверзается под моими ногами, а этот сумасшедший с горящими глазами продолжал:
— Это предложение должно убедить рани, что ее жизнь в безопасности, если она сдастся. При этом ей не обязательно сдавать Джханси — только свою собственную персону. Разве она может отказаться? Она сможет даже сохранить доверие своих сторонников — вот что! — воскликнул Роуз, хлопнув по столу. — Если принцесса согласится, она сможет воспользоваться лазейкой, которую мы предоставим ей напротив ворот Орча! Рани сможет сказать своим, что пыталась прорваться из города, но мы схватили ее сразу за стенами. Никто и не догадается, что это было заранее подстроено, кроме нее самой и нас! — Генерал расплылся в победной улыбке.
Листер встрепенулся:
— Но согласится ли она покинуть город и бросить свой народ на произвол судьбы?
Он посмотрел на меня.
— Да ладно вам! — воскликнул Роуз. — Вы же знаете, что это не европейская королева! Эти черномазые владыки и в грош не ставят своих подданных — не так ли, Флэшмен?
Я ухватился за эту мысль, словно утопающий за соломинку.
— Но эта принцесса — другое дело, сэр, — с чувством произнес я, — она не предаст свой народ — никогда.
Самое смешное, что я и сам в это верил.
Роуз растерянно посмотрел на меня.
— Я не могу в это поверить, — наконец сказал он. — Не могу. Абсолютно уверен, что вы ошибаетесь, Флэшмен, — генерал покачал головой. — Но, во всяком случае, мы ничего не теряем, если попробуем.
— Но если я пойду туда под белым флагом и потребую личной аудиенции с рани…
— Пхе! А кто тут говорит о белом флаге? Конечно же, это сразу испортит все дело — ее люди поймут — что-то затевается. — Роуз похлопал по столу, широко усмехаясь мне и прямо-таки раздуваясь от сознания своей сообразительности. — Разве я не говорил, вы — настоящий козырь? Вы не только хорошо знаете принцессу, вы еще и один из тех немногих людей, кто может пробраться в Джханси и предстать перед ней под видом туземца! — Он засмеялся, откинувшись на стуле. — Разве вы не проделывали это уже много раз? Ну же — уже весь мир знает про то, как вы провели Каваноу из Лакноу! Знаете, как вас теперь называют в Бомбее? Пуштун с Пэлл-Мэлл!
Бывают времена, когда вы вдруг понимаете, что бороться уже абсолютно бесполезно. Сначала Палмерстон, затем Аутрам, а теперь вот Роуз — и это только последние в длинной череде бешеных энтузиастов, которые время от времени решают, что я — именно тот человек, который им необходим для какой-нибудь чудовищной авантюры. Я сделал слабую попытку отвертеться, говоря, что у меня не успеет отрасти борода, но Роуз решительно отверг эту отговорку, сказав, что борода не имеет значения, налил мне бренди и начал излагать свой идиотский план.
В общих чертах он заключался в том, что уже было описано выше — я должен был убедить Лакшмибай в мудрой необходимости сдаться (чего, как я полагал, она никогда не сделает), и если она согласится, то разъяснить ей, что она должна сделать попытку прорваться через якобы неохраняемые с нашей стороны ворота Орча в тот самый момент, когда войска Роуза пойдут на приступ Джханси — это совпадение по времени, по словам генерала, было особенно важным и чем больше наша атака опередит попытку бегства принцессы, тем меньше подозрений останется у ее людей. (Я не видел, почему это так уж важно, но Роуз был одной из тех дотошных свиней, которые просто не оставляет вам шансов).
— А если она отвергнет наше предложение — а насколько я себе представляю, она так и сделает? — поинтересовался я.
— Тогда вы ни в коем случае не должны ничего говорить ей про ворота Орча, — отрезал он, — только если она согласится, вы сможете рассказать ей, как будет инсценирован ее «захват». Но если она откажется — что ж, у нее все равно останется шанс использовать последнюю лазейку для бегства, если мы ее оставим. Так что она в любом случае попадется к нам в руки, — самодовольно закончил он.
— А что будет со мной — если она откажется?
— Полагаю, — проговорил генерал, небрежно попыхивая сигарой, — что она попытается оставить вас в качестве заложника. Не думаю, что она пойдет на большее, а? В любом случае, — продолжал он, похлопывая меня по руке, — я знаю, что вы вообще не обращаете внимания на риск — я же видел вас под Балаклавой, клянусь святым Георгом! Вы слышали об этом, Листер? — воодушевленно продолжал он. — Этому красавчику недостаточно было одной атаки — вместе с Тяжелой бригадой — он пошел еще и вместе с Легкой! И, знаете ли, он к тому же расхохотался, увидев мое восхищение. Вы бы и сами живот себе надорвали от смеха, глядя на это.
Вот так оно опять и случилось: впереди ад и обратной дороги нет. Мысленно я попытался прикинуть шансы, изо всех сил сохраняя спокойное лицо и прихлебывая бренди. Станет ли Лакшмибай слушать меня? Наверное, нет; она может попробовать бежать, когда все будет потеряно, но не сдастся сама, бросив свой город погибать. Что же она тогда сделает со мной? Передо мной, как на картине, всплыло смуглое лицо рани, улыбающееся мне приоткрытыми губами, когда я в первый раз обнял и поцеловал ее среди зеркальных стен; я вспомнил павильон, нет-нет, она не даст причинить мне вреда, если только сможет. Хотя… не она ли послала за мной этих душителей-тугов? Нет, это был Игнатьев. И все же была ведь еще резня в Джханси — насколько сильно рани замешана в этом? Кто знает, что творится в голове у этой индийской принцессы? Может, она так же жестока и вероломна как и остальные князьки? Я не мог ответить на этот вопрос, но мне придется узнать об этом, хочу я этого или нет. Я узнаю об этом сразу, как только снова встречусь с ней лицом к лицу — и тут на мгновение я почувствовал, как в груди у меня вспыхнуло горячее желание еще раз увидеть ее. Это продолжалось всего лишь какие-то секунды, а потом я со страху вновь взмок от пота.
Должен все же сказать насчет Хью Роуза — при всей дьявольской находчивости, проявленной им для того, чтобы придумать мне новые опасности, он также обладал и огромным талантом организатора. Ему хватило всего лишь тридцати секунд, чтобы найти решение проблемы безопасной доставки меня в Джханси — на следующий день я должен был приготовить свою маскировку, намазать кожу, чтобы придать ей смуглость и прочее, а затем ночью генерал бросит эскадрон хайдерабадской кавалерии во внезапный рейд к пролому в городской стене. Всадники пробьются через хлипкую баррикаду, которой защитники попытались загородить брешь, порубят саблями немногочисленных часовых, поднимут дьявольский шум, а затем в полном порядке отступят — оставив среди обломков некоего туземца — бадмаша, крайне подозрительного вида. Вся соль в том, что это будет полковник Флэшмен, ранее служивший в Семнадцатом уланском полку и Генеральном штабе. По словам Роуза, мне будет совсем не трудно пролежать с полчасика в укромном уголке, а затем затеряться среди защитников крепости. После этого мне останется лишь пробраться по улицам ко дворцу рани и постучать в двери как старый мореход к своей подружке.
Глядя со стороны, причем с безопасной дистанции, теперь я мог бы сказать, что этот план великолепен, но помнится, тогда я подумал, что от него могли бы затрястись поджилки и у бронзовой статуи. Однако вот дьявольская штука — что бы ни предлагали генералы, вам остается только улыбаться и поддакивать. И, нужно признаться, это срабатывает.
Я не помню конца того проклятого дня, когда я должен был ждать, натянув на себя грязные лохмотья сипайского мундира, так чтобы снова приготовиться играть свою старую роль мятежника из Третьего кавалерийского. Но я никогда не забуду последние томительные секунды, когда мы собрались позади осадных пушек в готовности к атаке. Хайдерабадские кавалеристы стояли вокруг меня во мраке, Роуз пожал мне руку, а потом кто-то шепотом отдал приказ и началась все ускоряющаяся скачка сквозь холодную тьму и лишь похрапывание лошадей да поскрипывание кожи отмечало наше приближение к смутно виднеющейся в отдалении стене, за которой над городом поднималось багровое зарево; широкий провал бреши, в которой мерцали огоньки сторожевых костров, мы видели даже силуэты, снующие тут и там.
Вдалеке на нашем левом фланге дали залп дежурные батареи, тьму пронизали тонкие язычки огня, растаявшие в направлении части города, лежащей напротив старых казарм. Это было сделано для отвлечения внимания; я уже ощущал запах базара, доносившийся из-за стены, а нас еще так никто и не заметил. Даже сквозь мой привычный испуг я почувствовал странную дрожь возбуждения, знакомую каждому кавалеристу, когда эскадрон в полном молчании летит сквозь тьму туда, где притаился ничего не подозревающий враг — медленно и тяжело, бум-бум-бум, лошади идут шагом, мы скачем бок о бок, в одной руке поводья, другая — на эфесе тускло мерцающего клинка, а слух напряженно ловит первый крик тревоги. Как часто я сам чувствовал это — и испытывал ужас: в Афганистане, в Канпуре с Роуботемом, в Пенджабе, под стенами форта Рейм, когда я скакал на русских со старым Иззатом Кутебаром и целой ордой Небесных Волков и этой прекрасной ведьмой, дочерью Ко Дали, сжимающей в темноте мою руку…
Треск винтовочного выстрела, отдаленный вопль и громовой рев риссалдара: «Эге-ей! Эскадро-о-он — в атаку!» Темная масса по обе стороны словно прыгнула вперед и я тоже пришпорил своего пони, растянувшись у него на спине, пока мы преодолевали последние фарлонги до бреши. Хайдерабадцы закричали и, как фурии, бросились в атаку, за исключением четверых, которые продолжали держаться впереди по обе стороны от меня, прикрывая, словно щитом. За ними я видел дымящиеся костры в бреши — проломе в сотню ярдов шириной с рваными краями, на скорую руку перегороженному баррикадой; во тьме засверкали огоньки выстрелов и пули запели над головой, и тут же передовые всадники взлетели на гребень баррикады, размахивая саблями. Четверка моих защитников теперь крутилась среди груд битого камня и обгорелых бревен, вопя как безумные дервиши. Я заметил, как один из них зарубил панди, который бросился на него с примкнутым к мушкету штыком, а другой сцепился с огромным детиной в белом дхоти, набросившимся на него с копьем. Лошадь хайдерабадца споткнулась и упала, а я заставил своего коня вскочить на груду камня и битой штукатурки, из-за которой выскакивали темные фигуры, и визжа растворился во мраке.
Впереди виднелся костер, от которого ко мне бежали люди, так что я дернул за поводья моего скакуна и двинулся правее, в тень. Двое хайдерабадцев по-прежнему были рядом, отстреливаясь от наседающих панди и под их прикрытием мне удалось добраться до разрушенного дома, а лязг клинков, грохот мушкетов и вопли сражающихся слышались уже у меня за спиной. Рядом с домом были заросли кустарника. Быстро оглядевшись по сторонам, я понял, что ни один из неприятелей пока не замечает меня и аккуратно скатился с седла прямо в нечто, напоминающее навозную кучу и, тяжело дыша, залег под кустом.
Свою саблю я бросил, но за голенищем сапога у меня оставался солидный нож, а за поясом, под рубашкой — револьвер. Я отполз как можно дальше под прикрытие ветвей и замер. Послышался звук торопливых шагов — люди спешили на шум к баррикаде и еще две-три минуты эта адская музыка с выстрелами и воплями продолжалась. Затем все стихло, чтобы опять смениться градом криков и проклятий, предположительно адресованных защитниками города нашей отступающей кавалерии. Вдогонку прозвучало несколько выстрелов и затем в этом маленьком уголке Джханси воцарился сравнительный покой. Пока все шло хорошо — но, как сказал один умный парень, долго так продолжаться не могло.
Я выждал с четверть часа, а затем выбрался из кустов и оказался на узкой аллее. Вокруг не было ни души, но за углом виднелись отблески пламени сторожевого костра, вокруг которого сидело несколько панди и еще каких-то оборванцев; я прошел мимо них, обменявшись приветствиями и они лишь равнодушно скользнули по мне взглядами. Двумя минутами позже я уже был на базарной площади, покупая чапатти с соусом чили, и беседовал с лавочником, соглашаясь, что проклятые сагиб-логи неспособны ни на что большее, чем на жалкую стычку у бреши, так что Джханси им никогда не взять.
Несмотря на то, что было всего три часа ночи, на улицах оказалось людно как в полдень. Везде были войска — мятежники из Двенадцатого сипайского пехотного полка, солдаты-маратхи из армии рани, наемники-бхилы и всевозможный вооруженный до зубов сброд из окрестностей, в остроконечных шлемах, с длинными мечами, круглыми щитами и всевозможными ружьями — от винтовок Минье до фитильных мушкетов. Мне показалось, что в Джханси подозревают о том, что скоро наша армия пойдет на приступ и резервы выдвигаются к стенам.
На каждого солдата приходился десяток горожан и лавочники вели оживленную торговлю. Тут и там виднелись разрушенные дома и магазины, в которые попали ядра наших пушек, но среди населения не было и следа уныния, как того можно было ожидать — скорее ощущалось возбуждение и подъем — все были насторожены и громко болтали. Прошел отряд носильщиков, волоча тележку, набитую шестифунтовыми зарядами и я воспользовался случаем, заметив торговцу:
— Этого хватит, чтобы убить тысячу англичан, а, брат?
— Вполне, — согласился он, ухмыляясь. — И каждый пушечный снаряд стоит кругленькую сумму в рыночных ценах. Жизнь приходится покупать очень дорого — даже жизни англичан.
— Нет, рани заплатит за все из своей казны, — сказал я, одарив его настоящей сипайской ухмылкой.
— Хо-хо-хо, да вы только послушайте его! — презрительно захохотал он. — Сядь-ка на ее корм, солдат, поглядел бы, шибко ли разжиреешь. Когда это рани платила — или любой другой кто из принцев? А для чего же существуем мы, купцы, как не для того, чтобы платить, когда большие люди ведут войны?
«То же самое говорят и наши толстосумы в Реформ-клубе или в „Звезде и подвязке“», — подумал я, но вслух сказал:
— Говорят, сегодня ночью рани собирает в замке большой совет — это правда?
— Меня она не приглашала, — ехидно усмехнулся лавочник, — и вряд ли оставит мне свой дворец, когда захочет его покинуть. С тебя три пайсы,[180] солдат.
Я расплатился, узнав все, что мне было нужно, и пошел по улицам по направлению к форту, причем с каждым шагом мои колени дрожали все больше. Клянусь Богом, это было скользкое дело; я успокаивал себя мыслью, что каковы бы ни были ее чувства по отношению к моей стране и британской армии, ко мне она всегда относилась исключительно дружелюбно — и вряд ли она допустит жестокость по отношению к посланцу британского генерала. Тем не менее, когда я вдруг обнаружил, что стою, вглядываясь через маленькую площадь в мрачные очертания массивных дворцовых ворот, освещенных факелами, по обе стороны которых стоят огромные пуштуны ее личной гвардии в красных мундирах, мне стоило большого труда побороть жгучее желание броситься назад, затаиться в путанице улиц и появиться уже тогда, когда все будет кончено. Я поглубже нахлобучил на голову свой пуггари, так чтобы прикрыть большую часть лица, осторожно вытащил из кармана послание, тщательно составленное нами вместе с Роузом, твердой походкой подошел к часовому и потребовал вызвать начальника караула.
Тот вскоре показался, зевая и потягиваясь, и оказался не кем иным, как моим старым знакомым, который когда-то плевал на мою тень. Я передал ему записку и сказал:
— Это лично в руки рани, и никому больше. Быстро отнеси ей письмо.
Он недоуменно переводил взгляд с письма на меня и обратно:
— Но что это, и кто ты сам такой?
— Если принцесса захочет, она скажет тебе, — небрежно бросил я, скрываясь в тени арки. — Но знай, если ты промедлишь, она снимет с плеч твою пустую голову.
Пуштун стоял, выпучив глаза и вертя письмо в руках. Похоже, оно произвело на него впечатление — с этой красной печатью, на которой был выдавлен фамильный герб Листера — иначе и быть не могло. После повторной попытки выяснить, кто я такой, которую я просто игнорировал, он почесал в затылке и важно удалился, приказав часовым не спускать с меня глаз.
Я ждал, а сердце мое стучало как молот, потому что вот-вот все могло резко измениться к худшему. Роуз и я долго ломали головы, чтобы написать нечто, понятное только рани — на случай, если письмо попадет в руки врагов. В целях дополнительной предосторожности, мы написали текст на примитивном школьном французском, который, как мне было известно, она понимает. Письмо всего лишь гласило:
«Здесь тот, кто приносил тебе духи и портрет. Встреться с ним наедине. Верь ему».
Роуз пришел от этого в восторг — он, очевидно, был одним из тех, кто любит интригу ради самой интриги, и я был уверен, что он с удовольствием вместо подписи нарисовал бы череп со скрещенными костями. Сидя на корточках у дворцовой стены, я не мог относиться к этому делу так же легкомысленно. Если тупоголовый пуштун все-таки доставит письмо принцессе, она достаточно быстро догадается, от кого оно — но что, если она просто не захочет меня видеть? Что, если она решит, что лучшим ответом будет послать меня в штаб-квартиру Роуза — но только разрезанным на части? А если она покажет письмо кому-нибудь еще или неправильно поймет, или…
Из-за арки послышался шум шагов и я, дрожа, вскочил на ноги. Из темноты вышел хавилдар, за которым следовали двое солдат. Он остановился, окинул меня долгим, оценивающим взглядом и кивнул головой. Я сделал шаг вперед, и хавилдар жестом пригласил меня пройти во внутренний дворик, тяжело ступая со своими солдатами у меня за спиной. Я хотел было спросить, передал ли он записку лично в руки рани, но мой язык словно прилип к гортани — впрочем, я и без того узнаю об этом достаточно быстро. Когда мои глаза привыкли к сумраку после света факелов у ворот, я увидел, что мы идем через двор, с обеих сторон огороженный высокими черными стенами, в дальнем конце которого, у дверей, охраняемых двумя другими пуштунами, горит еще один факел.
— Заходи, — рявкнул хавилдар, и я оказался в маленькой сводчатой караульной комнате.
Я заморгал от неожиданно яркого блеска масляных ламп, и тут сердце у меня ушло в пятки, потому что в человеке, стоящем передо мной посреди комнаты, я вдруг узнал толстого камергера, столь хорошо знакомого мне по дурбару Лакшмибай.
Эта глупая шлюха сказала ему, кто я такой! Теперь уже не было никакой надежды сохранить секрет — весь план, над которым столько тужился Роуз, дал сбой и…
— Вы — тот самый офицер, который привозил подарки от британской королевы? — проскрипел он, — посланец Сиркара — полковник Флэшмен?
Он с недоверием покосился на меня, что было вполне понятно, так как сейчас я мало напоминал блестящего штабного офицера, которого он знал. Слабея от страха, я стянул с головы пуггари и откинул назад волосы с лица.
— Да, — сказал я, — я полковник Флэшмен. Вы должны срочно провести меня к рани!
Он так и впился в меня взглядом, его маленькие глазки забавно выпучились на жирном лице, а руки нервно задрожали. Затем что-то пролетело между нами — на секунду мне показалось, что это была ночная бабочка — и упало на пол, рассыпая небольшой поток искорок. Это была недокуренная сигарета; длинный желтоватый цилиндрик с мундштуком.
— Всему свое время, — произнес голос… Игнатьева, и когда я, не веря своим ушам, повернулся к двери, то почувствовал, что вот-вот буквально закричу от ужаса.
Да, там стоял он, а рука его замерла в жесте, которым он отбросил сигарету. Игнатьев, который, как я полагал, должен был находиться за тысячи миль отсюда, посмотрел на меня со своей ужасной ледяной улыбкой и слегка кивнул рыжеватой головой.
— Всему свое время, — повторил он по-английски, подходя ко мне. Он наступил каблуком на упавшую сигарету. — После того как мы закончим нашу… дискуссию?.. которая так неудачно была прервана в Балморале.
* * *
Не знаю, как у меня не остановилось сердце. Возможно, я просто испытал глубокий шок — все внутри словно заледенело, а горло перехватило; я не мог даже пошевелиться — просто стоял, окаменев, по коже у меня ползли мурашки. Игнатьев подошел ко мне вплотную — почти неузнаваемый в новом виде, яркой рубахе, широких полотняных штанах, персидских туфлях и с маленькой рыжеватой бородкой. Но его рот, похожий на мышеловку, остался прежним и немигающий взгляд наполовину голубого, наполовину карего глаза буравил меня.
— Я ожидал этой встречи, — произнес он, — с тех самых пор как услышал о вашей предстоящей поездке в Индию — кстати, вам известно, что я узнал о ней раньше, чем вы сами? — Он снова слегка улыбнулся — этот негодяй все же не мог удержаться от хвастовства. — Секретные планы столь проницательного лорда Палмерстона на самом деле не столь уж секретны, как он предполагает. Обычно это довольно глупые затеи, а это предприятие было и вовсе дурацким — не так ли? Вы должны были радоваться тому, что вам удалось ускользнуть от меня… дважды?.. Но вы все же решились попытать счастье в третий раз. Что ж — хорошо, — казалось, его разноцветный глаз сверкает как бриллиант, — вам не придется слишком долго жалеть об этом.
Я с усилием заставил себя выдавить несколько слов в ответ — черт побери мой дрожащий голос!
— Вам я ничего не скажу! — грубо, как только мог, воскликнул я и повернулся к маленькому камергеру. — У меня дело к рани Лакшмибай, а не к этому… этому ренегату! Я требую, чтобы мне дали немедленно увидеться с ней! Скажите ей…
Рука Игнатьева обрушилась на мои губы, заставив пошатнуться, но голос его нисколько не повысился:
— В этом не будет нужды, — заметил он и маленький камергер согласно кивнул. — Ее высочеству нет необходимости заниматься делом обыкновенного шпиона. Я сам разберусь с этим шакалом.
— Да лопни твои свиные глаза! — взорвался я. — Я посланец от сэра Хью Роуза к ее высочеству рани, а не к какому-то там головорезу русской секретной службы! Вы еще поплатитесь за то, что пытались мне помешать! Черт побери, отпустите меня! — заорал я, потому что двое стражников вдруг схватили меня за локти. — Я офицер штаба! Вы не смеете касаться меня, я…
— Штабной офицер! Посланец! — Игнатьев проговорил эти слова ледяным от гнева свистящим шепотом, который словно вернул меня в кишащее вшами подземелье форта Арабат. — Ты пробрался сюда в своей грязной маскировке, как шпион, а хочешь, чтобы с тобой обращались как с парламентером? Если ты тот, за кого себя выдаешь, так почему не пришел в мундире, под белым флагом и среди бела дня? — Лицо Игнатьева застыло от гнева и этот негодяй снова толкнул меня. — Я скажу тебе, почему — потому что ты бесчестный лжец, чьему слову никто не поверит! Предательство и вероломство — вот твоя работа, а может быть, теперь еще и убийство?
Его рука нырнула мне под рубашку и выхватила у меня из-за пояса револьвер.
— Это ложь! — завопил я, — пошлите к сэру Хью Роузу — он сам вам скажет! — Теперь я взывал к камергеру: — Вы же знаете меня — скажите рани! Я требую!
Но он лишь стоял, вытаращившись и ожидая, что решит Игнатьев, гнев которого вдруг растаял так же быстро, как и появился.
— Поскольку сэр Хью Роуз не оказал нам чести, направив парламентера, нет оснований беспокоить его, — сказал он мягко. — Мы имеем дело просто с ночным бродягой. — И он жестом подозвал стражу. — Уведите его.
— Вы не имеете права! — заорал я. — Я не стану отвечать тебе, ты, русская свинья! Пустите меня!
Они тащили меня изо всех сил, а я все еще кричал камергеру, умоляя его все рассказать рани. Меня выволокли за порог и швырнули вниз, по каменным ступенькам. Игнатьев шел следом, а камергер семенил за ним. Я панически сопротивлялся, потому что мне было ясно, что этот зверь хочет, чтобы рани ни за что не узнала о моем прибытии, прежде чем он покончит со мной… Я почти потерял сознание от ужаса, потому что солдаты волокли меня по полу к огромному колесу; напоминающему барабан, поставленному ребром на некотором возвышении. С него свисали цепи, а ножные кандалы были прикреплены к каменному полу — Господи Иисусе! Именно в этом форте они до смерти замучили Мюррея — так сказал Ильдерим, а теперь они растягивали меня на этой дьявольской конструкции. Один ухмыляющийся стражник привязывал мои руки, в то время как другие крепили цепи на моих лодыжках. Я вопил и сыпал проклятьями, так что камергер испуганно скрылся на лестнице, а Игнатьев невозмутимо закурил очередную сигарету.
— Все это может и не понадобиться, если я получу нужную мне информацию, — прошипел он своим ужасным металлическим шепотом. — Для такого труса, как ты, страха уже достаточно. Надеюсь, ты уже готов рассказать мне, зачем ты здесь, какое новое предательство задумал и для чего хотел видеть ее высочество. И когда я буду удовлетворен тем, что ты рассказал мне абсолютно все… — Игнатьев подошел ко мне вплотную, его ужасный глаз уставился на меня, и закончил по-русски, чтобы только я смог его понять: — Пытки будут продолжаться, пока ты не умрешь.
Он кивнул солдатам и отступил.
— Христа ради, Игнатьев! — простонал я. — Ты не можешь так поступить! Я британский офицер, белый человек — отпусти меня, ублюдок! Пожалуйста, во имя Господа, прошу тебя! — я чувствовал, как колесо поворачивалось вместе со мной, по мере того, как солдаты изо всех сил навалились на него, привязывая мои руки у меня же над головой. — Нет, нет! Отпусти меня, ты, сумасшедшая свинья! Я — джентльмен, черт тебя побери! Я пил чай с самой королевой! О, пожалуйста, нет…
Раздалось клацанье огромного колеса и цепи на моих запястьях и лодыжках натянулись. Дикая боль пронзила мои руки и ноги. Я закричал еще громче и колесо снова повернулось, казалось, растягивая меня до предела моих возможностей и тут Игнатьев снова подошел ко мне.
— Зачем ты пришел? — спросил он.
— Отпусти меня! Ты, проклятая бешеная собака! — За его спиной я заметил, что маленький камергер вновь поднялся на ноги, весь белый от ужаса. — Беги! — завопил я. — Беги же ты, безмозглая жирная сволочь! Приведи сюда свою хозяйку! Быстрее!
Но он, похоже, просто врос в землю, а колесо вновь щелкнуло, и мои руки и плечи пронзила нестерпимая боль, словно их выдергивали из тела (что, собственно говоря, и происходило). Я снова попытался застонать, но не смог издать ни звука, а потом это дьявольское лицо вновь приблизилось ко мне и я забормотал:
— Нет… нет… ради бога — нет! Я скажу вам… я все вам скажу!
И тут, даже сквозь кровавый туман, я вдруг понял, что если сделаю это, то я — мертвец. Но терпеть было невозможно — я должен был говорить — и сквозь агонию пришло вдохновение, я со стоном бессильно свесил голову набок. Если только мне удастся хоть немного протянуть время — если камергер все же бросится за помощью — если только Игнатьев поверит в то, что я буду говорить, а сам я смогу удержаться в сознании, пока все мое тело будет корчиться от боли. Его ладонь с размаху опустилась на мое лицо и я не смог сдержать крика. Он махнул было рукой своим солдатам и я лихорадочно прошептал:
— Не надо… я все скажу вам! Не давайте им снова крутить колесо! Клянусь, я скажу всю правду… только не позволяйте им делать это опять… о, Боже, только не снова!
— Ну? — спросил он и я понял, что ждать больше нечего — еще одного оборота я бы не пережил.
— Генерал Роуз… — мой шепот доносился до меня словно издалека. — Я из его штаба… он послал меня… повидаться с рани… пожалуйста, это правда, Богом клянусь! О, скажите, чтобы они отпустили меня!
— Продолжай, — проговорил этот ужасный голос. — Что ты должен был передать?
— Я должен был попросить ее…
Я смотрел в его ужасные глаза, видя в них лишь продолжение моих мук, когда где-то за его спиной, на верхних ступенях лестницы, вдруг возникло какое-то движение и, когда я смигнул, все стало видно необычайно ясно, а мой голос замер, пораженный видом грядущего освобождения, — тут я позволил своей голове безвольно склониться набок. Дело в том, что двери на верхней площадке лестницы раскрылись, поскольку их распахнул сержант в красном мундире, тот самый пуштун — мой добрый бородатый гений, который когда-то так ловко плевал на мою тень, и белая фигура вошла в зал и резко остановилась, глядя на нас. Я всегда думал, что рани прекрасна, но в этот момент Лакшмибай выглядела сущим ангелом красоты.
Я был настолько истерзан болью, что мне трудно было держать глаза открытыми, так что я и не пытался это делать. Однако услышал ее удивленный вскрик, а затем что-то забормотал камергер, и Игнатьев отступил куда-то назад. А потом, поверите или нет, первое, что она сказала, было: «Прекратите это немедленно! Прекратите, слышите?» — как будто она была юной учительницей, которая вдруг зашла в класс и поймала маленького Джонни за баловством с чернильницей. Готов поклясться, что она даже топала ножкой, говоря это, и тогда, в полубеспамятстве от боли, я подумал, как смешно это звучит; и затем неожиданно с последним рывком, который заставил меня вскрикнуть от боли, чудовищное напряжение моих конечностей вдруг ослабло и я повис на колесе, пытаясь вызволить из оков мои измученные ноги. Однако с гордостью должен отметить, что я все же сохранил свое самообладание.
— Ты ничего от меня не добьешься! — заорал я. — Ты, русская собака, — лучше уж я умру!
Я слегка приоткрыл один глаз, глядя, какое это произвело впечатление, но принцесса была слишком занята, изливая свой гнев на Игнатьева.
— Это делается по вашему приказу? — (Господи, что за милый голос!) — Знаете, кто он?
Должен отметить, Игнатьев встретил эту ее бурю, не моргнув и глазом, правда, он все же отбросил сигарету, прежде чем слегка поклониться принцессе.
— Это шпион, ваше высочество, который прокрался в ваш город переодетым — как вы сами можете это видеть.
— Это — британский офицер! — она дрожала от гнева всем телом — от покрытой белой вуалью головки до маленьких ножек, обутых в усыпанные жемчугом сандалии. — Это посланец Сиркара, который доставил мне письмо. Мне! — и она снова топнула ножкой. — И где же оно?
Игнатьев вынул письмо из-за пояса и молча протянул ей. Она прочла, небрежно скомкала листок и взглянула графу прямо в лицо.
— Шер-Хан сказал, что ему было приказано отдать письмо мне лично в руки. — Она все еще сдерживала свой гнев, хотя и с большим усилием. — Но увидев его с письмом, вы спросили, что это за бумага, и этот дурак отдал ее вам. А прочитав послание, вы осмелились допрашивать этого человека, не поставив меня в известность…
— Это было подозрительное письмо, ваше высочество, — совершенно спокойно заметил Игнатьев. — И абсолютно очевидно, что это человек — шпион…
— Ты, проклятый лжец! — прохрипел я, — ты чертовски хорошо знаешь, кто я! Не слушай его, Лакшми, высочество, эта свинья охотилась за мной! Он хотел убить меня — просто от злости!
Она лишь мельком взглянула на меня и снова обернулась к Игнатьеву.
— Шпион он или нет — здесь все решаю я. Иногда мне кажется, что вы забываете об этом, граф Игнатьев.
Некоторое время она пристально смотрела ему прямо в глаза, а затем резко отвернулась, глянула на меня и отвела глаза — а все мы ждали в мертвой тишине. Наконец рани спокойно сказала:
— Я сама разберусь с этим человеком и решу, что с ним делать. — Она обернулась к Игнатьеву. — Вы можете идти, граф.
Он поклонился и заметил:
— Сожалею, если помешал вашему высочеству. Если я и сделал это, то только из преданности делу, которому мы оба служим — правительство вашего высочества… — тут он сделал паузу, — и властитель моей империи. Я не исполнил бы своего долга перед обоими, если бы не напомнил вам, что этот человек — один из наиболее опасных и печально известных британских агентов, а значит…
— Я отлично знаю, кто он и кем является, — спокойно сказала она, и этот сукин сын с разноцветными глазами, не произнес больше ни слова, лишь поклонился и вышел вон, а два стражника поспешили за ним, торопливо произнеся «салам», когда проходили мимо принцессы. Они взбежали по лестнице вслед за Игнатьевым и Шер-Хан закрыл за ними двери. Мы вчетвером остались в теплой компании — Лакшмибай, застывшая блестящей белой статуей, настороженно замерший маленький камергер, Шер-Хан у дверей и Гарри Флэшмен, эсквайр, изображающий протестантского мученика. Мне было чертовски неудобно, но что-то подсказало мне, что благодарное бормотание будет сейчас в самый раз, так что я сказал насколько мог спокойно:
— Благодарю вас, ваше высочество. Простите, что не могу достойно поклониться вам, но обстоятельства…
Как видите, все было весьма галантно, но страшная боль по-прежнему терзала мои руки и ноги, так что я с трудом держался, чтобы не застонать. Принцесса все еще стояла и смотрела на меня достаточно безразлично, так что я с надеждой добавил:
— Если бы ваш хавилдар освободил меня…
Но ни один мускул не дрогнул на ее лице, и меня вдруг пробрала дрожь под твердым взглядом этих темных глаз, которые так ярко сияли на ее смуглой коже. Какого черта она вдруг уставилась на меня, все еще висящего на этом проклятом орудии пытки, и до сих пор не улыбнулась мне, даже не дав понять, что узнала меня? Я лихорадочно размышлял об этом, пока рани стояла, разглядывая меня и о чем-то размышляя, затем она соизволила приблизиться на расстояние ярда и заговорила спокойным и твердым голосом.
— Что он хотел узнать у вас?
От звука ее голоса у меня перехватило дыхание, но я все же вскинул голову.
— Он хотел узнать, что у меня за дело к вашему высочеству.
Ее взгляд скользнул по цепям на моих запястьях, а потом по моему лицу.
— И вы сказали ему?
— Конечно же, нет, — я подумал, что смелая улыбка не помешает и попытался выдавить на лице что-то в этом роде. — Я люблю, когда мне задают вопросы, но вежливо.
Рани повернула голову к маленькому камергеру.
— Это правда?
Он вспыхнул и всплеснул руками, весь живое воплощение преданности.
— Точно так, ваше несравненное высочество! Полковник-сагиб не сказал ни словечка — даже под жесточайшими пытками! Он почти и не кричал… не слишком много… о, да — он же офицер-сагиб и, конечно…
Конечно, этот маленький ублюдок торопился подстелить себе соломки, но я все еще не был уверен, что выпутаюсь из этого дела — принцесса по-прежнему смотрела на меня, как на тушу в мясной лавке, и я похолодел от внезапной мысли, что она, должно быть, уже не раз наблюдала других бедняг в моей ситуации… Боже, может быть, даже Мюррея… а потом она повернула голову и позвала Шер-Хана, который торопливо спустился по лестнице, так что запах его пота докатился даже до меня. Конечно же, она не собирается приказать ему…
— Сними его, — коротко бросила принцесса, и я чуть не упал в обморок от облегчения.
Она бесстрастно смотрела, пока пуштун освобождал меня от цепей и я с трудом сделал несколько чертовски болезненных шагов, опираясь на это адово колесо, а затем…
— Приведи его ко мне, — так же коротко сказала рани, — я сама его допрошу, — и не сказав более ни слова, она повернулась и двинулась вверх по лестнице, прочь из темницы; маленький камергер, торопясь, подпрыгивал рядом с ней, а Шер-Хан то и дело сплевывал и похрюкивал, помогая мне следовать за ними.
— Замолви за меня словечко перед ее высочеством, хузур, — бормотал он, подставляя мне плечо. — Если я и свалял дурака, передав твой китаб русскому сагибу, то разве я не исправил эту ошибку? Я тотчас же пошел за ней, как только понял, что он собирается плохо с тобой поступить… Видит Бог, я не узнал тебя сразу…
Я заверил, что замолвлю обязательно — я готов был пообещать ему даже пэрство и часы с дворцовой башни. Между тем Шер-Хан провел меня через караульную комнату к маленькой винтовой лестнице, а затем вдоль выложенного камнем прохода цитадели, который заканчивался покрытым коврами коридором, где стояли на страже личные гвардейцы рани, в стальных шлемах и кирасах. Я бодро прохромал по нему, теша себя мыслью, что за исключением нескольких болезненно потянутых мышц и ободранных запястий я не понес особого вреда… по крайней мере — пока. И тут Шер-Хан помог мне пройти в двери и я оказался в уменьшенном варианте дурбара — зала для приемов — длинной, белоснежной, богато обставленной комнате, с узорчатым ковром на полу и шелковой обивкой на стенах. Повсюду были диваны и кушетки, покрытые персидскими коврами; была даже большая серебряная клетка, в которой порхали и щебетали маленькие птички. Воздух был тяжелым от благовоний, но из моих ноздрей все еще не выветрился запах страха, да и вид ожидающей Лакшмибай не слишком ободрил меня.
Принцесса устроилась на низкой кушетке без спинки, слушая маленького камергера, который что-то быстро шептал ей, но, увидев меня, она остановила говоруна. Рядом с ней сидели две ее придворные дамы, так что вся группа теперь воззрилась на меня — женщины с любопытством, а Лакшмибай все с тем же проклятым безразличием, что и в темнице.
— Оставь его здесь, — приказала она Шер-Хану, указывая на середину комнаты, — и свяжи ему руки за спиной.
Тот бросился вязать узлы, не думая о моих изувеченных запястьях.
— Так он не причинит нам вреда, — сказала она маленькому камергеру. — Уйдите все — а Шер-Хан пусть подождет за дверью.
Боже милостивый, да она действительно собирается сама допрашивать меня — удивился я, когда ее леди поспешно двинулись к выходу, и камергер торопливо последовал за ними, испуганно косясь в мою сторону. Я слышал, как Шер-Хан последним вышел из комнаты, закрыв за собою двери, так что мы остались вдвоем.
Я стоял, а рани, гордо выпрямившись, сидела на стуле и пристально смотрела на меня — а затем, к моему глубокому удивлению, она вскочила на ноги и бросилась ко мне через всю комнату широко раскинув руки; с дрожащим лицом она приникла ко мне, лихорадочно шепча:
— О, мой дорогой, мой дорогой, мой дорогой! Ты вернулся — о, я боялась, что никогда больше не увижу тебя!
Ее руки обвились вокруг моей шеи, и это прекрасное смуглое лицо, все мокрое от слез, прижалось ко мне. Она целовала меня, как раньше, — в щеки, подбородок, глаза и губы, почти рыдая от нежности и прижимаясь ко мне.
Вы знаете, что меня нелегко удивить, и обычно я принимаю такие вещи как должное, но вынужден сознаться, в этот миг мне показалось, что я сошел с ума или сплю. Не более двух часов тому назад я был в палатке Роуза, в полной безопасности британского лагеря, опрокидывал последний стаканчик бренди и безуспешно пытался читать рекламные объявления в «Таймс», чтобы хоть немного отвлечься от предстоящего мне дела, а юный Листер напевал мне над ухом какую-то модную песенку — и с тех пор я успел принять участие в кавалерийском налете, переодетым пробраться через вражеский город, переполненный черномазыми головорезами, чуть не потерял сознание от ужаса, встретив Игнатьева, испытал ужасные физические и еще большие моральные мучения; был спасен в последнюю минуту и поставлен перед деспотичной женщиной — и вот она, рыдая, обнимает и целует меня, причитая, будто над Малюткой Вилли, умирающим сыном горняка.[181] Это было слишком для моего бедного измученного сознания и обессиленного тела, так что под грузом чувств и впечатлений я осел на колени и она опустилась вместе со мной, плача и целуя меня.
— О, мой милый, они что-то повредили тебе? Я думала, что упаду в обморок, когда увидела тебя — ах, твое бедное тело!
Прежде чем я опомнился, она уже оказалась у моих ног, поглаживая одной рукой мои израненные лодыжки, вторую подложив мне под голову, крепко целуя меня в губы и щекоча их кончиком языка. Мое удивление, наконец, нашло себе выход в виде странной смеси возбуждения и облегчения, а также почти эсктатического наслаждения тем, как ее смуглая кожа касается моего лица, а ее полуоткрытые губы, трепещут, прильнув к моим. Я ощущал, как ее грудь упруго уперлась в меня — но, черт побери, руки у меня были связаны и я мог лишь страстно прильнуть к ней, пока она не оторвала губ и не посмотрела на меня, заботливо поддерживая мою голову обеими руками.
— О, Лаки — моя милая Лакшми! — бормотал я, охваченный наслаждением. — О, мое удивительное, прекрасное создание!
— Я думала, что ты погиб, — сказала она, опуская мою голову себе на грудь — клянусь святым Георгом, вот уютное местечко для меня! И я отчаянно дергал руками в безуспешной попытке освободиться. — Все эти месяцы я оплакивала тебя — с того самого дня, как у павильона нашли убитого душителя, и я подумала… — она слегка всхлипнула и снова принялась целовать меня. — А ты жив и снова со мной… мой дорогой. — Слезы вновь выступили на ее огромных глазах. — Ах, я так люблю тебя!
Конечно, я слыхал эти слова и раньше — их произносило бессчетное количество разных женщин с разными оттенками страсти, и это всегда было приятно, но я не мог припомнить, когда бы это было более кстати, чем сейчас. Если мне когда и нужна была женщина, глубоко влюбленная в мои мужские достоинства, — это был именно этот момент, а поскольку и сам я был почти влюблен в нее, для всего последующего много труда не требовалось.
Итак, я вновь приник к ее губам и всем своим весом прижал ее к подушкам — это было чертовски трудно сделать со связанными за спиной руками — но она была к этому готова и опрокинулась навзничь, впившись в мои губы, дразня меня язычком и слегка похлопывая меня по лицу кончиками пальцев, так что в конце концов мне показалось, что я сейчас взорвусь.
— Лакшми, любимая, развяжи мне руки! — прохрипел я, и она вдруг оторвалась от меня, бросила взгляд на дверь и грустно улыбнулась.
— Я не могу… не теперь. Знаешь, ведь никто не должен знать… пока. Для всех ты — пленный, шпион, подосланный британцами…
— Я все смогу объяснить! Мне пришлось прийти тайком, переодетым, чтобы передать тебе послание от генерала Роуза. Лакшми, дорогая моя, ты должна принять его предложение — это предложение сохранит тебе жизнь! Пожалуйста, развяжи меня и позволь рассказать тебе!
— Погоди, — прошептала рани, — присядь. — Она помогла мне подняться, время от времени снова целуя меня, и усадила на краешек дивана. — Пока лучше мы оставим тебя связанным — о, любимый мой, это ненадолго, обещаю, тебе… только на случай, если кто-нибудь неожиданно войдет. Сейчас я дам тебе попить — ах, твои бедные руки, как жестоко они пострадали! — Слезы вновь хлынули у нее из глаз, и затем вдруг по ее лицу промелькнула гримаса такого отчаянного гнева, что я просто замер на месте. — Этот русский зверь! — воскликнула она, сжимая свои маленькие кулачки. — Он заплатит за все — я порублю его на кусочки и заставлю сожрать этот его отвратительный глаз! А его властелин — царь — может отправляться в ад и ждать там своего слугу!
«Отличные чувства», — подумал я, и, пока она наполняла кубок шербетом, постарался закрепить неожиданную удачу.
— Это Игнатьев натравил на меня тугов той ночью. Он следил за мной с тех самых пор, как я прибыл в Индию, шпионил и старался разжечь мятеж…
Здесь я резко остановился — в конце концов рани была одним из вождей мятежников и этот ужасный Игнатьев был ее союзником, несмотря на всю личную к нему неприязнь. Принцесса поднесла кубок к моим губам и я жадно выпил — знаете ли, после пыток так хочется пить — а когда жажда была утолена, она поднялась с кубком в ладонях, глядя на меня сверху вниз.
— Если бы я только могла выслушать тебя, — серьезно произнесла она, — если бы у нас было хоть немного больше времени! Я не знаю… если бы только я могла объяснить тебе — все эти годы ожидания и попытки противостоять беззаконию в отношении… меня, моего сына и моего Джханси…
— Кстати, как дела у твоего малыша? Надеюсь, с ним все в порядке? Он славный парень и…
— … ожидание превратилось в отчаяние, а отчаяние — в ненависть, и я думала, что ты — всего лишь еще одна из холодных, бесчувственных тварей Сиркара — и вот… — она вдруг опустилась на колени рядом со мной, схватила меня за руки и, под пристальным взглядом этих темных блестящих глаз даже мое опытное старое сердце забилось быстрее. — Но теперь-то я знаю, что ты не такой, как другие! Ты благородный, добрый и, кажется, ты можешь понять… а потом… тот день, когда мы фехтовали в зале для приемов… Я ощутила внутри себя что-то, чего никогда не чувствовала раньше. А потом…
— Да-да, в павильоне, — задыхаясь, подхватил я. — О, Лакшми, это был самый удивительный момент в моей жизни! Знаешь, это было по-настоящему замечательно… лучше всего на свете… дорогая, не могла бы ты развязать мне руки хотя бы на секунду?
Но в этот момент что-то промелькнуло в ее глазах и рани отвернула голову, а ее руки сжались на моих.
— … а когда ты неожиданно пропал и я подумала, что ты погиб, я вдруг ощутила такую пустоту… — Она едва сдерживала слезы. — И все вокруг вдруг потеряло смысл — я сама и даже Джханси — все. А потом пришли вести о красном ветре, разметавшем британские гарнизоны на севере — и даже здесь, в моем собственном государстве, сипаи поубивали их всех, и я ничего не смогла с этим поделать.
Она закусила губку, умоляюще глядя на меня и, если бы ее в этот момент могли видеть эти старые козлы из палаты лордов, то в один голос завопили бы: «Клянемся честью, она невиновна!» — и так три раза подряд.
— Да и что я могла сделать? Казалось, что империя — а я ненавижу империю — пала и мой собственный двоюродный брат, Нана, поднял знамя восстания. Оставаться безучастной к этому означало бы потерять Джханси, которое разорвали бы эти шакалы из Орчи и Гвалиора или даже сами же сипаи… о, но ты ведь британец, так что не сможешь этого понять!
— Дорогая моя, — сказал я, — тебе нет нужды оправдываться передо мной или еще перед кем-либо. Что же еще ты могла сделать? — Это не было случайным вопросом. — Но, знаешь, это все не имеет значения — вот почему я здесь! Все снова может пойти хорошо — по крайней мере, ты будешь спасена, а ведь только это и важно.
Рани посмотрела на меня и ответила почти беспечно:
— Теперь, когда ты вернулся, мне уже все равно.
И она снова наклонилась, нежно поцеловав меня в губы.
— Ты должна выслушать, — сказал я, — смотри, я прибыл от генерала Роуза, а то, что он предлагает, следует от самого лорда Каннинга из Калькутты. Они хотят спасти тебя, моя дорогая, если ты позволишь им сделать это.
— Они хотят, чтобы я сдалась, — бросила рани, вставая. — Она отошла, чтобы поставить кубок, затем повернулась, причем грудь ее бурно вздымалась, а грустное лицо было опущено. — Они хотят, чтобы я отдала им мой Джханси.
— Дорогая, княжество и без того потеряно. В любой день они могут взять стены штурмом, и это будет конец. И ты, и твои советники должны понимать это. Даже Игнатьев — кстати, какого дьявола он делает здесь?
— Он был здесь — и в Мируте, и в Дели — везде, с самого начала. Обещал помощь русских, разжигал восстание, как ты говоришь, от имени своего царя. — Она нервно взмахнула рукой в жесте бессилия. — Не знаю… поговаривали о русской армии за Хайберским перевалом — некоторые приветствовали эту весть; что же до меня… я боялась этого — но теперь все это не имеет значения. Полагаю, что Игнатьев останется до тех пор, пока сможет вредить твоему правительству… если Джханси падет, он двинется к Тантии или к Нана. — И тут она, задумчиво пожав плечами, добавила несколько слов, от которых мурашки так и забегали у меня по спине: — Если, конечно, я не убью его за все, что он сделал с тобой.
«Всему свое время», — радостно подумал я и перешел к более насущным делам.
— Но они хотят не Джханси, а тебя. — Принцесса широко открыла глаза, услышав это и я поспешно продолжал: — Они не могут вести переговоров с мятежниками — ведь половина твоего гарнизона — панди, которым не на что надеяться, ведь для них помилования не будет. Так что британцы возьмут город штурмом — что бы вы ни делали. Но тебе хотят сохранить жизнь — если ты сдашься, одна, и тогда они не станут… — я не смог взглянуть ей в глаза, — … наказывать тебя.
— Почему они решили пощадить меня? — на минуту в ее глазах вновь зажегся огонек. — А кого еще они пощадят? Зачем бы им оставлять меня в живых — когда они разрывают людей пушками, вешают их без суда и жгут города? Разве они пощадят Нана, Тантию или Азимулу? Так почему же решили сжалиться над рани Джханси?
На это трудно было найти ответ — по крайней мере, правдоподобный. Она вряд ли бы поверила, если бы я сказал, что это всего лишь политика, чтобы успокоить народ.
— Разве это имеет значение? — спросил я. — Каковы бы ни были их резоны…
— Неужели это из-за того, что я — женщина? — принцесса сказала это очень мягко и, вернувшись, остановилась прямо передо мной. — А британцы не воюют с женщинами? — она пристально смотрела на меня. — Или потому, что я красива? И они хотят привезти меня в Лондон, как это делали со своими пленниками римляне, чтобы показывать на потеху толпе.
— Это не в наших правилах, — отрезал я, — конечно же, мы не воюем с женщинами… И, видишь ли, ты… ну, ты — совсем другая…
— Для них? Для лорда Каннинга? Для генерала Роуза? Они же не знают меня. Что им за дело? Почему кто-либо из вас должен… — И тут она замолчала, снова опустившись на колени, а губы ее задрожали. — Это ты? Ты просил их — за меня? Ты приехал от самого лорда Палмерстона? Неужели ты просил их спасти меня?
Клянусь святым Георгом, вот мяч, который абсолютно неожиданно попал мне прямо под ноги! Мне и в голову не приходило, что она подумает, что за этим предложением Роуза стою я. Но теперь шансы возросли, и я понял, что смогу добиться своего — но только осторожно. Так что я взглянул на нее со спокойной и нежной улыбкой, заставил себя покраснеть, а затем перевел взгляд на ковер — весь само благородство и молчаливое достоинство. Она протянула руку и приподняла мой подбородок и, нахмурившись, посмотрела мне прямо в глаза.
— Неужели ты сделал это и рисковал жизнью, чтобы пробраться сюда — и все ради меня? Ответь мне.
— Ты же знаешь, что я про тебя думаю, — произнес я, напустив на себя самый романтический вид. — Я полюбил тебя с той самой секунды, как только увидел — на твоих качелях. Полюбил больше всего на свете.
И, заметьте, в то мгновение это не были просто слова. Я действительно любил ее — и крепко, по крайней мере, тогда. Осмелюсь сказать все же, что не так крепко, как Элспет — хотя, если поставить их рядом и обоих раздеть, то пришлось бы еще хорошенько подумать, прежде чем сохранить верность Англии. В любом случае мне нетрудно было выглядеть откровенным — особенно, при виде этого соблазнительного тела, трепещущего перед самым моим носом.
Рани молча смотрела на меня своими странными печальными глазами, а затем вдруг почти прошептала:
— Сегодня ночью я ни о чем не думала… Лишь понимала, что ты снова со мной, после того как я считала тебя погибшим. Мне все равно — искренне ты любишь меня или нет — главное, что ты снова со мной. Но сейчас… — она опять очень странно посмотрела на меня, по большей части с грустью и при том — с оттенком недоумения, — … сейчас, когда ты сказал, что это… что ты сделал это из любви ко мне…
Мне показалось, что она снова бросится мне на грудь в слезах, но спустя мгновение она лишь поцеловала меня, совсем легко и спросила:
— Что же они хотят от меня?
— Чтобы ты сдалась — только ты, лично. Не более того.
— Но как? Если город будет взят, бунтовщикам не видать пощады, и как же я…
— Не волнуйся за это, — прервал я, — все можно устроить. Если я скажу как — согласишься ли ты?
— Если ты останешься со мной после этого. — Ее глаза смотрели на меня — мягко, но упорно. — Тогда я сделаю все, что они потребуют.
Роуз говорил, что его послание будет вполне убедительным, но готов поклясться, что он и не рассчитывал на подобный успех — клянусь святым Георгом, его похотливые штабные не поверят своим глазам.
— Когда начнется штурм города, — начал я, — наши парни будут прорываться в крепость. Ты должна быть готова бежать — через ворота Орча. Мы отведем оттуда кавалерийские пикеты, так что это можно будет сделать вполне безопасно. Ты должна поскакать дальше по дороге в Орчу — на которой тебя и захватят. Это будет похоже на… в общем, все будет в порядке.
— Понимаю, — печально кивнула она, — но что будет с городом?
— Ну, конечно же, он будет взят, но грабежей не допустят — Роуз лично обещал это. И твоим людям ничего не грозит, если они не будут сопротивляться. Что же касается бунтовщиков… ну, что ж, им все равно не избежать своей участи.
— А что они хотят сделать… со мной? Они… они заключат меня в тюрьму?
Насчет этого я не был уверен, так что должен был говорить осторожно. Наверняка принцессу собирались выслать, по крайней мере куда-нибудь в отдаленную часть Индии, где никто бы не мог причинить ей вреда, но говорить ей об этом сейчас не было смысла.
— Нет, — сказал я, — вот увидишь, они будут обращаться с тобой очень хорошо. А потом — ты же понимаешь, что все утрясется. Знаешь, сколько раз местные князьки и вожди племен обнажали свое оружие против Британии? Но войны заканчивались — мы снова становились лучшими друзьями и все такое прочее. Никаких тяжелых чувств, видишь ли — мы, британцы, не мстительны, даже либералы…
Я улыбнулся, чтобы ободрить ее и после некоторого колебания она улыбнулась мне в ответ и одарила меня весьма откровенным взглядом, вроде бы поверив всему, что я говорил — так что я снова подумал, что хорошо бы было хоть ненадолго развязать мне руки — меня всего так и распирало от ее близости — но в ответ на просьбу об этом рани лишь покачала головой и сказала, что нужно немного подождать, чтобы не возбуждать подозрений. Она поцеловала меня на прощание и попросила потерпеть еще немного; нам нужно было рассчитать время в соответствии с планом Роуза и, поскольку ее люди не должны были знать о нем, приходилось по-прежнему изображать из себя пленника, но принцесса пошлет за мной, когда это будет возможно.
— А потом мы уедем вместе и, может… лишь с несколькими преданными людьми? — Она держала мое лицо в ладонях и смотрела в глаза. — И ты будешь… защищать и любить меня… когда мы окажемся под властью Сиркара?
«Тебе это даже успеет надоесть, моя дорогая гурия», — подумал я — но, ничего не сказав в ответ, просто поцеловал ей руки. Затем рани поправила свою вуаль и озабоченно глянула в зеркало, прежде чем снова усесться на диване; было забавно видеть, как она дарит мне последнюю, угасающую улыбку и тут же, на глазах, ее лицо превращается в ледяную маску. Я почтительно замер, стоя посреди комнаты со связанными за спиной руками. Принцесса ударила в маленький гонг, при звуке которого Шер-Хан, толстый камергер и куча женщин появились со скоростью деревенской пожарной бригады.
— Проводите этого пленника в северную башню, — сказала она, будто я совсем уже не мог идти. — Не стоит обращаться с ним слишком сурово, но не спускайте с него глаз — ты отвечаешь за это головой, Шер-Хан.
Меня быстренько утащили прочь, но я подозреваю, что Шер-Хан все же учуял своим хитрым пуштунским носом — что-то здесь не так, поскольку на протяжении всех последующих дней он был для меня самым заботливым тюремщиком, какого только можно себе представить. Он отлично кормил меня, лично таская еду и напитки, следил за тем, чтобы мне было удобно, насколько это позволяли скромные размеры камеры, и оказывал мне всяческие знаки уважения — заметьте, это было вполне естественно, если принять во внимание еще и мою афганскую репутацию.
Обустройство заняло несколько часов, после чего я принялся обдумывать ситуацию, и когда подвел итог, оказалось, что не все так уж и плохо. Несмотря на мои ноющие суставы и ободранные конечности, я чувствовал себя вполне сносно и был чертовски благодарен за это судьбе. Что же касалось будущего — я всегда считал, что план Роуза просто нереален, но не предполагал, что Лакшмибай так увлечена мной. Втюрилась, это понятно — редкая женщина устоит перед Флэши, но сила ее страсти сбивала с толку. Впрочем, почему бы и нет? Я знал, что такое случалось и раньше, причем, как правило, с женщинами подобного сорта — высокородными, избалованными, которых всю жизнь окружали мужчины, привыкшие пресмыкаться и льстить — так что если вдруг появлялся настоящий отчаянный парень вроде меня, который относился к ним просто как к бабам, а не королевам — они сдавались. Для них было нечто новое в том, чтобы видеть рядом с собой большого здорового малого, который отнюдь не смущен их величием, а все поглядывает на них лукавым глазом, ведет себя почтительно, но в то же время не перестает добиваться их благосклонности. Это и сбивало их с толку, и нравилось им, так что если вам удавалось затащить таких женщин в постель и показать им, чего они себя лишают — что ж, потом они просто с ума сходили от любви к вам.
Так было с герцогиней Ирмой и с этой дикой черномазой шлюхой Ранавалуной на Мадагаскаре (хотя та была настолько чокнутой, что ручаться невозможно), так почему бы подобное не могло случиться с рани Джханси? Ведь ее старый муж был ни рыба ни мясо во всех отношениях, и скольких бы молодых жеребцов она после него ни перепробовала, ни один из них не обладал моими манерами. Да, это был весьма ценный подарок судьбы, да вдобавок еще и весьма лестный.
Что же до сдачи в плен — рани отнюдь не глупа. Это для нее хороший выход, причем гораздо более верный и безопасный, чем она могла на то рассчитывать, тем более — под крылышком обожаемого Флэши, который, как она думает, будет защищать и лелеять ее до скончания дней… Я был не против заняться этим — на несколько месяцев, разумеется, что само по себе было намного больше, чем многие женщины могли бы от меня ожидать. Заметьте, я действительно был увлечен принцессой (и, в некотором смысле, люблю ее до сих пор), но рассуждал я вполне хладнокровно. В любом случае я не мог взять ее с собой в Англию, а значит, когда придет время, ей суждено лишь помахать мне на прощание — впрочем, как и многим другим.
Между тем я мог только ждать, причем в некотором возбуждении, так как Роуз готовился нанести удар. Когда на следующий день в городе разразилась страшная канонада, сопровождаемая воем туземных труб и грохотом барабанов, я уж было думал, что приступ начался, но, как позже рассказал мне Шер-Хан, тревога оказалась ложной. Вроде бы Тантия Топи внезапно появился у города, во главе двадцатитысячной армии мятежников, чтобы попытаться снять осаду с Джханси. Роуз же, по своему обыкновению, хладнокровный, как карп, оставил тяжелую артиллерию и кавалерию продолжать осаду, а с остальными силами развернулся и задал отменную трепку Тантии у реки Бетва, в нескольких милях от города. В то же время он приказал провести демонстративную атаку на Джханси, чтобы отвлечь мятежников от мысли сделать вылазку на помощь Тантии; это и был шум, который я слышал. [XLV*]
— Это было слишком для наших бравых повстанцев в Джханси, — ухмылялся Шер-Хан. — Если бы мятежники решились на вылазку, ваша армия оказалась бы как орех между двух камней, но они предпочли подбадривать себя криками и жечь порох впустую. — Он сплюнул. — Пусть Сиркар проглотит их — и побыстрее.
Я напомнил пуштуну, что и сам он стоит на стороне мятежников, и если Джханси падет, участь бунтовщиков будет решена.
— Я не мятежник, — гордо заявил он, — а наемный солдат рани. Я ем ее соль и дерусь за нее — это так же верно, как то, что я из племени юсуфзаев — как и тогда, когда дрался за Сиркар в полку Проводников. Сахибы знают разницу между мятежником и солдатом, который исполняет свой долг; они будут обращаться со мной честно — если, конечно, я останусь в живых, — беспечно добавил он.
В своем роде это был еще один Ильдерим — более приземистый и безобразный, со сломанным носом и рябым лицом, но вылитый хайберский пуштун — до кончиков ногтей.
— Если только британцам хоть немного повезло, то они уже могли бы повесить нашего русского друга, — продолжал он ухмыляясь. — Ночью он выехал из города, чтобы присоединиться к Тантии, и до сих пор не вернулся. Это хорошая новость, Ифласс-ман-хузур?
Но так ли это? Конечно же, Игнатьев был бы дураком, если бы остался в Джханси — после взятия города мы бы повесили его как иностранного шпиона, так что он вполне разумно предпочел присоединиться к главным мятежникам в открытом поле. Мне было легче сознавать, что он теперь был подальше, но все же я сомневался, что граф позволит убить себя или взять в плен, — для этого он был слишком стреляным воробьем.
Разгром Тантии означал для меня, что Роуз не будет больше терять времени и бросится на штурм Джханси, но прошли еще день, и еще ночь, которые я провел дрожа и ожидая приступа, а все еще ничто, кроме отдаленного гула канонады, не нарушало тишины в моей камере. Это продолжалось до третьей ночи, когда почти сразу после полуночи вдруг началась жестокая бомбардировка города, которая продолжалась почти до самого рассвета, а затем я услышал то, чего давно ожидал — треск ружейных залпов, оповещающий, что в дело вступила британская пехота, звуки взрывов в самом городе и даже отдаленное пение горнов.
— Они ворвались в город, — сказал Шер-Хан, когда принес мне завтрак. — Мятежники дерутся лучше, чем я думал, так что, говорят, на улицах теперь жарко. — Он довольно ухмыльнулся и похлопал по рукояти своего хайберского ножа. — Как думаешь, может, ее высочество прикажет мне перерезать тебе глотку, когда британцы пойдут в последнюю атаку на дворец? Хорошо кушай, хузур. — И эта скотина выкатилась за дверь, заливаясь смехом.
Было ясно, что рани не рассказывала ему о своих намерениях. Я понимал, что она, очевидно, ожидает ночи, чтобы бежать, но к тому времени наши парни могут оказаться уже перед самыми воротами цитадели. Так я думал, прислушиваясь к звукам выстрелов и взрывов, которые все настойчивее приближались, так что перед заходом солнца они уже раздавались всего в нескольких сотнях ярдов от нас — можете представить, как я кусал ногти, слыша это. Но наступила ночь, а звуки битвы все еще не стихали и я вроде бы слышал нечто, напоминающее отдаленные возгласы на английском, пробивающиеся сквозь вопли и стоны. Ночное небо в одном из окон моей комнаты вдруг окрасилось красным — судя по всему, Джханси умирал в тяжких мучениях.
Не помню, который был час, когда я вдруг услышал скрежетание засова моей темницы и вошел Шер-Хан с двумя стражниками, с факелами в руках. Они бесцеремонно вытащили меня наружу и провели вниз по узким каменным ступеням и переходам в маленький внутренний дворик. Луна еще не взошла, но было уже достаточно светло — над стенами вставало багровое зарево, а воздух был тяжелым от порохового дыма и гари пожаров. Треск мушкетов доносился теперь почти из под самых стен цитадели.
Двор был набит личными гвардейцами рани в красных мундирах, а невдалеке от узких ворот я заметил стройную фигуру верхом на белой лошади, в которой сразу распознал Лакшмибай. Рядом с ней было несколько гвардейцев, тоже верхом и несколько ее придворных женщин — также в седлах, с плотно закутанными в вуали лицами; один из всадников держал перед собой в седле ребенка: это был ее приемный сын Дамодар. Я хотел было уже позвать ее, но Шер-Хан неожиданно остановился рядом, раздался лязг металла и вокруг моей левой лодыжки обвилась цепь. Прежде чем я успел даже запротестовать, он подтолкнул меня к лошади, прорычав: «Лезь, хузур!» и, стоило мне только взобраться в седло, как он продел короткую цепь под брюхом животного и закрепил кандалы на моей правой ноге, так что я был надежно прикован к своему скакуну.
— Какого дьявола? — воскликнул я, но пуштун лишь рассмеялся. Вскакивая на соседнюю лошадь.
— Пришпоривай, хузур! — сказал он. — И не волнуйся, все это — по приказу ее высочества и, несомненно, исключительно для твоей собственной безопасности. Трогай!
И он дернул мой повод, направляя лошадь через площадь; небольшая группка у ворот уже скрылась из виду и через минуту-другую мы понеслись по узкому крутому переулку, сжатому с обеих сторон высокими каменными стенами — Шер-Хан чуть впереди меня и другой пуштун — сразу же за спиной.
Я не знал, что обо всем этом подумать, пока до меня вдруг не дошло: рани не собирается держать свою поездку в полном секрете — ее спутники знают, что принцесса решила бежать, но и не догадываются, что она решила сдаться британцам. Так что для вида я и дальше должен был изображать пленника. Я бы предпочел, чтобы она заранее дала мне какой-нибудь тайный знак и позволила ехать рядом — мне совсем не улыбалось заблудиться в темноте и наткнуться на кавалерию осаждающих.
Однако пока делать было нечего. Наша маленькая кавалькада скакала все вниз по переулкам, то и дело поворачивая, а затем выехала на более широкую улицу — по обе ее стороны горели дома, но не было видно ни души и треск стрельбы становился все глуше. Мы проехали мимо нескольких костров, едва освещающих тьму и какие-то хибары вокруг, и вот впереди показался свет факелов и высокие тяжелые ворота. Рядом с ними толпились еще гвардейцы рани. Я видел, как ее белая лошадь остановилась, а принцесса наклонилась в седле, чтобы посоветоваться с командиром стражи, и ждал, а сердце у меня гулко билось от волнения, пока офицер наконец не отступил в сторону и прорычал приказ. Двое стражников отодвинули тяжелый засов на главных воротах, мгновением позже мы просочились сквозь них и я понял, что копыта лошадей стучат уже по дороге в Орчу.
В тени огромных ворот было темно, как в аду, но в полумиле впереди мерцали огни костров наших пикетов и время от времени виднелись вспышки огня, когда все новые орудия присоединялись к бомбардировке города. Шер-Хан зажал мой повод в кулаке и мы двинулись вперед — сначала шагом, а затем — легкой рысью. Вначале скакать по твердой широкой дороге было легко, но затем смутные фигуры всадников впереди нас вроде бы свернули куда-то вправо, а когда мы последовали за ними, копыта моей лошади вдруг мягко застучали по рыхлой земле — похоже, мы свернули с дороги через майдан — и тут у меня зародились первые сомнения. Зачем мы свернули? Путь к безопасности лежал прямо, вдоль по дороге, где нас должны были ждать пикеты Роуза — рани знала это, даже если ее спутники об этом и не догадывались. Неужели она не понимала, что так мы можем заблудиться и наткнуться на кавалерийские разъезды, которые о нашем появлении не предупреждены? В любом случае время недомолвок прошло — мне пора быть рядом с ней и взять все дело в свои руки — иначе один Бог знает, куда нас занесет. Но стоило мне только напрячься в седле, чтобы ударом каблуков послать своего скакуна вперед, как рука Шер-Хана скользнула от моего запястья к уздечке, блеснула сталь, острие хайберского ножа уткнулась мне прямо между ребер, а пуштун прошипел из темноты:
— Ни звука, Кровавое Копье — одно лишь слово — и второе ты скажешь уже самому шайтану!
Шок от всего этого парализовал меня — но только на мгновение. Это прикосновение восемнадцати дюймов острой, как бритва, стали убедительнее всего превратило мое легкое сомнение в стофунтовую уверенность: что-то идет не так. И прежде чем мы проскакали еще пять шагов, я пришел к самому ужасному выводу: принцесса бежит, это ясно, но не в руки Роузу, как я это планировал — она просто использовала предоставленную мной информацию, но только по-своему! Прозрение обрушилось на меня сплошным хороводом мыслей — я вспомнил все эти ее возражения, ее причитания надо мной, глаза, наполненные слезами, ее губы на моих губах, страстные объятия — так все это было притворство? Но, ради всего святого, этого же не может быть! Она же просто вилась вокруг меня, как сумасшедшая школьница… но сейчас мы все же скакали (и все быстрей) в неизвестном направлении, а нож упирался мне в бок. Неожиданно впереди раздался окрик, потом тревожный вопль, всадники пришпорили коней, шарахнул мушкетный выстрел и Шер-Хан заорал прямо мне в ухо:
— Скачи, феринджи — и скачи прямо, не то я разрежу тебя на кусочки!
Он дернул за уздечку и потянул мою лошадь вперед, так что через секунду я волей-неволей уже летел в полном мраке рядом с ним, а впереди мелькали тени и раздавался топот копыт. Левее прогрохотало еще несколько выстрелов, раздались крики и пули просвистели над головой; я бросил поводья, положившись на чутье своего пони и заметил костры пикета всего в нескольких сотнях ярдов. Но что я мог сделать, когда с одной стороны у меня скакал Шер-Хан, а с другой — еще один пуштун? Я не мог скатиться с седла, даже если бы и решился — все из-за этой дьявольской цепи под брюхом моей лошади. Не мог я и повернуть, иначе нож вонзился бы прямо мне в спину — я мог только нестись галопом, проклиная свою идиотскую наивность и моля Бога, чтобы не наткнуться на клинок или пулю. Куда, черт побери, мы мчимся — может, все это лишь ужасная ошибка? Нет, это предательство, и теперь я точно знал это. Огни пикета переместились ближе к нашему флангу, послышалось еще несколько выстрелов, где-то впереди заржала лошадь и мой скакун перемахнул через какую-то темную массу, бьющуюся на земле, а Шер-Хан по-прежнему несся бок о бок со мной. За нами пропела труба и послышались отдаленные крики; впереди стучали копыта и виднелись смутные силуэты всадников рани, мчащихся изо всех сил. Было ясно, что мы прорвались и с каждым шагом все дальше удалялись от Джханси, Роуза и безопасности.
Не знаю, сколько продолжалась эта бешеная скачка и в каком направлении мы неслись — я был слишком поражен всем случившимся, чтобы ломать голову над этим. Я не знал, что и думать — рани не могла так жестоко предать меня — после того, что она говорила, после того как ласкала мое лицо и так смотрела на меня? Но я все же понимал, что так и случилось — мое недоверие было лишь следствием уязвленного тщеславия. Боже, а я-то думал, что бессовестней меня нет лжеца во всем мире! И вот я здесь, несусь к черту на рога, обманутый и похищенный отрядом этой вероломной мятежной шлюхи — или я все же ошибаюсь и всему этому, в конце концов, найдется объяснение? Конечно, мне все еще хотелось в это верить, настолько я увяз, питая бесплодные надежды.
В любом случае здесь нет смысла приводить все аргументы «за» и «против», которые я придумывал во время той безумной скачки, пока мы незаметно пролетали милю за милей. Мрак понемногу начал рассеиваться и перед нами в дымке открылась изрытая равнина. Шер-Хан по-прежнему нависал надо мной бородатым призраком, сверкая зубами над гривой своего коня. Всадники вокруг все еще гнали своих измученных лошадей во весь опор; почти в сотне ярдах впереди я мог разглядеть стройную фигурку Лакшми на белом скакуне, окруженную пуштунами. Все это напоминало пьяный кошмар — изнуряющая скачка все вперед и вперед, по бесконечной равнине.
Откуда-то с боку раздался крик и один из пуштунов приподнялся на стременах, всматриваясь вдаль. Грянул выстрел, я заметил алый отблеск пламени слева от нас, и там же появилась небольшая группа всадников, несущихся во весь опор, — их было почти вдвое меньше, чем в отряде рани, но это — клянусь Богом — была кавалерия Компании! Они заезжали так, чтобы ударить с фланга по нашим передовым, как это принято в легкой кавалерии, и я хотел было уже завопить от радости, но Шер-Хан вновь ухватился за мою уздечку и потянул мою лошадь вправо, а остальные пуштуны-гвардейцы выхватили сабли и встали в круг, обратившись лицом к атакующим. Я смотрел, как они столкнулись, с воплями и лязгом клинков; тучи пыли взвились из-под копыт и закрыли всю картину. Шер-Хан вместе со своим помощником все тянули меня прочь, но, полуобернувшись в седле, я видел, как сверкают сабли и лошади бьют копытами, вставая на дыбы — кавалеристы Компании пытались прорваться.
Пуштуны подались было под их натиском, прикрывая отступление еще одного всадника, и я заметил, что это была какая-то из женщин рани — а затем все больше фигур стали выныривать из облака пыли и в одной из них я узнал Лакшмибай, на которую, размахивая саблей, бросился один из кавалеристов. Я услышал, как Шер-Хан тревожно вскрикнул, заметив, как ее белая кобыла как будто споткнулась, но рани, дернув за узду, заставила ее оправиться; в руке у принцессы тускло блеснула сталь, и когда британский кавалерист бросился на нее, она резко склонилась над шеей животного в молниеносном выпаде — сабли лязгнули друг о друга и зазвенели, а спустя мгновение лошади уже разнесли всадников, и противник принцессы судорожно зажимал рану, сползая с седла. [XLVI*]
Это все, что мне удалось увидеть, перед тем как Шер-Хан вместе со своим товарищем отконвоировали меня ко входу в маленький нуллах, где мы остановились и переждали, пока шум стычки не замер вдали. Я знал, что произошло, так же хорошо, как если бы сам видел это — в схватке на саблях кавалеристы Компании были отброшены и сейчас пуштуны наверняка уже в полном порядке спускаются к ущелью, сомкнув строй вокруг Дамодара и женщин; одной из последних подъехала сама Лакшмибай.
Впервые за время нашего ужасного бегства я мог ее как следует рассмотреть. Под длинным плащом на ней была одета кольчужная куртка, поверх тюрбана блестел стальной шлем, а в руке она все еще сжимала саблю, с лезвия которой капала кровь. На минуту рани остановилась рядом со всадником, который вез Дамодара и заговорила с ребенком. Потом она засмеялась, что-то сказала одному из пуштунов и передала ему свою саблю, а сама вытерла лицо носовым платком. Затем она оглянулась на меня и остальные, в полной тишине, последовали ее примеру.
Как вам известно, я уютно чувствую себя в любом обществе и всегда готов поддержать разговор вежливой фразой или жестом, но вынужден признаться, что в этот момент абсолютно не знал, что сказать. Представьте, что вас только что предала индийская королева, которая незадолго перед тем признавалась вам в неземной любви — и вот вы оказались лицом к лицу, а на ее сабле еще не высохла кровь вашего соотечественника, которого она рубанула, возможно, насмерть; вы в лапах ее сообщников, а ваши ноги скованы цепью под брюхом лошади… вряд ли тут придется думать о соблюдении этикета. Полагаю, что мне понадобились одна-две минуты, чтобы прийти в себя и сообразить, что же делать: разразиться бранью, молить о пощаде или задать вежливый вопрос, но прежде чем я попытался что-то сказать, рани сама обратилась к Шер-Хану:
— Отвезешь его в Гвалиор, — ее голос был тихим и абсолютно спокойным. — Стереги его там, пока я не пошлю за тобой. В крайнем случае этот пленник станет моим выкупом.
XIII
Можете сказать, что это было в моих интересах, и я не могу с вами не согласиться. Если бы я не был таким доверчивым всегда, когда имел дело с хорошенькими женщинами, то осмелюсь заметить, смог бы почувствовать неладное еще в ту самую ночь, когда Лакшмибай спасла меня от пыток Игнатьева, а позже бросилась мне на грудь в своей пропахшей духами комнате. Более хладнокровный парень на моем месте, возможно, и заметил бы, что леди слишком бурно протестовала перед палачом, и позже был бы начеку, когда она так пускала слюни от нежности в будуаре, клянясь ему в вечной любви и безоговорочно принимая предложение своего спасения. Возможно, хотя я и не уверен в этом.
Что же касается меня, то у меня не было ни малейших оснований заподозрить ее в вероломстве. В конце концов, наша предыдущая встреча закончилась неким чрезвычайно занимательным событием в павильоне, которое заставило меня предположить, что принцесса ко мне не вполне равнодушна. Во-вторых, принятие ею предложения Роуза выглядело вполне естественным и разумным. В-третьих, я сам пошел на то, чтобы попасть к ней в руки, и, в-четвертых, полумертвый от висения на дыбе, я, возможно, соображал несколько хуже обычного. И, наконец, я уверен, что если бы вы оказались на моем месте перед Лакшмибай, когда на вас так умоляюще смотрели большие блестящие глаза на темном лице, а соблазнительные груди колыхались перед самым вашим носом — готов поклясться, что вы готовы были отдать даже жизнь и были бы этому рады.
В любом случае это не имело никакого значения — если бы я даже подозревал ее, то все же был в ее власти, так что она все равно могла вытянуть из меня детали плана Роуза и сбежала бы в любом случае. А меня бы потащили за ней и могли бы прикончить в темнице Гвалиора. Заметьте, я до сих пор не уверен, насколько именно принцесса обманывала меня; одно только знаю точно — если все это было притворством, то она могла бы гордиться такой работой.
Так что уж я предпочитал Гвалиор. Это ужасное место — огромная крепость на скалах, возвышающаяся над городом, еще большим, чем Джханси, которую считали самой неприступной во всей Индии. Я могу с полной ответственностью говорить только насчет ее подземелий, которые гораздо страшнее мексиканских тюрем, если вы можете себе это представить. Я провел в них большую часть последующих двух месяцев, закупоренный в настоящем каменном мешке — бутылкообразной камере, среди собственных нечистот, а также крыс, блох и тараканов в качестве единственной компании. Исключение составлял Шер-Хан, который где-то раз в неделю приходил меня проведать, чтобы удостовериться, что я еще не умер.
Он, вместе с двумя приятелями-пуштунами, привез меня в эту крепость, исполняя приказ рани, и это была самая мучительная скачка в моей жизни. К тому времени, когда мы достигли Гвалиора, я почти потерял сознание, мотаясь в седле, потому что эти скоты и не подумали снять с меня цепи, несмотря на то что мы проскакали сотни миль. Полагаю также, что мой дух пострадал еще более моего тела, так как после всех этих ужасных испытаний я вдруг почувствовал, что мне уже все равно, жив я или умираю — просто хотелось, чтобы все это поскорее закончилось. Когда среди ночи меня привезли в Гвалиор, почти волоком втащили в крепость и швырнули в вонючую, тускло освещенную камеру, я только лежал и всхлипывал, как младенец, бормоча в бреду что-то о Мируте, Канпуре и Лакноу, про тугов, крокодилов, злобных шлюх и все такое прочее. Мог ли я себе представить, что все самое худшее мне еще предстояло испытать?
Однако не будем забегать вперед. Пока я торчал в подземельях Гвалиора, ожидая сам не зная чего, почти уверившись, что я останусь здесь до самой смерти, если раньше не сойду с ума, в драме Мятежа разыгрывались заключительные акты. Кэмпбелл навел порядок к северу от Джамны, а Роуз, овладев Джханси, двинулся на север, по пятам Тантии Топи и моего ангела-хранителя Лакшмибай, которая присоединилась к своему кузену. Роуз разбил их при Калпи и Канче и отбросил к Гвалиору, где я наслаждался прелестями местного гостеприимства. Любопытной деталью всего происходящего было то, что, пока я заживо гнил в камере, правитель Гвалиора, махараджа Сциндия, не принимал участия в мятеже и не должен был позволять использовать свои темницы для содержания пленных британских офицеров. Фактически, конечно же, он сам (или его главные советники) все время сочувствовали мятежникам, как это в конце концов и выяснилось. Поскольку после поражения при Калпи, Тантия и Лакшмибай повернули к Гвалиору и армия махараджи без единого выстрела перешла на их сторону. Так что все они собрались здесь — последние силы индийских мятежников в стенах самой мощной твердыни страны — а Роуз неумолимо приближался.
Конечно, тогда я ничего обо всем этом не знал; валяясь в своей тесной камере, с отросшей бородой и спутанными волосами, в грязных и вонючих лохмотьях мундира панди (который мне так и не удалось снять ни разу после того, как я надел его в лагере Роуза), я был одинок, словно на Северном полюсе. День шел за днем, неделя — за неделей, без малейшей весточки о том, что творится в мире, поскольку Шер-Хан едва перебрасывался со мной парой слов, несмотря на то что я приставал к нему с мольбой и угрозами всякий раз, когда его бородатая рожа показывалась у окошка в двери моей камеры. Самое страшное в таком заключении — ничего не знать об окружающем; потерять счет дням, не зная, прошел ли месяц или уже целый год, и существует ли в действительности мир за пределами тюрьмы, сомневаясь уже, не сон ли это — что я когда-то был маленьким мальчиком, играющим в полях Рагби, или уже мужчиной, гулявшим в Гайд-парке или катавшимся верхом к Альберт-Гейт, приветствуя леди, играющим в бильярд, скакавшим вслед за собаками на охоте, путешествующим по Миссисипи на колесном пароходе или смотрящим, как луна восходит над рекой Кучинг — можно было усомниться даже в том, что все это где-нибудь существует, а тогда эти мрачные стены, окружающие меня, и есть весь мир, который когда-либо существовал или будет существовать… тогда ты начинаешь постепенно сходить с ума, если только нет возможности сосредоточиться и думать о чем-то по-настоящему для тебя реальном.
Я слышал про парней, которые удерживали себя, чтобы не сойти с ума в одиночном заключении, пением всех известных им псалмов или пытаясь доказать теоремы Евклида или вслух читая стихи. Но у каждого свой вкус: я не испытываю особой склонности к религии или геометрии, а единственной поэмой, которую я помнил, была одна из од Горация, которую Арнольд заставил меня выучить в наказание за то, что я как-то пустил ветры во время молитвы. Так что вместо этого я вспоминал всех женщин, с которыми в жизни мне удалось переспать — от сладенькой кухарочки в Лестершире, когда мне было пятнадцать, до полукровки, за которую я получил выговор в Канпуре и, к моему удивлению, насчитал целых четыреста семьдесят восемь, что, по моему мнению, было вполне достаточно, особенно если учесть, что я не считал повторных связей. Поразительно, когда задумаешься о том, сколько на все это должно было уйти времени.
Возможно, оттого, что я вспоминал всех моих женщин, однажды ночью мне приснился страшный сон, в котором я танцевал со всеми ими на балу, который проходил прямо на палубе «Бэллиол Колледжа», причем сам капитан Спринг вполне демократично дирижировал оркестром, в шляпе с пером и белых перчатках. Здесь были все — Лола Монтес, Жозетта и Джуди (любовница моего папаши-сатрапа), и Сьюзи из Нового Орлеана, и толстая баронесса Пехман, и танцовщица Нариман, и остальные, причем все приковывали себя ко мне кандалами, так что я вынужден был танцевать, изнывая от тяжести, звеня цепями и почти плача от измождения. А когда я просил немного отдохнуть, Спринг лишь закатывал глаза и заставлял музыкантов играть все быстрее, а барабан бил все громче… Элспет с Палмерстоном вальсировали рядом и Пам протягивал ей свои вставные зубы, крича: «Вам они понадобятся, чтобы есть чапатти с вашим следующим партнером». — И тут появилась Лакшмибай, обнаженная, с глазами, блестящими под вуалью; она обхватывала меня и валила на палубу, полумертвого от усталости и груза кандалов, а барабан все бил — бум-бум-бум — все быстрее и быстрее… И тут я проснулся, задыхаясь и цепляясь руками за пучки грязной соломы, а ушей моих вдруг достиг отдаленный гул канонады.
Пушки гремели весь этот день и весь следующий, но, конечно же, я не мог сказать, что это означает или кто это стреляет, к тому же я был слишком измучен, чтобы об этом задумываться. Утром на третий день канонада продолжилась, и вдруг дверь моей темницы распахнулась и Шер-Хан с каким-то другим малым выволокли меня наружу. Я долго не мог понять, где нахожусь, когда вас неожиданно извлекают из каменного мешка, все вокруг кажется неимоверно громким и быстрым. Помню, меня проволокли через внутренний дворик, набитый черномазыми солдатами, которые, крича, сновали во все стороны; пели трубы и канонада стала вроде бы громче — но шок от освобождения был слишком сильным, чтобы я мог понять смысл всего происходящего. Я почти ослеп от яркого света, хотя небо было сплошь закрыто багрово-черными муссонными облаками, и, помнится, подумал, что скоро погода должна измениться.
Я пришел в себя не прежде, чем меня усадили на лошадь — полагаю, дело тут в инстинкте, но когда я ощутил под собой седло, почувствовал, как животное натягивает поводья, втянул ноздрями запах лошади и уперся ногами в стремена, то как бы проснулся, Помню, прямо передо мной возвышались массивные ворота крепости Гвалиора, и трубящий слон втягивал сквозь них громадную пушку, а отряд кавалерии какого-то черномазого принца, в красных мундирах, ждал возможности выехать, помню царящую суматоху и крики приказов. Шум вокруг все еще казался оглушительным, так что, когда Шер-Хан вскочил на своего пони рядом со мной, я прокричал:
— Что случилось? Куда мы едем?
— Она хочет видеть тебя! — проревел он и с ухмылкой похлопал по рукояти своего меча. — А значит, она тебя увидит. Пошевеливайся!
Он проложил нам дорогу через толпу, клубящуюся у ворот, а я следовал за ним, все еще впитывая картины и звуки окружавшего меня сумасшедшего дома, все что я знал, но позабыл — люди и повозки, пыль и звон оружия; бхисти, бегущие с бурдюками воды; отряд пехоты-панди, сидящих на корточках у обочины дороги, с мушкетами, зажатыми между колен; ребенок, пробирающийся под животом буйвола; широкогрудый парень в остроконечной шапке, с зеленым знаменем на древке, положенном на плечо; долговязый старый негр, бесцельно шатающийся туда-сюда; запах горелого жира, и и покрывающий все звуки гул далеких пушек.
Когда мы выехали за ворота, я привстал на стременах, пытаясь разобраться, что происходит. Канонада — значит, британские войска уже где-то близко и то, что я увидел, убедило меня в этой мысли. Передо мной на многие мили до дальних холмов расстилалась открытая равнина и вся она просто кишела людьми, животными и всякими орудиями войны. Где-то в миле впереди из тумана выступали ряды палаток — это, несомненно, был лагерь пехоты; за ними виднелись позиции артиллерии, двигались конные эскадроны — на фронте около двух миль в ширину разворачивалась целая армия. Шер-Хан увлекал меня все вперед, а я пытался сосредоточиться — несомненно, это была армия повстанцев, поскольку я видел отряды панди, проходящие мимо нас в тыл, мелькали туземные пехотинцы и кавалеристы в незнакомых мне мундирах, воины в темно-красных плащах, с маленькими щитами и кривыми тулварами, а также отряды канониров, сопровождающие пушки, причудливо изукрашенные литыми узорами в национальном духе.
Это было первым важным фактом; второй же состоял в том, что они отступают, даже находятся на грани бегства — войска двигались прямо нам навстречу и дорога была просто запружена людьми, животными и повозками, направляющимися к Гвалиору. Артиллерийская упряжка едва вытягивала орудие, канониры налегали на колеса, а офицер хлестал лошадей; взвод стрелков-панди прошел ускоренным маршем — их ряды были неровными, лица покрыты масками из пота и пыли — все люди на дороге почти бежали, время от времени оглядываясь, поодиночке или маленькими группами. Я достаточно часто видел эти картины раньше — задыхающиеся рты, широко распахнутые, дикие глаза, кровавые бинты, сорванные охрипшие голоса, полубеспорядочное отступление, грозящее вот-вот перерасти в паническое бегство. Брошенные на обочине мушкеты, изможденные люди, сидящие и валяющиеся на дороге, тщетно взывающие к проходящим — клянусь Богом, все это были признаки поражения! И Шер-Хан тащил меня прямо в гущу всего этого.
— Какого черта здесь происходит? — снова спросил я его, но вместо ответа он лишь хлестнул моего пони, заставляя его перейти в галоп, и мы продолжали мчаться по обочине дороги, мимо плотной массы людей и животных, стремящихся в Гвалиор.
Теперь толпа стала теснее и не все здесь отступали: мы миновали несколько артиллерийских команд, которые сняли свои пушки с передков и теперь устанавливали их; полк пехоты, ожидающий, стоя на жаре — их лица были повернуты к далеким холмам, а стройные ряды были в полном порядке. Неподалеку впереди вновь загрохотали пушки и дым от выстрелов поднимался столбами в неподвижном воздухе. В стороне ожидали чего-то конные эскадроны — панди и иррегулярной кавалерии. Помню, эскадрон улан в зеленых мундирах, со шлемами, напоминающими хвосты лобстеров и длинными лентами, развевающимися на остриях пик; помню туземных музыкантов — звуки, которые они исторгали из своих инструментов, порой заглушали канонаду. Но менее чем в полумиле впереди уже поднимались облака пыли, сквозь которые тускло проблескивали огни орудийных выстрелов, и я понял, что произошло — британский авангард медленно проламывал сопротивление обороняющихся и все больше отдалялся от основной армии, гоня остатки мятежников по дороге.
Мы пересекли глубокое ущелье и Шер-Хан указал мне на небольшую кучку пальм и кустарника, возле которых был разбиты палатки. Батарея пушек слева от меня выстрелила по невидимому врагу на холмах… Врагу… Боже мой, да ведь это же моя армия! А вокруг островка палаток показалось множество всадников. С удивлением я узнал среди них длинные красные плащи королевских гвардейцев Джханси, но в остальном теперь это были лишь жалкие призраки тех молодцов-пуштунов, которых я помнил — мундиры грязные и рваные, а лошади — измученные и плохо взнузданные. Мы проехали мимо них к палаткам, перед самой большой из которых был разостлан ковер; здесь также стояли гвардейцы и волновалась пестрая толпа черномазых — военных и штатских, а затем Шер-Хан стянул меня с седла и подтолкнул вперед, крикнув:
— Он здесь, ваше высочество, как вы и приказывали!
Рани стояла у входа в палатку, одна — а может быть, я просто не запомнил остальных. Прихлебывала из чашечки шербет, она оглянулась посмотреть на меня. И тут, хотите верьте, хотите — нет, я вдруг понял, каким омерзительным пугалом выгляжу, в своих грязных лохмотьях и со свалявшимися волосами. Принцесса же была в белых бриджах для верховой езды, кольчуге поверх шелковой рубашки и белом плаще; голову ее покрывал шлем полированной стали, как у римских воинов, обмотанный белым шарфом, концы которого были завязаны у нее под подбородком. Помню, она выглядела чертовски элегантно и даже если под этими большими глазами на прекрасном смуглом лице были заметны темные тени, все равно — от одного ее вида захватывало дух. Рани окинула меня взглядом и резко бросила Шер-Хану:
— Что вы с ним сделали?
Он что-то пробормотал, но она лишь нетерпеливо покачала головой и сказала, что это не оправдание. Потом рани снова задумчиво посмотрела на меня, а я все ждал, недоумевая, что же, черт возьми, за этим последует, и смутно понимая, что канонада все усиливается. Наконец она просто сказала:
— Твои друзья вон там, — и показала на холмы. — Можешь отправиться к ним, если хочешь.
Это было все и, клянусь моей жизнью, я просто не мог придумать, что ответить. Полагаю, я все еще был слишком смущен и поражен всем случившимся — иначе я бы обязательно заметил, что между мной и моими друзьями еще пылает поле сражения. Но все происходящее казалось столь нереальным, что единственным словом, которое мне наконец удалось прохрипеть, было: «Почему?»
Она пожала плечами, потом вздернула подбородок и, подхватив рукой полы плаща, быстро ответила:
— Потому что все кончено и это — последнее, что я могу для вас сделать, полковник. — Я уже и не помнил, когда она называла меня так в последний раз. — Неужели этого недостаточно? К завтрашнему дню ваша армия будет в Гвалиоре. Это конец.
И в этот момент я услышал крики у нас за спиной, однако не обратил на них никакого внимания, даже когда незнакомый человек подбежал, зовя ее и она что-то ответила ему. Я лихорадочно рылся в своей памяти, и вы поймете, насколько я был не в себе, если я скажу, что вдруг выпалил:
— Но ты говорила, что я буду твоим выкупом — не так ли?
Принцесса удивленно посмотрела на меня, а потом сказала Шер-Хану:
— Дай лошадь полковнику-сагибу.
Она уже отворачивалась, когда я вновь обрел дар речи:
— Но… но ты! Лакшмибай! Я не понимаю… что ты собираешься делать? — Она не ответила, и я, словно со стороны, услышал свой голос, хриплый и жесткий: — Еще есть время! Я имею в виду — если ты… если ты думаешь, что все кончено — ну что ж, ты знаешь, что они не собираются вешать тебя! Помнишь, лорд Каннинг обещал… и — и генерал Роуз! — Шер-Хан что-то пробурчал, дернув меня за локоть, но я просто оттолкнул его. — Смотри, если я буду с тобой, значит, все точно будет хорошо. Я скажу им…
Бог знает, что я еще наговорил — думаю, я тогда был не в себе. Обычно, когда вокруг свистят ядра, я не думаю ни о чем, кроме как о собственной безопасности, а тут я стоял и спорил с женщиной! Наверное, тюрьма все-таки немного сдвинула мне мозги набекрень, поскольку я бормотал что-то про сдачу и почетные условия, а она все стояла и смотрела на меня, пока не прервала:
— Нет, ты все еще не понимаешь. Ты не понимал этого, когда вернулся ко мне в Джханси. Ведь ты же пришел ради меня — ради моего спасения. Теперь я просто плачу свой долг.
— Долг? — воскликнул я. — Что за чушь ты несешь, женщина! Ты же говорила, что любишь меня — о, теперь я знаю, ты еще и обманывала, но… но ведь эти слова тоже чего-то стоят?
Прежде чем рани успела ответить, раздался стук копыт и какой-то чертов негодяй в расшитом мундире, подскакав, соскочил с лошади и начал что-то кричать ей. У меня за спиной раздался треск мушкетных выстрелов, стоны, крики приказов, а сквозь гул канонады послышался отдаленный звук трубы.
Принцесса отдала приказ и грум поспешил к ней, ведя в поводу ее маленькую кобылку. Я кричал что-то сквозь шум, клялся, что люблю ее и что она все еще может спастись, но она лишь коротко взглянула на меня и схватила поводья своей лошади. Все это случилось в одно мгновение, но живет в моей памяти вот уже пятьдесят лет и вы можете считать меня старым дураком или безнадежным мечтателем, но я могу поклясться, что видел слезы у нее на глазах. И тут же она вскочила в седло, что-то крикнула, ее маленькая кобылка заржала и унеслась прочь, а я так и остался стоять на ковре.
Шер-Хан куда-то исчез. Я вглядывался в облако пыли и все звал принцессу, но ее гвардейцы окружили ее — за ними показались бегущие к нам канониры, среди которых попадались и стрелки-панди, которые то и дело приостанавливались, оборачивались к неприятелю, стреляли и вновь бросались бежать. У пушек уже крутилась кавалерия, сверкали сабли, и сквозь весь этот страшный шум было уже ясно слышно, как труба играет «В атаку!». За артиллерийскими передками показались голубые мундиры и белые каски — я даже не поверил своим глазам, потому что это были всадники Легкой бригады, ирландские гусары. Их офицер, вопя, привстал на стременах, и солдаты сгрудились вокруг него. Они хлынули на батарею, подобно волне, тесня и ломая жидкий строй кавалеристов-пуштунов в красных плащах. А теперь я, насколько смогу, расскажу вам, что было дальше.
Лакшмибай с саблей в руке была среди своих пуштунов. Похоже, она что-то кричала им, а затем ударила клинком наскочившего было гусара, разминулась с ним, когда он пронесся мимо, и на мгновение я потерял ее в свалке. Скрежетали сабли, с дьявольским шумом палили пистолеты, и вдруг, пятясь, показалась белая кобыла и принцесса была в седле, но все же отступала, бросив поводья; на секунду мне почудилось, что она падает, но ей все же удалось удержаться, а ее лошадь повернула и бросилась из свалки — и тут мое сердце замерло, так как я заметил, что рани прижимает руки к животу и бессильно склоняет голову. В этот момент какой-то британский солдат направил своего скакуна прямо на белую кобылу и когда кони столкнулись, наотмашь рубанул Лакшмибай саблей — я громко застонал и прикрыл глаза, а когда вновь открыл их, она уже лежала в пыли и даже издали я видел пурпурное пятно, расплывающееся на ее белом плаще.
Я побежал к принцессе — похоже, за мной мчались какие-то всадники, но я не обратил на них внимания — но оступился и упал. Когда же я снова поднялся на ноги, то увидел, как она корчится в пыли; шарф и шлем свалились у нее с головы, она била ногами и царапала свое тело ногтями, а лицо ее, наполовину закрытое разметавшимися волосами, было перекошено в жуткой гримасе агонии. Это выглядело отвратительно и я мог только, остолбенев, с ужасом смотреть на нее. О, если бы это было в романе, то конечно же, я подбежал бы к ней, прижал ее голову к груди и поцеловал, а она бы смотрела на меня с тихой улыбкой и прошептала что-то нежное, пока не закрыла бы глаз навеки — столь же прекрасная после смерти, как и при жизни — но на самом деле люди не умирают так красиво, даже владычица Джханси. Она еще раз изогнулась в конвульсиях, а затем упала ничком — и я понял, что она умерла. [XLVII*]
Думаю, что только тогда в голове у меня наконец снова прояснилось.
Всего в двадцати ярдах от меня продолжалась адская свалка, а я был безоружным и бессильным, да к тому же по уши вымазанным в грязи. Тут я с радостью отметил, что в голову мне пришла здравая мысль — прежде всего выбраться из этой мясорубки, пока меня не зацепит пуля или клинок. Я вскочил на ноги и бросился бежать даже прежде, чем эта мысль успела полностью оформиться — я бежал наугад, но все время внимательно оглядывался по сторонам в поисках безопасного уголка или лошади, потерявшей своего седока. Я нырнул в нуллах, врезался в кого-то, вскочил на ноги и бросился вдоль ущелья, мимо группы панди в высоких шапках, которые карабкались по стенам, занимая позиции для стрельбы, перепрыгнул через разбитую повозку — и вдруг — о, чудное видение! — заметил лошадь, рядом с которой, сжимая поводья, сидел на коленях какой-то раненый черномазый. Один пинок — и он опрокинулся на землю, а я взлетел в седло и помчался прочь. Низко пригнувшись, я несся галопом — но тут фонтан грязи вырос прямо передо мной от пушечного ядра, которое принеслось откуда-то и ударило в стену ущелья. Последнее, что я помню — как лошадь опрокинулась на спину и что-то с ослепительной болью ударило меня по левой руке; а дальше нечто неимоверно тяжелое обрушилось мне на голову, красный туман поплыл перед глазами и я потерял сознание.
Я же говорил, что самое худшее еще ждало меня впереди, не так ли? Ну что ж, если вы читали всю мою хронику Великого мятежа, то, если в вас есть хоть капля жалости, должны признать, что я и без того получил свою порцию неприятностей — даже сам Кэмпбелл позже сказал, что мне пришлось несладко. Но и Роуз лично заявил, что если бы не узнал про обстоятельства моего появления в Гвалиоре от надежных свидетелей, то никогда бы не поверил этому. Это самая страшная история, — признал генерал, — которую ему когда-либо доводилось слышать при всем его военном опыте. Он еще все удивлялся, как я при этом не лишился рассудка — и тут я присоединяюсь к его изумлению. Вот как это случилось.
Я пришел в себя и, как это часто бывает в подобных случаях, очень четко вспомнил последний момент перед потерей сознания. Итак, я в седле и скачу во весь дух, вдруг вижу, как ядро ударяет в песчаный край нуллаха — так почему же, с раздражением удивился я, теперь мне приходится стоять, прислонившись к чему-то твердому, а передо мной маячит нечто вроде полированной поверхности стола? Голова у меня раскалывалась от боли, перед глазами плыли ослепительные огненные круги, так что я быстро зажмурился. Затем я попробовал шевельнуться, но не смог, так как что-то держало меня; в ушах звенело, а совсем рядом раздавался гул каких-то голосов, но я не мог разобрать, о чем говорят. «Какого черта они не заткнутся», — подумал я, и хотел было сказать, чтобы все замолчали, но голос не слушался меня. Я снова дернулся было, чтобы отодвинуться от чего-то твердого, упиравшегося мне в грудь, так что напрягся — и тут невыразимая боль вдруг пронзила мою грудь и левую руку. Эта резкая, обжигающая боль была столь сильной, что я громко застонал, снова и снова, на что какой-то голос прокричал по-английски прямо мне в ухо:
— О, еще один негодяй очнулся! Сунь кляп в пасть этому ублюдку, Энди!
Кто-то схватил меня за волосы и запрокинул мне голову, я снова застонал, выпучив глаза от боли, и увидел ослепительно голубое небо и чье-то красное, потное лицо всего лишь в нескольких дюймах от моего. Прежде чем мне удалось издать еще хоть один звук, мне в рот запихнули грязную мокрую тряпку, от чего я чуть было снова не потерял сознание, и плотно перехватили ее матерчатой повязкой, затянув узел у меня на затылке. Теперь я не мог издать ни звука, и когда я попробовал поднять руки, чтобы вытащить эту мерзость изо рта, то понял, почему не могу шевельнуться. Мои руки были привязаны к какому-то предмету, конец которого упирался мне в живот. С трудом приоткрыв глаза, часто моргая, преодолевая дикую боль в голове и левой руке, я попытался сфокусировать взгляд; несколько секунд перед глазами мелькал лишь калейдоскоп теней и вспышек — и потом я вдруг увидел это.
Я был привязан к дулу пушки — стальное жерло упиралось прямо в мое туловище, а руки были накрепко прикручены к гладкому коричневому стволу. Я смотрел поверх этого ствола, между двух высоких колес, где у лафета стояли два британских солдата, ковыряясь в запальном отверстии, и один из них говорил другому:
— Нет, черт побери, ничего похожего на наши модели из Вулвича. Нет вытяжного шнура, Джимми, мой мальчик — так что нам придется самим поднести сюда фитиль, и тогда все будет в порядке.
— Как бы она потом не соскочила с лафета, а? — ответил другой. — В ней забит четырехфунтовый заряд и каменное ядро. А вдруг ее разорвет?
— Спросишь вот его — после выстрела! — проворчал первый, ткнув в меня пальцем и оба громко расхохотались. — Ты же расскажешь нам, а, Самбо?[182]
Сперва я не понял, в чем дело, — про что это, дьявол побери, они толкуют? И как эти грязные собаки смеют обращаться к полковнику, называя его «Самбо»? А у одного из них при этом из ухмыляющегося рта торчала еще и трубка! Злость буквально распирала меня, пока я смотрел на красные рожи этих деревенщин, косящиеся на меня. Я было хотел закричать: «Черт бы побрал ваши глаза, проклятые ублюдки! Как вы смеете — да вы знаете, кто я, вы, грязные свиньи? Да я запорю вас до смерти…» — но все эти слова лишь беззвучно застряли в моей глотке, придавленные этим мерзким кляпом. А затем понемногу до меня стало доходить, где я и что со мной случилось, так что казалось, что мой мозг лопнет от невероятного ужаса всего происходящего. Как позже сказал Роуз, я просто должен был сойти с ума. И на секунду мне показалось, что так оно и произошло.
Полагаю, что нет нужды подробно описывать мои ощущения — в любом случае я бы и не смог этого сделать. Скажу только, что после того как первая волна ужаса схлынула, я смог мыслить довольно ясно, поскольку, несмотря на охватившую меня панику, понял, что же произошло — со всей ослепительной ясностью. Я был контужен в голову, возможно, осколком ядра на излете и подобран без сознания нашими доблестными войсками. Конечно же, они приняли меня за панди — с моей бородой, отросшими волосами и грязным сипайским мундиром. Британцам показалось, что я еще жив, так что они решили казнить меня особым образом, вместе с другими пленными. Когда я, охваченный ужасом, какого не испытывал никогда раньше, повернул голову, то обнаружил, что моя пушка — лишь одна из многих в длинном ряду. Их было шесть или семь и к стволу каждой было привязано человеческое тело. Некоторые из них были такими же, как и я, панди в лохмотьях мундиров, а другие — просто черномазыми; у одного или двух рты были заткнуты кляпами, как и у меня, а у остальных — нет. Некоторые были привязаны лицом к пушкам, но большая часть — спиной к их жерлам. Так что через некоторое время эти красномордые скоты, которые сейчас, покуривая и поплевывая, разглагольствуют о пушках, подожгут заряды и битый камень, которым нашпигованы стволы, разорвет мои внутренности — а я ничего не могу сделать, чтобы остановить их! Если бы я не застонал, приходя в сознание, то мне бы не сунули кляп и всего трех слов было бы достаточно, чтобы объяснить канонирам их ужасную ошибку — но сейчас я не способен был издать ни звука, а мог лишь наблюдать вытаращенными глазами, как один из солдат лениво засовывает конец фитиля в запальное отверстие, подмигивая мне при этом, а затем неспеша плетется к своим приятелям, которые болтают, стоя на солнышке, очевидно, ожидая приказа к началу казни.
— Да где же, наконец, нелегкая носит нашего капитана? — проворчал один из них. — Готов поклясться, что он все еще в столовой. Боже, ну и обжора! Я бы и сам теперь хотел пожевать чего-нибудь и завалиться на койку. Неужели мы не могли разорвать этих чертовых панди после ужина, а?
— А чего это вообще придумали стрелять в них из пушек? — поинтересовался один из молодых канониров, еще не загоревший на индийском солнце. — Разве нельзя было повесить этих бедняг или расстрелять — все было бы дешевле.
— Ничего себе, бедняги, клянусь моей задницей! — рявкнул первый. — Да ты знаешь, что они натворили, эти подонки? Ты же был в Дели и должен был видеть, как они пускали кровь женщинам и детям — резали их на куски и живьем вытягивали кишки. Разорвать пушкой — для таких в самый раз.
— Это все равно не так жестоко, как вешать, — заметил третий, — они даже ничего и не почувствуют. — Он подошел к пушке и, к моему ужасу, похлопал меня по голове. — Так что не грусти, Самбо, скоро ты уже помрешь. О, да что это с ним, Берт, ты видишь?
Я лихорадочно задергался в путах, почти теряя сознание от нестерпимой боли в левой руке, из глубокой раны сочилась кровь, резко мотая головой из стороны в сторону и пытаясь выплюнуть этот жуткий кляп, едва не разрываясь изнутри от попытки издать хоть какой-нибудь звук, который мог бы дать понять им, какую страшную ошибку они совершают. Канонир стоял, тупо ухмыляясь. Подошел Берт, выколачивая о пушку свою трубку.
— Что с ним? И ты еще спрашиваешь, дурень? Да он просто не хочет, чтобы его потроха долетели отсюда до самой Калькутты — вот что происходит! Черт возьми — только глянь на него! Этого малого сейчас просто удар хватит!
— Забавно, не правда ли? — проговорил первый. — Посмотрите на остальных — ждут себе и никто даже не заскулил, будто им все равно. Трогательно, а?
— Это все их религия, — важно проговорил Берт, — они думают, что отправятся на небеса, а там на каждого выдадут по полудюжине девок, которых они и будут тискать до самого Судного дня. Факт!
— Да ладно тебе! Не такими уж и довольными они выглядят, посмотри-ка?
Они отвернулись, а я почти растянулся на пушке, полузадохнувшись, в то время как сердце мое готово было разорваться от страха и жалости к себе. Одно только слово — вот все, что мне было нужно — Боже, если бы мне только удалось освободить руку, хотя бы один-единственный палец! Кровь из моей раненой руки стекала на пушку, почти мгновенно запекаясь на раскаленном солнцем металле — если бы мне удалось нацарапать на ней хоть какое-то сообщение — или хоть несколько слов — их могли бы увидеть и понять! Я должен — должен хоть что-нибудь сделать. Думай, думай, думай! — кричал я про себя, борясь с накатывающим безумием, изо всех сил пытаясь освободить свою правую кисть и чуть не сворачивая шею в тщетной попытке избавиться от кляпа. Мой рот был забит тошнотворной тряпкой, вкусом которой, казалось, проникал все дальше и дальше в желудок, сводя меня с ума. Боже — но если они подумают, что я задыхаюсь — может, они вытащат этот чертов кляп хотя бы на секунду?.. а это все, что мне нужно — о, Боже, пожалуйста, молю тебя — дай им сделать это! Я не могу умереть вот так, как вонючий черномазый мятежник — после всего, что мне довелось вынести. Только не такой жестокой, ужасной, бессмысленной смертью…
— Убрать трубки, стройся — офицер идет, — крикнул один из солдат, и все они поспешно вскочили на ноги, поправляя свои кепи и застегивая рубахи, поскольку два офицера действительно приближались со стороны палаток, стоящих в нескольких сотнях ярдов.
Я дико уставился на них, словно надеясь этим привлечь внимание. Мое правое запястье было уже ободрано и кровоточило, но веревка по-прежнему сжимала его туго, как стальные оковы, и я мог лишь скрести пальцами горячий металл ствола. Я плакал, не сознавая этого, в голове все плыло — но нет, я не должен терять сознания! Только — думать и думать, не падать в обморок и не сходить с ума! Никому еще не удавалось прижать Флэши — ты всегда находил возможность как-нибудь улизнуть…
— Все готово, сержант? — идущий чуть впереди офицер окинул взглядом линию пушек и мои глаза чуть не вылезли из орбит, когда я вдруг узнал в нем Клема Хенниджа — Красавчик Клем из Восьмого гусарского, с которым я скакал в атаке под Балаклавой. Он стоял всего в пяти ярдах от меня, кивая сержанту и коротко поглядывая по сторонам, а у него за спиной явно свежеиспеченный лейтенант, выпучив глаза, таращился на нас — жертв, привязанных к пушкам. Юноша был бледен и, судя по виду, его вот-вот могло стошнить. Клянусь небом — и не его одного!
Лейтенанта передернуло и я услышал, как он шепнул Хенниджу:
— Иисусе! Полагаю, что об этом я не буду писать своей матери!
— Чудовищное дело, — согласился Хеннидж, похлопывая хлыстом по ладони. — Но что делать — таков приказ. Очень хорошо, сержант — если вы не против, мы рванем их всех разом. Все пушки заряжены как следует? Ну, что ж, отлично.
— Да, сэр! Прошу прощения, сэр, но согласно действующему приказу мы должны рвать их одного за другим, сэр. По крайней мере, так мы делали при Калпи, сэр!
— Боже правый! — воскликнул было Хеннидж, но овладел собой. — Я был бы весьма обязан вам, сержант, если бы на этот раз все пушки выстрелили залпом!
И, расстроенно качая головой, он что-то пробормотал лейтенанту.
Двое солдат подскочили к моей пушке, и один из них извлек из кармана спички. Он нервно оглянулся и крикнул:
— Сержант! Здесь нет ни замка, ни вытяжного шнура, сэр! Посмотрите, сэр, это одна из пушек, что мы взяли у черномазых — они стреляют только от фитиля, сэр!
— Что там? — крикнул Хеннидж, подходя ближе. — О, я вижу. Ну ладно, значит по сигналу подожжете фитиль и… Боже правый, да что с этим малым?
Я как раз предпринял последнюю отчаянную попытку освободиться, дергаясь как сумасшедший, метаясь как только мне позволяли на это туго затянутые веревки, мотая головой из стороны в сторону, так что перед глазами у меня все плыло от боли в раненой руке. Хеннидж вместе с молодым лейтенантом уставились на меня — лицо юнца позеленело.
— Он ведет себя так с тех самых пор, как его привязали, сэр, — сказал один из канониров, — все время стонет, так что пришлось забить ему кляп, сэр.
Хеннидж судорожно сглотнул, а затем коротко кивнул и отвернулся, но лейтенант, похоже, был слишком заворожен ужасным зрелищем, так как он все не мог оторвать от меня глаз.
— Готовьсь! — проревел сержант. — Зажигай этот фитиль, Берт, — добавил солдат, стоящий у моей пушки.
Словно сквозь красную дымку, я увидел как блеснул и тут же погас огонек спички. Берт ругнулся, чиркнул второй и приложил ее к фитилю. Еще мгновение — фитиль вспыхнул и канониры попятились.
— Лучше отойдите подальше, сэр! — крикнул Берт. — Один Бог знает, что может случиться, когда она выстрелит — как бы ее не разорвало!
Лейтенант вздрогнул, по-видимому, приходя в себя, и тут произошла странная вещь — я словно услышал голос, шепчущий мне прямо в ухо, а еще более странным было то, что голос принадлежал Руди Штарнбергу, моему старому врагу из замка Йотунберг, — даже спустя столько лет его смех раздается в моих ушах, словно звон колокола: «А ну, актеришко, постой! Комедия еще не окончена!»
Несомненно, все это было лишь следствием смятенных чувств — ведь я смотрел, как сама Смерть подползала ко мне огоньком, скользящим по фитилю, но в то же время я осознал, что если у меня и есть хоть тень шанса остаться в живых, то это зависит от того, сумею ли я сохранить ледяное хладнокровие — так поступил бы Руди, окажись он на моем месте. Лейтенант смотрел прямо мне в глаза, и за мгновение до того, как он успел отвернуться, я дважды приподнял и опустил брови. Это остановило его и, когда он вновь уставился на меня, я медленно закрыл один глаз в неестественном подмигивании. Это должно было выглядеть гротескно — от изумления лейтенант разинул рот — а я между тем открыл глаз, осторожно повернул голову и пристально, как только мог, посмотрел на свою правую руку. Он должен, должен тоже туда посмотреть! Моя кисть была все также туго привязана, но мне удалось развернуть руку ладонью вверх, медленно подогнуть большой и три последних пальца и поманить его указательным — раз, два, три — и продолжая делать это я снова посмотрел на юнца.
Секунду-другую он лишь остолбенело пялился на меня, затем сморгнул и уставился опять — я подумал даже, что этот молодой идиот так и будет стоять здесь, пока меня не разнесет на клочки! Он смотрел на меня, облизывая губы, в явном замешательстве, повернулся глянуть на Хенниджа, затем вновь перевел взгляд на меня — а затем, когда я уже почти безнадежно пытался продолжить свои внушения, вновь и вновь сжимая и разгибая указательный палец, он вдруг завопил: «Погодите! Сержант — не стрелять!» и подскочив к пушке вырвал тлеющий фитиль из запального отверстия. Да, сообразительные ребята служили тогда в Легкой бригаде!
— Какого дьявола? Джон — что, черт побери, вы делаете? — закричал Хеннидж. — Сержант, идите сюда!
И он также подошел, требуя объяснения случившемуся, а лейтенант, бледный и мигом вспотевший, стоял у лафета, показывая на меня.
— Не знаю! Но этот парень, говорю вам, он звал меня! И еще он подмигивал! Смотрите, о, Боже — он снова делает это! Он… он пытается нам что-то сказать!
— А? Что? — Хеннидж уставился на меня, а я снова изо всех сил зашевелил своими бровями и одновременно попытался жевать губами закрывающую их тряпку. — Что за черт — полагаю, вы правы… Эй вы там, вытащите кляп у него из пасти — да поживее!
— Встаньте, сэр Гарри,[183] — одна из самых приятных фраз, которую мне когда-либо доводилось слышать; к ним же я могу отнести и «Что вам от меня нужно?», — произнесенное голосом Эба Линкольна в том доме, в Портсмуте, штат Огайо, когда охотники за беглыми рабами уже висели у меня на хвосте. Я мог бы перечислить и много других, но ни в одной из них не звучало для моих ушей столько надежды и радости, как в этих нескольких словах, сказанных Хенниджем у пушек Гвалиора. Даже когда с меня сорвали тряпку, выдернули изо рта кляп и я лихорадочно хватал воздух ртом, мысли мои продолжали кружиться вокруг того, что же такое сказать, чтобы они сразу же поверили мне, не испытывая и тени сомнений. И вот, когда дыхание вновь вернулось ко мне, я прохрипел:
— Я Флэшмен — Флэшмен, слышите меня! А ты — Клем Хеннидж! Боже, храни королеву! Я англичанин, англичанин, я переодет для маскировки! Спросите генерала Роуза! Я Флэшмен, Гарри Флэшмен! Отвяжите меня, ублюдки! Я Флэшмен!
Уверен, вам в жизни не доводилось наблюдать подобного изумления. На мгновение все просто застыли, выпучив глаза, а затем Хеннидж воскликнул:
— Флэшмен? Гарри Флэшмен? Но… но это невозможно — этого просто не может быть!
Каким-то образом мне удалось не завыть, не зарычать и даже не обрушиться на него с проклятьями. Вместо этого я лишь покосился на него и проскрипел:
— Считаешь, что я лгу, Хеннидж? Тогда я вызову тебя на дуэль! Помнишь, я вызывал так одного болтуна в 1839-м? Он тоже был капитаном кавалерии. Так не будешь ли ты любезен приказать разрезать эти чертовы веревки — и поосторожнее с моей левой рукой — похоже, она сломана.
— Бог мой, да это Флэшмен! — воскликнул он, как будто увидел призрака. Затем он засуетился и замахал руками, подзывая канониров, чтобы те разрезали веревки. Они так и сделали, после чего осторожно уложили меня на землю. Их лица прямо позеленели от тревоги и страха, и это, в общем-то, меня порадовало. Но я никогда не забуду, что Хеннидж сказал потом, после того как лейтенант приказал подать флягу с водой и приложил ее к моим губам; Хеннидж постоял, с ужасом глядя на меня, а потом оправдывающимся тоном произнес:
— Послушай, Флэшмен — я действительно очень глубоко сожалею!
Да и что ему было еще сказать? О, да, это было что-то — я не придал этому особого значения, как вы могли подумать, но эти слова запали мне в память, когда я лежал, расслабленный от накатившего вдруг облегчения, не замечая боли, терзающей мою голову и руку, почти бессознательно глядя на ряд пушек. Тут меня вдруг передернуло, я прикрыл лицо здоровой рукой, стараясь сдержать рыдания и как только мог, твердо произнес:
— Эти черномазые, привязанные к пушкам. Я хочу, чтобы их сейчас же освободили — всех и немедленно!
— Что такое? — удивился Хеннидж. — Но ведь они приговорены…
— Развяжи их, черт тебя подери! — мой голос дрожал и срывался на крик. — Проклятый сукин сын, слышишь меня? — Я пристально посмотрел ему прямо в глаза, из последних сил приподнявшись и присев в пыли, опираясь спиной на пушечное колесо — вид у меня в тот момент, наверное, был еще тот. — Снимите их с пушек и отпустите — пусть бегут подальше и никогда больше не попадаются к нам в руки! Черт побери, хватит стоять и пялиться — делай, как я сказал!
— Ты не в себе, — пробормотал он, — ты потрясен и…
— И к тому же я еще и чертов полковник! — завопил я. — А ты всего лишь чертов капитан! Я вполне в здравом рассудке и просто уничтожу тебя, Богом клянусь, если ты не послушаешь меня сию же минуту! Так что… отпусти их — на свободу! Ну, будь хорошим парнем, Клем, а?
Хеннидж отдал нужные приказы и пленных освободили, а юный лейтенант присел на колени рядом со мной с флягой в руке — весьма почтительный и с мокрыми глазами.
— Это так милосердно, — заметил он.
— Черт бы побрал милосердие, — буркнул я. — И кто может поручится, что один из них не лорд Каннинг?
XIV
Больше особо нечего рассказывать. Великий мятеж закончился именно здесь, под стенами Гвалиора, где Роуз разбил последнюю мятежную армию, а Тантия Топи все же ускользнул. В конце концов его поймали и повесили, но Нана-сагиба так и не нашли, так же как и некоторых других вожаков. Несколько банд панди еще какое-то время бродили по округе, занимаясь грабежами, но и они были рассеяны.
Все это время я провалялся на подушках, залечивая сломанную руку и оправляясь от контузии головы, не говоря уже об абсолютно расстроенной нервной системе. Я был изможден — морально и физически, но удивительно, до чего помогает сознание, что все уже позади, что делать абсолютно нечего, кроме как целыми днями валяться на постели и при этом спокойно спать по ночам. За несколько недель, пока я выздоравливал в Гвалиоре, я написал рапорты Роузу и Кэмпбеллу, а также составил еще один, подлиннее — для лорда Палмерстона. В нем я подробно описал все свои свершения в Джханси и других местах, постольку, поскольку они касались возложенной им на меня миссии. Я сообщил ему, что случилось с рани (только факты, как вы понимаете, без всякой там романтической чепухи) и как я в конце-концов попал в Гвалиор. Я также предупредил Пама, что об Игнатьеве здесь больше ничего не слышно, так что, наверное, он снова за границей и сеет против нас смуту, хотя сам я в этом и сомневался.
(К слову сказать, после Индии я еще дважды встречался с этим пестроглазым ублюдком, и, к моей радости, оба раза это происходило на дипломатических приемах. Мы общались с отменной вежливостью, причем я всегда осторожно старался держаться спиной к стене и уехать с вечера пораньше.)
Настала осень, прежде чем наконец я поднялся на ноги и готовился покинуть Гвалиор. В то время как раз получил письмо от Кэмпбелла, в котором он писал, что освобождает меня от исполнения обязанностей при его штабе и разрешает вернуться домой. Я был готов к этому, но прежде отправился по дороге к Котаки-серай, чтобы бросить взгляд на маленькую часовню, которую бывшие подданные Лакшмибай построили в ее честь неподалеку от рокового ущелья — как вы знаете, они верили, что принцесса не погибла — да и продолжают верить в это до сих пор.
Ну что ж, я могу это понять; я и сам был к ней неравнодушен, хотя теперь уже все это казалось далеким прошлым. Рани кремировали по индусскому обычаю, но в память о ней остался этот крошечный, почти игрушечный храм, весь убранный цветами, венками и заставленный горшочками с благовониями. Я бродил вокруг него, поднимая пыль сапогами, а несколько старых черномазых, сидящих на корточках в тени кустов, с удивлением пялились на меня. От стычки, в которой она погибла, почти не осталось следов — обрывки порванной сбруи, ржавое стремя и прочее в том же духе. Я все думал, зачем принцесса сделала все это и, несмотря на ее последние слова, мне кажется, что все-таки понял. Как я и сообщил в моем рапорте Паму, она не отдала свой Джханси. Это значило для нее больше, чем жизнь. Что же до ее подлинных мыслей и чувств ко мне и тех, которые я сам испытывал к ней — я так и не смог этого понять. Сейчас это в любом случае не имеет значения, но я всегда сохраню о ней самые лучшие воспоминания и буду помнить эти глаза блестящие под вуалью и мягкие губы, нежно касающиеся моей щеки. Да, чертовски красивая была девочка! [XLIX*]
Возвращаясь домой, я поехал по дороге на Агру, а затем — на Канпур, где меня дожидалось несколько писем. Одно из них было от Билли Рассела; в нем он поздравлял меня со спасением и выздоровлением, о которых, по его словам, много говорили в Симле, где он мило проводил время. Теперь Билли был уже в Аллахабаде, получив, после всех своих мотаний (как он это называл) местечко в правительстве и настаивал, чтобы я заехал к нему отпраздновать это событие. Я был ничуть не против, поскольку только начинал вновь радоваться жизни, после всех злоключений, через которые мне пришлось пройти. Еще больше мое настроение подняли несколько писем от Элспет, написанные в ее обычном взбалмошном стиле, битком набитые всякой любовной чепухой про ее дорогого, любимого Героя, которого она снова мечтает прижать к своей Любящей Груди («О, что за слог», — подумал я), когда он вернется со свежими Лаврами, венчающими его Достойное Чело. Именно так моя женушка и написала — полагаю, все это из-за того, что она читает слишком много романов. Далее следовало:
«… город наводнен слухами о тебе и твоих Доблестных Товарищах, особенно — о сэре Хью Роузе и дорогом Сэре Колине — то есть о Лорде Клайде, как сейчас уже следует его называть. Я же сама ощущаю настоящий Прилив Гордости, когда думаю, что мой столь Отличившийся Соотечественник выбрал для своего титула название самой Прекрасной Реки, на берегах которой родилась и ничтожная Я — и где провела столь Благословенные Часы, познав свою Единственную Настоящую Любовь — с тобой, мой дорогой, дорогой Гарри!! Помнишь ли ты?»
Я помнил — и мысль о том, как славно мы тогда покувыркались, заставила меня улыбнуться, а глупая болтовня Элспет — сентиментально прослезиться и лишь подогрела желание снова вернуться к ней, обратно на берега зеленой Англии, прочь из этой кровавой дикой страны, пропахшей смертью, войной и пылью. Элспет, с ее золотыми волосами, голубыми глазами и идиотской влюбленной улыбкой, как всегда великолепная — вот они: счастье, покой и радость — и будь я проклят!
«… И даже Лорд Кардиган очень мил — хотя он и ворчит, что Сэр Колин был слишком медлителен и плохо использовал свою Легкую Кавалерию, полагаю и ей нашлась работа при наказании этих Мошенников-Сипаев. Лорд Кардиган также оказывал мне при встрече в Роу все знаки внимания, но я дала ему от ворот поворот, поскольку была уверена, что тебе бы так хотелось, так что он ушел не слишком-то довольным. Полагаю, он решил прибегнуть к лести, поскольку прислал мне в подарок для тебя книгу, сказав, что уверен — тебе она будет особенно интересна. Я просмотрела ее и не нашла ничего сколько-нибудь для себя интересного — там все что-то про крестьян и ни слова про Нежную Страсть, о которой я так люблю читать и писать и которая заполняет мои мысли всякий раз, когда они обращаются к Самому Дорогому из Мужей и Возлюбленных, а это происходит постоянно, так что ноги мои просто подкашиваются. Все же я пересылаю эту книгу тебе, с наилучшими пожеланиями от Лорда Кардигана. Кстати, на днях случился замечательный скандал с лакеем Дэйзи Марчмонт…»
Я не хотел слышать о Кардигане — при одном упоминании этого имени во мне разгоралась ревность, напоминая, что моя дорогая Элспет отнюдь не всегда была столь достойной и любящей женушкой, какой хотела казаться, и только небесам известно, сколько всяких ее поклонников оббивали пороги нашего дома во время моего отсутствия. Когда Флэши вернется домой, для флирта у ней не останется ни времени, ни возможности, а значит… я улыбнулся при этой мысли, бросил подарок Кардигана в чемодан, даже не взглянув на него и прыгнул в поезд до Аллахабада, где Билли Рассел уже встречал меня на станции.
Он был само обаяние в бакенбардах, полон задора и тут же потребовал подробностей о моих приключениях в Джханси и Гвалиоре — о которых он, конечно же, уже знал, но только в общих чертах.
— Но мне нужды все цвета и краски, старина, а этого днем с огнем не найдешь в официальных депешах. Тот случай, когда ты, переодевшись, прокрался в самое сердце крепости этой баядерки из Джханси, а после был под покровом ночи вывезен оттуда как пленник, а…?
Я, ухмыляясь, отвечал на его вопросы, и мы как раз ехали по направлению к форту, когда Билли вдруг спросил:
— Я сохранил все твои трофеи из Лакноу и призовые деньги. Похоже, это все, что ты получил за эту кампанию — не считая нескольких ран и новых седых волос?
Я понял, на что он намекает, черт его подери. В то время как на других героев индийской кампании сыпался настоящий дождь лент, медалей и титулов, мне до сих пор не перепало вообще ничего — и похоже не светило даже в будущем. Ирония судьбы была в том, что хоть я и получил сполна свою порцию ужасов мятежа, официальные власти, похоже, отнеслись к результатам моей деятельности довольно холодно. Задание, данное мне Памом, я полностью провалил, да и Роуз чертовски дулся на меня за то, что из его плана по захвату рани ничего не вышло. Лорд Каннинг, как мне говорили, был мною глубоко разочарован — вот неблагодарный ублюдок, как будто я был в чем-то виноват. Но все эти вещи много значили, когда нужно было что-то испортить, поэтому я не сомневался, что в то время как на молодчиков, подобных Роузу и Кэмпбеллу всяческие блага изливаются сплошным потоком, а про умение Аутрама, Сэма Брауна и даже маленького Робертса трубят на весь мир, бедняга Флэши будет рад даже обыкновенному приветственному адресу или фуршету где-нибудь в городском совете Эшби.
— Других-то хорошо наградили, — перечислял Билли, — старина Тише-едешь стал лордом — но ты это, наверное, уже знаешь; раздали порядка полусотни крестов и бог знает сколько титулов… могли бы и для тебя что-нибудь сделать, — все твердил он, когда мы уже высадились в форте и шли вдоль веранды. Полагаю, хорошая заметка в «Таймс» могла бы их пришпорить, а? Не можем же мы допустить, чтобы в Конной гвардии затирали наших лучших людей.
Я с удовольствием слушал все это, пока Билли проводил меня через холл, где стояли часовые-сикхи и тихо шелестели пунки,[184] но, честно говоря, всерьез ни о чем таком не задумывался, о чем ему откровенно и сказал. В ответ на это он лишь широко ухмыльнулся в свои бакенбарды, жестом приглашая меня пройти в двери, и тут я замер в полном изумлении.
Это была большая просторная комната — наполовину служебный кабинет, наполовину гостиная. В дальнем конце, перед прекрасным афганским ковром, стояла группа людей, причем все как один смотрели в мою сторону. Состав этой группы меня несколько озадачил, потому что тут был и Кэмпбелл, со своей седой гривой и морщинистой шотландской рожей, улыбающийся Мэнсфилд, держащийся очень прямо и поигрывающий своими черными усиками, Макдоналд, широко усмехающийся и Хоуп Грант,[185] как обычно, строгий и важный. Среди них стоял худощавый штатский в белом утреннем сюртуке, с миловидной улыбающейся женщиной; мне понадобилось несколько секунд, чтобы узнать в этой паре лорда и леди Каннинг.
Затем Рассел подтолкнул меня вперед, Каннинг улыбнулся мне и мы пожали друг другу руки, я поклонился леди Каннинг, удивляясь, какого дьявола они все здесь собрались. Тут наступила тишина, а Каннинг прочистил глотку и обратился ко мне. Я был бы рад вспомнить все, что он говорил, но был слишком ошарашен тем, что так неожиданно оказался в этой компании. Но что это?
— …всем известные выдающиеся деяния в различных местах… Афганистане, Крыму, Балаклаве, Средней Азии… а позднее еще более выдающуюся службу во время восстания в Бенгальской армии… исключительно доблестное поведение при обороне и эвакуации Канпура… и по указанию сэра Хью Роуза вызвался выполнить весьма опасное и трудное задание во время Гвалиорской кампании… самое горячее одобрение Ее Величества, ее министров и главных советников… в ознаменование свершений гораздо больших, нежели от него требовал долг…
Я растерянно слушал все это, а затем Каннинг что-то передал Кэмпбеллу и тот подошел ко мне, сияющий, несмотря на свой обычный сердитый вид и, прокашлявшись, сказал:
— Это была моя пер-рсональная пр-росьба, — рыкнул он, — и мне р-разрешили вр-ручить вам эту нагр-раду, которая исходит прямо из собственных благодарных р-рук Ее Величества.
Он подошел ближе и внезапно я ощутил резкую боль в левой стороне груди, к которой он что-то приколол. Я покосился, пытаясь рассмотреть эту штуку — и это был он, невзрачный на вид маленький бронзовый крестик, висящий на ленточке, приколотой к моему мундиру. Сперва я не узнал его, а затем леди Каннинг захлопала в ладоши, а Кэмпбелл пожал мне правую руку и уставился на меня, нахмурив брови.
— Орден Креста Виктории, — проговорил он и затем добавил: — Флэшмен… — но тут вдруг замолчал, покачав головой. — Эх, — только и сказал он, улыбнувшись мне — а Господь свидетель, он нечасто улыбался — и все продолжал трясти мне руку, покачивая головой, а до моих ушей наконец долетели смех и звуки аплодисментов.
Я не мог произнести ни слова; знаю что покраснел и слезы почти выступили у меня на глазах, когда все они сгрудились вокруг меня — Мэнсфилд и Макдоналд, и прочие. Билли похлопывал меня по спине (а потом украдкой что-то царапал в своей записной книжке, воровато пряча ее в карман); я весь дрожал и хотел только одного — наконец-то куда-нибудь усесться. При этом я думал: «Боже, но ведь я же не достоин этого! Чертов старый хитрый ублюдок Флэши — разве ты получил этот крест за свою храбрость?.. но если уж они швыряют медали направо и налево… и их получают те, кто выжил, даже несмотря на испуг… ну что ж тогда хватай их обеими руками, мой мальчик!» А затем, в августейшем присутствии самого генерал-губернатора и главнокомандующего кто-то начал петь: «Ведь он хороший парень — об этом знают все!» и меня окружили радостные лица, подтягивающие припев, пока Каннинг не увел меня на веранду. Сад, похоже, был запружен толпами солдат и штатских — бородатые сикхи и маленькие уродливые курки, головорезы из ополчения и шотландские горцы, артиллеристы и саперы, какие-то малые в светлых сюртуках и тропических шлемах, леди в платьях для пикников… Когда Каннинг помахал им рукой, кто-то внизу выкрикнул: «Гип-гип-гип!» и трижды прозвучало громовое: «Урр-ра!».
Я смотрел на все это сквозь застилавшие мои глаза слезы и мысленно переносился к пушкам Гвалиора, баррикадам Канпура, горящим улицам Мирута, батареям Балаклавы и кровавым снегам Гайдамака — и думал, клянусь Богом: «Как же мало вы обо всем этом знаете, иначе вряд ли бы вы чествовали меня». Скорее тогда вся эта толпа жаждала бы моей крови — все эти честные упрямые ослы. А впрочем, может быть, и нет — если бы они даже узнали всю правду, то ни за что бы в нее не поверили.
— Какое замечательное наследство вы сможете передать своим детям полковник, — заметил Каннинг, и леди Каннинг, стоя рядом, добавила:
— И леди Флэшмен.
Я пробормотал, что да, конечно же, так и будет; а затем я вдруг заметил, что леди Каннинг поглядывает на меня с легким лукавством, и задумался, отчего бы это. Не могла же она, в самом деле, пожелать уединиться со мной — тем более что здесь был ее муж — но потом вдруг до меня дошел смысл ее последних слов и, почувствовав слабость в ногах, я вдруг переспросил:
— Что?
Они оба рассмеялись над моим замешательством, и Каннинг посмотрел на супругу с легким упреком.
— Шипы всегда кроются среди роз, дорогая, — заметил он, но, конечно же, мы должны были обо всем рассказать полковнику в приватной обстановке. — Он широко улыбнулся мне. — В дополнение к высшей награде за мужество, которой за подвиги в недавних кампаниях вполне заслуженно удостоены многие отважные офицеры, Ее Величество пожелала отметить вашу службу еще одним знаком своего благоволения. Ей благоугодно было возвести вас в достоинство рыцаря ордена Бани.[186]
Полагаю, я почти одеревенел от изумления, так как не упал в обморок, не закричал: «Не может быть!» и даже не уставился на генерал-губернатора, выпучив глаза от недоверия. Я всего лишь шмыгнул носом и подумал: «Клянусь Богом, да у этой женщины совсем нет вкуса». Я имел в виду никого другого, как маленькую Вики — ну разве можно сваливать рыцарское достоинство и Крест Виктории в одну кучу? Это выглядело почти неприличным, но, клянусь Богом, звучало чертовски славно! Все мысли мои крутились вокруг нескольких слов, сияющих золотыми буквами — «Сэр Гарри Флэшмен, кавалер Креста Виктории». Это было невероятно… сэр Гарри… сэр Гарри и леди Флэшмен… Флэшмен, кавалер Креста Виктории… о, Господи — все к этому шло, и тем не менее в это почти невозможно было поверить — о, эта удивительная маленькая женщина! Я помнил, как она застенчиво покраснела, когда несколько лет назад вешала мне на грудь королевскую медаль — я еще подумал тогда: «Да, кавалерийские бакенбарды действуют на всех женщин…» Похоже, так оно и есть до сих пор. Кто его знает?
— Господи… Боже, храни королеву, — почтительно произнес я.
Больше мне вряд ли удастся рассказать вам что-нибудь связное об этой минуте, да и о последующих нескольких часах; я провел их, словно во сне, в ушах у меня звенело: «Сэр Гарри Флэшмен, кавалер Креста Виктории», а вокруг кружились улыбающиеся лица, меня похлопывали по спине, осыпая поздравлениями и лестью — все это из-за Креста Виктории, поскольку вторая награда, как сказал Каннинг, должна была оставаться в секрете, пока я не вернусь в Англию. Вечером в цитадели был большой обед, на котором было в изобилии выпивки, речей, поздравлений и гостей, валяющихся под столами, так что в поезд до Калькутты меня той ночью погрузили в неописуемом состоянии. Я продрых до полудня следующего дня и проснулся с дикой головной болью — мне потребовался весь остаток дня и следующая ночь, чтобы хоть немного прийти в себя, но уже к следующему утру я вполне поправился, так что смог от души позавтракать и почувствовал себя в отличной форме. Сэр Гарри Флэшмен, кавалер Креста Виктории — я все еще с трудом мог в это поверить. Дома все встанут на уши, а Элспет впадет в дикий экстаз оттого, что вдруг превратилась в «миледи», так что будет просто невыносимой по отношению к друзьям и поставщикам, зато благодарной мне — кто знает, может, даже станет верной женой… Я просто купался в счастливых мыслях, радостной улыбкой приветствуя очередной рассвет над уродливым индийским пейзажем, отмечая про себя, что при некоторой доле везения я больше никогда не увижу его, не почувствую его запаха и даже о нем не услышу. А затем, чтобы как-то убить время, я порылся в своем чемодане в поисках что-нибудь почитать и выудил книгу, присланную через Элспет Кардиганом: что же такого мог выбрать мне в подарок этот Медведь-Джим, который меня на дух не переносит?
Я раскрыл ее наугад, бездумно переворачивая страницы… и тут мне на глаза попался один из абзацев и словно ведро ледяной воды вдруг опрокинулось мне за шиворот, когда я прочитал слова:
«Но этот негодяй Флэшмен, который и слова не может сказать без того, чтобы не пнуть или обозвать кого-нибудь…
— Трусливая скотина, — вмешался Ист, — как же я его ненавижу! И он это знает — ему известно, что мы с тобой считаем его трусом».
Я ошеломленно уставился в книгу. Флэшмен? Ист? Какого черта все это может означать? Я повернул книгу, чтобы взглянуть на обложку: «Школьные годы Тома Брауна», — так было написано на ней. Автор — какой-то «Старина». Что за дьявол мог быть этим Томом Брауном? Я пролистал несколько страниц — какая-то ерунда о всякой деревенщине и прелестях сельской жизни, все как и говорила Элспет… Фермер Ивс, Бенджи… какого черта? Том пытается отработать удар с разворота… «Рагби и футбол»… о, вот мы и опять — и волосы зашевелились у меня на загривке, когда я прочел:
«— Провалился сквозь землю, а? — заорал Флэшмен. Ну-ка вытяните его, ребята; пошарьте под кроватями… О-ооп! — рявкнул он, дергая за ногу маленького мальчишку… Ничтожная воющая скотина! Придержите язык, сэр, а то я убью вас!»
Боже, да это же про меня! Причем это не просто была выходка в моем духе — помню, я действительно делал это — в Рагби, много лет тому назад, когда мы гоняли малышню и играли с ними в «жаворонков», подбрасывая их на одеялах до икоты. Да, вот оно:
«Раз, два, три — и все прочь»
«Что ты за проклятый забияка, Флэши!»
Я пробежал абзац, в котором ужасный людоед Флэшмен, яростно ругаясь, предложил подкидывать двоих мальчишек сразу, а они отбивались, так что вывалились и сильно расшиблись — и это все чистая правда, тогда двое этих маленьких ублюдков здорово треснулись об пол.
Но кто же, черт побери, мог все это написать? Кто решился на это? — я пробегал страницу за страницей, ища на каждой ненавистное имя, и, клянусь Богом, оно повсюду было в изобилии. Вытаращив глаза, я читал:
«Флэшмен, с проклятием и пинком, отпустил свою жертву…»
«… тирания Флэшмена…»
«… но Флэшмен был начеку и запустил им вслед банкой из-под пикулей, которая просвистела мимо, едва не задев головы Тома.
— Он не прочь убить кого-то, если не сможет поймать, — заметил Ист…»
«…Флэшмен был там?
— Да, и оказался всего лишь грязным хнычущим негодяем, не постеснявшимся воровать у своего же товарища… он подлизывается к старшеклассникам, пресмыкаясь перед ними, а вымещает все зло на нас…»
К тому времени я побагровел и уже завывал от гнева, едва различая буквы на страницах. Клянусь Богом, вот это позор! Страница за страницей описывали меня в самых скверных выражениях, не оставляя сомнений в том, что я — законченный негодяй; действие происходило в школе Рагби, как раз в мое время. Здесь были Доктор, Ист, Брук и Краб Джонс — и я сам, под собственным именем, так что приходилось об этом читать и содрогаться от отвращения. Здесь даже было приведено мое описание — как весьма крепкого и довольно сильного мальчишки для моего возраста и сказано о том, что «я хорошо играл во все игры, не требовавшие особой отваги» — полюбуйтесь-ка, — и про то, что я «обладал наглыми, пренебрежительными манерами», так что мне приходилось «весьма постараться, чтобы выглядеть дружелюбным». Такова же была и моя репутация, поскольку почти на каждой странице я выворачивал руки или бил слабых, ругался, трусил, упивался допьяна или поджаривал малышей на огне — о, все это мне весьма живо напомнило о том, кем же был мастер Браун! Это был рыхлый веснушчатый негодяй, который в свое время пытался стянуть у меня квитанцию о пари на скачках, черт его побери — благочестивый маленький подхалим, который молился по часам и с благоговением внимал доктору Арнольду и Бруку: «да, сэр, пожалуйста, сэр, я, как истинный христианин, сэр», — и все отирался со своим дружком Истом… А теперь Ист умер — в лодке, плывущей из Канпура.
Но один из этой парочки еще жив — и теперь чертовски сильно заклеймил меня. Не то чтобы это не было правдой — каждое проклятое слово — о, это было даже слишком правдиво, и именно поэтому это, вот дьявольщина, так мерзко пятнало мое доброе имя… Господи, да тут еще! «… Грубость Флэшмена шокировала даже его ближайших друзей…» Нет, клянусь Богом, вот это уж была самая откровенная наглая ложь: друзей, что были у меня в Рагби, просто невозможно было чем-то смутить — ни Синдиката, ни Рэттла, ни остальных. Что там дальше? «Несмотря на всю свою трусость, Флэшмен, все же не смог проглотить такую обиду…» и затем следовало описание драки, в которой я («из-за своих пагубных привычек к пьянству и курению») был изрядно отлуплен двумя малышами и уполз, жалко скуля: «Вы за это еще заплатите…»
Я думал, что, прочитав такое, взбешусь до пены на губах, но дальше было еще красочное описание моего изгнания из Рагби за пьянку, а хуже всего была сцена, в которой эти елейные маленькие скоты, Браун и Ист, изображались возносящими молитвы за «бедного Флэшмена».
Швырнув книгу через все купе, я, чтоб хоть на ком-то сорвать злость, набросился с кулаками на туземца-проводника. Только после того как мне удалось загнать его на крышу вагона, где он, воя, зализывал раны, я смог, наконец, сесть и более или менее спокойно осознать всю полноту зла, причиненного мне этим мстительным биографом.
Он уничтожил меня — должно быть, пол-Англии на сегодняшний день прочитало эту книгу. О, теперь ясно, почему эта злобная свинья, Кардиган, прислал мне ее. Как же я смогу поднять голову после такого предательского удара? И это — в момент моей наивысшей славы! Чего стоят мой крест и рыцарское достоинство теперь, когда меня облил своей ядовитой грязью этот «Старина» — кем бы ни была эта скотина? Должно быть, это какой-то потный маленький трус, которого я, для его же собственной пользы, приучал к дисциплине или просто гонял, чтобы доставить себе удовольствие… ну, что же, клянусь небом — он за это заплатит! Я подам иски во все суды Англии на этого чертового сукина сына, на этого бумагомарателя, я выколочу из него каждый вшивый пенни, сдеру с него последнюю рубашку и еще увижу, как он будет умирать от голода в сточной канаве или сгниет в тюрьме за клевету…
— Нет! — взревел я, потрясая кулаком. — Я убью этого ублюдка, вот что я сделаю, после того как засужу его! Я вызову его, даже если он штатский и оторву его чесоточную голову в песках Кале — я публично отхлещу его плетью…
(На этом месте, разорванной страницей и несколькими энергичными кляксами, заканчивается пятый пакет «Записок Флэшмена».)
[N.B. — Флэшмен, по-видимому, не предпринял никаких действий против Тома Хьюза, автора книги «Школьные годы Тома Брауна», которая впервые вышла в свет в 1857 году и достигла бешеного успеха, прежде чем Флэшмен увидел ее в Индии. Возможно, после того как его первое вполне понятное негодование улеглось, он понял, что эта книга не принесет вреда его теперешней репутации и что публичная судебная тяжба лишь ухудшит дело. Но возможно, что Флэшмен все же угрожал судебным процессом и требовал некоторых опровержений; по крайней мере, представляется интересным, что когда в 1861 году появился сиквел, «Том Браун в Оксфорде», Хьюз посвятил введение тому, что опроверг любую возможность идентификацию себя лично с Томом Брауном: «… не только сам герой не списан с меня [писал он], но и не один другой портрет действующих лиц в обеих книгах не написан с натуры, за исключением доктора Арнольда, который выступает под собственным именем». Курсив в данном предложении редакторский, а удовлетворение при этом в основном получил Флэшмен.]
Приложения и комментарии
Приложение 1 Индийский мятеж
В том виде, как он есть, за исключением отдельных наиболее личных наблюдений и впечатлений, которые не могут быть ни подтверждены, ни опровергнуты, рассказ Флэшмена о его службе в Индии во время Великого мятежа в общем представляется достаточно точным и правдоподобным. Его описания событий в Мируте, до и после восстания, Канпуре, Лакноу, Джханси и Гвалиоре совпадают с описаниями очевидцев; более того, он отличается от остальных свидетельств не более, чем те друг от друга. Что же касается отдельных случаев и отношений между людьми, он, похоже, дает живую картину того, что говорили и думали в те дни в Индии.
Некоторые аспекты мятежа все еще трудно обсуждать без связанных с ними эмоций; это было исключительно кровавое дело, и нелегко в должной степени оценить силу чувств с обеих сторон. Как, с одной стороны, объяснить поступки Нана-сагиба в Канпуре, а с другой — поведение христиан и персонально — доброжелательного Джона Николсона, который хотел в законодательном порядке закрепить возможность сдирать с бунтовщиков кожу, сажать их на кол и сжигать живьем? Наблюдения Флэшмена небезынтересны, однако комментировать их представляется явно излишним; для цивилизованных людей не представляет интереса предъявление счетов за давние зверства или попытки перенести большую часть «вины» за случившееся на ту или другую сторону. Как и отмечает Флэшмен, мода на эти вещи меняется, так что стоит избегать оценки прошлого с позиций современности. Достаточно сказать, что страх, шок, невежество, расовая и религиозная нетерпимость, проявленная обеими сторонами, совместно породили ненависть, близкую к безумию, как среди отдельных личностей, так и в некоторых группах — британцев, индусов и мусульман — но ни в коем случае, не во всем обществе.
В то же самое время стоит напомнить, что эта борьба, сопровождавшаяся столь сильной жестокостью и позором, была также отмечена бесчисленными примерами самопожертвования и человеколюбия, находящимися почти за пределами нашего понимания; этот героизм и самоотверженность надолго остались в памяти как британцев, так и индийцев — ведь дух горсти последних безымянных защитников Гвалиора был столь же крепок, как и у тех, кто удерживал валы укрепления Уилера в Канпуре.
Приложение 2 Рани Джханси
Лакшмибай, махарани Джханси, была одним из самых выдающихся лидеров Великого мятежа и героиней индийской истории. Ее даже, достаточно обоснованно, сравнивали с Жанной д'Арк. С другой стороны, несмотря на то что зловещая репутация, которой ее при жизни наделила пропаганда противников, сегодня уже по большей части, не принимается во внимание, на прошлом принцессы осталась некоторая тень.
Общие факты ее жизни, которые Флэшмен почерпнул от Палмерстона, Скина и узнал сам, в целом точны — ее высокое происхождение, замужество, политические амбиции, участие в мятеже, бегство, борьба и гибель. Что гораздо менее ясно — это когда, как и насколько глубоко она была вовлечена в мятеж в качестве его активной участницы, поскольку даже после резни в Джханси (см. комментарии) она открыто провозглашала дружбу с Сиркаром; это даже могло так и быть на самом деле, несмотря на всю свою предубежденность против британцев, она пыталась, насколько это было возможно, удерживаться от участия в восстании. Однако несомненно и то, что, приняв решение, рани сама вела свои войска, с большим личным мужеством и решительностью. Она действительно была отличной фехтовальщицей и наездницей, а также метким стрелком, что явилось результатом ее воспитания вместе с мальчиками (в том числе — и Нана-сагибом) при пешаварском дворе.
На более повседневном уровне впечатления Флэшмена о Лакшмибай и ее дворе также подтверждаются свидетельствами современников. Похоже, он рисует правдивую картину ее поведения на приемах и участие в публичных делах, равно как и детали ее ежедневного распорядка дня, ее апартаменты, личный зоопарк, отдых, развлечения, чайные вечеринки — вплоть до одежды и драгоценностей. Другие британцы, которым приходилось встречаться с рани, разделяют, по крайней мере, энтузиазм, с которым он описывает ее внешний вид («исключительная фигура… красивые глаза… страстная натура… прекрасные формы», — все это встречается среди описаний, хотя один из современников все же отмечает, что «не нашел ее хорошенькой»). Один из сохранившихся портретов рани, который в большей мере можно считать подлинным, рисует нам ее практически так же, как Флэшмен при первой встрече. Сама личность принцессы представляется достаточно привлекательной и обладающей весьма сильным характером (двумя наиболее известными ее высказываниями являются: «Я не отдам мой Джханси» и насмешка, брошенная ею в детстве Нана-сагибу: «Когда я вырасту, у меня будет по десять слонов на каждого одного твоего!»).
Однако ее подлинный характер по-прежнему остается загадкой. Считать ли ее истинно пламенной патриоткой или жестокой и вероломной предательницей — зависит исключительно от точки зрения; скорее всего в ней было что-то от обеих. Прекрасной эпитафией для рани стали слова ее самого заклятого врага, сэра Хью Роуза, который, говоря о главарях мятежников, назвал Лакшмибай «лучшей и наиболее отважной».
(Что касается ее биографий, смотрите «Мятежная рани», сэра Джона Смита, кавалера Креста Виктории, и «Рани Джханси», Д. В. Тахманкара, а также в «Сильвестре» Форреста, изд. Кей/ Маллесон.)
Комментарии редактора рукописи
I*. Лорд Кардиган, возглавивший атаку Легкой бригады, стал героем после сражения при Балаклаве, но в 1856 году против него начали выдвигаться обвинения в пренебрежении своими обязанностями и даже в том, что он вообще не доскакал до русских пушек. Судебные процессы по этому вопросу не имели места вплоть до 1863 года, когда Кардиган подал иск против полковника Калторпа по обвинению в клевете. Было доказано, что лорд Кардиган был возле пушек, но также и то, что он бросил свою бригаду во время сражения. Все вместе это сняло обвинения в недостатке личного мужества, но поставило большой знак вопроса на его способностях как командира.
II*. Журнал «Панч» также отметил, что шампанское на этом обеде подавалось из расчета только по одной бутылке на троих гостей.
III*. На сей раз Флэшмен точен в указании даты — именно 21-го числа Флоренс Найтингейл имела двухчасовую встречу с королевой в Балморале. Фактически, его воспоминания о Балморале настолько точны, вплоть до тем разговоров и состояния погоды в определенные дни, что можно предположить, что он пользовался подробным дневником, который его жена Элспет вела на протяжении всей их совместной супружеской жизни, составляющем в настоящее время часть архивов Флэшмена. [Для сравнения см.: «Письма королевы Виктории, 1827–1861», изд. Бенсона и Эшера; «Королева в Балморале» Ф. П. Хамфри (1893); «Жизнь принца-консорта» в 5 томах, сэра Т. Мартина (1875–1880); «Двадцать лет при дворе» Элеоноры Стенли (1916) и «Дневник королевских путешествий… во времена королевы Виктории» (1883).]
IV*. Не удалось найти ни одного подтверждения визита лорда Палмерстона в Балморал в конце сентября 1856 года; очевидно, это событие держалось в секрете, как и тревожное известие о том, что в индийских полках появились чапатти: в большинстве историй про Великий мятеж чапатти не упоминаются вплоть до начала 1857 года. Что касается остального, то Флэшмен дает правдивое описание «Пама», каким тот был в глазах современников — популярный, добросердечный, импульсивный и (по мнению некоторых) трагическая фигура, которого Д'Израэли называл не иначе как «старые крашеные панталоны». Лорд Элленборо был в прошлом генерал-губернатором Индии, а сэр Чарльз Вуд, несмотря на свою службу в Адмиралтействе, ко времени встречи с Флэшменом успел побывать еще и президентом совета по контролю за Индией (в 1853–1855), а позже вернулся к этой должности в 1859–66 гг.
V*. Миссионеры были весьма разочарованы правительственным решением 1856–1857 гг., в соответствии с которым образование в индийских школах должно быть светским. Страх перед насильственной христианизацией в то время действительно имел место среди индийцев и предполагалось, что именно он был главной причиной мятежа. Проповеди армейских офицеров считались особенно опасными: генерал-губернатор Каннинг, которого необоснованно считали горячим приверженцем новообращения, как-то сказал одному слишком религиозному полковнику, что вряд ли его туземный полк доверяет ему, а лорд Элленборо 9 июня 1857 года сделал в палате лордов серьезное предупреждение «полковникам, которые участвуют в миссионерских делах… Вы увидите самую кровавую из революций, которые когда-либо потрясали Индию. Англии придется покинуть эту страну». Это контрастирует с заявлением мистера Манглса, главы Ост-Индской компании: «Само Провидение доверило Англии империю Индостана для того, чтобы знамя Христово триумфально развевалось от края и до края Индии».
VI*. Джон Николсон (1821–1857) был одной из легендарных фигур британской Индии и выдающимся экземпляром того типа солдата-администратора, который получил прозвище «англичанин-пустынник», несмотря на то что большинство из них были шотландцами или ирландцами. Они обладали редким даром — завоевывать абсолютное доверие людей, для которых они работали на Востоке. У Николсона он был развит в необыкновенной степени, так что когда ему было всего двадцать семь лет, сформировалась религиозная секта «Никколсейнитов», которая возносила Николсону молитвы с пылом, весьма его раздражающим. Он был блестящим солдатом и администратором, что было примечательно, даже по викторианским меркам. Поскольку он участвовал в Первой афганской войне, то вполне мог знать Флэшмена, однако интересно, что они встретились так, как это описано в мемуарах последнего, несмотря на то что в конце 1856 года Николсон должен был пребывать далеко от границы. Однако, поскольку вскоре он готовился принять новый пост в Пешаваре, не исключено, что сначала он двинулся на юг, где и встретился с Флэшменом на Большом тракте в Агру.
VII*. Полк Проводников был, наверное, самым известным боевым соединением за всю историю британской Индии. Созданный Генри Лоуренсом в 1846 году, под командованием Гарри Ламсдена, полк стал легендарным по обе стороны границы в качестве разведывательной и боевой силы, которую с равным успехом нес и в кавалерийском, и в пешем строю. (Киплинг, как вы помните, упоминает загадочных Проводников в своей «Балладе о Востоке и Западе».) Интересно, что Флэшмен узнал в Шер-Хане бывшего проводника по мундирной куртке, хотя бойцы полка обычно носили простое хаки, а не конкретный вид униформы.
VIII*. Предположения Флэшмена о том, что рани должна быть гораздо старше, не являются неестественными. Он слышал, как Палмерстон описывал ее как «слишком старую, к моменту выхода замуж», что, по индийским меркам, означало, возраст около двадцати лет.
IX*. Генеральный акт зачисления на службу (1856) требовал от рекрутов при необходимости служить на заморских территориях. Это раздражало сипаев, которые считали, что путешествие по морю разрушит их касту.
X*. Иррегулярные кавалерийские части британской индийской армии, как правило, не носили единой формы, так что афганский риссалдар, вполне мог носить старый мундир кавалерийского полка Скиннера («Желтые парни»). Однако сомнительно, чтобы он сам когда-либо служил в этом соединении — ему больше подходил полк Проводников.
XI*. Сообщество тугов (буквально «обманщики») почитало богиню Кали и практиковало убийства в качестве религиозной церемонии, демонстрирующей их преданность и гарантирующее им место в раю. Они особенно охотились на путешественников, которых встречали на дороге и обращались с ними со всем дружелюбием, прежде чем неожиданно напасть на них по заранее обусловленному сигналу; в качестве метода убийства, наибольшим успехом у них пользовалось удушение посредством шарфа. Число приверженцев этого культа составляло несколько тысяч, пока сэр Уильям Слиман не вытеснил их с занимаемых территорий в 1830 году, однако и позже сохранились многочисленные последователи этого культа. Регион Джханси традиционно был колыбелью их деятельности и, вполне возможно, экс-туги были в нем достаточно активны, как и пишет Флэшмен. В некоторых случаях тугов можно было опознать по татуировке на веках или особому знаку на спине.
XII*. «Дать ему его же табачку» — мрачная шутка приятеля Ильдерима. «Передай табак» — было традиционным устным сигналом тугов к началу убийства.
XIII*. Маккарам-Хан действительно существовал. Поначалу он служил в пешаварской полиции, а позднее стал известным предводителем банды наездников из числа воинов горных племен, которая сражалась против кавалерии Проводников. (См. «История полка Проводников: 1846–1922».)
XIV*. Салют клинком и касание эфеса меча в качестве выражения крайней степени уважения, были очень распространены в индийской кавалерии. (См. «От сипая до субедара», мемуары Ситы Рамы Панди, который служил в бенгальской армии почти пятьдесят лет. Они были впервые опубликованы более ста лет тому назад и недавно были отредактированы генерал-майором Джеймсом Лантом.)
XV*. Забавно, что Флэшмен ничего не сообщает о том, как заставил потемнеть свою кожу (как ему советовал Ильдерим), и действительно хочет убедить нас в том, что не считал это необходимым. Однако несмотря на природную смуглость своего лица и то, что более светлая кожа была обычной для многих жителей приграничья, он наверняка вынужден был предпринять какие-то меры, чтобы сделать более смуглым свое тело, без чего ему вряд ли удалось бы не вызывать подозрений в казарме сипаев.
XVI*. Из сипаев, перечисленных Флэшменом по имени, лишь про двоих можно с точностью сказать, что они в то время служили в Третьем полку туземной кавалерии — Пир-Али и Кудрат-Али, которые оба были капралами, несмотря на то что Флэшмен пишет про Пир-Али как про обычного сипая.
XVII*. «Мусором Эддискомба» называли офицеров — не джемадаров и унтеров. Эддискомб был военной школой, где с 1809 по 1861 гг. проходили подготовку кадеты Ост-Индской Компании. Предубеждение Флэшмена можно объяснить тем, что из ее стен наряду с другими знаменитыми военными вышел лорд Робертс.
XVIII*. Страхи и обиды, перечисляемые Флэшменом, дают правдивое отражение настроения сипаев в начале 1857 года. Слухи о «нечистой» муке и смазанных жиром патронах, а также истории подобные рассказу про уборщика в арсенале Дум-Дум, усиливали подозрения, что британцы хотят уничтожить религию индусов, их касты, увеличить сроки военной службы и коренным образом изменить устоявшийся порядок вещей. К этому добавилась неуверенность сипаев из Ауды, вызванная аннексией их провинции, которая привела к потере ими привилегий, а также недовольство в связи с изменением отношения к ним (по большей части, воображаемое, если верить современным авторам) со стороны нового поколения английских офицеров и солдат, которые считали сипаев более невежественными, чем их предшественники; все это крайне неудачно совпало с поступлением в Бенгальскую армию сипаев из наиболее обеспеченных классов, которые, возможно, более остро реагировали на оскорбления — или же, по мнению некоторых авторов, были более испорчены.
Все вместе это подрывало доверие и порождало беспокойство, к тому же не было недостатка в провокаторах, готовых играть на опасениях сипаев. Подозрения, что британцы хотят колонизировать Индию (см. коммент. V*) были широко распространены и усиливались по мере проведения таких реформ, как борьба с тугами и обрядом сутти (сожжение вдов). Негодование, которое реформы вызвали среди индийских принцев, касалось также изменений в системе образования, которые вызывали беспокойство (см. свидетельство Лоуренса перед Специальным комитетом по Индии, от 12 июля 1859 года Парламентский архив, том 18); а также развитием железнодорожного сообщения и телеграфа. Учитывая все эти базовые факторы, можно утверждать, что, вопрос смазки для патронов явился лишь искрой, поднесенной к труту, (см. также: Сита Рам «Сорок один год лорда Робертса в Индии», Кэй и Мэллсон «История синайской войны» и «История Индийского мятежа» (1864–1880), Г. У. Форрест «История Индийского мятежа» (1904–1912), и того же автора «Избранные письма, депеши… Правительства Индии, 1857–1858».)
XIX*. Советы миссис Макдауэлл по ведению домашнего хозяйства в Индии могут служить образчиком жизни тех времен. (См. «Полный справочник индийской домохозяйки», составленный Г.Г. и Ф.А.С., изданный в 1833 году.)
XX*. Девятнадцатый полк сипайской пехоты, восставший в феврале, был расформирован в конце марта из-за того, что отказался получать новые патроны. Бумага, которую Мангал показывал Флэшмену, несомненно, была листовкой с пророчеством Ашруфа-аль-Акбара из Лакноу, сделанным 28 марта, в котором он предсказывает Великую священную войну по всей Индии и Среднему Востоку; примечательно, что в ней содержится предостережение против помощи русских, которые названы «врагами веры».
XXI*. Сипай Мангал Панди (? — 1857), из Тридцать четвертого синайского пехотного полка 29 марта совершил убийство на плацу в Барракпуре, очевидно, накурившись перед этим гашиша, и пытался поднять религиозный бунт, утверждая, что против сипаев двинут британские войска. Он напал на одного из офицеров, потом пытался покончить с собой. Панди был впоследствии повешен.
XXII*. Насчет учений по заряжанию см. «Избранное» Фореста и «Начало мятежа в Мируте в 1857 г.» Дж. А. Б. Палмера, в части, касающейся пособия по взводному учению. Несмотря на то что историки достигли согласия по поводу того, что же произошло во время этих учений, некоторые различия в деталях все же сохранились; записки Флэшмена в целом совпадают с общепринятой версией. Он утверждает, что бумажная упаковка патронов была провощенной, а не смазанной жиром, и поскольку он не упоминает про патроны с пулями, очевидно, что речь идет о холостых зарядах. Однако подобные утверждения не успокоили опасений сипаев, которые продолжали подозрительно относиться к любым патронам. На них также не произвели особого впечатления повторяемые заверения в том, что нет необходимости надкусывать патроны (что могло бы нанести оскорбление религиозным чувствам солдат, если бы они действительно были смазаны жиром). В январе 1857 года, когда было объявлено, что сипаи смогут сами смазывать свои патроны чистыми с точки зрения веры, веществами, также подчеркивалось, что перед выстрелом патрон можно разрывать пальцами (см. Хансард, т. 3, серия 145, 22 мая 1857 года). Сипаи на это отвечали, что могут забыться и все же надкусить патрон.
XXIII*. Британцы действительно более терпимо и гуманно обращались с туземными войсками, чем с теми, где служили белые. Порка практиковалась в английских частях еще долгое время после того, как была отменена в индийских, дисциплина в которых, возможно, именно вследствие этого, была гораздо менее строгой — это особенно подчеркивает субедар Сита Рам, когда обсуждает в своих мемуарах причины Мятежа.
XXIV*. Лейтенант (позднее генерал-лейтенант, сэр Хью) Гауг 9 мая получил предупреждение от одного из туземных офицеров своего отряда, что сипаи восстанут, для того чтобы спасти своих товарищей из тюрьмы. Кармайкл-Смит и Арчдейл Уилсон пренебрегли этим предупреждением.
XXV*. Одной из первых жертв мятежа в Мируте действительно стал британский солдат, убитый на базаре, возле палатки, где продавали лимонад и другие прохладительные напитки.
XXVI*. Хьюитт и Арчдейл Уилсон проявили необычайную медлительность в продвижении британских полков во время начала восстания; они достигли позиций сипаев только после того, как мятежники покинули их и двинулись на Дели.
XXVII*. Как известно, всего во время резни в Мируте был убит тридцать один европеец, среди которых были семьи Доусон, а также миссис Кортни и трое ее детей (все они упомянуты Флэшменом). Полный перечень приведен в «Записях Департамента разведки Северо-западных провинций, 1857», приложение ко второму тому. Обстоятельства их гибели были ужасны — хирург Доусон был застрелен на своей веранде, а миссис Доусон была сожжена на факелах. Также была убита по крайней мере одна беременная женщина — жена капитана Чэмберса. Однако ходили слухи и о других, во многом завышенных данных о зверствах в Мируте, включая рассказы и о сексуальном насилии. Стоит отметить сообщение сэра Уильяма Мьюира, впоследствии — главы Северо-западного департамента разведки, в письме лорду Каннингу (Агра, 30 декабря 1857 года) о том, что несколько британских свидетелей в Мируте были уверены, что случаев изнасилования не было, а многие ужасы преувеличены. Например, утверждалось, что дочь инструктора по верховой езде Лэнгдейла (а не Лэнгли, как у Флэшмена) была замучена до смерти, хотя в действительности она была убита ударом тулвара, когда спала в своей кроватке (см. письмо преподобного Т. К. Смита, датированное 16 декабря 1857 г. в Мируте). Эту тенденцию многих британских наблюдателей к стремлению быть сдержанными и честными в оценке убийств даже в весьма эмоциональной обстановке мятежа и сразу после него, не следует считать направленной на преуменьшение зверств — они просто стремились скорректировать наиболее дикие истории и представить точное число жертв.
XXVIII*. Мятеж и резня в Джханси имели место в точности так, как это описывает Ильдерим-Хан. Массовое убийство 66 британцев (30 мужчин, 16 женщин и 20 детей) произошло в Джокан-баге 8 июня 1857 года; единственными деталями, которыми рассказ Ильдерима дополняет исторические исследования, являются описания заявлений жертв и их палачей. Это вторая по величине массовая резня, случившаяся во время Мятежа, и некоторым образом, самая жестокая, хотя и несколько менее известна, чем ужасы Канпура. Что ни в коем случае нельзя считать определенным, так это степень ответственности за происшедшее рани Лакшмибай — если ее вообще можно обвинять в случившемся. Позднее она отстаивала свою невиновность и существуют значительные сомнения насчет ее поведения по отношению к трем послам Скина перед тем, как форт сдался (не сохранилось письменных свидетельств о смерти «Мюррей-сагиба», как об этом рассказывал Ильдерим-Хан, а также цитируемого им выражения принцессы, что «Ей нет дела до английских свиней», которые должны были бы быть найдены по крайней мере в одном из современных событиям источников, однако пока все сомнения базируются лишь на показаниях одного подозрительного свидетеля-индуса). Возможно, что Лакшмибай была бессильна воспрепятствовать как мятежу, так и резне; с другой стороны, не сохранилось свидетельств, что она пыталась сделать это, и не подлежит сомнению, что вскоре после этих событий она твердо держала Джханси под контролем и была способна справиться с любой угрозой суверенитету своего княжества.
XXIX*. Цитата, приводимая Флэшменом, составляет краткий пересказ последнего письма, которое Уилер отправил из Канпура после одной из самых героических оборон в истории войны. Последующие события несколько затмили ее, но оборона британцев при Канпуре вошла в анналы Великого мятежа — по условиям существования осажденных в укреплении, по количеству жертв и даже скудным подробностям о ходе осады: например, Белла Блэр действительно умерла, Джон[187] Маккиллоп из Гражданской службы действительно целую неделю доставлял воду под постоянным обстрелом, пока не был убит. Сохранились также свидетельства о том, что осажденные предпочитали стрелять в лошадей нападавших, чем во всадников, поскольку таким образом могли разжиться хоть какой-нибудь пищей.
XXX*. Азимула-Хан был в 1854 году послан в Лондон Нана-сагибом, приемным сыном махараджи Пешавара, с петицией против отмены денежного содержания Наны и отказа ему в титуле после смерти отца. Попытка провалилась, зато сам Азимула имел большой успех среди женщин лондонского света — что не добавило ему симпатии в глазах У. Х. Рассела из «Таймс», во время их последующих встреч в отеле «Миссири» в Константинополе в 1856-м, а позже — в Крыму. Считалось, что несмотря на благородное происхождение, Азимуле довелось поработать учителем и официантом. Нана-сагибу, который присоединился к бунтовщикам во время восстания в Канпуре, предстояло стать одним из лидеров мятежа, но Тантия Топи, о котором Флэшмен лишь едва упоминает, составлял гораздо большую угрозу.
XXXI*. Хотя Флэшмен дает неизвестное ранее описание этого военного совета, оно подтверждает известные факты: Уилер хотел продолжать борьбу, и молодые офицеры поддержали его; более пожилые люди предпочитали сдаться, сохранив таким образом жизнь женщинам и детям, так что в конце концов Уилер согласился, хотя продолжал глубоко сомневаться в том, что мятежники исполнят свои обещания. Предложение Нана-сагиба о проведении переговоров, которое приводит Флэшмен, действительно было передано в укрепление через миссис Джекобс, которую один из современников описывает как «пожилую леди».
XXXII*. Детали резни у Сутти-Гат неизбежно противоречивы, но в целом факты соответствуют данному здесь описанию, и в очередной раз многие из разрозненных воспоминаний Флэшмена подтверждаются другими источниками. Например, Эварт действительно был убит по дороге к реке в своем паланкине; вещи Вайберта несли и его жену охраняли мятежники из числа солдат его собственного полка; пятеро сипаев, оставшихся верными присяге, были убиты бунтовщиками; Мур («настоящий защитник Канпура») был убит в воде. Некоторые источники сообщают, что солома на барках была зажжена еще до того, как начался обстрел с берега и одна из служанок Уилера, нянька, рассказала, что генерал был убит на берегу — ему отсекли голову, когда он приподнялся на носилках. Тем не менее вполне вероятно, что он умер в одной из лодок. Что представляется практически несомненным, так это заранее продуманное вероломство атаки — спастись удалось лишь одной лодке (с Вайбертом).
XXXIII*. Рептилии, которые атаковали пловцов, вряд ли были гавиалами (аллигаторами), которые питаются исключительно рыбой. У настоящих крокодилов имеются выступающие четвертые зубы.
XXXIV*. Число спасшихся вниз по реке представляется правдоподобным. Это подтверждает независимый источник — сообщение лейтенанта Томпсона, который упоминает и зажженные стрелы, посадку барки на мель, осаду храма, бегство на берег, исчезновение лодки, крокодилов и прочее. Кроме Флэшмена остались в живых еще четверо — Томпсон, Делафосс, Салливан и Мэрфи — которые, очевидно, были позже спасены Дирибиджа Сингхом.
XXV*. Резня женщин и детей в Канпуре стала одним из самых страшных зверств в истории Мятежа и вызвала наиболее жестокие ответные репрессии со стороны генерала Нейла. Предполагалось, что Нана-сагиб лично не был виноват в этом и что резня была лишь расплатой за наказания, которым войска Нейла ранее без разбора подвергли жителей Аллахабада и деревень, лежащих по пути в Канпур. Не пытаясь оправдать поведение Нейла, которое уже осуждено историками, стоит все же отметить, что все предыдущие массовые убийства, произведенные индусами в Мируте, Джханси и Дели, не носили характера мести. Что абсолютно не вызывает сомнений, так это то, как были приняты события в Канпуре общественным мнением Британии и какую ярость они вызвали в армии — странное эхо тех давних событий тянулось вплоть до Второй мировой войны, когда татуировщики на Хогмаркете в Калькутте все еще предлагали британским рекрутам наколоть изображение легендарного «Канпурского колодца».
XXXVI*. Флэшмен уделяет Т. Генри Каваноу значительно меньше внимания, чем тот того заслуживает. Этот огромный ирландец был, бесспорно, весьма эксцентричен — один из историков мятежа, Райс Холмс, назвал его даже тщеславным и самоуверенным на грани безумия — но его ночное путешествие в лагерь Кэмпбелла, в до смешного примитивной маскировке, было скорее образчиком вполне расчетливого мужества. Возможно, Флэшмена раздражает тот факт, что другие источники, описывающие подвиг ирландца, указывают, что его сопровождал индус. Флэшмен также мог быть уязвлен несколько нескромным заглавием книги, в которой Каваноу описал это свое приключение: «Как я заработал Крест Виктории». Факты, изложенные в ней, в целом совпадают с рассказом Флэшмена — хотя весьма разнятся с ним в том, что касается их духа и интерпретации. Прекрасная схема самого путешествия имеется у Фореста, том 2.
XXXVII*. Многие военные теоретики упрекали Кэмпбелла за его осторожность и за его (а также Мэнсфилда) бережное отношение к жизни — как британцев, так и мятежников; Фортескью полагает даже, что эта политика способствовала продлению мятежа. Это была не та точка зрения, которую Флэшмен склонен был бы разделять. (См. Фортескью, том XIII.)
XXXVIII*. Картина, на которую ссылается Флэшмен, «Хэйвлок и Аутрам встречают Кэмпбелла в Лакноу», была написана знаменитым мастером батальных сцен викторианского периода, Т. Дж. Баркером. Конная фигура, с рукой, поднятой в бурном приветствии, действительно может принадлежать Флэшмену; она несколько напоминает другое его изображение, как сравнительно молодого еще человека — в группе офицеров Объединенного штаба с президентом Линкольном во время Гражданской войны в Соединенных Штатах.
XXXIX*. Старый друг Флэшмена — Уильям Говард Рассел, корреспондент газеты «Таймс», сделал интересные заметки об этом случае в книге «Мой индийский дневник» (стр. 188, том I).
XL*. Картина грабежа, описанная Флэшменом, подтверждается также и самим Расселом, который рассказал о попытках купить драгоценную цепь у солдата-ирландца в своем дневнике; расчеты приведены почти слово в слово — Рассел даже подтверждает, что, как и упоминает Флэшмен, впоследствии за цепь удалось выручить 7500 фунтов.
XLI* Гриф, или гриффин — прозвище новичков, молодых офицеров. Вряд ли это достойное определение для Робертса, который, несмотря на молодость, заслужил Крест Виктории всего через несколько недель. Флэшмен, похоже, недолюбливал этого легендарного «Бобса», который позднее стал фельдмаршалом лордом Робертсом Кандагарским. Вне всякого сомнения, Флэшмен ему попросту завидовал.
XLII* Если не считать Робертса, то, похоже, той ночью вокруг костра действительно собралась компания выдающихся людей. Уильям Стивен Рэйкс Ходсон (1821–1858) к тому времени уже был известен как отважный командир иррегулярной кавалерии и создатель конного полка Ходсона. Он был годом старше Флэшмена и, поскольку они вместе были в Рагби, представляется весьма правдоподобным, что Флэшмен был у него на побегушках. Репутация Ходсона была противоречивой: отличный солдат, он был способен на хладнокровную жестокость, так, например, он убил в Дели принцев, которые сдались ему в плен. Его застрелили в Лакноу 11 марта 1858 года и ходили слухи (повторяемые здесь Флэшменом). что это случилось во время грабежа. Робертс начисто отрицает это, приводя убедительные доказательства (см. Примечание к стр. 404 его книги «Сорок один год в Индии», том I). Сэм Браун, изобретатель пояса, который носит его имя, был еще одним известным кавалерийским командиром; впоследствии он стал генералом и был награжден Крестом Виктории. Он потерял левую руку в одной из перестрелок через несколько месяцев после событий в Лакноу. «Обдирала-Макдоналд», возможно, тот самый Макдоналд, который ранее был провост-маршалом[188] в Крыму.
XLIII*. Как писал позднее один из участников осады Джханси: «Рани, молодая, незамужняя, жаждущая власти, сидела, глядя на тщедушные фигуры, толпившиеся у ее ног… мы наблюдали за этим, теряясь в догадках, как она могла проявлять свое благоволение к наиболее достойным из подчиненных ей вождей и наше пылкое воображение рисовало весьма необычные и жаркие картины». (См.: Дж. Х. Силвестр «Кавалерийский хирург», изд. Маккензи Эннанд, 1971.)
XLIV*. До момента нахождения архива Флэшмена Листер (позже генерал сэр Гарри Хеймон Листер, кавалер Креста Виктории) считался единственным автором плана по захвату рани живьем. Ни один из авторов — современников Великого мятежа не упоминал об этом плане и о нем ничего не было известно до 1913 года, когда преподобный Х. Х. Листер Денни не опубликовал малоизвестную работу «Мемуары из старого дома», содержащую некоторые воспоминания генерала Листера, из которой эта история и стала известна. По словам Листера, Роуз посвятил его в этот план под большим секретом, который сам Листер не разглашал даже через много лет после смерти Роуза. В общих чертах план совпадал с тем, что описан у Флэшмена и включал захват рани во время попытки спастись из города через одни из ворот Джханси, от которых предварительно был специально отозван британский пикет.
XLV*. Битва при Бетве (1 апреля 1858 года) является незаслуженно забытым и при том — ярким примером блестящего тактического мастерства и хладнокровия Роуза. Захваченный врасплох на неудобной позиции, он развернулся от стен Джханси и атаковал свежие силы мятежников, подходящие к городу, которые десятикратно превосходили его. Роуз лично возглавил атаку своей кавалерии, в результате чего армия Тантии была отброшена, потеряв 1500 человек убитыми и 28 пушек. (См.: Фортескью «История Британской армии», том XIII).
XLVI*. Это случилось примерно в двадцати милях от Джханси, сразу после бегства рани, когда с беглецами столкнулся отряд британской кавалерии под командованием лейтенанта Доукера. В соответствии с бытующим мнением (которое теперь подтверждено еще и Флэшменом) всадником из числа мятежников, ранившим Доукера, была сама рани. В то же время Флэшмен, очевидно, ошибается, когда пишет, что рани покинула Джханси через ворота Орча; другие эксперты указывают на ворота Бандхари, отмечая при этом, что рани взяла с собой в седло и ребенка, маленького Дамодара.
XLVII*. Существуют различные версии смерти Лакшмибай, но вариант Флэшмена в общем соответствует основной из них, которая состоит в том, что принцесса была убита в стычке при Кота-ки-серай, неподалеку от Гвалиора, в которой Восьмой гусарский полк атаковал лагерь мятежников у Пхул-бага. Ее видели в гуще схватки, где она рубилась, зажав поводья в зубах и была ранена, вероятно, пулей из карабина. Рани пошатнулась в седле, скрестила клинки с каким-то солдатом и была зарублена. В соответствии с традицией, на ней было надето бесценное ожерелье Сциндии, которое она, умирая, отдала слуге. Позднее на поле битвы был найден ее шатер, в котором были зеркало в полный рост, книги, картины и ее качели.
XLVIII*. Капитан Клемент Хинейдж (Clement Heneage)[189] принимал участие в знаменитой атаке Легкой бригады под Балаклавой, а позже командовал Восьмым гусарским полком в битве 17 июня 1858 года, в которой была убита рани Джханси. Ошибка Флэшмена вполне объяснима тем, что он никогда не видел этого имени в письменном виде.
XLIX*. Несмотря на прискорбное в целом отношение Флэшмена к женщинам, к некоторым из них он явно чувствовал искреннюю привязанность, даже уважение, в том числе к Лоле Монтес и рани Джханси. Лакшмибай, судя по всему, просто очаровала его, однако то, насколько далеко она зашла, отвечая на его чувства, остается вопросом спорным. Сам Флэшмен перевернулся бы в гробу, услышав подобное предположение, однако представляется в высшей степени сомнительным, что она провела ночь с ним в павильоне неподалеку от Джханси. Примечательно, что за все время этой встречи Флэшмен так и не видел четко ее лица, а его описание свидания дает все основания предположить, что леди, которая провела с ним ночь, была скорее профессиональной танцовщицей или куртизанкой, нежели самой рани. Печальной правдой является то, что в обстановке, созданной мятежом, Лакшмибай приписывали все возможные пороки (применяя целый ряд прилагательных — от «пылкая» до «распущенная»), однако не сохранилось свидетельств, что ее личная жизнь и поведение не были абсолютно безупречными.
Это отнюдь не значит, что она не использовала силу своей женственности (так же, как и любое другое оружие) для достижения политических целей; именно в этом и может быть найдено логическое объяснение случаю в павильоне. Основываясь на рассказе Флэшмена, можно предположить, что уже в то время рани была тесно связана с мятежниками, а также с провокаторами вроде Игнатьева. Возможно даже, что по их совету или по собственной инициативе она решила уничтожить Флэшмена как потенциально опасного британского агента. Установить с ним связь, заманить в павильон и натравить на него профессиональных убийц было просто; то что нечто подобное действительно имело место, подтверждается признаниями, которые Ильдерим вырвал у захваченного туга. Что касается страсти к Флэшмену, которую рани продемонстрировала при его последнем визите в Джханси, то она могла быть полностью (а не частично, как он самодовольно предполагал) разыграна ею, чтобы вытащить из него всю информацию, до последней крупинки. Хотя возможно, что она все же не была абсолютно безразлична к нему; по крайней мере, Флэшмен так думал, а уж он-то имел опыт в этом деле.
Примечания
1
Замок на берегу реки Ди в Шотландии, летняя резиденция английской королевской семьи. — Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. переводчика.
(обратно)2
Эдуард VII — король Англии с 1902 года, сменивший на престоле свою мать, королеву Викторию.
(обратно)3
Персонаж комедии Шекспира «Виндзорские насмешницы» — веселый пьяница, бабник и прожигатель жизни.
(обратно)4
Конестога — грузовая повозка переселенцев Дикого Запада.
(обратно)5
Великий мятеж — устоявшееся в Англии название Восстания сипаев (1857–1859).
(обратно)6
Высшая военная награда Великобритании, учрежденная королевой Викторией в период Крымской войны, вручается за героизм, проявленный в бою.
(обратно)7
Так, по цвету мундиров, во время Крымской войны был назван полк шотландских пехотинцев, сдерживавший атаку русской кавалерии в битве при Балаклаве. Позднее это выражение стало обозначать оборону из последних сил.
(обратно)8
См. «Флэшмен на острие удара».
(обратно)9
Имеется в виду англо-персидская война 1856–1857 гг., которую вызвали претензии Персии на афганский город Герат.
(обратно)10
[I*] — комментарии Фрейзера к тексту, отмеченному римскими цифрами, см. в конце книги.
(обратно)11
Начальные слова гимна Соединенного Королевства Великобритании.
(обратно)12
То есть Александра II.
(обратно)13
Бареж — тонкая легкая полушерстяная ткань из туго скрученной пряжи, для дамских платьев.
(обратно)14
Говорящая фамилия, буквально — «пышные ляжки» (англ.).
(обратно)15
«Старый порядок и Революция» (1856) — весьма глубокое исследование Французской революции, ее причин, механизмов и последствий, написанное французским политическим деятелем и философом Алексисом де Токвилем (1805–1859).
(обратно)16
Джордж Грэнвилл (1815–1891) — английский политик, лидер партии либералов. В правительстве Палмерстона ведал иностранными делами.
(обратно)17
Аллюзия на жен героев шотландских поэм Вальтера Скотта «Дева озера» и «Мармион».
(обратно)18
Фанатичный борец за веру (тюркск.).
(обратно)19
Аксант эгю (accent aigu) — диакритический знак французского языка, обозначающий закрытый звук «е».
(обратно)20
Флоренс Найтингейл (1820–1910) — сестра милосердия и общественный деятель Великобритании.
(обратно)21
Презрительное прозвище испанцев.
(обратно)22
Известный боксер, чемпион Англии с 1857 по 1860 год.
(обратно)23
Маратхи (махаратта) — древняя народность в Индии. Конфедерация маратхи представляла собой могущественное государство, ликвидированное англичанами в первой половине XIX века.
(обратно)24
Сипаи (от перс, «сипахи» — воин, солдат) — наемные солдаты в Индии, вербовавшиеся в английскую колониальную армию из местных жителей.
(обратно)25
Джеймс Эндрю Дальхаузи (1812–1860) — английский государственный деятель, генерал-губернатор Индии в 1848–1856 гг. Его централизаторская политика вызвала большое недовольство в Индии и стала одной из причин Сипайского восстания.
(обратно)26
Индийское название гашиша.
(обратно)27
Херевард Уэйк (Будитель) (ок. 1035 — ок. 1072) — лидер народного англосаксонского сопротивления в период нормандского нашествия, вырвавшийся из плена Вильгельма Завоевателя. Легенды о Хереварде-Будителе вошли в английский народный фольклор, некоторые из них позднее трансформировались в истории о Робин Гуде.
(обратно)28
Битва при Плесси (Палаши) — сражение в Западной Бенгалии, в котором 23 июня 1757 года британский полковник Роберт Клайв, представлявший интересы Британской Ост-Индской компании, нанес сокрушительное поражение войскам бенгальского наваба, на стороне которого выступала Французская Ост-Индская компания.
(обратно)29
Туги — средневековые индийские разбойники-сектанты, посвятившие себя служению Кали, богини смерти и разрушения.
(обратно)30
Рани (сокращенное от «махарани») — жена махараджи.
(обратно)31
Персонаж популярного в викторианскую эпоху романа безымянного автора «Бесстрашный Дик, или Юный пират» (ок. 1885), в котором рассказывается о поисках сокровищ капитана Кидда.
(обратно)32
Фаги (жарг. «прислужники, лакеи») — младшие ученики в английской привилегированной частной средней школе, выполнявшие поручения старшеклассников.
(обратно)33
Росс Доннелли Манглс (1801–1877) — английский политик, член Совета по контролю за делами в Индии.
(обратно)34
Герои поэмы В. Скотта «Дева озера».
(обратно)35
Томас Хьюз (1822–1896) — английский писатель, автор полуавтобиографической книги «Школьные годы Тома Брауна» (1857), где упомянуто о некоторых нелицеприятных проделках юного Флэшмена.
(обратно)36
Джон Беньян (Баньян) (1628–1688) — английский писатель, автор религиозных книг.
(обратно)37
Улица в деловом квартале Лондона.
(обратно)38
Тюрбан. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)39
Гхи — ароматизированное специями топленое масло.
(обратно)40
Сутти — обряд добровольного самосожжения вдов в Индии.
(обратно)41
Сиркар (Sirkar) — индийский термин, обозначающий британскую администрацию в Индии.
(обратно)42
Грум. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)43
Сеттльмент — обособленный квартал в колониальном городе, где проживали европейцы.
(обратно)44
Меч. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)45
Дословно, «шерстяная голова», то есть негр. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)46
Христианин, белый человек. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)47
См. «Флэшмен».
(обратно)48
Большой салют. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)49
Сержант. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)50
Сэр, лорд. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)51
Привратник. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)52
Герой. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)53
Почетный титул, герой. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)54
Буквально — «та, что сидит за занавеской». — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)55
«Сладок и прекрасен разврат за отчизну» (лат.) — искаженная строка из оды Горация, на самом деле звучащая так: «Сладка и прекрасна смерть за отчизну».
(обратно)56
Солдаты. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)57
Туземный офицер, командующий кавалерийским отрядом. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)58
Джеханнум — название ада у мусульман.
(обратно)59
Воины. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)60
Во имя Аллаха!
(обратно)61
Большой господин, важный человек. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)62
См. «Флэшмен».
(обратно)63
«Кутч» в данном случае означает «подчиненный», как противоположное «пукка», то есть «главная», «первоклассная». Например: «пукка дорога» — дорога с твердым покрытием, «кутч дорога» — грунтовая, колея. Таким образом, «кутч-рани» значит — номинальная владычица, лишенная власти. — Примем. Дж. М. Ф.
(обратно)64
Утки и мулы — прозвища англо-индийцев из Бомбея и Мадраса, соответственно. Эти сленговые выражения, весьма популярные среди британцев в Индии, скорее всего весьма редко употреблялись самими индийцами. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)65
Воры и жители джунглей. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)66
«Аппер роджер» (англ. upper roger, «с копьем наизготовку») означает «молодой вождь» («юва раджа» на санскр.). Этот и другие курьезы англо-индийского сленга можно найти в словаре «Хобсон-Джобсон» Г. Иела (1886). — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)67
Официальный представитель (возможно, в данном случае это слово используется с иронией). — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)68
Радж — британское господство в Индии, власть англичан.
(обратно)69
Деван (диван) — титул, применявшийся в Индии в отношении правителей ряда провинций.
(обратно)70
Добрая королева Бесс — прозвище английской королевы Елизаветы 1 (1533–1603), при которой была разгромлена испанская «Непобедимая армада».
(обратно)71
Вид карри. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)72
Клерки. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)73
Суд. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)74
Негодяй. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)75
Хакни Уик — район на восточной окраине Лондона.
(обратно)76
Рыцари Круглого стола короля Артура. Прославившийся своей галантностью и чистотой Галахад — незаконнорожденный сын Ланселота.
(обратно)77
То есть ближе к гарде, где, в отличие от «слабой» части (ближе к острию), клинок сложнее заставить изменить направление.
(обратно)78
Слуга, официант. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)79
Леди. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)80
Милая. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)81
На все воля Аллаха! (арабск.)
(обратно)82
Танцовщица. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)83
То есть убит ритуальным метательным топориком. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)84
Черная вода, то есть океан. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)85
Люди-владыки, то есть британцы. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)86
Нападение на неверных. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)87
Ритуальное перерезание глотки. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)88
Куртка из овечьей кожи. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)89
Полевая надбавка. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)90
Десятник в кавалерии. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)91
Правитель. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)92
Туземный адъютант в иррегулярной индийской кавалерии. (Поскольку Третий полк не был иррегулярной частью, Флэшмен, похоже, неправильно употребил здесь этот термин.) — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)93
Здесь — денежный залог, вносимый рекрутом при записи на военную службу. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)94
Ура, браво! — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)95
Нуллах — овраг (хинди).
(обратно)96
Сын совы. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)97
Кебаб — жареное мясо на вертеле (тюркск.).
(обратно)98
Койка. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)99
Капрал. — Примеч. Дж, М. Ф.
(обратно)100
Место для приготовления пищи, глиняный очаг. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)101
Зеленая сладковатая масса, содержащая гашиш. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)102
Унтер-офицер. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)103
Местное масло, жир для приготовления пищи. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)104
Госпожа, почтительное обращение к белой женщине в Индии.
(обратно)105
Имеется в виду Вторая англо-сикхская война 1848–1849 г., в результате которой англичане разгромили государство сикхов и аннексировали принадлежащую ему провинцию Пенджаб на северо-западе Индии.
(обратно)106
Крайне оскорбительное выражение. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)107
Мука. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)108
Учитель. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)109
Молодые солдаты (хинди).
(обратно)110
«Лоуренс» — один из знаменитых братьев Лоуренсов, которые служили на границе и потом отличились во время Мятежа. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)111
Фермер. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)112
Крепкий напиток. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)113
Владение пикой на скаку. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)114
Книги. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)115
Полк. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)116
Туземный офицер. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)117
Разрешение. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)118
Дворецкий. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)119
Поэма Байрона.
(обратно)120
Джеймс Аутрам (1803–1863) — английский военачальник, участник подавления Сипайского восстания. Хью Уилер (1789–1857) — английский военачальник, участник подавления Сипайского восстания. Тантия Топи (1814–1859) — маратх по национальности, один из руководителей Сипайского восстания в Индии.
(обратно)121
Официанты. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)122
Буквально «маленький завтрак» — ранний утренний чай. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)123
Буквально «нет дома» — очевидно, поднос, используемый для визиток. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)124
Священная война. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)125
Проповедники. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)126
Артиллерийского командира. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)127
То есть для наказания старшим начальником.
(обратно)128
Нет (хинди).
(обратно)129
Марш во время приведения в исполнение наказаний в военных частях.
(обратно)130
Наказание за трусость в войсках Древнего Рима — казнь каждого десятого из числа бежавших воинов.
(обратно)131
Ребенок. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)132
«Убей!» — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)133
Короткие накидки. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)134
Британцы. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)135
Привет. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)136
Нет-нет-нет!
(обратно)137
Брат. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)138
Люблю, любишь, любит (лат.).
(обратно)139
«К серьезной беде пустяки эти после приводят» (Гораций. Послание к Пизонам об искусстве поэзии). — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)140
Горшочек, чашка для питья. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)141
Рейтерс — одно из крупнейших международных агентств новостей и финансовой информации, основано Полом Джулиусом Рейтером в Лондоне в 1851 г.
(обратно)142
Наваб (хинди) — наместник провинции.
(обратно)143
То есть стал ее солдатом, наемным воином.
(обратно)144
Воры. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)145
Огнестрельное оружие. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)146
Сикхи — народ, проживающий в Индии (большая часть в штате Пенджаб); последователи сикхизма — дхармической религии, возникшей как протест против кастовой системы индуизма и политического господства мусульманской династии Великих Моголов.
(обратно)147
Бунтовщик (см. коммент. XXI*). — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)148
Раджпуты (санскр. «сыновья раджи») — этно-сословная группа в составе варны кшатриев в Пакистане и северной Индии.
(обратно)149
Фальшфейер — сигнальная ракета.
(обратно)150
Фарлонг (фурлонг) — мера длины, 1/8 британской мили (около 200 м).
(обратно)151
Кокни — пренебрежительно-насмешливое прозвище уроженца Лондона из средних и низших слоев населения.
(обратно)152
Туземная медсестра. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)153
Туземные разносчики воды. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)154
Старик (тюркск.).
(обратно)155
Джон Поль Джонс (1747–1792) — английский морской офицер, перешедший во время Войны за независимость США на сторону американцев и ставший одним из основателей американского флота. Позже служил в русском флоте. Для англичан его имя было нарицательным как мятежника и пирата.
(обратно)156
Из смешанной касты. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)157
Буквально «тяжелый человек». — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)158
Уильям Рассел, (1820–1907) — английский журналист, репортер газеты «Таймс». Освещал события Крымской войны, Сипайского мятежа. Считается первым военным репортером.
(обратно)159
Перемирие, прекращение военных действий.
(обратно)160
Торжественный наряд, используемый преимущественно для церемониальных выходов. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)161
Осторожнее! — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)162
Вырежут. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)163
Обрядовый спуск к священной реке.
(обратно)164
«Грейт Истерн» (до спуска на воду носил имя «Левиафан») — британский пароход, спроектированный Изамбаром Брюнелем, до конца XIX века являлся самым большим судном в мире.
(обратно)165
Железная дева — средневековое орудие пыток, представлявшее собой железный шкаф, по форме напоминавший женщину, с острыми гвоздями внутри.
(обратно)166
Организация, администрирование. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)167
Томас Бабингтон Маколей (1800–1859) — британский государственный деятель, историк, поэт и прозаик викторианской эпохи.
(обратно)168
Базарный нищий.
(обратно)169
Государственная лотерея времен королевы Виктории.
(обратно)170
То есть узнают в них англичан. Гарри (точнее, Гай) Фокс — один из руководителей так называемого «Порохового Заговора» в XVII веке. День раскрытия заговора (5 ноября) отмечается в Англии как национальный праздник.
(обратно)171
Острое словцо (франц.).
(обратно)172
«Да, брат, очень холодно!» — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)173
Намек на легендарного ирландца Патрика Хулигана («Ночного Хулигана»), чья буйная семейка прославилась ночными дебошами и разбоем в лондонском районе Саутварк.
(обратно)174
Увеселительный парк в Лондоне.
(обратно)175
Далила — филистимлянка, которую полюбил израильский богатырь Самсон. Филистимляне, воевавшие с израильтянами, уговорили Далилу выведать у Самсона тайну его силы. Когда он рассказал о том, что сила его в волосах, она усыпила его и остригла.
(обратно)176
Презрительное прозвище ирландцев.
(обратно)177
Полк рэйнджеров Коннаута (88-й пехотный). — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)178
Бегума — знатная дама в Индии, жена или дочь бега (хинди «господин»).
(обратно)179
Гуркхи (гурки) — британские колониальные войска, набиравшиеся из непальских добровольцев.
(обратно)180
Пайса — мелкая медная монета в Индии.
(обратно)181
Имеется в виду герой душещипательного стихотворения Эдварда Фармера (1809–1876). Правда Флэшмен путает, и умирающего мальчика звали не Вилли, а Джим.
(обратно)182
Уничижительное прозвище негра, прежде всего молодого мужчины. Особенно было распространено в XIX — начале XX в.
(обратно)183
Фраза, завершающая церемонию посвящения в рыцари.
(обратно)184
Опахало. — Примеч. Дж. М. Ф.
(обратно)185
Джеймс Хоуп Грант (1808–1875) — английский военачальник, участник войн в Индии и Пекинской экспедиции 1860 года.
(обратно)186
Одна из высших наград Великобритании. Учреждена в 1725 году.
(обратно)187
Джок в тексте Флэшмена.
(обратно)188
Провост-маршал (provost marshal) — глава военной полиции.
(обратно)189
Клем Хеннидж (Clem Hennidge) в тексте у Флэшмена.
(обратно)




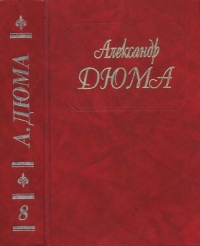
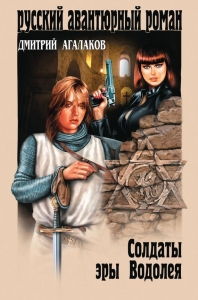
Комментарии к книге «Флэшмен в Большой игре», Джордж Макдональд Фрейзер
Всего 0 комментариев