О рыцарях без страха и упрека
Промозглым декабрьским днем 1890 года с дома номер один по Буш-виллас в пригороде Портсмута исчезла медная, начищенная до зеркального блеска табличка, уведомлявшая прохожих о том, что здесь обитает доктор Артур Конан Дойл. Событие не осталось незамеченным и вызвало в округе легкое недоумение. Еще бы! Потратить уйму лет на постижение врачебного искусства, после долгих мытарств обзавестись собственной практикой, начавшей наконец-то приносить сносный доход, и вдруг бросить все ради сочинительства, ремесла весьма ненадежного. Кое-кто из пациентов доктора слышал, будто в молодости он ходил с китобоями в мрачные далекие моря, кишащие опасностями. Нынешняя его затея казалась более сумасбродной, нежели плавание в утлой ладье по вздыбленным океанским волнам.
Однако сам Конан Дойл почти не сомневался в успехе, славе и достатке, ожидающих его на новом поприще. В конце концов он вступал на него не робким неумехой. Ему уже довелось испробовать свое перо, и оно, если верить молве, оказалось совсем недурным. Порукой тому служил прием, оказанный по крайней мере двум героям, которым он дал жизнь. Их появление вызвало восторг у английской публики, обычно привередливой и скупой на похвалы.
Первого из героев звали Шерлок Холмс, и вам наверняка доводилось читать или хотя бы слышать о нем. Гениальный детектив, распутывающий самые загадочные преступления, перед которыми пасуют лучшие умы британской уголовной полиции, стал не только кумиром всех, кто обожает тайны и приключения, но и символом непревзойденного Великого Сыщика, сравнение с коим, я думаю, польстит любому следователю.
Сэр Найджел Лоринг, а таково имя второго героя, ныне, пожалуй, не столь известен, как в тот год, когда буквально вся Англия была покорена «Белым отрядом», романом, повествующим о подвигах доблестного воина и его верных соратников. Только при жизни Конан Дойла роман о сэре Найджеле переиздавался двадцать с лишним раз! Более впечатляющую овацию писателю вряд ли придумаешь.
Похоже, что и самому Конан Дойлу было жаль расставаться со своим героем. Во всяком случае, спустя много лет после ошеломляющего успеха «Белого отряда» он пишет вторую книгу о сэре Найджеле, ту самую, которую вы держите сейчас в руках. Она без утайки поведает вам необычную и вместе с тем правдоподобную историю юноши, не наделенного богатырской мощью, но бывшего, однако, рыцарем без страха и упрека.
Рыцарь… Если хорошенько вслушаться, в этом слове различимы грозный топот мчащихся коней, упругий посвист стрел и скрежет скрещиваемых мечей. Какую радость находили люди, избравшие своим уделом войну, в крови, заливающей поля сражений, во въедливой пыли дорог, в стуже, пронизывающей походные шатры? Нет, не кровожадность и не надежда на богатую добычу влекли их. Истинные рыцари, воспетые в балладах и легендах, они жаждали вступить в противоборство с тяготами и страхом смерти, дабы испытать крепость своих рук и доблесть сердца. Человек боязливый, рыхлый душой и телом не стоит и ломаного гроша. Такой не придет на помощь в лихую годину и, клонясь долу перед могущественным, скорее всего не преминет выместить свое унижение на немощном. Тот, кто не способен постоять за себя, не постоит и за другого. Что стало бы с миром, если бы в нем не находилось смельчаков, избирающих пути неизведанные и полные опасностей?! Наверное, он был бы унылее и бесцветнее затхлого болота…
Не каждому по плечу рыцарские доспехи и бремя рыцарского долга. Суров и непререкаем кодекс чести рыцаря. Не уклоняться от трудностей, но искать их, и чем тяжелее испытание, тем оно почетнее. Позором покрывал себя праздновавший труса, однако и победа над слабым противником не украшала рыцаря. Лишь одержавший верх над равным, а тем паче более сильным врагом стяжал славу. Скупость и скаредность не к лицу рыцарю. Его звание обязывает быть щедрым на помощь, не отказывать нуждающимся в заступничестве. Крепче булата полагалось быть слову рыцаря, а нарушивший его пятнал себя вечным бесчестьем. Не столько искусное владение оружием и знатное происхождение делали человека рыцарем, сколько его собственные поступки и прежде всего умение хранить благородство и достоинство в бранной сече, на турнире — всюду, куда бы ни забрасывала судьба.
Минули безвозвратно времена рыцарей. Лишь руины замков да потускневшие латы, пылящиеся в музеях, напоминают о них. Мир неузнаваемо переменился с тех пор. Нам с избытком хватает собственных забот и тревог. Так к чему ворошить прошлое, всматриваться в следы, оставленные давно ушедшими поколениями? Ради праздного любопытства? Не только. Удастся ли вам увидеть черты своего лица, узнать, чисто оно или испачкано, не смотрясь в зеркало? Вряд ли. История — словно волшебное зеркало. Тот, кто заглядывает в него, может различить не только отсветы минувших веков, но и разглядеть самого себя, со всеми своими достоинствами и недостатками, силой и слабостями. Именно для того чтобы мы лучше узнали самих себя, воскрешали прошлое на страницах своих книг многие писатели и среди них Артур Конан Дойл. Впрочем, так ли уж далек от нас мир сэра Найджела и других славных рыцарей? Почему мы и поныне говорим о чьем-либо рыцарском поступке и величаем отважного человека подлинным рыцарем? Ведь нет уже и в помине облаченных в доспехи воинов, горделиво восседающих на могучих конях и готовых сойтись с любым недругом в честном бою. Многие слова, некогда привычные, истерлись из памяти человечества, а слово «рыцарь» живет и поныне. Так, может быть, и сейчас можно стать истинным рыцарем? И для этого вовсе не обязательно опоясываться мечом и водружать на голову шлем. Достаточно лишь всегда и во всем поступать по-рыцарски. Как именно?
В детстве мать Конан Дойла частенько повторяла ему одно старинное поучение: «Бесстрашие перед сильным, смирение перед слабым. Быть благородным со всеми женщинами. Подавать помощь нуждающемуся, кем бы он ни был. И тому порукой слово рыцаря». Слова наставления запали в душу Артура, и всю свою долгую жизнь он старался следовать им как великой заповеди, помогающей не сбиться с верного пути. Когда вы поближе узнаете Найджела Лоринга, а возможно, и профессора Челленджера, и бригадира Жерара, и Шерлока Холмса, и других героев Конан Дойла, вы обнаружите, что их роднит общая черта: все они рыцари, если и не по званию, то уж во всяком случае по духу и делам. Впрочем, не только на страницах романов живут рыцари. Присмотритесь к людям, окружающим вас, и, без сомнения, вы найдете среди них настоящих рыцарей, ставящих честь, доблесть и справедливость превыше всего на свете. А быть может, и в вас самих дремлет рыцарский дух? Не страшитесь пробудить его, ибо, суля вам жизнь беспокойную, исполненную неожиданных, а подчас лихих испытаний, он поможет вам стать человеком без страха и упрека, твердо верящим в свои силы и достоинство, готовым служить опорой слабому и подмогой в делах добрых. А порукой тому слово таких славных рыцарей, как сэр Найджел и Артур Конан Дойл!
Кирилл АндерсонПредварение
Дама История столь строга, что всякий, кто, по неразумию, позволит себе допустить с ней вольность, обязан незамедлительно загладить свой проступок чистосердечным признанием и раскаянием. В этом повествовании некоторые события ради стройности и гармоничного развития сюжета перемещены во времени на несколько месяцев. Надеюсь, что такое малое отклонение спустя пять с половиной столетий — грех простительный. В остальном же историчность соблюдалась настолько точно, насколько позволяло тщательное и усердное изучение источников.
Вопрос о языке эпохи в исторических произведениях всегда требует такта и вкуса. В 1350 году высшие классы Англии все еще изъяснялись на нормандско-французском, хотя уже порой снисходили до английского. Низшие классы говорили на том английском языке, на котором создавалось «Видение о Петре Пахаре», то есть для современного читателя даже еще более трудном, чем французский их господ. Поэтому автору пришлось ограничиться попыткой воссоздать общий строй и манеру их речи, иногда вводя те или иные архаизмы для передачи ее стиля.
Я отдаю себе отчет в том, что современным читателям многие эпизоды могут показаться жестокими и отвратительными. Однако бессмысленно рисовать двадцатый век и именовать его четырнадцатым. Время было гораздо более суровое, а моральный кодекс, особенно в отношении жестокости, был совсем иным. В романе нет ни единого эпизода, для которого нельзя найти подтверждения в источниках. Изысканные законы рыцарственности были лишь тонкой пленкой на поверхности жизни, а под ней прятались варварство и звериная жестокость, чуждые милосердию. Это была грубая, нецивилизованная Англия, полная стихийных страстей, искупаемых лишь такими же стихийными добродетелями. Вот такой я и стремился ее изобразить.
Каким бы ни получился роман, но своим созданием он обязан множеству книг. Я смотрю на свой письменный стол и радостно прощаюсь с теми из них, которые еще лежат на нем. Я вижу «Средние века» Лакруа, «Искусство войны» Омана, «Общее гербоведение» Ритстепа, «Историю Бретани» Бордери, «Книгу Сент-Олбенса», «Хронику Жослена Брейклонда» и «Старую Дорогу» Бернерс, «Старинные доспехи» Хьюитта, «Геральдику» Куссена, «Оружие» Бутелла, «Чосеровскую Англию» Брауна, «Сцены средневековья» Каста, «Бродячую жизнь» Джасренда, «Кентерберийских паломников» Уорда, «Рыцарство» Корниша, «Британский лучник» Хастингса, «Развлечения» Стратта, «Фруассара» Джонса, «Искусство стрельбы из лука» Харгрува, «Эдуарда III» Лонгмена, «Нравы и обычаи» Райта. Много месяцев они и многие другие были постоянными моими собеседниками. Если почерпнутое из них я не сумел слить воедино с должной силой, вина моя.
Андрешо Октябрь 1906 года Артур Конан ДойлГлава I Благородный дом Лорингов
В месяце июле лета Господня одна тысяча триста сорок восьмого между днем святого Бенедикта и днем святого Суизина[1] приключилось в Англии дотоле невиданное, ибо поднялась на востоке страховидная багровая туча, изнутри бурлящая, исполненная зла, и заклубилась вверх по замершему небосводу. В тени сей невиданной тучи листья на деревьях поникали, птицы смолкали, а коровы и овцы боязливо жались к изгородям. Жуткая мгла окутала страну, и люди не спускали глаз с невиданной тучи, а сердца их тягостно сжимались. В испуге они укрывались в церквах и, дрожа, получали благословение и отпущение грехов от дрожащих священнослужителей. А снаружи — ни крика птицы, ни лесных шорохов, ни других простых и привычных звуков. Все замерло, ничто не шевелилось, и только огромная туча, клубясь, ползла вверх от черного горизонта. На западе еще голубело небо, но зловещий вал продолжал чуть заметно катиться с востока вверх и вперед, пока не заволок последние проблески голубизны и весь необъятный купол небес не навис над землей тяжелым свинцовым сводом.
И тут пошел дождь. Он шел весь день, и всю ночь, и всю неделю, и весь месяц, — и люди позабыли, как выглядят небесная синева и солнечный свет. Он не был проливным, а только непрерывным, холодным, нескончаемым, и люди изнемогали от его шороха и всплесков, от размеренного стука капель, падающих с кровли. А густая злая туча все клубилась и клубилась с востока на запад, проливаясь нескончаемым дождем. И сквозь завесу его струй люди, стоя на пороге своих жилищ, видели не дальше полета стрелы. Каждое утро они искали взглядом разрыв, в который проглянуло бы солнце, но видели лишь все ту же свинцовую пелену, и в конце концов они перестали смотреть вверх, отчаявшись дождаться перемены. Дождь шел в день Петра в веригах, и на Успенье, и продолжал идти в Михайлов день[2]. И травы пропитались влагой, почернели и сгнили на полях и лугах, потому что убирать их не имело смысла. Овцы передохли, и телята тоже, и когда подошел Мартынов день[3], а с ним и время солить мясо на зиму, засаливать оказалось нечего. Люди страшились голода, но ждало их испытание, страшнее чем голод.
Ибо дождь наконец перестал, и слабое осеннее солнце озарило пропитанную водой полужидкую землю. Леса дымкой окутали вредоносные испарения и запахи мокрой гниющей листвы. На полях и лугах выросли чудовищные поганки, ни по величине, ни по цвету не имевшие себе никакого подобия — багряные, сизые, желчно-желтые, черные. Казалось, изнемогшая земля покрылась гнойниками. Стены заросли плесенью и лишайниками. А вместе с этими гнусными плодами захлебнувшаяся водой земля взрастила Смерть. Умирали мужчины, и женщины, и дети — барон у себя в замке, вольный хлебопашец у себя в усадьбе, монах в аббатстве и крепостной в глиняной мазанке. Все дышали одним смрадом, и всех губила одна моровая язва. Никто из сраженных ею не выздоровел, и все заболевали и умирали одинаково — огромные нарывы, бред и черные пятна, отчего и назвали этот мор Черной Смертью. Всю зиму у дорог валялись гниющие трупы, их некому было похоронить. Во многих деревнях в живых не осталось ни единого человека. Наконец наступила весна, неся с собой солнечный свет, здоровье, веселье и смех, — самая зеленая, самая душистая, самая ласковая весна, какую когда-либо видела Англия. Но увидела ее лишь половина Англии — вторую половину унесла огромная багровая туча.
Однако именно в этих испарениях смерти, в этом смраде гниения родилась новая, более светлая, более свободная Англия. В этот самый темный час блеснул первый луч занимающейся зари. Ибо лишь великие потрясения и перемены могли вырвать нацию из железных цепей феодальной системы, сковавшей ее по рукам и ногам. Год смерти вызвал к жизни новую страну. Бароны погибли сотнями и тысячами — ведь ни самые высокие башни, ни самые глубокие рвы не могли укрыть их от косы Черной простолюдинки. Жестокие законы утратили силу, потому что некому было приводить их в исполнение, а снова наложить раз сброшенные цепи оказалось невозможным. Работник больше не хотел быть рабом. Крепостной разорвал опутавшие его узы. Дела предстояло так много, а тех, кто мог его выполнить, осталось так мало! И эти немногие должны были стать свободными, сами назначать плату за свой труд и работать там и на того, как хотелось им. Черная Смерть расчистила путь для великого восстания тридцать лет спустя, которое сделало английского крестьянина самым свободным{1} по сравнению с остальными его собратьями в тогдашней Европе.
Но вряд ли в те дни нашлось бы даже несколько дальнозорких людей, способных увидеть, что и это зло обернется добром, как бывает всегда. Горе и разорение постигли каждую семью. Павший скот, неубранный хлеб, невспаханные поля… все источники благосостояния пересохли одновременно. Богатые стали бедными, но те, что уже были бедны, попали в поистине безвыходное положение, а тем более если их обременяла необходимость поддерживать достоинство своего благородного рода. По всей Англии дворян подстерегала нищета — ведь у них не было иного ремесла, кроме войны, и жили они чужим трудом. Многие поместья оказались на краю гибели, и особенно поместье Тилфорд, с давних времен принадлежавшее благородному роду Лорингов.
Было время, когда Лоринги держали земли от Норт-Даунсов до Френемских озер, когда их мрачный донжон{2}, вздымающийся над пойменными лугами реки Уэй, был оплотом самой грозной крепости между Гилфордским замком на востоке и Винчестером на западе. Но начались баронские войны, и король воспользовался своими подданными, происходившими от англосаксов, как бичом, чтобы привести к повиновению свою нормандскую знать{3}, и замок Лоринг, подобно многим знаменитым крепостям, сровняли с землей. С той поры Лоринги, чьи владения были беспощадно урезаны, жили в господском доме, куда прежде удалялась овдовевшая хозяйка замка, уступая место супруге нового главы рода. Концы с концами они сводили, но от былой пышности не осталось и помина.
А затем цистерианские монахи{4} Уэверлийского монастыря по соседству затеяли с ними тяжбу, вознамерившись отобрать у них лучшие земли и присвоить феодальные права на остальные — вплоть до прекария и турбария. Великий процесс длился много лет; когда же решение было вынесено, церковники и законники поделили между собой наиболее лакомые куски, а Лорингам остался старый господский дом, откуда из поколения в поколение на очередную войну отправлялся рыцарь поддержать честь родового имени и показать врагам пять алых роз на серебряном поле там, где они их видели всегда, — в первом ряду авангарда. В маленькой часовне, где Метью, домашний капеллан, каждое утро служил мессу, покоились двенадцать бронзовых рыцарей — надгробия двенадцати членов рода Лорингов. У двоих ноги были скрещены в знак их участия в крестовых походах. Еще шестеро опирались стопами на львов, как павшие в битве. И лишь у ног четверых лежали бронзовые охотничьи псы, свидетельствуя, что их хозяева скончались в дни мира.
В году от Рождества Христова 1349-м имя этого прославленного, но обедневшего рода, вдвойне разоренного законом и чумой, носили лишь двое — благородная дама Эрминтруда Лоринг и ее внук Найджел. Супруг леди Эрминтруды пал под Стирлингом, отражая натиск шотландских копейщиков, а ее сын Юстес, отец Найджела, доблестно погиб за девять лет до начала этой хроники на корме нормандской галеры в морском сражении при Слейсе. Одинокая старуха, столь же яростная и сумрачно-гордая, как сокол в клетке у нее в опочивальне, была ласкова только с юношей, которого взрастила. Вся любовь и нежность, так глубоко спрятанные в ее натуре, что никто о них даже не догадывался, были отданы ему. Она не желала расставаться с ним, а он, почитая старшую в роде, как того требовали обычаи века, не мог никуда уехать без ее согласия и благословения.
И вот Найджел, с сердцем льва в груди и кровью сотен воинов, бурлящей в его жилах, на двадцать втором году жизни без толку коротал томительные дни, наманивал пущенных в небо соколов, надевая на них путы и клобучки, или обучал охотничьих псов, которые делили с хозяевами большую залу.
День за днем престарелая леди Эрминтруда видела, как он крепнет и мужает. Некоторый же недостаток роста искупался железными мышцами и пламенным духом. Отовсюду — от коменданта Гилфордского замка, с ристалища Фарнема — до нее доходили вести о том, какой он смелый наездник, как он беззаветно храбр, как искусно владеет любым оружием, и все-таки она, кого кровавая смерть лишила супруга и сына, не могла вынести мысли, что последний из Лорингов, единственная уцелевшая почка прославленного старого древа, разделит ту же судьбу. Изнывая душой, но сохраняя улыбку на лице, Найджел терпел свою монотонную жизнь, а его бабушка все откладывала и откладывала злой час разлуки: вот когда кончится недород, вот когда монахи Уэверли вернут то, что присвоили, вот когда его дядя умрет и оставит ему деньги, чтобы он мог достойно снарядить себя, вот когда… ну, словом, она ссылалась на любой предлог, лишь бы удержать его возле себя.
Но и правда, Тилфорду требовался хозяин, потому что мир между аббатством и господским домом восстановлен не был, и монахи находили то один, то другой предлог отрезать у своих соседей еще один ломоть их земли. На том берегу извилистой реки над зелеными лугами высились тяжелая квадратная башня и мощные серые стены угрюмого аббатства, где днем и ночью звонил колокол, точно беспрестанно угрожая маленькому поместью.
И эта хроника дней былых должна начаться в самом сердце богатого Цистерианского монастыря: мы расскажем о вражде между монахами и домом Лорингов, о тех событиях, к которым она привела, опишем приезд Чандоса, небывалый поединок у тилфордского моста и подвиги Найджела на войне, снискавшие ему славу. В хронике «Белого отряда» уже описано, каким человеком был Найджел Лоринг. Те, кому он пришелся по сердцу, могут прочесть здесь, как и почему он стал таким. Отправимся же вместе в прошлое и обозрим зеленую сцену Англии. Декорации — холм, равнина, река — совсем такие, как нынче, актеры же во многом неотличимы от нас самих, а во многом и в мыслях, и в поступках столь от нас далеки, будто обитали они на иной планете.
Глава II Как дьявол явился в Уэверли
День был первое мая, день святых апостолов Иакова и Филипа{5}. Год же был одна тысяча триста сорок девятый от Рождества Спасителя нашего{6}.
После девятичасовой молитвы и до полуденной, а потом после полуденной молитвы и до трехчасовой аббат Джон, настоятель Уэверлийской обители, занимался делами у себя в приемной, исполняя многотрудные обязанности, возложенные на него вместе с саном. На много миль вокруг на юг и на север, на запад и восток раскинулись плодородные земли процветающего монастыря, всевластным хозяином которого он был. В самом их сердце поднимались массивные здания аббатства — церковь и кельи, трапезная, странноприимный дом и дом капитула{7}, полные хлопотливой жизни. За распахнутыми окнами слышались приглушенные голоса братьев, которые прохаживались по аркаде внизу, занятые благочестивой беседой. С той стороны внутреннего двора доносились переливы духовного песнопения — там регент разучивал его с хором, а зычный голос брата Питера гремел в доме капитула, где он растолковывал послушникам устав святого Бернарда.
Аббат Джон поднялся, чтобы размять затекшие ноги. Он обвел взглядом зеленеющую траву и изящные готические арки открытой галереи, под сводом которой прогуливались братья. Облаченные в черно-белые одеяния, склонив головы, они медлительным шагом попарно описывали круг за кругом. Наиболее усердные принесли из скриптория{8} свои рукописи, разложили под ласковым солнцем свои дощечки с красками и сусальным золотом и, сутуля плечи, склонялись над белыми листами бумаги. А неподалеку расположился чеканщик со своими резцами. Хотя ученость и искусства не были у цистерианцев в той же чести, как у ордена бернардинцев, из которого они выделились, библиотека Уэверли могла похвастать множеством как бесценных книг, так и благочестивых ревнителей книжной мудрости.
Однако истинную славу свою цистерианцы видели в трудах под открытым небом, и по галерее, возвращаясь с полей или из сада, то и дело проходили братья-трудники, чьи лица были обожжены солнцем, рясы подсучены, а руки сжимали выпачканные в земле мотыги или лопаты.
Сочные пойменные луга, где паслись тонкорунные овцы, хлебные поля, отвоеванные у вереска и папоротника, виноградники на южном склоне холма Круксбери, цепь рыбных садков, осушенное, превращенное в огороды болото, вместительные голубятни опоясывали величавое аббатство, как видимые доказательства усердия его обитателей.
Круглое румяное лицо аббата, пока он оглядывал свое внушительное хозяйство, светилось тихим довольством — такой образцовый царил везде порядок. Как всякий глава богатой обители, аббат Джон — четвертый настоятель, носивший это имя, — был наделен многими талантами и достоинствами. Через посредство им самим выбранных помощников он управлял обширным имением и держал в строгости и благочинии многочисленных обитателей монастыря, удалившихся туда от житейских соблазнов. С теми, кто был ему подчинен, он был суровым и требовательным начальником, но с теми, кто стоял выше него, — ловким и обходительным дипломатом. Он вел ученые беседы с соседними аббатами и лордами, с епископами и папскими легатами, а порой и с его величеством королем. Он должен был разбираться в самых разных предметах — ведь ему приходилось выносить решения и по вопросам церковной доктрины, и по вопросам земледелия, архитектуры, охраны лесов, осушения болот и соблюдения феодального права. Он олицетворял собой правосудие во всех держаниях аббатства, которые охватывали немалую часть Гемпшира и Суррея. Монахам его неудовольствие грозило долгой эпитимьей{9}, ссылкой в более строгую обитель или даже темницей и цепями. И мирян он мог подвергнуть любой каре, кроме смерти телесной, зато в его власти было отлучить их от церкви, то есть обречь на гибель духовную, куда более страшную.
Таково было могущество аббата, и не удивительно, что его румяное лицо несло печать властности и что монахи, подняв глаза и увидев в окне это лицо, потуплялись еще смиреннее, а выражение их становилось еще благочестивее.
Стук в дверь напомнил аббату о сиюминутных заботах, и он вернулся к своему столу. Он уже беседовал нынче с келарем и коадъютором, с подателем милостыни, капелланом и чтецом, но теперь, в ответ на его разрешение, в дверь вошел высокий тощий монах, самый важный и самый доверенный из его помощников, брат Сэмюэл, ключарь, обязанности которого в миру соответствовали обязанностям управителя, так что материальное благополучие монастыря и сношения с суетным светом находились полностью в его ведении. Во всем, что касалось их, он поступал по своему усмотрению, отвечая только перед аббатом. Брат Сэмюэл был жилистым стариком с узловатыми руками, острые черты его хмурого лица не озарялись светом духовным и отражали лишь вечную озабоченность суетными мирскими делами и хлопотами. Под мышкой он нес толстую счетную книгу, в другой руке сжимал тяжелую связку ключей — знак его должности, а также в минуты раздражения и орудие наказания, как свидетельствовали шрамы на головах многих вилланов{10} и братьев-трудников.
Аббат устало вздохнул, потому что и ему приходилось терпеть немало мучений от своего усердного управителя.
— Так что же привело тебя сюда, брат Сэмюэл? — осведомился он.
— Святой отец, я пришел доложить, что продал шерсть мастеру Болдуину в Винчестере на два шиллинга за тюк больше, чем в прошлом году, потому что из-за падежа овец цена повысилась.
— Ты поступил похвально, брат Сэмюэл.
— Еще я должен доложить тебе, что выселил лесника Уота из его дома. Он не уплатил рождественский оброк и прошлогодние недоимки за кур.
— У него, брат Сэмюэл, жена и четверо детей. Аббат был добродушным человеком, хотя легко уступал настояниям своего не столь мягкосердечного ключаря.
— Истинно так, святой отец. Но если я спущу ему, как же мне взыскивать недоимки с лесников Путтенема или вилланов в деревнях? О таком снисхождении сразу узнают повсюду, и что тогда останется от богатств Уэверли?
— Что еще, брат Сэмюэл?
— Рыбные садки, святой отец.
Лицо аббата посветлело. Тут он был знатоком. Устав ордена отказывал ему во многих радостях жизни, а потому он весьма ценил те, которые были дозволены.
— Как там форель, брат Сэмюэл?
— Форель благоденствует, святой отец. Но в садке, где содержится рыба для твоего стола, не осталось ни одного карпа.
— Карпам требуется галечное дно. И пускать их в садок необходимо в точной пропорции — три самца на одну самку, брат ключарь, а место для садка нужно выбрать безветренное, каменистое и песчаное, и рыть на глубину двух локтей, и чтобы по берегам были ивы и трава. Ил для линя, брат Сэмюэл. А для карпа — галька.
Ключарь наклонился к нему, как вестник скорби.
— В садке с карпами завелись щуки, — сказал он.
— Щуки! — вскричал аббат в ужасе. — Да лучше уж пустить волка в нашу овчарню. Но как могла попасть щука в садок? Никаких щук весной там не было, а щуки не падают с дождем и не выныривают из источников. Садок необходимо осушить, не то в Великий пост нам придется есть вяленую рыбу, и всю братию поразит тяжкая хворь, прежде чем Светлое Воскресенье положит конец нашему воздержанию.
— Садок будет осушен, святой отец. Я уже отдал распоряжение. В ил мы посадим душистые травы для нашего стола, а когда срежем их, снова наполним верхний садок водой и рыбами из нижнего, — пусть жиреют, объедая оставшиеся стебли.
— Превосходно! — воскликнул аббат. — По-моему, в каждом хорошем хозяйстве надобно иметь три садка — осушенный под травы, мелкий под мальков и молоди и глубокий под взрослых рыб, а их часть брать для стола, остальных же оставлять плодиться. Но ты не ответил мне, как могли попасть щуки в монастырский садок?
Гримаса ярости исказила угрюмое лицо ключаря, и его костлявые пальцы так сжали связку ключей, что они звякнули.
— Желторотый Найджел Лоринг! — сказал он. — Мальчишка поклялся чинить нам вред, и вот его месть.
— Откуда тебе это ведомо?
— Полтора месяца назад он изо дня в день удил щук в большом Френемском озере. Его там видели. А потом его дважды встречали по ночам на Хэнклейском холме. Под мышкой он нес связку соломы. И уж конечно, солома была мокрая, а внутри связки лежала живая щука.
Аббат покачал головой:
— Я наслышан о необузданности этого юноши, но теперь, если ты говоришь правду, он перешел все пределы. Достаточно дурно было и то, что он, по слухам, охотился на королевских оленей в Вулмерском лесу, а также проломил голову разносчику Хоббсу, который неделю пролежал между жизнью и смертью у нас в лазарете, и спасло его только искусство брата Питера, врачующего травами. Но пустить щук в монастырский садок… что могло толкнуть его на столь дьявольское дело?
— Он же ненавидит Уэверлийское аббатство, святой отец, за то, что мы, дескать, завладели землями его родителя.
— Но ведь сие отчасти правда.
— Святой отец! Мы владеем только тем, что нам принадлежит по закону.
— Справедливо, брат Сэмюэл, однако, говоря между нами, бывает, что более тяжелый кошелек перевешивает чашу весов правосудия. Когда я проезжал мимо старого дома и видел старуху с морщинистым лицом, чьи злобные глаза шлют мне проклятия, которые произнести вслух она не смеет, то не раз желал, чтобы у нас были другие соседи.
— Желание твое, святой отец, мы скоро исполним. Об этом я как раз и собирался доложить тебе. Нам, несомненно, не составит труда изгнать их из здешних мест. Над ними ведь висит неуплата щитовых денег{11} за тридцать лет, а стряпчий Уилкинс по моему поручению составит такой перечень причитающихся с них платежей, что придется этим гордецам, чья нищета равна их высокомерию, продать крышу у себя над головой, лишь бы расплатиться. Не долее чем через три дня они будут у нас в руках.
— Они принадлежат к старинному и славному роду, брат Сэмюэл. Я не хотел бы обойтись с ними слишком сурово.
— Вспомни о щуках в рыбном садке! Аббат вспомнил, и сердце его ожесточилось.
— Деяние поистине дьявольское — мы же только-только пустили туда новых форелей и карпов. Ну что же, закон есть закон, и, если ты сумеешь обратить его им во вред, нарушения его в том не будет. А уплаты от них уже потребовали?
— Дикон, управитель, вчера ходил в господский дом с двумя своими помощниками, и они еле унесли ноги. Бежали во всю прыть с воплями, а этот бешеный сорвиголова гнался за ними по пятам. Он ростом мал и на вид щуплый, но от ярости силы его удесятеряются. Управитель клянется, что пойдет туда снова, только если с ним пошлют пяток лучников.
Услышав об этой новой дерзости, аббат побагровел от гнева:
— Я покажу ему, что служители церкви, хотя среди ее детей и нет никого смиренней и ниже нас, тех, кто следует заветам святого Бернарда, способны постоять за своих против дерзких насильников! Иди вызови этого человека в суд аббатства! Пусть явится в дом капитула после утренней молитвы.
Но осмотрительный ключарь покачал головой:
— Нет, святой отец, время еще не приспело. Прошу тебя, дай мне три дня, чтобы собрать все обвинения против него. Не забудь, что дед и отец этого непокорного сквайра{12} в свое время слыли лучшими рыцарями на службе самого короля, были в большой чести у него и, снискав славу, пали, исполняя рыцарский долг. А леди Эрминтруда Лоринг была первой дамой при дворе матери нашего государя. Роджер Фиц-Алан, владелец Фарнема, и сэр Хью Уолкотт, комендант Гилфордского замка, оба были товарищами по оружию отца Найджела и состоят с ним в родстве по материнской линии. Уже шли разговоры, что мы обошлись с ними без милосердия. А потому мой совет — мудро выждать, пока чаша дурных его деяний не переполнится.
Аббат открыл было рот, чтобы ответить, но тут их беседу прервали неподобающе громкие восклицания монахов в галерее под окном. Возбужденные вопросы и ответы разносились по двору. Ключарь и аббат в изумлении уставились друг на друга, пораженные тем, что вышколенная ими братия позволяет себе подобное нарушение монастырской дисциплины и благопристойности. Но в ту же минуту на лестнице послышались торопливые шаги, дверь распахнулась, и в нее вбежал белый как мел монах.
— Отче аббат! — возопил он. — Увы! Увы! Брат Джон убит, и святой помощник коадьютора убит, а на пятивиргатном поле{13} бесчинствует дьявол!
Глава III Златой конь из Круксбери
В те простодушные времена жизнь являла собой чудо и глубокую тайну. Человек ходил по земле в трепете и боязни, ибо совсем близко над его головой находились Небеса, а под его ногами совсем близко прятался Ад. И во всем ему виделась рука Божья — и в радуге, и в комете, и в громе, и в ветре. Ну, а дьявол в открытую бесчинствовал на земле. В сумерках он устраивал засаду позади живой изгороди, он зычно хохотал в ночном мраке, он рвал когтями грешника на смертном одре, хватал некрещеного младенца и сводил судорогой члены эпилептика. Гнусный Враг рода человеческого вечно таился за плечом человека, нашептывал ему черные помыслы, толкал на злодейства, пока над головой у него, смертного, витал Ангел-Хранитель, указывая ему узкий и крутой путь добра. Да и как же было усомниться в истинности всего этого, коли сам папа, священнослужители, ученые мудрецы и король на своем троне верили — и верили истово? И на всем белом свете не раздавалось не единого возражения?
Каждая прочитанная книга, каждая увиденная картина, каждая история, рассказанная нянькой или матерью, — все учили тому же. А вера тех, кому доводилось ездить по свету, только укреплялась: повсюду им встречались храмы и часовни, где хранились те или иные реликвии того или иного святого, окруженные легендами о бесчисленных нескончаемых чудесах, доказательством которых служили груды костылей, оставленные там исцеленными, и серебряные вотивные сердечки{14}, висящие вокруг. Куда бы человек ни обратил взгляд, он раз за разом убеждался, сколь тонка завеса, отделяющая его от ужасных обитателей невидимого мира, и сколь легко она рвется.
Вот почему слова перепуганного монаха показались тем, к кому были обращены, очень страшными и ничуть не смешными. Румяные щеки аббата даже побелели на миг, однако он взял со стола распятие и храбро поднялся на ноги.
— Веди меня к нему! — приказал он, — Покажи мне гнусное исчадие ада, посмевшее наложить лапу на братьев благочестивой обители святого Бернарда. Беги к моему капеллану, брат! Пусть приведет с собой брата, сподобившегося изгонять бесов, и принесет реликварий{15}, а также хранящуюся в алтаре раку с костями святого Иакова{16}. Они и наши смиренные сердца помогут нам возобладать над всеми силами тьмы.
Однако ключарь был наделен более скептическим умом. Он стиснул руку монаха повыше локтя с такой силой, что ее надолго украсили пять синяков.
— Разве входят в келию аббата, не постучав, не склонив головы или хотя бы не сказав «Рах vobiscum»?[4] — грозно вопросил он. — Не ты ли был самым кротким из наших послушников? В доме капитула не поднимал глаз, истово пел в хоре и ревностно соблюдал все правила устава. Так опомнись же и отвечай на мои вопросы без уверток. В каком обличии явился гнусный бес и как навлек погибель на наших братьев? Видел ли ты его собственными глазами или повторяешь услышанное от других? Говори же или тотчас пойдешь и встанешь на скамью покаяния в доме капитула!
Эта речь несколько образумила напуганного монаха, хотя совсем белые губы, выпученные глаза и прерывистое дыхание свидетельствовали, какой страх он продолжает испытывать.
— С твоего разрешения, святой отец, и твоего, преподобный ключарь, случилось это так. Джеймс, помощник коадьютора, брат Джон и я после второй молитвы резали папоротник на холме Хэнкли для коровника. А когда возвращались в обитель через пятивиргатное поле, святой отец Джеймс начал было благочестиво рассказывать нам житие святого Григория, как вдруг раздался шум словно бы бушующего потока, и гнусный бес перепрыгнул через высокую стену вокруг луга и кинулся к нам быстрее ветра. Брата-трудника он сбил с ног и втоптал в рыхлую землю. Потом ухватил зубами доброго отца Джеймса и помчался по полю, встряхивая его, точно узел старого тряпья. Пораженный таким зрелищем, я застыл на месте, прочитал «Верую» и три «Богородицы», но тут дьявол бросил отца Джеймса и ринулся на меня. С помощью святого Бернарда я перелез через стену, но он успел хватануть меня зубами за ногу и вырвать целую полосу из моего одеяния.
В подтверждение этого он повернулся и показал лохмотья, в которые превратился сзади его длинный балахон.
— Но в каком же обличии явился Сатана? — нетерпеливо спросил аббат.
— Огромного желтого, точно золото, коня, святой отец. Лютого жеребца с огненными глазами и зубами дракона.
— Желтого жеребца! — Ключарь свирепо уставился на злополучного монаха. — Ах ты глупец! Случись и в самом деле Князю Тьмы предстать перед тобой, как же поведешь ты себя, коли испугался желтой лошади? Отче, это жеребец вольного хлебопашца Эйлуорда, взятый нами за те пятьдесят полновесных шиллингов, которые он нам задолжал, а уплатить никак не может. Говорят, такого скакуна не найти нигде опричь королевских конюшен. Отец у него испанский боевой конь, а мать — арабская кобыла тех же кровей, что и кони, которых Саладин{17} держал только для себя и, по слухам, делил с ними свой шатер. Я забрал жеребца в уплату долга и велел работникам, которые привели его связанным, снять с него веревки на огороженном заливном лугу и оставить там одного, ибо слышал, что норов у него самый злобный и он уже не одного человека убил до смерти.
— Черным был день для Уэверли, когда ты задумал привести в его пределы такое чудовище, — молвил аббат. — Если помощник коадьютора и брат Джон и правда убиты, то конь этот, пусть и не сам дьявол, но уж несомненно его орудие.
— Конь он или дьявол, святой отец, только я своими ушами слышал, что он вопил от радости, когда топтал брата Джона. А коли бы вы видели, как он тряс отца Джеймса, будто пес крысу, так, чаю, подумали бы то же, что и я.
— Так идемте же! — воскликнул аббат. — Посмотрим своими глазами, какое зло совершено.
И все трое поспешили вниз по лестнице, которая вела в галерею.
Едва они спустились, как худшие их страхи развеялись: во двор как раз вошли в порванной одежде, с ног до головы перепачканные в земле оба предполагаемые покойника, окруженные и поддерживаемые сочувствующими братьями. Однако шум и вопли, доносившиеся снаружи, свидетельствовали, что там разыгрывается новая трагедия, и аббат с ключарем поспешили туда со всей быстротой, совместимой с их достоинством, и, пройдя ворота, приблизились к ограде и заглянули за нее. Их глазам представилось редкостное зрелище.
Там в сочной траве по бабки стоял великолепнейший конь — такой, о каком грезят ваятель и воин. Светло-рыжая масть, а грива и хвост отливают золотом. Рост — семнадцать ладоней в холке. Мощная грудь и крутой круп свидетельствовали о гигантской силе, однако изящные очертания выгнутой шеи, плеч и ног говорили о чистопородности. И как же он был красив в эту минуту, когда, широко расставив передние ноги и чуть присев на задние, гордо откинув голову, насторожив уши и вздыбив гриву, гневно раздувал красные ноздри и с надменной угрозой косил сверкающими глазами!
Шестеро монастырских прислужников и лесников, каждый держа наготове аркан, подкрадывались к нему со всех сторон. Внезапно могучий конь грациозно взвивался в воздух и бросался на одного из людей, покушавшихся на его свободу. Шея вытягивалась, грива колыхалась на ветру, зубы сверкали, и он преследовал вопящую жертву до самой ограды, остальные же быстро забегали сзади и пытались набросить арканы на голову и ноги, но тут же в свою очередь еле улепетывали.
Если бы два аркана затянулись одновременно и если бы людям удалось захлестнуть их концы за пень и большой камень, человеческий разум возобладал бы над быстротой и силой. Но те, кто воображал, будто одного аркана будет достаточно, особой ясностью разума похвастать не могли и только подвергали себя напрасной опасности.
И неизбежное случилось как раз в ту минуту, когда аббат и его спутники поглядели через ограду. Конь, загнав за нее очередного врага, задержался там, презрительно фыркая, и остальные сумели подобраться к нему сзади. Арканы взвились в воздух, одна петля опоясала гордую холку и утонула в пышной гриве. Во мгновение ока взбешенный жеребец обернулся, и люди опрометью бросились врассыпную. Но лесник, столь удачно набросивший аркан, замешкался, не зная, как воспользоваться своим нежданным успехом. Это промедление оказалось роковым. Раздался отчаянный вопль — гигантский жеребец взвился над беднягой, и тут же передние копыта опустились и опрокинули его наземь. Он вскочил, был снова опрокинут и остался лежать, дрожа, весь окровавленный, а разъяренный жеребец, в минуты бешенства самый свирепый и страшный зверь на свете, схватил зубами, встряхнул и бросил себе под копыта извивающееся тело.
Рты увенчанных тонзурой{18} голов над оградой раскрылись было в стенании, полном ужаса, но оно тут же оборвалось, а затем наступившую на миг мертвую тишину прервали крики радости и благодарности.
По дороге, ведшей к сумрачному господскому дому на склоне холма, трусил на тощей мохнатой лошадке молодой человек в выцветшей и заплатанной лиловой тунике, перехваченной старым кожаным поясом. Но вопреки столь убогой одежде и не менее убогой лошади, в осанке юноши, в посадке его головы, в непринужденном изяществе движений и смелом взгляде больших глаз было столько благородства и рыцарственности, что он не потерялся бы и в самом знатном собрании. Невысокая худощавая его фигура была на редкость хорошо сложена, а лицо, хотя загорелое и обветренное, отличалось тонкостью черт, выразительностью и живостью. Из-под темной шапочки выбивались густые золотистые кудри, а золотистая бородка скрывала очертания сильного волевого подбородка. Единственным его украшением было перо скопы, приколотое золотой брошью к шапочке. Но в памяти наблюдателя остались бы не это перо, не короткий плащ, охотничий нож в кожаных ножнах, перевязь с медным рогом или сапоги из мягкой оленьей кожи с простыми шпорами, но обрамленное золотом загорелое лицо и пляшущие огоньки в быстрых, беззаботных, смеющихся глазах.
Таков был молодой человек, который весело пощелкивал хлыстом, трусил в сопровождении полдесятка собак на невзрачной лошаденке по Тилфордской дороге, а потом остановился и с насмешливо-презрительной улыбкой начал следить за разыгравшейся на поле комедией и неуклюжими попытками слуг аббатства совладать с золотым конем.
Однако едва комедия обернулась черной трагедией, юноша из безучастного зрителя превратился в ее участника. Он соскочил с лошади, одним прыжком перелетел через ограду и стремительно побежал через поле. Оторвавшись от своей жертвы, золотистый жеребец поглядел на нового врага и, отшвырнув задними копытами распростертое, еще шевелящееся тело, кинулся на незваного пришельца.
Но против его ожидания тот не обратился в бегство, и пуститься в веселую погоню за ним не удалось. Человечек выпрямился, поднял хлыст и встретил жеребца сокрушающим ударом железной рукоятки по лбу. Снова наскок, и снова удар. Тщетно жеребец взвился на дыбы в попытке опрокинуть противника грудью и добить копытами. Человек был начеку и с полным хладнокровием быстро отпрыгнул в сторону от рушащейся на него смерти. Вновь раздался свист тяжелой рукоятки в воздухе и тяжелый стук, когда она опустилась точно на лоб коня. Тот попятился, с недоумением и яростью осмотрел этого неуязвимого человека, а потом описал круг, вздыбив гриву, насторожив уши, взмахивая хвостом и фыркая от боли и злости. Человек, едва удостоив взглядом опасного противника, подошел к поверженному леснику, подхватил его на руки с силой, неожиданной для его невысокой тонкой фигуры, и отнес к ограде, где десятки торопливо протянутых рук уже приготовились принять постанывающую ношу. Затем не торопясь молодой человек перебрался через ограду, с холодным пренебрежением улыбнувшись золотистому коню, который вновь в бешенстве устремился к нему.
Когда он спрыгнул на землю, монахи столпились вокруг него, благодаря и восхищаясь. Но он угрюмо повернулся и молча ушел бы, если бы аббат его не остановил.
— Нет, нет, сквайр Лоринг! — сказал он. — Пусть ты и недруг нашему монастырю, но нынче ты поступил, как подобает доброму христианину, и мы готовы признать, что наш слуга, если дух не покинул его тело, обязан этому, помимо нашего небесного патрона святого Бернарда, еще и тебе.
— Клянусь святым Павлом! Я не желаю вам добра, аббат Джон, — сказал молодой сквайр. — Тень вашего аббатства не сулит дому Лорингов ничего хорошего. А за сегодняшний пустяк я не прошу благодарности. Сделал я то, что сделал, не ради тебя или твоего монастыря, а потому лишь, что так мне было угодно.
Аббат побагровел от этих дерзких слов и гневно закусил губу. За него ответил ключарь.
— Было бы пристойнее и учтивее, — сказал он, — если бы ты обращался к святому отцу аббату с тем почтительным смирением, какого требует высокий сан князя церкви.
Юноша обратил смелый взор на монаха, и лицо его потемнело от гнева.
— Если бы не твое одеяние и не твои побелевшие волосы, я бы ответил тебе по-иному, — сказал он. — Ведь ты тот тощий волк, который неумолчно рычит у нашего порога, зарясь на еще оставшиеся нам крохи. Со мной говори и делай что хочешь, но, клянусь святым Павлом, если ваша ненасытная стая посмеет напасть на благородную даму Эрминтруду, я вот этим хлыстом прогоню их с того клочка, который еще остался нам от земель моего отца!
— Берегись, Найджел Лоринг! Берегись! — вскричал аббат, поднимая палец. Или закон Англии тебя не страшит?
— Справедливого закона я страшусь и повинуюсь ему.
— Или ты не почитаешь святой церкви?
— Почитаю все, что есть в ней святого. Но не почитаю тех, кто притесняет бедняков или крадет соседскую землю.
— Дерзновенный! Отлучение от нее карало многих и многих за куда меньшее, чем то, что ты наговорил сейчас. Но нынче нам не подобает судить тебя слишком строго. Ты молод, горяч, и необдуманные слова легко срываются с твоих уст. Как там лесник?
— Раны его тяжки, отче аббат, но он останется жив, — ответил монах, который склонялся над неподвижным телом. — С помощью кровопусканий и снадобий на меду я поставлю его на ноги через месяц.
— Так отнесите его в лазарет. А теперь, как нам поступить с этим необузданным зверем, который все еще косится и фыркает на нас вон там за оградой, точно мыслит о святой церкви столь же непочтительно, как и сквайр Найджел?
— Вот же Эйлуорд, — сказал кто-то из монахов. — Конь принадлежал ему, и, без сомнения, он заберет его назад к себе на ферму.
Но дородный краснолицый крестьянин покачал головой.
— Ну уж нет! — сказал он. — Этот живодер дважды гонялся за мной по выгону и чуть было не вышиб дух из моего парня. Сэмкин знай твердил, что не видать ему счастья, пока он не поскачет на нем. Вот до сих пор он счастья и не видит. Из моих работников никто носа не смел сунуть в его стойло. Черным был тот день, когда я взял его из конюшен Гилфордского замка, где они не могли с ним сладить, и ни один конюх не посмел его оседлать! Ключарь забрал его за пятьдесят шиллингов долга по собственной воле, так пусть и будет по его, а назад я тварь эту ни за какие коврижки не возьму!
— Здесь он тоже не останется, — объявил аббат. — Брат ключарь, раз ты вызвал дьявола, то тебе и изгнать его отсюда.
— С большой охотой! — воскликнул ключарь. — Брат казначей пусть вычтет пятьдесят шиллингов из положенных мне еженедельных сумм, дабы аббатство не понесло ущерба. А пока, вижу, здесь Уот со своим арбалетом и стрелой за поясом. Так пусть же он прикончит проклятого коня, чья шкура вместе с копытами принесут больше пользы, чем это исчадие зла, пока оно живо.
Старый охотник с темным морщинистым лицом, чьей обязанностью было истреблять вредных зверьков в лесах аббатства, выступил вперед с довольным видом. Многие годы он стрелял ласок да лисиц и вот теперь мог показать свое искусство на куда более благородном животном. Заложив стрелу в желоб уже взведенного арбалета, он прижал оружие к плечу и прицелился в гордую гневную голову по ту сторону ограды, непокорно вздергивающуюся и разметывающую гриву. Его палец согнулся, чтобы отпустить тетиву, но тут удар хлыста подбросил арбалет вверх, и стрела пронеслась над яблонями аббатства, никому не причинив вреда, а Уот боязливо попятился, встретив гневный взгляд Найджела Лоринга.
— Береги свои стрелы для хорьков! — воскликнул юноша. — Неужто ты отнимешь жизнь у вольного созданья, виновного лишь в том, что никому еще не удалось сладить с его непокорным духом? И ты убьешь коня, который достоин ходить под седлом самого короля, и все потому, что у мужика, монаха и монастырского работника не хватает ни ума, ни умения справиться с ним?
Ключарь быстро повернулся к сквайру.
— Как ни грубы твои слова, аббатство обязано отблагодарить тебя за нынешний твой поступок, — сказал он. — Коли ты так расхваливаешь сего коня, уж наверное тебе хочется стать его хозяином. Раз я уплачу за него, то, с разрешения святого аббата, могу им распорядиться и дарю его тебе без всяких условий.
Аббат дернул его за рукав.
— Подумай, брат ключарь, — шепнул он, — не падет ли кровь этого человека на наши головы?
— Его гордыня столь же упряма, как у этого коня, святой отец, — ответил ключарь, и его изможденное лицо перекосилось в злорадной усмешке. — Кто-то из них будет сломлен, и мир от него избавится. Но если ты не дозволяешь…
— Нет, брат ключарь, коня этого ты купил и можешь распорядиться им, как пожелаешь.
— Тогда я отдаю его — шкуру и копыта, хвост и норов — Найджелу Лорингу, и пусть он будет так же кроток и покорен с ним, как сам он — с настоятелем аббатства Уэверли!
Ключарь повысил голос под смешки монахов, но тот, к кому была обращена эта речь, вряд ли его услышал. При первых же словах, показавших ему, какой оборот принимает дело, он быстро побежал к своей лошадке, снял с нее крепкую уздечку с мундштуком и, оставив ее мирно щипать траву у дороги, торопливо вернулся.
— Я принимаю твой подарок, монах, — сказал он, — хотя и знаю, почему ты решил мне его сделать. Все же я тебя благодарю, потому что были у меня два заветных желания, только мой тощий кошелек не сулил надежды, что они когда-нибудь сбудутся. И одно из них — владеть благородным конем, таким конем, на какого не зазорно сесть сыну моего отца. И этого коня я выбрал бы из всех остальных, потому что покорить его — славное и почетное дело. А как он зовется?
— Зовется он Бурелет, — ответил вольный хлебопашец. — Только, благородный сэр, да будет тебе ведомо, объездить его никому не дано. Многие пробовали, и счастлив тот, кто отделался одним сломанным ребром.
— Благодарю тебя за предостережение, — сказал Найджел. — Теперь я вижу, что это и вправду конь, за каким я отправился бы в дальний путь. Я твой человек, Бурелет, а ты — моя лошадь, и сегодня к вечеру ты это признаешь, или больше мне лошадь никогда не потребуется. Мой дух против твоего, да подкрепит Господь его, чтобы труднее было взять над тобой верх и принесло бы это больше чести!
К тому времени, когда молодой сквайр договорил, он уже забрался на ограду и встал на ней, в одной руке сжимая уздечку, в другой хлыст. Он казался воплощением изящества и пылкого мужества. С яростным фырканьем конь ринулся к нему, скаля сверкающие белые зубы, но вновь удар тяжелой рукоятки заставил его отпрянуть, и в этот миг, хладнокровно измерив расстояние, Найджел изогнулся, ловкая фигура мелькнула в воздухе, и сильные колени сжали крутые золотистые бока. Но без седла и стремян удержаться на широкой спине оказалось не так-то просто: конь вставал на дыбы, бил задом, и минуту победа вот-вот могла остаться за ним. Однако ноги всадника были словно две стальные полосы, приклепанные к дугам конских ребер, его левая рука, погруженная в песочно-рыжую гриву, ни на мгновение не расслабила хватки.
Никогда еще однообразное существование смиренной монастырской братии не нарушалось столь диким зрелищем. Золотистый конь прыгал вправо, пригибался к земле влево, опускал оскаленную морду между передними ногами, метя траву спутанной гривой, и тотчас взмывал высоко в воздух в стремительном прыжке — багряные ноздри свирепо раздувались, глаза горели бешенством. Он был прекрасен, только красота эта внушала ужас. Но вопреки всем усилиям железных мышц, послушных яростному духу могучего коня, ловкий всадник на его спине сохранял свое преимущество: гибкая фигура клонилась, как тростник на ветру, следуя движениям коня, но колени все так же сжимали вздымающиеся бока, лицо сохраняло неумолимое спокойствие, а глаза блестели радостным упоением борьбы.
Внезапно из уст монахов вырвался протяжный горестный вопль: в последнем безумном усилии конь поднялся на дыбы, откидываясь все выше, выше, пока не упал на спину, подминая под себя всадника. Но тот с молниеносной быстротой выскользнул из-под него еще в падении, ударил его каблуком, когда он покатился по земле, а едва он начал подниматься на ноги, ухватился за гриву и легким прыжком вновь взлетел ему на спину. Даже угрюмый ключарь присоединился к одобрительным возгласам, когда Бурелет, ошеломленный тем, что всадник по-прежнему сидит на нем, понесся по лугу, выделывая курбеты и вскидывая задом.
Впрочем, дикий конь только еще больше разъярился. Злоба, переполнившая непокорное сердце, вылилась в свирепое решение уничтожить этого вцепившегося в него человека, пусть даже ценой собственной гибели. Он повел вокруг налитыми кровью сверкающими глазами, ища средства, чтобы осуществить свой отчаянный замысел. С трех сторон луг опоясывала каменная ограда с единственными тяжелыми деревянными воротами, но четвертая сторона примыкала к глухой серой стене длинного амбара. Конь стремительным галопом понесся к ней, чтобы выполнить свое намерение и рухнуть бездыханным рядом с ней, раздавив в кровавую лепешку человека, вознамерившегося стать господином того, кто не признавал над собой ничьей власти.
Мощные ноги подбирались и выпрямлялись в прыжке, торопливые копыта гремели по дерну, и конь все быстрее приближался к роковой стене. Спрыгнет ли Найджел? Это значило бы уступить воле коня. Но у него оставался еще один выход. Быстро, хладнокровно, уверенно юноша переложил уздечку и хлыст в левую руку, все еще вцеплявшуюся в гриву. Затем правой рукой он сдернул с плеч короткий плащ и, вытянувшись вдоль спины, на которой волнами вздувались и опадали сильные мышцы, набросил его на морду коня.
Маневр этот оказался настолько успешным, что всадник чуть было не слетел на землю. Когда красные, жаждущие смерти глаза вдруг погрузились во мрак, конь в растерянности остановился так резко, что Найджел съехал ему на шею и еле удержался, главным образом благодаря тому, что его пальцы совсем запутались в гриве. Но опасность миновала еще до того, как он принял прежнюю позу. Конь, ошеломленный непонятностью случившегося, забыл о своем намерении, вновь круто повернул, дрожа всем телом и обиженно вскидывая голову, пока, наконец, плащ не соскользнул с его морды и пугающая тьма не сменилась привычным солнечным светом, озаряющим траву.
Но какому еще позору его тем временем подвергли? Что это за мерзкая железка распирает ему рот? Что за ремни трутся по изгибающейся шее? Что за кожаная полоса легла на лоб? За те секунды, пока конь стоял, стараясь избавиться от плаща, Найджел наклонился вперед, вставил мундштук между клацающими зубами и накинул на голову уздечку.
Слепая безграничная ярость вновь переполнила сердце золотистого коня при этом новом унижении, несущем с собой рабство и бесславие. Вновь взыграл в нем грозный дух непокорности и вольнолюбия. Как он ненавидел и это место, и этих людей — все и вся, что покушалось на его свободу! Он покончит с ними раз и навсегда! Больше они его не увидят! Он умчится на край земли, на великие просторы, где его ждет свобода! Куда угодно за далекий горизонт, лишь бы избавиться от омерзительного мундштука и нестерпимой власти человека!
Он молниеносно повернулся и великолепным прыжком с легкостью оленя перелетел через деревянные ворота высотой в человеческий рост. Найджел приподнялся, следуя движению взвившегося в воздух коня, шапочка сорвалась с его головы, и золотые кудри разметались. Впереди на пойменном лугу заблестел ручей, впадавший неподалеку в реку Уэй. Ширина его была тут не менее десяти шагов. Золотистый конь подобрал задние ноги и пронесся над потоком, как стрела. Он оттолкнулся от земли перед валуном, а на том берегу коснулся земли за кустом дрока. Два камня все еще отмечают длину этого прыжка от отпечатка копыт до отпечатка копыт, и расстояние между ними равно добрым двенадцати шагам. Могучий конь промчался под низким суком большого дуба на том берегу (этот Quercus Tilfordiens[5] все еще показывают любопытствующим путешественникам как межевой знак ближних угодий аббатства). Он надеялся сбить всадника со своей спины, но Найджел распластался на ней, уткнувшись лицом в развевающуюся гриву. Грубая кора больно его царапнула, но он даже не вздрогнул и не ослабил хватки. Вскидывая то передние, то задние ноги, выделывая курбеты, Бурелет промчался по молоденькой роще и вырвался на простор длинного склона Хэнкли.
И началась скачка, память о которой еще живет в местных легендах и в припеве старинной непритязательной суррейской баллады, который только от нее и сохранился:
Скажи скорей, кто всех быстрей? Сапсан в небесной вышине, Олень, бегущий по холмам, И Найджел на златом коне.Перед ними простирался океан темного вереска, катящий волны к четко вырисовывавшейся вершине холма. Над ними изгибался чистый небосвод, а солнце уже склонялось к Гемпширской гряде. По вереску, щекотавшему ему брюхо, по овражкам, через ручьи, вверх по крутым откосам несся Бурелет, и сердце у него грозило вот-вот разорваться от бешенства, а все фибры тела трепетали от невыносимого унижения.
Но что бы он ни делал, человек продолжал крепко сжимать коленями его вздымающиеся бока, а пальцами — гриву, безмолвный, застывший, неумолимый, ни в чем ему не препятствующий, но неколебимый, как судьба. Все вперед и вперед мчался могучий золотистый конь — через холм Хэнкли, по Треслейскому болоту, где камыш хлестал его по забрызганной грязью холке, вверх по длинному склону Хедленд-Хиндса, вниз по Наткомбскому оврагу, скользя, спотыкаясь, но не замедляя безумного галопа.
Обитатели деревушки Шоттермилл услышали громовой топот копыт, но не успели откинуть бычьи шкуры, закрывавшие вход в их лачуги, как конь и всадник уже скрылись среди высокого папоротника Холсмирской долины. А конь все мчался и мчался, оставляя позади милю за милей. Никакая трясина не могла его остановить, никакой холм не мог заставить его свернуть в сторону. Вверх по крутизне Линчмира и вниз по длинному спуску Фернхерста стучали его летящие копыта, словно по плоской равнине, и только когда он оставил позади склон Хенли и впереди над рощей поднялись серые башни замка Мидхерст, гордо вытянутая шея чуть поникла, а дыхание участилось. И куда бы он ни обращал взгляд — на леса и на холмы, нигде его усталые глаза не видели заветного царства свободных степей, к которым он стремился.
И вдруг еще одно унижение! Как будто этому человеку мало прилипнуть к его спине, он теперь позволил себе совсем уж немыслимое: принудил его — его! — замедлить бег и направить туда, куда вздумалось ему. Что-то врезалось в уголки его рта, что-то повернуло его голову вновь на север. А впрочем, на север так на север, только человечек, видно, совсем лишился рассудка, если думает, что такой конь, как он, Бурелет, сломлен духом или телом! Нет, он скоро покажет ему, что остался непобежденным, пусть порвутся у него сухожилия или разорвется сердце. И он помчался назад вверх по длинному, длинному склону. Да будет ли конец этой крутизне? Но благородный скакун не хотел признать, что у него уже не остается сил бежать дальше, — ведь человек по-прежнему цеплялся за его спину. Крутые бока были все в хлопьях пены, к ним прилипли комья глины. Глаза еще больше налились кровью, из открытого рта с хрипом вырывалось дыхание, ноздри раздулись, от шерсти шел пар, пропитанный запахом пота. Он промчался вниз по длинному склону холма Санди, но болото Кингсли у подножия показалось ему непреодолимым. Нет, это уже слишком! Тяжело вытаскивая из вязкой трясины облепленные черной грязью копыта, он среди камышей с судорожным вздохом сменил бешеный карьер на рысь.
О, верх позора! Неужели нет предела этим унижениям? Ему даже не позволяют самому избрать аллюр! Он столько времени несся галопом по собственной воле, но теперь должен был опять перейти на галоп, подчинившись чужой.
В его бока впились шпоры. Жалящий хлыст опустился на его плечи. От боли и стыда он подпрыгнул на высоту собственного роста. Затем, забыв про усталость, забыв, как тяжело вздымаются его потемневшие от пота бока, забыв все, кроме невыносимого оскорбления и жгучего гнева, он вновь помчался бешеным карьером. Теперь перед ним опять были вересковые склоны, и несся он к Уэйдаун-Коммон. Он летел вперед и вперед, и вновь у него потемнело в глазах, вновь его ноги начали подгибаться, вновь он попробовал сменить аллюр, но жестокие шпоры и жалящий хлыст гнали его дальше. Он ослеп от усталости и готов был вот-вот упасть.
Он уже не видел, куда ступают его копыта, ему было все равно, в какую сторону бежать. Им владело только одно всепоглощающее желание — ускользнуть от этого ужаса, этой пытки, от того, кто завладел им и не отпускал. Он миновал деревню Терсли, сердце в груди у него разрывалось, глаза остекленели от муки, однако, все так же уступая шпорам и хлысту, он поднялся на гребень Терсли, но тут дух его угас, могучие силы истощились, и со страдальческим стоном золотистый конь рухнул среди вереска. Столь внезапно он упал, что Найджел перелетел через его плечо, и, пока красный солнечный диск закатывался за вершину Бустера, человек и лошадь лежали бок о бок, ловя ртом воздух, а в лиловом небе уже заблестели первые звезды.
Первым пришел в себя молодой сквайр. Встав на колени рядом с тяжело дышащим, измученным скакуном, он ласково провел ладонью по спутанной гриве и взмыленной морде. Налитый кровью глаз скосился на него, но с удивлением, а не с ненавистью, с мольбой, а не с угрозой. Он продолжал поглаживать мокрую шерсть, и конь с негромким ржанием ткнулся носом ему в ладонь. Этого было достаточно. Поединок кончился, и благородный противник принял условия благородного победителя.
— Ты мой конь, Бурелет, — прошептал Найджел, прижимаясь щекой к изогнутой шее. — Я узнал тебя, Бурелет, ты узнал меня, и с помощью святого Павла мы заставим многих других узнать нас. А теперь пойдем-ка вон к тому озерку. Ведь трудно сказать, кому сейчас вода нужнее, тебе или мне.
Вот так-то припоздавшие монахи Уэверли, возвращаясь в монастырь с дальнего поля, и узрели странное зрелище, столь их поразившее, что рассказ о нем в тот же вечер достиг ушей и аббата и ключаря. Проходя через деревню Тилфорд, они увидели, что по дороге к господскому дому идут бок о бок, голова к голове человек и лошадь. А когда они подняли фонари и посветили на них, то узнали молодого сквайра, который вел, как пастух ведет ягненка, страшного златого коня из Круксбери.
Глава IV Как в Тилфордский господский дом явился стряпчий
Ко времени этой хроники суровая простота старых нормандских замков отошла в прошлое, и новые обиталища знати, хотя и не выглядели столь внушительно, были куда более удобными и комфортабельными. Строили их теперь для мирной жизни, а не для войны. Сравнение варварской угрюмости Певенси или Гилфорда с величественной изысканностью Бодмина или Виндзора дает наглядное представление о перемене нравов, воплощенной в них.
У первых замков было строгое назначение — они помогали завоевателям держать в повиновении завоеванную страну. Но когда нормандская знать утвердилась прочно, нужда в замках-крепостях отпала, за исключением тех случаев, когда владелец укрывался там от правосудия или в дни смут. У пределов Уэльса, или Шотландии, замок оставался стражем границ королевства, там они строились и укреплялись. Но во всех других местах замки таили угрозу для королевского могущества, а потому сравнивались с землей, новые же не возводились. И к тому времени, когда на престол взошел Эдуард III{19}, большую часть старинных замков-крепостей перестроили так, чтобы в них было удобно жить, или же они были разрушены в годы междоусобиц, и серые их остовы все еще можно видеть на вершинах многих наших холмов. На смену им пришли либо дворцы вельмож, приспособленные к обороне, но рассчитанные главным образом на спокойную жизнь в роскоши, либо помещичьи дома, не обладавшие никаким военным значением.
Таким был и тилфордский господский дом, где леди Эрминтруда и Найджел, последние в древнем и славном роду Лорингов, отдавали все свои силы на то, чтобы поддерживать родовое достоинство и оберегать остатки своего надела от покушений монахов и законников. Дом был двухэтажный, с каркасом из толстых бревен и стенами из нетесаных камней. К опочивальням на втором этаже вела наружная лестница. Первый состоял всего из двух помещений — светлицы дряхлой леди Эрминтруды и обширной залы, служившей и гостиной и столовой, где трапезу разделяли с господами их слуги и челядь. Жилища этих последних, кухни, конюшни и другие службы располагались в постройках позади дома. Там обитали паж Чарлз, старый сокольник Питер, Рыжий Свайр, который сопровождал деда Найджела в войнах с шотландцами, Уэтеркот, состарившийся менестрель{20}, повар Джон и другие слуги, оставшиеся со времен преуспеяния и льнувшие к старому дому, точно ракушки к днищу разбитого и выброшенного на риф судна.
Как-то вечером, через неделю после скачки Найджела на золотистом коне, он и его бабушка сидели в этой зале по сторонам большого пустого очага. Ужин кончился, столы на козлах, за которыми ели, были убраны, и зала выглядела голой и унылой. Каменный пол устилали стебли камыша, уложенные в несколько слоев, — их каждую неделю выметали вместе со всем недельным мусором и заменяли свежими. Несколько собак, разлегшись на камыше, обгладывали и разгрызали кости, сброшенные со столов. У одной из стен стоял длинный деревянный буфет с оловянной и глиняной посудой, остальная обстановка залы исчерпывалась скамьями у стен, двумя плетеными стульями, столиком, уставленным шахматными фигурами, и железным сундуком. В одном углу на высокой плетеной подставке величаво восседали два сокола, застыв без движения, — только их желтые гордые глаза иногда поблескивали.
Но если обстановка залы показалась бы скудной тому, кто вдруг заглянул бы в нее из другого не столь спартанского века{21}, посмотрев вверх, он был бы поражен множеством предметов у себя над головой. Над очагом красовались гербы благородных домов, связанных с Лорингами кровным родством или через брак. Две плошки со смолой, пылавшие по их сторонам, отбрасывали блики на лазурного льва семейства Перси, на красных птиц де Валенса, на черный крест де Мохунов, на серебряную звезду де Виров и алые пояса Фиц-Аланов. Все эти гербы были сгруппированы вокруг знаменитых пяти красных роз на серебряном поле — гербе, который Лоринги покрыли славой во многих кровавых сечах. А с тяжелых дубовых балок, пересекавших потолок, свисало много всякой всячины: кольчатые доспехи старинного фасона, щиты, два-три заржавевших, сильно помятых шлема, луки без тетивы, копья, остроги для охоты на выдр, лошадиная сбруя, удочки и разные другие принадлежности для войны или охоты. А выше них в черных тенях под самым потолком можно было различить ряды окороков, куски грудинки, засоленных гусей и прочие мясные запасы, приготовление которых играло столь большую роль в средневековом домоводстве.
Благородная дама Эрминтруда Лоринг, дочь, жена и мать воинов, обладала достойной их внушительностью. Высокая, худая, с суровым, словно вырезанным из дерева, лицом и беспощадными черными глазами, она внушала почтительную боязнь всем, кто ее окружал, пусть голову ее и убелили седины, а спину согнула тяжесть прожитых лет. В мыслях и воспоминаниях она уносилась в более жестокие времена, и Англия, которую она видела теперь, казалась ей изнеженной, павшей страной, забывшей законы рыцарской учтивости и доблести.
Власть, которую начинал обретать народ, растущие богатства церкви, все большее вторжение роскоши в образ жизни благородных (и не только благородных) сословий и некоторое смягчение нравов равно возбуждали в ней глубочайшее отвращение, а потому ее суровое лицо, не говоря уж о тяжелой дубовой клюке, опираться на которую ее вынудила старость, наводили страх на всю округу.
Однако ее не только боялись, но и уважали — ведь в дни, когда книг было мало, а умевших читать немногим больше, память, хранившая события долгих десятилетий, и умение поведать о них ценились очень высоко. От кого, как не от леди Эрминтруды, могли услышать юные неграмотные отпрыски благородных родов Суррея и Гемпшира о жизни и подвигах своих дедов, о битвах, в которых они сражались? Узнать законы геральдики и рыцарственности, изученные ею в более грубый, но и более воинственный век? Как ни была она бедна, к кому, как не к леди Эрминтруде Лоринг, охотнее всего обращались за советом в запутанных вопросах о праве старшинства или правилах поведения?
Теперь она, сгорбившись, сидела возле пустого очага, глядя через него на Найджела, и жесткие черты ее лица смягчались любовью и гордостью. Молодой сквайр, тихонько насвистывая, умело вырезал птичьи стрелы для своего арбалета. Но вот он оторвался от этого занятия и, встретив устремленный на него взгляд темных глаз, наклонился через очаг, чтобы ласково погладить костлявую.
— Что тебя радует, милая бабушка? Я по твоим глазам вижу, что ты довольна.
— Нынче, Найджел, я узнала, как ты приобрел боевого коня, который бьет копытами в нашей конюшне.
— Как так, бабушка? Я ведь говорил тебе, что его мне подарили монахи.
— Говорил, милый внук, и ни слова больше не прибавил. Но думается мне, конь, которого ты привел сюда, совсем не похож на того, которого они тебе подарили. Почему ты не рассказал, как все было?
— Говорить о таком, по-моему, стыдно.
— Так бы ответил и твой отец. И его отец. Они хранили молчание на пиру, когда чаши ходили вкруговую, и слушали, как другие рыцари рассказывали о своих подвигах. Но если кто-то говорил громче остальных и словно бы искал, чтобы ему воздали хвалу, твой отец, когда пирующие вставали из-за стола, тихо дергал его за рукав и осведомлялся шепотом, не может ли он помочь ему в выполнении какого-нибудь обета? Или же не снизойдет ли он помериться с ним силой в поединке? Если человек этот оказывался хвастуном и прикусывал язык, твой отец никому ни словом об этом не упоминал. Если же он вел себя достойно, твой отец всюду его восхвалял, но о себе не говорил ничего.
Найджел смотрел на старуху сияющими глазами.
— Я так люблю, когда ты говоришь о нем, — сказал он. — Прошу тебя, расскажи снова, как он погиб.
— Погиб он, как и жил, учтивейшим рыцарем. У побережья Нормандии разыгралось морское сражение, и твой отец командовал воинами на корме корабля самого короля. А за год до этого французы захватили большой английский корабль. Они тогда подошли к нашим берегам, заперли проливы и сожгли город Саутгемптон. Назывался тот корабль «Христофор», и они поставили его впереди своего флота. Да только англичане подошли вплотную к нему, перебрались на него и перебили там всех. А твой отец и мессир Лоредан из Генуи схватились на высокой корме, и все люди на соседних кораблях следили за их поединком. Сам король не удержался от громких восклицаний. Ведь мессир Лоредан был прославленный боец и в этот день сражался доблестно, и многие рыцари завидовали твоему отцу, встретившему столь именитого противника. Твой отец заставил его отступить и нанес ему такой удар булавой, что шлем у него на голове повернулся прорезями на затылок. Ослепнув, мессир Лоредан бросил меч и сдался для выкупа. Но твой отец ухватил его шлем и повернул его прорезями вперед. Едва мессир Лоредан вновь начал видеть, твой отец поднял его меч, отдал ему и пригласил отдохнуть немного, а потом продолжить поединок, ибо и полезно и радостно смотреть, как благородный воин бьется столь умело и мужественно. И они сели рядом отдохнуть у борта. Но когда они вновь взялись за оружие, в твоего отца попал камень, пущенный из мангонеля. Вот так он погиб.
— А мессир Лоредан? — воскликнул Найджел. — Он ведь тоже погиб?
— Увы! Его сразили лучники. Они любили твоего отца, а на такие вещи простолюдины смотрят иными глазами, чем мы.
— Жаль! — сказал Найджел, — Он ведь был достойным рыцарем и бился храбро.
— В дни моей молодости ни один простолюдин не посмел бы прикоснуться грязными руками к такому человеку. Воины с благородной кровью в жилах, одетые в доспехи, сражались друг с другом, а простые — копейщики или лучники — могли драться между собой. Однако нынче все стали на один покрой и лишь изредка кто-то вроде тебя, милый внук, приводит мне на память былых мужчин.
Найджел наклонился и взял ее руки в свои.
— Я такой, каким сделала меня ты, — сказал он.
— Это правда, Найджел. Да, я растила тебя, как садовник растит самый драгоценный свой цветок, ибо ты единственная надежда нашего древнего рода, а скоро, очень скоро ты останешься совсем один.
— Нет, милая бабушка, не говори так.
— Я стара, Найджел, и чувствую, как тьма сгущается вокруг меня. Сердце мое стремится покинуть нашу юдоль, как ее уже покинули все, кого я знала и любила. А ты… для тебя этот день будет светлым, ведь я не отпускала тебя в широкий мир, куда стремится твой доблестный дух.
— Нет, нет! Я счастлив с тобой тут, в Тилфорде.
— Мы очень бедны, Найджел. Не знаю, где мы найдем денег снарядить тебя на войну. Правда, у нас есть добрые друзья. Вот сэр Джон Чандос, покрывший себя славой во французских войнах, заслуживший честь ездить по правую руку короля. Он был другом твоего отца, когда оба они еще не были посвящены в рыцари. Если я отправлю тебя ко двору с письмом к нему, он поможет тебе.
Красивое лицо Найджела вспыхнуло.
— Нет, благородная леди Эрминтруда! Снаряжение я должен добыть для себя сам, как уже добыл коня. Уж лучше я поскачу на битву в этой тунике, чем буду обязан доспехами кому-то другому.
— Я боялась, что твой ответ будет таким, Найджел. Однако я, право, не знаю, как еще нам найти деньги, — печально сказала старуха. — В дни моего отца все было иным. Помню, доспехи тогда никого не заботили, их ведь делали во всех английских городах. Но год за годом люди все больше и больше пеклись о благополучии своего тела, и появлялись то какие-нибудь хитрые сочленения, то особый нагрудник, да чтобы изготовлены они были непременно в Милане или в Толедо, и теперь рыцарю, чтобы облечься в металл, надобно прежде иметь его побольше в кошеле.
Найджел жаждуще взглянул на старинные доспехи и оружие, развешанные на балках у него над головой.
— Ясеневое копье еще крепко, — заметил он. — Как и дубовый щит, окованный железом. Сэр Роджер Фиц-Алан осмотрел их и сказал, что лучших ему видеть не доводилось. Но вот латы…
Леди Эрминтруда покачала седой головой и засмеялась.
— Ты унаследовал великую душу своего отца, Найджел, но не его рост и могучие плечи. Во всем королевском войске не было рыцаря выше и сильнее его. Его доспехи тебе не пригодятся. Нет, милый внук, мой тебе совет: продай этот обветшалый дом, когда приспеет время, а с ним и жалкие остатки нашей земли, и снаряди себя на войну в надежде, что твоя правая рука добудет для Лорингов новый родовой дом.
Свежее юношеское лицо Найджела омрачила тень гнева.
— Не знаю, долго ли мы еще сумеем противостоять монахам и их крючкотворам. Не далее как нынче утром сюда явился человек из Гилфорда с записями, — дескать, все тут принадлежало аббатству еще до смерти моего отца.
— Где эти записи, милый внук?
— Зацепились за кусты дрока где-нибудь на Хэнкли. Я ведь расшвырял все его пергаменты и грамоты, а ветер умчал их быстрее сокола.
— Нет-нет, Найджел, или ты помрачился в уме? А этот человек где?
— Рыжий Свайр и старый Джордж-Лучник бросили его в Терслейскую трясину.
— Увы, боюсь, что нынче так поступать нельзя, хотя мой отец и мой муж отослали бы мужлана назад в Гилфорд без ушей. Церковь и закон теперь сильнее нас, людей благородной крови. Бедой это кончится, Найджел. Ведь аббат Уэверли не из тех, кто отвращает щит церкви от ее слуг.
— Аббат нам зла не причинит. На нашу землю щерит зубы серый волк ключарь. Пусть делает, что может. Я его не испугаюсь.
— Но у него за спиной такая сила, Найджел, что и храбрейшим приходится ее опасаться. Отлучение, губящее душу человека, во власти церкви, а чем можем ответить мы? Прошу тебя, Найджел, говори с ним без зла.
— Нет, милая бабушка, хотя повиноваться тебе и мой долг, и моя радость, но я лучше умру, чем буду просить как милости то, что принадлежит нам по праву. Стоит мне взглянуть вон в то окно, и я вижу пологие холмы и заливные луга, поля и долины, рощи и леса, которые принадлежали нам с той поры, когда нормандец Вильгельм{22} даровал их тому Лорингу, что нес его щит при Сенлаке. Теперь хитростями и обманом они отняты у нас, и среди вольных хлебопашцев немало таких, кто богаче меня. Но никому не будет дано сказать, что я сохранил остатки, склонив шею под монашеское ярмо. Пусть сделают худшее, что в их власти, а я либо стерплю, либо буду отстаивать свои права, как смогу.
Старуха вздохнула, покачав головой.
— Ты говоришь, как подобает Лорингу, и все же я страшусь, что нас постигнет тяжкая беда. Но не будем больше говорить об этом, раз ничего изменить мы не в силах. Где твоя лютня, Найджел? Может быть, ты мне сыграешь и споешь?
В ту эпоху мужчина, принадлежавший к благородному сословию, нередко читал и писал с большим трудом или же вовсе не был обучен грамоте, но он говорил на двух языках, непременно умел играть по крайней мере на одном музыкальном инструменте, не говоря уж о многом другом — начиная с вживления перьев соколу и кончая искусством охоты, а оно требовало знать повадки всех зверей и птиц, знать, когда их следует оставлять в покое, а когда, наоборот, приходит пора отправиться в лес со сворой и копьем либо с луком и стрелами. И наш молодой сквайр умел как никто вскочить на неоседланного коня, поразить зайца на бегу стрелой из арбалета или взобраться на стену замка по выступам. Однако музыка ему не давалась и потребовала многих часов унылых усилий. Теперь, правда, струны ему подчинялись, но и голос его и слух оставляли желать много лучшего. Пожалуй, лишь одна эта любящая слушательница могла получать удовольствие от нормандско-французской песни, которую он выводил высоким жиденьким тенором с большим чувством, но часто сбиваясь и фальшивя, хотя и встряхивал светлыми кудрями в такт мелодии.
О меч! О меч! О, дай мне меч! Свет деяний великих ждет. Пусть дорога крута и дверь заперта, Храбрец в нее войдет. Пусть Случай и Рок сохраняют порог, Я ключ железный найду. Стяг взовьется мой над зубчатой стеной, Иль доблестно я паду. О конь! О конь! О, дай мне коня! Пусть туда он меня умчит, Где искус трудней, где бой тяжелей, Где Смерть беспощадней разит. Охрани мои дни, да не полнят они Ядом неги и лени мне грудь. И на подвиг открой, я молю, предо мной Слез и гнева тернистый путь. О сердце! О сердце! О сердце мне дай! Пусть твердым пребудет оно. Готовым на бой выйти с Судьбой, Отваги и чести полно. Все сумеет свершить, хоть не будет спешить, Назначив себе свою часть. Не зная цепей, только дамы своей Над собой признавая власть.Может быть, прочувствованность искупала фальшивые ноты, а может быть, возраст притупил тонкость слуха леди Эрминтруды, но она захлопала худыми морщинистыми руками и не поскупилась на громогласные похвалы.
— Да, Уэтеркот может гордиться таким учеником! — сказала она. — Прошу тебя, спой что-нибудь еще.
— Нет, милая бабушка, теперь твой черед. У нас с тобой ведь такой порядок. Мне хочется послушать рыцарскую повесть, а ты знаешь их все. Сколько уж лет ты мне их рассказываешь, и все новые и новые. Готов поклясться, в твоей памяти их хранится больше, чем во всех толстых книгах, которые мне показывали в Гилфордском замке. Так не откажи мне. «Доон де Майанс», «Песнь о Роланде» или «Сэр Изумбрас».
Старуха, не заставя себя долго просить, начала длинную поэму, декламируя медленно и монотонно, но, по мере того как интерес нарастал, она все больше воодушевлялась, ее лицо покрыла краска оживления, с выразительными жестами она прочувствованно произносила строфы, говорившие о пустоте будничной жизни, о красоте героической смерти, о высокой святости любви и неумолимом долге чести. Лицо Найджела застыло, глаза исполнились задумчивости, он впивал завораживающие слова, пока наконец они не замерли на губах старой дамы и она не откинулась утомленно на спинку кресла. Найджел нагнулся к ней и поцеловал ее руку.
— Твои наставления всегда будут служить мне путеводной звездой, — сказал он.
А потом поставил между ними столик с шахматами и предложил, чтобы они, по своему обычаю, сыграли партию на сон грядущий.
Но их дружеское состязание было внезапно прервано самым бесцеремонным образом. Один из псов насторожил уши и залаял. Остальные с рычанием кинулись к двери. А из-за нее донесся лязг железа, за которым последовал глухой стук, словно стучали палицей или рукояткой меча. И басистый голос именем короля потребовал открыть дверь. Леди Эрминтруда и Найджел вскочили на ноги, столик опрокинулся, шахматные фигуры рассыпались по полу среди камыша. Найджел потянулся за арбалетом, но леди Эрминтруда перехватила его руку.
— Нет, милый внук! Разве ты не слышал, что они требуют открыть им именем короля? — сказала она. — Лежать, Толбот! Лежать, Баярд! Открой дверь и впусти королевского вестника.
Найджел отодвинул засов, и тяжелая дубовая дверь распахнулась наружу. Свет пылающей смолы лег на железные каски, на свирепые бородатые лица, обнаженные мечи и золотистые луки. В залу ввалился десяток вооруженных до зубов лучников, которых вели тощий уэверлийский ключарь и пожилой толстяк, облаченный в дублет и штаны из красного бархата, перепачканные болотным илом и глиной. В руке он держал внушительных размеров пергамент, обвешанный печатями, высоко поднимая его над головой.
— Пусть выйдет Найджел Лоринг! — выкрикнул он. — Я, блюститель королевских законов и стряпчий аббатства Уэверли, требую человека по имени Найджел Лоринг!
— Это я.
— Да, это он, — буркнул ключарь. — Лучники, исполняйте приказ!
И в тот же миг дюжие лучники набросились на Найджела, как гончие псы на оленя. Найджел рванулся к своему мечу, который лежал на железном сундуке. С силой, рожденной не столько крепостью тела, сколько крепостью духа, он потащил их всех туда, но ключарь схватил меч, а лучники повалили отбивающегося сквайра на пол и опутали веревкой по рукам и по ногам.
— Держите его крепче, добрые лучники! Не отпустите ненароком! — вопил стряпчий. — Только прошу вас, пусть кто-нибудь один оттащит от меня этих злобных псов. Именем короля, прочь! Уоткин, да загороди же меня от этих адских тварей! Они столько же мало уважают закон, как и их хозяин!
Лучник пинками отогнал верных собак. Но не только они готовы были встать на защиту старинного дома Лорингов. Из двери, ведущей во двор, появилась кучка домочадцев Найджела. Было время, когда десять рыцарей, сорок жандармов{23} и двести лучников следовали за пятью розами. А теперь на последний бой, когда юный глава рода лежал связанный в собственной зале, на его зов явились паж Чарлз с дубинкой, повар Джон с самым длинным своим вертелом, Рыжий Свайр, старый, белый как лунь дружинник, высоко вскинувший тяжелый топор, и Уэтеркот с охотничьим копьем. Однако дух дома воспламенял отвагу этого пестрого отряда, и во главе с закаленным старым воином они бросились бы на обнаженные мечи лучников, если бы леди Эрминтруда не встала перед ними.
— Остановись, Свайр! — крикнула она. — Остановись, Уэтеркот! Чарлз, привяжи Толбота и оттащи Баярда! — Ее черные глаза обратились на непрошеных гостей, и они попятились, не выдержав их гневного взгляда. — Кто вы такие, подлые разбойники, что смеете, прикрываясь высоким именем короля, накладывать руки на того, чья единая капля крови стоит дороже, чем все ваши грязные мужицкие туши?
— Поосторожнее, благородная дама, поосторожнее! — огрызнулся толстый стряпчий, чья физиономия обрела нормальный цвет, поскольку говорил он теперь с беспомощной старой женщиной. — В Англии есть закон, не забывай! Следят же за его исполнением и оберегают самые верные подданные и слуги короля. Таков я. А находятся и такие, которые хватают подобных мне и волокут, сиречь доставляют нас в болото, сиречь трясину. Такие, как этот нераскаянный старик с топором, которого я уже видел нынче. А еще есть такие, которые рвут, топчут и разбрасывают письменные повеления закона, и оный молодой человек их предводитель. А посему советую тебе, благородная дама, не поносить нас, а понять, что мы — служители короля и исполняем его волю.
— Так для чего же вы явились в этот дом в такой час? Стряпчий внушительно откашлялся и, повернув свой пергамент к светильникам, принялся читать длиннейший документ, составленный на нормандско-французском языке в столь сложных выражениях, что наиболее запутанные и нелепые выверты бюрократического стиля нашего времени покажутся самой простотой в сравнении с тем языком, при помощи которого люди в судейских мантиях превратили в темную загадку то, чему следовало бы быть самым четким, самым ясным из всего написанного человеческим пером. Отчаяние ледяной рукой сжало сердце Найджела и заставило побелеть щеки леди Эрминтруды, пока они слушали устрашающее перечисление тяжб, исков, притязаний, а также просрочек прекария и турбария, выплат за лес для починок, за дрова, и прочее, и прочее. Завершался же список требованием во измещение вышеперечисленных просрочек и неуплат передачи аббатству Уэверли всех земель, усадеб и дворов, составляющих их земное достояние, вместе с правами на любые наследства.
Связанного Найджела усадили спиной к железному сундуку, и с пересохшим ртом он слушал слова, обрекавшие его род на гибель, пока его лоб покрывался испариной. Но тут он перебил стряпчего с такой яростью, что тот подпрыгнул.
— Ты пожалеешь о содеянном нынче! Как мы ни бедны, у нас есть друзья, которые не потерпят, чтобы нас бесстыдно ограбили. Я отправлюсь в Виндзор искать правосудия у короля, и его величество, видевший смерть моего отца, узнает, как его именем прикрываются, чтобы обездолить сына! Впрочем, такие дела решаются по закону в королевском суде, так чем же ты оправдаешь такое нападение на мой дом и на меня?
— Тут дело иное, — сказал ключарь, — Тяжбами о долгах ведает королевский суд, тут спора нет. Но поднять руку на стряпчего и его бумаги — значит совершить преступление противу закона и не иначе, как по наущению дьявола, а оно подлежит суду аббатства.
— Воистину! Воистину! — вскричал стряпчий. — Я не знаю греха чернее.
— Посему, — продолжал безжалостный монах, — святой отец аббат повелел, чтобы ты провел ночь в келье аббатства, а утром предстал перед судом в доме капитула, дабы понести достойную кару и за это, и за многие другие бесчинства, кои учинял противу служителей святой церкви. Но довольно слов, почтенный стряпчий. Лучники, уведите арестанта.
Четверо дюжих лучников подхватили Найджела на руки. Леди Эрминтруда бросилась было ему на помощь, но ключарь грубо оттолкнул ее.
— Смири гордыню, женщина! Не препятствуя исполнению закона, научи надменное сердце смиряться перед властью святой церкви. Или мало урока, преподанного тебе жизнью? Тебе, которая была вознесена высоко, а скоро лишишься крова над головой. Отступи, не то я прокляну тебя!
Старуха внезапно дала волю жгучему гневу.
— Слушай, как прокляну тебя я! — вскричала она, встав перед злобным монахом. Глаза ее метали молнии, костлявая рука грозно поднялась. — Как ты поступил с домом Лорингов, да воздаст тебе тем же Господь! И лишитесь вы власти над английской землей, и останется от вашего могущественного аббатства Уэверли только груда серых камней на зеленом лугу! Вижу это! Вижу! Старые мои глаза видят это! От последнего служки до аббата, от подвалов до башен да сгинет Уэверли и все, что есть в его стенах!
Как ни бесчувствен был монах, он сник перед этим исступлением, не выдержав жгучих, язвящих слов. Стряпчий и лучники уже покинули дом вместе с пленником. Ключарь торопливо повернулся и поспешил захлопнуть за собой тяжелую дверь.
Глава V Как аббат Уэверли судил Найджела
Средневековые законы, написанные на старинном нормандско-французском диалекте, изобилующие неуклюжестями и всякими неудобопонятными обозначениями, были страшнейшим оружием в руках тех, кто умел ими пользоваться. Не зря же восставший народ поспешил обезглавить лорда-канцлера. Во времена, когда мало кто умел читать и писать, эти головоломные речения и запутаннейшее изложение сути даже простого дела, запечатленные на пергаменте и скрепленные печатями, наполняли ледяным ужасом сердца, не страшившиеся никаких опасностей на поле брани.
Даже бодрый и веселый дух Найджела Лоринга поугаснул за ночь, которую молодой сквайр провел в монастырской темнице, размышляя о том, что никакая доблесть не поможет ему против силы, угрожающей его дому полной гибелью. Меч и щит столь же мало могли оборонить его от святой церкви, как и от Черной Смерти. Против аббатства он беспомощен. Монахи давно уже урывали то луг здесь, то рощу там, а теперь они разом заберут остальное вместе с родовым домом Лорингов, и где приклонит седую голову леди Эрминтруда, как прокормят себя старые, никому не нужные их служители? От этих мыслей его пробирала холодная дрожь.
Пусть он пригрозил, что обратится с жалобой к самому королю, но могущественный Эдуард уже много лет не слышал имени Лорингов, а Найджел знал, что память сильных мира сего коротка. К тому же власть церкви во дворце лишь немногим уступала ее власти в лачуге бедняка, и потребуются очень веские доводы, чтобы король помешал замыслам столь влиятельного прелата, как аббат Уэверли, если закон на его стороне. Так где же искать ему помощи? С простодушной и практичной верой своей эпохи юноша начал молиться святым, которых избрал своими покровителями: святому Павлу{24}, чьи приключения на суше и на море восхищали его; святому Георгию, который обрел великую честь, повергнув дракона; и святому Томасу Кентерберийскому{25} — тот ведь и сам нашивал доспехи, а потому поймет человека благородной крови и поможет ему. Наивные мольбы облегчили душевные терзания, и он уснул здоровым сном молодости, от которого его пробудил служка с завтраком, состоявшим из ломтя хлеба и кружки жидкого пива.
Суд аббата открылся в доме капитула после третьей молитвы по каноническому времени, или в девять утра по времени мирскому. Ритуал этот всегда внушал почтительный страх, даже когда виновником был какой-нибудь виллан, поставивший силки в лесу аббатства, или торговец, чьи гири оказались фальшивыми. Но теперь предстояло судить человека благородного рождения, а потому церемония была проведена с соблюдением всех юридических и церковных процедур, как внушительных, так и нелепых. Под дальние отголоски духовной музыки и размеренные удары большого колокола облаченные в белое монахи попарно обошли залу, распевая «Благослови» и «Гряди, Дух Творящий!», и лишь затем уселись справа и слева от судейского стола. Затем по очереди, соблюдая старшинство, к своим местам прошествовали податель милостыни, чтец, капеллан, помощник коадьютора и сам коадьютор.
Потом в залу вступил угрюмый ключарь, смиренно опустив голову, но с выражением тихого торжества в глазах, а следом за ним и аббат Джон, ступавший медленно и величаво, с лицом, исполненным важного спокойствия. На поясе у него висели железные четки, рука сжимала молитвенник, а губы уже произносили слова положенной молитвы. Он преклонил колени на высокую подушку, а братия по знаку коадьютора распростерлась ниц на полу. Негромкие голоса сливались в единый гул, он раскатывался под сводами и отдавался эхом, точно волны, выкатывающиеся из подводной пещеры. Но вот монахи вновь расселись, в залу вошли с пергаментами и перьями, одетые в черное писцы, а за ними в красном бархате стряпчий, готовый принести свою жалобу, и, наконец, Найджел под охраной лучников, тесно его окруживших. Произнесены были на старофранцузском положенные юридические формулы — таинственные в своей недоступности умам простых смертных, и суд аббатства приступил к разбирательству.
Первым к дубовому столу свидетелей приблизился ключарь и сухим голосом монотонно изложил все притязания, какие имелись у Уэверлийского аббатства к семейству Лорингов. Сто с лишним лет тому назад тогдашний глава дома то ли за полученные в долг деньги, то ли в благочестивый знак благодарности за духовную помощь признал за своим поместьем некоторые вассальные повинности по отношению к аббатству. (Тут ключарь высоко поднял пожелтевший, потрескавшийся пергамент с болтающимися свинцовыми печатями.) В их числе были щитовые деньги — ежегодный взнос, равный жалованью одного рыцаря. Так вот, деньги эти ни разу уплачены не были, и служба тоже никакая не неслась, и за прошедшие годы накопилась сумма, превышавшая весь доход с поместья. Имелись и другие задолженности. Ключарь потребовал свои книги и костлявым пальцем алчно указывал на одну запись за другой: уплата за это, оброк за то — столько-то шиллингов в этом году и столько-то ноблей в том. И когда Найджел еще не родился, и когда он был младенцем. Все записи проверил и удостоверил стряпчий.
Найджел слушал это сокрушающее перечисление и чувствовал себя загнанным оленем — неукротимым, храбрым, но понимающим, что он окружен и спасения нет. Его смелое юное лицо, твердый взгляд голубых глаз, гордая посадка головы — все свидетельствовало, что он достойный потомок благородных предков, и солнечные лучи, лившиеся сквозь круглое окно высоко в стене на его некогда богатый, а теперь истертый и выцветший дублет, словно хотели показать, насколько жестоко обошлась судьба с его семьей.
Ключарь кончил изложение иска, и стряпчий уже собрался его поддержать, раз Найджелу нечем было опровергнуть эти записи, как вдруг у него нашелся совершенно нежданный защитник. То ли некоторое злорадство в голосе ключаря, то ли нелюбовь дипломата к крайностям, то ли искренне доброе побуждение (аббат Джон легко вскипал, но легко и отходил) сыграли тут роль, но пухлая белая рука властно поднялась в воздух, показывая, что разбирательство окончено.
— Брат ключарь исполнил свой долг, предъявив этот иск, — сказал аббат, — ибо земное достояние нашего аббатства отдано под его благочестивую опеку, и ему надлежит оберегать нас от всякого ущерба, понеже сами мы лишь блюстители достояния тех, кто придет после нас. Однако под мою опеку отдано нечто куда более драгоценное — дух и добрая слава тех, кто следует заветам святого Бернарда. А с той самой поры, как святой основатель нашего ордена удалился в долину Клариво и построил себе там келью, мы тщимся подавать пример кротости и смирения всем людям. Вот почему строим мы наши обители в низинах и не воздвигаем высоких колоколен в храмах при них, а в стены наши не допускаем ни роскоши, ни иных металлов, кроме олова и железа. Братия наша ест с деревянных блюд, пьет из железных чаш, а свечи ставит в оловянные подсвечники. Посему не подобает суду ордена, уповающего на то, что обещано кротким сердцем, выносить решение по собственному иску и так приобрести земли своих соседей. Коль иск наш справедлив, в чем у меня сомнений нет, рассмотреть его пристойней будет королевским ассизам{26} в Гилфорде, а посему я постановляю не рассматривать его в суде сего аббатства, но передать другому суду.
Найджел беззвучно возблагодарил трех доблестных святых, взявших его под свой покров в час нужды.
— Аббат Джон! — воскликнул он. — Не думал я, что человек, носящий мое имя, будет когда-нибудь благодарить уэверлийского цистерианца, но, клянусь святым Павлом, нынче ты говорил, как благородный муж. Ведь суду аббатства выносить решение по иску аббатства — это же как играть фальшивыми костями!
Восемьдесят облаченных в белое монахов выслушали эту безыскусственную речь, обращенную к тому, кто в скудной их жизни представлялся им почти наместником Бога на земле, с насмешливой досадой. Лучники отступили от Найджела, словно он был волен уйти, но тут тишину нарушил зычный голос стряпчего:
— Отче аббат! Да позволено мне будет сказать, что твое решение касательно иска вашего аббатства к этому человеку поистине secundum legem и intra vires[6]. Тут твоя воля. Но я, Джозеф, стряпчий, подвергся жестокому и преступному обращению, мои грамоты, крепости{27}, реестры разорваны, власть, коей я облечен, поругана, а мою особу проволокли по болоту, сиречь по трясине, по каковой причине я лишился бархатного плаща и серебряного знака моей должности, и таковые, без сомнения, находятся в вышеуказанном болоте, сиречь трясине, той же самой, что…
— Довольно! — сурово перебил аббат, — Прекрати эти бессмысленные речи и прямо скажи, чего ты требуешь.
— Святой отец, я служу святой церкви и королю, а мне чинились помехи и я подвергался членовредительству при исполнении возложенных на меня обязанностей, бумаги же мои, составленные именем короля, разорваны, разодраны и развеяны по ветру. Посему я требую от суда аббатства правосудной кары сему человеку, понеже вышеуказанное нападение было совершено в пределах, подсудных аббатству!
— Что скажешь ты, брат ключарь? — спросил аббат в некоторой растерянности.
— Скажу, отче, что в нашей власти быть снисходительными и милосердными, пока дело касается нас самих, но коль оно касается служителя короля, мы не исполним своего долга, если не окажем ему защиты, которой он требует. И напомню тебе, что не впервые сей человек дает волю своей необузданности, но и прежде избивал наших слуг, не подчинялся нашей власти и пустил щук в собственный садок аббата.
Толстые щеки прелата побагровели от гнева — воспоминание об этом преступлении было еще слишком свежо в его памяти, и он сурово посмотрел на юношу.
— Ответь мне, сквайр Найджел, ты поистине пустил щук в мой садок?
Найджел гордо выпрямился.
— Прежде чем я отвечу на твой вопрос, отче аббат, не ответишь ли ты на мой, не скажешь ли мне, что хорошего сделали для меня хоть раз монахи Уэверли и почему должен я был бы удержать свою руку, когда представился случай причинить им вред?
По зале прокатился ропот удивления перед такой откровенностью и негодования от такой дерзости.
Аббат опустился в кресло с видом человека, принявшего решение.
— Пусть стряпчий изложит свою жалобу, — произнес он. — Правосудие свершится, и виновный понесет кару, будь он благородного сословия или простолюдин. Пусть жалобщик объяснит, как было дело.
Хотя стряпчий постоянно пускался в лишние подробности и уснащал свою речь всякими юридическими премудростями, повторяя их снова и снова, суть того, что произошло, сомнений не вызывала. В залу ввели Рыжего Свайра, чье заросшее белой щетиной лицо сердито хмурилось, и он сознался в том, как обошелся с законником. Второй виновник, маленький жилистый лучник из Чурта, с лицом, коричневым, как каштан, не отрицал, что он помогал и содействовал старому дружиннику. Но оба они поспешили сказать, что молодой сквайр Найджел Лоринг ничего про их затею не знал. Однако оставался скользкий вопрос о разорванных документах. Найджел, не способный лгать, вынужден был подтвердить, что собственными руками порвал в клочья эти священные бумаги. Гордость не позволила ему снизойти до извинений или оправданий. Чело аббата омрачилось, ключарь поглядывал на подсудимого с усмешкой, а залу окутала мертвая тишина: разбирательство закончилось, и вот-вот должны были прозвучать слова приговора.
— Сквайр Найджел, — начал аббат, — тебе, отпрыску древнего и славного рода, как известно всем в здешних местах, подобает подавать благой пример своим поведением и поступками. Однако твой дом давно уже стал очагом раздора и злокозненности. И теперь, не довольствуясь враждой к нам, цистерианским монахам Уэверли, ты позволил себе выказать неуважение к королевскому закону и руками своих слуг нанес бесчестье особе его вестника. За каковые бесчинства в моей власти призвать на твою голову грозный гнев церкви, но я буду мягок с тобой, памятуя о твоей молодости и о том, что на той неделе ты спас от гибели слугу аббатства. Посему я ограничусь лишь телесным обузданием твоего излишне дерзкого духа и усмирением упрямого безрассудства, кои подвигают тебя на всякие бесчинства против нашего аббатства. Шесть недель на хлебе и воде с этого часа и до дня святого Бенедикта и ежедневные увещевания нашего капеллана благочестивого отца Амброза, быть может, еще понудят согнуться твою дерзкую выю и умягчат ожесточенное сердце.
Этот позорный приговор, уравнивавший гордого наследника дома Лорингов с последним деревенским браконьером, привел Найджела в бешенство — кровь бросилась ему в голову, и он обвел залу горящим взглядом, который яснее всяких слов говорил, что покорности от него ожидать не следует. Дважды он попытался заговорить, и дважды гнев и стыд не дали ему сказать ни слова.
— Я не твой вассал, надменный аббат! — наконец крикнул он. — Лоринги всегда были королевскими вассалами. Я не признаю за тобой и твоим судом права выносить мне приговор. Карай своих монахов, которые хнычут, едва ты сдвинешь брови, но не дерзай накладывать рук на того, кто не страшится тебя, ибо он свободный человек и равен знатнейшим в стране, исключая лишь самого короля!
Аббата эти смелые слова и звонкий голос, каким были они произнесены, на миг ошеломили. Но неуязвимый ключарь, как всегда, поспешил укрепить его слабую волю. Он вновь взмахнул старым пергаментом.
— Прежде Лоринги и правда были королевскими вассалами, но вот печать Юстеса Лоринга, которая свидетельствует, что он признал себя вассалом аббатства и держал свои земли уже от аббатства.
— Потому что он был добр и благороден! — вскричал Найджел. — Потому что не ждал от других хитрости и обмана!
— Ну нет! — вмешался стряпчий. — Если, отче аббат, мне будет дозволено поднять свой голос для разъяснения закона, то он гласит следующее: причины, побудившие подписать, засвидетельствовать или подтвердить дарственную, купчую крепость или иной такой же документ, веса никакого не имеют, суд же рассматривает лишь условия, статьи, обязательства и оговорки, в оном документе содержащиеся.
— К тому же, — подхватил ключарь, — суд аббатства вынес приговор и покроет себя позором и бесчестием, коль позволит пренебречь им.
— Брат ключарь, — сердито сказал аббат, — думается мне, такая твоя ревность в сем деле излишня, и мы способны поддержать честь и достоинство суда аббатства без твоих советов! Что до тебя, почтенный стряпчий, побереги свои мнения до той минуты, когда они нам понадобятся, а не то тебе придется изведать власть нашего суда. Однако, сквайр Лоринг, твое дело рассмотрено, и приговор вынесен. Мне больше нечего сказать.
Он подал знак, и на плечо молодого человека опустилась ладонь лучника. Но подобная вольность простолюдина возмутила Найджела до самой глубины его мятежной души. Был ли среди его высокородных предков хоть один, кого подвергли бы такому унижению? И не предпочли бы все они смерть? Неужто он станет первым, кто отступит от их высоких заветов, пренебрежет фамильной гордостью? Быстрым гибким движением он вывернулся из-под руки лучника и выхватил короткий меч из ножен у него на боку. Миг спустя он уже стоял в узкой оконной нише, обратив к зале бледное, решительное лицо, пылающие глаза и лезвие меча.
— Клянусь святым Павлом! — сказал он. — Не думал я снискать славу в честном бою под кровлей аббатства, но, быть может, мне представится такой случай, прежде чем вы унесете меня в свою темницу!
В зале капитула поднялся невероятный шум. Никогда еще за всю долгую, благопристойную историю аббатства в его стенах не разыгрывалось подобной сцены. Этот мятежный дух, казалось, на секунду заразил даже монахов. Возложенные ими на себя вериги пожизненного смирения вдруг словно ослабели от столь неслыханного вызова мирской и духовной власти аббата. Они повскакали с мест и сгрудились полукругом перед юношей, бросившим такой вызов, и, глядя на него с испугом, к которому примешивалось почти восхищение, переговаривались, жестикулировали, гримасничали… словом, покрывали себя стыдом на все времена. Сколько недель покаяния, самобичеваний и всяческих эпитимий должно было пройти, прежде чем тень этого дня перестала омрачать аббатство! Пока же восстановить благочиние никак не удавалось. Всюду царили беспорядок и хаос. Аббат встал с судейского кресла и сердито поспешил к своим пасомым, но затерялся в их толпе, точно овчарка, вокруг которой сомкнулось оберегаемое ею стадо.
Лишь ключарь стоял в стороне. Он укрылся за полдюжиной лучников, которые смотрели на дерзкого, посмевшего бросить вызов правосудию с немалым одобрением и большой нерешительностью.
— Хватайте его! — крикнул ключарь. — Позволено ли ему будет надругаться над властью суда, или вы вшестером не справитесь с одним? Идите, схватите его! Эй, Бедлсмир, чего ты ждешь?
Высокий лучник с густой бородой, одетый в зеленую куртку, такие же штаны и коричневые сапоги, медленно направился к Найджелу, обнажив меч. Ему совершенно не хотелось выполнять приказ — церковные суды особой любовью не пользовались, а злополучная судьба дома Лорингов вызывала общее сочувствие, и все желали удачи молодому его наследнику.
— Ну, будет, благородный сэр, — сказал он. — Ты и так уже наделал шума. Положи меч и выходи оттуда.
— А ты забери меня отсюда, любезный, — ответил Найджел с опасной улыбкой.
Лучник кинулся к нему, железо лязгнуло о железо, лезвие блеснуло, как язык пламени, и лучник попятился. По его запястью заструилась кровь, каплями падая с пальцев. Он вытер их и буркнул:
— Клянусь черным крестом Бромхольма! (Так клялись его предки — саксы.) Уж лучше сунуть руку в нору с лисятами, когда там лисица!
— Отойди! — приказал Найджел. — Я не хотел тебя ранить, но, клянусь святым Павлом, я не позволю, чтобы на меня налагали руки. Кто попробует, тому это дорого обойдется!
Его глаза пылали такой яростью, а меч был занесен так грозно, что лучники, сомкнувшиеся перед узкой оконной нишей, совсем растерялись.
Аббат наконец протолкался через толпу монахов и, весь багровый от возмущения, остановился рядом с ними.
— Он вне закона! — прогремел голос аббата. — Он пролил кровь в суде, а этому греху прощения нет! Я не потерплю такого надругательства над моим судом, такого попирания моего приговора. Всякий, взявший меч, да погибнет от меча! Лесник Хью, возьми свой лук и стрелу!
Лесник, один из светских слуг аббатства, сильно нажал на свой лук, уперев его одним концом в пол, и набросил свободный конец тетивы на зарубку в верхнем, затем вытащил из-за пояса страшную стрелу длиной в три фута, с железным наконечником, с ярко раскрашенными перьями, и положил ее на тетиву.
— А теперь натяни тетиву и прицелься! — крикнул разъяренный аббат. — Сквайр Найджел! Святая церковь избегает проливать кровь, однако насилие побеждается только насилием, и грех да падет на твою голову. Брось меч, который ты сжимаешь в руке!
— Ты обещаешь, что я свободно выйду из твоего аббатства?
— Когда примешь кару и искупишь свой грех.
— Ну, так я лучше умру вот тут, где стою, чем отдам меч.
В глазах аббата вспыхнул опасный огонь. Он принадлежал к воинственному нормандскому роду, как и многие из тех неукротимых прелатов, которые, сжимая в деснице булаву, дабы избежать пролития крови, устремлялись во главе своих воинов в битву, памятуя о том, как их собрат, носивший столь же высокий духовный сан, подъял свой пастырский посох и решил исход кровавого Гастингского сражения{28}, длившегося от зари и до зари. Мягкость служителя церкви исчезла из его голоса, и с жесткостью солдата он сказал:
— Даю тебе минуту, и не более. Когда я прикажу: «Стреляй!», пронзи стрелой его тело!
Стрела оттянула тетиву, и суровые глаза лесника уставились на указанную ему цель. Минута тянулась медленно-медленно. Найджел вознес молитву трем своим воинственным святым, прося их не о спасении его тела в этом мире, но о спасении его души в том. У него мелькнула было мысль стремительно прыгнуть на врагов, точно рассвирепевшая рысь, но, покинув нишу, он обрек бы себя на неминуемую гибель. Тем не менее в последний миг он решился бы на этот отчаянный прыжок и уже весь подобрался, как вдруг раздался протяжный звон, точно лопнула струна арфы, тетива расскочилась, и стрела звякнула о каменную плиту пола. В то же мгновение молодой кудрявый лучник, чьи широкие плечи и могучая грудь свидетельствовали о незаурядной силе столь же ясно, как бесхитростное веселое лицо и честные карие глаза — о добродушии и мужестве, прыгнул вперед и встал рядом с Найджелом, держа в руке меч.
— Нет, ребята! — воскликнул он. — Сэмкин Эйлуорд не станет смотреть, как храбреца пристрелят, точно быка после травли. Пять против одного — это много, но двое против четверых — уже поменьше, и мы со сквайром Найджелом, клянусь всеми десятью моими пальцами, покинем это место вместе, а уж на своих ногах или нет, там видно будет.
Внушительная внешность новоявленного союзника сквайра, а также высокое мнение о нем его недавних товарищей еще больше охладили их и без того не слишком горячий пыл. Левая рука Эйлуорда сжимала натянутый лук, а в здешнем краю от Вулмерского леса до Уилда он славился как самый быстрый и меткий стрелок из лука, когда-либо поражавший бегущего оленя с расстояния в двести шагов.
— Э нет, Бедлсмир, убери-ка пальцы с тетивы, не то придется этой твоей руке отдохнуть от лука месяца эдак два, — сказал Эйлуорд. — Мечи, коли вам так хочется, ребята, но стрелу первым пущу я!
Эта нежданная новая помеха еще пуще разожгла гнев в сердце аббата и ключаря.
— Горьким будет этот день, Эйлуорд, для твоего отца, держателя Круксбери, — сказал ключарь. — Вот лишится он земли с усадьбой и пожалеет, что зачал такого сына.
— Мой отец смелый йомен и еще больше пожалел бы, коли бы его сын стоял сложа руки и смотрел, как творится черное дело! — твердо ответил Эйлуорд. — Давайте, ребята, подходите! Мы ждем.
Подбодряемые обещанием награды, если они падут, служа аббатству, и всяческих кар, если они будут и дальше топтаться на месте, четверо лучников уже приготовились броситься к оконной нише, как вдруг внимание всех присутствующих было вновь отвлечено, и события получили совсем уже нежданный оборот.
У дверей дома капитула собралась порядочная толпа братьев-трудников, монастырских слуг и работников, которые следили за разворачивающейся внутри захватывающей драмой с интересом и упоением, понятными, если вспомнить, какой тяжелой и однообразной была их жизнь. Внезапно в задних их рядах началось движение, затем в середине словно закрутился водоворот, и, наконец, стоявшие впереди были отброшены в стороны, и из образовавшегося просвета появился некто необычного и удивительного вида и сразу же подчинил себе аббатство, дом капитула, монахов, прелата с ключарем и лучников, словно был их господином и властителем.
Был он уже в годах, с жидкими, лимонного цвета волосами, вьющимися усами, бородкой кисточкой лимонного же цвета и рубленым лицом с высокими скулами и носом, подобным изогнутому орлиному клюву. Постоянно подставляемую ветру и солнцу кожу покрывал густой красновато-коричневый загар. Роста он был высокого, худощавая фигура, словно бы небрежно свинченная, выглядела тем не менее жилистой и крепкой. Один глаз был закрыт — плоское веко прятало пустую глазницу, зато в другом плясали лукавые искры: умный, насмешливый и проницательный взгляд словно давал единственный выход всему пламени его души.
Одежда незнакомца была столь же примечательной, как и его облик: пышный лиловый дублет и плащ с гербом, напоминавшим клин, воротник из дорогого кружева на плечах, в мягких складках которого переливалось червонное золото тяжелой цепи. Рыцарский пояс и позвякивавшие на мягких сапогах из оленьей кожи золотые рыцарские шпоры указывали на его ранг, а на запястье левой руки в кожаной перчатке чинно сидел в клобучке маленький сокол — сам по себе уже свидетельство высокого положения его хозяина. Оружия при нем не было никакого, но за спиной на черной шелковой ленте висела лютня, и ее коричневый гриф торчал над его плечом. Вот какой человек, незаурядный, насмешливый, властный, обладавший какой-то особой внушительностью, смерил взглядом противостоящие группы людей с мечами и разъяренных монахов, заставив все головы повернуться к себе.
— Excusez! — сказал он, пришептывая, по-французски. — Excusez, mes amies![7] Я думал, что отвлеку вас от молитв или праведных размышлений, но никогда еще мне не приходилось видеть под монастырской крышей благочестивых занятий подобного рода, с мечами взамен молитвенников и лучниками взамен послушников. Боюсь, мое появление не ко времени, но я приехал с поручением от того, кто не терпит промедлений.
Аббат да и ключарь тоже успели несколько опомниться и сообразить, что зашли куда дальше, чем намеревались, и что избежать невероятного скандала, сохранив достоинство и доброе имя Уэверли, им будет не так-то просто. А потому, вопреки снисходительной, если не сказать дерзкой, манере держаться, они обрадовались появлению незнакомца и его вмешательству.
— Я аббат Уэверли, сын мой, — сказал прелат. — Если данное тебе поручение касается дел общих, так зала капитула самое подходящее место, дабы сообщить о нем. Если же нет, я приму тебя в своей келье, ибо вижу, что ты высокородный рыцарь и не стал бы без достойного повода нарушать отправление нашего правосудия, тем более в деле, которое, как ты изволил верно заметить, тяжко для мирных служителей божьих вроде нас, смиренно следующих заветам святого Бернарда.
— Pardieu[8], отче аббат! — сказал незнакомец. — Достаточно взглянуть на тебя и твою братию, чтобы увидеть, как мало вам по вкусу это дело. И быть может, оно станет еще меньше вам по вкусу, когда я скажу, что посмею предложить этому, видимо благородному, юноше в окне мою помощь, если эти лучники будут и дальше ему докучать.
От такого прямолинейного предупреждения улыбка аббата исчезла, и брови его насупились.
— Благородный сэр, если ты и вправду явился сюда с поручением, тебе больше подобало бы изложить его, нежели подстрекать виновного восстать против справедливого приговора суда.
Незнакомец обвел залу насмешливо-вопросительным взглядом:
— Поручение мое не к тебе, отче аббат. А к тому, кто мне неизвестен. Я побывал у него в доме, и меня послали сюда. Зовут его Найджел Лоринг.
— Значит, оно ко мне, благородный сэр.
— Я так и подумал. Я знавал твоего отца, Юстеса Лоринга, и, хотя из него можно было бы выкроить двоих таких, как ты, все же печать его ясно видна на твоем лице.
— Тебе неизвестна суть дела, — вмешался аббат. — Если ты законопослушный человек, то не станешь вмешиваться, ибо сей молодой человек тяжко оскорбил закон, и все верные подданные короля обязаны оказать нам поддержку.
— И вы притащили его сюда, чтобы учинить над ним суд! — воскликнул незнакомец с веселым смешком. — Грачи задумали судить сокола! Видно, судить оказалось легче, чем карать. Позволь сказать тебе, отче аббат, что ты рубишь дерево не по себе. Когда тебе и подобным тебе дали власть судить, то для того лишь, чтобы ты мог унять драчливого слугу или наказать пьяного дровосека, а совсем не затем, чтобы ты хватал того, в чьих жилах течет лучшая кровь Англии, и натравливал на него своих лучников, если он не согласился с твоим приговором.
Аббат не привык выслушивать под крышей своего аббатства столь суровые упреки, произнесенные столь надменно, да еще в присутствии настороживших уши монахов.
— Быть может, тебе придется узнать, что суд аббатства обладает неведомой тебе властью, сэр рыцарь, — сказал он. — Да и рыцарь ли ты? Слишком уж неучтивы твои речи. Прежде чем мы продолжим разговор, могу ли я узнать твое имя и звание?
Незнакомец рассмеялся.
— Да вы и вправду мирные служители Божьи! — произнес он высокомерно. — Во Франции или в Шотландии не нашлось бы воина, который, увидев этот знак на моем щите или знамени (тут он прикоснулся к эмблеме на своем плаще), не узнал бы червленую башню Чандоса.
Чандос! Джон Чандос! Украшение английского воинства, зерцало странствующих рыцарей, герой полсотни сражений и стычек, муж, известный и почитаемый повсюду в Европе! Найджел уставился на него, словно ему явилось небесное видение. Лучники в смущении попятились, а монахи, наоборот, придвинулись поближе, пожирая глазами героя французских кампаний. Аббат сменил тон, а его сердитое лицо расплылось в улыбке.
— Да, сэр Джон, в нашей мирной обители мы не искушены в рыцарских гербах, — сказал он. — Но как ни толсты наши стены, слава о твоих подвигах проникла и к нам сюда. Коль тебе угодно принять участие в сем юном и сбившемся с пути сквайре, то не нам мешать твоему желанию сотворить добро или отказать в милости, о которой ты ходатайствуешь. И я воистину рад, что он обрел покровителя, в коем найдет для себя во всем благой пример.
— Благодарю тебя за твою любезность, отче аббат, — небрежно ответил Чандос. — Но у сего юного сквайра есть друг получше меня, более милостивый к тем, кого он любит, и более грозный для тех, кто вызвал его гнев. От него-то я и приехал.
— Прошу тебя, благородный, всеми почитаемый сэр, — сказал Найджел, — сообщить мне, что тебе поручено.
— Поручено мне, mon ami[9], передать, что твой друг скоро прибудет в ваши края и хочет переночевать в Тилфордском поместье в знак его любви и уважения к вашему роду.
— Наш дом к его услугам, — ответил Найджел, — но от души надеюсь, что солдатская пища и бедный кров придутся ему по вкусу. Мы встретим его всем лучшим, что только у нас есть, но лучшее это очень скромно.
— Он и вправду солдат, причем из лучших, — сказал Чандос со смехом. — И ему доводилось спать на постелях пожестче, чем та, что он найдет у тебя в доме.
— У меня мало друзей, благородный сэр, — произнес Найджел с недоумением. — Прошу, назови мне его имя.
— Эдуард.
— Сэр Эдуард Мортимер, быть может? Из Кента? Или сэр Эдуард Брокас, о котором столько рассказывает леди Эрминтруда?
— Нет. Известен он просто как Эдуард. Ну а если тебе так уж хочется знать, то его родовое имя — Плантагенет. Ибо гостеприимства под твоим кровом ищет твой и мой государь, его величество король Англии Эдуард.
Глава VI В которой леди Эрминтруда отпирает железный сундук
Эти невероятные, оглушающие слова Найджел выслушал словно во сне. И как во сне он смотрел на улыбающегося, ласкового аббата, на искательно изогнувшегося ключаря и на лучников, которые раздвигали перед ним и королевским посланцем толпу, сгрудившуюся перед дверью капитула. Минуту спустя он уже шагал рядом с Чандосом по тихой галерее, а впереди за распахнутыми воротами вилась по лугам широкая рыжая дорога. После безумного отчаяния при мысли о бесчестье и темнице, еще недавно леденившей его пылкое сердце, весенний воздух казался еще теплее и душистее. Он уже прошел портал, но тут почувствовал, что его дергают за рукав, и, оглянувшись, увидел открытое загорелое лицо и карие глаза лучника, вступившегося за него.
— Ну, а мне что ты скажешь, сэр сквайр?
— Что я могу сказать, любезный? Только одно: что благодарю тебя от всего сердца Клянусь святым Павлом! Ты бросился мне на выручку, когда и кровный брат не мог бы сделать для меня больше.
— Э, нет! Этого мало.
Найджел покраснел от досады тем сильнее, что Чандос слушал их разговор с обычной своей насмешливой улыбкой.
— Если ты слышал, что говорилось в суде, — сказал юноша, — то знаешь, как скудно мое имущество. Черная Смерть и монахи совсем разорили наше поместье. Я охотно наградил бы тебя за помощь горстью золотых, ты ведь их просишь? Но золота у меня нет, и потому придется тебе удовольствоваться моей благодарностью.
— На что мне твое золото! — резко сказал Эйлуорд. — Да набей ты мой кисет золотыми монетами, мою верность тебе не купить, будь ты мне не по сердцу. Но я видел, как ты сладил с золотистым конем, и я видел, как ты не покорился аббату, и вот такому господину буду рад служить, коли у тебя найдется мне место. Я видел твоих челядинцев и не спорю, в дни твоего деда они, наверное, все были молодцы как на подбор, но кто из них теперь сумеет натянуть тетиву длинного лука? Из-за тебя я бросил службу в аббатстве, так где же мне искать другую? Если я останусь здесь, то мне конец, как истершейся тетиве.
— Ну, пусть это тебя не заботит, — вмешался Чандос— Pardieu! На французской границе всегда есть нужда в крепких, метких лучниках, которые не боятся и самого черта. У меня под знаменем двести таких молодцов, и буду рад увидеть тебя между ними.
— Благодарю тебя, благородный сэр, — сказал Эйлуорд. — И я встал бы под твое знамя без размышлений, потому как слышал, что в битвах оно всегда впереди, а на войне, это и я знаю, тому, кто держится сзади, добычи не видать никакой. А все же если сквайр возьмет меня, то я пойду за пятью розами Лорингов: хоть родился я под Чичестером, но вырос в здешнем краю и здесь научился держать в руках длинный лук. И как свободному сыну свободного держателя, мне сподручней пойти на службу к соседу, чем к чужому.
— Я же объяснил тебе, любезный, — сказал Найджел, — что мне нечем платить тебе за службу.
— Только возьми меня на войну, уж плату я сам раздобуду, — ответил Эйлуорд. — А до той поры я у тебя ничего не прошу, кроме местечка за твоим столом да шести футов твоего иола — не то мне в аббатстве заплатят за нынешний день колодками на ноги, чтобы бичу было способней погулять по моей спине. С этого часа Сэмкин Эйлуорд твой лучник, сквайр Найджел, и вот этими десятью пальцами клянется, что ты об этом никогда не пожалеешь, а не то пусть его тут же дьявол унесет! — С этими словами он поднес руку к каске, закинул длинный лук за спину и, почтительно пропустив своего нового господина перед собой, последовал в нескольких шагах позади.
— Pardieu! Я приехал à la bonne heure[10], — сказал Чандос. — Я прискакал из Виндзора, но нашел твой дом пустым, если не считать благородной и очень величественной старой дамы. Она поведала мне о твоих невзгодах, я прогулялся до аббатства и успел как нельзя более кстати: длинные стрелы для твоей плоти, колокольный звон, молитвенник и свечи для твоей души сулили мало хорошего… Но если зрение меня не обманывает, это сама благородная дама.
И правда, из двери господского дома им навстречу вышла леди Эрминтруда, согбенная, исхудалая, опирающаяся на клюку, и все-таки внушающая почтение. Узнав о конфузе, каким завершился суд, она разразилась кудахтающим смехом, погрозила клюкой высоким стенам аббатства за рекой и проводила именитого гостя в залу, где его уже ждало лучшее угощение, какое она только могла собрать. В ее собственных жилах текла кровь Чандосов, прослеживаемая через де Греев, де Мултонов, де Валенсов, де Монтегю и прочее ее высокое и благородное родство; во всяком случае обед был уже съеден и со стола убрано, когда она, наконец, завершила свои розыски, обозначила все степени родства и свойства и перечислила рассечения, столбы, косоугольники, фигуры обремененные и не обремененные, а так же клейноды в родовых гербах, указывающие на общих предков. Ведь леди Эрминтруда знала каждую веточку, каждый бутон любого фамильного древа, восходящего ко времени Нормандского завоевания да и к более ранним временам.
Однако всему наступает конец, и когда они остались в зале втроем, Чандос сообщил ей причину своего приезда.
— Король Эдуард никогда не забывал благородного рыцаря сэра Юстеса, твоего сына, — сказал он. — На той неделе он отправляется в Саутгемптон, и я его гонец. Он повелел известить тебя, высокородная досточтимая дама, что будет ехать не спеша и, побывав в Гилфорде, переночует в твоем доме.
Слушая его, леди Эрминтруда гордо порозовела, но тут же ее лицо вновь стало бледным от горечи.
— Воистину это великая честь для дома Лорингов, — сказала она, — но ты сам видишь, каким убогим стал наш кров, как скудно наше угощение. Королю неизвестно, как мы обеднели, и я боюсь, не сочтет ли он нас скупыми невежами.
Чандос поспешил рассеять ее опасения. Королевская свита сразу же отправится дальше в замок Фарнем. Королева и ее дамы в этой поездке короля не сопровождают. А сам король — закаленный воин и умеет быть неприхотливым. Да и как бы то ни было, раз он известил их о своем намерении, у них нет иного выхода, кроме как сделать все, что в их силах. В заключение Чандос со всевозможной деликатностью сказал, что его кошелек к их услугам. Но леди Эрминтруда уже обрела обычное спокойствие.
— Нет, любезный родич, сие не подобает, — сказала она. — Я приготовлю для короля все, что будет мне по силам. Он же вспомнит, что Лоринги, пусть у них больше ничего нет, всегда отдавали в его распоряжение свою жизнь и кровь.
Чандос намеревался в этот же день заехать в замок Фарнем, а оттуда отправиться дальше, однако изъявил желание принять в Тилфорде горячую ванну. Подобно большинству своих собратьев-рыцарей, он обожал нежиться в воде, нагретой настолько, что непривычный человек не пролежал бы в ней и полминуты. Тотчас в покой для гостей принесли ванну — стянутую обручами широкую кадушку, и Чандос пригласил Найджела составить ему компанию, пока он будет отмокать и прогревать свои кости.
Найджел примостился на краю высокой постели и, болтая ногами, взирал с любопытством и изумлением на насмешливое лицо, всклокоченные лимонные волосы и жилистые плечи прославленного бойца за колышущейся завесой пара. Чандос был в разговорчивом настроении, и Найджел с жадностью засыпал его тысячами вопросов о войнах, впивая каждое слово, доносившееся до него из клубящихся облаков, точно вещания древних оракулов. Да и Чандос, ветеран, давно уже видевший в войне лишь привычное дело, словно вновь обрел пыл своей далекой юности, отвечая на торопливые вопросы Найджела и наблюдая, с каким восхищенным вниманием тот выслушивает ответы.
— Расскажи мне про жителей Уэльса, благородный сэр! — воскликнул сквайр. — Какие они воины?
— Весьма отважные, — ответил Чандос, плещась в кадушке. — Если поехать в их долины с небольшим отрядом, можно отвести душу в недурных стычках. Они вспыхивают, точно вереск, но если ты сумеешь устоять против жара этого пламени, глядишь, оно и поугаснет.
— Ну а шотландцы? — не отступал Найджел. — Ты ведь и с ними воевал, как рассказывали.
— Шотландским рыцарям равных в мире не сыскать, и тому, кто сумеет продержаться против лучших из них, будь то Дуглас, Мэррей или Ситон, больше уже учиться нечему. Какой бы ты ни был закаленный боец, а поедешь на север и непременно повстречаешь бойца не хуже. Если уэльсцы подобны вересковому пожару, то — pardieu! — шотландцы — это торф, ибо они тлеют, и конца этому нет. Я провел много счастливых часов на шотландской границу: ведь даже в мирное время оливикские Перси или комендант Карлайла всегда найдут, из-за чего повздорить с пограничными кланами.
— Помнится, отец говаривал, что копейщики у них редкостные.
— Лучшие в мире. Копья длиной в двенадцать футов, и держат они их одно к одному. А вот лучники у них скверные, не считая уроженцев Этрика и Селкерка, которые растут в лесах. Прошу тебя, Найджел, открой ставень, а то пар стал уж слишком густым. А вот в Уэльсе слабы копейщики, зато на наших островах не отыщутся другие такие лучники, как уроженцы Гвента. Луки они делают из вяза и пускают стрелы с такой силой, что я сам видел, как под одним рыцарем стрела убила лошадь, пробив прежде его кольчужный налядвениик, бедро и седло. Но чего стоит самая грозная стрела в сравнении с нынешней новинкой — железными шарами, которые вспыхнувший огненный порошок швыряет так, что они сокрушают грудь под панцирем, точно камень — куриное яйцо? Наши отцы про такое и не слышали.
— Тем лучше для нас! — вскричал Найджел. — Ибо нам дано свершать благородные подвиги, прежде неведомые!
Чандос расхохотался и посмотрел на раскрасневшегося юношу с чуть насмешливым сочувствием.
— Твоя манера выражаться, — заметил он, — напоминает мне стариков, которых я знавал мальчиком. В те дни дух истинных странствующих рыцарей еще не совсем угас, и говорили они, как ты сейчас. Хоть ты и молод, но принадлежишь иному веку. Откуда у тебя такие мысли и слова?
— У меня была только одна наставница. Леди Эрминтруда.
— Pardieu! Она выпестовала прекрасного соколенка, готового бить королевскую добычу, — сказал Чандос. — Я рад буду снять с тебя клобучок на первой твоей охоте. Хочешь поехать со мной на войну?
На глаза Найджела навернулись слезы, и он горячо сжал протянутую ему сквозь пар худую руку.
— Клянусь святым Павлом! О каком счастье мог бы я еще просить? Но я страшусь покинуть бабушку, ведь о ней некому заботиться, кроме меня. Но если бы можно было…
— Власть короля велика. Довольно об этом, пока он не прибудет сюда. Но если ты хочешь поехать со мной…
— Кто этого не захотел бы? Найдется ли в Англии хоть один сквайр, кто не пожелал бы стать оруженосцем Чандоса и служить под его знаменем! А куда ты отправляешься, благородный сэр? И когда? В Шотландию? В Ирландию? Во Францию? Но, увы…
Радостное лицо омрачилось. На мгновение Найджел забыл, что необходимое снаряжение было ему по карману не больше, чем золотая посуда. И во мгновение ока все его радужные надежды разлетелись вдребезги. Ах уж эти материальные заботы, встающие между нашими мечтами и их осуществлением! Разумеется, оруженосец такого рыцаря должен быть одет и вооружен так, чтобы пи перед кем не ударить лицом в грязь. А даже всего дохода, приносимого Тилфордом, едва ли хватило на сносные доспехи.
Проницательный и многоопытный Чандос сразу догадался о причине такой перемены.
— Если ты будешь сражаться под моим знаменем, то вооружить тебя обязан я, — сказал он. — И слушать ничего не хочу!
Однако Найджел грустно покачал головой:
— Это невозможно. Леди Эрминтруда скорее продаст и наш дом и всю землю, еще оставшуюся нам, чем позволит мне принять твой щедрый и милостивый дар. Но я не отчаиваюсь. Лишь на прошлой неделе я обзавелся благородным боевым конем, который достался мне даром, так, может быть, и доспехи будут мне ниспосланы таким же образом.
— Откуда же у тебя конь?
— Его мне отдали уэверлийские монахи.
— Что за чудо! Pardieu! Судя по тому, что мне довелось увидеть, они для тебя расщедрились бы разве что на проклятия!
— Конь не был им нужен, вот они и отдали его мне.
— Следовательно, остается просто отыскать кого-то, кому не нужны доспехи, чтобы он отдал их тебе. Однако надеюсь, ты передумаешь и, раз уж твоя достойнейшая бабушка доказала, что мы в родстве, разрешишь мне снарядить тебя на войну.
— Благодарю тебя, милорд, и если уж я должен буду просить помощи, то, конечно, обращусь к тебе. Но только сначала испробую другие способы. А пока, добрый сэр Джон, молю, расскажи мне что-нибудь о твоих славных поединках с французами. Ведь вся страна восхваляет твои подвиги, и я слышал, что твое копье за одно утро выбило из седла трех могучих рыцарей. Так оно и было?
— Да. Что и доказывают вот эти шрамы на моем теле. Глупые безумства моей юности и ничего более.
— Как можешь ты называть их глупыми безумствами? Разве не такими подвигами можно обрести заслуженную честь и прославить свою даму?
— Тебе и положено так думать, Найджел. В твоем возрасте подобает иметь горячую голову и неустрашимое сердце. Вот и я был таким — сражался за перчатку моей дамы или во исполнение обета, а то и просто из любви к поединкам. Но с возрастом, когда ты ведешь на битву других, начинаешь думать иначе — не столько о своей чести, сколько о безопасности всего войска. Не твое копье, не твой меч, не твоя сильная рука решат ее исход, и победу в почти проигранном сражении всего чаще приносит холодный рассудок. Тот, кто знает, когда его конники должны атаковать и когда им следует сражаться спешившись, тот, кто умеет расположить своих лучников и своих жандармов так, чтобы они поддерживали друг друга, тот, кто способен хорошо укрыть засадные отряды и бросить их в бой в решающую минуту, тот, кто держит в уме все болота и овраги вокруг, — вот человек, который куда нужнее войску, чем Роланд, Оливер и все остальные паладины Карла Великого{29}.
— Благородный сэр, если его рыцари не блеснут доблестью, из самых обдуманных его планов ничего не выйдет.
— И то верно, Найджел. А потому пусть каждый оруженосец отправляется на войну с душой такой же огненной, как твоя. Однако дольше медлить я не могу, поручения короля должно исполнять в срок. Одевшись, я прощусь с благородной леди Эрминтрудой и отправлюсь в Фарнем. Но ты снова увидишь меня здесь в тот день, когда сюда прибудет король.
К вечеру Чандос уже неторопливо ехал по мирным сельским дорогам и наигрывал на лютне, потому что любил музыку и славился умением петь веселые песни. Заслышав звучный голос, то повышавшийся, то понижавшийся в лад звенящим струнам, крестьяне выходили из своих хижин, смеялись и хлопали в ладоши. Мало кто из видевших его мог бы догадаться, что этот странный одноглазый всадник с лимонными волосами на самом деле — самый закаленный боец и самый хитрый военачальник во всей Европе. Только раз, когда он въехал в Фарнем, к нему подбежал одетый в лохмотья, весь израненный ветеран, радуясь, как верный пес, увидевший хозяина. Чандос бросил ему ласковое слово вместе с золотой монетой и направил коня к замку.
Тем временем Найджел и леди Эрминтруда, оставшись наедине, растерянно смотрели друг на друга.
— Погреб почти пуст, — сказал Найджел. — Бочка пива да бочонок канарского вина. Не королю же и его свите пить такое!
— Нам нужны вина из Бордо. А если он только переночует, то теленка пестрой коровы, кур и гусака достанет, чтобы приготовить пристойный ужин. Но сколько с ним будет людей?
— Десятеро, не меньше.
Старуха в отчаянии заломила руки.
— Милая бабушка, не терзайте так своего сердца! — сказал Найджел. — Нам стоит только слово сказать, и король остановится в аббатстве, где его и придворных попотчуют, как надлежит.
— Ни за что! — вскричала леди Эрминтруда. — Мы навеки покроем себя стыдом и позором, если позволим королю проехать мимо нашего дома, после того как он милостиво пожелал войти в него. Нет, решено! Не думала я, что буду когда-нибудь вынуждена это сделать, но я знаю, таково было бы его желание, и я сделаю это!
Она подошла к железному сундуку, сняла с пояса связку ключей, выбрала самый маленький и отперла замок. Взвизгнули заржавевшие петли, свидетельствуя, как редко откидывала она крышку, чтобы заглянуть в неприкосновенные недра своей сокровищницы. Сверху лежали останки былых нарядов: шелковый плащ, расшитый золотыми звездами, серебряная сетка для волос, сверток венецианских кружев. Под ними покоились завернутые в шелковые лоскутки мужская охотничья перчатка, детский башмачок, выцветшая зеленая лента, завязанная «узлом любви», несколько писем, написанных большими корявыми буквами, и платок с ликом святого Томаса. Старуха с благоговейной нежностью отложила их в сторону и достала с самого дна три укутанные в шелк предмета, развернула их и положила на стол кованый золотой браслет, усаженный неограненными рубинами, золотой поднос и высокий кубок, тоже из золота.
— Ты слышал о них от меня, Найджел, но видишь в первый раз, ибо я не открывала сундука из страха, что наша великая нужда соблазнит нас превратить их в звонкую монету. Я прятала их подальше от моих глаз и от моих мыслей. Но теперь во имя чести нашего дома мы должны расстаться с ними. Кубок этот мой муж, сэр Ниил Лоринг, получил после взятия Белграда, когда он и его товарищи от обедни до вечерни сражались на турнире с цветом французского рыцарства. Поднос подарил ему граф Пемброк на память о его доблести на Фолкерском поле.
— А браслет, милая бабушка?
— Ты не станешь смеяться, Найджел?
— Нет. И с какой стати?
— Браслет был наградой Царице Красоты, и его в присутствии всех высокородных английских дам преподнес мне сэр Ниил Лоринг за месяц до нашей свадьбы. Царица Красоты — я, Найджел, такая сгорбленная и морщинистая. Пятерых храбрых рыцарей выбило из седла его копье — вот так он добыл для меня эту безделку. И теперь, на исходе моих земных дней…
— Нет, нет, милая бабушка! С ним мы не расстанемся!
— Так надо, Найджел. Он бы этого пожелал. Я словно слышу его голос. Честь была для него всем, а прочее он не ставил ни во что. Возьми браслет, Найджел, и поскорее, не то моя решимость ослабеет. Завтра ты поедешь в Гилфорд к золотых дел мастеру Торольду и выручишь за все это столько денег, сколько нам требуется, дабы оказать королю достойный прием.
Она отвернулась к сундуку, чтобы скрыть, как дрожат ее сморщенные губы, и лязг захлопнувшейся железной крышки заглушил вырвавшееся у нее горестное рыдание.
Глава VII Как Найджел поехал торговаться в Гилфорд
Когда рано поутру Найджел выехал из Тилфорда, яркое июньское солнце уже озаряло дорогу в Гилфорд. Сердце его полнилось беспричинной радостью, рожденной юностью и чудесным временем года. Могучий золотистый конь весело гарцевал под ним, разделяя беззаботное настроение своего господина. Во всей Англии вряд ли нашлась бы другая такая бодрая и счастливая пара. Песчаная дорога вилась то по ельникам, где веяло сладким смолистым духом, то среди вересковых холмов, уходивших к небу на север и на юг, — крутых и безлюдных, ибо на бесплодной почве верхних склонов мало что росло, да и воды там почти не было. Найджел проехал круксберийский выгон, а затем обширные путтенемские вереска, где свернул на полускрытую папоротником и дроком песчаную тропу, выводившую к Пути Паломников там, где эта древняя дорога поворачивала на восток от Фарема и Сила. То и дело рука его нащупывала седельную сумку, потому что в нее, проверив, насколько надежно она приторочена, он бережно уложил бесценные сокровища леди Эрминтруды. Глядя на могучую светло-рыжую шею перед собой, ощущая свободные движения могучего коня, слушая приглушенный песком перестук его копыт, юноша готов был петь и кричать от радости бытия.
Позади него на бурой лошаденке, которая прежде носила на себе Найджела, ехал Сэмкин Эйлуорд, лучник, взявший на себя обязанности слуги и телохранителя молодого сквайра. Его широкоплечая крепкая фигура, казалось, вот-вот совсем придавит к земле низкорослую клячу, но он беззаботно трусил на ней, насвистывая задорную песенку, с таким же легким сердцем, как и Найджел. Все крестьяне кивали веселому лучнику, а крестьянки улыбались ему, и он не столько смотрел вперед, сколько оглядывался назад на каждое смазливое личико. Только один раз встречный обошелся с ним не столь приветливо. Это был высокий, седой, краснолицый мужчина, с которым они поравнялись на вересковой пустоши.
— День добрый, батюшка! — воскликнул Эйлуорд. — Ну, как там в Круксбери? И черная новая коровушка и ярочки из Элтона? И Мери, молочница, и вся твоя снасть?
— Не тебе бы спрашивать, бездельник! — ответил тот. — Ты прогневил уэверлийских монахов, а я усадьбу держу от них, и они меня сгонят с моей земли. Ну, да срок выйдет через три года, и уж я останусь до его конца, как бы они меня ни выживали. Только кто бы мне раньше сказал, что из-за тебя, Сэмкин, я свою усадьбу потеряю! Хоть ты и такой верзила вымахал, я бы повыбил пыль добрым ореховым прутом из этой вот зеленой куртки, попадись ты мне в Круксбери!
— Завтра, батюшка, и повыбьешь. Я утром загляну тебя проведать. А в Уэверли ты бы на моем месте то же самое сделал или что-нибудь почище. Ну-ка ответь мне, старый ты сорвиголова, и ответь по-честному, стоял бы ты сложа руки и смотрел бы, как последнего Лоринга — вон он едет, веселый и радостный, — так смог бы ты смотреть сложа руки, как по приказу жирного монаха в него пускают стрелу прямо у тебя на глазах? Скажешь, смог бы? Тогда я от тебя отрекаюсь, и ты мне больше не отец!
— Погоди, Сэмкин! Коли дело так было, ты, выходит, не очень уж и виноват. Только горько терять старую нашу усадьбу. Я же сердцем прикипел к доброй этой землице.
— Да о чем ты? Еще три года впереди, а за такое время чего не случится! Я вот на войну отправлюсь, взломаю один-два французских сундука, ты выкупишь усадьбу вместе с землицей, и будет аббат Джон со своими управителями тебе не указ. Чем я хуже Тома Уитсеффа из Чурта? А он через полгода вернулся с кисетом, битком набитым французским золотом, и под ручку с двумя французскими девицами!
— Господи, избави нас от девиц, Сэмкин! А вот денег ты можешь нагрести не меньше всякого, кто побывал на войне. Только поторопись, малый, поторопись! Вон твой господин уже за гребень спустился.
Лучник помахал отцу рукой в перчатке, ударил каблуками лошадку и вскоре поравнялся со сквайром, который, оглянувшись, придержал коня.
— Верно ли я слышал, лучник, — спросил Найджел, — будто в здешних местах появился разбойник?
— Это так, благородный сэр. Был он вилланом сэра Питера Мандевилла, но сбежал от него в леса. Его прозвали Путтенемским Лесовиком.
— А почему его до сих пор не изловили? Если он разбойник и грабитель, избавить здешний край от такого злодея дело благое.
— Из Гилфорда дважды посылали стражников ловить его, но у лиса много нор, и выкурить его из них очень нелегко.
— Клянусь святым Павлом! Если бы мне не нужно было торопиться, я бы попробовал его отыскать. А где он прячется?
— За Путтенемом тянется большое болото, а по ту его сторону есть пещеры. В них он и укрывается со своими людьми.
— Значит, у него есть шайка?
— Да, он там не один.
— Это был бы славный подвиг! — промолвил Найджел. — Когда король уедет от нас, мы потратим денек на путтенемских разбойников. А нынче, боюсь, нам с ними не переведаться.
— Они подстерегают паломников на Винчестерской дороге, а люди в здешних краях их любят, потому что тут они никого не трогают и за помощь платят щедро.
— Легко быть щедрым, когда деньги у тебя краденые, — заметил Найджел. — Но, думается мне, вряд ли они посмеют напасть на двух воинов с мечами у пояса вроде нас с тобой, и, значит, нам они навстречу не попадутся.
Тем временем они миновали безлюдные вересковые пустоши и ехали теперь по большой дороге, по которой паломники с запада Англии добирались до национального святилища в Кентербери. Дорога эта от Винчестера вела по красивой долине Итчен до Фарнема, где разветвлялась на две: первая тянулась по гряде, носившей название Кабаньей Спины, а вторая уходила на юг к холму святой Екатерины, где и посейчас видны серые развалины, которые в давние времена были величественным и богатым святилищем, куда отовсюду стекались паломники. На эту вторую дорогу и свернули Найджел с Эйлуордом, торопясь в Гилфорд.
Попутчиков у них не оказалось, зато они встретили большую толпу паломников, возвращавшихся домой, — к их шапкам были прикреплены изображения святого Томаса, раковины улиток и маленькие оловянные фляжки, а на спине они несли узелки с покупками. Чумазые, обносившиеся в дороге, вид они имели довольно плачевный. Мужчины шли пешком, женщины ехали на ослах. И люди и ослы уныло брели вперед, словно больше всего им хотелось поскорее добраться домой. Потом до деревни Путтенем они больше никого не видели, если не считать двух-трех бродячих менестрелей да нищих, сидевших у дороги в надежде выклянчить медную монетку у сострадательного прохожего.
Солнце припекало уже очень сильно, ветер гнал клубы пыли, и сквайр и лучник с удовольствием промочили глотку кружкой эля в придорожной харчевне, где смазливая хозяйка простилась с Найджелом очень холодно, потому что он остался равнодушным к ее чарам, чего никак нельзя было сказать об Эйлуорде, которого она наградила полновесной пощечиной.
По ту сторону Путтенема дорога вела через густой лес, где под могучими дубами и буками густо разрослись папоротник и ежевика. Там им встретился дозор — крепкие молодцы, одетые в кожаные шапки и панцири, усаженные металлическими бляхами. Вооружены они были мечами и копьями и вели на поводу отличных коней, держась тенистой стороны дороги. При виде двух всадников они остановились и спросили, не нападал ли на них кто-нибудь.
— Поберегитесь, — добавил один. — Путтенемский Лесовик и его жена вышли на промысел. Вчера они убили купца, ехавшего с запада, и забрали сто золотых монет.
— Его жена?
— Да. Она с ним не расстается и много раз выручала его, когда ему грозила беда. Если он берет силой, так она — хитростью. Рад буду, когда увижу поутру, как их головы скатятся на зеленую траву.
Дозор направился к Фарнему — как оказалось, в противоположную сторону от разбойников, которые, без сомнения, следили за ними из кустов, окаймлявших дорогу. За ее поворотом Найджел и Эйлуорд увидели высокую грациозную женщину: сидя на пригорке над дорогой, она горько плакала и ломала руки. При виде несчастной красавицы Найджел пришпорил Бурелета и подскакал к ней.
— Что тебя удручает, прекрасная дама? — спросил он. — Не могу ли я оказать тебе хотя бы малую услугу? Или паче чаяния нашелся столь жестокосердный негодяй, что причинил тебе зло?
Красавица встала и обратила на него взор, полный мольбы и надежды.
— О, спасите моего злополучного отца! — вскричала она. — Быть может, вам повстречались стражники? Они обогнали нас и, боюсь, ускакали уже далеко!
— Да, они отправились дальше, но мы их можем заменить.
— Так посмешите же, поспешите, молю вас! Быть может, в эту минуту они его убивают! Они утащили его вон в ту чащу. Я слышала его голос, но он умолк в отдалении. Поторопитесь, молю!
Найджел спрыгнул на землю и бросил поводья Эйлуорду.
— И я с тобой! Сколько было грабителей, госпожа?
— Двое силачей.
— Значит, нам нельзя разделяться, сквайр.
— Иного выхода нет, — возразил Найджел. — Через такую чащу лошадям не пробраться, а оставить их у дороги одних мы не можем.
— Я их постерегу, — предложила красавица.
— Бурелета удержать не просто. Оставайся здесь, Эйлуорд, пока я тебя не позову. Ни шагу за мной, я тебе приказываю!
С этими словами Найджел, радостно предвкушая редкое приключение, выхватил меч и быстро скрылся в чаще.
Он бежал долго и быстро от поляны к поляне, продирался сквозь кусты, перепрыгивал через колючие плети ежевики, легкий на ногу, как молодой олень, оглядывался по сторонам, напрягал слух, но различал только воркование горлиц. Но не останавливался, подгоняемый мыслью о плачущей красавице у него за спиной и о плененном старце впереди. Только совсем запыхавшись и сбив ноги, он наконец остановился, прижал руку к боку и вспомнил, что у него есть свое дело и нужно ехать дальше в Гилфорд.
Тем временем Эйлуорд нашел свой грубоватый способ утешить красавицу, которая продолжала рыдать, прижавшись щекой к седлу Бурелета.
— Да утри глазки, лапушка, — сказал он. — Гляжу я на тебя, и вот-вот у самого слезы потекут ручьем.
— Увы, добрый лучник, он был лучшим из отцов! Такой добрый, такой заботливый! Будь ты с ним знаком, ты не мог бы не полюбить его.
— Ну-ну, ничего плохого с ним не случится. Сквайр Найджел вернет его тебе целым и невредимым.
— Нет, нет! Больше я его уже не увижу! Поддержи меня, лучник, или я упаду.
Эйлуорд охотно обвил рукой гибкий стаи. Бедняжка положила руку ему на плечо и прильнула к нему, но глаза на бледном лице смотрели куда-то мимо, и вспыхнувший в них жадный огонек, злорадное торжество и жестокая радость внезапно предупредили лучника о грозной опасности. Он оттолкнул ее и отскочил в сторону, только-только избежав сокрушительного удара дубиной, которую сжимал в обеих руках верзила, еще более высокий и широкий в плечах, чем он сам. Перед ним мелькнули свирепо стиснутые крупные белые зубы, растрепанная борода, сверкающие, как у дикого зверя, глаза, и в следующий миг он бросился на врага, поднырнув под снова занесенную страшную дубину.
Обхватив плотное туловище разбойника, уткнувшись головой в его косматую бороду, Эйлуорд давил, пыхтел, нажимал. Сплетенные в тесном объятии, они боролись на пыльной дороге, и призом победителю была жизнь. Дважды могучий разбойник чуть было не опрокинул Эйлуорда, и дважды более молодой и ловкий лучник сумел удержаться на ногах и не ослабил хватки. А затем наступил его черед. Заведя ногу под колено противника, он мощным рывком опрокинул его. С хриплым криком разбойник упал на спину и не успел еще коснуться земли, как Эйлуорд уперся коленом ему в грудь, а свой короткий меч погрузил ему в бороду, приставив острие к горлу.
— Клянусь десятью моими пальцами! — пропыхтел он. — Только шевельнись, тут тебе и конец!
Впрочем, тот лежал неподвижно, потому что падение его оглушило. Эйлуорд посмотрел по сторонам, но женщины нигде не было видно. Дубина только опускалась в первый раз, когда она уже скрывалась за деревьями. Лучника одолел внезапный страх: а что, если его юного господина заманили в гибельную ловушку? Но его дурные предчувствия тут же и рассеялись: по дороге к нему бежал Найджел, вышедший на нее много дальше.
— Клянусь святым Павлом! — крикнул он. — Кого это ты придавил к земле? И где дама, оказавшая нам честь, попросив у нас помощи? Увы, мне не удалось найти ее отца!
— Тем лучше для тебя, благородный сэр, — сказал Эйлуорд, — ибо, сдается мне, что батюшка ее сам дьявол. По-моему, она жена Путтенемского Лесовика, а это сам Лесовик, который подобрался ко мне, чтобы раскроить мою голову дубиной.
Разбойник уже открыл глаза и угрюмо переводил взгляд со своего победителя на новопришедшего.
— Везучий ты человек, стрелок, — сказал он. — Со многими мне доводилось бороться, но никому еще не удавалось меня повалить.
— Да уж, хватка у тебя медвежья, — согласился Эйлуорд. — Однако трусливая это штука подослать жену, чтобы она меня держала, пока ты размозжишь мне голову. И уж вовсе злодейство заманивать путников в ловушку, умоляя их о жалости и помощи, так что мы чуть было не погибли из-за собственного мягкосердечия. И тот, кто вправду будет нуждаться в нашей помощи, теперь ее не получит из-за твоих грехов.
— Когда против тебя весь свет, — пробурчал разбойник, — то воюешь с кем и как можешь.
— Ты заслуживаешь петли хотя бы за то, что обрек на такую жизнь эту женщину, прекрасную и красноречивую, — сказал Найджел. — Давай-ка привяжем его за руку к моему стремени, Эйлуорд, и отведем в Гилфорд.
Лучник вытащил из колчана запасную тетиву и связал разбойника, как ему было сказано, но тут Найджел внезапно испустил испуганный крик:
— Пресвятая Дева Мария! Где седельная сумка? Сумка была срезана острым ножом. С седла свисали только остатки ремня. Эйлуорд и Найджел в отчаянии уставились друг на друга. Молодой сквайр сжал кулаки, а потом начал горестно дергать себя за золотые кудри.
— Браслет леди Эрминтруды! Кубок моего деда! — восклицал он. — Что я ей скажу? Я не могу вернуться домой, пока не отыщу их. Ах, Эйлуорд, Эйлуорд! Как ты допустил, чтобы их похитили?
Простодушный лучник сдвинул каску на затылок и запустил пятерню в спутанные волосы.
— Откуда же мне было знать? Ты ведь не сказал, что везешь в сумке дорогие вещи, не то я бы глаз с нее не спускал. Вот что! Срезал ее не этот душегуб: как мы с ним схватились, я его из рук не выпускал. Значит, его женщина сбежала с сумкой, пока мы боролись.
Найджел растерянно расхаживал взад и вперед.
— Я бы за ней на край света отправился, знать бы только куда! Но в лесу этом ее отыскать не легче, чем мышь в пшеничном поле. Святой Георгий, победитель дракона, заклинаю тебе этим славным рыцарским подвигом, помоги мне! И ты, святой Юлиан, добрый покровитель всех путников, укрывающий их от бед. Две свечи будут гореть в твоей годалмингской часовне, если ты вернешь мне мою седельную сумку. Я все отдам, лишь бы она снова была у меня.
— А мою жизнь ты мне отдашь? — спросил разбойник. — Обещай отпустить меня, и она снова будет у тебя, если ее и взаправду унесла моя жена.
— Нет, этого я не могу, — ответил Найджел. — Тут дело пойдет о моей чести. Ведь сумка только мне принадлежит, а тебя отпустить, значит, причинить вред многим людям. Клянусь святым Павлом! Недостойно я поступлю, если свое добро себе верну, а тебя отпущу грабить других.
— Хорошо, не отпускай, — сказал Лесовик. — Только обещай, что мне сохранят жизнь, и получишь свою сумку целой и невредимой.
— Как же я обещаю, раз решать будут гилфордский шериф и судьи?
— Но ты замолвишь за меня слово?
— Это я обещать могу, если получу свою сумку. Только не знаю, много ли толку будет от моего заступничества. Но все это пустые разговоры. Ты же не думаешь, будто мы настолько глупы, что отпустим тебя принести сумку назад?
— Я и не прошу, — ответил Лесовик. — Вернуть ее тебе я могу и не сходя с места. Клянешься ли ты своей честью и всем, чем дорожишь, что попросишь меня пощадить?
— Клянусь!
— И обещаешь, что мою жену отпустишь сразу?
— Да.
Разбойник откинул голову и испустил протяжный волчий вой. На несколько мгновений воцарилась тишина, а затем в лесу совсем близко раздался такой же вой. Вновь Лесовик испустил свой призыв, и вновь донесся тот же ответ. На третий раз из его уст вырвался трубный звук, словно в зеленом лесу звал свою подругу олень. Зашуршали кусты, захрустел валежник, и перед ними появилась та же высокая грациозная красавица. Не глядя ни на Эйлуорда, ни на Найджела, она кинулась к мужу.
— Возлюбленный господин моего сердца! — вскричала она. — Они тебя не ранили? Я ждала у старого ясеня, и душа у меня изболелась, потому что ты все не шел.
— Меня наконец схватили, жена.
— Пусть будет проклят этот день! Добрые, милостивые господа, не отнимайте его у меня!
— Они заступятся за меня в Гилфорде, — сказал Лесовик. — Так они поклялись. Но сначала отдай сумку, которую унесла.
Красавица тотчас извлекла ее из складок широкого плаща.
— Вот она, благородный господин! Правду сказать, не по душе мне было брать ее: ты ведь сжалился надо мной в моей беде. Но теперь ты видишь, что меня на самом деле постигла горчайшая беда. Так неужели ты не сжалишься? Смилуйся над нами, благородный сэр! На коленях молю тебя, добрый сквайр.
Найджел крепко сжал сумку и, к великой своей радости, убедился, что его сокровища целы.
— Я дал обещание, — сказал он. — И буду ходатайствовать за него, но решать другим. Прошу тебя, встань, ведь ничего больше я обещать не могу.
— Значит, мне придется довольствоваться этим, — сказала она, поднимаясь с колен, и лицо ее обрело спокойствие. — Я молила тебя о милосердии, и ничего более сделать я не в силах. Но прежде чем я вернусь в лес, позволь дать тебе совет, чтобы ты опять не лишился этой сумки. Знаешь ли, добрый лучник, как я ее срезала? Это ведь очень просто и может снова случиться, а потому я покажу тебе свой способ. У меня в рукаве был вот этот ножик: он маленький, но очень острый. Я сбросила его в руку — вот так. Потом я притворилась, будто плачу, прижалась щекой к седлу и разрезала ремень вот так…
Во мгновение ока она рассекла ремень стремени, к которому был привязан ее муж, он нырнул между ногами копя и ужом проскользнул в кусты. Бурелет, которого он успел ударить кулаком в брюхо, оскорбленно вздыбился, Найджел и Эйлуорд повисли на поводьях, стараясь его удержать. Когда он успокоился, Лесовика и его жены давно уже след простыл. Тщетно Эйлуорд, наложив стрелу на тетиву, рыскал среди толстых стволов и оглядывал тенистые поляны. В конце концов он вернулся к своему господину ни с чем, и они обменялись пристыженными взглядами.
— Авось воины из нас получатся лучше, чем тюремщики, — буркнул лучник, садясь на свою лошадку.
Но хмурое лицо Найджела уже осветила улыбка.
— Во всяком случае, мы вернули себе то, что потеряли, — сказал он. — Я привяжу ее к седлу перед собой и глаз с нее не спущу, пока мы благополучно не доберемся до Гилфорда.
И они затрусили вперед, миновали часовню святой Екатерины, вновь перебрались вброд через петляющий Уэй и въехали на крутую улицу, над которой почти смыкались выступающие верхние этажи домов. Слева они увидели монашеский странноприимный дом, где и теперь еще можно выпить кружку доброго эля, а справа встал замок с квадратным донжоном, — не серые угрюмые развалины, как нынче, но грозный и бдительный. По ветру реяло расшитое полотнище знамени, а между зубцами парапета поблескивали железные каски часовых. От ворот замка до главной улицы тянулись ряды лавок, и третья от церкви святой Троицы принадлежала Торольду, золотых дел мастеру, богатому купцу и мэру города.
Он долго с вожделением разглядывал густо-красные рубины на браслете и изящный кубок. Потом погладил пышную бороду, раздумывая, предложить пятьдесят поблей или шестьдесят: выручить за них можно было все двести. Предложить больше, значит, себя же обокрасть. Назначить мало, так юнец возьмет да и поедет в Лондон. Вещи-то редкостные. Правда, одет он бедно, а взгляд тревожный. Наверное, у него спешная нужда в деньгах, и, глядишь, цены своим вещам он толком не знает. Надо его прощупать.
— Вещи старые, и найти на них покупателя будет непросто, благородный сэр, — сказал он вслух. — Решить, хороши ли камни, не так-то легко: ведь они тусклые, не ограненные. Однако, если ты за них лишнего не запросишь, я, пожалуй, возьму их, хоть в этой лавке больше продаю, чем покупаю.
Найджел недоуменно нахмурился. В подобной игре ни его смелое сердце, ни крепкие мышцы помочь ему не могли. Тут новая сила брала верх над старой: купец побеждал воина — из века в век выматывая его и ослабляя, пока совсем не подчинил себе, не обратил в рабство.
— Я не знаю, какую назначить цену, почтеннейший, — ответил Найджел. — Торговаться и выгадывать мне и тем, кто носит мое имя, не подобает. Тебе их цена известна, ведь таково твое занятие. У леди Эрминтруды денег нет, а к нам должен пожаловать король, посему дай мне столько, сколько будет честно и справедливо, и на этом покончим.
Золотых дел мастер улыбнулся. Сделка оказалась легкой и очень выгодной. Он думал предложить пятьдесят ноблей, но, право же, грешно дать больше двадцати пяти.
— Ну, возьму я их, а что потом мне с ними делать? — посетовал он. — Но коли тут речь идет о короле, двадцати ноблей я не пожалею.
Сердце Найджела налилось свинцом. На эти деньги не купишь и половины самого необходимого. Видно, леди Эрминтруда переоценила свои заветные сокровища. Но вернуться с пустыми руками нельзя, и раз красная цена им двадцать ноблей, как заверил его почтенный купец, ему остается лишь с благодарностью взять и такие деньги.
— Ну что же, мне печально это слышать, — сказал он. — Но в подобных вещах ты разбираешься лучше меня, а потому я возьму…
— Сто пятьдесят, — прошептал ему на ухо Эйлуорд.
— Сто пятьдесят, — повторил Найджел, обрадовавшись, что обрел на этих неведомых путях хотя бы и столь смиренного проводника.
Золотых дел мастер даже вздрогнул. Юнец оказался совсем не таким простодушным воякой, каким выглядел. Открытое лицо и ясные голубые глаза всего лишь ловушка для неосторожных. Никогда еще он так не попадался!
— Пустые слова, благородный сэр, — сказал он, отворачиваясь и побрякивая ключами от своих сундуков. — Однако так уж и быть, себе в убыток дам пятьдесят.
— И сто, — шепнул Эйлуорд.
— И сто, — повторил Найджел, краснея при мысли о своей алчности.
— Ну хорошо, бери сто! — вскричал купец. — Обдери меня, как липку, разори и забирай за свои вещи полную сотню!
— Я бы навеки покрыл себя стыдом, если бы обошелся с тобой так скверно, — возразил Найджел. — Ты говорил со мной по-честному, и я никак не хочу чинить тебе убытки. А потому с радостью возьму сто…
— И пятьдесят, — шепнул Эйлуорд.
— И пятьдесят, — повторил Найджел.
— Клянусь святым Иоанном Беверлийским! — возопил купец. — Я переехал сюда с севера, где люди слывут прижимистыми, но уж лучше бы мне торговаться с целой синагогой евреев, чем с тобой, хоть ты и благородного рода. Неужто ты и правда меньше ста пятидесяти ноблей не возьмешь? Увы, ты забираешь весь мой месячный доход. Черное для меня выдалось утро! И зачем только ты зашел в мою лавку? — Со вздохами и причитаниями он отсчитал сто пятьдесят золотых монет, и Найджел, не веря своему счастью, спрятал их в кожаную седельную сумку.
Минуту спустя он, весь красный, осыпал Эйлуорда благодарностями за дверью лавки.
— Увы, мой благородный господин! Торгаш нас все-таки ограбил, — сказал лучник со вздохом. — Мы получили бы еще двадцать, если бы не уступили так легко!
— Откуда ты знаешь, мой добрый Эйлуорд?
— Да по глазам его видно было, сквайр Лоринг. Не спорю, в книгах там или в гербах я мало что угляжу, а вот в глазах у людей читать умею и с самого начала знал, что он даст, сколько дал.
Они пообедали в странноприимном доме — Найджел за столом на возвышении, а Эйлуорд с простолюдинами. Потом вернулись на главную улицу и зашли в несколько лавок. Найджел купил тафту на занавесы, вино, маринады, фрукты, скатерть из Дамаска и много еще всякой всячины. Под конец он остановился перед лавкой оружейника во дворе замка и, точно ребенок сласти, начал разглядывать чудесные доспехи, нагрудники с красивой насечкой, бармицы с хитрыми застежками для лат, оплечий и шлема.
— Так что же, сквайр Лоринг, ты у меня нынче купишь? — спросил оружейник Уот, поворачиваясь боком к горну, в котором закалял лезвие для меча. — Клянусь Тувалкаином, ковачем всех орудий, что пройди ты хоть весь лондонский Чипсайд, а лучше доспехов, что висят на этом крюке, ты там не сыщешь.
— А их цена, оружейник?
— Для всякого другого двести пятьдесят ноблей, а для тебя двести.
— Почему же мне ты их уступил бы дешевле?
— Потому что снаряжал на войну твоего батюшку, и такого доспеха мне больше изготовить не удавалось. Тогда мы их делали кольчатые, и по мне, надежный доспех из мелких колец никаким кованым латам не уступит. Но молодые рыцари что твои придворные дамы! Им подавай самое модное, вот и требуют латы, пусть они втрое дороже стоят.
— А по-твоему, кольчатые не хуже?
— Тут и спорить нечего.
— Ну, так слушай, оружейник! Латы я пока купить не могу, да только доспехи мне очень нужны для одной славной забавы, которую я задумал. Дома у меня в Тилфорде хранится тот самый кольчатый доспех, про который ты говорил, — первый доспех моего отца. Не мог бы ты так его переделать, чтобы он послужил и мне?
Оружейник смерил взглядом стройную, но невысокую фигуру юноши и расхохотался.
— Ты шутишь, сквайр Лоринг! Тот-то доспех на очень высокого человека сделан.
— Нет, я не шучу. Мне бы только один раз обменяться с кем-нибудь ударом копья, а большего я и не чаю.
Оружейник прислонился к наковальне и задумался. Найджел с треногой вглядывался в его покрытое копотью лицо.
— На один-то раз я бы с радостью одолжил тебе вот те доспехи, сквайр Найджел, да только вдруг из седла вылетишь ты? А тогда они достанутся твоему победителю. Я же человек бедный, и дети у меня мал мала меньше, ну и задаром их лишиться никак не могу. Но тот-то кольчатый доспех и вправду совсем цел?
— Он почти как новый. Только у ворота порван.
— Ну, укоротить его по ногам дело нехитрое — лишнее срезать да закрепить колечки снизу. А вот по туловищу подогнать — нет уж. Никакому оружейнику такое не по зубам.
— А я только на это и надеялся. Добрый оружейник, если ты правда снаряжал моего доблестного отца и любил его, то в память его помоги мне теперь.
Оружейник со стуком швырнул на пол свой молот.
— Намять памятью, сквайр Лоринг, да я же видел, как ты на ристалище в замке чуть не с одним щитом выезжал против лучших бойцов. В прошлый Мартынов день у меня просто сердце кровью обливалось, когда я увидел, какое у тебя убогое снаряжение, и все-таки ты одолел сэра Оливера, хоть толстяк и напялил на себя миланскую броню. А когда ты едешь в Тилфорд?
— Прямо сейчас.
— Эй, Дженкин, оседлай-ка жеребчика! — крикнул добросердечный Уот. — Пусть у меня правая рука отсохнет, коли я не отправлю тебя на бой в отцовском доспехе. Завтра мне надо быть тут, но уж нынче потружусь на тебя без всякой платы, а из почтения к твоему роду. Поеду с тобой в Тилфорд, и ты увидишь, как Уот знает свое ремесло.
Хлопотливым же был этот вечер в старом господском доме! Леди Эрминтруда уставила полки в кладовой лакомой провизией, которую накупил Найджел в Гилфорде, раскроила тафту и украсила залу новыми занавесами.
Сам же сквайр сидел с оружейником, склонясь над старым кольчатым доспехом — пластинчатый панцирь покоился у них на коленях. Вновь и вновь старый Уот пожимал плечами, словно человек, от которого требуют сделать больше, чем по силам простому смертному. Вдруг в ответ на какой-то вопрос сквайра он откинулся на спинку скамьи и принялся хохотать в пушистую бороду, не обращая внимания на свирепые взгляды леди Эрминтруды, возмущенной таким мужицким весельем. Затем извлек из мешка с инструментами заточенное долото с молотком и, все еще посмеиваясь, принялся пробивать дырку в центре железной туники.
Глава VIII Как король тешился соколиной охотой на Круксберийских вересках
Король и его свита наконец-то избавились от толпы зевак, упрямо провожавших их из Гилфорда по Пути Паломников. Конные лучники отогнали самых упорных, и теперь пышная кавалькада, растянувшись на дороге, неторопливо двигалась по холмистой равнине среди темного вереска.
В переднем ряду ехал сам король — он взял с собой соколов и надеялся, что для них встретится достойная полевая дичь. Эдуард в те дни был представительным энергичным мужчиной в расцвете лет — заядлым охотником, пылким любезником, храбрым воином. Он мог похвастать и образованностью: говорил по-латыии, по-французски, по-немецки, по-испански и даже немного по-английски.
Эти его превосходные качества были известны давно, но в последние годы в его характере открылись и иные стороны: жгучее честолюбие, побудившее его возжелать трои соседнего монарха, а также мудрая предусмотрительность в делах коммерческих — он всячески приглашал в Англию фламандских ткачей, закладывая основу торговли, ставшей на несколько веков источником больших богатств для страны. Все эти душевные свойства нашли отражение в его облике. Лоб под шапкой алого бархата, служившей знаком его сана, был широким и благородным. Большие карие глаза говорили о пылкости и отваге. Бороды он не носил вовсе, а коротко подстриженные темные усы не прятали волевого рта, гордого и великодушного, хотя эти губы умели и сжиматься с беспощадной жестокостью. Лицо его покрывал почти медный загар, приобретенный за долгие годы охоты и походной жизни. На великолепном вороном коне он сидел с беззаботной небрежностью человека, выросшего в седле. Бархатный костюм, плотно облегавший его ловкую мускулистую фигуру, был черным, под масть коня, и черноту эту смягчали только золотой пояс и кайма из вышитых золотом раскрытых коробочек дрока{30}.
Гордая и благородная осанка, простой, хотя и драгоценный наряд, красавец конь — Эдуард III поистине был в каждом дюйме король. Картину эту дополнял гордый кречет, круживший невысоко над его головой, «в ожидании», как это называлось, любой вспугнутой птицы. Вторая птица сидела на запястье затянутой в перчатку руки сокольничего Рауля, который держался в задних рядах свиты. По правую руку монарха ехал юноша лет двадцати, высокий, худощавый, темноволосый, с благородным орлиным лицом и проницательными глазами, которые вспыхивали живостью и неподдельной любовью, когда он отвечал на обращенные к нему слова короля. Богато расшитая золотом темно-малиновая одежда, великолепие седла, чепрака и сбруи его белого коня указывали на высокий сап. Лицо его, еще безбородое и безусое, часто принимало выражение величавой серьезности, которая показывала, что, вопреки своей молодости, он вершит важными делами и мысли и чаяния его достойны государственного мужа и полководца. Тот великий день, когда он, еще почти мальчик, командовал авангардом победоносной армии, сокрушившей мощь Франции в битве при Креси, наложил свою печать на его черты, при всей их суровости еще не приобретшие оттенка свирепости, которая годы спустя наводила ужас на равнины Франции и превратила там имя Черного принца{31} в присловие. И страшная болезнь, отравившая его характер, прежде чем отнять у него жизнь, еще не коснулась его в этот весенний день, когда он весело и беззаботно ехал через верески Круксбери.
По левую руку короля и почти рядом с ним, что указывало на особую милость монарха, ехал мужчина одних с ним лет, с широким лицом, тяжелым подбородком и приплюснутым носом — черты, которые, по мнению многих, свидетельствуют о задиристом характере. Щеки, нос и лоб были у него багровыми, большие голубые глаза отличались выпуклостью, и весь его облик говорил о полнокровии и холеричности. Роста он был невысокого, но широкоплеч, коренаст и, видимо, наделен огромной силой. Однако голос у него звучал мягко, он слегка пришептывал, а держался спокойно и обходительно. В отличие от короля и принца он надел легкие доспехи, с пояса у него свисал меч, а с луки седла — булава, ибо он командовал королевскими телохранителями, а также десятком закованных в броню рыцарей, сопровождавших монарха. Если бы Эдуард вдруг оказался в опасности — что в те беззаконные времена случалось не так уж редко, защитника лучше ему не потребовалось бы, ибо это был знаменитый рыцарь из Эно, принявший английское подданство, сэр Уолтер Мэнни, который рыцарской доблестью и дерзкой отвагой мог потягаться с самим Чандосом.
Позади рыцарей свиты, которые обязаны были следовать за особой короля, всегда держась вместе, ехали конные лучники, числом под тридцать, а также несколько оруженосцев, которые вели на поводу запасных лошадей, нагруженных тяжелыми предметами снаряжения их рыцарей, сами же они вооружены не были. В хвосте этой многоцветной кавалькады, которая, колыхаясь, двигалась по пригоркам и ложбинам вересковой пустоши, поспешали сокольники, алебардщики, всевозможные челядинцы, доверенные слуги и ловчие с собаками на сворках.
Королю Эдуарду приходилось обдумывать много важнейших и совсем невеселых дел. С Францией, правда, было заключено перемирие, но оно с обеих сторон постоянно нарушалось вооруженными стычками, внезапными нападениями и засадами, и мало кто сомневался, что вот-вот снова вспыхнет настоящая война. Для этого требовались деньги, а раздобыть их, после того, как парламент только что утвердил новую подать — каждого десятого ягненка и каждый десятый сноп, — представлялось задачей не из легких. К тому же Черная Смерть привела хозяйство страны в полный упадок: пахотные земли все пошли под пастбища, работники, смеясь над всеми королевскими статутами и ордонансами, отказывались трудиться меньше чем за четыре пенса в день. В обществе царил полный хаос, к тому же на северной границе порыкивали шотландцы, в полузавоеванной Ирландии продолжались нескончаемые смуты, а его союзники во Фландрии и Брабанте настойчиво требовали давно обещанных денег, выплата которых постоянно оттягивалась.
Все это могло внушить тревогу самому победоносному монарху, но Эдуард решительно сбросил с себя бремя забот и безмятежно радовался жизни, точно школьник на каникулах. Он забыл про банкиров-флорентийцев, настаивавших на уплате по векселям, и про докуки от назойливого парламента, которому всюду надо было совать свой нос. Нет, он выехал с соколами и будет думать и говорить только о тонкостях соколиной охоты. Челядинцы били бичами по вереску и кустам у дороги, оповещая о взлетевших птицах громкими воплями.
— Сорока! Сорока! — крикнул сокольничий.
— Нет, нет, моя золотоглавая королева, она не достойна твоих когтей, — сказал король, взглянув вверх на благородную птицу, которая вилась у него над головой в ожидании свиста, служившего сигналом к началу погони. — Пускай сапсанов, сокольничий! Чего ты мешкаешь? Ха! Негодяйка думает улизнуть в лес! Молодец, сапсан! Успел догнать! Поверни ее к своему товарищу! Вы там вспугните ее! Бейте по кустам! Вон она! Вон она! А-а! Возвращайтесь по местам. Госпожи сороки вам больше не видать!
С хитростью, свойственной всему ее племени, сорока, кружа среди кустов и подлеска, добралась до густой чащи, куда ни снизившийся под деревья сапсан, ни его товарищ над ними, ни челядинцы с палками добраться за ней не могли. Король посмеялся этой неудаче и поехал дальше. Взлетали все новые птицы, и на каждую выпускали своего охотника — сапсана на бекаса, тетеревятника на куропатку, и даже для жаворонка нашелся маленький дербник. Но королю вскоре надоела мелкая дичь, и он пустил коня шагом, а его безмолвная спутница все так же вилась у него над головой.
— Любезный сын, трудно сыскать птицу благороднее, ты не находишь? — сказал Эдуард, поглядев вверх, когда на него вдруг упала крылатая тень.
— О, да, государь! Подобной ей еще ни разу не привозили с северных островов.
— Пожалуй. Но мой берберийский сокол бил так же метко, а летал быстрее. С восточной птицей в расцвете сил ничто сравниться не может.
— Был у меня когда-то сокол из Святой Земли{32}, — сказал Мэнни. — Такой же яростный, неутомимый и быстрый, как сами сарацины. Про султана Саладина рассказывают, будто он вывел таких охотничьих птиц, собак и лошадей, что ничего подобного им мир не видел.
— Уповаю, любезный батюшка, что настанет день, когда все они станут нашими, — сказал принц, глядя на короля сияющими глазами. — Неужели же Святая Земля так и останется в лапах неверных и они и дальше будут осквернять Храм Господень своим присутствием? Мой возлюбленный, мой милостивый государь, дай мне тысячу копий и десять тысяч лучников, таких, каких я вел при Креси{33}, и клянусь тебе своей душой, что и года не пройдет, когда я сделаю тебя сюзереном Иерусалимского королевства{34}!
Король со смехом повернулся к Уолтеру Мэнни.
— Мальчики остаются мальчиками! — сказал он.
— Французы меня мальчиком не считали! — вскричал юный принц, краснея от обиды.
— Нет, любезный сын, никто не ставит тебя выше, чем твой отец. Но твой ум и воображение еще не утратили пыл, который влечет к новым свершениям, когда прежние еще не доведены до конца. Что произойдет с нами в Бретани и Нормандии, пока мой юный паладин со своими рыцарями и лучниками будет осаждать Аскалон или биться под стенами Иерусалима?
— Трудам во имя Небес поможет Небо.
— Судя по тому, что мне известно о прошлом, — сухо заметил король, — в тех войнах на Востоке Небеса себя падежным союзником не показали. Я далек от кощунства, но сдается мне, самое малое княжество оказало бы Ричарду Львиное Сердце{35} или Людовику Французскому куда больше помощи, чем все небесное воинство. А ты как полагаешь, милорд епископ?
Дородный прелат, трусивший за королем на сытом гнедом мерине, который легко выдерживал его вес, позволяя ему сохранять подобающую величавость, поспешил подъехать поближе к королю.
— Что ты изволил сказать, государь? Я засмотрелся на тетеревятника, взявшего куропатку прямым боем, и не расслышал.
— Скажи я, что дарую Чичестерской епархии две доходные усадьбы, ты бы, конечно, расслышал каждое мое слово, милорд епископ!
— Проверь же, государь, так ли это, и произнеси оные слова еще раз! — воскликнул весельчак епископ.
Король расхохотался.
— Ответный удар неплох, преподобный отец! Клянусь святым крестом, твое копье даже переломилось. Говорил же я вот о чем: крестовые походы имели главной целью сокрушение Божьих недругов, так почему же мы, христиане, получали так мало небесного утешения и поддержки, участвуя в них? После стольких усилий и неисчислимых потерь нас окончательно оттуда изгнали, и даже рыцарские ордена, только для того и созданные, с трудом удерживаются на горстке островов Греческого моря. В Палестине не осталось ни единой гавани, ни единой крепости, над которой еще реяло бы знамя креста. Так где же был наш союзник?
— Ах, государь, ты затронул великий вопрос, далеко не исчерпывающийся судьбой Снятой Земли, хотя она может послужить прекрасным примером. Вопрос этот касается всех грехов, всех страданий, всех несправедливостей. Почему в отмщение не падет огненный дождь, не блеснет молния с Сипая? Мудрость Божья для нас непостижима.
Король пожал плечами:
— Слишком легкий ответ, милорд епископ. Ты князь Церкви. Но плохо пришлось бы земному князю, коль он не сумел бы найти ответ получше на вопрос, от которого зависела бы судьба его владений.
— Всемилостивый государь, можно указать и на иные причины. Да, крестовые походы были поистине святым делом и, казалось бы, заслуживают Божьего благословения. Но вот крестоносцы? Были ли они его достойны? Ведь мне доводилось слышать, что непотребнее их лагерей земля не видывала.
— Военный лагерь — это военный лагерь, в каком бы краю он ни находился, и в один миг переделать лучника в святого не может никто. Но уж святой-то Людовик{36} был крестоносцем совсем по твоему вкусу. И все-таки он потерял свое войско под Мансурой, а сам потом умер от чумы в Тунисе.
— Вспомни также, что мир сей лишь преддверье мира иного, — возразил прелат. — Страдания и испытания очищают душу, а посему истинным победителем может стать тот, кто, терпеливо перенося бедствия земные, заслужит блаженство в грядущем.
— Если таков истинный смысл благословения, даруемого Церковью, уповаю, оно еще не скоро почиет на наших знаменах во Франции, — ответил король. — Однако в поле, когда под тобой добрый конь, а соколам не терпится пасть на добычу, для беседы можно найти иную тему, кроме богословия. Займемся снова птицами, епископ, не то Рауль, наш сокольничий, явится в твой собор и прервет тебя во время проповеди.
Разумеется, разговор тотчас перешел на тайны лесов и на тайны рек, на темноглазых соколов и на золотоглазых, на благородных соколов и на простых. Епископ разбирался в соколиной потехе не хуже короля, и все вокруг заулыбались, слушая, как они с пеной у рта обсуждают чисто практические, но спорные вопросы, например: способен ли выпестованный в неволе молодик состязаться с птицей, пойманной уже взрослой, или же какой срок следует держать молодика в клетке, а какой — под открытым небом, в путах, но без клобучка, прежде чем его можно будет напустить на добычу.
Король и епископ еще увлеченно вели свой ученый спор, причем епископ говорил с уверенностью и свободой, каких никогда бы не допустил, зайди речь о государственных или церковных делах, но во все века любовь к охоте, а потом и к спорту была великой уравнительницей. Внезапно принц, чей зоркий взгляд время от времени шарил по голубому небосводу, испустил сигнальный крик и придержал коня, указывая вдаль.
— Цапля! — воскликнул он, — Цапля на крыле! Наивысшее наслаждение соколиная охота доставляет не тогда, когда цаплю вспугивают с места кормежки и она, отяжелев от проглоченных рыбешек, не успевает даже взлететь толком, как уже становится добычей более быстрого сокола, но когда цапля летит куда-то в вышине, возможно возвращаясь на гнездовье с рыбного ручья. Иными словами, углядеть птицу на крыле значило положить начало самой увлекательной потехе. Принц указывал на черное пятнышко высоко на юге, но напряженные глаза его не обманули: и король и епископ признали, что это несомненно цапля и летит она прямо на них — с каждой секундой пятнышко увеличивалось.
— Свистните, государь! — вскричал епископ. — Свистните кречету!
— Нет, цапля еще далеко. Я пущу Марго наперехват.
— Пускайте, государь, пускайте! — вскричал принц, потому что крупная птица, подгоняемая попутным ветром, была уже почти над ними.
Король пронзительно свистнул, и великолепно обученный кречет сделал разведывательный круг, проверяя, где добыча. Затем, увидев цаплю, крылатая охотница взмыла ей навстречу по крутой дуге.
— Молодец, Марго! Умница! — кричал король и хлопал в ладоши, подбодряя кречета, а сокольники, как полагалось в подобные минуты, испускали своеобразные пронзительные вопли.
Кречет должен был вот-вот пересечь траекторию полета цапли, но та, заметив впереди опасность, положилась на силу своих крыльев, на легкость своего тела и взмыла вверх по такой крутой спирали, что зрителям внизу почудилось, будто она летит в небо по прямой.
— Пробует остаться выше, — сказал король. — Но как она ни быстра, Марго быстрее. Епископ, ставлю десять золотых монет против одной, что цапля моя!
— Принимаю, государь! — ответил епископ. — Брать золото, выигранное в таком споре, мне не подобает, да только, уж конечно, какой-нибудь алтарный покров давно нуждается в обновлении.
— У тебя, отче епископ, алтарных покровов запас немалый, — заметил король, — если все золото, какое ты выигрывал на моих глазах, шло на их обновление… А! Клянусь святым крестом! Негодяйка польстилась на низкую дичь!
Зоркий епископ еще раньше успел заметить стаю грачей, которые возвращались к своим гнездам наперерез поднимающемуся кречету. А грач — великий соблазн для всего соколиного племени. Капризная охотница вмиг забыла о величавой цапле у себя над головой и закружила над грачами, удаляясь с ними на запад, пока выбирала самого жирного.
— Еще не поздно, государь! Пускать вторую? — крикнул сокольничий.
— Или, государь, мне будет дозволено показать, как сапсан бьет без промаха, где кречет терпит неудачу? Десять ноблей за один на мою птицу!
— Будь по-твоему, епископ! — ответил король, раздраженно хмурясь. — Клянусь святым крестом, понимай ты писания отцов церкви, как понимаешь соколов, быть бы тебе наместником святого Петра!{37} Напускай своего сапсана, докажи, что ты не хвастаешь по-пустому.
Сапсанка, хотя и уступала королевскому кречету в величине, была и быстрой, и очень красивой. Сидя у епископа на запястье, она зорким яростным взглядом следила за пролетающими в небе птицами и время от времени развертывала крылья от нетерпения. Теперь, когда застежка была расстегнута и путы сняты, сапсанка взвилась в воздух, со свистом рассекая его заостренными концами крыльев. По широкой спирали она быстро поднималась, становясь все меньше и меньше по мере приближения к той неизмеримой высоте, на которой цапля, вновь превратившаяся в темное пятнышко, искала спасенья. Обе птицы взмывали все выше и выше, а всадники, запрокинув головы, напрягали зрение, чтобы не упустить их из вида.
— Она кружит! Кружит! — закричал епископ. — Она уже над цаплей и сейчас ударит!
— Нет, она много ниже, — возразил король.
— Клянусь душой, милорд епископ прав! — воскликнул принц, — Она выше, выше! Да глядите же, глядите! Она напала прямым боем!
— Ударила! — раздался хор возбужденных голосов, когда два пятнышка внезапно слились в одно.
В том, что птицы быстро падали, сомнения быть не могло: их уже можно было различить на фоне неба. Но тут цапля высвободилась и полетела дальше, хотя и тяжело взмахивала крыльями, — видимо, смертоносное объятие не прошло ей даром. Сапсанка же, распушив перья, начала новую спираль, чтобы подняться над добычей повыше и ударить во второй раз более удачно. Епископ улыбнулся: казалось, ничто уже не могло лишить его победы.
— Твои золотые, государь, будут потрачены не напрасно, — сказал он, — Ведь все, что дается церкви, получает дающий.
Однако непредвиденное обстоятельство помешало дорогостоящему обновлению алтарного покрова. Королевский кречет, ударил по грачу, нашел эту забаву довольно пресной, вспомнил про заманчивую цаплю и обнаружил, что та еще не скрылась из вида. Почему, ну почему она, Марго, позволила себе соблазниться глупыми галдящими грачами и упустила столь благородную дичь? Но еще не поздно исправить ошибку. По крутой спирали она взмыла вверх и оказалась над цаплей. Но что это? Все ее фибры от хохолка до хвостовых перьев содрогнулись от бешенства и ревности: какое-то ничтожество, какая-то сапсанка смеет покушаться на добычу королевского кречета! Взмахнув могучими крыльями, она взлетела над соперницей и в следующее мгновение…
— Сцепились! Сцепились! — закричал король, с хохотом следя, как обе охотничьи птицы вместе стремительно падают вниз, — Сам обновляй свои алтарные покровы, отче епископ! От меня ты на этот раз и медяка не получишь. Сокольничий, растащи их, чтобы они друг друга не поранили. А теперь, благородные господа, поторопимся, ведь солнце уже склоняется к закату.
Кречета и сапсанку, которые, сцепившись когтями, упали наземь клубком взъерошенных перьев, благополучно разъединили и водворили на жердочки. Обе были в крови и тяжело дышали, а цапля, которую их драка спасла, с трудом работая крыльями, добралась до своего гнезда в Уэверли. Кавалькада, в охотничьем азарте рассеявшаяся по равнине, вновь построилась прежним порядком и продолжила путь. Всадник, направлявшийся навстречу к ним через пустошь, теперь пришпорил коня, а король и принц с радостными восклицаниями приветственно замахали ему.
— Наш добрый Джон Чандос! — воскликнул король. — Клянусь святым крестом, Джон, вот уже неделю я скучаю без твоих песен и весьма доволен, что вижу у тебя за плечами твою лютню. Откуда ты?
— Из Тилфорда, государь, в надежде повстречать твое величество.
— Вот и хорошо. Ну-ка поезжай между мной и принцем, пусть нам покажется, что мы снова во Франции в полном боевом вооружении. Какие новости, добрый Джон?
Насмешливые губы Чандоса вздрогнули от сдерживаемого веселья, и его единственный глаз заблестел, как звезда.
— Потешились охотой, государь?
— Плохая вышла потеха, Джон. Мы пустили двух соколов на одну цаплю, они сцепились, и цапля улетела. Но почему ты улыбаешься?
— Потому что надеюсь, что в Тилфорде вас ждет потеха получше.
— С соколами или с гончими?
— Нет, куда более благородная.
— Что еще за загадки, Джон? Отвечай же!
— Нет, государь. Ответить — значит все испортить. Просто скажу еще раз, что перед Тилфордом вас ждет редкая потеха, а потому, государь, прошу тебя пришпорить коня, ведь скоро начнет смеркаться.
Король исполнил его просьбу, и кавалькада рысью направилась через вереск туда, куда указывал Чандос. Поднявшись на гребень пологого холма, они увидели перед собой извилистую реку и перекинутый через нее старый горбатый мост. За рекой тянулся выгон с хижинами по дальнему его краю и старинным господским домом на склоне холма над ним.
— Это Тилфорд, — объяснил Чандос, — а вон там — родовой дом Лорингов.
Любопытство короля было сильно возбуждено, и теперь его лицо выразило разочарование.
— Ну, а потеха, что ты обещал нам, сэр Джон? Это были пустые слова?
— Нет, государь.
— Так где же она?
На крутой дуге моста на могучем золотом коне сидел всадник в боевых доспехах и с копьем в руке. Чандос тронул короля за плечо и указал на мост.
— Вот, государь.
Глава IX Как Найджел оборонял Тилфордский мост
Король посмотрел на застывшую фигуру всадника, на кучку деревенских зевак на том берегу, а потом перевел взгляд на смеющегося Чандоса:
— Что это, Джон?
— Ты помнишь сэра Юстеса Лоринга, государь?
— Как мог бы я забыть о нем или о постигшей его смерти?
— Он ведь был в свое время странствующим рыцарем?
— Да, и доблестней его мне знать не доводилось.
— Его сын Найджел весь в него — юный боевой сокол, которому не терпится испытать силу своих когтей и клюва, только до сих пор с него не снимали пут. Это его пробный полет. Он готов защищать мост от всех, кто примет его вызов, как водилось в дни наших отцов.
Король по праву считал себя первым рыцарем королевства и был большим знатоком правил и обычаев, которым полагалось следовать странствующим рыцарям, а потому такая встреча пришлась ему очень по вкусу.
— Но он же еще не посвящен в рыцари?
— Нет, государь. Он только сквайр.
— Ну, так он должен показать себя мужественным бойцом, если не хочет опозориться. Подобает ли молодому неиспытанному сквайру дерзко обмениваться ударами копья с лучшими бойцами Англии?
— Он вручил мне свой вызов, — сказал Чандос, доставая из рукава свиток. — Дозволишь ли, государь, прочесть его?
— Кто лучше тебя, Джон, осведомлен в рыцарских законах? Ты знаешь этого юношу и тебе решать, насколько он достоин высокой чести, которой просит. Ну, послушаем его вызов.
Рыцари и оруженосцы в свите короля, почти все ветераны войн во Франции, смотрели с интересом и некоторым недоумением на закованную в железо фигуру перед ними. Теперь по зову сэра Уолтера Мэнни они окружили короля и Чандоса. Последний откашлялся и развернул свиток.
— «А tous seigneurs, chevaliers et escuyers!»[11]. Так он начинается, благородные господа. Это вызов сквайра Лоринга, сына светлой памяти сэра Юстеса Лоринга. Сквайр Лоринг, благородные господа, ожидает вас на этом старом мосту. И вот что он говорит: «Я, смиреннейший и недостойнейший сквайр, из великого желания стать известным благородным рыцарем в свите его величества короля, моего господина, жду на мосту через Уэй в надежде, что тот или иной из них снизойдет скрестить со мной копье, или же что мне ниспослано будет освободить их от какого-либо обета, ими на себя принятого. Прошу я об этом не из похвальбы, но уповая, что дано мне будет лицезреть оных прославленных рыцарей с оружием в руках и восхититься искусством, с каким они им владеют. Посему с помощью святого Георгия я, пока не зайдет солнце, буду острым копьем защищать сей мост от всех, кто пожелает удостоить меня поединком».
— Ну, что вы скажете на это, благородные господа? — промолвил король, глядя вокруг смеющимися глазами.
— Составлен вызов поистине безупречно, — сказал принц. — Ни Кларисье, ни Красный Дракон, ни любой другой герольд, когда-либо носивший табар, не мог бы сочинить его лучше. Картель{38} написан его рукой?
— У него имеется суровая бабка, дама старинной закалки, — ответил Чандос. — Уж конечно, леди Эрминтруде и раньше доводилось составлять картели. Однако, государь, мне надо кое-что сообщить тебе и светлейшему принцу.
Чандос понизил голос, и мгновение спустя все трое разразились громким хохотом.
— Клянусь святым крестом! Только подумать, что человек благородной крови может оказаться в столь стесненных обстоятельствах, — сказал король. — Мне подобает поправить дело. Но что же вы, благородные господа? Этот достойный юноша все еще ждет ответа.
Рыцари его свиты тем временем оживленно обсуждали вызов, и теперь сэр Уолтер Мэнни сообщил королю их решение.
— С позволения твоего величества, — начал он, — мы полагаем, что этот сквайр недопустимо дерзок в своем желании скрестить копье с рыцарем, ибо еще ничем не доказал своей доблести. Мы окажем ему достаточную честь, если выставим против него такого же сквайра, и, с твоего разрешения, я поручу моему собственному оруженосцу Джону Уиддикомбу открыть нам путь через мост.
— Ваше решение, Уолтер, и верно и справедливо, — молвил король. — Добрый Чандос, сообщи воину на мосту, что постановили рыцари. А также передай нашу королевскую волю: встретятся они не на мосту, откуда один из них, а то и оба, несомненно, свалятся в воду, но на лугу перед мостом. Скажи ему, кроме того, что для такого поединка достаточно копья с тупым наконечником, но если оба усидят в седле, то могут обменяться одним-двумя ударами меча или булавы. Сигнал начинать подаст Рауль, протрубив в свой рог.
В дни былого расцвета странствующего рыцарства очень часто желающий снискать славу день за днем поджидал на перекрестке, на мосту или у брода, пока судьба не приводила туда достойного противника. И память о таких поединках живо сохранялась в рыцарских повестях и песнях труверов, постоянно о них повествовавших. Однако в жизни они успели стать большой редкостью. А потому придворные следили за тем, как Чандос направил коня вниз по откосу к мосту, с веселым, если не сказать насмешливым, любопытством и обменивались замечаниями по поводу необычной внешности его защитника. Сложен он, и правда, был весьма странно: фигура высокого человека, но руки и ноги непропорционально короткие. Голова его клонилась долу, точно он был погружен в глубокую задумчивость или столь же глубокое уныние.
— Видимо, это рыцарь Отягощенного Сердца, — заметил Мэнни. — Какие горести заставляют его столь печально повесить голову?
— Быть может, у него просто шея слаба, — предположил король.
— Но зато голос отнюдь не слаб, — возразил принц, когда до их ушей донесся ответ Найджела на слова Чандоса. — Клянусь Пречистой, он гремит, как болотная выпь!
Пока Чандос возвращался к королю, Найджел сменил старое ясеневое копье, принадлежавшее его отцу, на турнирное с затупленным наконечником, которое ему подал дюжий лучник, исполнявший роль оруженосца. Затем он съехал с моста на луговину длиной шагов в сто. В ту же секунду оруженосец сэра Уолтера Мэнни, наспех снаряженный своими товарищами для поединка, пришпорил коня и занял позицию у дальнего ее конца.
Король поднял руку, пропел рог сокольничего, и два всадника, ударив коней каблуками и встряхнув поводьями, помчались навстречу друг другу. По одну сторону болотистой луговины, где вода брызгала из-под тяжелых копыт, а доспехи двух пригнувшихся к седлу противников вспыхивали в лучах вечернего солнца, неподвижным полукругом замерли всадники, кто в доспехах, кто в бархате, но все поглощенно и молча следящие за началом поединка. Даже собаки, соколы и лошади словно окаменели. По другую ее сторону — горбатый мост, голубоватые воды медлительной реки, толпа разинувших рты крестьян и старый темный господский дом, где в верхнем окне виднелось суровое лицо.
Хорошим бойцом был Джон Уиддикомб, но в этот день противник его оказался еще лучше. Не ему было удержаться в седле против золотого вихря и словно приросшего к нему наездника. Найджел и Бурелет были единым стремительным снарядом, весь их вес, сила и энергия сосредоточились в тупом конце неподвижно уравновешенного копья. Порази Уиддикомба небесный гром, он не слетел бы на землю более стремительно и далеко. Оруженосец сэра Уолтера Мэнни перевернулся в воздухе, латы его загремели, как кимвалы{39}, и он навзничь растянулся на траве.
Лицо короля было помрачнело, но когда Уиддикомб, пошатываясь, встал на ноги, он одобрительно захлопал.
— Отменный поединок, отменный удар! — воскликнул он. — Как вижу, пять алых роз и в дни мира таковы, какими я видел их в битвах. Что скажешь, мой добрый Уолтер? Пошлешь еще оруженосца или сам откроешь нам путь?
И без того красное лицо Мэнни стало багровым, едва выставленный им боец рухнул на землю. Теперь он знаком подозвал к себе высокого рыцаря, чье худое свирепое лицо выглядывало из-под поднятого забрала легкого шлема, точно орел из клетки.
— Сэр Хьюберт, — сказал Мэнни, — мне вспомнился день, когда под Каном ты сразил французского бойца. Так не согласишься ли ты быть нашим бойцом сегодня?
— Когда я вышел на поединок с французом, Уолтер, — сурово ответил сэр Хьюберт, — оружие наше было боевым. Я воин, и мое дело война, а не шутовские стычки на ристалищах, придуманные для забавы глупых женщин.
— Какая неучтивая речь! — воскликнул король. — Услышь тебя моя любезная супруга, был бы ты вызван на Суд Любви отвечать за свои грехи перед девицами-присяжными. Но прошу тебя, добрый сэр Хьюберт, возьми тупое копье.
— Светлейший государь, уж лучше взять павлинье перо, но я повинуюсь. Эй, паж, подай мне эту жердину. Посмотрю, как я сумею с ней управиться.
Но сэру Хьюберту было не суждено испытать ни свою сноровку, ни свою удачу. Его могучий гнедой жеребец был столь же не привычен к турнирным поединкам, как и его господин, но уступал ему в спокойствии и мужестве. Когда он увидел нацеленное копье, сверкающие доспехи и яростно ринувшегося на него золотого коня, то отпрянул в сторону, повернулся и помчался вдоль реки галопом. Крестьяне покатывались от хохота на своем берегу, королевская свита на своем, а сэр Хьюберт тщетно пытался осадить гнедого, который летел вперед, перемахивая через кусты дрока и заросли вереска, пока вместе со своим господином не превратился в неясное пятно на темном склоне холма. Найджел едва увидел, что его противник не готов его встретить, натянул поводья так, что Бурелет присел на задние ноги, затем отсалютовал копьем и вернулся к мосту.
— Прекрасные дамы сказали бы, что наш добрый сэр Хьюберт был наказан за свои нечестивые речи, — заметил король.
— Будем надеяться, что он вышколит своего жеребца до того, как ему придется вновь выехать на поединок между двумя армиями, — сказал принц. — Не то они примут каприз коня за трусость всадника. Глядите, как он скачет, одним прыжком переносясь через все кусты на своем пути.
— Клянусь святым крестом! — произнес король. — Если отважный Хьюберт и не добавил себе славы турнирного бойца, зато показал, какой он искусный наездник. Однако мост все еще закрыт для нас, Уолтер. Что скажешь теперь? Так этот юный сквайр и останется в седле или же твой король сам должен будет взять копье наперевес, чтобы открыть себе путь? Клянусь головой святого Томаса! Я не прочь помериться силами с этим молодцом.
— Нет, нет, государь! — воскликнул Мэнни, гневно взглянув на неподвижного защитника моста. — Ему уже оказано слишком много чести. Этот зеленый юнец и без того задерет свой глупый нос, раз теперь может похваляться, что за один вечер вышиб из седла моего оруженосца и увидел спину одного из храбрейших рыцарей Англии. Подай мне копье, Роберт! Посмотрим, как с ним справлюсь я!
Знаменитый рыцарь взял поданное ему копье, как искусный ремесленник берет в руки инструмент: взвесил его на руке, раза два взмахнул им в воздухе, осмотрел, нет ли какого-нибудь изъяна в древке, и, наконец определив его вес и центр тяжести, аккуратно положил на опорный крюк, приделанный к латам сбоку под рукой. Затем, крепко взяв поводья, чтобы лошадь слушалась каждого их движения, закрылся щитом, висевшим у него на шее, и двинулся к мосту.
Найджел, молодой, неопытный Найджел, никакая милость природы не поможет тебе противостоять искусству и силе такого воина! Настанет день, когда ни Мэнни, ни даже Чандос уже не смогут вышибить тебя из седла, но в этот вечер, будь даже на тебе более удобные доспехи, своей участи ты не избежал бы. Твое падение близко, но когда ты увидел три черные прославленные стропила на золотом поле, твое мужественное, не знавшее страха сердце преисполнилось только радости и изумления перед такой несказанной честью. Твое падение близко, но и в самых странных твоих снах тебе не могло привидеться, каким оно окажется!
Вновь, глухо стуча копытами по мягкой земле, кони несутся галопом навстречу друг другу. Вновь всадники сталкиваются под лязг металла, но теперь через круп своего коня на траву, гремя доспехами, падает Найджел, пораженный тупым концом копья в самый центр забрала.
Боже великий, что это? Мэнни в ужасе вскидывает руки, копье выпадает из его ослабевших пальцев. Со всех сторон с испуганными восклицаниями, воплями, проклятиями, призывами к святым туда скачут всадники. Когда еще дружеский поединок завершался столь страшно, столь внезапно, столь непоправимо? Нет, это обман зрения! Какие-то колдовские чары отвели им глаза. Но, увы, все они ясно видят распростертое на траве туловище злополучного защитника моста, а в добром десятке шагов в стороне покоится шлем с его головой!
— Клянусь Пречистой, — крикнул Мэнни, спрыгивая с седла. — Я бы отдал свой последний золотой, лишь бы этого не случилось! Но каким образом? Что это означает? Сюда, сюда, милорд епископ, тут ведь не обошлось без колдовства и дьявола.
Епископ, белый как мел, спешился возле неподвижного туловища и протолкался сквозь сгрудившуюся вокруг толпу пораженных ужасом рыцарей и оруженосцев.
— Боюсь, ни дать ему последнее причастие, ни исповедать его, увы, уже нельзя. Слишком поздно, — произнес он дрожащим голосом. — Злосчастный юноша! Сколь внезапная кончина! In medio vitoe[12], как сказано в Писании: вот сейчас мы видим его в цвете юности, а в следующий миг голова его отделена от тела… Да помилует меня Бог и все его святые, да оградят от погибели!
Молитва эта вырвалась из епископских уст с необычной истовостью и силой в ответ на вопль оруженосца, который было поднял шлем с земли и тотчас вновь уронил вне себя от страха.
— Он же пустой! Он же легче перышка! — кричал бедняга.
— Клянусь Богом, это верно! — воскликнул Мэнни, трогая шлем. — В нем ничего нет. Так с чем же я сразился, отче епископ? С существом этого мира или иного?
Для того чтобы вернее обдумать столь сложный вопрос, епископ взобрался в седло.
— Если тут бесчинствует непотребный бес, — сказал он, — мое место возле короля! Несомненно, эта лошадь цвета серы выглядела исчадием ада. Готов поклясться, я видел, как из ее ноздрей било пламя и валил дым. Только такому чудовищу и возить на себе доспехи, которые и скачут, и вступают в бой, а сами внутри пустые.
— Нет, отче епископ, не торопись, — перебил его кто-то из рыцарей. — Может быть, оно и так, как ты говоришь, но только это работа рук человеческих. Когда я был в походе на юге Германии, то видел в Нюренберге хитрую механическую фигуру, которую изготовил один оружейник, — она и верхом ездила, и мечом махала. Ну и эта…
— Благодарю вас всех за вашу несравненную учтивость, — гулко произнесла распростертая на земле безголовая фигура.
Тут даже бесстрашный Мэнни вспрыгнул в седло. Многие поспешили отъехать от ужасного обрубка подальше, но самые храбрые замешкались.
— Больше же всех, — продолжал голос, — я благодарю благороднейшего рыцаря сэра Уолтера Мэнни за то, что он во всей своей славе снизошел скрестить копье со смиренным сквайром.
— Клянусь Богом! — заметил Мэнни. — Если это дьявол, так изъясняется он весьма учтиво. Сейчас я его вытащу на свет, пусть он хоть молнией меня поразит!
С этими словами рыцарь снова спрыгнул с коня и, засунув руку в отверстие бармицы, крепко ухватил Найджела за кудри. Тот охнул, и Мэнни окончательно убедился, что имеет дело с человеком. В тот же миг его взгляд упал на прорезь в нагруднике, позволявшую юноше видеть все, что делалось снаружи, и он разразился басистым хохотом. Король, принц и Чандос, которые наблюдали эту сцену издали с таким удовольствием, что не пожелали ни вмешаться, ни объяснить, теперь, когда все вышло наружу, подъехали к поверженному бойцу, совсем ослабев от смеха.
— Высвободите его, — сказал король, прижимая ладонь к боку. — Расстегните латы и высвободите его! Я не раз скрещивал копья в поединках, но никогда еще не был так близок к тому, чтобы свалиться с седла, хотя только любовался со стороны. Но я опасался, что он лишился чувств, ведь он даже не пошевелился!
Падение действительно ошеломило Найджела, но так как он не знал, что остался без шлема, то и не мог понять, почему оно сначала вызвало такой ужас, а потом такой смех. Теперь, когда с него сняли непомерно большой панцирь, в котором он был замкнут, как горошина в стручке, молодой сквайр стоял, жмурясь от яркого света, весь красный от стыда, что хитрость, на которую его толкнула нищета, открылась всем этим хохочущим придворным. Но тут ему на помощь пришел король.
— Ты доказал, что умеешь пользоваться оружием своего отца, — сказал он, — и доказал, что достоин и его имени, и герба, ибо в тебе жив доблестный дух, прославивший его. Но думается мне, ты, как и он, не допустишь, чтобы голодные люди томились у твоих дверей, а потому прошу: проводи нас в твой дом, и если трапеза будет не хуже этой благодарственной молитвы перед ней, значит, нас ждет великолепный пир.
Глава X Как король приветствовал сенешаля своего верного города Кале
Никакие хлопоты престарелой леди Эрминтруды не смогли бы поддержать честь тилфордского господского дома, если бы под его кровом расположилась вся королевская свита — и маршал двора, и старший конюший, и юстициарий, и спальник, и телохранители. Но предусмотрительность и тактичность Чандоса помогли предотвратить это бедствие: одни члены свиты разместились в аббатстве, другие отправились дальше в Фарнемский замок, чтобы воспользоваться гостеприимством сэра Фиц-Алана. Гостями же Лорингов были только сам король, принц, Мэнни, Чандос, сэр Хьюберт де Бург, епископ и еще двое-трое.
Но как ни мало было это общество, как ни скромен старый дом, король ни на йоту не пожертвовал обычной своей страстью к пышности, церемониалу и ярким краскам. С багажных мулов были сняты вьюки, всюду сновали слуги, в опочивальнях исходили паром лохани для мытья, развертывались шелка и атлас, блестели и позвякивали золотые цепи, и когда под пение труб двух придворных трубачей общество разместилось за столом, можно было смело сказать, что никогда еще почернелые потолочные балки не видели столь яркого, поистине волшебного зрелища.
После того как за шесть лет до описываемых событий в Англию со всех концов христианского мира съехались, блистая роскошью, чужеземные рыцари, чтобы принять участие в празднествах, устроенных в честь постройки виндзорской Круглой башни, и испытать свое счастье и ловкость на турнире, английская манера одеваться претерпела решительную перемену. Привычные верхняя и нижняя туники показались слишком простыми и убогими в сравнении с новой модой, и теперь вокруг короля пламенели красками, сверкали драгоценностями котарди, пурпуаны, блио, сюрко, упелянды, табары и прочие великолепные одежды, двухцветные или затканные узорами, с вышитой каймой, меховой опушкой или разнообразными фестонами по краям. Сам он в черном бархате и золоте был темным, но блистающим центром всего этого великолепия. По правую его руку сидел принц, по левую епископ, леди же Эрминтруда командовала слугами за дверьми, бдительно следя, чтобы кушанья и напитки подавались на стол в нужную минуту, подбодряла уставших, придавала новые силы ослабевшим, поторапливала замешкавшихся, расчетливо пускала в ход свои резервы, и стук ее дубовой клюки тотчас раздавался там, где возникала какая-нибудь заминка.
Позади короля, одетый в свой лучший, но такой жалкий среди этого блеска костюм, стоял Найджел и, хотя все тело у него болело, и особенно растянутое колено, сам прислуживал своим августейшим гостям, которые через плечо осыпали его веселыми шутками, все еще посмеиваясь над приключением на мосту.
— Клянусь святым крестом! — сказал король Эдуард, откидываясь с куриной косточкой, изящно зажатой в «учтивых» пальцах левой руки. — Спектакль был слишком хорош для деревенской сцены. Ты должен поехать со мной в Виндзор, Найджел, вместе с гигантскими доспехами, твоим тайником. Там ты выедешь на ристалище, оглядывая его из середины панциря, и непременно останешься цел и невредим, разве что кто-нибудь рассечет тебя одним ударом от шлема до седла! Никогда еще я не видел такого маленького ядрышка в такой большой скорлупе!
Принц обернулся со смехом в глазах, увидел по красному, пристыженному лицу Найджела, как ему тяжка его бедность, и вступился за него.
— Нет, — сказал он ласково, — такой мастер заслуживает инструментов получше.
— И его господин должен позаботиться, чтобы он их получил, — добавил король. — Придворный оружейник постарается, Найджел, чтобы в следующий раз, когда с тебя собьют шлем, твоя голова осталась в нем.
Найджел, багровый до корней льняных волос, пробормотал слова благодарности.
Однако Джон Чандос придумал кое-что другое и, лукаво посмотрев на короля, сказал:
— Не думаю, государь, что твоя щедрость тут так уж необходима. По старинному рыцарскому закону, когда противники сходятся в поединке и один то ли по своей неуклюжести, то ли по воле случая не отвечает на удар, его доспехи становятся достоянием того, кто сохранил боевую позицию. А посему, сдается мне, сэр Хьюберт де Бург, что отменные миланские латы и шлем бордосской работы, в каких ты приехал в Тилфорд, должны остаться тут, на память нашему молодому хозяину о том, как ты побывал у него в гостях.
Слова эти вызвали всеобщий смех и одобрительные восклицания, к которым не присоединился только сам сэр Хьюберт. Вспыхнув от гнева, он свирепо уставился на злокозненно улыбающегося Чандоса.
— Я же сказал, что в эти глупые игры не играю и ничего об их законах не знаю! — крикнул он. — Но тебе, Джон, коли ты хочешь съехаться со мной в поединке на боевых копьях или мечах, из которого живым выйдет только один, хорошо известно, что искать этой встречи тебе придется недолго.
— Неужто ты желаешь съехаться в поединке, Хьюберт? Не лучше ли тебе прежде спешиться? — ответил Чандос. — Вот тогда, я знаю, мы не увидим твоей спины, как увидели ее нынче. Говори что хочешь, но твой конь тебя предал, и я требую твои доспехи для Найджела Лоринга.
— Язык у тебя слишком длинный, Джон, и мне надоела его глупая болтовня! — отрезал сэр Хьюберт, чьи пшеничные усы на малиновом лице ощетинились. — Раз ты требуешь мои доспехи, так сам пойди и возьми их. Если нынче светит луна, то хоть теперь же, когда уберут со стола.
— Нет, благородные господа! — воскликнул король, переводя улыбающиеся глаза с одного на другого. — Больше об этом ни слова! Наполни-ка свой кубок гасконским, Джон, и ты тоже, Хьюберт. А теперь, прошу вас, выпейте здоровье друг друга, как добрые и верные товарищи, которые берутся за оружие только в ссорах их короля. Пока для доблестных сердец столько дела за морем, мы не можем поступиться ни тем и ни другим. А что до причины спора, то Джон Чандос был бы прав, если бы речь шла о поединке на турнире, но по нашему суждению этот закон не применим в сем случае: ведь была лишь встреча у дороги без обмена ударами. Но вот доспехи твоего оруженосца, любезный Мэнни, ему без всякого сомнения больше не принадлежат.
— Печальное известие для него, государь, — ответил Уолтер Мэнни. — Он человек бедный, и снарядиться на войну ему было нелегко. Но твоя воля будет исполнена, государь. Сквайр Лоринг, зайди ко мне завтра утром, и доспехи Джона Уиддикомба будут тебе вручены.
— С позволения короля, я их ему возвращаю, — запинаясь, сказал Найджел, очень расстроенный. — Уж лучше мне навсегда остаться дома, чем отобрать у достойного человека его единственные доспехи.
— Узнаю дух твоего отца! — воскликнул король. — Клянусь святым крестом, ты мне нравишься, Найджел! Предоставь все мне. Но я дивлюсь, почему Ломбардец, сэр Эймери, все не едет к нам из Виндзора!
Уже не раз после своего прибытия в Тилфорд король Эдуард нетерпеливо осведомлялся, не приехал ли сэр Эймери и нет ли от него известий, а потому теперь сидевшие за столом обменялись недоуменными взглядами. Все они знали Эймери, знаменитого итальянского наемника, недавно назначенного сенешалем{40} Кале, и такой нежданный и спешный вызов его к королю вполне мог означать начало новой войны с Францией, о чем все воины только и мечтали. Дважды король отворачивался от стола с кубком в руке и прислушивался, не доносится ли снаружи конский топот. На третий раз слух его не обманул: стук копыт и позвякивание сбруи раздавались все ближе, а затем послышались хриплые оклики, на которые тотчас отозвались лучники, поставленные в карауле у дверей.
— Кто-то приехал, государь, — сказал Найджел. — Что ты повелишь?
— Это может быть только Эймери, — ответил король. — Только ему я оставил распоряжение последовать за мной. Пригласи его войти и прими как желанного гостя.
Найджел выдернул горящий факел из скобы и распахнул дверь. Снаружи он увидел полдесятка вооруженных всадников. Один из них уже спешился — невысокий плотный человек со смуглым крысиным лицом и беспокойными карими глазами, которые торопливо заглянули через плечо Найджела в залитую красноватым светом залу.
— Я сэр Эймери из Павии, — шепнул он. — Ответь, заклинаю Богом, король там?
— Он ужинает, благородный сэр, и приглашает тебя войти.
— Чуть-чуть погоди, молодой человек. Секретное словечко тебе на ушко. Ты не знаешь, почему король послал за мной?
И Найджел заметил ужас в темных хитрых глазах, которые поглядывали на него искоса.
— Нет.
— Мне бы узнать… До того, как я явлюсь к нему…
— Тебе стоит лишь переступить порог, благородный сэр, и, без сомнения, ты все узнаешь из уст самого короля.
Сэр Эймери, казалось, собрался с духом, точно перед прыжком в ледяную воду. Потом быстрым шагом вышел из темноты на свет. Король поднялся к нему навстречу и протянул руку с улыбкой на длинном красивом лице, но итальянцу почудилось, что улыбаются только губы, но не глаза.
— Добро пожаловать! — воскликнул Эдуард. — Добро пожаловать, наш благородный и верный сенешаль Кале! Входи же и садись за стол напротив меня, ибо я послал за тобой, чтобы узнать от тебя, что нового за морем, и поблагодарить за то, как ты бережешь город, который дорог мне, словно жена или сын. Поставьте табурет для сэра Эймери вот тут, накормите и напоите его, ведь он нынче проделал тяжелый и долгий путь, исполняя мою волю.
И до конца долгого пира, который сумела приготовить леди Эрминтруда, Эдуард весело беседовал с итальянцем и придворными. Наконец последние блюда были убраны, пропитанные мясным соусом толстые ломти хлеба, служившие тарелками, брошены псам, кувшины с вином пошли вкруговую, и в залу робко вступил старый менестрель Уэтеркот в надежде, что ему будет дозволено развлечь монарха своим искусством, однако Эдуард замыслил другую забаву.
— Прошу тебя, Найджел, отошли слуг, и пусть у каждой двери поставят двух вооруженных стражей, дабы никто не помешал нашей беседе, ибо речь пойдет о тайном деле. Вот теперь, сэр Эймери, эти благородные лорды, как и я, твой господин, будут рады услышать от тебя самого, что деется во Франции.
Лицо итальянца было невозмутимо, но глаза беспокойно оглядывали сидящих за столом.
— Насколько мне ведомо, государь, на французской границе все тихо, — сказал он.
— Так, значит, ты не слышал, что там собираются отряды в намерении нарушить перемирие и посягнуть на наши владения?
— Нет, государь, ничего подобного я не слышал.
— Ты успокоил мою тревогу, Эймери, — сказал король. — Коль никакие дурные вести не достигли твоих ушей, надобно признать пустыми слухи, будто неистовый де Шарньи явился в Сент-Омер, зарясь на мой бесценный алмаз, и уже тянет к нему жадные руки в железных рукавицах.
— Что же, государь, пусть попробует. Он убедится, что алмаз надежно укрыт в своем крепком сундуке и его охраняет бдительный страж.
— Страж моего алмаза — это ты, Эймери.
— Да, государь, я.
— И ты верный страж, коему я могу доверять, не так ли? Ты же не продашь на сторону то, что столь мне дорого, когда из всего моего войска для его охраны я избрал тебя?
— Государь, в чем причина таких вопросов? Они задевают мою честь. Тебе ведомо, что с Кале я расстанусь, лишь расставшись со своей душой.
— Так ты ничего не знаешь о намерении де Шарньи?
— Ничего, государь.
— Лжец и злодей! — загремел король, вскакивая на ноги и ударяя тяжелым кулаком по столу так, что кубки зазвенели. — Взять его, лучники! Взять! Держите его за локти, чтобы он ничего над с собой не сотворил. Ты смеешь говорить, глядя мне в лицо, бесчестный Ломбардец, что ничего не знаешь о де Шарньи и его планах?
— Бог мне свидетель, ничего!
Губы итальянца побелели, и говорил он тонким, дрожащим голосом, отводя глаза от грозного взгляда разгневанного короля.
Эдуард горько усмехнулся и достал спрятанную на груди бумагу.
— Вы будете судьями: ты, любезный сын, и ты, Чандос, и ты, Мэнни, и ты, сэр Хьюберт, и ты тоже, милорд епископ. Дарованной мне властью я назначаю вас судьями над этим человеком, ибо, клянусь Божьим Оком, я не выйду из этой залы, пока не разберусь с ним до конца. Сперва я прочту вам это письмо. На нем означено, что посылается оно сэру Эймери из Павии, прозванному Ломбардцем, в замок Кале. Это твое имя и твое прозвище, предатель?
— Мои, государь, но никакого письма я не получал.
— Иначе твое злодейство осталось бы нераскрытым! Подписано оно «Изадор де Шарньи». Так о чем же пишет мой враг де Шарньи моему доверенному слуге? Слушайте! «В прошлое новолуние мы не могли прибыть, ибо не собрали достаточно войска, не успели мы достать и двадцать тысяч золотых монет, назначенную тобой цену. Но когда вновь настанет новолуние, в самый темный час мы прибудем, и ты получишь свои деньги у потайной калитки, где растет рябина». Ну, предатель, что ты скажешь теперь?
— Письмо подделано! — прохрипел итальянец.
— Прошу, государь, дай его мне, — сказал Чандос — Де Шарньи был моим пленником и, прежде чем был собран его выкуп, рассылал столько писем, что я хорошо знаю его руку. Да, да, готов поклясться, это писал он. Клянусь спасением моей души, это так.
— Если и правда его написал де Шарньи, то для того лишь, чтобы очернить меня! — крикнул сэр Эймери.
— О, нет! — сказал принц. — Мы все знаем де Шарньи, все сражались с ним. Пороков у него предостаточно, он и хвастун, и дерзкий буян, но среди тех, кто следует за лилиями Франции, не найти человека отважнее, более великого сердцем и свято блюдущего рыцарские законы. Такой человек не способен пасть столь низко и написать лживое письмо в желании очернить другого рыцаря. Я никогда этому не поверю.
Общий ропот остальных подтвердил, что они согласны с принцем. Свет факелов по стенам ложился на суровые лица сидящих за высоким столом. Они хранили каменную неподвижность, и итальянец съежился под взглядом беспощадных глаз. Он быстро обвел взглядом залу, но у всех дверей стояли вооруженные стражи, и тень смерти легла на его душу.
— Это письмо, — сказал король, — де Шарньи вручил некоему отцу Бове, священнику в Сент-Омере, с поручением доставить его в Кале. Но поп почуял награду и отнес его одному моему верному слуге. Вот так оно попало в мои руки. Я тотчас послал приказ этому негодяю явиться ко мне, а поп вернулся в Сент-Омер, чтобы де Шарньи полагал, будто письмо доставлено.
— Я ничего про это не знаю, — упрямо повторил итальянец, облизывая пересохшие губы.
Лицо короля почернело от гнева, глаза метали молнии.
— Довольно, клянусь Богом! Будь мы в Тауэре, стоило бы два-три раза повернуть ворот дыбы, и признание было бы исторгнуто из его трусливой душонки. Но к чему нам оно? Вы видели, милорды, вы слышали. Что скажешь ты, любезный сын? Виновен ли сей человек?
— Виновен, государь.
— А ты, Джон? А ты, Уолтер? А ты, Хьюберт? А ты, милорд епископ? Итак, вы все согласны. Он изобличен в измене. Какова же кара?
— Только смерть, — ответил принц, и остальные кивнули.
— Эймери из Павии, ты слышал приговор, — сказал Эдуард, подперев подбородок ладонью и меряя дрожащего итальянца мрачным взглядом. — Сюда, лучник! Ты, чернобородый, у той двери! Обнажи меч! Нет, трусливый предатель, твоя кровь не осквернит этот честный дом. Нам нужны твои пятки, а не голова. Сруби его золотые шпоры, лучник! Их пожаловал ему я, и я беру их обратно. Ха! Они далеко отлетели, и с ними обрублена всякая связь между тобой и рыцарским сословием, знаком и символом которого они служат. А теперь уведите его подальше отсюда в вереска, где самое место такой падали, и отрубите его коварную голову в предупреждение всем, кто замышляет измену!
Итальянец, давно уже упавший на колени, почувствовав у себя на плечах тяжелые руки лучника, испустил вопль отчаяния. Он вырвался и распростерся на полу, цепляясь за сапог короля.
— Пощади меня, великий государь, пощади, молю тебя! Заклинаю тебя страстями Господа нашего Христа, даруй мне прощение! Вспомни, светлейший государь, сколько лет я верно служил под твоим знаменем и сколько услуг оказал! Или не я отыскал брод через Сену за два дня до великой битвы? И разве не я первым взошел на стену, когда мы взяли Кале? У меня в Италии жена и четверо детей, великий король, и только тоска по ним заставила меня нарушить долг. С такими деньгами я мог бы оставить военную службу и увидеться с ними. Помилуй меня, государь, я взываю к твоему милосердию!
Англичане суровый народ, но не жестокий. Лицо короля оставалось неумолимым, но прочие отводили глаза и ерзали на табуретах.
— Великий король, — сказал Чандос, — молю, умерь свой гнев.
Эдуард сердито качнул головой:
— Замолчи, Джон! Будет так, как я сказал.
— Прошу тебя, мой любимый и мудрый государь, не спеши, — сказал Мэнни. — Прикажи связать его и погоди до утра. Быть может, тогда ты взглянешь на дело по-иному.
— Нет. Приговор произнесен. Уведите его!
Но трепещущий итальянец обнял колени короля с такой силой, что лучники не сумели разомкнуть его сведенных судорогой рук.
— Молю, выслушай меня! Даруй мне только минуту! Выслушай, а потом делай со мной что хочешь.
Король откинулся на спинку кресла.
— Говори, и кончим на этом.
— Ты должен пощадить меня, преславный государь! Ради самого себя должен, ибо я могу предложить твоему величеству рыцарское деяние, которое обрадует твое сердце. Вспомни, де Шарньи и его товарищи не знают, что их планы открыты. Стоит мне послать им весть, они явятся к калитке. А тогда, если устроить искусную засаду, мы возьмем их в плен, и выкуп за них пополнит твою казну. Ведь он и его товарищи стоят добрых сто тысяч золотых.
Эдуард отшвырнул итальянца ногой с такой силой, что тот отлетел на несколько шагов и растянулся на камыше. Но, извиваясь точно раненая змея, он не спускал с короля темных глаз.
— Двойной предатель! Ты готов был продать Кале де Шарньи, а теперь готов продать де Шарньи мне? Как ты дерзнул подумать, что я, да и любой благородный рыцарь, наделен душонкой торгаша и помышляю о выкупах, когда можно заслужить славу? Неужто я способен пасть столь низко, что поступлю бесчестно и по-воровски? Ты подтвердил свой приговор. Уведите его!
— Прошу тебя, мой высокочтимый и возлюбленный государь! — воскликнул принц. — Умерь на миг свой гнев. Его совет, пожалуй, заслуживает размышления. Он возмутил твою благородную душу болтовней о выкупах. Но, прошу, взгляни на это дело как на дело чести. Можно ли найти случай более славно обрести славу? Молю тебя поручить его мне, ибо, если верно за него взяться, оно сулит великую честь.
Эдуард обратил на юношу сияющие глаза.
— Ни одна гончая не ищет так усердно след раненого оленя, как ты, мой сын, ищешь подвигов, — сказал он. — И что же ты задумал?
— Де Шарньи и его отряд стоят того, чтобы искать с ними встречи. Уж конечно, он соберет под свое знамя весь цвет французского рыцарства. Если мы примем совет этого человека и будем ждать его с таким же числом копий, то во всем христианском мире не найдется места, на какое в ту ночь я согласился бы променять Кале!
— Клянусь святым крестом, любезный сын, ты прав! — воскликнул король, чье лицо просветлело при этой мысли. — Так кто же из вас, Джон Чандос и Мэнни, возьмет на себя это дело? — Он лукаво переводил взгляд с одного на другого, словно хозяин, покачивающий для забавы кость между двумя старыми свирепыми псами. Ответом ему были только их запылавшие жадной надеждой взгляды. — Нет, Джон, не обессудь, но теперь черед Уолтера, и отказать ему я не могу.
— Но почему бы нам всем не отправиться под твоим знаменем, государь, или под знаменем принца?
— Не подобает поднимать королевские знамена Англии по такому малому поводу. Но если в твоем отряде отыщется место еще для двух рыцарей, мы с принцем будем в ту ночь с тобой.
Принц нагнулся и поцеловал отцовскую руку.
— Забери этого человека, Уолтер, и поступи с ним, как рассудишь. Но охраняй его хорошенько, чтобы ему не удалось предать нас еще раз. И убери его долой с моих глаз, чтобы он больше не отравлял тут воздуха своим дыханием. А теперь, Найджел, если твой седобородый менестрель хочет побряцать на своей арфе или спеть нам… Но, во имя Господа, чего хочешь ты?
Обернувшись, он увидел, что юный хозяин дома опустился на одно колено и умоляюще склонил льняную голову.
— Милости, государь!
— Так мне и не знать нынче покоя? Передо мной стоит на коленях изменник, за спиной — честный человек. Ну говори, Найджел. Чего ты хочешь?
— Отправиться с вами в Кале.
— Клянусь святым крестом! Просьба твоя справедлива, ведь замысел наш сложился под твоей крышей. Что скажешь, Уолтер? Берешь его вместе с доспехами? — спросил король Эдуард.
— Лучше скажи, возьмешь ли ты меня? — осведомился Чандос. — Мы соперники на поле брани, Уолтер, но, сдается мне, отказа я от тебя не услышу.
— Нет, Джон. Я буду горд иметь под своим знаменем лучшее копье христианского мира.
— Как и я буду горд следовать за таким славным знаменем. Но Найджел Лоринг мой оруженосец и потому отправится за море с нами.
— Итак, все решено, — сказал король, — спешить некуда. Ведь до следующего новолуния еще далеко. А потому прошу нас вновь пустить кувшин вкруговую и вместе со мной выпить за славных рыцарей Франции. Пусть будут они полны доблести и жажды славы, когда мы встретимся с ними под стенами замка Кале!
Глава XI В доме рыцаря Дупплина
Король приехал и уехал. Вновь господский дом в Тилфорде стоял темный и безмолвный, но внутри царила радость. За одну ночь всем бедам пришел конец, точно отдернули черный занавес, закрывавший солнце. Казначей короля прислал весьма значительную сумму денег — подарок поистине княжеский и не допускавший отказа. Найджел вновь отправился в Гилфорд, приторочив к седлу сумку с золотыми монетами, и на дороге не нашлось бы ни единого нищего, который не осыпал бы его благословениями.
В городе он сразу навестил лавку золотых дел мастера, выкупил кубок, поднос и браслет и вместе с хозяином посетовал на коварную шутку, которую сыграла с ним судьба: за протекшую неделю золото и золотые изделия заметно подорожали по причинам, понятным лишь золотых дел мастерам, и ему придется уплатить на пятьдесят золотых монет больше, чем он выручил за них. Тщетно верный Эйлуорд бесился, ворчал и даже вознес молитву о том, чтобы настал день, когда ему ниспослано будет пронзить стрелой жирное брюхо купца. Уплатить деньги все равно пришлось.
Оттуда Найджел поспешил к Уоту и купил те самые доспехи, на которые с такой тоской смотрел в прошлый раз. Он тут же примерил их. Уот и его подмастерье обходили его со всех сторон, затягивая винты и застегивая застежки.
— Ну как, благородный сэр? — воскликнул оружейник, надевая ему на голову шлем и пристегивая его к бармице. — Клянусь Тувалкаином, броня эта облегает тебя, как панцирь краба. Доспехов лучше не найти ни в Италии, ни в Испании!
Найджел встал перед полированным щитом, служившим зеркалом, и начал поворачиваться так и сяк, прихорашиваясь, точно серебряная птичка-невеличка. Он не мог налюбоваться на гладкий нагрудник, на удивительные шарниры, на прикрывающие их наколенники и налокотники, на чудесные гибкие рукавицы и поножи, на кольчугу и плотно прилегающие к ней щитки. Он попрыгал, доказывая, что доспехи ему нисколько не тяжелы, а потом выбежал из мастерской, оперся о седло и вскочил на спину Бурелета под рукоплескания Уота и подмастерья.
Затем спрыгнул на землю, вбежал в мастерскую, лязгнув, бросился на колени перед образом Пречистой на стене и вознес горячую молитву, прося, чтобы ничто не омрачило и не запятнало его душу и честь, пока он будет носить эту броню, и чтобы ему были дарованы сила и крепость послужить в них великим и праведным целям. Казалось бы, странное обращение к религии, проповедывающей мир, но много веков меч и вера поддерживали друг друга, и в самые темные времена идеальный воин смутно стремился к свету. «Benedictus dominus deus meus qui docet manus meas ad Proelium et digitos meos ad bellum!»[13] В словах этих — душа истинного рыцаря.
Затем доспехи навьючили на мула оружейника и отвезли в Тилфорд, где Найджел вновь облачился в них, чтобы показать их леди Эрминтруде, которая хлопала морщинистыми руками и проливала слезы горести и радости — горести, потому что расставалась с ним, радости, потому что он отправляется на войну столь достойно снаряженным. О себе самой ей не надо было тревожиться: Тилфордское поместье поручалось заботам надежного управителя, а ее ждали комнаты в королевском замке Виндзор, где ей предстояло коротать закат своих дней в обществе других почтенных дам, ее ровесниц столь же благородной крови, обсуждая с ними давно позабытые скандалы и шепотом обмениваясь пикантными сплетнями о дедах и бабках молодых придворных. Найджел мог с легким сердцем оставить ее там, когда настанет время отправляться во Францию.
Однако прежде чем Найджел покинул вересковые пустоши, среди которых прожил всю жизнь, ему предстояла поездка к соседям и еще одно прощание. В тот же вечер он облекся в самую нарядную свою тунику — из темно-лилового генуэзского бархата и отороченную горностаем, перепоясался поясом с серебряной чеканкой и надел фетровую шляпу с белоснежным пером, изящно обвивавшем тулью. Верхом на благородном Бурелете, с соколом на запястье и мечом на боку он мог бы потягаться с любым молодым сквайром, когда-либо отправлявшимся в гости с таким намерением, но никто не превзошел бы его скромностью. Прощаться он ехал со старым Рыцарем Дупплина, но у Рыцаря Дупплина были две дочки, Эдит и Мери, а Эдит слыла первой красавицей верескового края.
Сэр Джон Баттесторн был прозван Рыцарем Дупплина, потому что ему довелось быть участником этой удивительной битвы, когда за восемнадцать лет до описываемых событий мощь Шотландии на время сокрушила горстка искателей приключений и наемников, которые воевали не под чьим-то знаменем, а сами за себя. Их победу история замалчивает, так как ни у одной страны нет причин ее воспевать, однако в те времена слава о ней прокатилась далеко, ибо в тот день, когда цвет шотландского воинства пал на роковом поле, тогдашний мир впервые узнал, что появилась новая военная сила и что с английскими лучниками, стойкими и мужественными, искусно владеющими своим оружием, чему научились еще в детстве, должны серьезно считаться и закованные в броню рыцари.
Сэр Джон, вернувшись из Шотландии, стал начальником королевской охоты, так как славился по всей стране глубокими познаниями в этой области. Но под конец, отяжелев настолько, что лошади с трудом выдерживали его вес, он поселился в скромном уюте старого косфордского господского дома на восточном склоне Хайндхедского холма. Там, пока его лицо становилось все краснее, а борода все белее, он проводил закат жизни среди соколов и охотничьих псов. Подле него всегда стоял кувшин вина со специями, а его вытянутая распухшая нога покоилась на скамеечке. Старые товарищи, направляясь по ухабистой дороге из Лондона в Портсмут, непременно заезжали по пути в Косфорд, и там же его молодые соседи собирались послушать рассказы толстого рыцаря о былых войнах или набраться наставлений о тонкостях охоты и повадках разных зверей, которых никто не знал лучше его.
Однако, сказать правду, что бы там ни думал старый рыцарь, молодежь в Косфорд манили не только его старые истории и даже еще более старое вино, но куда больше — прелестное личико его младшей дочери или же сильный характер и умные советы старшей.
Эдит, золотая, как спелая рожь, синеглазая, обворожительная, шаловливая, веселая болтушка, дарила одинаковыми улыбками десяток пылких поклонников во главе с Найджелом Лорингом. Точно котенок, она играла со всем, что попадало ей в лапки, и кое-кто считал, что в их бархатном прикосновении все чаще дают о себе знать острые коготки.
Мери была темна, как ночь, с серьезным, почти некрасивым лицом и внимательными глазами, которые твердо взирали на мир из-под крутых арок черных бровей. Никто бы не назвал ее даже миловидной, а когда ее прелестная сестра, прильнув к ней, прижималась щекой к ее щеке — обычная ее манера в присутствии посторонних, красота одной и невзрачность другой становились совсем уж очевидными благодаря беспощадному контрасту. И все же находились порой и такие, кто, глядя на ее неординарное волевое лицо, замечая огонь, порой мерцавший в глубине ее темных глаз, вдруг чувствовал, что эта молчаливая девушка с гордой осанкой и царственной грацией обладает силой, достоинством и таинственностью, которые стоят дороже изящной прелести младшей сестры.
Вот какими были молодые обитательницы Косфорда, куда направил в этот вечер свой путь Найджел Лоринг, надев тунику из генуэзского бархата и приладив к шляпе новое перо.
На Терслейской гряде он обогнул камень, обозначавший место, где в давние времена язычники-саксы приносили жертвы Тору, своему богу войны. Найджел поглядел на него с опаской и пришпорил Бурелета, потому что, по слухам, в безлунные ночи вокруг камня полыхали призрачные костры, и уши, особенно чуткие, различали в свисте ветра вопли и рыдания тех, кого предавали жестокой смерти, дабы почтить адского демона. Камень Тора, Прыжок Тора, Чаша Тора — весь край был одним угрюмым памятником богу битв, хотя благочестивые монахи и заменили его имя на имя Дьявола, отца его, и называли эти места Прыжком Дьявола и Чашей Дьявола. Найджел оглянулся через плечо на серую глыбу, и по его спине пробежала дрожь, а храброе сердце сжалось. Была ли причиной вечерняя прохлада или внутренний голос шепнул ему, что в старые времена и он бы мог лежать связанный на таком камне, а вокруг бесновались бы забрызганные кровью язычники?
Мгновение спустя и зловещий камень, и смутный страх, и все остальное было забыто, потому что на желтой песчаной тропе в блеске золотых волос, озаренных заходящим солнцем, гибко покачиваясь в седле в такт движениям лошади, идущей рысью, показалась та самая прекрасная Эдит, чье лицо так часто мешало ему уснуть. Жаркая кровь прилила к его щекам — хоть сердце его не знало, что такое страх, нежная тайна женственности не только манила его, но и пугала. Его чистая рыцарственная душа возносила на пьедестал не только Эдит, а и всех женщин, приписывая им тысячи непостижимых достоинств и добродетелей, поднимавших их над грубым миром мужчин на недосягаемую высоту. Общество их дарило радость, но вместе с тем вызывало страх — страх, что его неотесанность, слишком грубый язык и неуклюжесть оскорбят столь хрупкое и утонченное создание. Вот о чем он думал, пока белая лошадь приближалась к нему. Однако мгновение спустя его смутные опасения развеял веселый голос девушки, приветливо помахавшей ему рукой, сжимавшей хлыст.
— Мой привет тебе, Найджел! Как здравствуешь? И куда же ты едешь в вечерний час? Уж конечно, не к своим друзьям в Косфорд! Когда же это ты надевал такой наряд ради нас? Назови же мне ее имя, Найджел, чтобы я знала, кого мне возненавидеть на всю жизнь!
— Ты ошиблась, Эдит, — сказал молодой сквайр, отвечая смехом на смех красавицы. — Еду я в Косфорд.
— Ну, так и я с тобой. Мне пора назад. Как, по-твоему, я выгляжу?
Ответом Найджела был восторженный взгляд, которым он обвел очаровательное разрумянившееся личико, золотые волосы, ясные глаза и изящную стройную фигурку в черно-алом платье для верховой езды.
— Ты прекрасна, как всегда, Эдит.
— Ах, какие холодные слова! Видно, Найджел, тебя учили беседовать с монахами, а не с девицами. Задай я такой вопрос сэру Джорджу Броксу или сквайру Фернхерсту, они бы восхваляли мою красу до самого Косфорда. Оба они мне больше по вкусу, чем ты, Найджел.
— Тем хуже для меня, Эдит, — печально ответил Найджел.
— Но не изгоняй надежду из сердца.
— Так ведь сердце мое принадлежит не мне, ты же знаешь, — ответил он.
— Уже лучше! — воскликнула она, рассмеявшись. — Когда ты хочешь, то становишься находчивым, сэр Бука! Впрочем, тебе больше нравится беседовать о всяких высоких и скучных материях с моей сестрицей. Ей вот не по сердцу шутки и любезности сэра Джорджа, а мне он нравится. Но объясни, Найджел, почему ты нынче собрался в Косфорд?
— Попрощаться с тобой.
— Со мной одной?
— Нет, Эдит, и с тобой, и с твоей сестрой Мери, и со славным рыцарем, твоим батюшкой.
— А вот сэр Джордж сказал бы, что со мной одной! Да, тут ты с ним ни в какое сравнение не идешь. Так, значит, это правда, Найджел, что ты отправляешься во Францию?
— Да, Эдит.
— Слухи об этом пошли, едва король уехал из Тилфорда. Говорят, король собрался во Францию и взял тебя в свою свиту. Это правда?
— Да, Эдит.
— Ну, так скажи, куда ты едешь и когда?
— Увы, Эдит, на твой вопрос ответить я не могу.
— Ах, так! — Она встряхнула золотой головкой и умолкла, крепко сжав губы и сердито глядя прямо перед собой.
Найджел посмотрел на нее с удивлением и горестью.
— Право же, Эдит, — сказал он наконец, — если ты уважаешь мою честь, то не можешь желать, чтобы я нарушил данное мной слово?
— Твоя честь это твое дело, а кто мне нравится или нет — мое, — ответила она. — Можешь ею не поступаться, но и я не поступлюсь.
Они молча проехали деревню Терсли. Но тут в голову красавицы пришла новая мысль, и, забыв про свой гнев, она завела речь совсем о другом.
— Что бы ты сделал, Найджел, если бы меня оскорбили? Я слышала, как батюшка говорил, что ты, хоть ростом и не вышел, но возьмешь верх над любым в здешних местах. Так будешь ты моим защитником, если он мне понадобится?
— Разумеется, и я, и всякий благородный человек предложит себя в защитники обиженной или оскорбленной женщины.
— Ты или кто угодно другой, я или любая другая, — что это за речи? По-твоему, очень лестно, если тебя смешивают со всеми? Я говорила только о тебе и о себе. Если мне нанесут обиду, будешь ты моим защитником?
— Испытай меня, Эдит, и увидишь.
— Я так и сделаю, Найджел. Сэр Джордж Брокс и сквайр Фернхерст с радостью исполнили бы мою просьбу, и все же, Найджел, я обращусь за помощью к тебе.
— Так скажи же, прошу, в чем дело.
— Ты знаешь Поля де ла Фосса из Шелфорда?
— Коротышку с кривой спиной?
— Ростом он не ниже тебя, Найджел, а что до спины, то многие и многие были бы рады иметь лицо, как у него.
— Тут я не судья и ничего дурного о нем сказать не хотел. Но почему ты заговорила о нем?
— Он надсмеялся надо мной, Найджел, и я хочу отомстить.
— Как! Жалкому горбуну?
— Но говорю же тебе, он надсмеялся надо мной.
— Каким образом?
— По-моему, истинно благородный человек бросился бы мне на помощь без всяких вопросов. Но хорошо, придется мне рассказать. Узнай же, он был среди тех, что окружали меня и клялись, что принадлежат мне телом и душой. А потом, вообразив, будто другие нравятся мне не меньше его, он по этой лишь причине оставил меня, а теперь обхаживает Мод Твинхем, веснушчатую негодяйку в его деревне.
— Но почему тебя это задевает, раз он не был твоим женихом?
— Он же клялся, что принадлежит мне, ведь так? И он высмеивал меня своей девке. Он наговаривал ей на меня. Выставил дурочкой в ее глазах. Я ведь читаю это в ее пятнистом лице и тусклом взгляде, когда мы по воскресеньям встречаемся у церковных дверей. Она ухмыляется. Да, ухмыляется! Найджел, поезжай к нему! Нет, не убивай его, и даже ранить его не надо, только хорошенько располосуй ему лицо хлыстом, а потом вернись ко мне и скажи, как я могу тебя отблагодарить.
Лицо Найджела побледнело от внутренней борьбы, потому что кровь его пылала, но рассудок преисполнился отвращением.
— Клянусь святым Павлом, Эдит! — воскликнул он. — Я не вижу ни чести, ни славы в том, о чем ты просишь. Как я могу ударить слабого калеку? Покрыть себя позором? Молю тебя, прекрасная леди Эдит, дай мне другое поручение.
Ее глаза облили его презрением.
— И ты — воин! — воскликнула она с горькой насмешкой. — А боишься щуплого человечка, которому и ходить-то трудно. Да, да, оправдывайся как хочешь, но я знаю, что ты слышал, как искусно он владеет мечом, как он храбр! Вот мужество и изменило тебе. Ты верно рассудил, Найджел. Он и правда опасный человек. Исполни ты мою просьбу, он убил бы тебя, а потому ты поступаешь мудро!
Найджел краснел и морщился, слушая ее, но ничего не ответил, всеми силами стараясь сохранить на пьедестале кумир, который зашатался, грозя вот-вот рухнуть. Так бок о бок в молчании невысокий юноша и гордая красавица, золотистый жеребец и белая кобыла поднимались по песчаной тропе, вьющейся среди высокого вереска и папоротников. Вскоре от нее ответвилась еще тропа, уводя к воротам с кабаньими головами герба Баттесторнов и бревенчатому дому с длинным фасадом. На громкий собачий лай навстречу им заковылял краснолицый рыцарь и, протягивая руку, произнес зычным голосом:
— Добро пожаловать, Найджел, добро пожаловать! А я уж думал, что ты позабыл смиренных друзей вроде нас, едва король взыскал тебя своей милостью. Конюхи, заберите лошадей, не то моя палка прогуляется по вашим спинам. Цыц, Лидьярд! Лежать, Пеламон! От вашего гавканья оглохнуть можно. Мери, налей вина сквайру Лорингу!
Мери стояла на пороге, высокая, загадочная, безмолвная. Темные вопрошающие глаза на странном грустном лице были зеркалами глубокой души. Найджел поцеловал протянутую ему руку, и к нему вернулась вся его благоговейная вера в женщин. Эдит проскользнула за спину сестры и из-за ее плеча прощающе улыбнулась Найджелу, точно прекрасная фея в ореоле золотых волос.
Рыцарь Дупплина тяжело оперся на руку молодого человека и, прихрамывая, направился через обширную залу с высоким потолком к своему вместительному дубовому креслу.
— Эдит, Эдит! Придвинь скамеечку. Господь свидетель, голова у девочки полна мыслями о поклонниках, как амбар крысами. Ну, Найджел, я много наслышан о том, как ты держал Тилфордский мост и как тебя посетил король. Он в добром здравии? А мой старый друг Чандос? Сколько раз мы охотились вместе! А Мэнни? Другого такого лихого наездника во всей стране не сыщется! Так рассказывай, рассказывай!
И Найджел поведал старому рыцарю обо всем, что произошло, но лишь коротко упомянул о своей победе, зато подробно описал поражение, которое потерпел. Однако глаза темноволосой девушки, прилежно склонившейся над вышиванием, ярко засияли.
Сэр Джон слушал, не скупясь на клятвы и призывы к святым, стучал тяжелым кулаком, взмахивал палкой.
— Так ведь, малый, не надеялся же ты остаться в седле, коли встретился с Мэнни! А держался ты достойно. Мы тобой горды, Найджел, ты ведь наш, ты вырос в вересковом краю. Но мне стыдно, что про леса и охоту ты знаешь меньше, чем мог бы, хотя учил тебя я, а во всей широкой Англии в этом со мной никто не потягается. Так налей же еще вина, а я посмотрю, что можно сделать за короткое время, которое нам остается.
Тут старый рыцарь разразился длинной и утомительной лекцией о том, когда и на какого зверя или птицу охотиться можно, а когда нельзя, не скупясь на всевозможные примеры, наглядные описания, предостережения и назидания, почерпнутые из собственного богатого опыта. Растолковывал он и иерархию дичи: заяц, благородный олень и кабан стоят выше, чем лань, косуля, лиса и куница, как рыцарь-баннерет выше простого рыцаря. А эти, в свою очередь, выше барсука, дикой кошки и выдры — простонародья в мире зверей. Потом он начал говорить о кровавых пятнах: если кровь темная и пенистая, значит, зверь ранен смертельно, а если жидкая и светлая, то стрела ударилась в кость. Искусный охотник должен распознать это с первого взгляда.
— По таким признакам, — сказал он, — ты сразу будешь знать, спускать ли гончих псов и, рассчитав, куда побежит олень, наваливать ли там кучи хвороста, которые замедлят его бег, коли его рана глубока. Но паче всего, Найджел, следи за тем, чтобы верно все называть, не то допустишь за столом промашку, и те, кто лучше знают лес, высмеют тебя, а нам, тем, кому ты дорог, будет за тебя стыдно.
— Нет, сэр Джон, — возразил Найджел, — после ваших наставлений, думается мне, я ни перед кем лицом в грязь не ударю.
Старый рыцарь с сомнением покачал седой головой.
— Премудрость эта велика, и никто не в силах постичь ее всю, — сказал он. — Вот, к примеру, Найджел, когда одни и те же звери собираются вместе на земле, одни и те же птицы в воздухе, у каждой такой стаи есть свое название, чтобы сразу было ясно, какие это звери или птицы.
— Я знаю, благородный сэр.
— Это-то ты знаешь, Найджел, а вот все названия навряд ли, или ты куда осведомленнее, чем мне кажется. Сказать правду, знать их все никто не может, хоть сам я на королевском пиру как-то побился об заклад и перечислил восемьдесят шесть, а говорят, будто начальник охоты герцога Бургундского назвал их больше сотни. Да только сдается мне, что он и присочинил порядком. Кто же бы мог его переспорить? Ну, так отвечай, малый, коли ты увидишь в лесу десять барсуков, это что?
— Кит барсуков, благородный сэр.
— Молодец, Найджел, молодец, клянусь верой! А если в Вулмерском лесу попадется тебе куча лисиц, это что?
— Лисья засада.
— А если не лисиц, а львов?
— Откуда же в Вулмерском лесу львы, благородный сэр?
— Верно-то верно, да только, малый, есть и другие леса, кроме Вулмерского, и другие страны, кроме Англии, а кто может предсказать, куда доберется в поисках подвигов и славы такой молодец, как Найджел из Тилфорда? Предположим, ты побываешь в пустынях Нубии и потом при дворе великого султана захочешь рассказать, как видел там некоторое число львов, а рассказать ты захочешь, ибо лев — царь зверей и самая славная добыча для охотника. Так какие слова ты употребишь?
Найджел поскреб в затылке:
— Думаю, благородный сэр, мне достаточно будет сказать, что я повстречал некоторое число львов, если уж я хоть что-то смогу сказать после столь славной встречи.
— Нет, Найджел, настоящий охотник сообщит, что видел львиный прайд, и тем докажет, насколько хорошо ему ведом язык охоты. Ну, а если это кабаны, а не львы?
— Сингуляр кабанов.
— А если собрались одни свиньи?
— Стадо свиней, как же еще?
— Э, нет, малый! Огорчительно видеть, как мало ты знаешь. Твои руки, Найджел, всегда были сильней твоей головы. Ни один человек благородной крови не скажет «стадо свиней». Это мужицкий язык. Коли ты свиней пасешь, вот тогда это стадо. Но коли ты на них охотишься, то скажешь… Что он скажет, Эдит?
— Не знаю, батюшка, — рассеянно ответила красавица, сжимая в правой руке смятую записку, которую принес ей слуга, и устремив взгляд синих глаз в густые тени под потолком.
— Но ты-то скажешь нам, Мери?
— Милый батюшка, наверное, сказать надо саундер свиней.
— Вот ученица, которая никогда меня не осрамит! — воскликнул старый рыцарь с торжествующим смехом. — Пойдет ли речь о рыцарских законах, или о гербах, или о лесной науке, или о чем угодно, я всегда могу справиться у Мери. Она многих мужчин заставит покраснеть.
— И меня в их числе, — заметил Найджел.
— Нет, малый, по сравнению с многими и многими ты сам Соломон премудрый{41}. Вот послушай! Не далее как на той неделе пустоголовый молокосос лорд Брокс сказал, что видел в лесу стаю фазанов! Да одна такая промашка при дворе погубит молодого сквайра. А ты бы как сказал, Найджел?
— Выводок фазанов, как же еще, благородный сэр?
— Верно, Найджел, выводок фазанов, так же как косяк гусей, клин журавлей, стая уток, метелка бекасов. Но стая фазанов! Это еще что! Я усадил его, Найджел, на то самое место, где сейчас сидишь ты, и дважды увидел дно в кувшине с рейнским вином, прежде чем позволил ему встать. Но толку, боюсь, было мало, так как он все время телячьми глазами смотрел на Эдит, вместо того чтобы слушать ее отца. Но где девочка?
— Куда-то вышла, батюшка.
— Она всегда куда-то уходит, едва ей представится случай научиться чему-то полезному. Но скоро подадут ужин, и, прошу тебя, Найджел, помоги мне справиться с кабаньим окороком, вчера только из леса, и с оленьим боком, присланным мне с королевской охоты. Старший лесничий и его подручные меня еще не забыли, и кладовая моя всегда полна. Мери, протруби-ка в рог три раза, чтобы слуги накрывали на стол. Уже смеркается, а пояс у меня что-то ослабел, значит, пора и подкрепиться.
Глава XII Как Найджел сразился с Шалфордским горбуном
В дни, о которых ты читаешь здесь, в Англии все сословия, исключая, быть может, лишь последних бедняков, объедались мясом и обпивались пивом больше, чем во все последующие времена. Страну покрывали густые леса, в одной Англии их насчитывалось семьдесят, и некоторые тянулись на полграфства. Олени и другая крупная охотничья дичь в них тщательно охранялись, но зайцы, кролики, всякие птицы кишмя кишели в чащах и часто попадали в крестьянские горшки. Эль был очень дешев, а еще дешевле был сыченый мед, который любой человек мог изготовить сам, отыскав в лесу дупло с гнездом диких пчел. Не говоря уж о всяческих даровых напитках из трав, чае из пижмы, чае из просвирника и еще всяких, рецепты изготовления которых давно утрачены.
Столы более богатых отличались неприхотливым обилием — разделенные на огромные куски туши, гигантские пироги, дичь, попавшая в силки, дичь, добытая на охоте, и кувшины с элем и грубыми французскими или рейнскими винами, чтобы все это запивать. Но самые богатые предпочитали изысканные яства, и приготовление их превратилось в настоящую науку, причем не меньшая важность придавалась умению их украсить — они раззолачивались, они серебрились, они раскрашивались и окружались пламенем. Начиная от кабана и павлина до таких непривычных нам деликатесов, как мясо дельфина или жареные ежи, каждое блюдо подавалось по-особому, со своим особым соусом, очень сложным и очень своеобразного вкуса. На такие соусы шли финики, изюм, гвоздика, уксус, сахар и мед, корица, толченый имбирь, сандаловое дерево, шафран, мелко нарубленная свинина и сосновая хвоя.
В обычае нормандцев было есть умеренно, но иметь большой выбор самых лучших и разнообразных кушаний. Они и изобрели гурманскую кухню, не имевшую ничего общего с грубой тевтонской простотой, нередко сочетавшейся с обжорством.
Сэр Джон Баттесторн принадлежал к старой школе, и его огромный дубовый стол ломился под тяжестью внушительных пирогов, гигантских кусков мяса и вместительных кувшинов. Челядь сидела за нижним столом, члены семьи располагались за верхним на возвышении, где всегда оставлялись места для случайных гостей, которые заворачивали в Косфорд с большой проезжей дороги. На этот раз к ужину явился старый священник, направлявшийся из аббатства Чертей в монастырь святого Иоанна в Мидхерсте. Он часто путешествовал по этой дороге и непременно подкреплял силы под радушным кровом Косфорда.
— Добро пожаловать, отец Афанасий! — воскликнул толстый рыцарь. — Садись-ка по правую мою руку и расскажи, что новенького. Ведь, что ни случись, первыми об этом узнают попы.
Священник, добрый, тихий старик, взглянул на пустое место по левую руку хозяина дома.
— А где леди Эдит? — спросил он.
— Да-да, куда она запропастилась? — раздраженно крикнул ее отец. — Мери, ну-ка прикажи протрубить в рог еще раз, пусть знает, что ужин на столе. Маленькой совушке время быть в гнезде!
В кротких глазах священника вспыхнула тревога, и он подергал рыцаря за рукав.
— Я видел леди Эдит совсем недавно, — сказал он. — Но, боюсь, рога она не услышит, потому что теперь она уже, наверное, в Милфорде.
— В Милфорде? Зачем бы ей там быть?
— Прошу тебя, добрый сэр Джон, умерь свой голос! Дело это не для посторонних ушей, ибо касается девичьей чести.
— Ее чести? — Красное лицо сэра Джона стало еще краснее, и он уставился на опечаленное лицо священника. — Ты сказал, чести! Чести моей дочери? Объясни, не то больше ноги твоей в Косфорде не будет!
— Уповаю, что мои слова ничем дурным не обернутся, но я должен сказать о том, что видел, иначе я окажусь плохим другом и недостойным служителем Божьим.
— Так говори же, говори! Что ты видел?
— Ты знаешь низенького горбуна, которого зовут Поль де ла Фосс?
— И очень хорошо. Он благородного рода и носит герб, приходясь младшим братом сэру Юстесу де ла Фоссу, владельцу Шалфорда. Одно время я даже думал, что придется мне называть его сыном, потому что он не отходил от моих дочек, но, видно, кривая спина ему помешала.
— Увы, сэр Джон! Душа у него куда более кривая. Он погубитель женщин, ибо дьявол одарил его таким языком и таким взглядом, что он зачаровывает их подобно василиску{42}. Они чают сочетаться с ним браком, а он о том и не помышляет. И я могу насчитать более десятка погубленных им. Он этим бахвалится повсюду.
— Пусть так, но что за дело до этого мне и моим?
— Когда я, сэр Джон, ехал на своем муле по дороге сюда, мне повстречался этот человек, гнавший коня в сторону своего дома. Рядом с ним скакала женщина, и, хотя лицо ее скрывал капюшон, я услышал ее смех, когда она поравнялась со мной. Смех, который я слышал раньше под этой крышей, смех леди Эдит.
Нож выпал из пальцев рыцаря. Мери и Найджел не пропустили ни единого слова, но грубый хохот и громкие голоса сидевших внизу служили ручательством, что там никто ничего услышать не мог.
— Успокойся, милый батюшка, — сказала Мери. — Добрый отец Афанасий обознался, и Эдит сейчас придет. Последние дни она часто о нем говорила, и всегда с презрением.
— Это правда, сэр, — поспешно добавил Найджел. — Нынче вечером, когда мы ехали с ней по Терслейской пустоши, леди Эдит сказала мне, что ненавидит его и была бы рада, если бы его отхлестали за его дурные дела.
Но умудренный годами священник грустно покачал серебряной головой.
— Когда девица говорит так, это всегда опасно. Жаркая ненависть сестра-близнец жаркой страсти. Зачем бы стала она так говорить, если бы между ними ничего не было?
— Но что толкнуло ее перемениться за три коротких часа? Она все время сидела с нами в этой зале. Клянусь святым Павлом, я этому поверить не могу.
Лицо Мери омрачилось.
— Пока ты, милый батюшка, учил нас, что и как следует называть охотнику, ей, я теперь вспомнила, Ханнекин, конюх, принес какую-то записку. Она прочла ее и вскоре вышла.
Сэр Джон вскочил, но тут же со стоном опустился в кресло.
— Лучше бы мне умереть, — вскричал он, — чем дожить до дня, когда бесчестье грозит покрыть мой дом, а проклятая нога не дает мне ни узнать, правда ли это, ни отомстить! Будь здесь мой сын Оливер! Пошлите позвать этого конюха, я его расспрошу.
— Дозволь мне, досточтимый рыцарь, — сказал Найджел, — на этот вечер заменить тебе сына, чтобы я обрел право повести дело так, как покажется лучше. Клянусь честью, я сделаю все, что в человеческих силах.
— Найджел, благодарю тебя. Во всем христианском мире нет человека, чью помощь я принял бы охотнее.
— Но прежде, благородный сэр, я хотел бы узнать твою волю. У этого Поля де ла Фосса, как я слышал, есть хорошее имение и он принадлежит к хорошему роду. Если случилось то, чего мы опасаемся, причин, почему он не годился бы в мужья твоей дочери, нет?
— Нет. Лучшего мужа ей не найти.
— Хорошо. Сначала я допрошу конюха Ханнекина, только так, чтобы никто не заметил. Болтливым слугам знать про это ни к чему. Если, леди Мери, ты укажешь на него, я позову его оседлать моего коня и расспрошу обо всем.
Найджел отсутствовал довольно долго, а когда вернулся, сидящие за высоким столом не увидели в его хмуром лице ничего утешительного.
— Я запер его на сеновале, чтобы он не распускал языка, — сказал молодой сквайр. — По моим вопросам он, наверное, догадался, куда ветер дует. Записку и правда прислал де ла Фосс, и он привел с собой запасную лошадь.
Старый рыцарь застонал и спрятал лицо в ладонях.
— Нет, батюшка! — шепнула Мери. — Они смотрят на тебя. Ради чести нашего дома не подадим и вида. — Затем звонким голосом, так, чтобы ее услышали за нижним столом, она сказала: — Найджел, если ты едешь в ту сторону, я поеду с тобой, чтобы моей сестре не пришлось возвращаться в одиночестве.
— Так поедем, Мери, — ответил Найджел, вставая, но вполголоса добавил: — Однако ехать нам вдвоем не подобает, а если мы возьмем с собой слугу, все станет известно. Прошу тебя, останься дома и положись на меня.
— Нет, Найджел, ей может понадобиться женская помощь, и кто лучше родной сестры поможет ей? Я возьму с собой мою прислужницу.
— С вами поеду я, если только ваше нетерпение смирится с неторопливой рысью моего мула, — вмешался старый священник.
— Но, отче, это же не твоя дорога.
— У истинного служителя Божьего есть только одна дорога: та, что ведет к благу других. Дети мои, мы поедем вместе.
Вот так толстый сэр Джон Баттесторн, дряхлеющий Рыцарь Дупплин, остался один за своим верхним столом и делал вид, будто ест, делал вид, будто пьет, ерзал в своем кресле и изо всех сил старался выглядеть безмятежным, хотя и тело и душу его снедал лихорадочный жар, а его челядинцы и служанки за нижним столом смеялись, перешучивались, стучали чашами и опустошали блюда, даже не подозревая о черной тени, окутавшей их хозяина, сидящего на возвышении в полном одиночестве.
Тем временем леди Мери на белой кобыле — той самой, на которой под вечер скакала ее сестра, Найджел на боевом коне и священник на муле ехали по немощеной дороге, которая вела в Лондон. По обеим сторонам тянулись вереска и болота, откуда доносились заунывные крики ночных птиц. По небу в разрывах бегущих туч плыл месяц.
Девушка молчала, поглощенная мыслями о том, что им предстояло, об опасностях и позоре. Найджел вполголоса переговаривался со священником и узнал от него еще многое о дурной славе человека, к которому они ехали. Его дом в Шалфорде был приютом порока. Та, что входила туда, покидала его, навеки покрытая стыдом. По странной прихоти судьбы, не такой уж редкой, хотя и необъяснимой, человек этот, как ни черна была его душа и ни искалечено тело, обладал непонятным очарованием, какой-то властью, подчинявшей женщин его воле. Вновь и вновь он губил их, вновь и вновь ловкий язык и хитрый ум избавляли его от расплаты за черные дела. Семья его принадлежала к числу самых знатных в графстве, его родичи были в большой милости у короля, и соседи опасались вступать с ним в открытую вражду. Вот таков был злобный и ненасытный злодей, который, как гнусный крылатый хищник, схватил и унес в свое мерзкое гнездо золотую красавицу Косфорда. Найджел слушал молча, но он поднес к плотно сжатым губам крестообразную рукоятку своего охотничьего кинжала и трижды ее поцеловал.
Вереска остались позади, они проехали деревушку Милфорд и городок Годалминг, а оттуда свернули на юг, и дорога вывела их через болота Пиз на шалфордские луга. Впереди на темном склоне холма мерцали красноватые пятна — освещенные окна дома, куда они направлялись. Окутанная тьмой дубовая аллея вывела их на озаренную месяцем лужайку перед дверью.
Из мрака дверной арки им навстречу выскочили двое дюжих бородатых слуг с дубинами и злобно спросили, кто они такие и чего им здесь надо. Леди Мери уже спрыгнула с лошади и пошла к двери, но они грубо преградили ей путь, а один воскликнул, хрипло расхохотавшись:
— Куда? Куда? Нашему хозяину нынче больше не требуется! Назад, назад, красотка, кто бы ты ни была. Дверь заперта, и наш господин гостей не принимает.
— Эй, ты, — негромко, но твердо сказал Найджел, — посторонись! Мы приехали говорить не с тобой, а с твоим хозяином.
— Может быть, дети мои, — вмешался священник, — будет лучше, если я один войду к нему и посмотрю, не смягчит ли глас Церкви это кремневое сердце? Боюсь, не случится ли кровопролитие, если войдете вы.
— Нет, отче, прошу тебя немного подождать здесь. И ты Мери, останься с добрым отцом Афанасием, ведь мы не знаем, что найдем там внутри.
Он вновь повернулся к двери, и вновь стражи встали перед ним.
— Прочь! — сказал Найджел. — Прочь, если вам дорога жизнь! Клянусь святым Павлом, я не хочу марать свой меч кровью таких, как вы, но я дал клятву, и в эту ночь никто меня не остановит.
Стражи в страхе попятились, таким грозным был этот мягкий голос.
— Погоди-ка, — сказал один, вглядываясь в темноту. — Да, никак, это сквайр Лоринг из Тилфорда?
— Да, это мое имя.
— Так что же ты не назвался? Я бы поперек дороги тебе не встал. Опусти дубину, Уот, это же не чужой кто, а сквайр Лоринг.
— Его счастье, — буркнул второй, опуская свое оружие и мысленно вознося благодарственную молитву. — А то взял бы я на душу кровавый грех. Да только хозяин, когда поставил нас у дверей, про соседей ничего не говорил. Так я сбегаю спрошу его.
Однако Найджел уже прошел между ними и распахнул входную дверь. Но как ни был он быстр, леди Мери нагнала его, и в залу они вступили вместе. Она была очень велика и тонула в черных тенях, если не считать яркого круга света на середине, где два масляных светильника озаряли небольшой стол. Он был уставлен блюдами, но слуг в зале не было, и за ним сидели лишь двое. У ближнего конца спиной к ним — Эдит, чьи распущенные волосы ниспадали на ало-черное платье. Свет ложился на вздернутые плечи и высокомерное лицо хозяина дома напротив нее, — черные густые волосы обрамляли высокий выпуклый лоб мыслителя, серые, глубоко посаженные глаза холодно блестели под кустистыми бровями. Нос у него был изогнутым и острым, точно клюв ястреба, но бритое лицо безнадежно портили вялые обвислые губы и мягкие складки под тяжелым подбородком. Сжимая в одной руке нож, а в другой полуобглоданную кость, он поднял голову и свирепо сверкнул глазами на вошедших, как хищный зверь, потревоженный в берлоге.
Найджел остановился на полдороге между дверью и столом. Его взгляд скрестился со взглядом Поля де ла Фосса. Но Мери, чье сердце переполняли любовь и жалость, бросилась к младшей сестре и обняла ее. Эдит вскочила и, отвернув лицо, попыталась высвободиться.
— Эдит, Эдит! Именем Пречистой заклинаю тебя, вернись с нами домой, оставь этого злодея! — восклицала Мери. — Милая сестра, ты не разобьешь сердце нашего отца, не покроешь его седины позором, не сведешь его в могилу! Вернись домой, Эдит, вернись, и все будет хорошо.
Но Эдит оттолкнула сестру, ее нежные щеки вспыхнули от гнева.
— По какому праву, Мери, ты преследуешь меня, будто я беглый виллан, а ты моя госпожа? Ты же старше меня всего на два года! Возвращайся сама, а мне предоставь поступать так, как я нахожу лучшим.
Однако Мери не разжимала объятий, пытаясь смягчить упрямое и гневное сердце.
— Наша мать умерла, Эдит. И я благодарю Бога, что она не может увидеть тебя под этой крышей! Но я заменяю ее, как было всю нашу жизнь, потому что я старшая. Ее именем заклинаю тебя, не доверяй этому человеку, вернись домой, пока еще не поздно.
Эдит вырвалась из ее рук и с пылающими щеками устремила на сестру вызывающий злобный взгляд.
— А, теперь ты говоришь о нем дурно! — сказала она. — Но было время, когда Поль де ла Фосс приезжал в Косфорд, и кто говорил с ним так нежно и ласково? Кто, как не благоразумная благочестивая сестрица Мери? Но он полюбил другую, а потому теперь он злодей и оставаться под его крышей — позор! Как поглядеть на мою праведную сестру и ее спутника, так скакать ночью рядом с мужчиной это великий грех для всех, кроме нее самой! Загляни прежде в собственный глаз, Мери, а уж потом указывай на соломинку в чужом.
Мери в нерешительности и безумной тревоге смирила гордость и гнев, но не знала, как тронуть эту упрямую и капризную душу.
— Сейчас не время для злых слов, милая сестра, — сказала она наконец, схватив Эдит за рукав. — Все, что ты говоришь, быть может, правда. Да, было время, когда этот человек казался другом нас обеих, и я, подобно тебе, знаю власть, которую он способен приобрести над женским сердцем. Но теперь мне известно, каков он на самом деле, а тебе нет. Мне известно, сколько зла он причинил, сколько бесчестия, сколько на его совести нарушенных клятв, неисполненных обещаний и обманов. Мне известно все это, так неужели же я могу спокойно взирать, как моя сестра попалась в старую ловушку? Она уже захлопнулась, деточка? Я и правда опоздала? Во имя Бога, Эдит, скажи, что нет!
Эдит вырвала рукав из пальцев сестры, сделала два быстрых шага к столу, где Поль де ла Фосс все еще сидел молча, не отводя глаз от Найджела. Эдит положила ладонь на его плечо.
— Вот человек, которого я люблю. Единственный, кого я полюбила. Он мой муж.
Мери радостно вскрикнула.
— Это так? — сказала она. — Ну, тогда честь сохранена, а остальное в руце Божьей. Если вы обвенчаны, то ни я, ни никто другой не имеет права встать между вами. Скажи мне, что это правда, и я тотчас вернусь домой обрадовать нашего отца.
Эдит надула губы, как напроказившая шалунья.
— Мы муж и жена перед Богом. А скоро мы станем ими и перед людьми. Только подождем до понедельника, когда брат Поля, священник, приедет из Сент-Олбанса обвенчать нас. За ним уже послан гонец, и он поспешит приехать, ведь правда, сердце мое?
— Он приедет, — сказал хозяин Шалфорда, все еще не отводя глаз от безмолвного Найджела.
— Это ложь, он не приедет, — донесся голос от двери, голос старого священника, который последовал за Найджелом и Мери, но остался на пороге. — Он не приедет, — повторил старик, входя в залу. — Дочь моя, прислушайся к словам того, кто по годам мог бы быть твоим земным отцом. Эта ложь приносила плоды и раньше. И до тебя с ее помощью он губил доверчивых девиц. У него нет брата в Сент-Олбансе. Я хорошо знаю всех его братьев, и никто из них не священник. Еще до понедельника, когда будет уже поздно, ты узнаешь правду, как узнали ее до тебя другие. Не верь ему, но вернись с нами!
Поль де ла Фосс быстро поднял глаза на Эдит и погладил ее руку.
— Ответь им ты, Эдит!
Ее глаза сверкали презрением, пока она по очереди переводила взгляд с сестры на молодого сквайра и на священника.
— Я могу ответить им всем только одно, — сказала она. — Уезжайте и больше не докучайте нам. Разве я не свободна? Разве я не сказала, что он единственный, кого я любила и люблю? И любила я его уже давно. Но он не догадывался и в отчаянии обратился к другой. Но теперь он знает все, и никогда больше между нами не встанет и тени сомнения. Поэтому я остаюсь в Шалфорде, а в Косфорд вернусь, только опираясь на руку моего супруга. Неужто я так слабодушна, что поверю вашим наговорам? Так ли трудно завистливой ревнивице и бродячему попу вместе придумать ложь? Нет, нет, Мери, уезжай и забери с собой своего кавалера и своего попа, потому что я останусь здесь, блюдя верность моему возлюбленному, зная, что могу довериться его чести.
— Хорошо сказано, моя золотая пташка! — одобрительно произнес маленький хозяин Шалфорда. — Дозволь мне добавить и мое слово. В своих злых речах, любезнейшая леди Мери, ты не нашла во мне ни единой добродетели и все же признай, что терпением я обладаю в избытке, ибо не натравил собак на твоих спутников, хотя они и нарушили мой покой. Но даже для самых добродетельных наступает предел, когда верх берет человеческая слабость, а посему прошу тебя, удались со своим попом и своим доблестным защитником, не то как бы не пришлось вам удалиться в большей спешке и со стыдом. Садись, прекрасная любовь моя, и снова приступим к ужину.
Он указал ей на стул и налил вина в ее кубок, а не только в свой.
Найджел не произнес ни слова с той минуты, как вошел в залу, но его глаза ни на йоту не утратили твердой решимости, а мрачный взгляд оставался прикованным к презрительно-насмешливому лицу горбатого хозяина Шалфорда. Теперь он быстро повернулся к Мери и священнику.
— Довольно, — сказал он тихо. — Вы сделали все, что могли, и теперь мой черед сделать все, что в моих силах. Прошу тебя, Мери, и тебя, отче, подождите меня снаружи.
— Нет, Найджел, если тебе угрожает опасность…
— Мне будет легче, Мери, если ты выйдешь. Прошу тебя. Так мне будет проще разговаривать с этим человеком.
Она взглянула на него с сомнением, но подчинилась. Найджел дернул священника за рукав.
— Отче, при тебе ли твой требник?
— Как же иначе, Найджел? Я всегда храню его у себя на груди.
— Так достань его, отче.
— Для чего, сын мой?
— Заложи его в двух местах: на венчальной службе и на отходной по умирающему. А теперь, отче, пойди к ней, но будь готов сразу вернуться, когда я позову.
Он затворил за ними дверь и остался наедине с парой, столь мало подходящей друг другу. Они обернулись и смотрели на него — Эдит вызывающе, а ее возлюбленный — со злой улыбкой на губах и холодной ненавистью во взгляде.
— Как! — сказал он. — Странствующий рыцарь еще здесь? Мы все слышали, что он жаждет славы, так какой же подвиг чает он совершить, медля под этой крышей?
Найджел подошел к столу.
— Славы тут обрести нельзя, да и подвиг невелик, — ответил он. — Но я приехал сюда ради одного дела и должен его исполнить. Я услышал из твоих собственных уст, Эдит, что ты не расстанешься с ним.
— Если ты не глухой, то услышал.
— Ты свободная женщина, как ты говорила, и кто станет тебе возражать? Но мы с тобой, Эдит, детьми играли среди вереска. И я спасу тебя от хитрости этого человека и твоего собственного неразумия.
— И как же ты это сделаешь?
— За дверью ждет священник. Он обвенчает вас сейчас же. Я не уйду из этой залы, пока вы не будете обвенчаны.
— Или что? — язвительно осведомился Поль де ла Фосс.
— Или ты живым из нее не выйдешь. Нет, не кличь своих слуг или собак! Клянусь святым Павлом, это дело касается только нас троих, а если кто-то четвертый явится на твой зов, ты не успеешь узнать, чем все кончится. Так ответь, Поль, господин Шалфорда, обвенчаешься ли ты с ней сейчас или нет?
Эдит вскочила и, раскинув руки, встала между ними.
— Отойди, Найджел! Он невысок ростом и слабосилен! И ты не поднимешь на него меч. Ты же сам нынче так сказал. Богом заклинаю, Найджел, не смотри на него так! У тебя в глазах смерть!
— Змея может быть маленькой и слабой, Эдит, но любой честный человек раздавит ее каблуком. Отойди! Мое слово твердо.
— Поль! — Она перевела взгляд на бледное, злобное лицо. — Подумай, Поль! Почему бы не исполнить его просьбу? Какая разница, если мы обвенчаемся нынче, а не в понедельник? Молю тебя, милый Поль, ради меня уступи ему! Твой брат, если пожелает того, может повторить обряд. Обвенчаемся сейчас же, милый Поль, и все будет хорошо.
Но он поднялся с кресла и оттолкнул ее молящие руки.
— Глупая девчонка и ты, заступник за девиц в несчастье, такой храбрый против калеки, запомните оба, что в моем слабом теле обитает дух моего славного рода! Обвенчаться, потому что этого пожелал деревенский сквайр, хвастун и грубиян? Нет, клянусь душой, лучше погибнуть! Обвенчаюсь я в понедельник и ни днем раньше. Вот мой ответ тебе!
— Другого я и не хотел бы, — сказал Найджел, — ибо счастливым брак с тобой быть не может. Так будет лучше. Отойди, Эдит! — Он осторожно оттолкнул ее и вынул меч.
Де ла Фосс вскрикнул.
— У меня нет меча. Ты что же, прикончишь меня, как подлый убийца? — сказал он, откидываясь на спинку кресла.
Глаза на его сразу осунувшемся лице горели лихорадочным огнем.
Сверкнуло лезвие. Эдит попятилась, пряча лицо в ладонях.
— Возьми этот меч, — сказал Найджел, протягивая его горбуну рукояткой вперед. — А теперь начнем, — добавил он, вынимая из ножен охотничий кинжал. — Убей меня, Поль де ла Фосс, если сумеешь, потому что, Бог свидетель, иначе я убью тебя.
Эдит в полуобмороке, как зачарованная, следила за этим небывалым поединком. Горбун несколько мгновений стоял в нерешительности, еле удерживая меч в расслабленных пальцах. Но затем, увидев короткое лезвие кинжала, он осознал, как велико его преимущество, и злорадная усмешка придала твердость его дряблым губам. Медленными шагами он приближался к Найджелу, прижимая подбородок к груди, и его глаза, полускрытые за мохнатыми бровями, пылали, точно два костра в лесной чаще. Найджел ждал, выставив левую руку перед собой, а кинжал в правой держал у бедра. Лицо его было сосредоточенным, спокойным и застывшим. Все ближе и ближе крадущимися шагами подходил к нему Поль де ла Фосс и вдруг с воплем ярости и ненависти прыгнул вперед, занося меч. Удар был хорошо рассчитанным и сильным, но против такого гибкого и быстрого противника разумнее было бы сделать его колющим, а не рубящим: Найджел, как молния, скользнул под опускающееся лезвие, которое задело его левую руку ниже локтя, и тут же, схватив рукоятку меча, вырвал его у противника. В следующее мгновение тот уже распростерся на полу, а Найджел приставил кинжал к его горлу.
— Пес! — прошептал молодой сквайр. — Ты в моей власти. Отвечай в последний раз, прежде чем я тебя прикончу: женишься ты на ней или нет? Отвечай быстрее.
Оглушенный падением, чувствуя острие у горла, Поль де ла Фосс утратил присутствие духа. Лицо его побелело, на лбу выступил пот, устремленный вверх взгляд был исполнен ужаса.
— Забери свой нож! — прохрипел он. — Я не хочу умереть, как теленок на бойне.
— Ты женишься на ней?
— Да, да, женюсь! Коли на то пошло, девица она хоть куда. Я мог бы найти жену и похуже. Дай же мне встать. Я ведь сказал, что женюсь. Чего еще тебе надо?
Найджел стоял над ним, наступив ногой на грудь горбуна. Он уже поднял меч и теперь прижал острие к его сердцу.
— Нет, лежи, как лежишь! Раз уж совести вопреки я оставляю тебе жизнь, то венчаться ты будешь так, как того заслуживают твои грехи. Валяйся тут раздавленным червем, каков ты есть! — И он громко позвал: — Отец Афанасий! Э-эй! Отец Афанасий!
Старик вбежал в залу вместе с леди Мери, и они узрели в круге света нежданную картину — испуганная девушка в полуобмороке опиралась о стол, горбун лежал на полу, а Найджел попирал его ногой, держа меч у его груди.
— Открой требник, отче! — воскликнул Найджел. — Не знаю, сотворим мы доброе или злое дело, но их надо обвенчать. Ничего другого не остается.
Но девушка у стола закричала и, с горестными рыданиями обняв сестру за шею, прильнула к ней.
— Мери! Я благодарю Пречистую, что ты здесь. Благодарю ее, что еще не поздно! Что он сказал? Он сказал, что он — де ла Фосс и не станет венчаться под острием меча. И я всем сердцем одобрила его. Но я? Разве я не Баттесторн? Разве могу я позволить людям говорить, что я обвенчалась с человеком, которого тащили к алтарю с ножом у горла? Нет, нет! Теперь я увидела, каков он. Теперь я знаю его низость, лживость его языка! Разве я не прочла по его глазам, что он обманывает меня и, обесчестив, бросит, как, по твоим словам, бросал других? Отвези меня домой, Мери, сестра моя. Ты вырвала меня из самой пасти ада!
Вот так хозяин Шалфорда, вне себя от ярости и злобы, остался допивать свое вино в одиночестве, а золотая косфордская красавица, краснея от стыда и гнева, с лицом, мокрым от слез, благополучно покинула это гнездо порока, и ее окутала тихая благостность звездной ночи.
Глава XIII Как товарищи ехали по старой-старой дороге
Приближалось новолуние, а с ним и исполнение королевского замысла. Приготовления велись в большой тайне. Гарнизон Кале, состоявший из пятисот лучников и двухсот жандармов, предупрежденный загодя, мог отразить любое нападение. Но король не просто хотел его отразить, а и взять в плен нападавших. Больше же всего он желал найти повод для одного из тех рыцарских подвигов, которые прославили его имя по всему христианскому миру, как одного из вождей и украшение европейского рыцарства.
Но дело это требовало большой предусмотрительности и осторожности. Прибытие подкреплений или хотя бы одного знаменитого воина встревожило бы французов и навело на подозрения, что их заговор раскрыт. Поэтому избранные рыцари и их оруженосцы тайком переправлялись во Францию по двое и по трое на маленьких парусниках, доставлявших в Кале провиант. Там они ночью через водяные ворота пробирались в замок, где могли скрытно от горожан дожидаться урочного часа.
Чандос прислал сказать Найджелу, что будет ждать его в Уинчелси в харчевне «Вересковый цветок». И за трое суток до назначенного дня они с Эйлуордом выехали из Тилфорда со всем своим военным снаряжением. Счастливый Найджел весело отправился в путь в охотничьем костюме, а его бесценные доспехи и очень небольшой багаж были навьючены на запасную лошадь, которую Эйлуорд вел на поводу. Сам он ехал на крепкой вороной кобыле, тяжелой и медлительной, но зато хорошо выдерживавшей его немалый вес. В кольчуге и каске, с висящим у пояса прямым мечом, с желтым длинным луком за спиной и колчаном, полным стрел, на алой перевязи, он выглядел так браво, что любой рыцарь с удовольствием взял бы его в свою свиту. Весь Тилфорд провожал их, пока они неторопливо поднимались по длинному вересковому склону холма Круксбери.
На гребне Найджел придержал Бурелета и оглянулся на деревушку внизу. Вон старый темный господский дом: на крыльце виднелась одинокая согбенная старуха, глядящая вслед ему тусклым взором. Вон остроконечная крыша, бревенчатые стены, голубоватый дым, клубящийся над единственной печной трубой, а вон у ворот печально стоят старые слуги — повар Джон, менестрель Уэтеркот и дряхлый ветеран Рыжий Свайр. За рекой над деревьями поднималась квадратная колокольня Уэверли, и в эту самую минуту раздался звон тяжелого колокола, который прежде так часто казался ему угрожающими хриплыми криками врага, хотя, как и теперь, он только созывал монахов и мирян на молитву. Найджел снял бархатный берет и тоже помолился — о том, чтобы в его старом доме царил мир и покой, но чтобы за морем его ждала добрая война, дабы он мог снискать честь и славу. Затем, помахав провожающим, он повернул коня и медленно направил путь на восток. Эйлуорд тотчас простился с компанией лучников и хихикающих девушек, которые держались за его уздечку и стремена, и поспешил за своим господином, посылая через плечо воздушные поцелуи. Вот так два товарища, один благородной крови, другой — самой простой, отправились в долгий путь.
Этот край бывает двух цветов — желтым, когда цветет дрок, и лиловато-красным, когда все склоны пылают вереском. Так было и теперь. Оглядываясь по сторонам узкой тропы, где и справа и слева папоротники и вереск гладили его по ногам, Найджел думал про себя, что нигде ему не доведется увидеть что-нибудь равное красотой его родным местам. На западе, пламенея в утреннем солнечном свете, катились волны вересковых пустошей, сливаясь вдали с темными тенями Вулмерского леса, с бледной зеленью Батсеровских меловых холмов. Ни разу в жизни Найджел еще не выезжал за их пределы, и лес, холмы, вереска были ему бесконечно дороги. Когда он повернулся к ним спиной, его сердце болезненно сжалось. Но если родной край оставался позади, на западе, впереди, на востоке и юге, простирался манящий мир подвигов, величественная сцена, на которой по очереди его предки играли свои благородные роли, оставляя после себя покрытое славой имя.
Как часто его томили мечты об этом дне! И вот он наступил — ясный, неомраченный ни единым облачком. Благородная дама Эрминтруда находится под покровительством короля. Старые слуги могут не опасаться будущего. Враждебность монахов Уэверли поугасла. Боевой конь, лучшие в мире доспехи и добрый молодец, его верный спутник, — чего еще он мог бы пожелать? А главное, он едет искать славы, как оруженосец храбрейшего из рыцарей Англии. Вот какие мысли теснились у него в голове, он весело свистел, пел, а Бурелет выделывал курбеты в лад настроению своего господина. Но, оглянувшись на Эйлуорда, молодой сквайр увидел, что лучник едет нахмуренный, глядя в землю, словно его терзает какое-то горе. Он придержал Бурелета, пока Эйлуорд не поравнялся с ним.
— Что с тобой? — спросил он. — Нынче утром мне и тебе надо бы радоваться, как никому в Англии. Ведь мы едем в чаянии великих деяний. Клянусь святым Павлом! Прежде чем мы вновь увидим эти вересковые холмы, то либо достойно заслужим славу и честь, либо сложим наши головы, добиваясь их.
Эйлуорд пожал широкими плечами, и на его загорелом лице мелькнула смущенная улыбка.
— Да, от меня толку, правда, как от отсыревшей тетивы, — сказал он. — Но такова уж природа мужчины, что он грустит, расставшись с любимой.
— Поистине так! — воскликнул Найджел и вдруг увидел перед собой темные очи Мери Баттесторн, услышал ее негромкий, мелодичный, серьезный голос, который звучал в его ушах, как музыка, в ту ночь, когда они вернули ее легкомысленную сестру под отчий кров, голос, на который отзывалось все лучшее и благороднейшее в его душе. — Однако вспомни, Эйлуорд! Женщина ведь любит в мужчине не его грубую земную оболочку, но его душу, его честь, славу, подвиги, которыми он украсил свою жизнь. Поэтому, отправляясь на войну, ты не только обретаешь славу, но и любовь.
— Оно, может, и так, — ответил лучник, — »о у меня сердце надрывается, когда красотки плачут, так бы и поплакал с ними за компанию. Когда Мери… да нет, Долли… а вернее, Марта, ну, рыженькая с мельницы, когда она уцепилась за мою перевязь, у меня чуть сердце не разорвалось, оттого что надо было высвободиться из ее рук.
— Ты называешь то одно имя, то другое, — сказал Найджел. — Как же все-таки зовут твою возлюбленную?
Эйлуорд сдвинул каску на затылок и смущенно запустил пятерню в жесткие волосы.
— Зовут ее Мери Долли Марта Сьюзен Джейн Сесили Теодозия Агнес Джоанна Катерина.
Выслушав это внушительное имя, Найджел расхохотался.
— Видно, не стоило мне брать тебя с собой! Клянусь святым Павлом, ведь по моей вине овдовела чуть ли не половина прихода. Но я видел твоего старого отца. Подумай о радости, которая наполнит его сердце, когда он узнает, что ты во Франции отличился и покрыл себя славой.
— Боюсь, слава не поможет ему уплатить долг уэверлийскому ключарю, — сказал Эйлуорд. — И придется ему скитаться по дорогам, и никакая слава тут не поможет, если к Крещению он не соберет десять ноблей. А вот если я захвачу пленника, за которого получу выкуп, или буду участвовать во взятии города, вот тогда старик будет мной гордиться. «Твой меч должен пособить моей лопате, Сэмкин», — сказал он, целуя меня на прощание. Поистине для него будет счастливый день, коли я вернусь с седельной сумкой, набитой монетами. Ну, авось по милости Господней мне доведется запустить руку в чей-нибудь карман, прежде чем я вернусь в Круксбери!
Найджел покачал головой, лишний раз убедившись, что не стоит и стараться перебросить между ними мост.
Тем временем они успели проделать по тропе немалый путь — впереди показался невысокий холм святой Екатерины, и они увидели часовню на его вершине. Здесь тропа выходила на лондонскую дорогу, и у перекрестка их ждали два всадника, приветственно поднявшие руки: высокая стройная брюнетка на белой кобыле и толстый краснолицый старик на дюжем сером мерине, чья спина, казалось, прогибалась под тяжестью хозяина.
— Э-эй, Найджел! — крикнул толстяк. — Мери сказала мне, что ты уезжаешь нынче утром, и мы уже добрый час ждем, авось ты проедешь мимо. Ну-ка, малый, хлебни напоследок доброго английского эля. Пить тебе теперь придется французскую кислятину, и ты стоскуешься по доброй его терпкости, по белой пене у себя под носом.
Найджел, однако, отказался — ему пришлось бы сделать крюк в две мили, — но с радостью согласился с Мери, что им следует подняться на холм и напоследок помолиться вместе. Рыцарь с Эйлуордом остались ждать внизу, держа лошадей. Вот так Найджел с Мери оказались наедине под величественными готическими сводами перед темной нишей, в которой поблескивал золотом ковчег для мощей. Молча они преклонили колена в молитве, а затем вновь вышли из угрюмого сумрака на яркое солнце летнего утра. Остановившись, они поглядели направо и налево, на сочные луга и голубую ленту Уэя, вьющуюся по долине.
— О чем ты молился, Найджел? — спросила девушка.
— Я молил Бога и его святых укрепить мой дух, дать мне вернуться из Франции со славой, дабы я мог прийти к тебе и попросить твоей руки.
— Подумай хорошенько, Найджел, о чем ты говоришь, — ответила она. — Что для меня ты, ведомо только моему сердцу, но лучше мне больше никогда тебя не видеть, чем помешать тебе хоть на дюйм не достичь той вершины славы и чести, к которой ты стремишься.
— Моя прекрасная возлюбленная, как ты можешь помешать мне, если мысль о тебе будет придавать силу моей руке и вливать мужество в мое сердце?
— Подумай еще, мой прекрасный возлюбленный, и не считай себя связанным теми словами, которые ты произнес. Пусть они будут как ветерок, который приласкал наши лица и унесся дальше. Твоя душа жаждет чести. К ней устремлялась она всегда. Так осталось ли в ней место для любви? Разве возможно, чтобы обе они равно царили в одном сердце? Вспомни, что в старину Галахед и другие преславные рыцари отворачивались от женщин, дабы всю душу, все помыслы отдать служению чести? Вдруг я окажусь помехой тебе, вдруг твое сердце дрогнет перед великим подвигом из страха причинить мне горе? Хорошенько подумай, мой прекрасный возлюбленный, прежде чем ответить. Ибо мое сердце разобьется, если из-за любви ко мне не сбудутся твои надежды и ты не совершишь всего, что мог бы.
Найджел смотрел на нее сияющими глазами. Душа, озарившая ее смуглое лицо, придала ему красоту, несравненно более благородную и редкостную, чем красота ее кокетливой сестры. Он склонился перед ее женским величием и прижал губы к ее руке.
— Ты, как звезда, которая указывает мне путь к вершинам, — сказал он, — Наши души отданы служению чести, и как мы можем стать помехой друг другу, если цель у нас одна?
Она покачала гордой головой:
— Так тебе кажется теперь, мой прекрасный возлюбленный, но годы способны изменить все. Как можешь ты доказать, что я и правда помогаю тебе, а не мешаю?
— Я докажу это делом, моя прекрасная возлюбленная, — ответил Найджел. — Здесь, у святилища святой Екатерины, нынче, в день святой Маргариты, я клянусь, что совершу в твою честь три подвига, как залог моей великой любви, и только тогда вновь предстану перед тобой. Три эти подвига будут доказательством, что любовь моя к тебе, как она ни велика, не была мне помехой на пути к обретению славы.
Любовь и гордость освещали ее лицо, когда она сказала:
— Я тоже принесу обет и поклянусь святой Екатериной, возле святилища которой стою. Клянусь, что буду ждать тебя, пока ты не совершишь эти три подвига и мы не встретимся вновь, но если — Боже оборони! — совершая их, ты падешь, я уйду в шалфордский монастырь и ни разу больше не посмотрю в лицо мужчины. Дай мне руку, Найджел.
Она сняла золотой филигранный браслет и надела на его загорелое запястье, читая ему вслух выгравированный по браслету девиз на старофранцузском языке: «Fais се que dois, adviegne que pourra — c'est commandé au chevalier»[14].
Затем они на мгновение обнялись, и влюбленный юноша и любящая девушка скрепили поцелуем свою помолвку. Однако старый рыцарь нетерпеливо окликал их снизу, и рука об руку они спустились по вьющейся тропе туда, где под песчаным обрывом ждали лошади.
До самого шалфордского брода сэр Джон трусил рядом с Найджелом, наставляя его напоследок в премудростях охоты от великой тревоги, что он возьмет да спутает годовика с двухлеткой, либо назовет того или другого олененком, о чем и помыслить страшно. Наконец у заросшего камышом спуска к Уэю старый рыцарь и его дочь остановили своих лошадей. На опушке темного Чантрийского леса Найджел снова оглянулся: они все еще провожали его взглядом и махали ему вслед. Дальше тропа углубилась в чащу, и деревья заслонили их. Однако долгое время спустя, когда они выехали на просеку и вновь вдали открылись шалфордские луга, он увидел, что серый мерин и его всадник медленно приближаются к холму святой Екатерины, но Мери все там же у брода наклоняется в седле, напряженно всматриваясь в густой лес, который скрыл от ее взгляда того, кому она отдала сердце. Картина открылась ему в просвете листвы лишь на мгновение, но в чужих краях среди трудов и опасностей именно они — зеленый луг, камыши, река, медленно катящая голубые воды, и грациозная фигура, наклонившаяся над шеей белой лошади, словно устремляясь за ним, — именно они стали для него заветнейшим образом любимой и далекой Англии.
Но если друзья Найджела узнали, что в путь он отправляется в это утро, не дремали и его враги. Когда они с Эйлуордом выехали из леса и начали по вьющейся тропе подниматься к старой часовне святого Мученика, под брюхом Бурелета со змеиным шипением пронеслась длинная белая стрела и, дрожа, впилась в дерн. Вторая просвистела у самого уха Найджела, когда он хотел повернуть назад, но тут Эйлуорд хлестнул боевого коня по крупу, Бурелет рванулся вперед галопом и успел промчаться несколько сот ярдов, прежде чем всадник сумел с ним совладать. Эйлуорд, припав к шее своей лошади, гнал ее во всю мочь, а вокруг них свистели белые стрелы.
— Клянусь святым Павлом! — вскричал Найджел, натягивая поводья, весь белый от гнева. — Я не побегу от них, будто испуганная лань! Лучник, как ты посмел ударить моего коня и помешать мне проучить их?
— И хорошо, что посмел! — ответил Эйлуорд. — Не то, клянусь моими десятью пальцами, наш путь окончился бы в тот же день, когда начался. Их же в кустах укрылось не меньше десятка. Видишь, как их каски блестят на солнце вон там, среди папоротника, под большим буком? Если не хочешь думать о себе, так пожалей хоть коня — ведь со стрелой в брюхе он все равно до леса не доскачет.
Найджела снедала бессильная ярость.
— И я позволю, чтобы в меня, точно в чучело попугая на ярмарке, стрелял любой разбойник, который ищет мишени для своих стрел? — вскричал он. — Клянусь святым Павлом, Эйлуорд, я надену доспехи и узнаю, кто они. Помоги мне снять их с кобылы!
— Нет, мой благородный господин, помогать тебе искать смерти я не стану. Всаднику на открытом месте меряться силами с десятком лучников в кустах, это ведь то же, что сесть играть против мошенника с фальшивыми костями! Да и не разбойники они, не то бы не посмели натягивать луки под самым носом у гилфордского шерифа!
— Пожалуй, ты прав, Эйлуорд, — молвил Найджел. — Верно, это люди Поля де ла Фосса, у которого нет причин любить меня. А-а! Да вон же он сам!
Они остановились спиной к длинному склону, увенчанному часовней. Перед ними тянулась зубчатая темная опушка, где в тени деревьев блеск железа выдавал присутствие затаившихся врагов. Но тут пропел рог, между деревьев замелькали бурые куртки — лучники бежали, развертываясь неровной цепью, быстро приближаясь к двум товарищам. Их громко подбадривал горбун на могучем сером коне, словно натравливая псов на барсука. Он махал руками, вертел головой и пронзительными вскриками подгонял своих подручных.
— Заманим их подальше, мой благородный господин! Заманим на холм! — радостно воскликнул Эйлуорд. — Еще пятьсот шагов, и мы будем с ними на равных. Нет, не медли, но постарайся держаться все время чуть дальше полета стрелы, пока не настанет наш черед!
Найджел весь дрожал от нетерпения, держа руку на рукоятке меча и глядя на поспешающих за ним врагов. Но тут он вспомнил, как Чандос сказал, что холодный рассудок важнее для воина, чем горячее сердце. Совет Эйлуорда был верным и мудрым. Он повернул Бурелета, и под насмешливые выкрики за спиной оба товарища начали рысью подниматься на холм. Лучники припустили бегом, а их господин вопил и махал руками еще безумнее, чем раньше. Эйлуорд то и дело оглядывался через плечо.
— Еще немножко! Еще чуть-чуть! — бормотал он, — Ветер дует в их сторону, и дураки не сообразили, что мои стрелы полетят на пятьдесят шагов дальше. А теперь, мой благородный господин, подержи лошадей, ведь мое оружие сейчас стоит больше твоего. И прежде чем они опять спрячутся в лесу, многие пожалеют, что высунули оттуда нос.
Он спрыгнул на землю, нажал рукой вниз, коленом вверх и накинул тетиву на верхнюю зарубку тугого боевого лука. Затем молниеносным движением наложил стрелу. Сдвинув брови над сверкающими голубыми глазами, расставив крепкие ноги, левой рукой неподвижно сжимая лук, а правой, на которой двойным клубком вздувались мышцы, оттягивая белую, отлично навощенную тетиву, он выглядел таким грозным и яростным бойцом, что их преследователи невольно остановились. Двое-трое пустили в него стрелы, но встречный ветер замедлил их полет, и они скользнули по жесткой траве за десятки шагов до своей цели. И только один стрелок, низенький, кривоногий, чье коренастое тело говорило о редкостной силе, быстро кинулся вперед и так сильно натянул лук, что его стрела впилась в землю у самых ног Эйлуорда.
— Это Черный Уилл из Линчмира, — сказал Эйлуорд. — Много раз я состязался с ним и знаю, что никто другой в Суррее не смог бы послать стрелу так далеко. Уповаю, что ты нынче исповедался и причастился, Уилл! Ради старого нашего знакомства не хотелось бы мне отправить твою душу прямехонько в ад!
Тем временем он прицелился, и тетива громко зазвенела. Опираясь на лук, Эйлуорд зорко следил за быстрым полетом своей подгоняемой ветром стрелы.
— Попал! Попал! А, перелет! — крикнул он с досадой. — Ветер-то сильней, чем я думал. Ну ничего, дружище, теперь, когда я к тебе примерился, ответить ты не успеешь!
Черный Уилл уже наложил стрелу и поднимал лук, когда вторая стрела Эйлуорда пронзила насквозь его правое плечо. С воплем, в котором мешались злость и боль, он уронил лук и, приплясывая от ярости, грозил кулаком своему сопернику и осыпал его проклятиями.
— Я мог бы прицелиться в сердце, но не стал, потому что хорошие лучники редки, — сказал Эйлуорд. — А теперь, добрый сквайр, надо поторопиться, потому что они задумали нас окружить, и уж тогда мы и правда тут останемся. Но прежде я пошлю стрелу вон в того всадника, который их науськивает.
— Нет, Эйлуорд, прошу, опусти лук, — велел Найджел. — Хоть он и злодей, но благородного рода, и ему не подобает погибнуть от твоего оружия.
— Как прикажешь, — ответил Эйлуорд, мрачнея. — Только вот люди говорят, что в недавних войнах не счесть, скольким французским принцам да баронам гордость не помешала принять смерть от стрел английских йоменов, а английские рыцари рады были стоять в сторонке и смотреть, сложа руки.
Найджел грустно кивнул головой:
— Ты говоришь правду, лучник, да и прежде так бывало. Доблестный рыцарь Ричард Львиное Сердце погиб таким подлым образом, как и король саксов Гарольд при Гастингсе. Но это не война, а ссора, и я не хочу, чтобы ты натянул против него свой лук. И сам я не могу схватиться с ним, хоть он и опасен духом, но телом слаб. А потому поскачем дальше, ведь здесь нам не найти ни чести, ни славы, ни выгоды.
Эйлуорд тем временем снял тетиву с лука и вскочил на лошадь. Они быстро проехали мимо низенькой квадратной часовни, а на гребне оглянулись. Раненый стрелок лежал на земле, вокруг толпились его товарищи, некоторые продолжали бесцельно карабкаться на холм, но остались уже далеко позади. Их господин продолжал неподвижно сидеть в седле, но, заметив, что они оглянулись, взмахнул рукой и осыпал их визгливыми проклятиями. Мгновение спустя его заслонил гребень. Вот так, провожаемый любовью и ненавистью, Найджел простился с родным краем.
Теперь два товарища ехали по старой-старой дороге, которая пересекает юг Англии, но так и не поворачивает к Лондону, потому что он еще был жалкой деревушкой, когда по ней уже давно ходили и ездили. От Винчестера, столицы саксов, до Кентербери, святого кентского города, а оттуда до Узкого пролива, где в ясные дни с обрыва виден дальний берег Франции, — по этой дороге, насколько удается проследить в истории, несли слитки металлов с запада, а навстречу трусили вьючные лошади, везя то, что присылала Галлия в обмен на эти металлы. Старше христианской веры, старше римлян была эта древняя дорога. На север и на юг лежат леса и болота, а потому четкий ее след можно найти только на сухом дерне меловых холмов. Ее до сих пор называют Путем Паломников, хотя паломники были последними, кому она служила, ибо насчитывала уже не одно тысячелетие, когда после убийства Томаса Бекета в Кентербери устремились благочестивые люди.
С холма Уэстонского леса открывался вид на длинную белую полосу, которая ныряла вниз, огибала склоны и убегала вдаль по зеленой волнистой равнине, где даже в лощинах путь ее можно было проследить по старым вязам, посаженным вдоль нее. Ни Найджел, ни Эйлуорд прежде не уезжали далеко от дома, и теперь они с легким сердцем и жадным любопытством рассматривали разнообразные картины природы, а также всех встречных. Слева простирался холмистый край вереска и лесов, кое-где расчищенные вольными хлебопашцами под поля. Хэкхерст-Даун, Данлт-Хилл и Рэнмор-Коммон вздымались и уходили вниз, смыкаясь друг с другом. Но справа, когда они миновали деревушку Шир и старинную церковь в Гомшелле, у их ног, точно карта, распростерлась вся южная сторона. Огромный Уилдский лес, дубрава без единой просеки, простирался до гряды Норт-Даун, которая на фоне синего неба казалась оливково-зеленой. Под этим нескончаемым балдахином густой листвы обитали странные люди и творились злые дела. В глубинах его жили дикие племена, сохранившие обычаи предков-язычников, плясавшие перед алтарями Тора, и мирный путник благодарил Господа, что идет по дороге через открытый меловой край и ему не нужно сворачивать на коварную тропу, где его подстерегала липкая глина, непроходимые чащи и опасные люди.
Но не только холмистая местность слева и необъятный лес справа тешили зрение — сама дорога была нескончаемым зрелищем. Ее никак нельзя было назвать пустынной. Насколько хватал глаз, на узкой белой ленте чернели пятнышки — иногда одинокое, иногда несколько рядом, а иногда и множество их — то ли паломники, для безопасности собравшиеся большой компанией, то ли вельможа, доказывающий свою знатность числом воинов и челядинцев в его свите. В ту эпоху главные дороги кишели толпами путников, потому что по стране бродило много бездомных людей. Перед глазами Найджела и Эйлуорда лился бесконечный их поток, но похожи они были лишь в одном: всех их от волос до башмаков густо припудрило серой меловой пылью.
Монахи путешествовали из одной обители в другую — бенедиктинцы в черных мантиях, подобранных снизу так, что видна была нижняя белая ряса, картезианцы в белом и двуцветные цистерианцы. И странствующие монахи трех нищенствующих орденов — доминиканцы в черном, кармелиты в белом, францисканцы в сером. Монахи, проживавшие в монастырях, и нищенствующие монахи очень и очень недолюбливали друг друга, как соперников, перехватывающих пожертвования благочестивых мирян. И на дороге они расходились, как кошка с собакой, — скашивая глаза и сердито насупившись.
Кроме служителей церкви, пользовались дорогой и служители бога торговли — купец в пропыленном суконном плаще и фламандской шляпе ехал впереди вереницы вьючных лошадей, нагруженных то ли корнуоллским оловом, то ли шерстью западного края или сассекским железом, если торговал он в восточной части страны; если же путь его вел на запад, то во вьюках были генуэзский бархат, венецианское стекло, французские вина или доспехи из Италии и Испании. Паломники же попадались на каждом шагу, чаще всего бедняки. Они устало брели, волоча ноги, склонив головы, опираясь на толстые посохи, перекинув через плечо узелки с едой и пожитками. Изредка на иноходце, покрытом пышным чепраком, или в конных носилках, что считалось великой роскошью, проезжала знатная дама из какого-нибудь западного графства, совершая свое необременительное паломничество к святилищу святого Томаса.
На запад и на восток двигался всякий пестрый сброд: менестрели, спешившие с одной ярмарки на другую, назойливые и вороватые жонглеры и акробаты, самозваные лекари и зубодеры, школяры и нищие, свободные рабочие в поисках платы повыше и беглые кабальные, готовые трудиться за любую плату. Вот какие путешественники поднимали от Винчестера до Узкого пролива клубы белесой пыли над дорогой.
Найджелу, разумеется, интереснее были солдаты. Несколько раз они обгоняли компании лучников или жандармов, ветеранов французских войн, возвращавшихся домой. Все они были под хмельком, потому что в многочисленных придорожных харчевнях и на постоялых дворах прохожие угощали их пивом. Они орали забористые песни и выкрикивали вслед Эйлуорду крепкие шутки, а тот, повернувшись в седле, во весь голос выражал свое мнение о них, пока они не оставались далеко позади.
Под вечер они нагнали пеший отряд из ста лучников, во главе которого ехали два рыцаря. Они шли из Гилфордского замка в Райгетский замок, где им предстояло нести гарнизонную службу. Некоторое время Найджел трусил рядом с рыцарями и не скупился на намеки, что тот из них, кто ищет славы, или не прочь сразиться в поединке, или дал тот или иной обет, мог бы тотчас обрести средство для исполнения своего желания. Но оба они были пожилыми, серьезными людьми, занятыми своим делом и не склонными к придорожным приключениям, а потому Найджел пустил Бурелета рысью и расстался с ними.
За Боксхиллом и Хедли-Хитом, когда впереди уже замаячили башни Райгета, они нагнали бодрого краснолицего толстяка с расчесанной надвое бородой, который трусил на сильной лошади и обменивался кивком или добрым словом со всеми встречными. В его обществе они доехали почти до самого Блетчингли, и Найджел неудержимо смеялся его рассказам, однако под шутками и прибаутками пряталась истинная мудрость. Их спутник объяснил, что разъезжает по стране для своего удовольствия, — денег у него достаточно, чтобы не знать нужды и находить в пути стол и ночлег. Он говорит на всех трех английских наречиях — северном, среднем и южном, а потому в каждом графстве обретает друзей, и люди поверяют ему свои беды и радости. Повсюду, сказал он им, и в городах и в деревнях, зреет недовольство. Бедняки устали от гнета своих господ, будь то Церковь или светские владыки, и скоро в Англии начнутся дела, доселе невиданные.
Особенно горячо этот человек обличал Церковь, ее огромные богатства (ведь ей принадлежит почти треть земли в стране), ее ненасытную алчность и то, как, загребая все больше, она объявляет себя нищей и смиренной. Его язык бичевал монахов всех орденов — их плутовство, их лень и хитрость. Он говорил, что их богатства, как и богатства любого надменного лорда, равно добыты руками бедного смиренного Петра Пахаря, который усердно трудится в полях под дождем и на холоде, терпит насмешки и презрение всех и каждого и тем не менее держит на своих усталых плечах весь мир. Вот какие мысли он изложил в прекрасной аллегории. Не хотят ли они послушать? И он начал нараспев читать ее, пальцем отбивая ритм стихов, а Найджел и Эйлуорд наклонялись к нему справа и слева и слушали с одинаковым вниманием, но с очень разными чувствами. Найджел был поражен и смущен столь резкими нападками на духовную и светскую власть, а лучник посмеивался, радуясь такому искусному выражению помыслов и чаяний своего сословия. Но вот незнакомец остановил коня перед «Пятью Ангелами» в Гаттоне.
— Харчевня хорошая, и эль в ней добрый. Я не раз его пробовал, — сказал он. — «Видение о Петре Пахаре», которое вы сейчас слушали, завершил я таким стихом:
Вот книжицу свою довел я до конца. Помилуй Бог того, кто мне нальет винца. Так войдемте же и утолим жажду!— Нет, — ответил Найджел. — Нам предстоит далекий путь и мешкать нельзя. Но назови свое имя, друг мой, ибо мы весело скоротали время, слушая твои речи.
— Поберегись! — ответил незнакомец, покачивая головой. — Тебе и всему твоему сословию придется невесело, когда речи эти обернутся делом, Петр Пахарь устанет гнуть спину в поле и возьмется за лук и дубину, дабы навести порядок в стране.
— Клянусь святым Павлом! Думается, мы сумеем образумить и Петра, и тех, кто учит его таким скверностям, — сказал Найджел. — А поэтому прошу тебя снова, назови свое имя, чтобы оно мне припомнилось, когда я услышу, что тебя повесили.
Незнакомец добродушно засмеялся.
— Можешь называть меня Томасом Безземельным, — ответствовал он. — Но я был бы Томасом Безмозглым, коли бы назвал свое подлинное имя. Ведь наберется немало разбойников и в черных рясах и в железных доспехах, кто с радостью поможет мне вознестись к небу способом, про который ты упомянул. Так прощай, сквайр, и ты, лучник, тоже, да вернетесь вы домой с целыми костями!
Переночевали два товарища в годстонской обители, а на рассвете уже вновь ехали по Пути Паломников. В Титси их предупредили, что в Уэстеремском лесу бесчинствует разбойничья шайка, убившая накануне трех путешественников, и Найджел уже предвкушал славную схватку. Однако разбойники на них не покусились, хотя они нарочно сделали крюк и ехали вдоль самой опушки. Но дальше они наткнулись на следы злодеев: там, где дорога огибала холм, в яме, откуда выламывали мел, они увидели мертвеца. Сломанные члены, искалеченное тело не оставляли сомнений, что его сбросили туда с обрыва, а вывернутая сумка на поясе указывала на причину убийства. Товарищи проехали мимо с некоторой поспешностью, ибо мертвецы были на королевских дорогах не такой уж редкостью, а застань их возле трупа шериф или начальник стражи, они могли бы угодить в сети закона.
Не доезжая Севенокса, они свернули с древней Кентерберийской дороги и направились прямо на юг к морю. Скоро меловые земли остались позади, сменившись глинами Уилда. Тропа, проторенная вьючными мулами, вся в рытвинах и ухабах, вилась среди густых лесов, лишь изредка выводя на расчистки, где ютились крохотные кентские деревушки и крестьяне в рубахах и полотняных штанах-чулках смотрели на путников дерзко и алчно. Один раз вдалеке справа замаячили башни Пенхерста, а потом до них донесся перезвон колоколов бейхемского аббатства, но за этими исключениями они до конца дня видели только угрюмых крестьян, их жалкие лачуги да бесчисленные стада свиней, кормившихся желудями. В отличие от кентской дороги, тропа эта была безлюдна, и они лишь изредка встречали либо нагоняли торговца или гонца, направлявшихся в аббатство Битвы, замок Певенси или южные города.
Эту ночь они провели в миле к югу от деревушки Мейфилд на убогом постоялом дворе, кишмя кишевшем блохами и крысами. Эйлуорд энергично чесался и с жаром сыпал проклятиями. Найджел лежал молча и неподвижно. Тот, кто с молоком матери впитал старинные рыцарские законы, не замечал никаких житейских неудобств. Снизойти до них — значило бы унизить высокое достоинство его души. Холод и зной, голод и жажда и все прочие такие же невзгоды не существовали для человека благородной крови. Его душу облекала столь непробиваемая броня, что она хранила его не только от великих зол жизни, но и от мелких досад. Вот почему Найджел лежал, с мрачным упорством не позволяя себе ни единого движения, а Эйлуорд ерзал и извивался на своем ложе.
Теперь до их цели было рукой подать, но едва они на следующее утро углубились в лес, как произошло нечто, внушившее Найджелу самые радужные надежды.
Из-за могучих дубов показался смуглый черноволосый верховой в алом табаре с высоко поднятой серебряной трубой, в которую он дул с такой силой, что ее они услышали задолго до того, как встретились с ним. Ехал он медленно и через каждые пятьдесят шагов придерживал коня, дабы еще раз огласить лес воинственным пением трубы. Товарищи остановились перед ним.
— Прошу тебя, объясни, — сказал Найджел, — кто ты такой и почему трубишь в эту трубу?
Тот покачал головой, и Найджел повторил свой вопрос на французском — в ту эпоху языке рыцарства, известном в Западной Европе каждому человеку благородной крови. Всадник в табаре вновь протрубил и лишь тогда ответил:
— Я Гастон де Кастри, смиренный оруженосец прославленного и доблестного рыцаря Рауля де Тубье де Пестель де Гримсар де Мерсак де Леон де Бастанак, также именующего себя лордом Понсом. По его приказанию я еду в миле впереди него, дабы все были готовы к встрече с ним, и он повелел мне трубить в трубу не из бахвальства, но из величия духа, дабы всяк, кто пожелал бы вступить с ним в поединок, знал бы о его приближении.
С радостным криком Найджел спрыгнул на землю и принялся расстегивать дублет.
— Быстрее, Эйлуорд, быстрее! — твердил он. — Он сейчас будет тут! Странствующий рыцарь! Какой случай славно снискать себе славу! Сними доспехи, пока я разденусь. Достойный герольд, прошу тебя, предупреди своего благородного и доблестного господина, что смиренный английский сквайр молит снизойти до него и скрестить с ним копье на этой дороге.
Но лорд Понс уже выезжал из-за деревьев — широкоплечий великан на могучем коне. Вместе они совершенно заполнили высокую темную арку, образованную переплетенными ветвями столетних дубов. Он был с ног до головы облачен в кованые доспехи, отливавшие бронзой. Только его лицо было открыто, но толком разглядеть удавалось лишь надменные глаза да черную бороду, ниспадавшую по бармице. На гребне шлема покачивалась привязанная к нему маленькая коричневая перчатка. Рука его держала длинное копье с красным значком, который нес изображение черной кабаньей головы. Тот же герб был выгравирован на его щите. Он медленно ехал через лес, тяжеловесный, грозный, и лязг доспехов сливался с глухими ударами копыт его скакуна по твердой глине, а впереди звенела в отдалении серебряная труба, призывая всех встречных подивиться его величию и очистить дорогу перед ним, если они не хотят, чтобы он очистил ее от них.
Даже в самых сладких сновидениях Найджелу ничего подобного не грезилось, и, спешно разоблачаясь, он, поглядывая на это дивное видение, возносил благодарственную молитву доброму апостолу Павлу, который оказал столь великую милость своему недостойному слуге, направив его навстречу столь великолепному и безупречному рыцарю.
Но, увы! Сколь часто злокозненная судьба вырывает из нашей руки уже поднесенную к губам чашу! Несравненный случай покрыть себя славой внезапно обернулся нелепой катастрофой, настолько смехотворной и непоправимой, что до конца дней своих Найджел багрово краснел при воспоминании о ней. Он с лихорадочной быстротой сбрасывал охотничий костюм — сапоги, шляпу, чулки, дублет, плащ — и остался уже в нижней розовой тунике и шелковых исподних, как вдруг герольд-оруженосец дунул в серебряную трубу над самым ухом запасной лошади, с которой Эйлуорд приготовился снимать доспехи, чтобы подавать их, часть за частью, своему господину. Оглушенное животное вырвалось и галопом помчалось назад по тропе, унося на спине доспехи.
Эйлуорд вспрыгнул на свою кобылу, пришпорил ее и во всю мочь понесся следом за беглянкой. Вот так за единый миг Найджел лишился своего скромного достоинства, двух лошадей, слуги, доспехов и превратился в одинокого невооруженного юнца, который в тунике и исподнем стоял на тропе, по которой на него медленно надвигалась могучая фигура лорда Понса.
Странствующий рыцарь, чьи мысли были заняты прекрасной девицей, с которой он расстался в Сен-Жане (именно ее перчатка болталась на его шлеме), не заметил разыгравшейся трагедии. А потому теперь увидел только привязанного к дубу великолепного золотистого коня и невысокого мальчишку, видимо сумасшедшего, раз уж он вздумал раздеваться в глухом лесу и теперь стоял в одном исподнем среди второпях сброшенной одежды и смотрел на него с жадной настойчивостью. Разумеется, знатный лорд Понс не мог снизойти до лишнего взгляда на такое чучело и продолжал свой грозный путь, устремив надменный взор вдаль и размышляя о девице, оставшейся в Сен-Жане. Он смутно сознавал, что раздевшийся умалишенный еще долго бежал возле его стремени, прося, умоляя, убеждая.
— Только час, благороднейший сэр! Всего лишь час, и смиренный английский сквайр навеки останется твоим должником! Соблаговоли, молю, остановить коня, пока я вновь не обрету свою броню! Разве ты не снизойдешь показать мне свое искусство? Прошу тебя, благородный сэр, удели мне немного своего времени и один-два удара, прежде чем ты продолжишь путь.
Лорд Понс нетерпеливо дернул рукой в железной рукавице, словно отмахиваясь от назойливой мухи, а когда Найджел воззвал к нему уже совершенно отчаянно, пришпорил своего боевого коня и, гремя, как кимвалы, скрылся за дубами. А потом продолжил свой величавый путь, пока два дня спустя не был сражен лордом Реджинальдом Кобхемом на поле под Уэйбриджем.
Когда Эйлуорд после долгой погони поймал запасную лошадь и привел ее назад, он увидел, что его господин сидит на стволе упавшего дерева, закрыв лицо руками, вне себя от горя и унижения. Сказано ничего не было — что тут можно было сказать? И в угрюмом молчаний они поехали дальше.
Но вскоре перед ними открылось зрелище, заставившее Найджела забыть о горьком разочаровании. Впереди поднялись башни величественного монастыря, возле которого на косогоре тянулась серая деревенька. Узнав от проходящего виллана, что перед ними аббатство Битвы, они, натянув поводья, остановились на невысоком гребне над долиной смерти, из которой, казалось, и теперь еще тянуло теплым запахом крови. Вон там рядом с этим зловещим озером, среди вон того редкого кустарника на голом склоне длинной гряды весь долгий день продолжалась исступленная битва между двумя достойными противниками, наградой же победителю должна была стать Англия. Вон там час за часом ряды наступающих накатывались на тот невысокий холм и снова откатывались, пока вся армия саксов не погибла, где стояла, — и король, и все его придворные, и каждый дружинник, и каждый ополченец пали там, где сражались. Но теперь, после всех смут и трудов, разгула тирании, яростного восстания и свирепого его подавления, воля Господня исполнилась, ибо нормандец Найджел и сакс Эйлуорд, верные товарищи, делящие одни мысли и чувства, ехали, чтобы под одним знаменем и во имя одного дела сражаться за свою общую родину — Англию.
Долгий их путь приближался к концу. Впереди простиралось синее море, усеянное белыми пятнышками парусов. Вновь дорога пошла вверх, поднимаясь с лесной равнины на меловые холмы, поросшие жесткой короткой травой. Вдали справа виднелась угрюмая крепость Певенси, квадратная, неприступная, точно высеченная из одной огромной глыбы. За зубчатым парапетом блестели каски, а вверху развевалось королевское знамя Англии. Перед ними теперь лежало широкое, заросшее камышами болото, над которым поднимался единственный лесистый холм, увенчанный башнями, а к югу на некотором расстоянии от него над зеленой равниной щетинились корабельные мачты.
Найджел поглядел туда, приставив ладонь козырьком ко лбу, а затем пустил Бурелета рысью. Это был город Уинчелси, и там, в этом скоплении домов на вершине холма, его ждал доблестный Чандос.
Глава XIV Как найджел гнался за Рыжим Хорьком
Товарищи проехали брод, по вьющейся дороге поднялись на холм и, убедив стражу, что они те, за кого выдают себя, проехали под мрачной аркой пайпуэлских ворот. За ней посреди главной улицы, щуря единственный глаз от солнечных лучей, игравших на его лимонной бородке, широко расставив ноги и заложив руки за спину, стоял сам Чандос, а на его насмешливом горбоносом лице играла приветственная улыбка. Мальчишки, сбившись стайкой у него за спиной, благоговейно взирали на знаменитого воина.
— Добро пожаловать, Найджел! — сказал он. — И ты тоже, лучник. Я прогуливался по городской стене, взглянул на Удиморскую дорогу, увидел золотого коня и решил, что это, конечно, ты. Так какие же подвиги совершил юный странствующий оруженосец на своем пути из Тилфорда? Охранял мосты? Спасал похищенных девиц или нес смерть злодеям?
— Нет, благородный сэр, я ничего не совершил. Хотя мне и блеснула надежда… — Найджел густо покраснел при этом воспоминании.
— Ну, я тебе обещаю кое-что получше надежды, Найджел. Отправлю тебя туда, где ты можешь погрузить обе руки по локоть в опасности и славу, где ночью гибель будет спать с тобой в обнимку и первой приветствовать тебя поутру, где самый воздух насквозь ею пропахнет. Готов ли ты к этому, юный герой?
— Могу только вознести молитву, благородный сэр, чтобы крепость духа не оставила меня.
Чандос одобрительно улыбнулся и положил худую загорелую руку на голову юноши.
— Молодец! — сказал он. — Больнее кусает собака, которая помалкивает. Хвастун всегда норовит показать спину первым. Погоди уходить, Найджел, прогуляйся со мной по стенам. Лучник, пойдешь с лошадьми в «Вересковый цветок» дальше по этой улице и скажешь моим конюхам, чтобы они еще до темноты отвели их на борт «Томаса». Мы отплываем через два часа после заката, Найджел. Поднимемся на угловую башню, и я покажу тебе такое, чего ты никогда не видел.
Увидел Найджел всего лишь смутное облако над водой, далеко-далеко за мысом Данджнесс, но щеки его тотчас запылали, а к сердцу прилила жаркая кровь. Ведь это был берег Франции, страны рыцарства и чести, арена, на которой можно было завоевать себе имя и славу! Он вглядывался в нее горящими глазами и с ликованием думал, что уже совсем скоро ступит на ее священную землю. Затем взгляд его скользнул по голубому проливу в пятнышках рыбачьих лодок и остановился на двойной гавани внизу, переполненной всевозможными судами и лодками: маленькие парусники, которые плавали у берегов, большие нефы, коги и галеры, которые служили и для войны и для торговли, это уж как приходилось. В эту минуту из гавани под рев труб и грохот литавр выходила величественная галера; над широким лиловым парусом реял флаг святого Георгия, а палуба от носа до кормы сверкала железом. Найджел даже ахнул от восторга.
— Да, малый, — сказал Чандос, — это «Троица», та самая, на которой я сражался при Слейсе. В тот день ее палуба была вся залита кровью. Но, прошу тебя, посмотри на город и скажи: не замечаешь ли ты чего-нибудь странного?
Найджел посмотрел вниз на приятную прямую улицу, на Круглую башню, на прекрасную церковь святого Томаса и другие красивые здания Уинчелси.
— Тут же все новое, — сказал он. — И храм, и замок, и дома — они все новые.
— Верно, милый сын. В дни моего детства тут на холме жили одни кролики, а город стоял вон там у моря. Потом как-то ночью поднялись такие волны, что ни единого дома не уцелело. Видишь, Рай в той стороне тоже ютится на холме — два города, точно две овцы, спасающиеся от наводнения. А под синей водой за Чэмбер-Сэнд покоится истинный Уинчелси — замок, собор, городские стены и все остальное, что своими глазами видел мой дед, когда только-только короновался первый Эдуард.
Больше часа Чандос расхаживал по парапету, объясняя своему оруженосцу его обязанности и тайны военного искусства, а Найджел бережно запоминал каждое слово своего прославленного учителя. Много раз потом в часы тягот и опасностей он черпал силы в воспоминании об этой медленной прогулке взад и вперед между синим морем с одной стороны и прекрасным городом с другой, когда умудренный опытом воин и бесстрашный рыцарь поучал его и наставлял, как мастер — усердного подмастерья.
— Быть может, милый сын, — сказал Чандос, — ты подобен многим другим молодым петушкам, которые, собираясь на войну, уже столько обо всем знают, что поучать их — простой перевод времени?
— Нет, мой благородный господин, я знаю только, что постараюсь выполнить свой долг и либо обрету честь и славу, либо достойно паду на поле брани.
— Твоя скромность мудра, — заметил Чандос. — Ведь те, кто хорошо знают войну, еще лучше знают, как много им еще неизвестно. Как есть свои тайны у рек и у лесов, так есть они и у войны, и благодаря им выигрываются или проигрываются сражения. Ведь все народы храбры, а когда храбрец встречается с храбрецом, победа останется за тем, кто осмотрителен и искушен в тонкостях войны. Лучшая гончая собьется со следа, если ее спустят со сворки не вовремя, и лучший сокол промахнется, если с него будут долго снимать путы. Точно так же самое храброе войско ничего не сумеет, если им плохо командуют. Во всем христианском мире не найти рыцарей и жандармов лучше, чем во Франции, и все же мы взяли над ними верх, потому что, воюя с шотландцами и еще в разных странах, глубже постигли те тайны войны, про которые я говорил.
— Но в чем заключается наша мудрость, милорд? — спросил Найджел. — Мне бы тоже хотелось узнать тайны войны и в сражении отличаться умом не меньше, чем мечом.
Чандос с улыбкой покачал головой.
— Пускать сокола и гончую ты учишься на холмах и в лесу, — сказал он. — А тайны войны постигаются в походах и на полях сражений. Только там каждый великий полководец проникает в них. Для этого он должен обладать холодным умом, быстротой мысли и быть мягким, как воск, пока его план не созреет, а уж тогда становиться тверже железа. Ему всегда надо быть начеку, и в то же время осмотрительным, но уметь переменить осмотрительность на безрассудство, если оно сулит большую выгоду малой ценой. А также он должен уметь угадать особенности местности по течению рек и ручьев, по пологости холмов, по густоте лесов или яркой зелени трясин.
Это перечисление ошеломило беднягу Найджела, который полагал проложить себе дорогу к славе только с помощью копья да Бурелета.
— Увы! — вскричал он. — Как мне постигнуть все это? Ведь даже читать и писать я научился с грехом пополам, хотя достойный отец Метью что ни день ломал ореховый прут о мои плечи!
— Постигнешь ты все это, милый сын, так же и там же, где все остальные до тебя. Ведь тебе дано самое главное — пылающее сердце, которое способно заронить искру в другие более холодные сердца. Но тебе следует узнать и то, чему нас научила война еще в старину. Мы, например, знаем, что конница одна не может надеяться на победу над хорошей пехотой. Разве не было это доказано при Куртре, при Стерлинге и снова на моих глазах при Креси, когда цвет французского рыцарства был скошен нашими лучниками?
Найджел уставился на него, недоуменно хмуря лоб.
— Благородный сэр, чем дольше я вас слушаю, тем тяжелее у меня на душе. Значит ли это, что и наши собственные рыцари уступят при встрече с лучниками, алебардщиками и прочими?
— Нет, Найджел! Прошлые битвы столь же ясно показали, что самые лучшие пешие воины без поддержки своих рыцарей не выдерживают натиска всадников в броне.
— Так кому же достается победа? — спросил Найджел.
— Тому, кто сумеет так расположить свою конницу и свою пехоту, чтобы они делали друг друга сильнее. Порознь они слабы, вместе сильны. Лучники расстраивают ряды врага, конники прорывают их, когда они расстроены, как было при Фолкерке и Дупплине, — вот тайна нашей силы. Да, кстати, Фолкерк стоит того, чтобы ты узнал про него поподробнее.
Он принялся хлыстом набрасывать в пыли план этого сражения, а Найджел, сосредоточенно хмурясь, напрягал свой не такой уж большой запас ума, чтобы извлечь побольше пользы, но тут их беседа была внезапно и весьма странно прервана.
Вдоль парапета к ним, полиловев и с трудом отдуваясь, поспешал низенький толстяк, словно борясь с ветром: седые волосы растрепались, черный плащ колыхался у него за спиной. Одет он был в костюм богатого горожанина — черный кафтан, отороченный соболем, черная бархатная шляпа с белым пером. При виде Чандоса он испустил радостный крик и припустил еще быстрее, а остановившись перед ним, только пыхтел и беспомощно взмахивал руками.
— Не торопись, почтенный мастер Уинтерсол, не торопись, — мягко сказал Чандос.
— Бумаги! — прохрипел толстячок. — Милорд Чандос, бумаги!
— Что с бумагами, любезный?
— Клянусь нашим милостивым покровителем святым Леонардом, я ни в чем не виноват! Я запер их в железном сундучке. Но замок взломали, а сундучок опустошили.
На проницательное лицо рыцаря легла тень.
— Как так, почтенный мэр? Соберись с мыслями, перестань лепетать, как трехлетнее дитя! Ты сказал, что кто-то украл бумаги?
— Да-да, благородный сэр! Трижды был я мэром Уинчелси, пятнадцать лет член магистрата и ни единой ошибки не допускал. Да вот только в прошлом месяце пришло повеление из Виндзора во вторник, чтоб для пира в пятницу доставить тысячу штук трески, четыре тысячи штук камбалы, две тысячи макрелей, пятьсот крабов, тысячу омаров, пять тысяч мерлангов…
— У меня нет сомнений, почтенный мэр, что ты превосходный рыбник, но мы ведь говорим о бумагах, которые я отдал тебе на хранение. Где они?
— Пропали, благородный сэр! Украдены.
— И кто посмел их украсть?
— Увы! Сие мне неизвестно. Я оставил комнату не долее чем на время, за которое можно прочесть «Богородицу», а когда вернулся, сундучок лежал на столе выпотрошенный.
— И ты никого не подозреваешь?
— Вот разве что конюха. Он поступил ко мне на службу неделю назад. А теперь куда-то пропал, и я послал погоню по Удиморской дороге и в Рай разыскать его. Клянусь святым Леонардом, они его схватят! Такие волосы и на полет стрелы видны.
— Рыжие? — быстро осведомился Чандос. — Огненные, как у лисы? А сам он маленький, рябой и очень быстрый?
— Точь-в-точь.
Чандос сердито погрозил кому-то кулаком и быстро спустился по лестнице.
— Опять Пьер Рыжий Хорек! — сказал он. — Я его знавал еще во Франции, где он один причинил нам больше вреда, чем целый отряд жандармов! По-английски говорит не хуже, чем по-французски, а дерзость и хитрость его таковы, что от него нет никаких тайн. Во всей Франции не сыскать человека опаснее. Хоть он из знатного рода с гербом, но стал лазутчиком: больше опасностей, а значит, и чести.
— Милорд! — пропыхтел мэр, еле успевая за широко шагающим рыцарем. — Я знаю, ты меня предупреждал, чтобы я берег эти бумаги как зеницу ока, но что в них такого секретного? Просто распоряжения, какие припасы послать следом за вами в Кале…
— И этого мало? — нетерпеливо перебил Чандос — Или ты не понимаешь, любезнейший глупец Уинтерсол, что французы прослышали о наших приготовлениях и послали Рыжего Хорька, как уже много раз его посылали, разведать, куда это мы собрались? Теперь он знает, что припасы отправляются в Кале, и французы в тамошнем краю будут предупреждены, а план короля потерпит неудачу.
— А! Так он будет удирать морем? Ну, его можно нагнать. Еще и часа не прошло.
— Судно могло ждать его в Рае или в Хите, но вероятнее, он отправится прямо отсюда. Вон поглядите! Бьюсь об заклад, на палубе там Рыжий Хорек собственной персоной!
Чандос остановился перед «Вересковым цветком» и указал на внешнюю гавань в двух милях от них за зеленой равниной, соединенную каналом с внутренней гаванью у подножья холма, на котором стоял город. Там между рогами двух коротких изогнутых волноломов небольшой парусник пританцовывал на волнах под крепким южным бризом, направляясь в пролив.
— Он не из Уинчелси! — заявил мэр. — Наши покороче и поуже.
— Лошадей! — крикнул Чандос. — Ну-ка, Найджел, разберемся в этом деле получше.
У ворот «Верескового цветка» пели, орали, дружески боролись конюхи, лучники и жандармы, но одного вида высокой худой фигуры Чандоса было достаточно, чтобы они мгновенно занялись своими обязанностями; несколько минут спустя Чандос с Найджелом уже направили коней к крутому спуску с холма и во весь карьер понеслись через поросшую осокой равнину к внешней гавани. Там стоял десяток судов, готовых отплыть в Бордо или в Ла-Рошель, и пристань кишела матросами, грузчиками и горожанами, сновавшими среди винных бочонков и тюков шерсти.
— Кто тут начальник? — крикнул Чандос, спрыгивая с коня.
— Бэддинг! Где Кок Бэддинг? Бэддинг начальник! — ответил хор голосов.
Мгновение спустя сквозь толпу протолкался плотный смуглый человек с бычьей шеей и грудью колесом. Одет он был в бурую рубаху из грубой шерсти и такие же штаны. Черные курчавые волосы стягивал атласный платок. Рукава он закатал по плечи, и его загорелые вымазанные в жире и дегте руки походили на два толстых корявых сука на дубовом пне. Суровое смуглое лицо, рассеченное от виска до подбородка белесым бугристым шрамом от плохо зажившей раны, угрюмо хмурилось.
— Э-эй, благородные господа, и что вам не терпится? — сердито пробурчал он глубоким басом. — Или вы не видите, что мы выводим «Розу Гиени» на глубину перед отливом? Нашли время допекать нас! Ваше добро будет погружено в свой час, это я вам обещаю. Поезжайте назад в город и забавляйтесь там как сможете, а меня и моих товарищей оставьте заниматься своим делом.
— Так это же благородный Чандос! — крикнул кто-то. — Это добрый сэр Джон!
Разгневанный начальник порта мгновенно расплылся в улыбке:
— Промашка вышла, сэр Джон! Вы уж простите меня за грубую речь, да только нам в портах житья нет от знатных молокососов! Отрывают нас от дела и еще винят, отчего это мы не меняем отлив на прилив или южный ветер на северный. Так чем я могу вам услужить?
— Вон тот парусник, — сказал Чандос, указывая на прыгающий вдали по волнам белый треугольник. — Откуда он и куда направляется?
Кок Бэддинг приставил крепкую ладонь к зорким глазам.
— Так он только-только отчалил, — сказал он. — «Ла Пусель» привез вино из Гасконии, а назад везет бочарную клепку.
— Скажи, а перед самым отплытием на него никто не сел?
— Не могу сказать. Я никого не видел.
— А я видел! — крикнул моряк из толпы. — Стою я на краю пристани и чуть в воду не полетел, так он меня оттолкнул. Рыжий такой, щуплый и дышал, будто от города всю дорогу бегом бежал. Я ему и тумака толком не отвесил, как он прыгнул на борт, а они сразу отдали концы и повернули в море.
Чандос коротко объяснил Бэддингу суть дела, а толпа с жадностью ловила каждое слово.
— Э-гей! — завопил кто-то. — Сэр Джон верно говорит. Видите, куда его нос смотрит? В Пикардию он идет, а не в Гасконь, клепка там или не клепка.
— Ну, так мы его изловим! — крикнул Кок Бэддинг. — Пошли, ребята! Моя «Мари-Роз» уже готова отчалить. Кому охота немножко поплавать и подраться?
Вся толпа ринулась к сходням. Но дюжий моряк не собирался брать всех и каждого.
— Нет, Джерри! Сердце у тебя храброе, да только разжирел ты для такой работы. Эй, Люк, и ты, Томас, братья Дидсы и Уильям из Сэндгета, вы будете управляться с парусами. А теперь те, кто хорошо дерется. Поплывешь с нами, благородный сэр, хоть ты росточком и не вышел?
— Молю тебя, милорд, отпусти меня с ними! — вскричал Найджел.
— Отправляйся, Найджел. А твоего коня и доспехи я вечером доставлю в Кале.
— Жди меня там, мой благородный господин. И с божьей помощью я привезу туда Рыжего Хорька.
— На борт! На борт! Время не ждет! — нетерпеливо кричал Бэддинг, а его матросы уже ставили парус. — А ты еще кто такой?
Обращался он к Эйлуорду, который проталкивался по сходням следом за Найджелом.
— Куда мой господин, туда и я! — крикнул Эйлуорд. — Посторонись, шкипер, а то как бы тебе не пожалеть!
— Клянусь святым Леонардом, лучник, — буркнул Кок Бэддинг, — будь у меня время, я бы тебя проучил. А теперь попяться, не загораживай дорогу другим!
— Нет, уж лучше ты мне дороги не загораживай! — воскликнул Эйлуорд, обхватил Бэддинга поперек живота и бросил в воду.
Толпа угрожающе взревела, потому что Бэддинг был героем Пяти Портов и ни разу еще не встречал соперника, равного себе. По сей день сохранилась эпитафия, указывающая, что он «утихомиривался, лишь подравшись всласть». И потому, когда он как утка вынырнул, ухватился за канат и вскарабкался по нему на пристань, все благоговейно замерли, чтобы в подробностях увидеть, какая ужасная судьба постигнет дерзкого чужака. Но Бэддинг, вытряхивая соленую воду из волос и протирая глаза, оглушительно захохотал.
— Ты честно заработал свое место, лучник, — сказал он. — Тебя-то нам и надо. А где Черный Саймон из Норича?
Вперед вышел смуглый молодой человек с худощавым суровым лицом.
— Вот я, Кок, — сказал он. — Спасибо, что берешь меня.
— Еще ты, Хью Бэдлсмир, и ты, Хэл Мастерс, и ты, Дикон из Рая. И хватит. А теперь, во имя Божье, отчаливаем, не то нам их до темноты не нагнать.
Большой парус и передние паруса были поставлены, и десятки ретивых рук принялись шестами отталкивать «Мари-Роз» от пристани. Паруса наполнились ветром, и, накренившись, вся содрогаясь от нетерпения, словно гончая, рвущаяся со сворки, она пронеслась через выход из гавани в пролив. «Мари-Роз» из Уинчелси была знаменитым корабликом, и много раз ее дерзкий владелец, полуторговец-полупират Кок Бэддинг, приводил ее в порт с богатым грузом, взятым где-то в Ла-Манше и оплаченным не деньгами, а кровью. Хоть была она невелика, но ее быстрота и свирепость владельца превратили ее в пугало всего французского побережья. Да и купцы из Фландрии или балтийских портов, входя в Па-де-Кале, боязливо вглядывались в отдаленный берег Кента, не появится ли на фоне меловых обрывов зловещий лиловый парус с золотым изображением святого Христофора. Теперь, когда суша осталась позади, «Мари-Роз» неслась под всеми парусами, разрезая высоким острым носом пенные волны.
Кок Бэддинг с небрежным видом прохаживался по палубе и поглядывал то на надутые паруса у себя над головой, то на наклонный белый треугольник, четко выделявшийся на фоне ясного синего неба. Позади виднелись кэмберские болота, холмы Уинчелси и Рая и цепь береговых обрывов за ними. Слева вздымались огромные меловые утесы Фолкстона и Дувра, а вдали на горизонте серой дымкой маячил французский берег, куда устремлялись беглецы.
— Клянусь святым Павлом! — воскликнул Найджел, жадно всматриваясь в даль над пляшущими волнами. — Сдается мне, мастер Бэддинг, что мы их нагоняем!
Шкипер оценил расстояние опытным взглядом, а потом перевел глаза на клонящееся к западу солнце.
— У нас до темноты есть еще четыре часа, — сказал он. — Но коли мы их за этот срок не захватим, они ускользнут. Ночи теперь черней волчьей пасти, и гнаться за ними, не видя, куда они поворачивают, никому не по силам.
— Но разве ты не можешь догадаться, в какой порт они направляются, и перехватить их там?
— Неплохо придумано, маленький сквайр! — воскликнул Бэддинг. — Коли они везут вести французам под Кале, то ближе всего к Сент-Омеру будет Амблетез. Но моя девочка бежит в полтора раза быстрее этой лохани, и, если ветер не переменится, мы управимся задолго до сумерек. Э-эй, лучник! В море-то ты меня бросил, чтобы с нами пойти, а теперь и сам не рад?
Эйлуорд сидел на привязанном к палубе перевернутом ялике, зажимал в ладонях позеленевшее лицо и жалобно постанывал.
— Я бы хоть сейчас опять скинул тебя в море, шкипер, — ответил он, — лишь бы убраться с твоей чертовой посудины на берег. А может, хочешь поквитаться? Так я только спасибо тебе скажу, коли ты мне пособишь перевалить за борт, потому что я тут лишний груз. Кто бы мне сказал, что Сэмкин Эйлуорд от часа на соленой воде всех сил лишится? Будь проклят тот день, когда я покинул красные вереска Круксбери и твердую землю!
Кок Бэддинг зычно захохотал.
— Ничего, лучник, не кручинься, — сказал он. — На этой палубе охали люди почище тебя и меня. Как-то довелось мне везти во Францию самого принца и десять лучших его рыцарей, ну в жизни я не видывал одиннадцать таких зеленых лиц! А ведь и месяца не прошло, как под Креси к ним все силы вернулись. То же и с тобой будет, когда настанет время. Уткнись-ка крепкой своей головой в настил, и скоро тебе полегчает. А мы их нагоняем! С каждым порывом ветра.
И действительно, даже неопытный глаз Найджела замечал, что «Мари-Роз» настигает тяжелое тупоносое судно с широкой кормой, которое тяжело взбиралось на волны. Быстрый хищный маленький кораблик из Уинчелси летел за ним под шипение пены, точно сокол, настигающий жирную утку, которая еле взмахивает крыльями. Еще полчаса назад «Ла Пусель» была лишь белым пятнышком на горизонте. Теперь они уже ясно различали черную корму, нижний край ее парусов и планширь. На палубе было не менее десяти человек, и блеск оружия доказывал, что сдаваться они не намерены.
Кок Бэддинг прикинул, какие силы есть в его распоряжении. Во-первых, семь дюжих проверенных в деле моряков, которые побывали с ним во многих переделках. Вооружены они были короткими мечами, а он полагался на свое особо любимое оружие — двадцатифунтовый кузнечный молот. (В Пяти Портах все еще живет память о «бэддингской колотушке».) Далее пылкий Найджел, приунывший Эйлуорд, Черный Саймон, мастер рубиться на мечах, и три лучника — Бэдлсмир, Мастерс и Дикон из Рая, все трое ветераны французских войн. Если они и уступали французам численностью, то ненамного, но Бэддинг, обводя взглядом смелые суровые лица людей, ожидавших его распоряжений, не сомневался, что в любом случае преимущество на его стороне.
Однако, поглядев вокруг, он обнаружил помеху, по его мнению куда более серьезную, чем сопротивление врагов. Ветер, который последние минуты дул прерывисто и все более слабел, вдруг совсем стих, и паруса разом обвисли. До горизонта протянулась полоса штиля, и пляска волн сменилась пологой, словно маслянистой зыбью, равномерно покачивающей оба суденышка.
При каждом соскальзывании вниз и подъеме гик «Мари-Роз» погромыхивал и скрипел, а узкий высокий нос то задирался в небо, то опускался, исторгая новые стоны у злополучного Эйлуорда. Тщетно Кок Бэддинг ловил парусами каждый легкий ветерок, порой морщивший гладкую поверхность зыби, — французский шкипер тоже был опытным моряком, и его гик тоже поворачивался при каждом движении воздуха.
Но затем воздух обрел полную неподвижность, и безоблачное небо гляделось теперь в зеркальное море. Солнце уже почти касалось горизонта, за мысом Дандженесс, по западному небосклону разливался пожар заката, превращавший и небо и море в одно багряное сияние. Зыбь накатывалась в пролив из океана валами расплавленного золота. На величественном фоне мирной красоты вечной природы две темные скорлупки с белым и лиловым парусами, качающиеся на необъятном лоне вод, выглядели крохотными, но были вместилищем неуемных и буйных страстей человеческих.
Шкипер по опыту знал, что до сумерек ветер не поднимется. Он поглядел на француза всего в какой-то четверти мили по носу и корявым кулаком погрозил головам, торчавшим над кормой. В ответ чья-то рука насмешливо помахала ему белым платком, и Кок Бэддинг злобно выругался.
— Клянусь святым Леонардом Уинчелсийским! — крикнул он. — Я еще притрусь своим бортом к вашему! Спускайте ялик, ребята! Двое на весла. Уилл, привяжи конец к мачте покрепче! Прыгай в ялик, Хью! Я сяду с тобой. Если поднатужимся, то доберемся до них засветло.
Ялик был быстро спущен на воду, второй конец каната надежно привязан к его корме, Кок Бэддинг и его товарищи навалились на весла, и маленькое судно медленно поползло вперед по зыби. Но минуту спустя с борта француза на воду плюхнулась лодка побольше и на весла село четыре матроса. Если «Мари-Роз» продвигалась на ярд, француз продвигался на два ярда. Вновь Кок Бэддинг в ярости потряс кулаками и влез обратно на палубу, весь мокрый от пота и черный от злости.
— Будь они прокляты! Верх за ними остался! — кричал он, — Я больше ничего не могу. Не видать сэру Джону своих бумаг. Ночь близка, а я не знаю, как до них добраться.
Все это время Найджел, прислонясь к борту, внимательно следил за моряками, моля по очереди святого Павла, святого Георгия и святого Томаса о крепком порыве ветра, который позволил бы им догнать врага. Он молчал, но его горячее сердце пылало, а дух воспарял над неприятностями, чинимыми морем, и он был настолько поглощен мыслями об успешном выполнении данного ему поручения, что не обращал внимания на качку, уложившую Эйлуорда на палубу. Он не сомневался, что Кок Бэддинг так или иначе добьется своей цели. Когда же он услышал вырвавшийся у шкипера вопль отчаяния, то одним прыжком очутился перед ним, горя отвагой.
— Клянусь святым Павлом! — вскричал он. — Почтенный шкипер, если мы отступим сейчас, нам от стыда больше никогда не поднять головы! Совершим на воде в эту ночь хоть малое славное дело, и пусть нам больше не видеть суши! Ведь это поистине редкий случай снискать честь и славу.
— Прошу прощения, маленький сквайр, но говоришь ты, как дурак, — возразил неучтивый мореход. — Ты и все твое племя, чуть попадете на синюю воду, так становитесь хуже малых ребят. Или ты не видишь, что ветра нет никакого, а тянут они свою лохань побыстрее нас? Так чего же ты хочешь?
Найджел указал на ялик, привязанный за кормой.
— Поплывем на этой лодке, — сказал он, — и захватим их корабль или погибнем со славой.
Его горячие гордые слова нашли отклик в грубых, но храбрых сердцах матросов и лучников, которые ответили ему дружным криком, и даже Эйлуорд сел прямо с бледной улыбкой на измученном лице.
Но Кок Бэддинг покачал головой.
— Мне еще не встречался человек, который повел бы туда, куда я бы устрашился пойти за ним, — сказал он. — Но, клянусь святым Леонардом, это чистое безумие, и надо быть дураком, чтобы зря потерять и своих людей и свой корабль. Ялик, маленький сквайр, от силы поднимет пять человек и уже будет черпать воду. А там их четырнадцать, не меньше, и смотреть, сложа руки, как ты лезешь к ним на борт, они не станут. И как же ты думаешь взять над ними верх? Ялик утопят, и тебя вместе с ним. Губить моих людей по глупости я не дам, мое слово твердо.
— Тогда, почтенный Бэддинг, одолжи мне свой ялик. Клянусь святым Павлом, так просто бумаги доброго лорда Чандоса они не получат! Я один поплыву.
Шкипер только улыбнулся. Но улыбка исчезла с его губ, когда Найджел с лицом неподвижным, точно вырезанным из слоновой кости, со стальной решимостью в глазах начал подтягивать ялик к кормовому подзору. Было ясно, что он сделает то, что сказал. Эйлуорд тяжело поднялся с палубы, на секунду привалился к фальшборту и, пошатываясь, побрел на корму за своим господином.
— Есть один, кто поплывет с тобой, — сказал он. — А то как он покажется на глаза тилфордским девушкам? Эй, лучники, пусть соленые селедки маринуются в своей кадушке, а мы попытаем удачу на воде.
Трое лучников тотчас присоединились к своему товарищу. Загорелые, бородатые, они, как и большинство англичан в те времена, были низкорослыми, но крепкими, закаленными и искусными в обращении со своим оружием. Каждый извлек тетиву из непромокаемого футляра, согнул крутой дугой огромный боевой лук и надел ее на зарубки. Потом затянул понадежнее пояс с мечом.
— Сквайр, мы с тобой, — сказали они.
Но Кок Бэддинг уже поддался боевому азарту и отбросил все страхи и сомнения. Смотреть на схватку и не участвовать в ней было свыше его сил.
— Ладно, будь по-твоему! — крикнул он. — И да поможет нам святой Леонард, ибо другого такого безрассудства я не запомню. Но почему не попробовать? Только дай уж мне распоряжаться, маленький сквайр. Ведь в лодках ты понимаешь не больше, чем я в боевых конях. Ялик поднимет пятерых и ни одного больше. Так кого возьмем?
Но все уже загорелись боевым огнем, и никто не хотел уступить другому место в хрупкой лодчонке. Бэддинг поднял с палубы свой молот.
— Я сам поплыву, — сказал он. — И ты, маленький сквайр, раз уж твоя горячая голова замыслила такое. Потом Черный Саймон, лучший меч во всех Пяти Портах. Двух лучников посадим на весла, и, может, они подстрелят с воды парочку-другую французов. Хью Бэдлсмир и ты, Дикон из Рая, прыгайте в лодку!
— Как? — крикнул Эйлуорд. — А я, значит, останусь? Я — собственный лучник сквайра? Плохо придется тому, кто встанет у меня на дороге!
— Нет, Эйлуорд, — сказал Найджел, — я приказываю тебе остаться. Ты совсем обессилел.
— Теперь, когда волны поутихли, все прошло. Прошу тебя, мой благородный господин, не оставляй меня здесь.
— Не отнимай места у того, от кого проку больше, — сурово буркнул Бэддинг. — Ты же грести не умеешь. Довольно глупостей, и посторонись, ведь уже смеркается.
Эйлуорд внимательно посмотрел на французское судно.
— Френемский пруд я переплывал десять раз подряд, — сказал он. — А уж туда-то запросто доплыву. Клянусь моими десятью пальцами, Сэмкин Эйлуорд еще вас обгонит!
Ялик отошел от борта «Мари-Роз» и медленно поплыл к французскому судну, то поднимаясь, то опускаясь на зыби. Кок Бэддинг и лучник гребли, каждый одним веслом, второй лучник сидел на носу, а Черный Саймон и Найджел притулились на корме, где вода плескалась и шипела у самых их локтей. С «Ла Пусели» донеслись вызывающие крики. Французы выстроились у борта, грозя кулаками и размахивая оружием. Солнце уже опускалось за Дандженесс, и вечерние тени затянули небо и воду одинаковой серой дымкой. Все окутывала глубокая тишина, нарушаемая только плеском весел и чмоканьем воды о борта ялика. Оставшиеся на «Мари-Роз» в молчании неотрывно следили за тем, как их товарищи приближаются к своей цели.
Теперь они уже могли хорошо разглядеть французов, среди которых выделялся смуглый великан с длинной черной бородой и топором на плече. Они насчитали еще десятерых хорошо вооруженных, видимо, опытных бойцов, а трое были совсем юные, почти мальчики.
— Пустить стрелу? — спросил Хью Бэдлсмир. — Наши луки бьют и дальше.
— Стрелять вы можете только по очереди, — ответил Кок Бэддинг. — Одной ногой упрешься в нос, другой в скамью. Сделай, что сможешь, а мы тем временем подойдем к ним вплотную.
Лучник занял удобную позицию в качающейся скорлупке с ловкостью человека, выросшего на море, — недаром он родился и всю жизнь провел в Пяти Портах. Он аккуратно наложил стрелу, с силой натянул тетиву и точно прицелился. Но в этот миг ялик зарылся носом в воду и стрела пронизала волну. Вторая пронеслась над суденышком, третья впилась в его черный борт. Затем Бэдлсмир выпустил десять стрел с такой молниеносной быстротой, что иногда в воздухе их одновременно было две. Многие, пролетев над планширем, падали на палубу. Но внезапно до них донесся крик боли, и французы разом исчезли из виду.
— Довольно! — крикнул Бэддинг. — Один свалился, а может, и двое. К борту, к борту, во имя Господа, пока они не опомнились!
Они с лучником навалились на весла, но тут в воздухе что-то просвистело, и послышался четкий, резкий звук, словно камень ударился о стену. Бэдлсмир прижал руки к голове, застонал и свалился в воду, оставив на ее поверхности кровавое пятно. Мгновение спустя послышался тот же свист, завершившийся громким треском, — в борт ялика глубоко впилась короткая толстая стрела со свинцовым наконечником, пущенная из арбалета.
— К борту, к борту! — рычал Бэддинг, изо всех сил гребя своим веслом. — Святой Георгий за Англию! Святой Леонард за Уинчелси! К борту!
Но вновь звякнул арбалет, и Дикон из Рая опрокинулся на дно ялика со стрелой в плече.
— Смилуйся надо мной, Бог, — простонал он. — Мне конец.
Бэддинг выхватил у него весло — но для того лишь, чтобы повернуть ялик к «Мари-Роз». Попытка их кончилась полной неудачей.
— Что нас остановило, шкипер? — воскликнул Найджел. — Нам нельзя отступать!
— Из пяти нас осталось трое, — ответил Бэддинг. — А их там ждет не меньше двенадцати. Четверо на одного слишком много, маленький сквайр. Вот вернемся и поставим щит против стрел, арбалетчик-то у них меткий. И надо торопиться, ведь уже темнеет.
Французы приветствовали их отступление торжествующими воплями и заплясали от радости, потрясая оружием над головой. Но их ликование еще не кончилось, когда они увидели, что из тени «Мари-Роз» снова выползает ялик с большим деревянным щитом на носу и начинает быстро и без колебаний приближаться к ним. Раненого лучника подняли на борт, и его место занял бы Эйлуорд, только он куда-то исчез. В ялик спрыгнул Хэл Мастерс, третий лучник, и матрос Уот Финнис из Хита. Полные решимости победить или погибнуть, они подогнали ялик к борту «Ла Пусели» и вскарабкались на ее палубу. В тот же миг тяжелая железная болванка пробила днище ялика, и у них остался лишь один путь к спасению — победа.
Арбалетчик стоял под мачтой, приложив к плечу свое страшное оружие: металлическая тетива была оттянута до упора, стрела лежала в желобке. Вот-вот они потеряют еще одного человека. Но арбалетчик чуть промедлил, выбирая цель, он перевел взгляд с матроса на Бэддинга, чей грозный вид прельстил его больше. Тут зазвенела тетива Хэла Мастерса, и длинная стрела пронзила горло арбалетчика. Кровь хлынула у него изо рта, и он рухнул на палубу.
Мгновение спустя меч Найджела и молот Кока Бэддинга нашли свои жертвы и заставили противников отступить. Все пятеро благополучно выбрались на палубу, однако самое трудное было еще впереди. Французские моряки, нормандцы и бретонцы, вооруженные топорами и мечами, отличались крепостью и силой. Ни в храбрости, ни в умении отказать им было нельзя. Они напали на маленький отряд со всех сторон. Черный Саймон свалил чернобородого французского шкипера, но тут же сам упал с рассеченным скальпом. Сокрушительный удар топора покончил с Уотом из Хита. Найджела сбили с ног, хотя он тут же вскочил и пронзил мечом нападавшего.
Но его вместе с Бэддингом и Мастерсом оттеснили назад к борту, им становилось все труднее отбивать яростные выпады врагов, как вдруг стрела, словно бы пущенная с моря, поразила в сердце переднего из нападавших. Мгновение спустя к борту пристала лодка, и на залитую кровью палубу вскарабкались четыре моряка с «Мари-Роз». В следующую минуту оставшиеся французы были перебиты или схвачены. Девять распростертых на палубе фигур показывали, каким бешеным было нападение и каким отчаянным — сопротивление.
Бэддинг оперся на молот, еле переводя дыхание.
— Клянусь святым Леонардом! — воскликнул он. — Я уж думал, что маленький сквайр притащил нас сюда на погибель. Бог видит, подоспели вы как раз вовремя, хоть и не понимаю, откуда вы взялись! Но уж без этого лучника дело не обошлось.
Первым, кого они увидели, был Эйлуорд, все еще бледный после морской болезни и насквозь мокрый. Найджел уставился на него в изумлении.
— Я искал тебя на нашем корабле, Эйлуорд, — сказал он. — Но нигде не увидел.
— А потому что я был в воде, благородный сэр, и, клянусь луком, моему животу это куда полезнее, чем плавать по ней! Я еще в первый раз поплыл за вами, заметив, что французы привязали свою лодку к корме, и задумал захватить ее, пока вы будете их отвлекать. Но когда доплыл, вы уже повернули назад, а потому я укрылся за ней и начал молиться так, как давно уже не молился. А тут вы поплыли к ним снова, смотреть на меня было некому, и я залез в лодку, перерубил веревку, взял весла и отправился за подкреплением.
— Клянусь святым Павлом! Ты действовал очень разумно и ловко, — сказал Найджел. — И, думается мне, всех больше чести досталось нынче на твою долю. Однако ни среди мертвых, ни среди живых я не вижу никого, похожего на Рыжего Хорька, каким его описал сэр Чандос. Того, кто чинил нам в прошлом столько вреда. Судьба зло над нами подшутила, если после всех наших трудов окажется, что удрал он во Францию на каком-то другом корабле.
— Это мы скоро узнаем, — ответил Бэддинг. — Пойдем обыщем корабль от верхушки мачты до киля. Ему от нас не уйти.
Люк в нутро корабля находился у подножия мачты, и они было направились к нему, но тотчас застыли на месте, ошеломленные нежданным зрелищем. В темном квадрате люка возникла круглая медная голова. Мгновение спустя за ней последовали сверкающие плечи, и на палубу медленно поднялся человек, с ног до головы облаченный в кованые доспехи. Правая рука в железной рукавице сжимала тяжелую железную булаву. Высоко подняв ее, он двинулся на врагов в гробовом молчании, только поножи гремели по палубе. В этой фигуре было что-то нечеловеческое: грозная, устрашающая, лишенная хоть какого-то выражения, она размеренным шагом приближалась к ним, неумолимая и чудовищная.
Англичан охватил ужас. Кто-то попытался проскочить за спину медного человека, но тот быстрым движением прижал несчастного к борту и размозжил ему голову мощным ударом тяжелой булавы. Остальные в панике бросились к лодке. Эйлуорд пустил стрелу, но его тетива отсырела, и стрела, со звоном ударившись о нагрудник, отскочила и упала в море. Мастерс опустил меч на медный шлем, но лезвие переломилось, даже не промяв его, и в следующий миг лучник без чувств распростерся на палубе. Моряки, забыв свой боевой задор, сбились на корме, не спуская завороженных глаз с жуткого медного истукана.
Вновь он занес булаву и двинулся на кучку беззащитных людей — более слабые духом теснились вокруг тех, кто сохранил мужество, и мешали им. Но тут Найджел растолкал всех и прыгнул вперед с мечом в руке и радостной улыбкой на губах.
Солнце зашло, и длинная багряная полоса над западной частью пролива быстро угасала, сменяясь серыми сумерками. В вышине замерцали первые звезды, но света еще хватало для того, чтобы эту картину можно было рассмотреть во всех подробностях: невдалеке за кормой плавно поднимается и опускается покачиваемая зыбью «Мари-Роз»; усеянная трупами широкая белая палуба французского судна вся в разводах крови; группа людей на корме — одни пытаются выбраться на открытое пространство палубы, другие отталкивают их, чтобы спуститься в лодку.
А между ними и мачтой — две фигуры: вооруженный сверкающий человек в неуязвимой броне, подняв булаву, ждет безмолвно и неподвижно, Найджел с непокрытой головой и счастливым лицом пригибается, устремив бесстрашные глаза на врага, перебегает на быстрых ногах то туда, то сюда, и меч его вспыхивает, как солнечный луч, выискивая хоть какое-то отверстие в металлической скорлупе.
Француз понимал, что ему надо только оттеснить своего противника в угол, а уж там он с ним сразу разделается. Но у него ничего не получалось. Человек без доспехов двигался гораздо легче и стремительнее. Два-три быстрых шага вправо или влево — и медная махина вновь промахивалась. Эйлуорд и Бэддинг бросились было на помощь Найджелу, но он крикнул, чтобы они не вмешивались, столь гневно и властно, что у них опустились руки.
Напрягая зрение, они угрюмо наблюдали за неравным поединком. Внезапно им показалось, что Найджел погиб — отпрыгивая назад, он споткнулся о труп и упал навзничь. Но молниеносно выскользнул из-под опускающейся булавы, вскочил на ноги, и лезвие его меча глубоко впилось в шлем врага. Вновь булава опустилась, и Найджел оказался недостаточно проворен. Она отбила его меч и задела левое плечо. Он пошатнулся, и опять железный шар взвился вверх, чтобы покончить с ним.
Во мгновение ока Найджел сообразил, что увернуться не успеет. Но можно поднырнуть под нее! Он бросил меч, прыгнул к французу и обхватил его поперек живота. Противник передвинул булаву в руке, но сумел задеть льняную голову только рукояткой, а в следующий миг под восхищенные вопли зрителей Найджел могучим рывком оторвал врага от палубы и под оглушительный лязг доспехов опрокинул на спину. Голова у него кружилась, в глазах темнело, но он уже вытащил охотничий нож и вставил острие в щель забрала.
— Сдавайся, благородный сэр! — сказал он.
— Рыбакам и лучникам? Никогда. Я человек благородной крови и ношу герб. Убей меня!
— Я тоже благородной крови и ношу герб. Обещаю тебе пощаду.
— В таком случае, благородный сэр, я сдаюсь тебе. Нож, звякнув, соскользнул на палубу. Подбежавшие моряки и лучники увидели, что Найджел лежит лицом вниз почти без сознания. Они оттащили его в сторону, двумя-тремя ловкими ударами разбили застежки шлема и сняли его. Открылось веснушчатое лицо с острыми чертами и огненно-рыжие волосы. Найджел с трудом приподнялся на локте.
— Ты Рыжий Хорек? — спросил он.
— Так меня называют враги, — с улыбкой ответил француз. — Я рад, любезный сэр, что сдался столь доблестному и благородному человеку.
— Благодарю тебя, любезный сэр, — слабым голосом произнес Найджел. — И я рад, что померился силами со столь достойным противником, и навсегда сохраню в памяти удовольствие, которое доставила мне наша встреча.
Тут он положил кровоточащую голову на медную грудь врага и надолго лишился сознания.
Глава XV Как Рыжий Хорек явился в косфорд
Старинный хронист в «Gestes du Sieur Nigel»[15] скорбит, что вынужден часто прерывать свой рассказ, ибо из тридцати одного года, отданного войне, его герой не менее семи провел в постели, оправляясь либо от ран, либо от одного из тех недугов, причина которых — походные лишения и усталость. Вот и теперь в самом начале боевого пути, накануне славного предприятия именно эта судьба постигла Найджела.
Распростертый на ложе под низким потолком почти пустой каморки под парапетом угловой башни замка Кале, выходящей во внутренний двор, он лежал в полубреду, не в силах приподнять голову, когда прямо у него под окошком творились славные дела. С тремя ранами на теле, с головой, пострадавшей от булавы Хорька, он находился между жизнью и смертью: истерзанное тело тянуло его во тьму, молодость и твердая воля не давали угаснуть искре жизни.
Словно сквозь сон он осознавал, что где-то рядом бушует битва. После он смутно вспоминал внезапные растерянные крики, лязг металла, стук захлопнувшихся створок больших ворот, рев множества голосов, гулкие удары, точно пятьдесят дюжих кузнецов гремели молотами о наковальни. А потом удары мало-помалу сменились стонами, пронзительными призывами к святым, размеренным многоголосым ропотом, тяжелой поступью обутых в железо ног.
В какую-то минуту этой жестокой схватки он, преодолев слабость, видимо, все-таки дотащился до узкого окошка, повис на железной решетке и поглядел во двор на разыгравшийся там грозный спектакль. В красном свете пылающих факелов, укрепленных в амбразурах и на крыше, он увидел внизу дикое кружение закованных в латы фигур, отливающих медью, сверкающих железом. Словно бредовое видение, вспоминались ему потом развевающиеся шарфы, повязанные на шлемы, гребни, украшенные драгоценными камнями, пышные плащи и щиты, блещущие гербами, на которых по золотому или серебряному, червленому или черному полю располагались всевозможные геральдические фигуры — кресты, пояса, стропила, перевязи и прочее. Точно букеты ярких цветов, они взлетали и опускались, двигались вперед и назад у подножья его башни, то теряясь в тени, то снова вспыхивая в багровых отблесках факелов. Пылала кроваво-красная башня Чандоса, и он различил высокую фигуру своего господина, исступленно рубившегося в первом ряду, как само воплощение войны. Три черных стропила на золотом поле — это герб благородного Мэнни. А этот могучий боец, уж конечно, сам король Эдуард — ведь только его щит и щит ловкого юноши в черной броне рядом с ним не несли никаких геральдических символов.
— Мэнни! Мэнни! Святой Георгий за Англию! — раздался громовой клич, а в ответ, заглушая грохот и лязг битвы, слышался столь же гордый призыв: — Шарньи, Шарньи! Святой Денис за Францию!
Вот какие смутные видения еще жили в памяти Найджела, когда наконец туман в его голове рассеялся и он впервые явно понял, что лежит на низкой кровати в угловой башне и пальцем не может пошевелить от слабости. Возле него Эйлуорд раздирал грубыми пальцами стебли лаванды и разбрасывал их по полу и по постели. К стене в ногах кровати был прислонен длинный лук. На нем висела железная каска. А их владелец в одной рубахе обмахивал своего господина, отгоняя мух, и сыпал на него душистую траву.
— Клянусь рукоятью! — завопил он, сверкая всеми зубами в радостной улыбке. — Благодарение Пречистой и сонму святых, ты пришел в себя! Скончайся ты, я бы не посмел вернуться в Тилфорд. Три недели пролежал ты тут, лепеча, как несмышленый младенец, но теперь по твоим глазам видно, что ты снова в себе!
— Я и правда получил малую рану, — еле слышно произнес Найджел, — но стыд и горе мне, что я валяюсь тут, если для моих рук есть дело. Куда же ты, лучник?
— Оповестить доброго сэра Чандоса, что тебе полегчало.
— Нет, останься пока со мной, Эйлуорд. Я как будто помню все, что случилось. Какие-то корабли, верно? И я встретился с очень достойным человеком, и мы обменялись ударами? И он мне сдался, так?
— Да, благородный сэр.
— А где он?
— Тут, в замке. Внизу.
По бледному лицу Найджела скользнула улыбка.
— Я знаю, как распоряжусь им, — прошептал он.
— Лежи смирно, благородный сэр, — с тревогой перебил его Эйлуорд. — Утром тебя смотрел сам лекарь короля и сказал, что ты сразу умрешь, если сорвешь с головы повязку.
— Хорошо, добрый лучник, я не стану ворочаться. Но расскажи, что было дальше.
— Да рассказывать-то почти нечего, благородный сэр. Будь у Хорька оруженосец, не провозись он так долго, облачаясь в доспехи сам, они бы нас одолели. Да только он вылез на палубу, когда они уже все полегли. Его мы забрали с собой на «Мари-Роз», потому что он твой пленник. А за остальных выручить ничего было нельзя, и мы побросали их в море.
— И мертвых и живых?
— Всех до единого.
— Это злое дело. Эйлуорд пожал плечами.
— Я было заступился за одного мальчонку, — сказал он, — но Кок Бэддинг ничего слушать не желал, а за него были и Черный Саймон, и все остальные. «Такой в проливе закон, — говорят. — Нынче они, а завтра мы». Оторвали его от мачты и бросили за борт, как он ни кричал. Клянусь рукоятью, не по нутру мне море и его обычаи! Пусть оно доставит меня назад в Англию, а больше я с ним дела иметь не хочу.
— Ну нет! На море совершаются великие подвиги, и на кораблях можно найти много достойных людей, — возразил Найджел. — И везде, куда ведут по нему пути, отыщутся такие, с кем переведаться — чистая радость. Стоит переплыть пролив, как сделали мы, и попадаешь к французам, без которых нам обойтись невозможно. Иначе как же обретем мы славу? Поплывешь на юг, и есть надежда добраться до земель неверных, где для оружия всегда находится дело и великая честь ждет тех, кто смел. Нет, ты подумай, лучник, какая это прекрасная жизнь, когда едешь и знаешь, что встретишь немало достойных людей, тоже отправившихся на поиски чести. А коли падешь, так за веру, и небесные врата распахнутся перед тобой. Но и на севере море также хорошо послужит тому, кто ищет чести, ибо там еще остались края, где обитают язычники, отвергающие Святое Писание. Там нас тоже ждут благородные деяния, и, клянусь святым Павлом, Эйлуорд, если французы не нарушат перемирия, а добрый сэр Джон отпустит нас, я с радостью отправлюсь туда. Море — добрый друг искателя чести, ибо несет его туда, где он может исполнить взятый на себя обет.
Эйлуорд покачал головой: его воспоминания о морском переходе были еще слишком свежи. Но он ничего не ответил, потому что дверь распахнулась, вошел Чандос и с повеселевшим лицом взял руку Найджела в свои, а потом что-то шепнул Эйлуорду, и лучник исчез из комнаты.
— Pardieu! Вид очень утешительный, — сказал рыцарь. — Теперь ты скоро встанешь на ноги.
— Молю простить меня, мой благородный господий, — сказал Найджел, — что в бою я не был рядом с тобой.
— И правда, мое сердце скорбело из-за тебя, Найджел, ибо такая ночь редко выпадает в жизни. Все произошло, как мы задумали. Потайная калитка была открыта, и они пробрались во двор. Но там их поджидали мы, и все сдались или были убиты. Однако большая часть французского отряда ждала на равнине Ньеле. Мы, вскочив на коней, выехали к ним. И застали их врасплох. Но они не пали духом и говорили друг другу: «Бежать — значит потерять все. Лучше вступить в бой, и, может быть, день еще останется за нами». В нашем авангарде их услышали и крикнули: «Святой Георгий свидетель, правда ваша — пусть будет проклят тот, кто обратится в бегство!» И они достойно держались более часа. Среди них было много таких, с кем всегда приятно скрестить копье и меч. Сам сеньор Жоффруа, и сеньор Пепин де Верр, и сеньор Жан де Ланда. Старик Байоль Желтый Зуб и его брат Эктор по прозванию Леопард. И уж конечно, сеньор Эстас де Рибомон постарался оказать нам достойную встречу и долго обменивался ударами с самим королем. Затем, когда кто был убит, а кто сдался, всех пленных привели на пир, который уже ждал их. За столом им прислуживали английские рыцари, весело с ними ели, пили и беседовали. И всем этим, Найджел, мы обязаны тебе.
При этих словах своего господина оруженосец порозовел от радости.
— Нет, благороднейший сэр, сделал я так мало! Но благодарю Господа и Богоматерь, что оказался полезен, раз уж тебе угодно было взять меня с собой. Случись так…
Не договорив, Найджел вновь побледнел и откинулся на подушку, в изумлении глядя на распахнувшуюся дверь. Кто этот величественный человек с высоким лбом, длинным красивым лицом и темными умными глазами? Кто, как не сам Эдуард, могущественнейший король Англии?
— Ха! Мой петушок с тилфордского моста, я о тебе не забыл, — сказал он. — И рад слышать, что ты опять обрел рассудок. Но, уповаю, ты из-за меня вновь его не лишишься, — добавил он, с улыбкой глядя на ошеломленного юношу, который, запинаясь, изъявлял живейшую благодарность за оказанную ему великую честь.
— Ни слова! — перебил король. — Но поистине мое сердце радуется, что сын моего старого товарища по оружию, сэра Юстеса Лоринга, показал такую отвагу. Если бы это судно привезло весть о наших приготовлениях, все наши труды пропали бы даром, и ни один француз в ту ночь не приблизился бы к Кале. Но особенно благодарю тебя за то, что ты доставил в мои руки человека, которого я поклялся покарать, ибо он всякими подлыми способами доставлял нам больше хлопот, чем кто-либо еще. Дважды я давал клятву, что Пьер Рыжий Хорек, попади он в мои руки, будет повешен, пусть его род и благороден. И вот это время пришло. Но я отложил его казнь, дабы на ней мог присутствовать ты, его победитель. Нет, не благодари меня. Это твое законное право, ведь им я обязан тебе.
Однако из уст Найджела рвались вовсе не изъявления признательности. Ему трудно было найти нужные слова, но промолчать он не мог.
— Государь, — пробормотал он, — не мне перечить твоей королевской воле…
Черный гнев Плантагенетов омрачил высокий лоб короля и его суровые, глубоко посаженные глаза.
— Клянусь славой Божьей! Еще никто ей не перечил безнаказанно! Так что же означает твоя речь, юноша, столь непривычная для наших ушей? Поберегись, ты ведь не шутки шутишь!
— Государь, — ответил Найджел, — во всем, что дано решать мне, я покорный подданный твоего величества, но есть такое, чего сделать нельзя.
— Как так! — вскричал король. — Даже если на то моя воля?
— Даже если на то твоя воля, государь, — ответил Найджел, садясь на постели. Лицо его было белым, глаза горели.
— Клянусь Пречистой! — загремел разгневанный король. — Вот до чего дошло. Тебя слишком долго держали дома, юноша. Конь, которого томят в стойле, всегда брыкается. Необученный сокол гонится за низкой дичью. Это твое дело, сэр Чандос! Обучать его должен ты, так и обучи, приказываю тебе! И чего же нельзя сделать Эдуарду, королю Англии, сквайр Лоринг?
Найджел ответил королю таким же гневным взглядом.
— Казнить Рыжего Хорька.
— Pardieu! И почему же?
— Потому что он не твой, чтобы ты мог его казнить, государь. Потому что он мой. Потому что я обещал ему пощаду, и не тебе, хотя ты и король, принуждать человека благородной крови нарушить данное слово и покрыть себя бесчестием.
Чандос мягко положил руку на плечо своего оруженосца.
— Прости его, государь. Он совсем обессилел от ран. Наверное, мы пробыли тут слишком долго. Лекарь сказал, что ему нужен покой.
Но умиротворить разъяренного короля было не так-то просто.
— Я не привык, чтобы мне указывали! — рявкнул он. — Он твой оруженосец, сэр Джон. Так почему же ты стоишь и слушаешь эти дерзкие речи и не образумишь его? Вот так-то ты наставляешь своих домочадцев? Или ты не втолковал ему, что всякое обещание подлежит одобрению короля и лишь король — источник жизни и смерти? Если он бредит, так ты-то в здравом уме. Почему ты стоишь и молчишь?
— Государь, — угрюмо сказал Чандос, — я служил тебе более двух десятков лет и, сражаясь за тебя, ран получил не меньше, а потому не гневайся на мои слова. Но поистине я был бы неверным слугой, если бы не сказал тебе, что мой оруженосец Найджел, хотя речь его могла быть почтительнее, тем не менее в этом деле прав, а ты лет. Подумай, государь…
— Довольно! — крикнул король, разъярившись еще больше. — Каков господии, таков и слуга! Я мог бы сам догадаться, почему этот дерзкий оруженосец посмел спорить со своим королем. Он лишь следует примеру, который ему подавали. Джон, Джон, ты слишком смел! Но знай — и ты тоже, юноша, — Бог мне свидетель, еще не зайдет солнце, как Рыжий Хорек в предупреждение всем лазутчикам и предателям повиснет на самой высокой башне Кале, дабы все корабли в проливе и все люди на десять миль вокруг видели, как он висит, и знали бы, сколь тяжка десница короля Англии. Запомните это, не то как бы и вам не довелось испытать ее тяжесть! — Сверкнув глазами, как рассвирепевший лев, он вышел из комнаты, и тяжелая дверь гулко захлопнулась за ним.
Чандос и Найджел печально посмотрели друг на друга, и рыцарь легонько погладил перевязанную голову своего оруженосца.
— Ты вел себя, как должно, Найджел. Мне тебя упрекнуть не в чем. И не бойся, все будет хорошо.
— Мой благородный и досточтимый господин! — воскликнул Найджел. — У меня черно на сердце. Поступить по-иному я не мог и навлек на тебя королевский гнев.
— Не кручинься, тучи скоро рассеются. Если он и правда казнит француза, ты ведь сделал все, что было в твоих силах, и душа твоя чиста.
— Молю Господа, чтобы такой он принял ее в рай, — ответил Найджел. — Ибо чуть я услышу, что обесчещен и мой пленник убит, я сорву с головы эту повязку и положу всему конец. Жить, нарушив свое слово, я не буду.
— Нет, милый сын, ты напрасно принимаешь это к сердцу, — сказал Чандос с тревогой. — Если человек сделал все, что мог, бесчестья ему нет. Однако король хоть и вспыльчив, но отходчив, и если я его увижу, то сумею уговорить. Вспомни, как он поклялся повесить шесть здешних горожан, и все же помиловал их. А потому не теряй надежды, милый сын, и еще до вечера я вернусь с доброй вестью.
Три часа, пока заходящее солнце поднимало тени по стенам его каморки все выше и выше, Найджел лихорадочно метался на постели, напрягая слух, не идет ли Эйлуорд или Чандос сообщить ему о судьбе пленника. Наконец дверь распахнулась, и он увидел человека, которого никак не ждал увидеть, хотя и обрадовался ему несказанно. Это был Рыжий Хорек, свободный и ликующий.
Быстрым бесшумным шагом он пересек комнату, упал на колени рядом с постелью и поцеловал бессильно свисавшую руку.
— Ты меня спас, благороднейший сэр! — вскричал он, — Виселица была сколочена, и к ней уже привязали веревку, когда добрый лорд Чандос сказал королю, что ты погибнешь от собственной руки, если меня казнят. «Будь проклят этот оруженосец, упрямый как осел! — сказал он. — Бога ради, отдайте ему его пленника, и пусть делает с ним что хочет, лишь бы больше мне не докучал!» И вот я пришел, благородный сэр, спросить у тебя, что мне надлежит сделать.
— Прошу, сядь рядом со мной и будь как дома, — сказал Найджел. — И я тебе отвечу. Многих слов для этого не понадобится. Твои доспехи я оставлю себе на память о милости судьбы, пославшей мне встречу со столь доблестным и благородным человеком. Мы одного роста, и, думаю, они мне будут впору. Выкупа я попрошу тысячу золотых.
— Ну нет! — воскликнул Хорек. — Стыдно помыслить, что такой человек, как я, может стоить дешевле пяти тысяч!
— Тысячи достаточно, любезный сэр, чтобы покрыть расходы на мое снаряжение. Далее, ты не будешь выведывать наши планы и чинить нам вред, пока длится перемирие.
— Клянусь!
— И наконец, тебе придется совершить путешествие. Лицо француза вытянулось.
— Я поеду, куда ты ни прикажешь, — сказал он. — Но только бы не в Святую Землю, прошу тебя.
— Нет, — ответил Найджел, — хотя для меня эта земля и святая. А ты поплывешь в Саутгемптон.
— Мне этот порт известен. Несколько лет назад его сожгли не без моей помощи.
— Советую тебе, пока ты будешь там, об этом помалкивать. Оттуда ты поедешь по Лондонской дороге, пока не доберешься до прекрасного города Гилфорда.
— Я про него слышал. Там охотится король.
— Вот-вот. В Гилфорде спросишь дорогу в поместье Косфорд в двух лигах оттуда и увидишь на склоне холма господский дом.
— Я все запомнил.
— Там ты найдешь благородного рыцаря, сэра Джона Баттесторна, и испросишь позволения поговорить с его дочерью, леди Мери.
— Все исполню. И что же я скажу леди Мери, которая живет в Косфорде на склоне холма в двух лигах от прекрасного города Гилфорда?
— Скажешь только, что я шлю ей привет и что святая Екатерина была ко мне милостива. Только это и ничего больше. А теперь, прошу, оставь меня: я устал и хотел бы уснуть.
Вот почему месяц спустя в канун Матвеева дня леди Мери, выйдя из ворот Косфорда, повстречала сопровождаемого слугой незнакомого всадника в богатой одежде, который внимательно смотрел по сторонам быстрыми голубыми глазами, поблескивающими на красном веснушчатом лице. При виде ее он снял шляпу и придержал коня.
— Это ведь Косфорд, — сказал он. — А ты не леди ли Мери, которая живет тут?
Она наклонила гордую темноволосую голову.
— Так вот, — продолжал он, — оруженосец Найджел Лоринг шлет тебе привет и говорит, что святая Екатерина была к нему милостива. — И, обернувшись к слуге, он воскликнул: — Эй, Рауль! Мы исполнили положенное, и твой хозяин вновь свободен. Скачем же к ближайшему порту. Ола! Ола! Ола!
Они тотчас повернули коней и как безумные понеслись галопом по длинному склону Хайндхеда. Вскоре она различала лишь два темных пятна, плывущие над высоким вереском.
Потом она пошла назад с улыбкой на лице. Найджел прислал ей привет. С французом, который, передав его, обрел свободу. А святая Екатерина была милостива к Найджелу. В святой часовне он дал обет совершить три подвига прежде, чем вновь увидит ее. У себя в светлице леди Мери преклонила колени на подушку для молитв и возблагодарила Пречистую, что один подвиг совершен. Но сразу же радость ее померкла при мысли о еще двух подвигах, которые предстояло ему совершить.
Глава XVI Как королевский двор пировал в замке Кале
Было ясное, солнечное утро, когда Найджел наконец настолько оправился, что мог покинуть свою каморку в башне и погулять по стене замка. Свежий северный ветер нес с собой соленое дыхание моря, и, подставляя ему лицо, юноша чувствовал, что кровь быстрее бежит по его жилам, вливая силы в его члены. Он отвел руку Эйлуорда, который его поддерживал, снял шапку и прислонился к парапету, глубоко вдыхая прохладный бодрящий воздух. Далеко-далеко на горизонте полускрытая катящимися синими валами тянулась низкая белая полоска — меловые обрывы английского берега. Между ним и ими лежал широкий синий пролив, испещренный пенными гребнями, так как волнение было сильным и двум-трем суденышкам, дерзнувшим покинуть гавань, приходилось нелегко. Найджел, так долго не видевший ничего, кроме серых каменных стен, с наслаждением обозревал эту широкую панораму, а затем перевел глаза на непонятное нечто возле себя. Это была расширяющаяся к переднему концу труба из кожи и железа, закрепленная на тяжелой деревянной колоде, снабженной колесами. Возле лежала груда железных ядер и округлых камней. Передний конец был приподнят над парапетом. У заднего конца Найджел увидел железный ящик и открыл крышку. Ящик был полон черным зернистым порошком, похожим на толченый древесный уголь.
— Клянусь святым Павлом! — воскликнул юноша, проводя рукой по трубе. — Я слышал рассказы про них, но своими глазами вижу впервые. Это же одна из удивительных бомбард, как их называют.
— Ты верно сказал, — ответил Эйлуорд, глядя на бомбарду с презрительным отвращением. — На здешних парапетах я на них насмотрелся и даже отвесил оплеуху дураку, который ими ведает. Вбил себе в башку, будто из этой своей кожаной трубки он может выстрелить дальше лучшего лучника в христианском мире. Ну, он и свалился у меня поперек своей дурацкой трубы.
— Страшная машина, — сказал Найджел, нагибаясь и разглядывая ее. — Мы живем в странные времена, если уж люди придумывают такое! А стреляет она благодаря огню, которым вспыхивает эта черная пыль, верно?
— Не знаю, благородный сэр, клянусь рукоятью! Только вроде бы этот осел бомбардир перед тем, как мы повздорили, что-то такое говорил. Внутри у нее огненная пыль и ядро. Из железного ящика берут еще пыли и сыплют ее в дырку с заднего конца — вот так. Теперь она готова. Я ни разу не видел, как из них стреляют, но, клянусь, из этой хоть сейчас выстрелить можно.
— И она издает какой-то свой звук, верно, лучник? — спросил Найджел с жадным любопытством.
— Так говорят, благородный сэр. Тетива ведь звенит, ну и у этой штуки есть свой звук.
— На парапете мы одни, и никто не услышит, а нацелена она на море и вреда не наделает. Прошу тебя, выстрели из нее, мне хочется услышать ее звук.
Найджел почти приник ухом к бомбарде, а Эйлуорд, наклонив загорелое сосредоточенное лицо к запальному отверстию, принялся усердно высекать искры огнивом. В следующий миг они с Найджелом оказались на некотором отдалении от бомбарды и, сидя под зубцом парапета, успели под рев выстрела увидеть сквозь густые клубы дыма, как черная труба отлетела назад от отдачи. Почти минуту они просидели так, окаменев от удивления, а тем временем последние отголоски замерли, и дым медленно поднялся в голубые небеса.
— Господи, спаси и помилуй! — произнес наконец Найджел, поднимаясь на ноги и глядя по сторонам. — Господи помилуй и благодарение Пречистой, что все тут как раньше. Мне было померещилось, что замок рухнул.
— Такого бычьего рева я в жизни не слыхивал, — буркнул Эйлуорд, потирая ушибленные места. — От Френемского пруда до Гилфордского замка было б слышно! Нет уж, больше я ни до одной пальцем не дотронусь, хоть золотом меня осыпь!
— Как бы тебя чем-нибудь другим не осыпали, лучник, — произнес у них за спиной сердитый голос.
Из открытой двери угловой башни вышел Чандос и остановился, меряя их суровым взглядом. Но когда Найджел повинился во всем, по его лицу скользнула улыбка.
— Беги скорее к коменданту, лучник, скажи ему, как было дело. Не то и в замке, и в городе все схватятся за оружие. Не знаю, как истолкует король такой сигнал тревоги! А ты, Найджел, почему, во имя всех святых, ты повел себя хуже малого ребенка?
— Я не знал ее мощи, милорд.
— Клянусь душой, Найджел, никто из нас, по-моему, не знает ее мощи! Предвижу день, когда столь дорогие нам великолепие и слава войны будут погублены машиной, пробивающей железные латы, словно кожаную куртку. Однажды я, сидя на моем боевом коне в полной броне, смотрел с высоты седла на чумазого, закопченного бомбардира и думал, что, быть может, я последний и за мной только прошлое, а он — первый и за ним будущее, что настанет время, когда он и его машины сметут с полей войны и тебя, и меня, и всех нас.
— Но еще не сейчас, милорд?
— Нет, Найджел, еще не сейчас. Ты еще успеешь заслужить свои шпоры, как заслужил их твой отец. Силы к тебе вернулись?
— Я готов для любого дела, мой добрый и досточтимый господин.
— Хорошо, потому что оно нас ждет — доброе дело, спешное, сулящее опасности и честь. Твои глаза блестят, а щеки покраснели. Глядя на тебя, Найджел, я вновь переживаю свою юность. Так вот: с Францией у нас перемирие, но не с Бретанью, где дом Блуа и дом Монфоров все еще оспаривают друг у друга это герцогство. Половина Бретани стоит за одного, а половина — за другого. Французы поддерживают Блуа, а мы Монфора, и вот на такой войне многие славные полководцы, например сэр Уолтер Мэнни, впервые показали себя. Последнее время мы терпим поражения: окровавленные руки Роганов, Щербатого Бомануара, Мясника Оливера и других не щадят наших сторонников. А теперь пришла горчайшая весть, и король преисполнен гнева: его друг и товарищ по оружию Жиль де Сент-Поль был убит в замке Ла-Броиньер. Он посылает в Бретань войско с нами во главе. Как тебе это нравится, Найджел?
— Мой досточтимый господин, чего еще мог бы я пожелать?
— Тогда готовь свои доспехи. Мы выступаем не позже чем через неделю. Путь по суше нам преграждают французы, и отправимся мы морем. Нынче вечером король устраивает пир перед своим возвращением в Англию. И твое место позади моего стула. Приди загодя в мою спальню, чтобы помочь мне одеться, и в залу мы спустимся вместе.
На королевский пир благородный Чандос облачился в одежды из атласа, венецианской парчи и бархата с меховой оторочкой. Найджел, готовясь служить своему господину за столом, надел свой лучший шелковый жакет с вышитыми на груди пятью алыми розами. В большой зале замка Кале были расставлены столы — на возвышении для самых знатных, второй для рыцарей поскромнее и третий для оруженосцев, когда они перестанут быть нужны своим господам.
У себя в скромном тилфордском доме Найджелу и не грезились такая пышность и роскошь. Угрюмые серые стены от потолка до пола были завешаны бесценными аррасскими гобеленами, и вокруг залы словно бежал олень, преследуемый гончими, а следом скакали охотники. Над главным столом ниспадали знамена, а на стене под ними висели щиты с гербами знатных вельмож, пировавших за ним. Светильники и факелы отбрасывали багряные отблески на эмблемы лучших полководцев Англии. Над высоким креслом с пышной обивкой в центре сверкали львы и лилии, и те же августейшие геральдические фигуры, но с трехзубчатой полосой над ними, знаком старшего сына, осеняли кресло принца, а справа и слева длинными рядами располагались благородные гербы, почитаемые в дни мира и наводящие ужас на полях сражений. Там блистали золото и чернь Мэнни, зубчатый крест Суффолка, красное стропило Стаффорда, червень и золото Одли, вздыбленный лазурный лев Перси, серебряные ласточки Арунделя, червленая лань Монтекьютов, звезда де Виров, серебряные раковины Рассела, пурпурный лев де Ласи и черные кресты Клинтона.
Оруженосец рядом с Найджелом шепотом называл ему имена знаменитых воинов, сидевших под щитами.
— Ты ведь молодой Лоринг из Тилфорда, оруженосец Чандоса? — сказал он. — А меня зовут Делвс, я из Доддингтона в Чешире и служу сэру Джеймсу Одли, вон тому сутулому человеку со смуглым лицом и подстриженной бородкой. Над ним его герб — голова сарацина.
— Мне доводилось слышать, что он доблестный воин, — ответил Найджел, с интересом рассматривая господина своего соседа.
— А как же, сквайр Лоринг. Он самый отважный рыцарь в Англии и во всем христианском мире. Несравненных его деяний не перечесть.
Найджел с надеждой перевел взгляд на своего нового знакомого.
— Ты говоришь, как подобает, когда надо поддержать честь своего господина, — сказал он. — По той же причине, сквайр Делвс, и со всем почтением мне надлежит ответить тебе, что ни именем, ни славой с моим господином он потягаться не может. Если ты не согласен, то мы продолжим спор таким способом и в такое время, какие удобны тебе.
Делвс добродушно улыбнулся.
— Потише, потише! Превозноси ты кого-нибудь другого, кроме, пожалуй, сэра Уолтера Мэнни, я бы ответил тебе согласием, и либо моему, либо твоему господину пришлось бы искать себе нового оруженосца. Но Чандосу нет равных, и я не стану обнажать меч, чтобы доказать противное. А! Кубок сэра Джеймса почти пуст. За дело! — И он метнулся к столу с кувшином гасконского вина в руке. — Король нынче получил добрые вести, — продолжал он, вернувшись. — Таким веселым я не видел его с того вечера, когда мы взяли в плен французов и он надел свой жемчужный обруч на голову де Рибомона. Видишь, он смеется, и принц тоже. Смех этот кому-то ничего доброго не сулит, или я очень ошибаюсь. Не зевай! Тарелка сэра Джона пуста.
Теперь настала очередь Найджела бежать к столу. Но всякий раз он возвращался в угол, откуда ему была видна вся зала, и с интересом слушал своего опытного товарища. Делвс был невысок, коренаст и далеко не молод. Задубелая от непогоды кожа, многочисленные шрамы, грубоватые ухватки и речь свидетельствовали, что он больше привык к походным шатрам, чем к пышным залам. Но десять лет службы научили его многому, и Найджел слушал его с жадностью.
— Да, король получил хорошие вести! — повторил он. — Смотри, как он шепотом сообщает их Чандосу и Мэнни. А Мэнни нашептывает их на ухо сэру Реджинальду Кобему, а тот — Роберту Ноллесу. И каждый ухмыляется, как дьявол, заполучивший в свои когти монаха.
— Кто из них сэр Роберт Ноллес? — с интересом спросил Найджел. — Я много слышал о нем и его деяниях.
— Вон тот высокий, хмурый, в желтом шелке, безбородый и с рассеченной губой. Он немногим старше тебя, а его отец был сапожником в Честере, но он уже заслужил золотые шпоры. Посмотри, как он запускает руку в блюдо и хватает большие куски. Ему привычнее лагерный котелок, чем серебряная посуда. А этот толстяк с черной бородой — сэр Бартоломью Бергерш. Брат его — аббат Болье. Беги! Беги! Подают кабаньи головы и надо протереть тарелки!
Застольные нравы наших предков в ту эпоху представляли собой, на современный взгляд, странную смесь утонченности и варварства. Вилки еще не были изобретены, и роль их выполняли «учтивые пальцы» левой руки — указательный и средний. Пользоваться другими было верхом невоспитанности. На камыше, устилавшем пол, лежало множество собак, рычавших друг на друга и затевавших драки из-за обглоданных костей, которые бросали им пирующие. Тарелками обычно служили ломти грубого хлеба, но за королевским столом гости ели с серебряных плоских тарелок, которые оруженосцы и пажи протирали перед каждой переменой блюд. Зато скатерти были великолепными, а яства, подававшиеся с пышностью и церемониями, давно забытыми, отличались многочисленностью и кулинарными ухищрениями, каких не встретишь на современных банкетах. Кроме кушаний из мяса всех домашних животных и всевозможной дичи, стол разнообразили такие необычные для нас деликатесы, как дельфинье жаркое, жареные ежи, белки, сарычи, выпи и журавли.
Каждая перемена блюд возвещалась пением серебряных труб, вносили их попарно слуги в ливреях, а впереди и позади шествовали багроволицые дворецкие с белыми жезлами, которые служили не только знаком их достоинства, но и оружием для защиты яств от дерзких покушений на них на пути из кухни в залу. Кабаньи головы с позолоченными клыками и пылающим в пастях огнем сменились удивительными тортами, испеченными в форме боевых кораблей, замков и еще многого другого; Сахарные матросы и солдаты, тщетно оборонявшие их от штурма, расплачивались за свою нерасторопность собственными телами. В заключение появился серебряный корабль на колесах, нагруженный сластями и фруктами, который объезжал гостей. Слуги стояли наготове с кувшинами вина — гасконского и ренского, канарского и ларошельского. Однако век этот, хотя и ценил роскошь, пьянства не поощрял: нормандские трезвые привычки, к счастью, возобладали над пиршественными нравами саксов, считавших, что гость, выходящий из-за стола на собственных ногах, подвергает сомнению радушие его хозяина. Но рыцарская честь и закалка плохо сочетаются с дрожащей рукой и мутными глазами.
Пока за высоким столом слуги подавали вина, фрукты и заедки, оруженосцы приступили к трапезе в дальнем конце залы, а вокруг короля собрались его полководцы и советники, оживленно что-то обсуждая. Граф Стаффорд, граф Уоррик, граф Арундель, лорд Бошан и лорд Невил встали за его креслом, а лорд Перси и лорд Мобрей слева и справа от него. Сверкающие золотые цепи, усаженные драгоценностями обручи, удерживающие волосы, огненного цвета дублеты и пурпурные туники придавали их группе удивительную живописность.
Внезапно король что-то сказал через плечо сэру Уильяму де Пакингтону, геральду, и тот приблизился к креслу монарха. Он был высок, благообразен, с длинной седеющей бородой, которая ниспадала до пояса из золотых колец, перехватывающего его пестрый табар. На голову он надел шляпу-берет — знак своей должности. Когда он высоко поднял белый жезл, в зале воцарилась глубокая тишина.
— Лорды Англии, — произнес он, — рыцари-баннереты, рыцари, оруженосцы и все прочие люди благородной крови, здесь присутствующие, узнайте, что ваш грозный и могущественный государь Эдуард, король Англии и Франции, повелел мне приветствовать вас и приказывает вам приблизиться к нему, ибо он желает говорить с вами.
Во мгновение ока столы опустели, и все столпились перед королевским креслом. Те, кто сидел по его бокам, наклонились, и его высокая фигура в черном бархате словно вознеслась над тесным кругом его гостей.
На его смуглых щеках вспыхнули красные пятна, надменные темные глаза с гордостью оглядели оживленные лица его товарищей по оружию при Слейсе и Кадсенде, при Креси и под стенами Кале. Воинственный огонь в его властном взгляде воспламенил их сердца, и высокие своды залы огласились яростным кличем воинов, благодаривших за прошлые победы и предвкушавших грядущие. Зубы короля блеснули в быстрой улыбке, а его крупная белая рука поигрывала усыпанной драгоценностями рукояткой кинжала на поясе.
— Клянусь славой Господней! — произнес он звучным ясным голосом. — Я знаю, вы будете ликовать вместе со мной, ибо мною получена весть, которая обрадует любого из вас. Вам ведомо, что наши корабли несли большой ущерб от испанцев, в течение многих лет беспощадно и подло убивавших всех моих людей, кто попадал в их жестокие руки. Недавно они послали свои корабли во Фландрию, и сейчас в Слейсе стоят тридцать больших караков и галер с отрядами лучников и жандармов, готовые к бою. Нынче от верного человека я получил известие, что, нагрузившись товарами, эти корабли покинут гавань в следующее воскресенье и направятся в наш пролив. Мы долго сносили разбой испанцев, они же чинили нам всякие досады и беспокойства, и наша долготерпеливость только придавала им дерзости. А посему я принял решение, что завтра мы отбудем в Уинчелси, где у нас стоят двадцать кораблей, и нападем на них, когда они проплывут мимо. Бог и святой Георгий да будут защитой правому делу!
Вновь, едва король смолк, залу огласили громовые клики, еще более воинственные, чем прежде. Точно свора яростных гончих псов отозвалась лаем на голос любимого охотника.
Со всех сторон Эдуарда окружали ликующие лица, сверкающие радостью глаза и размахивающие руки его верных подданных. Он снова засмеялся.
— Кому приходилось сражаться с испанцами? — спросил он. — Кто может сказать нам, каковы они в битве?
В воздух взвились десятки рук, но король обратился к графу Суффолку, стоявшему рядом с ним.
— Ты ведь дрался с ними, Томас? — сказал он.
— Да, государь. Я участвовал в большой морской битве с ними у острова Гернси, когда испанец дон Луис выступил против лорда Пемброка.
— И как они тебе показались, Томас?
— Редкостные бойцы, государь. Подобных трудно отыскать. На каждом корабле у них была сотня генуэзских лучников, лучших в мире, а их копейщики тоже молодцы как на подбор. С верхушек мачт они метали железные снаряды, сгубившие многих наших. Коли мы сумеем преградить им путь через пролив, у всех нас будет случай покрыть себя славой.
— Твои слова приятно слушать, Томас, — сказал король, — и, чаю, испанцы окажутся достойны того, что мы для них приготовим. Под твою команду я отдаю один корабль. Ты также, любезный сын, получишь корабль, дабы приумножить свою славу.
— Благодарю тебя, батюшка! — ответил принц, и его красивое юное лицо порозовело от радости.
— Главным кораблем командовать буду я, но и все вы получите по кораблю — и ты, Мэнни, и ты, Суффолк, и ты, Арундель, и ты, Одли, и сэр Томас Холленд, и Брокас, и Беркли, и Реджинальд. Остальные получат свои корабли в Уинчелси, куда мы отплываем завтра… Джон, почему ты дергаешь меня за рукав?
Чандос перегнулся к королю с тревогой на лице:
— После стольких лет моей верной службы неужто твое пресветлое величество про меня забыло? И для меня нет корабля?
Король улыбнулся, но покачал головой:
— Нет, Джон. Разве я не дал тебе две сотни лучников и сотню жандармов и не послал тебя в Бретань? Уповаю, твои корабли будут уже в бухте Сент-Мало прежде, чем испанцы подойдут к Уинчелси. Чего же тебе еще, старый боевой пес? Не хочешь же ты участвовать в двух битвах сразу?
— Когда знамя со львом вновь завьется на ветру, я хочу быть рядом с тобой, государь! Ведь так было всегда. Почему же ты прогоняешь меня теперь? Я прошу малого, мой любимый господин, — галеру, парусник или даже рыбачью лодку, лишь бы мне быть там!
— Будь по-твоему, Джон. У меня не хватает духа отказать тебе, и я найду для тебя место на моем корабле, чтобы ты и правда был рядом со мной.
Чандос нагнулся и поцеловал руку короля.
— А мой оруженосец? — спросил он. Брови короля сердито сошлись.
— Нет, пусть отправляется в Бретань! — ответил он резко. — Удивляюсь, Джон, что ты напоминаешь мне об этом юнце, чья дерзость еще не изгладилась из моей памяти. Однако кто-то же должен заменить тебя в Бретани, ибо время не ждет, а нашим людям там все труднее держаться.
Он обвел глазами присутствующих, и его взгляд остановился на суровом лице сэра Ноллеса.
— Сэр Роберт, — сказал он, — ты хоть молод годами, но воин старый и, как я слышал, столь же мудр в совете, сколь храбр на поле битвы. Тебя я посылаю в Бретань вместо сэра Джона Чандоса, который прибудет туда, когда мы кончим наши труды на водах. В порту тебя ждут три корабля и отряд в триста человек. Сэр Джон расскажет тебе наши замыслы. А теперь, мои друзья и верные товарищи, возвращайтесь к себе и побыстрее готовьтесь в дорогу, ибо, свидетель Бог, я отплыву с вами в Уинчелси завтра!
Кивнув Чандосу, Мэнни и еще некоторым из своих доверенных помощников, он увел их во внутренний покой обсудить с ними планы на будущее. Разошлись и остальные: рыцари — в достойном молчании, оруженосцы — смеясь и шумно переговариваясь, но все они равно радовались тому, что им предстояло.
Глава XVII Испанцы в море
Рассвет еще не занялся, а Найджел в покоях Чандоса уже собирал своего благородного господина в дорогу и слушал его последние советы и ободрения. В то же утро, когда солнце поднялось на четверть небосклона, большой неф короля поднял огромный парус, украшенный львами и лилиями, и повернул свой обитый медью нос к берегам Англии, увозя туда большинство присутствовавших на вчерашнем пиру. За «Филиппой» следовали пять когов поменьше, битком набитые оруженосцами, лучниками и жандармами.
Найджел и его новые товарищи на стенах замка махали шапками вслед широким тупоносым кораблям, на которых били барабаны, гремели трубы, над палубами колыхалась сотня рыцарских знамен, а над ними — и самое большое знамя с красным английским крестом. Они следили, как «Филиппа» и ее спутники тяжело выходят из порта, и провожали их глазами, пока не остались видны только паруса, а тогда с тяжелым сердцем, все еще жалея, что не плывут с королем, принялись готовиться к своему более дальнему плаванию.
Потребовалось четыре дня неустанного труда, прежде чем приготовления эти завершились, — небольшому отряду, отправляющемуся во враждебный край, нужно было взять с собой очень многое. Им были оставлены три корабля — ког «Томас» из Ромни, «Божья Благодать» из Хита и «Василиск» из Саутгемптона. На каждом, помимо тридцати матросов экипажа, разместилось сто человек. В трюме стояли сорок лошадей, в том числе и Бурелет, истомившийся от долгого безделья и стосковавшийся по холмам Суррея, где он мог бы поразмять свои могучие ноги. Затем начали грузить провиант и запасы воды, луки, связки стрел, подковы, гвозди, молоты, ножи, топоры, веревки, сено, чаны с зеленым кормом и еще много всякой всячины. И все время от кораблей не отходил суровый молодой рыцарь сэр Роберт. Он наблюдал, проверял, следил и распоряжался, почти не тратя слов, потому что был молчалив, но взглядом, жестами, а если возникала нужда, то и тяжелым хлыстом для собак.
Моряки «Василиска» из Саутгемптона издавна враждовали с моряками Пяти Портов, которых, по мнению остальных английских мореходов, король слишком уж взыскивал своей милостью. И если корабль с западного побережья встречал в гавани корабль с южного, редко удавалось избежать кровопролития. На пристани то и дело вспыхивали потасовки: матросы с «Томаса» и «Божьей Благодати», вопя, накидывались на команду «Василиска» с именем святого Леонарда на устах и жаждой убийства в сердце. Тогда под стук дубинок и лязг ножей в гущу дерущихся, как тигр, врывался их молодой начальник, хлестал всех подряд, словно укротитель своих волков, пока они с воем вновь не брались за работу. Утром на четвертый день все было готово, концы отданы, собственные лодки отбуксировали три корабля из гавани, и они исчезли в тумане, заволокшем пролив.
Хотя численность отряда была невелика, Эдвард отправил в Бретань на помощь осажденным английским гарнизонам внушительные силы. Почти все были опытные ветераны, а их начальники отличались и в совете и на войне. Ноллес поднял свое знамя с черным вороном на «Василиске». Кроме собственного его оруженосца Джона Хоторна, при нем был и Найджел. С ним плыли сорок лучников с йоркширских холмов и еще сорок из Линкольншира. Все известные своей меткостью, а во главе их стоял старик Уот из Карлайла, седой ветеран пограничных войн с Шотландией.
Сноровкой и силой Эйлуорд уже завоевал место среди лучших из них: его вместе с Длинным Недом Уиддингтоном, дюжим северянином, признали обладателем всех качеств, необходимых лучникам, — он уступал в них только прославленному Уоту Карлайлу. Жандармы все были тоже умелыми воинами, а возглавлял их Черный Саймон из Норича, тот самый, который плыл с Найджелом и Эйлуордом на «Мари-Роз». Сердце его пылало ненавистью к французам, убившим всех его близких, и, точно бегущая по следу ищейка, он по морю и суше устремлялся к месту, где ему мог представиться случай удовлетворить жажду мести. Не хуже были лучники и жандармы, плывшие на двух других кораблях — чеширцы на коге «Томасе», набравшиеся опыта на границе с Уэльсом, и камеберленцы на «Божьей Благодати», закалившиеся в пограничных стычках с шотландцами.
На «Томасе» повесил свой щит с пятилистником на горностаевом поле сэр Джеймс Астли. Лорд Томас Перси, младший отпрыск олнуикского дома, уже прославившийся доблестью, которая не один век была засовом на сухопутных вратах Англии, повесил щит со вздыбленным лазурным львом на «Божьей Благодати». Вот такой внушительный отряд повернул в сторону Сент-Мало, когда лодки вывели три корабля из порта Кале в густой туман, клубившийся над проливом. С востока задувал легкий бриз, и крутобокие суденышки с высокой кормой медленно, вперевалку плыли по проливу. Иногда туман рассеивался настолько, что с каждого было видно, как остальные два то взбираются вверх, то скатываются с маслянистых валов мертвой зыби, но затем опять смыкался, окутывал верх мачты, сползал на паруса и уже колыхался над самой палубой, а потом и вода у борта скрывалась из вида, и они словно скользили на крохотном плоту посреди океана белых испарений. Моросил мелкий дождь, и лучники на шкафуте укрылись под выступами носа и кормы. Одни коротали время за игрой в кости, другие спали, остальные же (а их было большинство) предпочитали лишний раз проверить свои стрелы и полировали луки.
В дальнем конце на бочонке, словно на троне, восседал лысый толстяк Бартоломью, окруженный подносами и ящиками с перьями. Он был мастером, изготовлявшим и чинившим луки и стрелы. Ему полагалось следить, чтобы оружие у всех содержалось в порядке, и ему принадлежало право продавать запасные стрелы, тетивы и прочее. К нему то и дело подходили лучники, жалуясь на что-то, чего-то прося. Позади него собрался десяток ветеранов, которые, ухмыляясь, слушали его наставления и выговоры.
— Так у тебя тетива никак не натягивается? — осведомлялся Бартоломью у молодого лучника. — Значит, либо тетива коротка, либо древко слишком длинное. А может, беда в том, что ручки у тебя младенческие и годятся только на то, чтобы штаны подтягивать, а не стрелять из боевого лука? Ленивый ты чурбан! Смотри, как это делается! — Правой рукой он ухватил древко за середину, упер конец в подъем правой ступни, а затем, пригнув левой рукой верхний конец, без труда накинул петлю тетивы на зарубку. — Теперь, будь так любезен, сбрось тетиву.
Юноша с трудом исполнил это, но столь неуклюже, что высвобожденная тетива сильно хлестнула его по пальцам.
По палубе, точно всплеск волны, пронесся хохот, а злополучный лучник тряс рукой и приплясывал от боли.
— Так тебе и надо, дубина ты стоеросовая! — проворчал старый мастер. — Лук-то хорош, да только не для таких дырявых рук. Э-эй, Сэмкин! Как погляжу, тебя мне обучать особо нечему. Лук справный, но ты верно говоришь, красную шелковую обмотку не грех будет пометить белой полоской там, где накладывается стрела. Оставь его, я потом сделаю. А тебе, Уот, что надобно? Новый наконечник для этой стрелы? Господи, чтоб один человек знал сразу четыре ремесла! Луки делать умей, стрелы изготовляй, тетиву сучи, наконечники выделывай! Работай старик Бартоломью за четверых, а плату получай за одного!
— Хватит рассусоливать-то, — проворчал старый лучник с морщинистым, бурым, как пергамент, лицом и глазами-бусинами. — В нынешние дни чинить луки куда как выгоднее, чем сгибать их. Ты вот ни разу в лицо ни единому французу не смотрел, а платят тебе аж девять пенсов, я же в пяти битвах себя показал, а платят мне четыре пенса.
— Сдается мне, Джон из Таксфорда, что ты на дно пивной кружки поглядывал куда чаще, чем на французов, — ответил старый мастер. — Я гну спину с зари до зари, а ты знай элем по харчевням надуваешься! А у тебя что, малый? Лук плохо сгибается? Ну-ка пригни его к мерной палке. Сгибается под шестьюдесятью фунтами — в самый раз для парня твоего роста. Коли лук тугим не будет, как же ты пошлешь стрелу на четыреста шагов? Перья тебе требуются? Выбирай, какие по вкусу, все самые лучшие. Вот павлиньи. Грот штука. Да разве такому пригожему лучнику, Том Беверли, с золотыми серьгами в ушах, сгодятся какие-нибудь, кроме павлиньих?
— Летела бы стрела прямо, а перья пусть любые будут, — ответил высокий йоркширец, пересчитывая медные монеты на заскорузлой ладони.
— Серые гусиные всего фартинг штука. А слева, так те по полпенса, потому как они дикого гуся, а даже малое перо дикого гуся куда дороже самого большого из крыла домашнего. На медном подносе перья, сброшенные при линьке. Сброшенное перо куда лучше выщипанного. Купи-ка их дюжину, малый, и обрежь либо седлом, чтоб стрела насмерть поражала, либо кабаньим хребтом, чтобы она дальше летела, и никто в отряде не сможет похвастать набором стрел получше!
Однако Длинный Нед из Уиддингтона, угрюмый йоркширец с бородой соломенного цвета, придерживался в этих вопросах иного мнения. Он выслушивал советы старого мастера с презрительной усмешкой и наконец не выдержал:
— Продавал бы ты луки, Бартоломью, а как из них стрелять, не учил бы! В голове-то у тебя смыслу не больше, чем волос на ней. Коли б ты натягивал тетиву столько месяцев, сколько я — лет, так знал бы, что стрела с перьями, обрезанными прямо, летит дальше, чем с обрезанными кабаньим хребтом. Просто жалость берет, что зеленые лучники не нашли себе учителя получше!
Такое пренебрежение к его познаниям задело Бартоломью за живое. Его толстое лицо налилось кровью, глаза запылали злобой, и он принялся отчитывать своего хулителя.
— Ах ты, семифутовая бочка вранья! — возопил он. — Клянусь всеми святыми, я покажу тебе, как раскрывать лживую пасть! Бери-ка меч, становись вон там на палубе, и мы увидим, кто из нас двоих умеет рубиться! Чтоб мне больше стрелы о ноготь не проверять, коли я не оставлю на твоей безмозглой башке памятку по себе!
Окружающие не остались равнодушными к ссоре. Кто поддерживал старого мастера, кто стоял за северянина, но все кричали одинаково зычно. Какой-то рыжий йоркширец вытащил было меч, но тут же рухнул на палубу под тяжелым кулаком своего соседа, — и, загудев, как рассерженный пчелиный рой, лучники высыпали на палубу. Однако ни единого удара нанесено не было: между ними тотчас появился Ноллес, глаза на гранитном лице пылали огнем.
— Разойдитесь! Слышите? Прежде чем вы вновь увидите Англию, обещаю вам достаточно драк, чтобы остудить вашу кровь. Лоринг, Хоторн! Зарубите любого, кто поднимет руку! Ты, мерзавец, с лисьим мехом взамен волос, ты что-то хочешь сказать? — И он придвинул лицо почти вплотную к лицу рыжего лучника, который первым схватился за меч. Тот в ужасе попятился от его свирепого взгляда. — А теперь заткните глотки, все вы, и навострите свои длинные уши! Трубач, протруби еще раз!
Каждые четверть часа подавался трубный сигнал двум другим кораблям, скрытым туманом. Вновь раздалась звонкая чистая нота, будто какое-то морское чудище призывало своих товарищей. Но из плотной завесы, сомкнувшейся вокруг них, отклика не донеслось. Вновь и вновь звучал сигнал, вновь и вновь они, затаив дыхание, ждали ответа, но тщетно.
— Где шкипер? — сказал Ноллес. — Твое имя, негодяй? Как смеешь ты выдавать себя за бывалого моряка?
— Имя мое Нат Деннис, благородный сэр, — ответил седобородый моряк. — Тридцать лет назад я повесил свою грамоту у морских ворот Саутгемптона и протрубил в трубу, подбирая себе матросов. Так кому уж называться бывалым моряком, как не мне?
— Где два наши другие корабля?
— Кто же, сэр, разберет в таком тумане?
— Негодяй, твоя обязанность была не терять их!
— У меня, благородный сэр, только те глаза, какие даровал мне Господь, а они сквозь мглу не видят.
— В ясную погоду я и сам их не потерял бы, хотя я и не моряк. Ну, а в тумане следить за этим — твое дело, раз ты зовешься шкипером. А ты не уследил. И потерял два моих корабля, едва мы вышли в море!
— Благородный сэр, прошу тебя, подумай…
— Довольно слов! — сурово перебил Ноллес. — Слова не вернут мне две сотни моих воинов. Если я не отыщу их до прихода в Сент-Мало, клянусь святым Уилфридом Рипонским, день этот станет для тебя черным! Довольно, иди и занимайся своим делом!
В течение пяти часов они пробирались сквозь густой туман, подгоняемые легким ветром, задувавшим с кормы. Дождь моросил по-прежнему, спутывал их бороды, слезами поблескивал на лицах. Иногда туман расступался, и они видели впереди или по бортам нескончаемую толчею волн, но тут же мутные пары вновь смыкались, закрывая все вокруг. Подавать сигналы своим исчезнувшим спутникам они давно перестали, но надеялись обнаружить их, едва развиднеется. По расчетам шкипера они находились теперь на равном расстоянии от обоих берегов.
Найджел прислонялся к фальшборту, а мысли его уносились то в Косфорд, то на одетые вереском склоны Хайндхеда, как вдруг его слух поразил непонятный звук. Это был ясный звон металла, который не могли заглушить ни плеск волн, ни скрип гика, ни хлопки парусов. Он прислушался. И вновь услышал звон.
— Милорд! — сказал он Ноллесу. — Ты ничего не слышал?
Оба чуть наклонили головы, напрягая слух. Вновь раздался тот же звон, но донесся он с другой стороны — не с носа, как прежде, а сбоку. И опять, и опять. То он раздавался по носу, то с правого или левого борта, то совсем близко, то еле слышно. К этому времени у бортов сгрудились и лучники, и жандармы, и матросы. Повсюду вокруг в непроницаемой мгле раздавались непривычные звуки, а влажная стена тумана вставала у них перед самыми глазами. И снова и снова все те же таинственные звуки — музыкальный звон металла.
Старый шкипер покачал головой и перекрестился.
— Тридцать лет я провел на волнах, а такого ни разу не слышал, — сказал он. — Ну да, в тумане всегда бесчинствует дьявол. Недаром его называют Князем Тьмы.
По кораблю прокатилась волна паники. Эти суровые, сильные люди, не страшившиеся никаких смертных врагов, содрогнулись от ужаса перед тенями, созданными их собственным воображением. Побледнев, они вглядывались в туман неподвижными глазами, словно вот-вот юз него должен был явиться адский демон. В это мгновение налетел порыв ветра, мутная завеса приподнялась, и перед ними открылся довольно широкий вид на море.
Все представшее их взору пространство было усеяно кораблями. И справа и слева тесным строем в одном направлении с «Василиском» плыли внушительные караки с высокой кормой, крутыми, выкрашенными красной краской бортами и резными позолоченными поручнями. На каждом был поставлен один большой парус, палубы их кишели людьми, а наводящий жуть звон доносился с кормы то одного, то другого. Но не успели они толком разглядеть этот великолепный флот, медленно двигавшийся вперед под серым пологом, как туман вновь сомкнулся и видение исчезло. Некоторое время на «Василиске» царила мертвая тишина, а затем раздались возбужденные голоса.
— Испанцы! — хором произнесли дюжины две лучников и жандармов.
— И как это я не сообразил? — сказал шкипер. — На бискайском побережье они бряцают кимвалами на манер язычников-мавров, с которыми воюют. Но что ты прикажешь, благородный сэр? Коли туман рассеется, нам всем не миновать смерти.
— Кораблей у них не меньше тридцати, — ответил Ноллес, хмурясь. — Если мы их увидели, то и они нас, конечно, заметили. И пойдут на абордаж.
— Нет, благородный сэр, сдается мне, наш корабль и легче и быстрее, чем эти. Коли туман продержится еще час, мы уйдем от них.
— К оружию! — крикнул Ноллес. — К оружию! Вот они!
Действительно, «Василиск» был замечен с корабля испанского адмирала прежде, чем его укрыл туман. Искать его в тумане под парусом при таком слабом ветре нечего было и думать, однако, к несчастью для англичан, на близком расстоянии от тяжелого карака шла узкая и быстрая галера. С нее тоже увидели «Василиска», и испанский адмирал отправил ее в погоню. Несколько минут она рыскала в тумане, а затем выпрыгнула на него, как прыгает на добычу тощий хищник, поджидавший в засаде. Именно появление скользящей за ними длинной темной тени и вырвало из уст английского рыцаря предостерегающий крик. Мгновение спустя весла по правому борту галеры были убраны, суда сошлись вплотную, и с торжествующими воплями на палубу «Василиска» вскарабкалась орда смуглых испанцев в красных колпаках.
Уже казалось, что английский корабль удалось захватить без единого обмена ударами: лучники и жандармы метались по нему в поисках своего оружия. Несколько десятков лучников, укрывшись под навесами носа и кормы, уже сгибали луки и набрасывали на древко тетиву, извлеченную из футляра. Но остальные перелезали через седла и бочонки, ища колчаны. Тот, кто отыскивал свой колчан, тотчас вручал несколько стрел своим менее удачливым товарищам. В темных углах жандармы хватали каски, которые оказывались им то слишком малы, то слишком велики, швыряли их на палубу и вооружались мечами и копьями, которые первыми попадались им под руку.
Испанцы завладели средней частью корабля, сразив всех, кого застигли там, и уже хлынули к носу и корме, когда им пришлось убедиться, что за уши они ухватили не жирную овцу, а свирепого матерого волка.
Хотя урок им был преподан с запозданием, но исчерпывающе. Атакованные с двух сторон, безнадежно уступая врагам численностью, испанцы, до последней минуты считавшие небольшой «Василиск» торговым судном, были перебиты все до единого. Это была не битва, но бойня. Тщетно уцелевшие, взывая ко всем святым, прыгали в свою галеру — на нее с кормы «Василиска» сыпался град стрел, поражавших и матросов на палубе, и прикованных к скамьям гребцов-невольников. Точно еж иглами, галера повсюду щетинилась впившимися в дерево стрелами.
И «Василиск», продолжив путь, оставил за собой в тумане плавучий гроб, полный мертвецов и умирающих.
Взобравшись на палубу «Василиска», испанцы схватили шестерых матросов и четырех безоружных лучников, которых швырнули за борт с перерезанным горлом. Теперь за борт полетели сами испанцы, и мертвые и раненые. Одному удалось скрыться в трюме, но его отыскали там и убили в темноте, точно крысу. Через полчаса от этой ожесточенной схватки в тумане не осталось никаких следов, если не считать багровых разводов на бортах и палубном настиле. Лучники, раскрасневшиеся, веселые, снимали с луков тетивы, потому что во влажном воздухе они теряли упругость, хотя их и натирали от сырости специальным составом. Некоторые бродили по кораблю в поисках стрел, другие перевязывали легкие раны. Однако тревога не исчезала с лица сэра Роберта, и он продолжал внимательно всматриваться в туман.
— Пойди-ка к лучникам, Хоторн, — сказал он своему оруженосцу, — и прикажи им под страхом смерти соблюдать тишину. А ты, Лоринг, иди к жандармам и прикажи им то же самое. Если испанцы нас обнаружат — мы погибли.
В течение часа, еле осмеливаясь дышать, они пробирались сквозь испанский флот, а вокруг, не стихая, бряцали кимвалы, помогая испанским кораблям держаться вместе. Один раз звон грянул над самым носом «Василиска», и они спешно свернули в сторону. Затем из тумана у них на раковине замаячил огромный силуэт, но они повернули на два румба, и грозная тень растворилась в тумане. Вскоре звон кимвалов превратился в отдаленное позвякивание, а затем и вовсе стих.
— И вовремя, — сказал старый шкипер, указывая на желтизну, разливающуюся по туману у них над головой. — Видите? Это солнце пробивается сквозь мглу. Вот-вот мы его увидим. Ну, что я говорил?
Действительно, между дымных прядей проглянул бледный солнечный диск величиной с лунный и куда менее яркий, и у них на глазах начал увеличиваться, становиться ярче, оделся золотым ореолом, выбросил один луч — и тут же на них словно из воронки хлынул целый сноп лучей, расширяясь у основания. Минуту спустя они уже плыли по спокойному синему морю под лазурным небом в белых барашках облаков. Сцена, которая развертывалась под этим небом, навсегда врезалась в их память.
Они находились на середине пролива. Справа и слева виднелись бело-зеленые берега Кента и Пикардии. Впереди простирался широкий пролив, и цвет его менялся от голубого у их бортов до темно-лилового у дальнего горизонта. Позади них лежал вал густого тумана, из которого они только что вырвались. Он серой стеной протянулся с востока на запад, и в нем высокими тенями маячили испанские караки. Четыре уже были залиты светом вечернего солнца, озарявшим красные борта, богатую позолоту поручней и раскрашенные паруса. Каждый миг в тумане появлялось новое золотое пятно, на мгновение вспыхивало, как звезда, а затем выдвигалось вперед и оказывалось обитым медью носом внушительного красного корабля. От серой стены теперь уже отделилась длинная линия величавых караков. «Василиск» опережал их на милю с лишним в двух милях сбоку от них. В пяти милях впереди ближе к французскому берегу по волнам бежали два небольших судна. При виде их Роберт Ноллес радостно вскрикнул, а старый шкипер пробормотал благодарственную молитву всем святым, узнав потерянных в тумане ког «Томас» и «Божью Благодать».
Как ни приятен был вид их вновь обретенных товарищей, как ни поразительно появление испанских кораблей, но те, кто находился на «Василиске», смотрели уже не на них. Перед ними открывалось куда более захватывающее зрелище. Они столпились на носу, оживленно переговариваясь и указывая пальцами. Со стороны Уинчелси в пролив выходил английский флот. Еще до того, как туман начал рассеиваться, быстроходная галера принесла королю известие, что испанцы вышли в море, и он дал приказ отплывать. И вот теперь на фоне кентского берега от мыса Данджнесс до Рая вытянулся их строй под парусами, несущими пестрые гербы и цвета городов, снарядивших их. Двадцать девять из Саутгемптона, Шорема, Уинчелси, Гастингса, Рая, Хита, Ромни, Фолкстона, Дила, Дувра и Сандуича. Поставив большие паруса так, чтобы ловить ветер, они выходили в пролив, а испанцы, учтивые враги, повернули к ним навстречу. Развевающиеся знамена, раскрашенные паруса, гремящие трубы, бряцающие кимвалы — два могучих флота, покачиваясь на длинной зыби, медленно сближались.
С утра король Эдуард ждал на своем большом нефе «Филиппа» в миле от Камбер-Сэндс, когда же появятся испанцы. Над большим парусом с королевским гербом ветер колыхал красный крест Англии. По бортам выставили свои щиты сорок рыцарей — цвет английского воинства — и сорок рыцарских знамен украшали палубу. На возвышениях носа и кормы блестело оружие жандармов, а низкий шкафут занимали лучники. Время от времени на королевском корабле гремели трубы и литавры, и ему отвечали все могучие соседи: «Лев», на котором поднял свой флаг принц, «Кристофер», под командой графа Суффолка, «Саль дю Руа» Роберта Намюрского и «Святая Мария» сэра Томаса Холланда. Чуть дальше стояли «Белый лебедь» с гербом Мобрея, «Пальмер из Дила» с черной головой Одли и «Кентец» лорда Бошана. Остальные стояли в устье Уинчелси-Крика на якорях, но готовые поднять их в любую минуту.
Король расположился на носу. Сиденьем ему служил бочонок, а на колене у него примостился Джон Ричмондский, тогда еще совсем малыш. Одет Эдуард был в свой любимый жакет черного бархата, а на голове у него была небольшая коричневая шапочка из бобрового меха с белым страусовым пером. На плечи он набросил пышный меховой плащ с опушкой из горностая. Позади него двадцать рыцарей в ярких нарядах из шелков и легкой тафты сидели кто на киле перевернутой лодки, а кто и на фальшборте, болтая ногами.
Лицом к ним всем Джон Чандос в двухцветном порпуане, поставив одну ногу на шток якоря, перебирал струны лютни и пел песню, которой научился в Мариенбурге, когда последний раз отправился с рыцарями Тевтонского ордена в поход против язычников. Король, его рыцари и даже лучники внизу смеялись веселым строфам и дружно подхватывали припев, а на соседних кораблях люди перегибались через борт, чтобы лучше расслышать песню, разносившуюся над водой.
Но внезапно она оборвалась. Дозорный на круглой площадке у верхушки мачты хрипло крикнул:
— Вижу парус!.. Два паруса!
Джон Банс, шкипер короля, приложил ладонь козырьком над глазами и всмотрелся в длинный вал тумана, заволокшего северную часть пролива. Пальцы Чандоса замерли на струнах — он, король, рыцари и все прочие тоже вглядывались в туман. На солнечный свет вырвались два маленьких темных силуэта, а следом за ними и третий.
— Это ведь испанцы? — спросил король.
— Нет, государь, — ответил моряк, — у испанцев корабли побольше, и они красят их в красный цвет. А чьи эти, не скажу.
— Пожалуй, я знаю! — воскликнул Чандос — Три корабля с моим отрядом на пути в Бретань.
— Верно, Джон, — сказал король. — Но взгляните туда! Во имя Пречистой, что это?
В стене тумана на некотором расстоянии друг от друга вспыхнули четыре слепящие звезды, а в следующее мгновение из нее появились четыре высоких корабля. Воинственный клич сотряс королевский корабль и был подхвачен на всех остальных, пока эхо его не прокатилось по всему берегу от Данджнесса до Уинчелси. Король вскочил на ноги, сияя радостью.
— Дичь поднята, друзья! — вскричал он. — Одевайся, Джон! Одевайся, Уолтер! И вы все поторопитесь. Оруженосцы, несите доспехи. Пусть каждый сам о себе позаботится. Время не терпит!
Удивительно было смотреть, как эти сорок знатных особ сбрасывали с себя одежду, заваливая палубу атласами и бархатами, а их оруженосцы, точно конюхи перед конскими состязаниями, изгибались, крепили, затягивали, завинчивали — надевали шлемы, застегивали латы, накладывали набедренники, и изысканно одетый придворный превращался в железного истукана. Там, где перешучивались и пели под лютню сэра Джона щеголи, теперь выстроились суровые воины. Внизу между кормой и носом лучники по команде своих начальников занимали назначенные места в деловитой тишине. Десятеро забрались в башенку на мачте — пост самый опасный.
— Подай вино, Никлас! — воскликнул король. — Благородные господа, пока вы не опустили забрала, приглашаю вас выпить со мной последнюю чашу. Прежде чем вы снова их поднимете, горло у вас порядком пересохнет, обещаю вам. Но за что бы нам выпить, Джон?
— За испанцев, — ответил Чандос, чье худое лицо выглядывало из просвета между забралом и подбородником, точно остроносая птица из дупла. — Пусть нынче сердца их будут тверды, а дух отважен!
— Хорошо сказано, Джон! — воскликнул король, и рыцари выпили вино с веселым смехом. — А теперь, благородные господа, по своим местам! Я буду командовать тут. Джон, тебе поручаю корму. Уолтер, Джеймс, Уильям, Фиц-Алан, Голдсборо, Реджинальд, вы останетесь со мной.
Джон, выбери кого хочешь, остальные спуститесь к лучникам. Шкипер, правь в самую их середину. Еще не зайдет солнце, как мы вернемся с красным кораблем в подарок нашим дамам или больше их не увидим.
Искусство плыть против ветра еще не было изобретено, не существовало ни фока, ни бизани — только лишь небольшие передние, служившие для поворотов, а потому английский флот, чтобы перехватить врага, вынужден был двигаться по проливу наискосок. Однако испанцы, шедшие по ветру, жаждали встречи не меньше, и это ее ускорило. С величавым достоинством два могучих флота все больше сближались.
Один великолепный карак обогнал остальные и двигался теперь на полмили впереди — красный с золотом, сверкающий железной полосой по бортам. Эдуард смотрел на него горящим взором, так хорош он был, пеня золоченым носом синюю воду.
— Прекрасный корабль, Банс, — сказал король стоявшему рядом с ним шкиперу. — Я не прочь помериться с ним силами. Прошу, держи прямо, чтобы мы его сокрушили.
— Коли я буду держать прямо, так один пойдет на дно, да как бы и не оба, государь, — ответил моряк.
— Чаю, с помощью Пречистой мы исполним возложенный на нас долг, — сказал король. — Держи прямо, шкипер, как я тебе повелел.
Оба корабля уже сблизились на полет стрелы, и испанские арбалетчики принялись за англичан. Их дьявольские короткие и толстые стрелы жужжали в воздухе, как осы, с треском били в борта, грохотали по палубе, с громким лязгом отлетали от рыцарских шлемов и лат либо с мягким шлепком впивались в тело жертвы.
Все это время лучники вдоль обоих бортов «Филиппы» стояли неподвижно в ожидании команды, и тут она раздалась. Все тетивы зазвенели разом. Этот звон смешался со свистом стрел, постанывающими выдохами лучников и рявканьем их начальников.
— Не торопись! Не торопись! Стреляй разом! Двести пятьдесят шагов! Двести шагов! Пятьдесят! Стреляй разом!
Рявканье это перекрывало все высокие звуки, как в бурю рев морских волов перекрывает вой ветра.
Два могучих корабля совсем сошлись, и тут испанцы чуть отвернули, чтобы удар получился скользящим. Тем не менее он был ужасен. Десяток матросов на площадке карака держали наготове каменную глыбу, чтобы обрушить ее на палубу врага, и вдруг испустили вопль ужаса: мачта под ними затрещала, начала крениться, сначала медленно, потом все быстрее, и с оглушительным грохотом легла набок, а их, точно камни из пращи, метнуло далеко в море. Много беды рухнувшая мачта наделала и на палубе. Однако «Филиппе» тоже пришлось нелегко. Правда, ее мачта устояла, тем не менее от толчка не только все на палубе попадали, но десятка два слетели в море с бортов. С мачты свалился лучник, и его тело гулко стукнулось о палубу совсем рядом с распростертым на ней королем. На низком шкафуте между башнями носа и кормы лежали со сломанными руками и ногами те, кого сбросило с них вниз. Но хуже того: от удара разошлись швы, и вода в десятке мест хлынула в трюм.
Однако это были опытные и дисциплинированные солдаты и моряки, уже много раз сражавшиеся вместе на море и на суше, и каждый знал свое место и свои обязанности. Все, кто мог, пошатываясь, поднялись на ноги и помогли встать чуть ли не половине рыцарей, которые, лязгая, перекатывались у бортов с боку на бок, придавленные тяжестью собственных доспехов. Лучники вновь построились. Матросы кинулись к щелям с паклей и смолой. Через десять минут порядок восстановился, и «Филиппа», хотя и понесла немалый ущерб, снова была готова к бою. Король с яростью смотрел по сторонам, как раненый вепрь.
— Сцепить мой корабль с этим! — крикнул он, указывая на искалеченный карак. — Он мой пленник!
Но тем временем ветер уже увлек их дальше, и на них надвигался десяток испанских кораблей.
— Мы не можем повернуть к нему, не подставив борт вот этим, — сказал шкипер.
— К чему он тебе, государь? Ты найдешь что-нибудь получше! — воскликнули рыцари.
— Клянусь святым Георгием, вы правы! — ответил король. — Да и он от нас не уйдет, если останется время. А корабли эти тоже очень хороши! Прошу тебя, шкипер, сойдись с ближайшим.
Им наперерез двигался большой карак на расстоянии полета стрелы. Банс взглянул на свою мачту и убедился, что она заметно накренилась. Еще толчок — и она полетит за борт, а его корабль превратится в плавающее бревно. Поэтому он налег на кормило и направил «Филиппу» вдоль борта карака, приказав цеплять его абордажными крючьями и цепями.
Испанцы с не меньшим рвением забрасывали свои крючья на нос и корму «Филиппы», и, накрепко соединенные, два корабля уже вместе медленно поднимались и опускались на длинных синих валах. А над сомкнутыми бортами в отчаянной схватке сплетались люди, огромной волной то накатываясь на палубу карака, то откатываясь на палубу англичан. Над колышущимися рядами языками серебряного пламени вспыхивали мечи, и в тихие голубые небеса уносились вопли ярости и боли, сливаясь в подобие волчьего воя.
К этому времени один за другим подошли прочие английские корабли, забрасывая абордажные крючья на высокий красный борт ближайшего испанца. Теперь двадцать кораблей качались на волнах, сошедшись в яростном поединке, а вскоре борющиеся пары уже трудно было пересчитать. «Кристофер» графа Суффолка захватил карак, потерявший мачту в столкновении с «Филиппой», и вода вокруг была усеяна головами испанского экипажа. Большой камень, который метнул мангонель, потопил английский корабль, и люди с него тоже барахтались в воде — в ожесточении битвы прийти к ним на помощь было некому. Второй английский корабль взяли на абордаж с обоих бортов, и в живых на нем не осталось ни единого человека. Зато Мобрей и Одли захватили по караку, и в центре победа теперь склонялась на сторону островитян.
Черный принц на «Льве», «Дева Мария» и еще четыре корабля попытались зайти испанцам во фланг, но их маневр был замечен, и испанцы повернули им навстречу десять кораблей, в том числе самый большой свой карак «Сант-Яго ди Компостелла». Вот к его борту принц и прицепил свой маленький ког, но все попытки захватить испанца кончались неудачей — борт карака был слишком высок, а его защитники оборонялись бешено, раз за разом сбрасывали англичан вниз, и они с лязгом и грохотом падали на свою палубу. Выстроенные у борта «Сант-Яго» арбалетчики с высоты осыпали стрелами переполненный людьми шкафут «Льва», и трупы громоздились там кучами. Но опаснее всего был смуглый чернобородый великан на дозорной площадке, скорчившийся так, что со «Льва» его успевали увидеть только в те три-четыре секунды, когда он вставал во весь рост, сжимая в руках огромный кусок железа, и швырял его вниз с силой, которой ничто не могло противостоять. Вновь и вновь железные перуны пробивали палубный настил и рушились на днище кога, сокрушая все на своем пути и разбивая обшивку.
Принц в черных доспехах (по ним он и получил свое прозвище) руководил боем на корме, и туда к нему прибежал шкипер с перекошенным от ужаса лицом.
— Государь! — крикнул он. — Днище не выдержит этих ударов! Вода уже наполняет трюм!
Принц взглянул на мачту испанца, и в этот миг на дозорной площадке вновь мелькнула черная борода и две могучие руки резко опустились сверху вниз. В воздухе просвистела железная болванка, пробила в палубе зияющую дыру и обрушилась в трюм. Шкипер вцепился в свои седеющие волосы.
— Еще одна течь! — простонал он. — Святой Леонард, охрани нас в день сей! Двадцать моих молодцов вычерпывают воду ведрами во всю мочь, но она поднимается. «Лев» вот-вот пойдет ко дну!
Принц выхватил арбалет у одного из своих телохранителей и навел его на дозорную площадку. В тот миг, когда чернобородый великан, поднимая новую болванку, опять выпрямился, в лоб ему впилась свинцовая стрела, он упал, и его тело свесилось через ограждение площадки. Ликующий крик вырвался из груди англичан, а в ответ раздались злобные вопли испанцев. Из трюма «Льва» выскочил матрос и что-то зашептал шкиперу. Тот посерел и повернулся к принцу.
— Государь, я сказал верно: корабль тонет у нас под ногами! — вскричал он.
— Тем нужнее нам обрести другой, — ответил тот. — Сэр Генри Стокс, сэр Томас Стортон, Уильям и Джон Клифтоны — вот наша дорога! Разверни мое знамя, Томас де Мохун! Вперед, и мы победим!
Ценой нечеловеческих усилий принц и еще человек десять — двенадцать сумели завладеть уголком испанской палубы. Одни продолжали бешено рубиться, расчищая палубу перед собой, другие, перевесившись через борт, помогали товарищам карабкаться на «Сант-Яго». С каждым выигранным мгновением маленький английский отряд увеличивался — двадцать уже стали тридцатью, тридцать превратились в сорок… Но тут те, кто тянул руки к еще остававшимся на коге, увидели, как палуба накренилась под ногами у их товарищей и исчезла в кипении пены. Корабль принца затонул.
С торжествующим криком испанцы ринулись на англичан, которые успели захватить корму и теперь во главе с принцем отражали все попытки врагов подняться на нее следом за ними. Но на них градом сыпались арбалетные стрелы, и вскоре уже треть их распростерлась на палубе. Остальные, выстроившись поперек кормовой надстройки, со все большим трудом удерживали свою позицию от яростных натисков орды врагов, рвущихся к ним снизу. Еще один-два натиска — и они не устояли бы против смуглых сынов Испании, свирепых и упрямых воинов, закаленных в бесконечной борьбе против завоевателей-мавров. Но внезапно со стороны носа донесся громовой клич:
— Святой Георгий! Святой Георгий! Ноллес на выручку!
Шестьдесят воинов с «Василиска», который незамеченным подошел к борту «Сант-Яго», хлынули на палубу. Оказавшиеся между двух огней испанцы дрогнули, и сражение перешло в резню. Люди принца прыгнули с кормы вниз, навстречу к ним ринулись подоспевшие товарищи. Минут пять слышались удары, стоны, молитвы и всплески — оттесненных к бортам испанцев сбрасывали в море, как они ни отбивались. Затем все кончилось, и замученные, обессиленные люди еле переводили дыхание, опираясь на мечи или в изнеможении разлегшись на палубе захваченного карака.
Принц поднял забрало, опустил подбородник и, с гордой улыбкой посмотрев вокруг, вытер струившийся по лицу пот.
— Где шкипер? — осведомился он. — Пусть направит нас еще к какому-нибудь вражескому кораблю.
— Увы, государь, шкипер и все матросы пошли на дно со «Львом», — ответил знаменосец, сэр Томас де Мохун, молодой рыцарь с запада страны, — Мы потеряли наш корабль и половину наших людей. Боюсь, сражаться мы больше не можем.
— Что же, пусть так! Ведь победа уже наша, — ответил принц, оглядывая море. — Знамя моего благородного отца развевается вон над тем испанцем. Мобрей, Одли, Суффолк, Бошан, Намюр, Траси, Стаффорд, Арундель подняли свои знамена на алых караках, как я на этом. А уцелевшие их корабли нам все равно не настичь. Однако мы должны поблагодарить тех, кто пришел к нам на помощь в решительную минуту. Я уже видел твое лицо и твой герб, благородный сэр, но имя твое не припомню. Назови его.
Он обращался к Найджелу, который, раскрасневшийся и счастливый, стоял в первом ряду отряда с «Василиска».
— Я всего лишь оруженосец, государь, и не заслуживаю благодарности, ибо ничего славного не совершил. Вот наш начальник.
Взгляд принца обратился на щит с черным вороном и на молодое, но суровое лицо того, кто этот щит держал.
— Сэр Роберт Ноллес! — сказал принц, — А я полагал, что ты уже плывешь в Бретань.
— Я был на пути туда, государь, оттого-то мне и выпало счастье увидеть это сражение. Принц засмеялся:
— Правда твоя, Роберт. Требовать, чтобы ты проплыл мимо, когда совсем рядом представился случай показать свою доблесть, было бы слишком! А теперь, прошу тебя, вернись с нами в Уинчелси. Мой отец, я знаю, будет рад поблагодарить тебя за совершенное тобой.
Однако Роберт Ноллес покачал головой:
— Государь, твой отец послал меня в Бретань, и нарушить его повеление, не получив на то приказ от него, я не смею. В Бретани наши гарнизоны теснят со всех сторон, и всякое промедление опасно. Если уж ты должен упомянуть про меня его величеству, то испроси мне прощение за то, что я на этот час свернул с пути.
— Ты прав, Роберт. Ну, плыви с Богом. Прискорбно только, что я не могу отправиться под твоим знаменем туда, где, сдается мне, твоих людей ждут славные деяния. Но, как знать, быть может, и я окажусь в Бретани еще до истечения года.
Принц повернулся к своим людям, а василискцы поспешили к борту, попрыгали на свой ког, оттолкнулись шестами от захваченного испанца, поставили парус и повернули на юг. Издали навстречу к ним поспешали два других их судна на случай, если понадобится их помощь, а по проливу уходили десятка два алых караков, которых по пятам преследовали несколько английских кораблей. Солнце уже касалось краем моря, и его лучи, почти параллельные воде, озаряли багрец и золото четырнадцати могучих караков и крест святого Георгия над каждым. Морские великаны почти заслоняли сблизившиеся английские корабли, которые с развевающимися знаменами под громкую музыку медленно приближались к кентскому берегу.
Глава XVIII Как Черный Саймон потребовал у короля Сарка выигранный залог
Почти двое суток маленький флот весело бежал по Ла-Маншу, но на второе утро, когда впереди показался мыс Аг, крепкий ветер с суши отогнал их в открытое море. Шквал сменялся шквалом, полил дождь, поднялся туман, и еще двое суток ушли на то, чтобы обогнуть Аг. На рассвете пятого дня они обнаружили, что повсюду вокруг видны опасные рифы, а справа по носу над морем круто поднимается остров, над темно-красными гранитными обрывами которого виднеется яркая зелень луга. Рядом лежал островок поменьше. При взгляде на них Деннис, шкипер, покачал головой.
— Вон этот — Бреку, — сказал он. — А который побольше — зовется остров Сарк. Коли мне суждено разбиться, то молю Бога, лишь бы не на здешних скалах!
Ноллес проследил направление его взгляда.
— Правда твоя, шкипер, — согласился он, — Место на вид гибельное. Повсюду подводные скалы и острые камни.
— Да нет! Я-то говорил о каменных сердцах тех, кто тут обитает, — ответил старый моряк. — На трех добрых кораблях мы тут в безопасности, но будь на нашем месте маленький парусник, они бы уже подбирались к нему на своих лодках.
— Но что же это за люди и как они живут на таком маленьком и голом острове?
— Так ведь, сэр, их не остров кормит, а то, что они вокруг него жнут. Собрался в этом глухом месте и обороняет его от всего света всякий сброд из разных стран: беглые галерники, преступники, крепостные, убийцы и разбойники. Вон он может много чего порассказать и про них, и про их обычаи, он тут долго в плену томился. — И шкипер кивнул на Черного Саймона, смуглого уроженца Норича, который, прислонясь к фальшборту, смотрел на дальний остров угрюмо и в тяжкой задумчивости.
— А ну-ка, молодец, правду мне сказали, что тебя держали на этом острове в плену?
— Правду, благородный сэр. Восемь месяцев я был слугой того, которого они там называют своим королем.
Прозвище у него Немой, а родом он с Джерси, и под всем Божьим небом нет другого, кого я повидал бы с большей радостью.
— Так, значит, он тебя не щадил?
Черный Саймон криво улыбнулся и сбросил куртку. Его худощавая, но мускулистая спина была вся в сморщенных рубцах и шрамах.
— Он оставил на мне свои знаки. Поклялся, что заставит меня покориться, и не жалел сил. Но повидать его я хочу потому, что он проиграл мне залог и пора потребовать с него проигрыш.
— Странные слова! — заметил Ноллес. — Что это был за спор и почему он должен тебе платить?
— Дело небольшое, — ответил Саймон, — но я человек бедный, мне даже малость кстати. И, задержись мы у этого острова, я бы испросил у тебя позволения съездить на берег получить то, что мне причитается по всей справедливости.
Сэр Роберт Ноллес засмеялся.
— Забавно! — воскликнул он. — А шкипер как раз сказал мне, что мы должны заняться починкой и простоим тут до следующего утра. Но если ты отправишься на берег, почему ты думаешь, что тебя отпустят назад? И что ты сумеешь увидеть этого их короля?
Смуглое лицо Саймона уже просияло свирепой радостью.
— Благородный сэр, только дай разрешение, и я навеки останусь у тебя в долгу. Ну а на твой вопрос отвечу, что остров знаю, как улицы моего родного Норича. Ты сам видишь, он невелик, я же провел на нем без малого год. Отправлюсь, когда смеркнется. Дорогу к дому короля я и в темноте отыщу. Коли он еще жив и не мертвецки пьян, мы поговорим с глазу на глаз, я ведь знаю его обычаи и привычки, знаю, где и как его найти. Еще попрошу отпустить со мной лучника Эйлуорда, чтобы рядом был надежный друг, коли что обернется не так.
Ноллес задумался.
— Просишь ты немалого, — сказал он. — Бог мне свидетель, потерять тебя и твоего приятеля мне никак не с руки. Я ведь числю вас среди лучших моих людей. Видел, как вы дрались с испанцами, и обоих вас запомнил. Но я тебе доверяю, и, коль мы правда должны задержаться в этом проклятом месте, поступай, как знаешь. Но если ты меня обманываешь или задумал сбежать, то проси Бога быть твоим надежным другом, ибо никакой человек тебе не поможет!
Им не только надо было проконопатить швы, но «Томас» остался почти без пресной воды, а потому корабли бросили якорь возле островка Бреку, где били источники. На этом клочке суши никто не жил, но на соседнем острове они разглядели множество наблюдавших за ними людей, видимо вооруженных, о чем говорил блеск железа. Одна лодка с острова даже осмелилась подобраться к ним поближе, но тут же торопливо убралась восвояси предупредить остальных, что на поживу надеяться нечего, а дал бы только Бог ноги унести.
Черный Саймон отыскал Эйлуорда в тени кормы, где лучник, привалившись спиной к спине мастера Бартоломью и весело насвистывая, вырезывал на конце своего лука девичье личико.
— Друг! — сказал Саймон. — Ты вечером не поедешь со мной на остров? Мне нужна твоя помощь.
— Поеду ли, Саймон? — с веселым хохотом осведомился Эйлуорд. — Да с величайшим удовольствием, клянусь рукоятью. Мне не терпится еще раз почувствовать под ногами твердую землю. Всю свою жизнь ходил я по ней, да так бы и не узнал ей цену, коли бы не эти трижды проклятые корабли. Поедем на берег, Саймон, и поищем девушек, если они там имеются, а то будто год прошел с тех пор, как я в последний раз слышал их милые голоса, и надоело мне глядеть на рожи вроде твоей или Бартоломью!
Угрюмые черты Саймона смягчила улыбка.
— Единственное лицо, Сэмкин, какое ты увидишь там, много радости тебе не доставит, — ответил он. — И хочу тебе сказать, дело нас там ждет нелегкое и не веселое, а такое, что обернется для нас лютой смертью, если нас схватят.
— Клянусь рукоятью, можешь на меня положиться, приятель! — ответил Эйлуорд. — А потому ничего больше не говори. Мне наскучило сидеть здесь, как кролику в норе, и я рад помочь тебе в твоем замысле.
В тот же вечер, через два часа после наступления темноты, от «Василиска» отошел небольшой ялик. В нем сидели Саймон, Эйлуорд и два матроса. Оба друга вооружились мечами, а через плечо Саймона была переброшена сумка из мешковины. По его указанию гребцы огибали опасный, разбивавшийся о гранитные обрывы прибой, пока не добрались до длинного рифа, служившего природным волноломом. Под его защитой они по спокойной воде добрались до песчаной бухточки и там вытащили ялик на пологий берег. Приказав матросам ждать их тут, Саймон повел Эйлуорда в глубь острова.
С уверенностью человека, который точно знает, где находится и куда идет, Саймон начал взбираться по узкой, заросшей папоротником расселине. В темноте это было не очень легко, но он устремлялся вперед, как гончий пес, бегущий по горячему следу. Эйлуорд поспевал за ним, как мог, еле переводя дыхание. Наконец они выбрались на вершину обрыва, и лучник растянулся в траве.
— Нет, Саймон, — пропыхтел он, — я сейчас и свечки не задую. Умерь свою прыть, у нас ведь вся ночь впереди. Верно, он тебе из всех друзей друг, коли ты так торопишься поскорее с ним свидеться.
— Такой друг, что мне частенько снилось, как мы опять встретимся, — ответил Саймон. — И теперь еще не зайдет луна, как это сбудется.
— Торопись ты к красотке, я бы еще понял, — заметил Эйлуорд. — Клянусь моими десятью пальцами, коли бы меня на этом обрыве ждала Мери с мельницы или малютка Кэт из Комптона, я бы взлетел наверх, как на крыльях… Погоди-ка, вон там вроде бы дома и голоса слышны.
— Это их селенье, — шепнул Саймон. — И под крышами там обитает сотня таких кровожадных разбойников, каких во всем христианском мире не сыскать. Чу! Слышишь?
Из мрака донесся свирепый хохот и мучительный стон.
— Господи, спаси и помилуй! — ахнул Эйлуорд. — Что это?
— Верно, к ним в когти попал какой-нибудь бедняга, вот как я тогда. Пошли, Сэмкин, вон туда. Укроемся в канаве, где режут торф. Ага! Вот она. Только стала пошире и поглубже. Не отставай от меня, и по ней мы доберемся почти до самого дома их короля.
Они пригнулись и крадучись пошли по дну канавы, полной чернильного мрака. Внезапно Саймон схватил Эйлуорда за плечо и прижал к стенке канавы. У дальнего ее конца послышались шаги и голоса. Вдоль нее неторопливо шли два человека, а потом остановились почти над припавшими к земле товарищами. Эйлуорд видел их силуэты на фоне звездного неба.
— Ну, чего ты ворчишь, Жак? — сказал один на своеобразной смеси французского и английского. — Le diable t'emporte[16], брюзга проклятый. Ты вон женщину выиграл, а я так с носом остался. Чего же тебе еще надо?
— Тебе хорошо: выиграешь что-нибудь со следующего парусника, mon garcon[17], а мне теперь ждать да ждать. Женщина, как же! Старая карга — крестьянка, желтая, как лапа коршуна. Гастон всего-то девятку выбросил против моей восьмерки, а досталась ему такая нормандочка! Дьявол побери игральные кости! Хочешь, я продам тебе мою старуху за бочонок гасконского?
— Лишнего вина у меня нет, а вот бочонок яблок дам, — ответил второй. — Я его забрал с «Петра и Павла», фалмутского парусника. Ну, того, что разбился в бухте Кру.
— Ну ладно. Яблоки твои небось уже сморщились, да старуха Мари сама, как печеное яблоко, так и по рукам. Пойдем запьем уговор.
Их шаркающие шаги замерли в темноте.
— Ты когда-нибудь слышал такую пакость? — тяжело дыша, прошептал Эйлуорд. — Ты слышал их, Саймон? Старуху — за бочонок яблок! А эту девушку из Нормандии и вовсе жалко. Неужто мы завтра не высадимся здесь и не выкурим всех этих водяных крыс из их гнезда?
— Нет. Сэр Роберт не станет тратить ни времени, ни сил, пока не доберется до Бретани.
— Командуй тут мой маленький сквайр Лоринг, все женщины на этом острове были бы свободны уже назавтра.
— Что так, то так, — ответил Саймон. — Он ведь из женщин идолов делает на манер свихнувшихся странствующих рыцарей. А сэр Роберт настоящий воин и думает только о своей цели.
— Саймон, — сказал Эйлуорд, — тут темновато, да и мечами махать тесно, но коли ты вылезешь на открытое место, я тебе покажу, настоящий воин мой господин или нет!
— Тш-ш! Ты, выходит, его не умней! Нас ждет дело, а тебе приспичило искать со мной ссоры, — пробурчал Саймон. — Я же ничего плохого про твоего господина не сказал. Только, что он из тех, кто гоняется за мечтами да выдумками, а Ноллес ни вправо, ни влево не глядит, идет прямо туда, куда нужно. А ну пошли, время на исходе.
— Саймон, слова твои и не верны и не честны. Когда вернемся на корабль, мы об этом потолкуем. А теперь показывай дорогу, поглядим, какая еще дьявольщина тут деется.
Через полмили они приблизились к большому дому, стоящему особняком. Разглядывая его из канавы, Эйлуорд обнаружил, что сооружен дом из обломков множества кораблей — каждый его угол завершался корабельным носом. Внутри пылали факелы, и громовой бас распевал веселую песню, припев которой подхватывал дружный хор.
— Все хорошо, малый, — ликующе шепнул Саймон. — Это король поет. Любимую свою песню «Les deux filles de Pierre»[18]. Клянусь Богом, у меня сразу спина зачесалась. Подождем тут, пока его гости не разойдутся.
Час за часом сидели они в канаве и слушали буйные песни — и английские, и французские, — но все более непристойные и бессвязные. Потом в доме вспыхнула драка — шум поднялся такой, словно в клетку с дикими зверями сторож бросил кусок мяса. Затем громкий топот и выкрики встретили предложение выпить за кого-то.
Только один раз их долгое одиночество было нарушено. Из дома вышла женщина и, понурив голову, начала расхаживать взад и вперед перед дверью. Она была высокой и стройной, но ее лицо скрывал монашеский плат. Однако согбенные плечи и медлительные шаги говорили о неизбывной тоске. Внезапно она простерла руки к небу, словно давно отчаялась найти помощь у людей. Затем медленно вернулась в дом. Минуту спустя дверь распахнулась, оттуда, спотыкаясь, вывалилась растрепанная ватага, и ночная тишина огласилась дикими воплями. Взявшись под руки и заведя хором песню, они прошли мимо торфяной канавы, и голоса их начали один за другим замирать внутри их жилищ.
— Вперед, Сэмкин, вперед! — воскликнул Саймон и, выпрыгнув из их убежища, метнулся к двери.
Ее еще не заперли. Товарищи ворвались внутрь, и Саймон задвинул засовы, чтобы им никто не помешал.
Перед собой они увидели стол, заставленный кувшинами и кубками. Его освещали факелы, дымно угасавшие в железных скобах. За дальним концом в одиночестве сидел, опустив лицо на руки, дюжий мужчина, видимо пьяный. Но когда засовы заскрипели и залязгали, он поднял голову и сердито огляделся. Голова была крупной, всклокоченные рыжие волосы напоминали львиную гриву, густая спутанная борода обрамляла широкое злобное лицо, опухшее от пьянства, запятнанное всеми пороками. Он было расхохотался, решив, что двое его собутыльников вернулись допить кувшин, потом выпучил глаза и провел по ним рукой, словно отгоняя сонное видение.
— Mon Dieu![19] — воскликнул он. — Кто вы и откуда взялись здесь в такой час ночи? Разве так являются перед нашей королевской особой?
Саймон обошел стол с одной стороны, Эйлуорд с другой. Когда они приблизились к королю, Саймон схватил факел и осветил свое лицо. При виде этих угрюмых черт король вскочил на ноги и попятился с испуганным криком:
— Le diable noir![20] Саймон англичанин! Зачем ты здесь? Саймон положил ладонь на его плечо.
— Садись! — сказал он, насильно усаживая короля в кресло. — А ты, Эйлуорд, сядь по ту его руку. Веселая мы компания, верно? Сколько раз я прислуживал за этим столом и не чаял выпить за ним. Налей-ка себе, Сэмкин, и передай кувшин.
Король переводил взгляд с одного на другого, и в его налитых кровью глазах рос ужас.
— Чего тебе надо? — спросил он. — Или ты ополоумел, что пробрался сюда? Стоит мне позвать, и вас свяжут по рукам и ногам.
— Нет, приятель. Уж мне ли не знать твоих порядков? Ни одному слуге не дозволяется спать под твоей крышей, а то как бы он ночью не перерезал тебе глотку. Кричи сколько твоей душе угодно. А я приплыл сюда из Англии на одном из тех кораблей, что стоят у Ла Бреку, вот и подумал, не навестить ли тебя.
— Ну что же, Саймон, счастлив тебя видеть, — сказал король, ежась под гневным взглядом воина. — Мы ведь были с тобой добрыми друзьями, а? И, помнится, ничего дурного ты от меня не терпел. Когда ты вплавь добрался до левантийского судна и вернулся к себе в Англию, никто не был так сердечно рад, как я.
— Сбрось я свой дублет, то показал бы тебе знаки твоей сердечной дружбы, — ответил Саймон. — На моей спине они столь же ясны, как и в моей памяти. Вон, грязный пес, на той стене кольца, к которым ты привязывал меня за руки, а на половицах пятна моей крови! Или это не так, король мясников?
Вождь пиратов побледнел еще больше.
— Ну может; жизнь тут была и не совсем сладкой, Саймон. Но коли я тебя чем-то обидел, так готов возместить. Чего ты хочешь?
— Хочу я только одного и за этим пришел сюда. Отдай мне заклад, который проиграл.
— О чем ты говоришь, Саймон? Я не помню, чтобы мы с тобой бились об заклад.
— Так я тебе напомню, а потом возьму, что мне причитается. Ты частенько клялся, что сломишь меня. «Клянусь головой, ты еще поползаешь у меня в ногах!» — орал ты. И еще: «Ставлю голову об заклад, я выбью из тебя дурь!» Да, да, ты это сто раз повторял. А я про себя поклялся, что не бывать по-твоему. Ну, пес, ты проиграл, и я пришел получить заклад.
Он выхватил из ножен тяжелый меч, но король с воплем отчаяния обхватил его обеими руками, и они вместе свалились под стол. Послышалась возня, словно сцепились две собаки, раздался истошный визг. У Эйлуорда побелело лицо, а по спине побежали мурашки. Он еще не привык к кровопролитиям, и подобная расправа была ему не по нутру. Саймон поднялся на ноги и сунул что-то в сумку.
— Пошли, Сэмкин! Свое дело мы сделали.
— Клянусь рукоятью! Знай я, какое это дело, так еще подумал бы, идти ли мне с тобой, — сказал лучник. — Или ты не мог дать ему меч и покончить с ним в честном поединке?
— Нет, Сэмкин! Помни ты, что помню я, так тоже не захотел бы, чтобы он умер как человек. Собаке собачья смерть. Пока я был у него в руках, он со мной по-честному не поступал. Так почему мне было его щадить?.. Пресвятая дева, это еще кто?
В глубине комнаты стояла женщина. Позади нее была открыта внутренняя дверь. По высокому росту оба товарища узнали ту, которую видели перед домом. Лицо ее, когда-то красивое, было бледным и изнуренным, безумные темные глаза стали тусклыми от безнадежного ужаса и отчаяния. Она медленно направилась к столу, глядя не на англичан, а на обезображенный труп под ним. Удостоверившись, что глаза не обманули ее, она разразилась громким смехом и захлопала в ладоши.
— Кто посмеет сказать, что Бога нет? — вскричала она. — Кто посмеет сказать, что молитвы бессильны? Великий герой, великий храбрец, дозволь мне поцеловать твою руку!
— Нет, нет, отойди! Ну, коли уж тебе так хочется, целуй эту, она чистая.
— Но мне нужна другая, красная от его крови! О, дивная ночь, когда я увлажнила ею губы! Теперь я могу умереть спокойно.
— Нам пора, Эйлуорд, — сказал Саймон. — Через час рассветет. А днем даже крысе не прошмыгнуть по острову незаметно. Идем же!
Но Эйлуорд остановился перед женщиной.
— Идем с нами, прекрасная дама, — сказал он. — С острова мы тебя увезем, а хуже ведь места быть не может.
— Нет, — ответила она. — Даже небесные святые помочь мне не в силах, пока Господь меня не приберет. Нигде в мире для меня места нет, а в тот день, когда они меня схватили, все мои близкие были убиты. Оставьте меня, смелые воины, я сама о себе позабочусь. Уже восток посерел, а вас ждет черная судьба, если вас схватят. Идите, и пусть благословение той, что некогда была смиренной монахиней, обережет вас от бед!
На заре сэр Роберт Ноллес, расхаживая по палубе, услышал всплески весел, и вскоре на борт взобрались две его ночные пташки.
— Так что же, малый, — спросил он, — побеседовал ли ты с королем Сарка?
— Благородный сэр, я с ним свиделся.
— И он уплатил свой проигрыш?
— Уплатил, сэр.
Ноллес с любопытством посмотрел на сумку Саймона:
— Что у тебя в ней?
— Заклад, который он проиграл.
— Так что же это? Золотой кубок? Серебряное блюдо? Вместо ответа Саймон открыл сумку и вытряхнул ее над палубой.
Сэр Роберт присвистнул и отвернулся.
— Господи! — сказал он. — Сдается мне, что со мной в Бретань плывут молодцы, с которыми шутки плохи.
Глава XIX Как английский оруженосец повстречал французского оруженосца
Маленький флот сэра Роберта Ноллеса завидел бретонский берег вблизи Канкаля. Они обогнули мыс Груэн, проплыли мимо порта Сент-Мало и поднимались по длинному узкому эстуарию Ранса, пока не завидели древние стены Динана, который находился в руках партии Монфора, на чьей стороне были англичане. Тут свели на берег лошадей, выгрузили припасы, и войско стало лагерем под городом, пока начальники ожидали известий о положении дел и о том, где можно найти больше чести и добычи.
Вся Франция испытывала тяготы из-за войны с Англией, длившейся уже десять лет, но ни одна провинция не была в столь ужасном состоянии, как злополучная Бретань. В Нормандию или Пикардию англичане вторгались лишь время от времени, но Бретань стала жертвой не только столкновений двух великих противников — ее еще раздирали непрерывные междоусобицы, и она не находила передышки от страданий. Гражданская война вспыхнула там в 1344 году, когда Монфор и Блуа заявили свои права на герцогство, оставшееся без законного правителя. Англия вступилась за Монфора, Франция — за Блуа. Ни у той, ни у другой стороны не хватало сил взять над соперником решительный верх, и история десяти лет нескончаемой войны представляла собой лишь длинный список бесплодных нападений врасплох, засад, схваток и стычек, взятых, а затем потерянных городов, перемежающихся побед и поражений, от которых ничего, в сущности, не менялось. И Монфор и Блуа исчезли со сцены — первый погиб, второй попал в плен к англичанам, — но никакой роли это не сыграло. Уроненные ими окровавленные мечи подхватили их супруги, и борьба продолжалась даже с еще большей свирепостью.
Юг и восток герцогства удерживала партия Блуа, и в Нанте, его столице, стоял сильный французский гарнизон. На севере и западе господствовали сторонники Монфора — за спиной у них было островное королевство, и, что ни день, из моря у северного горизонта поднимались паруса все новых кораблей, доставляющих через Ла-Манш очередных искателей славы и наживы.
Средняя же часть герцогства стала краем крови и насилия, где меч заменял закон. Она была усеяна замками; владельцы некоторых держали сторону одной партии, некоторые — другой, большинство же этих замков превратилось в разбойничьи гнезда, где творились чудовищные деяния, ибо засевшие в них звери в человеческом обличье, зная, что их никто не может призвать к ответу, вели войну со всем миром и с помощью дыбы и огня отбирали последнее достояние у тех, кто попадал в их жестокие руки. Поля давно уже заросли бурьяном. Торговля замерла. От Ренна на востоке до Эннебона на западе, от Динана на севере до Нанта на юге не нашлось бы такого места, где жизнь мужчины или честь женщины были бы в безопасности. Вот каков был край, в который теперь углублялось войско сэра Ноллеса, — край, полный тьмы и крови, самый печальный, самый черный во всем христианском мире.
Однако юное сердце Найджела, который ехал рядом с Ноллесом во главе копейщиков, было беспечальным, и он вовсе не считал, что судьба толкнула его на слишком уж трудный путь. Напротив, он благословлял свою счастливую звезду за то, что она привела его в столь восхитительную страну. Слушая рассказы о баронах-разбойниках, глядя на черные шрамы, которые война оставила на прекрасном лике холмов, он думал, что никакой герой, или сказитель, или трувер не повествовал о землях, сулящих столь много, где было бы столько простора для рыцарских деяний, столько возможности завоевать честь и славу.
Взяв в плен Рыжего Хорька, он сделал первый шаг к выполнению своего обета. И конечно, где-то среди этих чудесных холмов он совершит второй подвиг, быть может, даже более прекрасный. В морском бою он сражался бок о бок со своими товарищами, просто выполняя свой долг, и не усматривал в этом ничего примечательного. Нет, к ногам леди Мери он сложит деяние, достойное ее. И в раздираемой войной Бретани ему, без сомнения, представится желанный случай. А после второго подвига будет странно, если он не сумеет вскоре совершить третьего и освободит себя от обета, обретя право вновь взглянуть ей в лицо. Великолепный золотистый конь под ним выделывал курбеты, его гилфордские доспехи блестели на солнце, меч звенел о железное стремя, рука сжимала крепкое ясеневое копье отца, и он, улыбаясь, с легким сердцем поглядывал направо и налево, не пошлет ли ему судьба желанной удачи.
Дорога от Динана до Кона, по которой двигалось маленькое войско, то взбегала на пологие холмы, то спускалась в лощины, слева тянулась болотистая равнина, где на своем пути к морю петляла река Ранс, справа простирались леса, укрывавшие редкие деревушки, такие убогие и нищие, что ни один грабитель не стал бы тратить на них время. При первой вспышке солнца на железной каске крестьяне спешили укрыться среди кустов на опушке, откуда в любой миг могли ускользнуть в тайные убежища под защитой густой чащи. Они равно и тяжко страдали от бесчинств конных и пеших солдат, под чьим бы знаменем те ни воевали, а когда подвертывался удобный случай, свирепо мстили за свои обиды, тоже не разбирая между соперничающими партиями, чем обрекали себя на новые страдания.
Англичане вскоре убедились, на что способны эти несчастные существа, низведенные до положения диких зверей, — неподалеку от Кона они наткнулись на труп собрата по оружию, попавшего в засаду и убитого. Каким образом крестьяне сумели его одолеть, отгадать было невозможно, однако ужасный способ, каким удалось убить его, несмотря на броню, сомнений не вызывал. По меньшей мере восемь человек приволокли огромный камень и бросили на него. Он лежал раздавленный, точно краб в разбитой скорлупе. И пока отряд угрюмо проходил мимо, кулаки гневно грозили в сторону леса, и страшные проклятия сыпались на попрятавшихся там убийц несчастного, чья эмблема — моленский крест — свидетельствовала, что он состоял на службе у дома Бентли, глава которого, сэр Уолтер, в это время командовал английскими силами в Бретани.
Сэр Роберт Ноллес не раз бывал тут и вел своих людей с искусством и предусмотрительностью опытного ветерана, который старается ничего не оставлять на волю случая и пропускает мимо ушей упреки глупцов в излишней осторожности. В Динане он набрал еще лучников и жандармов, так что в войске его теперь было около пятисот солдат. Впереди под его началом ехали пятьдесят конных копейщиков в полном вооружении, готовые отразить любое внезапное нападение. За ними шли лучники, замыкал же колонну второй конный отряд. По флангам располагались дозоры конников, а десяток разведчиков, развернувшихся веером, осматривали каждый овраг и лощину впереди. Вот так трое суток сэр Роберт Ноллес продвигался вперед по Южной дороге.
Сэр Томас Перси и сэр Джеймс Астли догнали авангард, и Ноллес объяснил им план предстоящей кампании. Оба они были молоды, отличались горячностью и пылко мечтали о неслыханных подвигах, о славе странствующих рыцарей, однако Ноллес, наделенный ясным холодным умом и железной целеустремленностью, ни на миг не забывал о том, зачем он послан в Бретань.
— Клянусь святым Дунстаном и всеми линдисфарнскими святыми! — вскричал пламенный сын английского севера. — Не по душе мне ехать вперед, когда и справа и слева нас ждут славные деяния! Я слышал, что французы в Эвране, на том берегу реки, и разве вон тот замок, чьи башни встают над лесом, не в руках предателя, изменившего своему сюзерену герцогу Монфору? А дорога эта ничего достойного наших мечей нам не сулит. Люди тут, видно, войны чураются. Да если бы мы углубились настолько за шотландскую границу, так нам бы уже представилось немало случаев заслужить честь или совершить что-нибудь достойное.
— Твоя правда, Томас! — воскликнул Астли, краснолицый и вспыльчивый молодой человек. — Французы сами к нам не явятся, это видно, а потому надобно нам явиться к ним. Какой рыцарь не посмеется над тем, что мы уже третий день ползем по этой дороге, будто нас подстерегают тысячи опасностей, тогда как вокруг лишь жалкий крестьянский сброд.
Но Роберт Ноллес покачал головой.
— Нам неизвестно, что скрывают эти леса, что прячется за теми холмами, — сказал он. — А когда я ничего не знаю, то всегда стараюсь быть готовым к наихудшему. Этого требует благоразумие.
— Твои враги найдут слово пожестче, — презрительно бросил Астли. — И не думай, что меня ввергнут в трепет твои нахмуренные брови, сэр Роберт, как не переубедит меня и твой гнев. Видывал я в других глазах и не такую ярость, но не пугался.
— Речи твои, сэр Джеймс, и неучтивы и неумны, — ответил Ноллес. — Будь я волен в своих поступках, то загнал бы их назад в твою глотку вот этим кинжалом. Но я здесь для того, чтобы вести это войско безопасным путем и без ущерба для него, а не ссориться с каждым дурнем, у которого не хватает умишка попять, какие предосторожности необходимо принимать в походе. Как ты не видишь? Да начни я сворачивать направо и налево по твоему желанию, так ослабил бы свои силы прежде, чем достиг бы места, где их можно употребить с наибольшей выгодой!
— А где это место? — спросил Перси. — Клянусь Богом, Астли, сдается мне, едем мы с рыцарем, который знает о войне больше нас с тобой, и разумнее будет следовать его советам. Так расскажи нам, что ты замыслил.
— В тридцати милях дальше, — ответил Ноллес, — расположена крепость Плоэрмель, которую с сильным гарнизоном держит англичанин Бамбро. А неподалеку оттуда стоит замок Жослен, где находится Робер Бомануар с большим числом бретонцев. Я намерен соединить силы с Бамбро, чтобы мы могли вместе осадить Жослен, взять его, стать господами всей средней части Бретани и выступить против французов на юге.
— Поистине лучше не придумаешь, — убежденно сказал Перси, — и клянусь тебе спасением души, что тут я с тобой до конца! Уж конечно, когда мы поглубже вторгнемся в их край, они соберутся вместе и попытаются выступить против нас. Только вот, клянусь всеми линдисфарнскими святыми, за единый летний день в Лидсдейле или в Джедбергском лесу я встречал больше врагов, чем до сих пор видел в Бретани. Но поглядите-ка на тех всадников. Это же наши конники, верно? А кого же они привязали к стременам?
Из дубравы слева от дороги выехали конные лучники и рысью направились к трем остановившимся рыцарям. Рядом с двумя лошадьми бежали два злополучных крестьянина. Привязанные за кисть руки к ремню стремени, они подпрыгивали, спотыкались и напрягали все силы, чтобы удержаться на ногах. Один был высокий, тощий, светло-рыжий. Другой низенький и смуглый, но оба заросли такой коростой грязи, их нечесаные волосы были так взлохмачены и спутаны, а тела прикрывали такие лохмотья, что они совсем утратили человеческий облик и больше походили на диких зверей.
— Это еще что? — сурово спросил Ноллес. — Или я не приказал вам не трогать мирных жителей?
Старый Уот из Карлайла, возглавлявший лучников, поднял над головой меч, пояс и кинжал.
— С твоего позволения, благородный сэр, — сказал он, — я увидел, как что-то заблестело, и подумал, что в руках, созданных для плуга и лопаты, так блестеть ничто не может. Тогда мы их догнали, отобрали у них меч и пояс с кинжалом и увидели на них крест Бентли, ну и поняли, что забрали они их у того убитого англичанина. Значит, они двое из тех злодеев, которые его убили, и по справедливости мы должны воздать им тем же.
И действительно, на мече, поясе и кинжале сверкал серебряный моленский крест, точно такой же, какой они видели на латах мертвеца. Ноллес поглядел на меч и перевел взгляд на пленников. Лицо у него было каменным. Увидев эти беспощадные глаза, они с бессвязными воплями упали на колени, выкрикивая мольбы и объяснения на наречии, которого никто не смог понять.
— Мы должны обезопасить дороги для английских путников, — сказал Ноллес. — Эти люди повинны смерти. Повесьте их вот на том дубе!
Он кивнул на кряжистый дуб у самой дороги, тронул коня и поехал дальше вместе с двумя рыцарями, но старый лучник поскакал за ним.
— С твоего разрешения, сэр Роберт, лучники хотят казнить злодеев на свой лад, — сказал он.
— Лишь бы их казнили, а как, мне все равно, — небрежно ответил Ноллес и продолжил путь, ни разу не оглянувшись.
В те суровые времена человеческая жизнь стоила дешево. Захваченных в плен простых воинов или моряков победители без разбора и без жалости тут же предавали смерти. Война была жестокой игрой, а ставкой — смерть проигравших, и ставку эту победители требовали, а побежденные уплачивали без каких-либо сомнений и колебаний. Пощадить могли только рыцаря, ибо живой он стоил больше мертвого, так как за него можно было получить выкуп. Люди, прошедшие обучение в такой школе, знающие, что в любую минуту может настать их черед, разумеется, считали расправу с двумя крестьянами-убийцами не стоящим внимания пустяком.
Впрочем, у лучников на сей раз была особая причина просить, чтобы пленников отдали им. Между лысым старым мастером Бартоломью и долговязым йоркширцем Неддом Уиддингтоном после их спора на борту «Василиска» все время тлела вражда, а в Динане она вспыхнула жарким пламенем и привела к стычке, в результате которой не только они оба, но еще и десяток их приятелей в конце концов растянулись на булыжнике. Ожесточенную распрю вызвал вопрос о том, кто из них искуснее в обращении с длинным луком, и вот теперь у их товарищей родился жестокий план, позволявший раз и навсегда установить, чья меткость все-таки выше.
В двухстах шагах от дороги начинался густой лес, отделенный от нее ровным лугом. Крестьян отвели в сторону на пятьдесят шагов и поставили лицом к лесу, удерживая их за веревки. Ничего не понимая, они со страхом поглядывали через плечо на дорогу, где шли деловитые приготовления.
Старик Бартоломью и верзила йоркширец вышли из рядов и встали плечо к плечу с луком в левой руке и единственной стрелой в правой. Они бережно натянули тетиву, смазали жиром перчатки для стрельбы и застегнули на запястьях предохранители. Оба сорвали по нескольку травинок, чтобы измерить силу и направление ветра, проверили все мелочи, встали боком к мишени и выдвинули ногу для устойчивости. Со всех сторон их осыпали советами — нередко насмешливыми.
— Ветер три четверти, мастер Бартоломью! — крикнул кто-то. — Целься на ширину спины вправо!
— Да только не своей спины! — захохотал другой. — Не то пошлешь стрелу мимо.
— А такой ветер стрелу, пущенную хорошо, не отклонит, — вмешался третий. — Целься прямо в него и не промажешь.
— Не ударь лицом в грязь, не посрами наши холмы! — крикнул земляк йоркширца. — Тетиву отпусти легонько, не дергай, не то я обеднею на пять серебряных монет.
— Ставлю недельное жалованье на Бартоломью! — раздался чей-то возглас. — Эй, лысая башка, не подведи меня!
— Хватит, хватит! Прикусите языки, ребята! — прикрикнул старый Уот из Карлайла. — Коли б вы на стрелы были так же бойки, против вас никто бы не выстоял! Ты стреляй в коротышку, Бартоломью, а ты в высокого, Нед. Дайте им пробежать, пока я не скомандую, а тогда каждый пусть сам решает, когда выстрелить и каким манером. Готовы? Эй, там, Хейлуорд, Беддингтон, пускайте их!
Веревки были сдернуты, и пленники, пригнувшись, кинулись к лесу, а лучники заулюлюкали, как загонщики на охоте, вспугнувшие зайца. Соперники, наложив стрелы, замерли, точно две светло-бурые статуи, не спуская напряженного взгляда с бегущих и медленно поднимая луки по мере того, как расстояние увеличивалось. Бретонцы уже преодолели половину расстояния до леса, а старый Уот все молчал. То ли из жалости, то ли по злокозненности, но в любом случае шансы пленников на спасение достаточно возросли. Наконец, когда от дороги их отделяло уже сто двадцать шагов, он повернул седую голову и крикнул:
— Стреляй!
И тут же зазвенела тетива йоркширца. Нет, не по ошибке он заслужил славу одного из смертоноснейших лучников севера и дважды выигрывал серебряную стрелу на состязаниях в Селби. Метко пущенная роковая стрела вонзилась в согнутую спину рыжего крестьянина по оперение. Он упал ничком, даже не застонав, и неподвижно распростерся на траве, а короткие белые перья между темными лопатками показывали, куда смерть нанесла свой удар.
Йоркширец подбросил лук в воздух и заплясал от радости, а его товарищи в свирепом восторге разразились одобрительными криками, которые внезапно сменились громовым хохотом и насмешливыми воплями.
Второй крестьянин, более хитрый, бежал медленнее, но часто оглядывался, а увидев участь своего товарища, и вовсе остановился. Он не спускал глаз с натянутого лука и, едва тетива была отпущена, кинулся на траву, услышал, как стрела просвистела над ним, и увидел, как она впилась в дерн немного впереди. Тотчас он вскочил на ноги и под вопли и улюлюканье лучников кинулся к спасительному лесу. Вот он уже на опушке, а ближайшего из его мучителей отделяют от него двести шагов! Здесь им до него не добраться! Возле густых кустов он почувствовал себя в безопасности, точно кролик у входа в нору. И, возликовав, не удержался — заплясал, презрительно щелкая пальцами и потешаясь над дураками, которые его упустили. Откинув голову, беглец насмешливо завыл по-собачьи, и в этот миг горло ему пронзила стрела. Он рухнул мертвый на папоротник, и у дороги воцарилась недоумевающая тишина, а затем лучники подняли торжествующий крик.
— Клянусь святым крестом Беверли, такого выстрела я уже много лет не видывал! — вскричал старый Уот. — Мне и самому не пустить стрелы лучше, даже стань я опять молодым. Кто из вас попал в него?
— Эйлуорд из Тилфорда, Сэмкин Эйлуорд! — ответил хор голосов, и покрасневшего от таких похвал лучника вытолкнули вперед.
— Жалко, цель была такая, — пробормотал Эйлуорд. — Я бы отпустил его с миром, да только, как он принялся над нами смеяться, пальцы у меня сами лук натянули!
— Вижу, вижу, что лучник ты хоть куда, — сказал старый Уот. — И на душе у меня покойней стало. Коли я живым не вернусь, останется после меня стрелок, достойный поддерживать честь нашего ремесла. А теперь заберите свои стрелы и в путь: вон сэр Роберт ждет нас на холме.
Весь день Ноллес вел отряд по обезлюдевшему, одичалому краю, где в лесном сумраке таились существа, потерявшие человеческий образ и душу — зайцы с сильными, волки со слабыми. Порой, поднимаясь по склону, они успевали увидеть в отдалении всадников, которые тотчас исчезали. Иногда из укрытых холмами селений доносился набатный звон, и дважды дорога приводила к замкам, но при их приближении подъемные мосты повисали в воздухе, а на стенах выстраивались солдаты и осыпали их насмешками из-за зубцов. С их лугов англичане забрали нескольких пасшихся там волов и овец, однако тратить силы на каменные стены Ноллес склонен не был и продолжал путь.
В Сен-Меэне они увидели большой женский монастырь, окруженный серыми стенами в разводах лишайника, — тихий оазис мира среди пустыни войны, где среди плодовых деревьев трудились и отдыхали монахини в черных одеяниях, оберегаемые от зла сильной и кроткой рукой Церкви. Проходя мимо, лучники сдергивали каски, ибо самый дерзкий, самый беспощадный не смел преступить незримый предел, охраняемый страхом перед отлучением и вечной погибелью — единственной защитой слабого от насильника в этом перепаханном оружием краю.
В Сен-Меэне маленькое войско расположилось на бивак. Когда же был приготовлен и съеден полуденный обед и войско после краткого отдыха вновь построилось, Ноллес отозвал Найджела в сторону.
— Найджел, — сказал он, — сдается мне, такого сильного и, полагаю, быстрого скакуна, как твой, я еще не видывал.
— Да, благородный сэр, конь поистине чудесный, — ответил Найджел.
С того дня как они ступили на палубу «Василиска», между ним и его молодым начальником успели возникнуть искренняя привязанность и взаимное уважение.
— Пожалуй, тебе следует дать ему хорошенько поразмяться, он ведь уже отяжелел, — сказал рыцарь. — А теперь, Найджел, ответь: что ты видишь на склоне дальнего холма через вот этот просвет между ясенем и большим камнем?
— Белое пятно. Лошадь, не иначе.
— Я следил за ней все утро, Найджел. Этот всадник упорно держится на нашем фланге, то ли следит за нами, то ли наводит на нас врагов. Я же рад был бы поговорить с каким-нибудь пленным — очень нелишне узнать что-нибудь о здешних местах, а крестьяне тут не понимают ни французского, ни английского. Задержись здесь, когда мы выступим. Он, конечно, последует за нами, и вон та дубрава не даст ему тебя заметить. Обогни ее так, чтобы оказаться позади него. Слева широкая равнина, а справа будем мы. Если твой конь окажется быстрее, то тебе останется только взять его в плен.
Найджел тем временем уже спрыгнул на землю и подтягивал подпругу.
— Нет, спешить ни к чему. Начать погоню ты должен, только когда мы отойдем на две мили. А главное, прошу тебя, Найджел, выкинь на время из головы странствующих рыцарей. Мне нужен этот человек — он и сведения, которые я могу от него получить. Забудь о подвигах и помни только о нуждах нашего войска. Когда возьмешь его, следуй на запад за солнцем и где-нибудь непременно выедешь на эту дорогу.
Найджел укрылся с Бурелетом в тени монастырской стены. Оба они изнывали от нетерпения, а сверху шесть простодушных монахинь круглыми глазами созерцали это непривычное и пугающее видение суетного мира. Наконец длинная колонна скрылась из вида за изгибом дороги, и белое пятно исчезло с открытого зеленого склона. Найджел склонил перед монахинями покрытую шлемом голову, дернул поводья и поскакал выполнять возложенное на него поручение. Глаза монахинь округлились еще больше, а золотистый конь и сверкающий всадник обогнули опушку, несколько раз мелькнули между стволами и скрылись за ними. Проводив их взглядом, святые сестры вновь принялись подрезать ветки и сажать рассаду, томимые мыслями о прекрасном и грозном мире за серой, обросшей лишайниками стеной.
Все произошло именно так, как сказал Ноллес. Когда Найджел обогнул дубраву, на лугу перед собой он увидел всадника на белой лошади так близко, что ясно разглядел и стройную молодую фигуру, и гордую осанку, и лиловую шелковую тунику, и черную шапочку с ниспадающим красным пером. Молодой незнакомец был без доспехов, но на боку у него сверкал меч. Ехал он с небрежной беззаботностью, словно не страшился никого и ничего, а взгляд его был устремлен на английскую колонну, двигавшуюся по дороге. Он столь внимательно следил за ними, что забыл о собственной безопасности, и только когда его слуха достиг громкий топот тяжелых копыт, обернулся в седле, очень спокойно и хладнокровно смерил Найджела взглядом, потом тряхнул поводьями и помчался быстрее птицы к гряде холмов слева.
В этот день Бурелет встретил достойного соперника. Белый скакун, на две трети арабских кровей, нес меньшую тяжесть, так как Найджел был в полном вооружении. Пять миль они неслись по открытому лугу, и расстояние между ними не увеличивалось и не уменьшалось даже на сто шагов. Они оставили позади гребень первого холма и помчались вниз по склону, а всадник впереди то и дело оглядывался на преследователя, словно вовсе не спасался бегством, но, гордясь своим конем, охотно принял внезапно навязанное ему состязание. У подошвы холма начиналась болотистая равнина, усеянная огромными друидическими монолитами, часть которых еще стояла, часть упала, а некоторые пары были накрыты горизонтальными глыбами, образуя подобие дверей какого-то давно исчезнувшего гигантского здания. Через болото вела тропа, обрамленная зарослями камыша, предупреждавшими, что сворачивать с нее небезопасно. Во многих местах тропу пересекали рухнувшие монолиты, но белый конь одним прыжком перемахивал через них, как следом за ним и Бурелет. Затем милю они скакали по зыбкой почве, где более легкий вес сыграл свою роль, но затем поднялись на сухую равнину, и некоторый перевес оказался на стороне Найджела. Поперек их пути пролегла дорога, больше напоминавшая канаву, но белый конь взял ее одним могучим прыжком, что затем проделал и золотистый. Впереди показались два крутых холма, разделенные узкой ложбиной, заросшей кустами. Найджел увидел, как белый конь погрузился в них почти по грудь.
Мгновение спустя его задние копыта взвились в воздух, и всадник слетел с седла. Из кустов донеслись торжествующие вопли, к упавшему, размахивая дубинами и копьями, ринулся десяток диких фигур.
— A moi, Anglais, a moi![21] — крикнул кто-то, и Найджел увидел, как юный всадник, пошатываясь, поднялся на ноги, нанес несколько ударов мечом и вновь упал под натиском нападавших.
Между людьми благородной крови, соблюдавшими рыцарские обычаи, существовал дух товарищества, объединявший их, когда приходилось отбиваться от врагов подлого происхождения или от нарушавших принятые законы войны. И на этот раз засаду устроили не воины. Одежда, оружие, злорадные крики и беспорядочное нападение всех на одного выдавали в них разбойников — таких же, как те, кто убил англичанина на дороге. Натягивая через тропу в узких лощинах хорошо спрятанную веревку, они поджидали одиноких всадников, как поджидает добычу птицелов, укрывшись возле силков. Расчет у них был один: лошадь наткнется грудью на невидимую веревку, упадет, увлекая за собой наездника, которого они и прикончат, пока он еще не опомнится после падения.
Такая судьба поджидала бы и незнакомца, как многих и многих до него, если бы за ним по пятам не гнался Найджел. Во мгновение ока Бурелет разметал тех, кто старался нанести удар по лежащему, и тотчас два разбойника пали под мечом Найджела. В его нагрудник со звоном ткнулось копье, но один взмах меча срубил наконечник, а второй — голову того, в чьих руках оно было. Тщетно они обрушивали град ударов на закованного в железо человека, его меч сверкал между ними, как молния, а взбешенный конь взметывал над их головами передние копыта с тяжелыми подковами, сверкая налитыми кровью глазами.
С криками и стонами они бросились врассыпную по кустам, перепрыгивая через валуны, ныряя под низко нависающие ветки, и гнаться за ними верхом было бы бессмысленно. Гнусная шайка исчезла столь же внезапно, как и появилась, и только четыре трупа в жалких рубищах, оставшиеся лежать среди папоротника, напоминали о случившемся.
Найджел привязал Бурелета к терновнику и занялся жертвой нападения. Белый конь поднялся на ноги и с тихим тоскливым ржанием глядел на своего распростертого хозяина. Тот упал под сокрушительным ударом дубины, которую ему удалось лишь отчасти отбить мечом, и на лбу у него багровела кровоточащая ссадина. Но вылитая ему на лицо вода, зачерпнутая из ключа, журчавшего в овражке, сразу привела его в чувство. Он был еще совсем юным, с нежным, почти девичьим лицом и огромными синими глазами, с недоумением обратившимися на Найджела.
— Кто ты? — спросил он. — А, да! Вспомнил. Ты молодой англичанин и гнался за мной на огромном золотом коне. Клянусь Богоматерью Рокамадурской, чей образ у меня на груди, я никогда не поверил бы, что найдется лошадь, способная так долго держаться на равных с Шарлеманем! Но ставлю сто золотых, англичанин, что на пяти милях я тебя обойду!
— Нет, — ответил Найджел, — отложим разговоры о состязаниях, пока ты вновь не сядешь твердо в седло. Я Найджел из Тилфорда, принадлежу к благородному роду Лорингов, оруженосец и сын рыцаря. А как зовешься ты, любезный сэр?
— Я тоже оруженосец и сын рыцаря, а зовусь Рауль де ла Рош Пьер де Бра. Отец мой владелец Гробуа, вассал благородного графа Тулузского с правом фоссы и фурки, а также суда высокого, среднего и низкого. — Он приподнялся, сел и протер глаза. — Англичанин, ты спас мне жизнь, как и я спас бы твою, увидев, что эти визгливые псы набросились на человека благородной крови. Но теперь я в твоей воле. Так какова же она?
— Когда ты сможешь сесть на коня, мы нагоним мой отряд.
— Увы! Этого я и страшился услышать. Возьми я в плен тебя, Найджел… Это ведь твое имя?.. Возьми я в плен тебя, то не поступил бы так!
— Ну а как же распорядился бы ты? — спросил Найджел, покоренный смелостью и прямотой своего пленника.
— Я бы не воспользовался несчастной случайностью, которая отдала меня в твою власть, а вручил бы тебе меч и сошелся с тобой в честном поединке, дабы получить право послать тебя к моей прекрасной возлюбленной и показать ей, какие подвиги я совершаю во имя ее красоты.
— Слова твои поистине верны и благородны, — ответил Найджел. — Клянусь святым Павлом, я еще не встречал человека, который вел бы себя достойнее! Но ведь я в броне, а ты нет, и не вижу, как могли бы мы скрестить мечи.
— Любезный Найджел, ты ведь можешь снять доспехи!
— Но тогда я останусь в одном исподнем.
— Это легко поправить: я с радостью разденусь до исподнего.
Найджел поглядел на француза жаждущим взглядом, но грустно покачал головой.
— Увы! Это нам не суждено, — ответил он. — Сэр Роберт поручил мне доставить тебя к нему, ибо он хочет поговорить с тобой. Чего бы я только ни отдал, лишь бы исполнить твою просьбу! У меня ведь тоже есть прекрасная возлюбленная, и самое мое горячее желание — послать тебя к ней. Какой мне толк от тебя, Рауль, если твой плен не принес мне чести? Но как ты себя чувствуешь?
Молодой француз уже поднялся на ноги.
— Не отбирай у меня меча, — сказал он. — Я твой, даже если ко мне придут на выручку. Пожалуй, я уже могу сесть в седло, хотя голова у меня и звенит, как надтреснутый колокол.
Найджел не имел ни малейшего представления, где сейчас находятся его товарищи, но помнил слова сэра Роберта, что ему надо следовать за солнцем и рано или поздно он выедет на их дорогу. Пока они неторопливой рысью трусили вверх и вниз по склонам, француз совсем оправился, и они весело болтали обо всем на свете.
— Я только недавно приехал из Франции, — рассказывал Рауль, — в надежде, что в этом краю сумею заслужить честь и славу: я слышал, что англичане закаленные воины и превосходные противники. Мои мулы с багажом в Эвране, а я поехал вперед посмотреть, сулит ли мне что-нибудь судьба, увидел ваше войско и поехал следом, уповая найти благородное приключение и честь.
Потом ты поскакал за мной, и я отдал бы все золотые кубки моего отца, лишь бы на мне были доспехи и я мог бы повернуть тебе навстречу. Я поклялся графине Беатрисе, что пришлю двух-трех англичан поцеловать ей руку.
— Ну, это еще не самый страшный жребий! — заметил Найджел. — А эта прекрасная дама — твоя невеста?
— Она моя возлюбленная, — ответил француз. — Мы ждем только, чтобы граф погиб на поле битвы, и тогда сочетаемся браком. А твоя дама, Найджел? Я хотел бы ее увидеть.
— Быть может, и увидишь, любезный сэр, — сказал Найджел, — ибо чем ближе я тебя узнаю, тем горячее мое желание помериться с тобой силами. И мне кажется, у нас будет случай обратить нашу встречу на пользу нам обоим. Ведь когда сэр Роберт расспросит тебя, я могу по праву распорядиться тобой, как сочту нужным.
— И как же ты распорядишься, Найджел?
— Мы непременно сойдемся в поединке, и либо я увижу леди Беатрису, либо ты увидишь леди Мери. Нет, не благодари меня! Ведь я, как и ты, приехал в этот край на поиски чести и не знаю, где мне еще ее искать, как не на конце твоего меча. Мой благородный господин сэр Джон Чандос много раз говорил мне, что ему еще не доводилось встретить французского рыцаря или оруженосца, чье общество не доставило бы ему много удовольствия и пользы, и теперь я убедился, что он говорил чистую правду.
Около часа новые друзья ехали бок о бок, и француз пел хвалы своей даме, чью перчатку извлек из кармана, подвязку вынул из-за ворота туники, а башмачок достал из седельной сумки. Она была белокурой, и, услышав, что Мери брюнетка, он тут же потребовал, чтобы они остановились и с оружием в руках решили, какой цвет волос прекраснее. Рассказывал он и про родовой замок в Лоте у истоков прекрасной Гаронны: о сотне лошадей в конюшнях, о семидесяти охотничьих собаках на псарне, о пятидесяти соколах в клобучках и путах. Его английский друг непременно погостит у него там, когда кончится война, и какие это будут золотые дни!
Найджел, чью английскую холодность растопил этот юный луч южного солнца, принялся в свою очередь рассказывать о вересковых холмах Суррея, о Вулмерском лесе и даже о священных покоях Косфорда.
Вот так они ехали на закат под мерный топот лошадиных копыт, уносясь мыслями к дальним родным краям, как вдруг нежданный звук заставил их мгновенно возвратиться на коварные холмы Бретани.
За грядой, к которой они направлялись, прогремела труба. Издали ей протяжно ответила другая.
— Это ваш лагерь?
— Нет, — возразил Найджел, — у нас есть только дудки и литавры. Поостережемся! Мы же не знаем, что там впереди. Прошу тебя, свернем вон туда и всё увидим, оставшись незамеченными.
Гребень усыпали валуны, и, укрывшись за ними, оруженосцы увидели длинную скалистую долину. На пологом холме виднелась невысокая крепостца. А на некотором расстоянии от нее возвышался угрюмый замок, столь же мощный, как скала, на которой он стоял, с массивным донжоном у одного угла и четырьмя длинными стенами в прорезях бойниц. Над башней гордо развевалось большое знамя с гербом, который в лучах заходящего солнца отливал красным. Найджел приставил ладонь к глазам и свел брови.
— Это не герб Англии, и не лилии Франции, и не горностай Бретани, — промолвил он. — Владелец замка воюет сам за себя, раз поднял над ним свое знамя. И герб его, кажется, червленая голова на серебряном поле.
— Окровавленная голова на серебряном блюде! — вскричал француз. — Меня остерегали против него. Это не человек, друг Найджел, а чудовище, которое ведет войну и с англичанами, и с французами, и со всем христианским миром. Неужели ты не слышал про Мясника из Ла-Броиньера?
— Нет, никогда.
— Во Франции его имя проклято. Ведь не далее как в этом году я слышал, что он убил Жиля де Сент-Поля, друга английского короля.
— Поистине так. Теперь я вспоминаю, как про это говорили в Кале перед тем, как мы отплыли.
— Значит, здесь его гнездо, и да смилуется над тобой Господь, если ты войдешь вон под ту арку! Еще ни один пленник не выходил оттуда живым. С тех пор как началась война, он сам себе король, и в его подвалах спрятаны богатства, награбленные за одиннадцать лет. Как может настичь его правосудие, если никому не ведомо, чья Бретань? Но когда мы выгоним вас всех на ваш островок, то, клянусь Богоматерью, мы взыщем с владельца этого замка все его тяжкие долги!
В эту минуту вновь загремела труба. Звук ее доносился не из замка, но с дальнего конца долины. На стенах замка протрубили ответный сигнал. И тут появился беспорядочно растянувшийся отряд, который возвращался в свое убежище после какого-то разбойничьего набега. Впереди во главе копейщиков ехал высокий дюжий человек в медных доспехах, в закатном сиянии смахивавший на золотого истукана. Шлем он отстегнул и придерживал перед собой на шее коня. Густая спутанная борода закрывала нагрудник, а нечесаная грива волос ниспадала на спину почти на такую же длину. Возле него оруженосец высоко поднимал знамя с кровоточащей головой. За копейщиками тянулась вереница тяжело нагруженных мулов и толпа злополучных крестьян, которых гнали в замок. Сзади двигался второй многочисленный отряд конных копейщиков, конвоируя десятка два пленных, сгрудившихся тесной кучей.
Найджел вгляделся в них, вскочил на коня и направил его по гребню к тому месту, откуда можно было открыто наблюдать за воротами замка. Не успел он добраться туда, как кавалькада уже достигла подъемного моста и под приветственные вопли со стен двинулась по нему узкой цепочкой. Найджел вглядывался в пленников, замыкавших ее, с такой сосредоточенностью, что не заметил, как выехал из-за скал на открытую вершину.
— Клянусь святым Павлом! — вскричал он. — Глаза меня не обманули, это их бурые куртки. Они схватили английских лучников!
Он еще не договорил, как последний пленник, крепкий, широкоплечий, оглянулся, увидел в вышине над собой сверкающую фигуру с поднятым забралом, разглядел пять алых роз, пылающих на ее груди. Мощным взмахом руки он оттолкнул своих стражей и на мгновение остался стоять совсем один.
— Сквайр Лоринг! Сквайр Лоринг! — крикнул он. — Это я, Эйлуорд, лучник! Это я, Сэмкин Эйлуорд!
Но тут его схватили десятки рук, в рот ему всунули кляп и последним втащили под темную арку зловещих ворот. Затем, лязгнув, железные створки сомкнулись, подъемный мост был поднят, и пленники вместе с их стражами, остальными разбойниками и их добычей исчезли в недрах угрюмой безмолвной крепости.
Глава XX Как англичане хотели взять замок Ла-Броиньер
Несколько минут Найджел, неподвижный, точно статуя, продолжал смотреть на мощные серые стены, за которые угодил его несчастный товарищ. Он очнулся, только когда на его плечо ласково легла ладонь, а над ухом раздался голос юного оруженосца:
— Peste![22] В клетку к ним попали ваши птички? Так что же, друг мой! Не вешай головы. Таковы прихоти войны: сегодня они, завтра ты, и рано или поздно смерть для каждого из нас, не правда ли? Хотя нельзя не пожалеть, что они угодили в лапы Мясника Оливера.
— Клянусь святым Павлом, мы подобного не потерпим! — вне себя вскричал Найджел, — Этот лучник сопровождал меня. Мы с ним земляки, и не раз он вставал между мной и смертью. А теперь он тщетно воззвал ко мне о помощи? Прошу тебя, Рауль, придумай что-нибудь. У меня в голове мутится. Посоветуй, что мне делать, как его выручить?
Француз пожал плечами:
— Легче спасти ягненка из волчьего логова, чем пленника из Ла-Броиньера. Стой, Найджел! Куда ты? Или у тебя и вправду в голове помутилось?
Сквайр пришпорил коня, помчался вниз по склону и остановился перед воротами на расстоянии выстрела из лука. Французский пленник гнался за ним, убеждал и уговаривал:
— Ты сошел с ума, Найджел! Что ты надумал? Хочешь взять замок голыми руками? Остановись! Остановись же, во имя Пресвятой Девы!
Но Найджел ничего не задумал и просто подчинился лихорадочному порыву, чтобы как-то заглушить мучительные мысли. Он поворачивал коня туда и сюда, тряс копьем, осыпал гарнизон проклятиями, вызывая на бой всех желающих. Со стен на него взирала сотня ухмыляющихся физиономий. Его появление тут было настолько безумным и опрометчивым, что выглядело ловушкой. Поэтому мост оставался поднятым, и никто не попытался взять его в плен. Но по скалам застучали стрелы на излете, а затем над головой двух оруженосцев прогудел пущенный из мангонеля камень и с грохотом раскололся на части среди валунов у них за спиной. Француз схватил уздечку Бурелета и силой заставил Найджела отъехать подальше от ворот.
— Пресвятая Дева! — воскликнул он. — Мне не слишком по вкусу, когда в меня швыряют галькой, но уехать один я не могу, а потому, мой безумный товарищ, ты должен меня сопровождать. Вот сюда ни стрелам, ни камням не долететь… Но взгляни, друг Найджел, что это там?
Солнце уже закатилось за гряду холмов на западе, но небо над ней пылало огнями вечерней зари, и на голом гребне четко вырисовывались темные силуэты всадников. Затем они начали спускаться в долину, а следом за ними и пеший отряд.
— Это мои! — радостно крикнул Найджел. — Поспешим, друг мой, узнаем, что нам надлежит делать.
Сэр Роберт Ноллес с черным, как ночь, лицом опережал свое маленькое войско на полет стрелы. Рядом с ним, виновато понурившись, ехал пылкий рыцарь сэр Джеймс Астли, чья броня была помята и перепачкана, лошадь ранена. Всадники гневно спорили.
— Я исполнил свой рыцарский долг как мог лучше, — говорил Астли. — Я в одиночку отбивался мечом от десятерых! Не знаю, как мне удалось уцелеть, чтобы поведать о случившемся!
— Что мне твой рыцарский долг! Где мои тридцать лучников? — с горьким бешенством вскричал Ноллес. — Десять лежат на земле мертвые, а двадцать — вон в том замке, а это хуже смерти. И все лишь потому, что тебе вздумалось похвастать перед всеми отвагой и нарваться на засаду, которую и ребенок увидел бы! И как я, глупец, мог доверить такому, как ты, начальство над ними?
— Клянусь Богом, сэр Роберт, ты ответишь мне за эти слова! — захлебываясь гневом, крикнул Астли. — Ни один человек еще не осмеливался говорить со мной, как ты сегодня!
— Пока я выполняю волю короля, вся власть здесь принадлежит мне, и клянусь Господом, Джеймс, я вздерну тебя на первом же дереве, если ты еще раз дашь мне повод!.. А, Найджел! По тому белому коню я вижу, что ты хорошо выполнил свое поручение. Я поговорю с тобой немного погодя. Перси! Расставь своих людей, мы окружим этот замок, ибо, клянусь спасением души, я не уйду отсюда без моих лучников или без головы того, кто их захватил!
Ночью англичане обложили замок Ла-Броиньер со всех сторон. Ускользнуть оттуда теперь не мог никто, но это не облегчило доступ туда: гарнизон был большим, стены высокими и крепкими, а внизу их опоясывал пусть сухой, но глубокий ров. Однако вскоре стало ясно, какую ненависть и страх питали к хозяину Ла-Броиньера окрестные жители — всю ночь к осаждающим приходили и лесные разбойники, и крестьяне, предлагая свои услуги, лишь бы они взяли замок. Ноллес приказал им рубить кусты и вязать фашины. Когда рассвело, он проехал вдоль стен, советуясь со своими рыцарями и оруженосцами о том, как проникнуть за них.
— К полудню, — сказал он, — у нас будет достаточно фашин, чтобы завалить ров. А тогда мы выломаем ворота и закрепимся там.
Молодой француз в медных доспехах, которые Найджел отобрал у Рыжего Хорька, сопровождал его, и в молчании, которое наступило после слов сэра Роберта, попросил дозволения говорить.
— Не мне, пленнику и французу, предлагать вам советы, — сказал он. — Но этот человек враг всех. И Франции, как и вам, есть за что с ним рассчитаться, ибо в его темницах погибло много добрых французов. И по этой причине я прошу вас выслушать меня.
— Хорошо, говори, — ответил Ноллес.
— Я вчера выехал из Эврана. Там с немалым войском стоят сеньор Анри Спинневор, сеньор Пьер Ларуа, а также много доблестных рыцарей и оруженосцев. Все они с превеликой радостью соединятся с тобой на погибель Мяснику и его разбойничьему гнезду. Есть там и бомбарды: их можно протащить через холмы и разбить окованные железом ворота. Если ты прикажешь, я поскачу в Эвран и вернусь с ними.
— Право, Роберт, — сказал Перси, — француз этот говорит дело.
— А когда мы возьмем замок, что тогда? — спросил Ноллес.
— Тогда вы пойдете своей дорогой, благородный рыцарь, а мы своей. Или же, если тебе будет угодно, вы построитесь на том холме, мы на этом, и буде кто-либо захочет снискать честь, или исполнить обет, или прославить свою даму, ему представится желанный случай. Поистине жаль было бы, если столько отважных воинов, сойдясь вместе, разошлись бы без единого достойного деяния.
Найджел крепко сжал руку своего пленника в знак восторга и уважения, однако Ноллес покачал головой.
— Так бывает только в сказаниях менестрелей, — ответил он. — Я не хочу, чтобы твои земляки в Эвране узнали, сколько нас и каковы наши намерения. Я прибыл сюда не искать рыцарских подвигов, а нанести поражение врагам моего короля. У кого-нибудь еще есть совет?
Перси показал на крепостцу на пригорке, над которой также развевалось знамя с окровавленной головой:
— Это укрепление, Роберт, невелико, и обороняют его полсотни человек, не более. Построили его, сдается мне, для того, чтобы с этой высоты нельзя было стрелять по замку. Почему бы нам не взять его?
И вновь молодой полководец покачал головой.
— Если я и возьму его, это не приблизит меня к цели и не вернет моих лучников. Потеряю десятка два человек, а взамен не получу ничего. Будь у меня бомбарды, я мог бы установить их там, но без них мне этот холм ни к чему.
— Может быть, у них мало воды и припасов? — предположил Найджел. — И они устроят вылазку?
— Я расспросил крестьян, — ответил Ноллес, — и все они в один голос говорят, что в замке есть колодец и большие запасы провианта. Нет, благородные господа, нам остается лишь один путь — взять замок штурмом, и только одно место для этого — большие ворота. Вскоре фашин будет столько, что мы завалим ров и без моста переберемся на ту его сторону. Я приказал срубить сосну на холме и очистить ее от сучьев, чтобы она послужила нам тараном. Но что такое? Почему они бегут к замку?
Со стороны английского лагеря донеслись возбужденные крики, солдаты толпой кинулись ко рву. Рыцари и оруженосцы направили коней туда же и, когда увидели большие ворота, тотчас поняли причину суматохи. На башне над аркой стояли три человека в одежде английских лучников с веревкой на шее, с руками, связанными за спиной. Их товарищи толпились внизу и с жалостью называли их имена.
— Это Амброз! — воскликнул один. — Он самый, Амброз из Инглтона.
— Верно! Вон его белокурые волосы. А с бородой — это Локвуд из Скиптона. Бедная его жена, которая торгует у моста через Рибл! А вот кто третий?
— Малыш Джонни Олспи, самый молоденький в отряде! — простонал старый Уот, и по щекам у него потекли слезы. — Я, я сам уговорил его покинуть родной дом. Увы мне! В черный день соблазнил я его покинуть родную мать для того лишь, чтобы сложить голову в чужом краю.
Внезапно загремела труба, и подъемный мост опустился. По нему прошествовал толстяк в выцветшем костюме герольда. Боязливо остановившись у его конца, он провозгласил зычным голосом:
— У меня весть для вашего начальника! Ноллес выехал вперед.
— Ручаешься ли ты своим рыцарским словом, что я могу приблизиться к тебе без опасения и буду выслушан с учтивостью, подобающей герольду?
Ноллес кивнул.
Толстяк медленно и величаво выступил вперед.
— Я вестник и верный слуга, — произнес он важно, — благородного барона Оливера де Септ-Ива, сеньора Ла-Броиньера. Он повелел сказать тебе следующее: ежели ты продолжишь свой путь и перестанешь чинить ему помехи, он обещает более на тебя не нападать. Что до его пленников, он окажет им честь и возьмет их к себе на службу, ибо много наслышан об английских длинных луках и имеет нужду в них. Ежели ты и далее станешь чинить ему помехи и досады, оставаясь перед замком, то знай, он повесит этих троих над своими воротами, а на следующее утро — еще троих, и так, пока не останется в живых ни одного. В этом он поклялся Крестом на Голгофе и клятву исполнит, дабы не обречь свою душу на погибель.
Роберт Ноллес окинул герольда мрачным взглядом.
— Возблагодари святых, что я дал тебе слово, — сказал он, — иначе я приказал бы содрать с тебя твой лживый табар, а заодно и кожу с твоих костей, дабы твой господин получил достойный ответ на свою весть. Скажи ему, что его и всех, кто с ним в замке, я объявляю заложниками за жизнь моих людей, и если он посмеет обречь их на смерть, то и сам, и все его люди будут повешены на зубцах стены. Иди же и поторопись, не то мое терпение истощится.
В холодных серых глазах Ноллеса и в тоне, каким он произнес последние слова, было нечто такое, отчего дородный посол удалился куда быстрее, чем явился. Едва он исчез в темной арке ворот, как со скрипом и лязгом был поднят мост.
Несколько минут спустя на башню, где стояли обреченные лучники, вышел верзила с всклокоченной бородой, схватил первого за плечи и столкнул со стены. У несчастного вырвался крик, на который его товарищи внизу ответили горестными стонами, а он взлетел от силы толчка вверх, а потом повис, дергаясь и поворачиваясь, точно игрушечный паяц на ниточках.
Палач повернулся и с насмешливым почтением поклонился зрителям внизу. Откуда ему в краю малосильных стрелков из лука было знать, как далеко, метко и сильно бьет английский длинный лук? Несколько человек во главе с Уотом кинулись к стене. Спасти своих товарищей они не могли, но хотя бы смерть их была отомщена. Палач примерился столкнуть со стены второго, и тут в лоб ему впилась стрела, и он рухнул мертвый на парапет. Падая, он успел толкнуть пленного, и вторая фигура в бурой куртке закачалась рядом с первой на сером фоне стены.
Остался только мальчик, Джонни Олспи. Он стоял, дрожа, на краю парапета. Перед ним разверзалась бездна, а позади раздавались голоса тех, кто должен был швырнуть его туда. Однако долгое время никто не решался подставить себя смертоносным стрелам. Затем из укрытия, согнувшись в три погибели, выскочил доброволец и побежал к юному лучнику, старательно держась позади него.
— Подвинься, Джон! Подвинься! — закричали ему снизу.
Мальчик отпрыгнул в сторону, насколько позволяла веревка, и петля всползла ему на лицо. Мимо просвистели три стрелы и две сразили человека у него за спиной. Под восторженные крики снизу тот упал на колени, а потом ничком. Жизнь за жизнь — счет выходил не дурен.
Но искусство старших товарищей подарило мальчику лишь краткую передышку. Над парапетом возник медный шар, затем пара широких медных плеч, а затем появилась целиком фигура рыцаря в полной броне. Он подошел к краю, хриплым хохотом встретил град стрел, которые отскакивали от доспехов, не причиняя ему ни малейшего вреда, а затем насмешливо ударил себя рукавицей по нагруднику, прекрасно зная, что на таком расстоянии никакая стрела, пущенная смертной рукой, не может пробить металлические пластины. Надменно откинув голову, лаброиньерский Мясник вдоволь насмеялся со стены замка над своими врагами. После чего грузно и неторопливо направился к юному лучнику, ухватил его за ухо и поставил так, чтобы веревка расправилась. Заметив, что петля сдвинулась с шеи, он попытался опустить ее на место, но ему мешала железная рукавица. Он снял ее и голой рукой ухватил веревку над головой мальчика.
В воздухе тут же просвистела стрела старого Уота, и, взвыв от боли, Мясник попятился — длинная стрела пронизала его ладонь насквозь. В неистовой злобе он погрозил кулаком лучникам внизу, и вторая стрела оцарапала костяшки его пальцев. Бешеным ударом закованной в металл ноги он сбросил Джонни Олспи с парапета, несколько секунд смотрел вниз на раскачивающийся труп и медленно удалился, бережно прикрывая кровоточащую руку, а стрелы гулко ударялись в его медную спину.
Лучники, разъяренные убийством своих товарищей, свирепо вопили и прыгали, точно стая бешеных волков.
— Клянусь святым Дунстаном, — сказал Перси, глядя на их побагровевшие лица, — если уж попытаться взять замок, то только теперь. Коли их будет вести ненависть, они не дрогнут.
— Ты прав, Томас! — воскликнул Ноллес. — Собери двадцать жандармов со щитами. Астли, расставь лучников так, чтобы ни единая голова не могла появиться в бойнице или над парапетом. Найджел, распорядись, чтобы крестьяне несли сюда фашины. А другие пусть притащат бревно, которое лежит за коновязью. Десять жандармов понесут его справа, а другие десять — слева, прикрывая головы щитами. Как только ворота рухнут, все — внутрь. И да поможет Бог справедливому делу!
Необходимые приготовления были закончены быстро, но без суеты — это были опытные солдаты, избравшие войну своим ремеслом. Лучники по двое, по трое встали напротив всех амбразур и бойниц в стене, а остальные бдительно высматривали, не мелькнет ли над ней лицо или голова, и тотчас туда летела стрела. Защитники в ответ стреляли из арбалетов, а иногда пускали камень из мангонеля, но не успевали толком прицелиться из страха перед градом метких стрел и промахивались. Тот же страх оберегал крестьян, которые благополучно добегали до рва, бросали в него связку хвороста или прутьев и столь же благополучно возвращались за новой. Ров был заполнен до краев, а потери исчислялись лишь двумя крестьянами, в которых попали арбалетчики, и одним лучником, убитым камнем. Теперь настало время пустить в ход таран.
С громким криком двадцать отборных бойцов ринулись вперед, держа бревно под мышками комлем в сторону ворот. Арбалетчики на башне перегнулись и пустили в них стрелы, однако остановить их не смогли: двое упали, а остальные, подняв щиты, с боевым кличем пробежали по мосту из фашин и с грохотом ударили тараном в ворота. Они треснули сверху донизу, но не упали.
Раскачивая свое тяжкое орудие, штурмующие продолжали бить в створки, и с каждым ударом щели в них ширились и множились. Рядом с тараном стояли трое рыцарей с Найджелом, французом Раулем и другими оруженосцами, подбодряя жандармов и напевно задавая ритм раскачиванию тарана с громовым «ха!» при каждом ударе. Сброшенный с парапета огромный камень с грохотом обрушился на сэра Астли и одного жандарма, но их место тотчас заняли Найджел и Рауль, и таран продолжал раскачиваться и бить даже с еще большей силой. Удары следовали один за другим, нижняя часть створок уже прогибалась, только огромный главный засов еще держался. Но казалось, он вот-вот вылетит из скоб, и тут на них сверху хлынула какая-то жидкость. Ее лили из бочки на парапете, и вскоре нападающие, фашины и таран покрыла желтая слизь. Ноллес мазнул по ней рукавицей, поднес к забралу и понюхал.
— Назад! — крикнул он. — Назад, пока не поздно!
Над их головами сбоку от ворот была узкая зарешеченная амбразура. Вдруг ее изнутри озарил багровый свет, и в них полетел пылающий факел. Во мгновение ока масло вспыхнуло, и вокруг взвилась стена огня. Сосновый ствол в их руках, фашины у них под ногами, даже их оружие — все запылало.
Слева и справа люди спрыгивали на дно рва и катались по земле, тщась сбить пламя. Защищенные броней рыцари и оруженосцы старались помочь тем, чье тело прикрывала только кожаная куртка. А сверху на них сыпались арбалетные стрелы и камни. Правда, лучники, увидев всю меру опасности, подбежали к краю рва и быстрыми стрелами метко поражали головы, неосторожно приподнявшиеся над стеной.
Измученные, обожженные, в дымящихся лохмотьях выбирались из рва уцелевшие, хватаясь за протянутые им дружеские руки под насмешки и улюлюканье врагов. От фашин осталась только куча тлеющих углей, а на ней в раскаленных докрасна доспехах лежали семь трупов, и Астли в их числе.
Стискивая кулаки, Ноллес оглядел ворота и ров, а потом посмотрел на стоявших и лежавших возле него людей, которые возились со своими ожогами и хмуро косились на фигуры, злорадно махавшие им со стен замка. Молодой полководец сам был сильно обожжен, но бешенство и скорбь заставляли его забывать о боли.
— Мы построим новый мост! — крикнул он. — Прикажите крестьянам вязать фашины!
Но Найджела осенила внезапная мысль.
— Взгляни, благородный сэр! — сказал он. — Гвозди на створках раскалены докрасна, а дерево обгорело. Уж конечно, они рассыплются от первого же удара!
— Клянусь Пресвятой Девой, ты прав! — вскричал французский оруженосец. — Если мы переберемся через ров, ворота нас не остановят. Вперед, Найджел, во имя наших прекрасных дам! Посмотрим, кто будет у ворот первым, Англия или Франция.
Забыты были мудрые наставления доброго Чандоса! Забыты уроки порядка и дисциплины осторожного Ноллеса! Мгновение спустя, помня только этот вызов, Найджел уже во всю мочь бежал к тлеющим воротам. Его почти настигал француз, пыхтя и отдуваясь в своих медных доспехах. А за ними, словно прорвало плотину, ринулся поток вопящих лучников и жандармов. Они соскальзывали в ров и подставляли друг другу спины, чтобы вскарабкаться на противоположную сторону. Найджел, Рауль и двое лучников добрались до ворот одновременно. Под ударами мечей и обутых в железо ног они развалились, и все четверо с ликующим криком устремились под сумрачную арку. Их опьяняла мысль, что замок взят, и они очертя голову бросились в темный проход, открывшийся перед ними. Но увы! Через десяток шагов путь им опять преградили ворота, такие же крепкие, как первые. Тщетно они рубили их топорами и мечами. А в обеих стенах были узкие бойницы, и стрелы, пущенные из арбалета с расстояния в несколько шагов, пробивали броню, точно бумагу, сражая одного за другим. Остальные в бешенстве продолжали бить в окованные железом створки, но с тем же успехом они могли бы долбить стену рядом.
Отступать было горько и стыдно, но оставаться там дольше могли лишь безумцы. Найджел оглянулся и увидел, что половина его людей распростерта на плитах пола. В тот же миг Рауль со стоном упал возле его ног: стрела пробила звенья кольчужного воротника и глубоко вошла в шею. Многие лучники, убедившись, что тут их ждет только смерть, уже бежали по роковому проходу назад.
— Клянусь святым Павлом! — негодующе вскричал Найджел. — Неужто вы бросите наших раненых товарищей здесь, где их захватит Мясник? Лучники, стреляйте в бойницы, отгоняйте от них арбалетчиков! Теперь пусть каждый возьмет раненого, иначе мы оставим у этих ворот свою честь!
С огромным усилием он взвалил Рауля на плечи и, пошатываясь, добрел с ним до края рва, под которым укрывались от стрел несколько человек. На их руки он опустил сраженного друга. Так же поступили и остальные. Вновь и вновь возвращался Найджел в проход, пока там не остались лишь трупы. Тринадцать раненых лежали под защитой стенки рва, и там им предстояло оставаться до темноты. Лучники на той его стороне охраняли их от нападения, а кроме того, препятствовали всем попыткам врага навесить в арке новые ворота. Эта зияющая закопченная арка была куплена ценой тридцати воинов; и Ноллес во что бы то ни стало хотел ее удержать.
Весь в ожогах и синяках, Найджел, не замечая ни боли, ни усталости — слишком сильно было в нем борение чувств, — опустился на колени рядом с французом и снял с него шлем. Девичье лицо юного оруженосца было белым как мел, а синие глаза уже омрачил смертный туман, но когда он взглянул на своего английского товарища, его губы тронула слабая улыбка.
— Больше мне не видеть Беатрисы, — прошептал он. — Прошу тебя, Найджел, когда будет перемирие, поезжай к моему отцу и расскажи, как умер его сын. Малыш Гастон обрадуется: ведь теперь ему наследовать родовые земли, и герб, и боевой клич, и все доходы. Побывай у них, Найджел, и скажи им, что я не был в задних рядах.
— Нет, Рауль, никто не мог бы превзойти тебя доблестью и заслужить столько чести, как ты сегодня. Я исполню твою просьбу, едва будет возможно.
— Какой ты счастливый, Найджел! — промолвил умирающий оруженосец. — Ведь нынче ты совершил еще одно славное деяние, которое можешь сложить к ногам своей возлюбленной.
— Так было бы, если бы мы взяли замок, — ответил Найджел с грустью, — но, клянусь святым Павлом, какую честь я заслужил, коли мы отступили? Но сейчас не время, Рауль, говорить о моих никчемных делах. Если мы все-таки возьмем замок и я покажу себя достойно, вот тогда и это, быть может, будет чего-то стоить.
Француз приподнялся, словно в приливе новых сил — что часто служит странным предвестием смерти.
— Ты обретешь свою леди Мери, Найджел, и подвигов совершишь не три, а семидежды три, и во всем христианском мире не отыщется человека благородной крови, которому останутся неизвестны твое имя и твоя слава. Так говорю я, Рауль де ла Рош Пьер де Бра, умирая на поле чести. А теперь поцелуй меня, милый друг, и помоги мне лечь, ибо тьма смыкается вокруг меня и смерть рядом.
Сквайр бережно опустил голову товарища на землю, но за миг до этого кровь хлынула изо рта юноши и душа его отлетела. Так умер отважный французский оруженосец, и Найджел, стоя на коленях рядом с ним во рву, вознес молитву, прося Господа, чтобы и ему был ниспослан конец, столь же благородный и достойный.
Глава XXI Как второй вестник явился в Косфорд
Под покровом ночи раненых подняли изо рва, а почти у самых ворот поставили дозором лучников, чтобы они воспрепятствовали попыткам подправить их. Найджел, мучимый горем из-за смерти друга, собственной неудачей и страхом за Эйлуорда, прокрался назад в лагерь, но чаша его испытаний еще не переполнилась — там его ждал Ноллес, и каждое его слово было, как удар хлыста. Кто он такой, зеленый оруженосец, что посмел повести за собой солдат без приказа? Вот к чему привела глупая страсть к рыцарским подвигам — сгубила двадцать человек без всякой пользы. Их кровь на его руках. Чандос узнает о его безумствах. Пусть убирается в Англию, как только замок будет взят.
Так жестоко говорил Ноллес, и Найджел испытывал тем большую горечь, что признавал справедливость его слов и знал, что Чандос сказал бы то же самое, хотя, быть может, и более мягко. Он выслушал в почтительном молчании, как повелевал ему долг, а затем поклонился своему суровому наставнику, ушел на край лагеря, кинулся на землю среди кустов, уткнулся лицом в ладони и отчаянно разрыдался — столь жгучих слез он никогда еще не проливал. Все его тело болело от ожогов, от десятков полученных ударов, но дух в нем был настолько сильнее плоти, что телесные страдания казались ему ничем в сравнении со стыдом и печалью, разрывавшими его сердце.
Затем самая, казалось бы, малость изменила ход его мыслей и принесла ему некоторое утешение. Он снял железные рукавицы, и, когда стаскивал левую, пальцы его коснулись браслета, который Мери застегнула на его запястье, когда они стояли на холме святой Екатерины у Гилфордской дороги. Ему вспомнились слова, искусно вплетенные в золотую филигрань: «Делай, что должно, что бы ни случилось, — вот закон рыцаря».
Девиз этот эхом отдавался в его усталом мозгу. Да, он поступил согласно велению долга, как ему казалось в ту минуту. Правда, обернулось это скверно, однако человеку свойственно ошибаться. Возьми он замок, Ноллес, конечно же, простил бы и забыл все остальное. А если он его не взял, так не по своей вине. Сделать больше не мог бы никто. Мери, будь она там, наверное, одобрила бы его рвение… Он уснул, и над ним наклонилось ее смуглое лицо, полное гордости за него и жалости. Она протянула руку и коснулась его плеча… Найджел вскочил, протирая глаза, ибо в сон, как порой бывает, вплелась явь, и кто-то действительно наклонялся над ним в темноте и тряс его за плечо. Но только нежный голос и ласковое прикосновение леди Мери внезапно превратились в хриплый бас и жесткие пальцы Черного Саймона, беспощадного воина из Норича.
— Ты ведь сквайр Лоринг? — сказал он, приблизив к нему свое лицо почти вплотную.
— Он самый. Чего ты хочешь?
— Я обшарил весь лагерь и не нашел тебя, но потом увидел возле этих кустов твоего приметного коня и сообразил, что ты где-то рядом. Мне надо поговорить с тобой.
— Говори.
— Лучник Эйлуорд мой друг, а по Божьему соизволению своих друзей я люблю так же горячо, как ненавижу своих врагов. Он твой слуга, и, по-моему, ты его тоже любишь.
— Еще бы мне его не любить!
— Значит, сквайр Лоринг, у тебя и у меня есть больше причин постараться для него, чем у всех прочих. Они ведь думают теперь только о том, как взять замок, а не о том, как выручить тех, кто там томится. Неужто ты не понимаешь, что барон разбойник, чуть дело обернется против него, перережет горло пленным? Он же знает, что ему все равно пощады ждать нечего. Так или не так?
— Клянусь святым Павлом! Об этом я не подумал.
— Я был рядом с тобой, когда ты рубил внутренние ворота, — продолжал Саймон. — Но когда мне показалось, что они поддаются, я сказал про себя: «Прощай, Сэмкин! Больше я тебя не увижу». У этого барона в сердце одна желчь, как и у меня. А по-твоему, отдал бы я своих пленных живыми, коли бы меня принуждали? Нет и нет! Останься этот день за нами, для них он стал бы последним.
— Пожалуй, ты прав, Саймон, — сказал Найджел, — и такая мысль должна смягчить наш стыд. Но если мы их не спасем, взяв замок, значит, гибель их предрешена.
— Может, так, а может, и не так, — медленно ответил Саймон. — Сдается мне, что, возьми мы замок врасплох, они не успеют расправиться с пленными.
Найджел наклонился к нему и крепко сжал его локоть.
— Ты что-то придумал, Саймон! Открой мне свой план.
— Я хотел рассказать сэру Роберту, да только он готовится к завтрашнему штурму и от своего намерения не отступит. План-то у меня есть, а вот хорош он или плох, сказать не могу, пока дело не дойдет до дела. Только прежде дай объяснить, как он пришел мне в голову. Нынче утром, пока я сидел во рву, запомнился мне один арбалетчик на стене. Рыжий детина с белым лицом и родимым пятном во всю щеку.
— Но при чем тут Эйлуорд?
— Сейчас узнаешь. Ввечеру я с десятком товарищей обходил кругом укрепления на том холме, не высмотрим ли какого слабого места. Они повылазили на стену и принялись нас поносить, а среди них был детина с белым лицом, рыжими волосами и родимым пятном на щеке. Как ты это растолкуешь, сквайр Найджел?
— Ну, он перешел туда из замка.
— Ничего другого быть не могло. Двух таких одинаково меченных в мире не сыщется. Но коли он перешел туда из замка, то не по земле же. Кругом тут всюду наши.
— Клянусь святым Павлом, я понял, куда ты клонишь! — воскликнул Найджел. — Ты думаешь, что от замка туда ведет подземный ход.
— Не думаю, а знаю.
— Так если мы займем крепостцу, то пройдем по нему в замок и возьмем его!
— Верно-то верно, — ответил Саймон, — но опасно: ведь в замке сразу узнают, что мы ее штурмуем, перегородят ход и перебьют пленников прежде, чем мы до них доберемся.
— Что же ты задумал?
— Коли мы найдем этот ход сверху, сквайр Найджел, что нам помешает докопаться до него, взломать свод и открыть себе доступ и в замок, и в крепостцу, а они там ничего знать не будут?
Найджел от радости захлопал в ладоши.
— Клянусь Богом! — вскричал он. — План редкостный! Но, увы, Саймон, как мы отыщем ход и как узнаем, где лучше всего копать?
— Вон там меня ждут крестьяне с лопатами, — сказал Саймон. — А с ними два моих друга, Хардинг из Барнстейбла и Уилл с запада, в полном своем снаряжении. Коли ты нас поведешь, сквайр Найджел, мы готовы пойти за тобой хоть на смерть.
Что скажет Ноллес, если они потерпят неудачу? Но едва эта мысль промелькнула в мозгу Найджела, как на смену ей явилась другая. Он ничего не предпримет, пока не убедится, что предприятие это небезнадежно. Или же заплатит жизнью за ошибку. И так искупит все прежние. Если же их усилия увенчаются успехом, то Ноллес простит ему неудачу у ворот. Минуту спустя, отогнав все сомнения, он уже шагал рядом с Черным Саймоном в ночном мраке.
За пределами лагеря их ждали два жандарма, и дальше они пошли вчетвером. Вскоре в темноте вырисовалась кучка людей. Ночь выдалась облачная, моросил дождь, за которым не было видно ни замка, ни крепостцы, но Саймон еще днем положил здесь камень, отмечавший точную половину расстояния между ними.
— Слепой Андреас тут? — спросил он.
— Да, милостивый господин, я тут, — произнес голос во тьме.
— Этот человек, — сказал Саймон, — был когда-то богат и всеми уважаем, но барон разбойник ограбил его, а потом выжег ему глаза, и он уже много лет живет в вечной темноте милостынью добрых людей.
— Так как же он нам поможет, если слеп? — спросил Найджел.
— Потому-то, благородный сэр, он нам нужнее любого другого, — ответил Саймон. — Когда человек теряет одно из своих чувств, милосердный Господь усиливает те, которые ему остались. И слух у Андреаса такой, что он слышит, как сок течет в дереве и как мышь пищит в норке. Он отыщет для нас подземный ход.
— Я его уже отыскал, — с гордостью произнес слепец. — Мой посох уперт в землю прямо над ним. Дважды, пока я лежал тут, прижимая ухо к земле, подо мной раздавались шаги.
— А не ошибся ли ты, старик? — спросил Найджел. Вместо ответа слепец поднял посох и дважды стукнул по земле — один раз справа от себя, другой раз слева. Первый удар был глухим, а второй — гулким.
— Ты расслышал? — сказал он. — Хочешь снова спросить, не ошибся ли я?
— Поистине мы у тебя в долгу! — воскликнул Найджел. — Пусть крестьяне начинают копать, но елико возможно тише. А ты, Андреас, не припадешь ли опять ухом к земле, предупредить нас, если кто-нибудь приблизится к этому месту по подземному ходу?
Под припустившим дождем крестьяне начали копать во мраке. Слепец лежал ничком в полном молчании, но дважды раздавался его предостерегающий шепот, и они застывали в неподвижности, пока проходивший внизу не удалялся. Через час лопаты уперлись в каменный свод. Серьезное препятствие! На то, чтобы выломать дыру, могло уйти много времени, а им было необходимо либо завершить свое предприятие до рассвета, либо потерять всякую надежду на успех. Они принялись скрести известку кинжалами и сумели расшатать небольшой камень, а потом и вытащить его, что облегчило дальнейшую работу. Вскоре у их ног разверзся черный провал — более черный, чем тьма вокруг, и опущенные в него мечи не коснулись дна. Подземный ход был вскрыт.
— Я хотел бы войти в него первым, — сказал Найджел. — Прошу вас, спустите меня.
Они взяли его за руки и опустили на длину своих рук, а тогда разжали их и услышали, как он благополучно упал на ноги. Мгновение спустя слепец приподнялся и тревожно зашептал:
— Я слышу шаги. Они еще далеко, но приближаются. Саймон свесил голову в дыру.
— Сквайр Найджел, ты меня слышишь? — шепнул он.
— Слышу, Саймон.
— Андреас говорит, что сюда кто-то идет.
— Ну так закройте дыру, — донесся ответ. — Быстрей, быстрей закройте!
Дыру накрыли плащом, чтобы ни единый проблеск света не предупредил идущего. Но что, если он услышал прыжок Найджела? Впрочем, вскоре стало ясно, что он ничего не подозревает, — Андреас сообщил, что шаги по-прежнему спокойные и ровные. Теперь их слышал и Найджел. Все было бы потеряно, если бы неизвестный шел с фонарем, однако подземный туннель оставался таким же темным, а шаги по-прежнему приближались.
Найджел безмолвно возблагодарил всех трех своих святых покровителей и с обнаженным кинжалом в руке прижался к скользкой стене, затаив дыхание. А шаги все приближались и приближались. Теперь слышалось сопение, затем его задел край одежды, и он прыгнул на идущего, как тигр. Изумленный вскрик, а затем полная тишина: Найджел схватил свою жертву за горло и прижал к стене.
— Саймон! Саймон! — крикнул он громко. Плащ был тотчас сдернут с дыры.
— Есть у вас веревка? Или свяжите пояса.
У одного из крестьян нашлась веревка, и вскоре ее спускающийся конец задел протянутую руку молодого оруженосца. Он прислушался, но в туннеле царила полная тишина. На мгновение он отпустил горло своего пленника, и на него обрушился поток молений и просьб о пощаде. Бедняга трясся как осиновый лист.
Найджел приставил острие кинжала к его лицу, предупредил, чтобы он не смел открывать рта, а затем пропустил веревку у него под мышками и затянул узел.
— Тащите его наверх, — скомандовал он шепотом, и на мгновение смутное пятно над его головой исчезло.
— Сделано, благородный сэр, — сказал Саймон.
— Сбросьте мне веревку и держите ее крепче.
Мгновение спустя Найджел присоединился к кольцу людей, окруживших пленника. В темноте он оставался почти невидим, а высечь огонь они не решались.
Саймон грубо ощупал его и ощутил под своими ладонями сначала жирное бритое лицо, а затем суконное одеяние, ниспадавшее почти до щиколоток.
— Ты кто? — шепнул он. — И говори тихо, коли не хочешь замолчать навсегда.
Зубы пленника громко стучали от холода и испуга.
— Я английского не знаю, — пробормотал он.
— Так говори по-французски.
— Я смиренный служитель Божий. За то, что вы наложили на меня руки, вам грозит отлучение от святой нашей церкви. Прошу вас, дайте мне продолжать путь, ибо меня ждут умирающие, дабы я исповедал их и дал им последнее причастие. Если они умрут во грехе, в гибели их душ повинны будете вы.
— Как ты зовешься?
— Я отец Пьер де Серволь.
— Де Серволь! Служитель дьявола! Это он раздувал угли в жаровне, когда мне выжигали глаза! — крикнул старый Андреас. — Среди адских бесов не найти гнуснее. Друзья, друзья, если нынче ночью я помог вам, то прошу об одной лишь награде: отдайте мне этого человека!
Однако Найджел оттолкнул слепца.
— Сейчас не время, — сказал он. — Слушай, поп, если ты и вправду служитель церкви, ни ряса, ни тонзура тебя не спасут, попробуй только нас обмануть! Мы здесь для того, чтобы осуществить задуманное нами, и нас ничто не остановит. Отвечай мне и говори правду, или эта ночь будет твоей последней. В какую часть замка ведет подземный ход?
— В нижний подвал.
— Что у него в конце?
— Дубовая дверь.
— Она на засове?
— Да, на засове.
— А как бы ты вошел?
— Сказал бы пароль.
— И кто ее открыл бы?
— Там внутри часовой.
— А дальше что?
— Дальше темницы и тюремщики.
— И кто еще не спит?
— Только часовой у ворот и еще один на стене.
— А пароль? Ответом было молчание.
— Пароль, пои!
Холодные острия двух кинжалов царапнули жирное горло, но священник молчал.
— Где слепой? — спросил Найджел. — Эй, Андреас, забирай его и делай с ним, что пожелаешь.
— Нет, нет! — взвизгнул священник, — Не подпускайте его ко мне! Не отдавайте меня слепому Андреасу! Я вам все скажу.
— Ну, так пароль! И не медли.
— Benedecite![23]
— Саймон, мы знаем пароль, — радостно сказал Найджел. — Так идем же. Крестьяне останутся сторожить попа. Пусть никуда не отходят — вдруг нам понадобится вестник.
— Нет, благородный сэр, сдается мне, можно придумать лучше, — ответил Саймон. — Возьмем попа с собой, страж у двери узнает его голос.
— Хорошо придумано, — ответил Найджел. — А теперь помолимся, ибо ночь эта легко может стать последней и для нас.
Вместе с тремя жандармами он преклонил колени под дождем, и они обратили к Богу простодушные мольбы, однако Саймон продолжал крепко сжимать запястье священника. Тот порылся у себя за пазухой и что-то вытащил.
— Вот сердце блаженного исповедника святого Эногата, — сказал он. — Если вы коснетесь его, это облегчит и утешит ваши души.
Четверо англичан по очереди благоговейно приложились губами к серебряному ящичку, передавая его друг другу. Затем поднялись на ноги. Первым в дыру спустили Найджела, затем Саймона, а за ними — священника, которого они тотчас схватили. За ним последовали остальные двое. Не успели они отойти несколько шагов, как Найджел остановился.
— За нами кто-то идет, — шепнул он.
Они прислушались. Но в туннеле царила полная тишина — ни шороха, ни звука. Они выждали минуту, а затем начали пробираться дальше в кромешной тьме. Казалось, шли они бесконечно, хотя на самом деле уже через триста — четыреста шагов путь им преградила дверь с узенькими полосками желтого света сверху и снизу. Найджел ударил в нее ладонью. Заскрипел засов, и громкий голос осведомился:
— Это ты, поп?
— Да, Арнольд, — ответил священник дрожащим голосом. — Открой!
Его голоса оказалось достаточно. Пароля часовой не спросил. Дверь распахнулась вовнутрь, и тут же ее страж упал под ударами Найджела и Саймона. Нападение было столь стремительным и бешеным, что предупредить об их появлении мог только глухой стук упавшего тела.
Англичане несколько секунд стояли, щурясь от яркого света.
Перед ними был выложенный плитами коридор, поперек которого лежал убитый часовой. В стенах справа и слева виднелись двери, а дальний его конец перегораживала еще одна тяжелая дверь с решеткой. Откуда-то доносились странные всхлипы и стоны. Все четверо с недоумением вслушивались в непонятные звуки, как вдруг позади них раздался короткий вопль. Священник валялся на полу, из его перерезанного горла хлестала кровь, а по туннелю в отблесках желтого света, пригнувшись и стуча перед собой палкой, убегала темная фигура.
— Андреас! — воскликнул Уилл с запада. — Он его прирезал.
— Так это его шаги я слышал! — ответил Найджел. — Значит, он шел за нами по пятам. Боюсь, стон попа могли услышать.
— Нет, — возразил Саймон, — кто его расслышит среди этих криков?! Заберем со стены фонарь и поглядим, в какое дьявольское логово мы угодили.
Они открыли дверь справа, и оттуда ударило таким смрадом, что они попятились. Фонарь в руке Саймона осветил обезьяноподобное существо, которое жалось в углу, что-то бормоча и гримасничая. Разобрать, мужчина это или женщина, было невозможно, но одиночество и ужас породили безумие. В темнице напротив прикованный к стене седобородый старик тупо смотрел перед собой — плоть, лишенная души. Однако он был жив, его угасший взгляд медленно обратился на них. Но полные муки голоса звучали за средней дверью, в которую упирался коридор.
— Саймон, — сказал Найджел, — прежде чем идти дальше, надо снять с петель дверь в подземный ход. Перегородим этот коридор и в случае неудачи будем обороняться тут, пока не подоспеет подмога. Беги со всех ног в лагерь. Крестьяне вытащат тебя из дыры. Приветствуй от меля сэра Роберта и скажи, что замок падет, если он поспешит сюда с пятьюдесятью людьми. Скажи, что мы заняли плацдарм внутри его стен. И еще передай ему, Саймон, мой совет поднять шум у ворот. Гарнизон ринется туда, а мы тем временем утвердимся у них за спиной. Беги, добрый Саймон, не теряй времени!
Но воин покачал головой.
— Сюда тебя привел я, благородный сэр, и здесь я останусь, будь что будет. Но ты сказал верно и мудро: сэра Роберта необходимо поскорее известить обо всем. Хардинг, беги во всю мочь, передай ему весть от благородного Найджела.
С большой неохотой его товарищ подчинился, и они услышали, как топот его ног и позвякивание оружия затихли в туннеле. Затем все трое направились к двери в конце коридора, намереваясь дождаться подкрепления там. Но вдруг, перекрывая стопы и всхлипы, раздался голос, полный невыразимой муки.
— Господи! — воззвал он по-английски. — Чашу воды, добрые люди, во имя Христа милосердного!
Ответом был хохот и звук тяжелого удара.
Горячая кровь бросилась Найджелу в голову, зашумела в ушах, застучала в висках. Бывают мгновения, когда пылкое сердце человека берет верх над холодным мозгом солдата. Одним прыжком он очутился у двери, вторым оказался за ней. Оба жандарма бросились за ним. Но им открылось такое зрелище, что на миг все трое от удивления и ужаса застыли на месте.
Перед ними был большой сводчатый подвал, освещенный множеством факелов. В дальнем конце в огромном очаге ревел огонь. Перед ним к трем столбам были прикованы три нагих человека таким образом, что его жгучее дыхание опаляло их, как они ни извивались. Однако расстояние было достаточным для того, чтобы избежать ожогов, все время поворачиваясь к пламени то одним боком, то другим. Поэтому они непрерывно вертелись и метались, насколько позволяли цепи, истомленные, изнывающие от такой жажды, что языки их распухли и почернели, и не могли позволить себе ни единой передышки в этой судорожной пляске.
Но еще более поразил их вид огромных бочек справа и слева, из которых и доносились стенания, услышанные Найджелом и его товарищами. В каждой сидел человек. Его голова торчала над краем, а при каждом движении раздавался плеск воды. Когда дверь распахнулась, все бледные, осунувшиеся лица повернулись к ней, и протяжные стоны сменились возгласами изумления и надежды.
В тот же миг двое тюремщиков в черной одежде, удобно расположившиеся перед огнем с кувшином вина, растерянно вскочили на ноги, ошеломленные столь нежданным вторжением. Это замешательство лишило их последнего шанса на спасение. Каменные ступеньки, поднимавшиеся к внутренней двери, находились как раз на середине между ними и тремя англичанами. Найджел бросился к этой лестнице молниеносным движением, как кот на мышь, и опередил тюремщиков шага на три. Они повернули к входу в туннель, но там их перехватили Саймон и его товарищ. Два удара мечом наотмашь, два удара кинжалом, положившие конец смертным судорогам, — и оба злодея, исполнявшие волю Мясника, остались лежать бездыханными трупами на плитах пыточного подвала.
Какие благодарения, какие ликующие возгласы срывались теперь с бледных губ! Какой огонь возродившейся надежды просиял в глубоко запавших глазах! Они чуть было не испустили громовой торжествующий клич, но вскинутые руки и настойчивый шепот Найджела призвали их к молчанию.
Он приоткрыл дверь у себя за спиной. Там вверх в темноту уходили каменные ступеньки винтовой лестницы. Сквайр прислушался. Ни звука. В замочной скважине снаружи торчал железный ключ. Он выдернул его и запер дверь изнутри, оберегая захваченный плацдарм. Теперь можно было помочь своим злополучным землякам. Несколько сильных ударов сбили оковы с трех плясунов перед огнем. С хриплым радостным криком все трое бросились к ближайшим бочкам, сунули в них головы, точно кони, и пили, пили, пили… А их спасители уже вытаскивали из бочек томившихся в них бедняг, которых бил озноб. От долгого пребывания в воде кожа их стала мертвенно-белой и дряблой. Когда с них были сбиты оковы, окостеневшие руки и ноги не слушались их, и они перекатывались по полу, стараясь добраться до Найджела и поцеловать ему руку.
В углу возле своей бочки лежал Эйлуорд, полумертвый от холода и голода. Вода с его тела растекалась по полу лужицей. Найджел подбежал к нему и приподнял его голову. На столе, за которым восседали тюремщики, все еще стоял кувшин с вином. Найджел поднес его к губам лучника, и тот сделал большой глоток.
— Эйлуорд, как ты?
— Уже получше, сквайр, много лучше. Но в жизни больше не прикоснусь к воде! Бедняга Дикон не выдержал холода. И Стивен тоже. Озноб их прикончил. А я промерз до костей. Дай я обопрусь на твою руку и доберусь до огня разогреть застывшую кровь, чтобы она опять заструилась по моим жилам.
Странная это была картина! Двадцать голых мужчин скорчились полукругом перед огнем и тянули к нему дрожащие руки. Первыми оттаяли их языки, и они излили историю своих страданий, перемежая ее молитвами и благодарностями всем святым за счастливое избавление. За все время здесь им ни разу не дали никакой еды. Мясник приказал им выйти на стену с его солдатами и стрелять в своих товарищей. Они отказались, и он отобрал троих для казни.
Остальных сволокли в этот подвал, куда за ними, ухмыляясь, последовал и Мясник. Он задал каждому только один вопрос: горяч он по натуре или хладнокровен. Их били, пока они не дали ответа. Трое сказали, что они хладнокровны, и были обречены на пытку огнем. Остальных, признавшихся в горячности нрава, посадили в бочки с водой. Каждые несколько часов этот дьявол в человечьем обличье спускался в подвал полюбоваться их муками и спрашивал, не готовы ли они поступить к нему на службу. Трое согласились, и их увели. Но остальные устояли, двое — ценой жизни.
Вот что услышали Найджел и два его товарища, пока с нетерпением ожидали Ноллеса с отрядом. Много раз они с тревогой оглядывались на темный вход в туннель, но из его глубин не доносился звон оружия, во мраке не мерцал ни единый огонек.
Внезапно их слух поразили громкие размеренные звуки — металлический лязг, становившийся все громче. Тяжелые медленные шаги рыцаря в полном вооружении. Бедняги у огня, обессилевшие от голода и страданий, сбились в кучу. Глаза на осунувшихся, измученных лицах с ужасом вперились в дверь.
. — Это он! — зашептали они. — Сам Мясник.
Найджел бросился к двери и напряженно прислушался. Только эти шаги и никаких других. Тогда он бесшумно повернул ключ в замке. И тотчас за дверью словно взревел бык:
— Ив! Бертран! Вы что, не слышите, что я иду, проклятые пьяницы? Вот поостудите головы в бочках, подлые бездельники! Открывайте, псы! Открывайте, кому говорят!
Он опустил щеколду, ударом ноги распахнул дверь и двинулся вперед. Затем встал как вкопанный, точно статуя из тускло-желтого металла, и уставился на пустые бочки, на кучу голых людей. Затем с львиным рыком повернулся, но дверь у него за спиной уже захлопнулась, и перед собой он увидел напрягшуюся фигуру Черного Саймона, на угрюмом лице которого играла сардоническая улыбка.
Мясник беспомощно посмотрел по сторонам — при нем не было никакого оружия, кроме кинжала. И тут его взгляд упал на алые розы Найджела.
— Ты благородной крови и носишь герб! — крикнул он. — Я сдаюсь тебе.
— А я не принимаю твоей сдачи, подлый негодяй, — ответил Найджел. — Бери оружие и защищайся! Саймон, дай ему свой меч.
— Нет, я еще в здравом уме, — сердито ответил воин. — Зачем же я дам осе жало?
— Дай ему меч, говорю тебе! Я не могу убить безоружного.
— Зато я могу! — крикнул подкравшийся к ним Эйлуорд. — Вперед, ребята! Не он ли научил нас, как подогревают холодную кровь?
Они набросились на него, как стая волков, и под натиском десятка обнаженных, обезумевших от ярости людей он с грохотом повалился на пол. Тщетно Найджел пытался оттащить их. Пытки и голод довели их до исступления, глаза у них горели бешенством, волосы вздыбились, зубы скрежетали. Мертвой хваткой вцепившись в воющего, рвущегося из их рук человека, они с грохотом и лязгом поволокли его за ноги к очагу и толкнули в огонь.
Металлическая фигура выкатилась на пол и приподнялась на колени, но ее тотчас опрокинули в бушующее пламя. Найджел вздрогнул и отвел глаза. Недавние пленники Мясника радостно вопили, били в ладоши и пинали его ногами, пока броня не раскалилась докрасна, а тогда пустились в пляс у очага.
Тут наконец явилась подмога. В туннеле замелькали факелы, зазвенело оружие. Подвал заполнили жандармы, а сверху донеслись крики и шум ложного штурма ворот. Во главе с Ноллесом и Найджелом жандармы незамедлительно овладели внутренним двором. Захваченные врасплох с тыла, защитники ворот побросали оружие, прося пощады. Внутренние ворота были распахнуты, и в них ворвались участники ложного штурма, за которыми в замок хлынули сотни разъяренных крестьян. Некоторые разбойники погибли с оружием в руках, но остальные были безжалостно перебиты, когда сдались. В живых не осталось ни единого, так как Ноллес дал клятву никого не щадить. Уже занималась заря, когда нагнали и прикончили последнего пособника Мясника. Замок оглашали крики и вопли солдат, с их голосами смешивался треск взламываемых дверей, за которыми в кладовых и потайных комнатах хранилось награбленное за одиннадцать лет — золото и драгоценные камни, атлас и бархат, золотая и серебряная посуда, пышные гобелены. Все это теперь принадлежало победителям, и в общей толчее каждый хватал что попадало под руку.
Поиски добычи возглавляли спасенные лучники, уже одетые и накормленные. Найджел, который стоял, опираясь на меч, возле арки больших ворот, увидел, что к нему, пошатываясь, бредет Эйлуорд с двумя узлами под правой и левой рукой, с третьим на спине и небольшим свертком в зубах. Поравнявшись со своим молодым господином, он на минуту сложил тяжелую ношу.
— Клянусь моими десятью пальцами, до чего же я рад, что отправился на войну! Лучше жизни и пожелать нельзя! — объявил он. — Тут у меня подарки всем тилфордским девушкам, а отцу больше никогда уж не надо будет дрожать перед уэверлийским ключарем. Ну а ты-то, сквайр Лоринг? Куда же это годится? Мы собираем жатву, а ты, кто засеял поле, уходишь с пустыми руками? Возьми-ка все это, благородный сэр, а я вернусь и поищу для себя еще.
Найджел улыбнулся и покачал головой.
— Твое заветное желание сбылось, а может быть, и мое, — ответил он.
Мгновение спустя к нему с протянутой рукой подошел Ноллес.
— Прошу у тебя прощения, Найджел, — сказал он. — В гневе я наговорил лишнего.
— Нет, благородный сэр. Я был виноват.
— Но тому, что мы сейчас в замке, я обязан тебе. Король узнает об этом. И Чандос тоже. Могу ли я сделать для тебя еще что-нибудь, Найджел, в доказательство моего к тебе сердечного уважения?
Сквайр покраснел от радости.
— Ты ведь пошлешь гонца в Англию с вестью о том, что произошло тут, благородный сэр?
— Как же иначе? Но не говори, Найджел, что ты хочешь быть моим гонцом! Проси чего-нибудь другого, ибо отпустить тебя я не могу.
— Боже упаси! — вскричал Найджел. — Клянусь святым Павлом, было бы трусостью и низостью покинуть тебя, когда впереди еще немало славных дел! Но мне бы хотелось послать с твоим гонцом весть от себя.
— Кому?
— Леди Мери, дочери старого сэра Джона Баттесторна, который живет близ Гилфорда.
— Но ты напишешь ей, Найджел? Весть от благородного человека его даме должна быть под печатью.
— Нет, он может пересказать ее устно.
— Так я передам ему твои слова. Отправляется он теперь же. Что же должна услышать от него леди Мери?
— Что я шлю ей мой смиренный привет и что святая Екатерина во второй раз была к нам милостива.
Глава XXII Как в Плоэрмель прибыл Робер Бомануар
В тот же день сэр Роберт Ноллес и его воины отправились дальше, не раз оглядываясь через плечо на два столба дыма, один широкий, другой поуже, поднимавшиеся над замком и крепостцой Ла-Броиньер. Каждый лучник, каждый жандарм тащил на плечах узел с добычей, и Ноллес сердито хмурился. Он с превеликой радостью приказал бы им бросить эти узлы у дороги, но уже пробовал такое средство и по опыту знал, что куда безопасней покуситься на кость, которую грызет медведь, чем на оплаченную кровью солдатскую добычу. Впрочем, до Плоэрмеля, куда они направлялись, оставалось всего два дня пути.
Ночь они провели в Мороне, где в замке находился небольшой английский гарнизон, пополненный дружественными бретонцами. Лучники, обрадованные встречей с земляками, от зари до зари просидели с ними за вином и костями в обществе порядочного числа бретонских девиц, а потому наутро узлы заметно полегчали — немалая часть сокровищ Ла-Броиньера осталась у обитателей и обитательниц Морона.
Весь второй день они шли по берегу красивой медлительной реки, а слева простирался огромный лес. Под вечер показались наконец башни Плоэрмеля, и на фоне темнеющего неба они разглядели развевающееся на ветру знамя с красным крестом Англии. А река Дюк была такой голубой, такими зелеными были ее берега, что они словно бы очутились в родных краях — на берегу Темзы под Оксфордом или Трента в Мидленде. Однако едва сгустились сумерки, в лесу послышался волчий вой и напомнил им, что на этой земле идет нескончаемая война. Люди столько лет усердно охотились друг на друга, что дикие звери неслыханно расплодились — даже городские улицы не были безопасны от волков и медведей, кишевших в окрестных лесах.
На землю уже пала ночь, когда маленькое войско вступило во внешние ворота замка Плоэрмель и расположилось в широком наружном дворе. В то время Плоэрмель был оплотом английских сил в средней Бретани, как Эннебон — на западе, и в нем стоял гарнизон из пятисот человек под командованием опытного воина Ричарда Бамбро, уроженца Нортумберленда, выросшего и возмужавшего в непрерывных пограничных стычках с шотландцами. Тот, кто стоял на страже самой беспокойной границы в Европе и отражал набеги воинственных обитателей Лидлсдейла и Нитсдейла, был достаточно закален для любых испытаний войны.
Однако последние месяцы Бамбро проводил в вынужденном бездействии, так как не получал подкреплений, а в его войске были только три английских рыцаря и семьдесят жандармов и лучников. Остальные были бретонцы и выходцы из Эно, а также несколько немецких наемников, как все им подобные, не имевших недостатка в личной храбрости, но не связанных с остальными узами крови или традиций и заботящихся только о своей собственной выгоде.
В соседних же замках и, главное, в Жослене стояли сильные бретонские гарнизоны, полные патриотического и военного пыла. Робер Бомануар, неукротимый сенешаль дома Роганов, совершал непрерывные набеги на Плоэрмель, и город, как и замок, жил под постоянной угрозой осады. Несколько небольших отрядов, состоявших из английских сторонников, были окружены и вырезаны до последнего человека, а других настолько теснили, что им с трудом удавалось пополнять запасы провианта по окрестным деревням.
Таково было положение гарнизона Бамбро, когда в этот мартовский вечер во внешний двор его замка хлынули солдаты Ноллеса.
У озаренных факелом внутренних ворот их ждал Бамбро — поджарый, высохший, морщинистый человек, невысокого роста, с черными глазами-бусинами, быстрый в движениях, уклончивый и свирепо-храбрый. Рядом, как живой контраст, стоял немец Крокар, его оруженосец, знаменитый воин, хотя, как и Роберт Ноллес, свой путь к славе он начал смиренным пажом.
Это был широкоплечий великан, легко ломавший подковы огромными ручищами. Обычно он выглядел медлительным и сонным. Спокойное лицо с мечтательными голубыми глазами и длинные белокурые волосы придавали ому такой обманчиво кроткий вид, что те, кому не доводилось видеть его, когда этот несокрушимый железный гигант, охваченный священным безумием битвы, рубился в первых рядах, никогда бы не поверили, каким страшным он бывает на поле сражения. Щуплый рыцарь и колосс-оруженосец стояли бок о бок под аркой донжона, приветствуя новоприбывших, а простые воины тем временем обнимали земляков и уводили их туда, где можно было мирно поужинать и повеселиться вместе.
Ужин для рыцарей и оруженосцев накрыли в большой зале Плоэрмеля. За стол сели Бамбро, Крокар, сэр Хью Калверли, старый друг Ноллеса, тоже уроженец Честера, среднего роста белобрысый человек с суровыми серыми глазами на гранитном лице и большим носом, пересеченным рубцом от удара мечом. Возле них разместились Жоффруа д'Арден, молодой бретонский сеньор То-Белфорд, дюжий англичанин из Мидленда сэр Томас Уолтон (алые стрижи на его сюрко показывали, что он из рода суррейских Уолтонов), а также молодые английские оруженосцы Джеймс Маршалл и Джои Рассел, братья Гайяры, Ричард и Хью, в чьих жилах текла гасконская кровь, и несколько оруженосцев, чьи имена не попали в хроники. Остальную часть компании составили новоприбывшие — сэр Роберт Ноллес, сэр Томас Перси, Найджел Лоринг и еще два оруженосца — Аллингтон и Парсонс. Вот такое общество ужинало при свете факелов за столом сенешаля Плоэрмеля и от души веселилось, ибо впереди их ждали благородные подвиги, честь и слава.
Но одно лицо оставалось печальным — лицо самого сэра Ричарда Бамбро. Он сидел, подперев подбородок рукой, устремив взгляд на скатерть, и словно не слышал оживленные разговоры вокруг обсуждения планов, которые наперебой предлагали остальные. Сэр Роберт Ноллес считал, что надо незамедлительно осадить Жослен. Калверли полагал, что следует отправиться на юг — главный оплот французов. Других манил поход на Ванн.
Бамбро все больше супился, а под конец прервал свое молчание свирепым проклятием, после чего за столом воцарилась выжидательная тишина.
— Оставьте эти речи, благородные господа! — воскликнул он. — Ибо каждое ваше слово — как удар кинжала в мое сердце. Все это и еще многое могли бы мы совершить. Но, увы, вы опоздали.
— Опоздали? — повторил Ноллес. — Как же так, Ричард?
— Мне горько это говорить, но и ты, и все храбрые твои воины могли бы и не уезжать из Англии, столько пользы мне будет от вас! Подъезжая к замку, ты видел всадника на белом коне?
— Нет, не видел.
— Он прискакал по западной дороге из Эннебона. И почему он не сломал себе шею на пути сюда?! Лишь час назад привез он мне проклятую весть, а сам поехал дальше предупредить гарнизон Мальтруа. На год между французским королем и английским заключено перемирие, и тот, кто нарушит его, будет лишен жизни и имения.
Перемирие! Гибель всех доблестных замыслов! Сидящие за столом обменивались растерянными взглядами, но тут Крокар опустил на него тяжелый кулак с такой силой, что кубки вновь зазвенели. Ноллес сидел как каменный, стиснув руки, а сердце Найджела налилось свинцом. Перемирие! Как же он совершит свой третий подвиг? А вернуться, не совершив его, он ведь не может!
Они продолжали сидеть в тягостном молчании, как вдруг снаружи из темноты донесся звук охотничьего рога. Сэр Ричард удивленно поднял голову.
— Когда решетка опущена, редко кто просит доступа в замок, — сказал он. — Перемирие там или не перемирие, но никто в наши стены не войдет, пока мы не проверим, кто он. Крокар, пойди посмотри.
Великан немец вышел из залы. Общество продолжало хранить унылое молчание, пока он не вернулся.
— Сэр Ричард, — сказал Крокар, — славный рыцарь Робер Бомануар и его оруженосец Гийом Монтобон ждут у ворот, желая поговорить с тобой.
Бамбро даже вздрогнул от изумления. Что хочет сказать им беспощадный предводитель бретонцев, чьи руки по локоть в английской крови? Зачем оставил он замок Жослен и навестил своих злейших врагов?
— Они вооружены?
— Нет.
— Тогда впусти их и проводи сюда, но удвой стражу и позаботься, чтобы нас не захватили врасплох.
В нижнем конце стола поставили кубки для столь нежданных гостей. Вскоре дверь распахнулась, и Крокар с церемонной учтивостью назвал имена двух бретонцев, которые вошли с гордым видом именитых воинов знатного происхождения.
Бомануар, высокий, смуглый, с иссиня-черными волосами и длинной черной бородой, был крепок и строен, как молодой дубок. Но красивое лицо с огненными темными глазами портили два выбитых передних зуба. Его оруженосец Гийом Монтобон был также высок, с худым острым лицом и серыми глазками, близко посаженными по сторонам длинного изогнутого носа. Лицо Бомануара выражало прямодушие и смелость. Смелость читалась и в чертах Монтобона, но к ней примешивалась волчья жестокость и хитрость. Войдя, оба поклонились, и маленький английский сенешаль поспешил им навстречу с протянутой рукой.
— Добро пожаловать, Робер! Ты желанный гость, пока остаешься под этой крышей. Быть может, придет час, когда мы сможем поговорить по-другому в другом месте.
— Уповаю на то, Ричард, — ответил Бомануар. — Мы в Жослене весьма тебя почитаем и в большом долгу у тебя и твоих людей за все, что вы для нас делали. Лучших соседей мы не могли бы пожелать, и никто другой не сулил бы нам большей чести. Я слышал, к тебе прибыл со своими людьми сэр Роберт Ноллес, и мы все удручены, что воля наших королей помешала нам что-нибудь предпринять.
Он и его оруженосец сели на предназначенные им места, наполнили кубки и выпили за здоровье присутствующих.
— Твоя правда, Робер, — сказал Бамбро. — Мы только что сами скорбели об этом. Когда ты узнал о перемирии?
— Вчера вечером прискакал гонец из Нанта.
— А к нам весть доставили нынче из Эннебона. Приказ запечатан собственной печатью короля. Боюсь, по меньшей мере год вы будете сидеть в Жослене, мы в Плоэрмеле и коротать время как придется. А не поохотиться ли нам вместе на волков в большом лесу, не запустить ли наших соколов на берегу Дюка?
— Это все от нас не уйдет, Ричард, — ответил Бомануар, — но, клянусь святым Кадоком, думается мне, что при взаимном согласии мы можем ублажить себя и не нарушить повеления наших королей.
Рыцари и оруженосцы наклонились вперед, не спуская с него оживившихся глаз. А он с щербатой улыбкой обвел взглядом и морщинистого сенешаля, и белокурого великана оруженосца, и юное свежее лицо Найджела, и суровые черты Ноллеса, и ястребиные — Калверли. Все они смотрели на него, пылая одним желанием.
— Вижу, что о согласии вашем спрашивать нечего, — продолжал бретонец. — Да я иного и не ждал, не то сюда не приехал бы. Вспомните, приказ этот касается войны, а не поединков, обменов ударом копья или других рыцарских забав. Король Эдуард доблестный рыцарь, как и король Иоанн{43}, и навряд ли они хотят чинить помехи тем, кто хочет снискать больше чести или восславить свою даму с оружием в руках.
Вокруг стола прокатился одобрительный ропот:
— Коли вы выступите против гарнизона Жослена как гарнизон Плоэрмеля, перемирие будет нарушено, и мы ответим головой. Но если завяжется простая ссора между мной, например, и вон тем юным оруженосцем, по чьим глазам видно, как он жаждет чести, а затем и другие решат принять в ней участие, то это уже не война, но собственное наше дело, и королям вмешиваться в него не подобает.
— Твоя речь и мудра и справедлива, Робер, — сказал Бамбро.
Бомануар наклонился к Найджелу, держа в руке полный кубок.
— Как ты зовешься, оруженосец? — спросил он.
— Мое имя Найджел Лоринг.
— Нижу, ты молод и нетерпелив, а потому я выбрал тебя, ибо в твои годы я ничего лучшего не пожелал бы.
— Благодарю тебя, благородный сэр, — ответил Найджел. — Для меня великая честь, что столь прославленный рыцарь, как ты, снизошел избрать меня для такого дела.
— Однако нам нужен повод для ссоры, Найджел. Так вот, я пью за дам Бретани, самых прекрасных и добродетельных дам во всей вселенной! Даже последняя из них несравненно превосходит первых английских красавиц. Что ты скажешь на это, юноша?
Найджел окунул палец в свой кубок и, перегнувшись через стол, прижал его к руке Бомануара, оставив на ней влажный след.
— Вот мой ответ тебе в лицо, — сказал он. Бомануар смахнул красную каплю с руки и одобрительно улыбнулся.
— Сделать превосходнее не мог бы никто, — сказал он. — К чему портить мой бархатный дублет? А ведь любой горячий юнец без царя в голове так бы и сделал! Сдается мне, оруженосец, ты далеко пойдешь! Ну а кто-нибудь хочет поддержать его в этой ссоре?
В ответ раздались грозные возгласы. Бомануар обвел глазами стол и покачал головой.
— Увы! — сказал он. — Вас здесь лишь двадцать, а в Жослоне у меня тридцать человек хотят показать себя, и, когда я вернусь, десятерых мне придется оскорбить отказом. Молю тебя, Ричард, коли уж мы приехали сюда, дабы устроить это дело, то и ты придумай что-нибудь. Неужто ты не отыщешь еще десятерых бойцов?
— Благородной крови — нет.
— Пустяки, лишь бы они умели драться.
— Не сомневайся. В замке полно лучников и жандармов, которые рады будут выехать с нами в поле.
— Так отбери десятерых, — сказал Бомануар.
Но тут в первый раз приоткрыл узкие губы его смахивающий на волка оруженосец.
— Господин мой, на лучников же ты не согласишься? — сказал он.
— Я никого не страшусь.
— Мой благородный господин, вспомни, ведь мы сойдемся лицом к лицу помериться силой оружия. А ты видел английских лучников и знаешь, как быстро и сильно бьют их стрелы. Подумай, коли против нас выставят десяток их, то половина наших бойцов поляжет прежде, чем меч скрестится с мечом.
— Клянусь святым Кадоком, Гийом, ты верно говоришь! — вскричал бретонец. — Коли бой этот должен остаться в памяти людской, вы не берите лучников, а мы не возьмем арбалетчиков. Пусть будет железо о железо. Что скажешь?
— Мы отберем десять жандармов, Робер, чтобы нас было тридцать, как ты желаешь. Значит, мы согласны, что драться будем не во имя Англии и Франции, но потому, что ты повздорил со сквайром Лорингом из-за дам. А теперь, какое время ты выбираешь?
— Немедля.
— Ты прав! Не то может прискакать еще гонец с запретом и на такие ссоры. Мы будем готовы завтра на восходе солнца.
— Нет, день спустя! — вмешался бретонский оруженосец. — Вспомни, господин мой, что три копья из Раденака не успеют прибыть раньше.
— Они не из нашего гарнизона, и места для них нет.
— Но, господин мой, из всех бретонских копий…
— Нет, Гийом, я и на час промедления не соглашусь. Так встречаемся завтра, Ричард.
— А где?
— По дороге сюда я заметил превосходное место. Если вы переедете через реку и направитесь к Жослену по тропе через поля, то на половине пути увидите старый дуб у края прекрасного ровного луга. Там мы и встретимся завтра в полдень.
— Согласен, — сказал Бамбро. — Но прошу тебя, Робер, не вставай пока! Ночь еще молода, а сейчас подадут вино со специями. Побудь с нами, прошу тебя! Коли ты хочешь послушать новые английские песни, то эти благородные господа, конечно, споют их тебе. Для некоторых из нас ночь сия, быть может, последняя, так надо бы провести ее как следует.
Но доблестный Робер покачал головой.
Поистине для многих ночь сия может стать последней, и потому моим товарищам следует поскорее узнать о нашем уговоре. Мне не нужен ни священник, ни монах, ибо я никогда не поверю, будто того, кто всегда вел себя, как подобает рыцарю, может, за могилой поджидает кара Господня, но у других — другие мысли, и им потребно время для молитв и исповеди. Так прощайте, благородные господа, а последний кубок я пью за счастливую встречу у старого дуба.
Глава XXIII Как тридцать жосленцев встретились с тридцатью плоэрмельцами
Всю ночь в замке Плоэрмель стоял шум военных приготовлений: кузнецы ковали, подпиливали и скрепляли, подновляя доспехи бойцов. В конюшнях конюхи ощупывали и чистили могучих боевых коней, а в часовне рыцари и оруженосцы на коленях перед стареньким отцом Бенедиктом очищали души исповедью.
Тем временем во дворе собрались жандармы, и добровольцев придирчиво отвергали, пока не были отобраны лучшие из лучших. Среди них оказался Черный Саймон, чье угрюмое лицо, против обыкновения, сияло радостью. Далее в число избранных попали юный Никлас Дагсуорт, племянник прославленного сэра Томаса, немец Вальтер и Юлбите, гигант крестьянин, чье могучее телосложение сулило надежды, которые вялый дух не оправдал, а также Джон Олкок, Робин Эйди и Рауль Провост. Они и еще трое довели число плоэрмельцев до искомых тридцати бойцов. Как ворчали и какими проклятиями сыпали лучники, узнав, что никого из них не возьмут! Но и луки и арбалеты были воспрещены обеим сторонам. Бесспорно, многие из них прекрасно владели и боевым топором и мечом, однако носить тяжелые доспехи они не привыкли, а в рукопашной схватке, которая им предстояла, человек без надежной брони был обречен.
В два часа после третьей молитвы, или за час до полудня, в четвертую среду Великого поста года от Рождества Христова одна тысяча триста пятьдесят первого воины Плоэрмеля выехали из ворот замка и направились к мосту через Дюк во главе с Бамбро и его оруженосцем Крокаром, который на могучем гнедом коне высоко вздымал знамя Плоэрмеля — на горностаевом поле вздыбленный лев на задних лапах, держащий лазурный флаг. Во втором ряду ехали Роберт Ноллес, Найджел Лоринг и жандарм, в чьих руках было копье с рыцарским значком, изображавшим черного ворона. Далее следовали сэр Томас Перси, над головой которого колыхался его лазурный лев, и сэр Хью Калверли с серебряной совой на знамени, а позади них — дюжий Белфорд, с чьего седла свисала железная палица весом в шестьдесят фунтов, и сэр Томас Уолтон, рыцарь из Суррея. За ними двигались четверо отважных англо-бретонцев — Перро де Комлен, ле Гайяр, д'Аспремон и д'Арден, сражавшиеся против своих земляков, потому что поддерживали графиню Монфорскую, чей серебряный крест на лазурном поле вился по ветру впереди них. Замыкали кавалькаду пятеро наемников из Германии и Эно, высокий Юлбите и английские жандармы. В целом среди этих бойцов двадцать по рождению были англичанами, четверо бретонцами и шестеро немцами.
Вот так, сверкая оружием, вздымая гордые знамена, ехали на гарцующих конях к старому дубу плоэрмельские бойцы. За ними поспешали сотни лучников и жандармов, у которых предусмотрительно было отобрано оружие, чтобы рыцарская встреча не превратилась во всеобщую свалку. Их сопровождали горожане и горожанки, а также торговцы вином и провизией, оружейники, конюхи, герольды, лекари, чтобы перевязывать раненых, и священники, чтобы исповедовать и причащать умирающих. Все они валом валили по тропе и рядом с ней — повсюду можно было видеть всадников и пеших, благородных и простолюдинов, мужчин и женщин, которые направлялись к месту встречи.
Путь оказался недлинным: едва они миновали несколько полей, как увидели кряжистый дуб, раскинувший безлистые корявые ветви над краем ровного зеленого луга. Ветви эти были буквально облеплены крестьянами, предвкушавшими редкое зрелище, а вокруг толпились менее удачливые зрители, галдевшие, как грачи на вечерней заре. При приближении англичан они разразились негодующими воплями, потому что Бамбро заслужил в этих краях всеобщую ненависть — собирая деньги для поддержки монфорцев, он накладывал контрибуцию на все приходы и жестоко расправлялся с теми, кто отказывался платить. Все, чему научили Бамбро пограничные войны с шотландцами, находило применение и в Бретани. Бойцы не снизошли до того, чтобы заметить насмешки черни, однако лучники свернули к дубу и кулаками принудили толпу к молчанию.
Бретонские бойцы еще не прибыли, а потому англичане привязали коней с одной стороны луга и собрались вокруг своего вождя. У всех висели на груди щиты, а копья были обрублены до пяти футов — короткое древко позволяло пользоваться копьем и в пешем бою. Кроме того, на поясе каждого висел меч или боевой топор. С ног до головы все были закованы в броню, и гербы на шлемах и плащах помогали отличать своих от врагов в разгаре боя. Но пока они держали забрала открытыми и весело переговаривались друг с другом.
— Клянусь святым Дунстаном! — вскричал Перси, хлопая железными рукавицами и притоптывая обутыми в железо ногами. — Пора бы и за дело, у меня кровь в жилах замерзла!
— Ну, ты еще успеешь порядком согреться, помяни мое слово, — ответил Калверли.
— Или остынуть навеки! Коли я вернусь с этого луга живым, в олнуикской часовне будет звонить колокол и гореть большая свеча. Но так или эдак, благородные господа, а сеча обещает быть изрядной и сулит нам много чести. Уж конечно, те из нас, кто выйдет из нее живым, покроют себя славой.
— Правда твоя, Томас, — ответил Ноллес, подтягивая подпругу. — Сам я не нахожу радости в таких встречах, пока идет война, ибо негоже человеку думать о своей выгоде и славе, а не о деле короля и благе войска. Но во время перемирия нет способа провести день с большей пользой. Почему ты приумолк, Найджел?
— Благородный господин, я все время смотрел в сторону Жослена. Он ведь лежит за тем лесом? И все еще не вижу ни славного рыцаря, ни его бойцов. Какая будет жалость, если что-нибудь им помешает!
Хью Калверли его слова рассмешили.
— Будь спокоен, юноша, — сказал он. — Робер де Бомануар одержим таким воинственным духом, что он и один будет готов вызвать всех нас. Да если бы он лежал сейчас на смертном одре, то, ручаюсь, приказал бы принести себя сюда, дабы отдать душу Богу на зеленом лугу!
Ты верно говоришь, Хью, — вмешался Бамбро. — Я знаю и его самого, и тех, кто с ним. Более отважных и искусных воинов не найти во всем христианском мире.
Ручаюсь, что бы ни готовил нам сей день, славой он нас не обойдет. В ушах у меня отдается стих, который я услышал от жены уэльского лучника, когда после взятия Бержерака позолотил ей ручку браслетом. Она принадлежала к древнему роду, ведущему свое происхождение прямо от Мерлина, и зрела грядущее. А сказала она мне так:
Между дубом и рекой Вижу долгий бой честной, Славу он несет с собой.Сдается мне, что вон там дуб, а там река. Уж конечно, это доброе для нас предзнаменование.
Его великан оруженосец нетерпеливо переминался с ноги на ногу, слушая речь своего господина. Хотя ранг его был невысок, никто из присутствующих не мог потягаться с ним военным опытом или репутацией. Затем он не выдержал.
— Лучше бы обсудить, как нам построиться, да обдумать план боя, чем болтать о стишках Мерлина и всяких бабьих сказках, — перебил он. — Не на них надо полагаться, а на наши сильные руки и доброе оружие. И ответь мне, сэр Ричард, какая будет твоя воля, если ты падешь в бою?
Бамбро обернулся к остальным.
— Коли случится так, благородные господа, я желаю, чтобы дальше командовал мой оруженосец Крокар.
Наступило молчание, рыцари сердито переглянулись. Первым его нарушил Ноллес:
— Я исполню твое желание, Ричард, хотя нам, рыцарям, и невместно подчиняться оруженосцу. Но сейчас не время для раздоров между нами, а я слышал, что Крокар достойный и доблестный воин. И потому клянусь тебе спасением души, что подчинюсь ему, если ты падешь.
— И я, Ричард, — промолвил Калверли.
— И я! — воскликнул Белфорд. — Но чу! Слышите трубы? А вон за деревьями мелькают значки.
Все обернулись и, опираясь на укороченные копья, начали следить за приближением жосленцев, чей отряд показался на опушке леса. Впереди ехали трое герольдов в табарах с горностаями Бретани и дули в серебряные трубы. Позади них высокий всадник на белом коне держал знамя Жослена — девять золотых кружков на червленом поле. Далее появились попарно бойцы — пятнадцать рыцарей и пятнадцать оруженосцев, каждый со своим значком. За ними следовал на носилках престарелый епископ Ренна, держа в руках виатикум и елей, дабы не оставить умирающих без утешения и забот церкви. Процессию завершали толпы жителей Жослена, Гегона и Эллеона обоего пола, а также гарнизон замка (как и английский — без оружия). Голова длинной колонны выехала на луг, когда хвост ее еще терялся в лесу. Бойцы воткнули в землю свое знамя и привязали коней напротив англичан, а зрители окружили луг плотной стеной.
Англичане внимательно всматривались в гербы своих противников, ибо бьющиеся по ветру значки и яркие плащи говорили языком, понятным всем. Впереди было лазурное знамя Бомануара с серебряными пересекающимися полосами. Маленький паж держал другое поменьше с его девизом: «J'aime qui m'aime»[24].
— А чей это щит за ним? — спросил Ноллес. — Серебряный с алыми полукружьями?
— Его оруженосца Гийома Монтобона, — ответил Калверли. — А вон золотой лев Рошфора и серебряный крест Дюбуа Сильного. Трудно пожелать противников лучше. Взгляни, вон лазурные кольца молодого Титиньяка, который сразил моего оруженосца Хьюберта в прошлый день Петра в веригах. С помощью святого Георгия я отомщу за него еще до вечера!
— Клянусь тремя германскими императорами! — проворчал Крокар. — Нынче нужно будет хорошо рубиться! Никогда еще я не видел, чтобы столько могучих бойцов собрались вместе. Вон там Ив Шеруэль, которого прозвали Железным. Каро де Бодега, с кем я не раз скрещивал меч. Это его три горностаевых кольца на червленом поле. И левша Ален де Каране. Не забывайте, он наносит удар по боку, не прикрытому щитом.
— А кто этот коротышка? — спросил Найджел. — С серебряно-черным щитом? Клянусь святым Павлом, видно, сильный боец, с которым завидно схватиться! Ведь в плечах он поперек себя шире.
— Это сеньор Робер Рагенель, — ответил Калверли, который за годы, проведенные в Бретани, успел хорошо узнать большинство тамошних рыцарей. — Говорят, он может взвалить себе на спину лошадь. И берегись прямого удара его булавы — от него не спасут никакие доспехи. Но вот и сам добрый Бомануар. Пора и начинать.
Бретонский вождь построил своих бойцов в шеренгу напротив англичан и, перейдя луг, пожал руку Бамбро.
— Клянусь святым Кадоком, приятная встреча, Ричард! — сказал он. — И способ не нарушить перемирие нам удалось отыскать превосходный.
— Да, Робер, — ответил Бамбро. — И мы весьма тебе признательны. Вижу, ты не пожалел трудов, дабы собрать против нас достойнейшее общество. Если все они нынче падут, найдется ли в Бретани хоть один благородный дом, который не посетит скорбь?
— Увы, из самых знатных тут нет никого, — ответил Бомануар. — Ни единого Блуа, Леона, Рогана или Конана. Однако все мы люди благородной крови и готовы вступить в бой для угождения нашим дамам и из любви к высокому рыцарскому сословию. А теперь, любезный Ричард, какова будет твоя воля касательно нашей встречи?
— Будем продолжать, пока сможем держаться, ибо редко сходятся столько отважных бойцов, и следует, чтобы каждый мог помериться силами не с одним, но с многими.
— Ричард, слова твои верны и мудры. Будь по-твоему. Когда герольд подаст знак, пусть каждый бьется, с кем и как ему по вкусу. А коли кто-нибудь посмеет ворваться на луг, он будет повешен на том дубу!
С поклоном он опустил забрало и вернулся к своим бойцам, которые, сверкая всеми цветами радуги, благочестиво опустились на колени, дабы принять благословение старого епископа.
Герольды объехали луг, остерегая зрителей, а затем встали по сторонам двух длинных шеренг, выстроившихся на расстоянии пятидесяти шагов друг от друга. Все забрала были опущены, каждый был закован с головы до ног в броню — у некоторых отливающую медью, но у большинства сверкающую железом. Видны были только их глаза, горящие в темных прорезях забрала. Несколько мгновений они простояли так, слегка пригнувшись, готовые к бою.
Затем с громким криком «Allez!»[25] герольд резко опустил поднятую руку, и обе шеренги двинулись вперед со всей быстротой, какую допускало тяжелое вооружение, и сошлись на середине луга под резкий лязг металла. Словно шестьдесят кузнецов разом ударили по шестидесяти наковальням. Тут, подбодряя своих, завопили зрители, и в их разноголосом хоре потонул даже шум схватки.
Противникам так не терпелось поскорее сойтись, что в первые же секунды всякое подобие порядка нарушилось — возник бешеный гремящий водоворот, в котором каждого бойца швыряло то туда, то сюда. Не успев скрестить меча с одним, он уже оказывался перед другим, наносил и получал удары и в общей толчее думал только о том, как поразить копьем или сокрушить боевым топором любого, кто возникал в поле его зрения, ограниченного забралом.
Увы, судьба была сурова к бедному Найджелу и его мечтам о славном подвиге! Но жребий его был жребием храбреца, ибо пал он первым. Исполненный сладких надежд, он постарался занять место в шеренге напротив Бомануара и ринулся прямо на вождя бретонцев, памятуя, что по уговору причиной этой встречи была ссора между ними. Но не успел до него добраться, как столкнулся с собственными товарищами и, будучи легче весом, был отброшен на левшу Алена де Каране с такой силой, что оба с грохотом повалились на землю. С ловкостью кошки Найджел вскочил на ноги и наклонился над бретонским оруженосцем, и тут на подставленный под удар затыльник его шлема опустил булаву могучий карлик Рагенель. Найджел упал ничком. Изо рта, носа и ушей у него хлынула кровь, и он остался лежать под ногами сражающихся, а над его бесчувственным телом кипел великий бой, которого так жаждала его пламенная душа.
Впрочем, он недолго оставался неотмщенным. Железная палица Белфорда уложила карлика Рагенеля, но тут же сам Белфорд упал под мечом Бомануара. Порой одновременно на земле лежало до десятка бойцов, но такими крепкими были доспехи, а сила удара с таким искусством парировалась или смягчалась щитом, что товарищи поднимали упавших, и они снова бросались в сечу.
Однако другим уже ничто помочь не могло. Меч Крокара сорвал правое оплечье с бретонского рыцаря Жана Руссело, обнажив шею и плечо. Тщетно тот пытался прикрыть уязвимое место щитом: левая рука туда почти не дотягивалась, а увернуться он тоже не мог, так как со всех сторон сражались другие пары. Несколько минут Руссело удачно оборонялся, но затем топор опустился на обнаженное плечо и по рукоять вошел в грудь рыцаря. В тот же миг смерть настигла и второго бретонца, Жоффруа Меллона, юного оруженосца, — Черный Саймон вонзил меч в плохо защищенное место у него под мышкой. Еще три бретонца — Ив Шеруэль, Каро де Бодега, оба рыцари, и оруженосец Тристан де Пестивьен — были отрезаны от своих товарищей и, упав на землю под ударами окруживших их англичан, должны были либо выбрать смерть, либо сдаться. Они отдали мечи Бамбро и, покрытые ранами, отошли в сторону, с горечью наблюдая за бушующей на лугу схваткой.
Она уже длилась двадцать минут без единой передышки, и бойцы настолько изнемогли от тяжести доспехов, от потери крови, оглушающих ударов и собственных яростных усилий, что еле держались на ногах и с трудом поднимали оружие. Необходим был перерыв, иначе битва так и осталась бы нерешенной.
— Cessez! Cessez! Retirez![26] — кричали герольды, пришпоривая коней и разделяя измученных бойцов.
Медленно мужественный Бомануар отвел двадцать пять своих бретонцев на край луга, где они открыли забрала и растянулись на траве, пыхтя, как собаки в жаркий день; и вытирая пот с налившихся кровью глаз. Между ними с кувшином анжуйского вина сновал паж, и каждый осушил по чаше — все, кроме Бомануара, который столь строго соблюдал пост, что не позволял себе до заката ни глотка пищи, ни глотка воды. Он расхаживал среди своих бойцов, хрипло, еле ворочая пересохшим языком подбодрял их, втолковывая, что англичане почти все ранены и некоторые так тяжело, что едва стоят на ногах. И пусть до сих пор бой складывался не в их пользу — до сумерек еще пять часов, а за такой срок многое может произойти, прежде чем уложат последнего из них.
Тем временем слуги забрали с луга двух убитых бретонцев, и полдесятка английских лучников поторопились унести Найджела. Эйлуорд отстегнул промятый шлем и залился слезами, увидев бескровное, неподвижное лицо своего молодого господина. Однако он еще дышал, и лучник, бережно уложив его на траву возле реки, принялся хлопотать вокруг него, и в конце концов вода, смочившая его лоб, и ветер, овевавший ему лицо, вернули жизнь в разбитое тело. После нескольких глубоких хриплых вдохов щеки Найджела утратили мраморную белизну, но сознание к нему не вернулось, и он не слышал ни рева толпы, ни лязга возобновившегося боя.
Англичане некоторое время валялись на траве все в крови, еле переводя дыхание, и единственным их преимуществом перед соперниками было то, что осталось их двадцать девять. Однако среди них набрался бы лишь десяток, не получивших ран, а среди остальных некоторые так ослабели от потери крови, что еле держались на ногах. Тем не менее когда наконец прозвучал сигнал к продолжению боя, все до единого по обеим сторонам луга заставили себя встать и, пошатываясь, двинулись навстречу врагу.
В самом начале второй схватки англичане понесли большую потерю, удручившую их. Бамбро, отдыхая, поднял забрало, как и все остальные, но дух его был столь обременен заботами, что опустил он его небрежно, оставив щель шириной в дюйм. Едва две шеренги снова сошлись, бретонский оруженосец, левша Ален де Каране, заметил это и тотчас ткнул в щель коротким копьем. С криком боли английский вождь упал на колени, но затем все-таки встал, хотя от слабости не мог поднять щит. Воспользовавшись его беспомощностью, бретонский рыцарь Жоффруа Дюбуа Сильный нанес ему такой удар топором, что сокрушил нагрудник вместе с грудью под ним. Бамбро упал мертвый, и несколько минут вокруг его трупа кипел яростный бой.
Затем англичане угрюмо отступили, унося тело Бамбро, а бретонцы, тяжело дыша, отошли на свою сторону луга. В тот же миг трое пленных подобрали валявшееся на траве оружие и побежали к своим.
— Нет! — крикнул Ноллес, подняв забрало и следуя за ними. — Вы нарушили обычай! Вы сдались, когда мы могли бы убить вас, и, клянусь Пречистой, я назову вас всех трех бесчестными, если вы не вернетесь назад.
— Не говори так, Роберт Ноллес, — ответил Ив Шеруэль. — Ни разу еще бесчестие не коснулось моего имени. Но я счел бы себя faineant[27], если бы не вернулся сражаться бок о бок с моими товарищами, когда случай дал мне на то законное право.
— Клянусь святым Кадоком, он говорит правду! — прохрипел Бомануар, выходя вперед. — Тебе ли не знать, Роберт, что по закону войны и рыцарскому обычаю пленники обретают свободу, если тот, кому они сдались, падет на поле боя.
Ответить на это было нечего, и Ноллес совсем без сил вернулся к своим товарищам.
— Жаль, что мы их пощадили, — сказал он. — Один удар лишил нас нашего вождя, а им добавил троих.
— Коли еще кто-нибудь из них сложит оружие, приказываю убить его, — произнес в ответ Крокар, чей погнутый меч и забрызганные кровью доспехи доказывали, сколь яростно рубился он сам. — И не падайте духом, товарищи, из-за того, что мы потеряли своего вождя. Мало пользы принес ему мерлиновский стих. Клянусь тремя германскими императорами, я сумею научить вас кое-чему получше прорицаний старухи. Слушайте! Сомкнем плечи, а щиты будем держать так близко, чтобы никто не мог прорваться между ними. Тогда мы будем знать, что у нас сбоку, и сможем глядеть только перед собой. А если кто-нибудь ослабеет, товарищи справа и слева его поддержат. Теперь же все вместе вперед во имя Божье, ибо победа еще останется за нами, коли мы будем биться, как подобает мужчинам.
Англичане двинулись вперед сомкнутой шеренгой, а бретонцы побежали навстречу к ним в прежнем беспорядке. Самым быстрым оказался оруженосец Жоффруа Пуляр в шлеме в форме петушиной головы с высоким гребнем и длинным клювом с двумя дырочками для дыхания. Он наставил меч на Калверли, но Белфорд поднял палицу и нанес ему страшный удар слева. Пуляр зашатался, отпрянул в сторону и начал кружить, как человек, повредившийся в уме, а из его медного клюва падали капли крови. Он кружил и кружил под хохот и кукареканье толпы, пока не споткнулся и не упал ничком мертвый. Но сражающиеся ничего этого не видели, ибо отчаянный натиск бретонцев возобновлялся снова и снова, а английская шеренга упорно двигалась вперед.
Некоторое время казалось, что разделить ее невозможно, но щербатый Бомануар был не только рубакой, но и хорошим военачальником. Пока его истомленные, истекающие кровью, задыхающиеся товарищи наседали на шеренгу спереди, сам он, Рагенель, Тинтиньяк, Ален де Каране и Дюбуа обошли ее стороной и с яростью набросились на англичан сзади. Началась общая свалка, длившаяся до тех пор, пока герольды не заметили, что бойцы остановились, задыхаясь, не в силах нанести хотя бы один удар. Они тогда подъехали к ним и объявили еще одно перемирие.
Но за те несколько минут, пока на них нападали с обеих сторон, англичане понесли тяжелые потери. Под мечом Бомануара пал англо-бретонец д'Арден, хотя прежде успел нанести ему глубокую рану в плечо. Булава карлика Рагенеля и мечи его товарищей сразили сэра Томаса Уолтона, ирландца Ричарда, одного из оруженосцев и дюжего крестьянина Юлбите. Около двадцати бойцов с той и с другой стороны еще держались на ногах, но все были измучены до предела — задыхались, пошатывались, почти не в силах поднять оружие.
Странное это было зрелище: спотыкаясь, они брели на заплетающихся ногах, как пьяные, а если приподнимали руки, чешуйки под мышками и налокотники отливали красным, точно рыбьи жабры. Вот так, еле-еле шли они, дабы упрямо возобновить бесконечное свое состязание, а на зеленой траве оставались влажные омерзительные, следы.
Бомануар, ослабевший от потери крови, вдруг остановился и еле выговорил пересохшими губами:
— У меня темнеет в глазах, товарищи. Мне надо напиться.
— Испей собственной крови, Бомануар! — посоветовал Дюбуа, и все они засмеялись хриплым страшным смехом.
Но теперь, наученные горьким опытом, англичане по указанию Крокара сражались уже не прямой шеренгой, но настолько загнутой, что в конце концов она замкнулась в круг. Бретонцы, продолжая наступать и теснить ее со всех сторон, оказались теперь перед более опасным строем — плотным кольцом бойцов, обращенных лицом к врагу, ощетинившихся оружием, готовых отразить любое нападение. Англичане стояли неколебимо. Они могли подпирать друг друга спиной в ожидании, чтобы их враги совсем обессилели. Вновь и вновь упрямые бретонцы пытались разметать их. Вновь и вновь они отступали под градом ударов.
Бомануар, чья голова кружилась от утомления, поднял забрало и в отчаянии уставился на это страшное, несокрушимое кольцо. Он ясно видел неизбежный конец. Бретонцы теряли последние силы. И многие уже двигались с таким трудом, что пользы от них было не больше, чем от мертвецов. Скоро и остальные придут в такое же состояние. А тогда проклятые англичане опять развернутся шеренгой, набросятся на его беспомощных товарищей и уложат их! Но как он ни напрягал мысли, ему ничего не удавалось придумать, чтобы предотвратить такой исход. В отчаянии Бомануар поглядел по сторонам и увидел, что один из бретонцев, крадучись, пробирается к краю луга. И не поверил своим глазам, когда алый с серебром герб сказал ему, что с поля брани убегает его собственный испытанный оруженосец Гийом Монтобон!
— Гийом! Гийом! — закричал он. — Неужто ты меня покинешь?
Но забрало оруженосца было опущено, и он ничего не слышал. Бомануар увидел, что он удаляется настолько быстро, насколько способны были его нести спотыкающиеся ноги. С возгласом горького отчаяния бретонский вождь собрал вместе своих храбрецов, еще способных двигаться, и они дружно ринулись на английские копья. На этот раз в глубине своей доблестной души Бомануар твердо решился не отступать ни на шаг и либо пасть мертвым среди врагов, либо пробиться внутрь их круга. Его воинственный пыл передался остальным, и под градом ударов они ударили щитами о щиты англичан, стремясь проломить их строй.
Но тщетно! У Бомануара мутилось в голове. Еще минута — и он и его товарищи рухнут без чувств перед этим страшным железным кольцом. Как вдруг оно распалось перед его изумленными глазами! Его противники — Крокар, Ноллес, Калверли, Белфорд — распростерлись на земле, оружие было выбито из их рук, а они от утомления даже пальцем пошевелить не могли. У еще державшихся бретонцев только-только хватило сил упасть на них и, приставив острие кинжала к забралу, принудить их сдаться. Победители и побежденные лежали одной окровавленной кучей, охая и задыхаясь.
Простодушному Бомануару представилось, что в решительный миг все святые Бретани явились на помощь защитникам своего края, и, еле переводя дух, он возносил благодарственную молитву своему покровителю святому Кадоку. Однако зрителям была ясна вполне земная причина этой победы, и половина их бурно ликовала, тогда как вторая половина испускала негодующие вопли и проклятия — настолько разные чувства обуревали сторонников бретонцев и англичан.
Хитрый оруженосец Гийом Монтобон пробрался туда, где были привязаны лошади, и взобрался на своего могучего боевого коня. Зрители решили было, что он намерен сбежать, но возмущение бретонских крестьян тут же сменилось бурным ликованием, когда он повернул своего скакуна на англичан и вонзил ему в бока острые шпоры. Стоявшие к нему лицом английские бойцы увидели его нежданный и стремительный маневр. В другое время их удары, конечно, заставили бы попятиться и лошадь и седока, но теперь они были истомлены и не могли отразить такой натиск. Удары их оказались слишком слабыми, и могучий скакун ворвался в их строй, опрокинув семерых. Всадник повернул его — и еще пятеро упали ему под копыта. Этого оказалось достаточно. Бомануар и его товарищи уже набросились на обессиленных противников, и победа осталась за Жосленом.
В сумерках вереница унылых лучников печально вернулась в замок Плоэрмель, неся убитых и тяжело раненных. Позади ехало десять всадников, все смертельно усталые, все израненные, и все пылая жгучей ненавистью к Гийому Монтобону за подлую шутку, которую он с ними сыграл.
А победители в шлемах, увенчанных желтыми цветами дрока, прибыли в Жослен на плечах вопящей толпы под пение труб и дробь барабанов. Таков был бой у дуба на полдороге, где храбрецы встретились с храбрецами и покрыли себя такой славой, что с тех пор всякий, кто участвовал в битве тридцати, был окружен почетом. И никто не мог облыжно приписать себе эту честь, ибо знаменитый хронист, видевший их своими глазами, написал, что все они до единого, и бретонцы и англичане, до могилы носили на себе неизгладимые знаки этого тяжкого боя.
Глава XXIV Как господин Найджела призвал его к себе
«Моя возлюбленная госпожа, — писал Найджел почерком, разобрать который могли только глаза любви, — на четвертой неделе Великого поста случилась преславная встреча между нашими людьми и многими благородными рыцарями и оруженосцами сих краев, каковая по милости Пречистой завершилась столь превосходной сечей, что ни один человек не в силах припомнить ничего более достойного. Много чести досталось сеньору Бомануару, а также немцу по имени Крокар, с коим, уповаю, мне доведется перемолвиться словом, когда я вновь сяду на коня, ибо он превосходнейший воин и всегда готов прибавить себе чести или помочь другому исполнить обет. Сам я чаял совершить с Божьей помощью третье малое деяние и обрести свободу поспешить к тебе, госпожа моя, однако удачи мне не было, и на первых же порах получил я такой удар и столь мало помощи оказал моим товарищам, что сердце мое скорбит и, боюсь, что не только я не снискал чести, но потерял ее. Вот я и лежу здесь с самого Благовещения и еще долго буду лежать, ибо пошевелить могу только одной рукой, но не горюй, возлюбленная госпожа, ибо святая Екатерина была к нам милостива. Ведь за столь краткий срок довелось мне совершить два достойных деяния: победить Рыжего Хорька и поспособствовать взятию разбойничьей крепости. Осталось еще лишь одно, и, как вернется ко мне здоровье, я не замедлю его найти. А до той поры, хоть глаза мои не могут тебя лицезреть, сердце мое всегда у твоих ног».
Так он писал на своем одре в замке Плоэрмель в последний месяц лета, однако успело настать следующее лето, прежде чем его разбитая голова зажила, а исхудалые члены вновь обрели прежнюю крепость. С отчаянием узнал он о нарушении перемирия и о битве под Мороном, в которой сэр Роберт Ноллес и сэр Уолтер Бентли сокрушили воспрявшую было Бретань. В битве этой сложили головы многие из тридцати жосленских бойцов. Затем, полный сил и светлых чаяний, он отправился на поиски знаменитого Крокара, объявившего, что он готов в любой день или в любую ночь выйти на поединок с любым человеком и драться с ним любым оружием. Но, увы, и тут судьба над ним посмеялась — незадолго до его выздоровления немец, объезжая нового коня, был сброшен в канаву и сломал себе шею. В той же канаве сгинула и последняя надежда Найджела незамедлительно совершить третий подвиг и освободиться от обета.
Вновь весь христианский мир замирился, люди пресытились войной, и лишь в далекой Пруссии, где тевтонские рыцари постоянно сражались с язычниками-литовцами, мог бы он осуществить свое заветное желание. Но для того чтобы отправиться в северный крестовый поход, нужны были деньги и рыцарская слава, и прошло еще десять лет, прежде чем Найджелу довелось увидеть воды Фрише-Хаффа со стены Мариенберга и выдержать пытку раскаленным блюдом, когда в Мемеле его привязали к священному камню. А пока его пламенной душе приходилось смиряться с гарнизонной службой в Бретани, и он лишь раз отдохнул от нее, когда отправился в замок отца Рауля и поведал сеньору Гробуа, как доблестно пал его сын у внутренних ворот замка Ла-Броиньер.
Когда же последняя надежда в сердце Найджела почти угасла, настало чудесное июньское утро, и в замок Вани, сенешалем которого он теперь был, прискакал гонец с письмом. Письмо содержало лишь несколько слов, коротких и ясных, как зов военной трубы. Чандос писал, что нуждается в своем оруженосце, ибо его знамя вновь развевается на ветру. Он в Бордо. Принц направляется с войском в Бержерак, откуда намерен вторгнуться во Францию. Без битвы дело не обойдется. О своем намерении они отправили весть доброму французскому королю, и он обещал оказать им достойную встречу. Пусть Найджел поторопится. Если войско уже выступит, ему надлежит поскорее нагнать его. У Чандоса сейчас три оруженосца, но он будет очень рад снова свидеться с четвертым, ибо за время их разлуки много о нем слышал, причем лишь то; что ожидал услышать о сыне столь доблестного отца. Вот что содержало письмо, и в это счастливое летнее утро солнце в Ванне засияло ярче, а синее небо стало еще синее.
Добраться из Ванна в Бордо оказалось не так-то просто: сообщения по морю между ними почти не было, а к тому же, хотя все храбрые сердца устремлялись на юг, ветер упорно дул против. Так что прошел добрый месяц, прежде чем Найджел наконец спрыгнул на пристань, заставленную бочонками гасконского вина, и помог свести Бурелета по сходням над светлыми водами Гаронны. Даже Эйлуорд не был такого скверного мнения о морских путешествиях, как могучий золотистый конь: он заржал от радости, уткнувшись мордой в протянутую ладонь хозяина, а потом звонко цокнул копытами по доброму твердому булыжнику. Рядом с ним, похлопывая по блестящему плечу, стоял Черный Саймон, не расстававшийся с Найджелом.
Но Эйлуорд? Где был Эйлуорд? Увы! Прошло уже два года с тех пор, как его вместе со всеми лучниками Ноллеса отправили на королевскую службу в Гиень, а так как грамоте он обучен не был, сквайр не знал, жив его испытанный товарищ или давно погиб. Бесспорно, Саймонс трижды кое-что слышал про него от странствующих лучников, говоривших, впрочем, одно и то же: он жив, здоров и недавно женился. (Однако первый назвал его жену белокурой, второй — смуглой и темноволосой, а третий и вовсе вдовой, а потому трудно было понять, что тут правда, а что нет.)
Оказалось, что войско выступило в поход уже месяц назад, но известия о нем приходили в Бордо ежедневно, понятные всем и каждому: в либуриские ворота непрерывно въезжали вереницы повозок, груженных добычей с юга Франции. В городе полно было пеших солдат (принц взял с собой только конников), и они с грустной жадностью провожали взглядом телеги, нагруженные дорогой мебелью, шелками, бархатом, гобеленами, разными украшениями, золотыми и серебряными изделиями, еще недавно составлявшими гордость многих замков в прекрасной Оверни и богатом Бурбонне.
Не следует думать, будто в этих войнах Англия и Франция противостояли друг другу в полном одиночестве. Славы достанет на всех и без уклонения от истины. К Англии в результате династических браков отошли две богатые и воинственные французские провинции — Гиень и Гасконь. Они поставляли армии островитян большое число самых мужественных своих сынов. Такой бедной стране, как Англия, было не по карману содержать за морем большие силы, и войну Франции она проиграла бы просто из-за нехватки солдат. Феодальная система позволяла быстро и без особых расходов собрать внушительное войско, но уже через несколько недель оно столь же быстро рассеивалось, и, чтобы удержать его в боевом порядке, требовалась богатая казна. В Англии же такой казны не имелось, и король постоянно ломал голову над тем, как изыскать средства, чтобы вовсе не остаться без войска.
Но в Гиени и Гаскони множество рыцарей и оруженосцев готовы были в любую минуту покинуть свои уединенные замки для набега на французские земли, и если к ним присоединялись английские рыцари в поисках чести да несколько тысяч лучников, нанятых за четыре пенса в день, набиралась армия, вполне достаточная для быстрой кампании. Таков был и отряд принца, численностью около восьми тысяч, который в эти дни двигался через французский юг по большой дуге, оставляя позади себя широкую полосу разоренных селений и дымящихся пожарищ.
Однако Франция, хотя часть ее юго-запада находилась в английских руках, оставалась могучей державой, куда более богатой и населенной, чем ее соперница. Отдельные провинции были столь велики, что потягались бы силой с иным королевством. Нормандия на севере, Бургундия на востоке, Бретань на западе и Лангедок на юге могли выставить по собственному большому войску. И храбрый, гордый Иоанн, узнав в Париже про дерзкое вторжение в свои пределы, разослал гонцов не только в эти могучие феоды, но также в Лотарингию, Пикардию, Овернь, Эно, Вермандуа, Шампань и за восточную границу к немецким наемникам, призывая их, не жалея шпор, день и ночь скакать в Шартр.
И в первые дни сентября там собралась могучая армия. Принц же, ничего о ней не ведая, грабил города и осаждал замки от Буржа до Иссудена и Роморантена и далее в направлении Вьерзона и Тура. Из недели в неделю лихие схватки у пограничных крепостей сменялись быстрыми штурмами замков, приносившими много чести и добычи, сражениями рыцарских отрядов или даже поединками двух знаменитых бойцов, снизошедших до встречи друг с другом. Хватало и домов богатых горожан, где было вдоволь вина и женщин. Никогда еще рыцари и лучники не участвовали в столь приятном и прибыльном походе, а потому, когда армия повернула от Луары на юг и направилась назад в Бордо, сердца их переполняла радость в предвкушении приятных дней, которые им предстояло провести там с кошельками, набитыми золотом.
И тут эта чудесная военная прогулка внезапно обернулась опаснейшим военным предприятием. Продвигаясь на юг, принц не замедлил обнаружить, что весь провиант на его пути исчез: ни корма для лошадей, ни провизии для солдат. В авангарде катили двести повозок с военной добычей, но вскоре голодные люди не отказались бы с восторгом обменять их на такое же число повозок, груженных мясом и хлебом. Легкая французская конница, обогнав их, сжигала и уничтожала все, что могло им понадобиться. И только теперь принц и его люди обнаружили, что на восточном фланге большая армия торопится обойти их с юга и преградить им путь к морю. По ночам тучи багровели от отблеска костров, а утром лучи осеннего солнца играли на железных доспехах и оружии бесчисленных отрядов по всему восточному горизонту.
Не желая терять добычу и понимая, что французы далеко превосходят их численностью, принц предпринял отчаянную попытку опередить врага, но кони были измучены, а изголодавшиеся солдаты начали выходить из повиновения. Еще два-три дня — и они не станут сражаться. Поэтому, обнаружив возле селения Мопертюи удобную позицию, где небольшое войско могло занять надежную оборону, принц отказался от намерения обогнать противника и повернулся к нему, как затравленный вепрь, который в бешенстве выставляет навстречу врагу грозные клыки.
Пока происходили все эти важные события, Найджел, Черный Саймон и еще четверо жандармов из Бордо спешили на север, стараясь нагнать английское войско. До Бержерака они ехали по дружественному краю, но дальше их путь пролегал среди пожарищ, где над лишившимися кровли обгорелыми домами торчали обугленные стропила — «митра Ноллеса», как называли такие развалины впоследствии, когда на эти места наложил свою тяжелую руку сэр Роберт. Три дня они ехали на север, повсюду видели в отдалении французских всадников, но, торопясь поскорее добраться до армии, не тратили время на поиски приключений.
За Лизиньяном им начали попадаться английские фуражиры — по большей части конные лучники, которые занимались поисками провианта и для армии, и для самих себя. От них Найджел узнал, что принц в сопровождении Чандоса повернул на юг и, возможно, находится от них на расстоянии короткого перехода. Теперь им все чаще встречались группы английских солдат, а затем они нагнали большую колонну лучников, шагавших в одном с ними направлении. Лошади их пали, и они отстали от войска, но теперь торопились успеть к неизбежной битве. Их сопровождала толпа молодых крестьянок и настоящий караван тяжело нагруженных мулов.
Найджел и его спутники объезжали колонну, торопясь ее обогнать, как вдруг Черный Саймон испустил громкое восклицание и дернул молодого сквайра за локоть.
— Взгляни-ка туда, благородный сэр! — сказал он, и его глаза весело заблестели. — Вон туда, где этот замухрышка тащит на спине какой-то скарб. Кто идет позади него?
Найджел поглядел и увидел заморенного крестьянина, горбившего сутулую спину под гигантским узлом, который был выше и шире его. За ним шагал дюжий лучник, чья потрепанная куртка и помятая каска говорили о долгой и нелегкой службе. Лук висел у него за плечом, а руки обвивали талии двух пухленьких француженок, которые, хохоча, семенили рядом с ним и через плечо кокетливо препирались с десятком поклонников позади.
— Эйлуорд! — крикнул Найджел, пришпорив коня. Лучник повернул к нему бронзовое от загара лицо, мгновение вглядывался растерянными глазами, а затем, оттолкнув двух красавиц, которые тут же угодили в объятия его товарищей, бросился к своему молодому господину и схватил протянутую ему руку.
— Клянусь рукоятью, сквайр Найджел, ничего лучше я в жизни не видывал! — завопил он. — И ты тоже тут, Саймон, дубленая твоя кожа! Эх, я бы обнял твой высохший остов, коли бы мог до него дотянуться. А, Бурелет! По глазам вижу, что ты меня узнал и был бы не прочь ухватить меня своими зубищами, будто еще стоишь в конюшне у моего батюшки.
Найджел засмеялся от чистого удовольствия, глядя на простецкое лицо лучника. На него словно повеяло ароматом вереска, цветущего на Хэнкли.
— Черный был день, когда тебе пришлось уехать от меня в королевское войско, — сказал он. — Клянусь святым Павлом, я рад снова с тобой свидеться. Как погляжу, ты ничуть не переменился — все тот же Эйлуорд, каким я тебя знал. Но что это за бедняга с большим узлом на спине, который стоит и смотрит на тебя?
— На спине у него, благородный сэр, пуховая перина. Я себе положил привезти ее в Тилфорд, да только, как займу место в ряду, так с ней и не повернешься. А война эта расчудесная, и я уже отправил в Бордо половину повозки всякого добра, чтобы было с чем вернуться домой. Правда, мне что-то не по себе делается, чуть вспомню про подлых пеших лучников, которые остались там. Столько, людей без чести и совести, знай об одном думают: как бы поживиться чужими вещами! Разреши-ка мне сесть на вон ту запасную лошадь, и я поеду с тобой, благородный сэр. Это же такая радость — вернуться под твое знамя!
И, отдав распоряжение бедняге, нагруженному периной, Эйлуорд вскочил на лошадь, не обращая внимания на негодующие крики своих французских подружек, которые, впрочем, тут же утешились, выбрав тех из его товарищей, у кого карманы были набиты туже.
Найджел и его маленький отряд скоро обогнали лучников и, пришпорив лошадей, повернули туда, где, по их расчетам, находилось войско принца.
По извилистой дороге они проехали дремучий лес Нуайе и увидели впереди болотистую равнину, по которой петляла медлительная речка. На дальнем ее берегу сотни коней тянули шеи к воде, а позади них виднелись тесно составленные повозки. Миновав их, они поднялись на пригорок, откуда можно было обозреть открывшуюся им сцену всю целиком.
Милях в двух ниже по течению тихой, окаймленной заболоченными лугами речки виднелись множество лошадей и голубые дымки сотен костров, свидетельствуя, что там расположилась лагерем конница короля Иоанна. На холме, где стояли англичане, костры не пылали — ведь стряпать им было нечего, разве что они прирезали бы своих скакунов. Их правый фланг огибала речка, а в миле от нее лесная чаща предохраняла от внезапного нападения левый фланг. Вдоль всего фронта тянулась густая живая изгородь. Земля перед ней была очень неровной, и единственная пересекавшая ее дорога, казалось, вся состояла из рытвин и ухабов. За изгородью на всем ее протяжении лежали в траве лучники. Многие мирно спали, привольно раскинувшись под теплыми лучами сентябрьского солнца. Дальше располагались рыцари, и от речки до леса развевались знамена и значки с гербами благородных домов Англии и Гиени.
Сердце Найджела преисполнилось гордости, едва он увидел эти эмблемы знаменитейших военачальников и бойцов, — еще несколько минут, и среди них запылают пять его алых роз! Вон флаг с пятью серебряными раковинами на кресте знаменитейшего рыцаря Гаскони Жана Грай и, капталя де Буша, а рядом вьется знамя с красным львом благородного воина из Эно сеньора Эстаса д'Амбретикура. Эти гербы Найджел знал, как знала их вся рыцарская Европа, но значки на лесе копий вокруг ничего ему не говорили, и он заключил, что там расположился отряд из Гиени. Зато дальше виднелись прославленные английские гербы — червень и золото Уоррика, серебряная звезда Оксфорда, золотой крест Суффолка, лазурь и золото Уиллоби и сплетенная с золотом червень Одли. А в самой их гуще возле королевского знамени Англии с зубчатой полосой принца вверху Найджел увидел герб, который тут же заставил его забыть про все прочие — истрепанный в войнах флаг с алой башней на золотом поле, означавший, что там поставил свою палатку благородный Чандос. Найджел тотчас пришпорил Бурелета и несколько минут спустя уже оказался в английском лагере. Чандос, осунувшийся от голода и недосыпания, но с прежним огнем в глазах, стоял возле шатра принца и в глубокой задумчивости смотрел вниз на ту часть французского лагеря, которая была видна с холма. Найджел спрыгнул на землю, но не успел подбежать к своему господину, как шелковый занавес королевского шатра был с силой отброшен и оттуда выбежал принц.
Он был без доспехов, в скромной черной одежде, но гордая осанка и царственный гнев, заставивший покраснеть его лицо, ни в ком не оставили бы сомнения, что это полководец и сын короля. За ним, горячо уговаривая и убеждая, поспешал низенький седовласый прелат в просторном одеянии из красного шелка.
— Ни слова более, досточтимый кардинал! — крикнул принц в бешенстве. — Я и так слушал тебя слишком долго и, клянусь благодатью Божьей, речь твоя недостойна и оскорбительна для моих ушей. Джон, мне нужен твой совет! Что скажешь ты на предложение французского короля, которое передал мне его преосвященство кардинал Перигорский? Он обещает, что, по милосердию своему, позволит моему войску вернуться в Бордо, если мы отдадим ему все нами взятое, откажемся от всех выкупов, а мою особу с сотней знатнейших рыцарей Англии и Гиени предложим ему заложниками. Так что же ты скажешь?
Чандос улыбнулся.
— Это ни с чем не сообразно, — ответил он.
— Но, милорд Чандос, — вскричал кардинал, — я уже объяснил принцу, сколь удручает христианский мир и сколь радует язычников то, как два величайших сына Церкви обращают мечи друг против друга!
— Так посоветуй французскому королю держаться от нас подальше, — промолвил принц.
— Дражайший сын мой, или ты не понимаешь, что находишься в глубине его земель и ему не подобает позволить тебе уйти свободно, как ты пришел? Войско твое невелико — не более трех тысяч лучников и пяти тысяч жандармов, да и те, видно, ослабели от недостатка пищи и от усталости. А у короля тридцать тысяч человек. И двадцать тысяч из них — опытные ветераны. Посему тебе приличествует принять его условия, как бы не случилось хуже.
— Передай мой привет королю Франции и скажи ему, что платить за меня выкуп Англия не будет. Но сдается мне, досточтимый кардинал, что-то ты слишком осведомлен и в том, сколько нас тут, и в том, как сказались на нас тяготы похода, и я был бы рад узнать, давно ли особы духовные так умело разбираются в делах военных. Я заметил, что рыцари твоей свиты свободно прогуливались по нашему лагерю, и боюсь, что, приняв вас, как послов, я оказал гостеприимство лазутчикам. Что скажешь ты, досточтимый кардинал?
— Пресветлый принц, мне прискорбно слышать, что твое сердце и совесть позволили тебе произнести столь дурные слова.
— А вон твой племянник, рыжебородый Робер де Дюра. Погляди, как он озирается по сторонам и что-то подсчитывает. Иди-ка сюда, юноша! Я как раз говорил кардиналу, твоему дядюшке, что ты и твои товарищи, сдается мне, донесли французскому королю обо всем, что подглядели у нас в лагере. Что скажешь?
Рыцарь побледнел и отвел глаза.
— Может быть, я и ответил на некоторые вопросы, благородный принц, — пробормотал он.
— А как же такие ответы согласуются с твоей честью? Ведь мы тебе доверяли, ибо ты в свите его преосвященства.
— Благородный принц, я правда нахожусь в свите кардинала, но я верноподданный короля Иоанна и французский рыцарь, а потому молю тебя на меня не гневаться.
Принц скрипнул зубами и окинул молодого человека жгучим взглядом.
— Клянусь душой моего отца! Мне нелегко удержаться и не сразить тебя тут же на месте. Но одно я тебе обещаю: если твой значок с красным грифоном появится завтра на поле битвы и ты будешь взят в плен живым, твоя голова простится с телом!
— Дражайший сын мой, твои речи безумны! — воскликнул кардинал. — Даю тебе слово, что ни мой племянник Робер, ни другие рыцари моей свиты участвовать в битве не будут. А теперь я оставляю тебя, государь, да смилуется Господь над твоей душой, ибо никому в мире сейчас не грозит такая опасность, как тебе и твоим людям! Мой тебе совет: проведи ночь в благочестивом бдении, дабы лучше приготовиться к тому, что может принести грядущий день.
С этими словами кардинал поклонился, в сопровождении своей свиты направился туда, где они оставили коней, и поехал в соседнее аббатство.
Разгневанный принц, повернувшись на каблуках, вошел к себе в шатер, а Чандос оглянулся и с ласковой улыбкой протянул руку Найджелу.
— Я много наслышан о твоих славных деяниях, — сказал он. — Уже твое имя известно, как имя доблестного оруженосца. В твои годы я стоял не выше, а ниже.
Найджел раскраснелся от гордости и радости.
— Нет, мой любимый господин, — сказал он, — совершить мне удалось очень мало. Но теперь, когда я вернулся к тебе, уповаю, что научусь вести себя достойно! Ведь где, как не под твоим знаменем, могу я снискать честь?
— Поистине, Найджел, ты приехал в удачное время. Не вижу, как мы сможем уйти отсюда, не дав битвы, которая навеки сохранится в памяти людской. И не помню ни единого нашего сражения с французами, когда они были бы так сильны, а мы — так слабы, как теперь, и тем больше славы и чести можем мы обрести. Было б у нас лучников на две тысячи больше! Но, чаю, мы причиним им немало хлопот, прежде чем они отбросят нас от этой изгороди. Ты видел французов?
— Нет, благородный сэр. Я только что добрался сюда.
— Я как раз собирался прогуляться вдоль их лагеря, взглянуть, что у них за армия. Поедем, пока не стемнело, и осмотрим их расположение, насколько нам это удастся.
На этот день между противниками было заключено перемирие — ради неуместной и бесполезной попытки кардинала взять на себя роль посредника. Поэтому, когда Чандос и Найджел выехали из-за живой изгороди, они увидели на равнине небольшие группы рыцарей, как английских, так и французских. Последних было больше — им необходимо было разведать диспозицию вражеского войска, и многие подъезжали на сотню-другую шагов к изгороди, однако дозоры лучников тут же сурово отгоняли их.
Чандос ехал между этими компаниями, а так как чуть ли не в каждой находился былой противник, то все время слышались возгласы «А, Джон!» с одной стороны и «А, Рауль!», и «А, Николя!», и «А, Гишар!» — с другой. Лишь один всадник, дородный и краснолицый сеньор Клермон, приветствовал их не столь дружески. По странной прихоти судьбы, его сюрко украшала голубая Богоматерь, окруженная золотыми лучами, и точно такое же изображение было на сюрко, который надел в этот день Чандос. Вспыльчивый француз преградил им путь и поднял своего скакуна на дыбы.
— С каких пор, милорд Чандос, — сказал он негодующе, — ты присвоил себе право носить мой герб?
Чандос улыбнулся.
— Но это же ты носишь мой, — промолвил он. — Сюрко это мне давным-давно вышили в Виндзоре добрые монахини.
— Не будь перемирия, — крикнул Клермон, — я скоро доказал бы тебе, что носить его ты не смеешь!
— Завтра в сражении высматривай мое сюрко, а я буду высматривать твое, — ответил Чандос. — И мы достойно решим это дело.
Но холеричного француза умиротворить было не так-то просто.
— Вы, англичане, сами придумать ничего не способны, — сказал он, — и присваиваете все хорошее, что увидите у других!
Ворча и негодуя, он поехал своей дорогой, а Чандос с веселым смехом пришпорил коня и поскакал вперед по равнине.
Прямо перед позицией англичан деревья и кусты заслоняли врага, но, едва они остались позади, как открылся широкий вид на огромный французский лагерь. В середине высился большой шатер из красного шелка с серебряными королевскими лилиями по одну его сторону и золотой орифламмой, боевым знаменем старой Франции — по другую. Насколько хватал взгляд, точно камыши на речном берегу, во всю ширину и глубину лагеря колыхались знамена и значки знатных баронов и знаменитых рыцарей, а выше их всех вздымались штандарты владетельных герцогов, свидетельствуя, что здесь собралось феодальное воинство всех важнейших французских провинций.
Сверкающим взором Чандос обводил озаренные лучами заходящего солнца гордые гербы Нормандии, Бургундии, Оверни, Шампани, Вермандуа и Берри. Направив коня шагом вдоль их позиции, он высмотрел расположение арбалетчиков и немецких наемников, прикинул число пеших солдат и не пропустил ни единого герба знатных вассалов, так как по ним можно было судить о силе отдельных отрядов. Он проехал от левого крыла до правого и обогнул их с фланга, все время держась на расстоянии выстрела из арбалета, а потом, хорошенько все запомнив, повернул коня и в глубоком размышлении медленно направился к английскому лагерю.
Глава XXV Как французский король держал совет в Мопертюи
Утро в воскресенье девятнадцатого сентября года Господня одна тысяча триста пятьдесят шестого выдалось холодное и ясное. Туман окутал болотистую долину Мюиссон и оба лагеря — у изголодавшихся англичан зуб на зуб не попадал от озноба, но восходящее солнце мало-помалу рассеяло промозглую мглу. В красном шелковом шатре короля — том самом, который накануне разглядывали Чандос с Найджелом, епископ Шалонский служил торжественную мессу, молясь за тех, кого ждала гибель, и ничуть не подозревая, что его последний час совсем близок. Затем, когда король и его четыре юных сына причастились, аналой был вынесен, и во всю длину шатра поставили стол, покрытый красной скатертью, за которым король Иоанн собрал своих советников, дабы обсудить, как ему лучше действовать. Шелковый свод над головой, великолепные аррасские гобелены по стенкам, пышные восточные ковры под ногами — даже во дворце у него не нашлось бы более роскошного покоя.
Король Иоанн, восседавший под балдахином на возвышении во главе стола, царствовал шесть лет, вступив на престол, когда ему было тридцать. Невысокий, кряжистый, с румяным лицом, могучей грудью и темными добрыми глазами, держался он весьма величаво. И без лазоревого плаща, расшитого серебряными лилиями, в нем сразу можно было бы узнать монарха. Хотя царствовал он еще недолго, но уже славился по всей Европе, как добрый король и бесстрашный воин — достойный глава рыцарственной нации. Рядом с ним, положив руку ему на плечо, стоял его старший сын, герцог Нормандский, еще почти мальчик, и Иоанн часто оборачивался, чтобы приласкать его. Справа на том же возвышении сидел младший брат короля герцог Орлеанский, бледный, с грубыми чертами лица, томными манерами и надменным взглядом. Кресло слева занимал герцог Бурбонский, печальный, рассеянный, с той тихой грустью в глазах и движениях, которая часто сопровождает предчувствие близкой смерти. Все они были в доспехах, только шлемы лежали на столе перед ними.
Ниже за длинным красным столом расположились самые знаменитые воины Европы. У конца, ближнего к королю, сидел ветеран герцог Афинский, сын изгнанного отца, а в то время — коннетабль{44} Франции. По одну его руку краснолицый холеричный сеньор Клермон щеголял в том же сюрко с голубой Богоматерью, которая накануне стала причиной его ссоры с Чандосом, а по другую расположился седовласый воин с благородным лицом — Арнольд д'Андреган, как и Клермон, носивший звание маршала Франции. Далее сидел сеньор Жак де Бурбон, отважный боец, много лет спустя погибший в битве с Белым отрядом при Брине, а рядом с ним — небольшая компания знатных немцев, в том числе граф Зальцбургский и граф Нассауский, приведшие на помощь французскому королю внушительные силы наемников. Их шлемы со щитком для носа вместо забрала и пластинчатые доспехи сразу говорили опытному глазу, что они прибыли с того берега Рейна. Напротив восседали гордые и воинственные сеньоры Шатильон, Нель, де Ланда, Фьен, де Божо, а также неукротимый странствующий рыцарь де Шарньи, тот самый, что пытался захватить Кале, и Эстас де Рибомон, который тогда же получил из рук Эдуарда Английского награду за доблесть.
Вот к этим военачальникам король и обратился теперь за советом.
— Вы уже слышали, друзья мои, — начал он, — что принц Уэльский не дал ответа на условия, которые мы послали ему с его преосвященством кардиналом Перигорским. Иначе и быть не могло: хотя я и подчинился призыву святой Церкви, но ни минуты не верил, что столь достойнейший принц откажется встретиться с нами на поле брани. И думается мне, нам следует напасть на них без промедления, не то крест кардинала вновь может преградить нам путь к нашим врагам.
Раздался общий одобрительный ропот, к которому присоединились даже стражи, охранявшие вход. Когда наступила тишина, со своего кресла рядом с королем встал герцог Орлеанский.
— Государь, — сказал он, — иных слов мы не хотели бы услышать от тебя, и, по мне, кардинал Перигорский пытался оказать Франции дурную услугу: для чего нам выторговывать часть, когда достаточно протянуть руку, чтобы взять все? К чему слова? На коней, и никакой пощады горстке мародеров, опустошивших твои прекрасные владения. Если хоть один из них ускользнет от смерти или плена, вина будет наша!
— Клянусь святым Денисом, брат мой, — с улыбкой сказал король, — если бы слова разили, как мечи, ты сразил бы их всех еще в Шартре! Война тебе внове, но, будь у тебя за спиной одна-две проигранных битвы, ты знал бы, что следует все обдумать и подготовить заранее, иначе дело может кончиться худо. В дни нашего отца мы, как ты советуешь, вскакивали на коней и мчались на англичан под Креси и в других сражениях, только славы это нам не принесло, и ныне мы умудрены опытом. Что скажешь ты, сеньор де Рибомон? Ты объехал их позиции и поглядел, как они держатся. Поскакал бы ты на них, как желает мой брат, или же посоветуешь что-нибудь другое?
Де Рибомон, высокий темноглазый красавец, ответил не сразу.
— Государь, — сказал он наконец, — я проехал вдоль их фронта и по флангам вместе с мессиром Ланда и мессиром де Боже, и они подтвердят мои слова. Думается мне, государь, что англичане, хоть число их невелико, заняли среди этих изгородей и виноградников сильную позицию и нападать на них не следует. У них нет провианта, и они вынуждены будут ее покинуть, а тогда ты сможешь последовать за ними и дать им бой в более выгодных условиях.
Присутствующие разразились негодующими криками, а маршал Клермон, побагровев, вскочил на ноги.
— Эстас, Эстас! — прогремел он. — Я помню время, когда сердце твое горело мужеством, а отвага не знала преград, но, с тех пор как король Эдуард надел на тебя вот этот жемчужный обруч, ты все время уклоняешься от встречи с англичанами!
— Мессир Клермон, — сурово произнес де Рибомон, — не мне затевать ссору на королевском совете в виду врага, но в другое время мы еще вернемся к твоим словам. Пока же король соблаговолил спросить у меня совета, и я сказал то, что считаю наилучшим.
— Для твоей чести, мессир Эстас, было бы лучше, если бы ты промолчал, — вмешался герцог Орлеанский. — Неужто мы дадим им проскользнуть у себя между пальцев, когда они тут перед нами, нас же вчетверо больше? Не знаю, куда мы отправимся потом, но вот в Париж нам вернуться будет стыдно и стыдно взглянуть в глаза нашим дамам.
— Эстас, ты поступил хорошо, прямодушно открыв свои мысли, молвил король, — но я уже сказал, что битву мы начнем до истечения утра, и времени для долгих обсуждений у нас нет. И все же мне хотелось бы узнать, как, по-твоему, будет вернее и лучше напасть на них?
— Я отвечу, государь, насколько это в моих силах. Справа у них речка и болото вдоль нее, а слева дремучий лес. Значит, напасть мы можем только на их центр. Перед их позицией — густая изгородь, а за ней я различил зеленые куртки их лучников. Их столько, сколько камышей на берегу. Лишь в одном месте изгородь разделена дорогой, но рядом по ней могут ехать только четверо всадников. Значит, для того чтобы оттеснить их, мы должны преодолеть живую изгородь, а я твердо знаю, что лошади не пойдут напролом, когда на них с той ее стороны обрушатся тучи стрел. Посему мой совет: биться пешими, как англичане при Креси, ибо наши кони могут оказаться нам помехой.
То же подумал и я, государь, — добавил многоопытный маршал Арнольд д'Андреган. — При Креси храбрейшие поворачивали спину врагу, ибо как сладить с конем, обезумевшим от боли и страха? Если мы будем наступать, спешившись, то сами будем властвовать над собой, и весь позор будет нашим.
— Совет мудрый, — заметил герцог Афинский, повернув к королю умное морщинистое лицо, — но я хотел бы добавить к нему еще одно. Сила их заключается в лучниках, и если нам удастся привести их в замешательство, пусть на самый краткий срок, мы прорвемся сквозь изгородь. Иначе они примутся стрелять так быстро, что уложат многих из нас прежде, чем мы достигнем ее. Нам ли не знать, что с близкого расстояния их стрелы пробивают любую броню.
— Твои слова, благородный герцог, и уместны и мудры, — сказал король. — Но, прошу, объясни, как ты думаешь привести их в замешательство?
— Я выбрал бы триста всадников, государь, самых лучших и быстрых в нашем войске, и послал бы их по узкой дороге, чтобы, миновав изгородь, они повернули на лучников справа и слева от нее. Возможно, потери среди них будут велики, но что такое триста для столь большого войска, если они откроют путь остальным?
— Я хотел бы сказать свое слово, государь! — воскликнул немец, граф Нассауский. — Я и мои товарищи при были предложить тебе нашу помощь, но мы требуем права сражаться на свой манер и сочтем бесчестием спешиться из-за страха перед английскими стрелками. Посему, с твоего соизволения, мы поскачем первыми, как советует герцог Афинский, и откроем путь для вас всех.
— Такого допустить нельзя! — сердито вскричал сеньор Клермон. — Как так? Французы не сумеют очистить путь для войска короля Франции! Послушать тебя, благородный граф, так ваше мужество выше нашего! Но клянусь Богоматерью Рокамадурской, еще до вечера ты убедишься, что это не так! Триста всадников поведу я, ибо это мое право, как маршала Франции, а дело обещает быть славным.
— По тем же причинам я требую этого права себе, — сказал Арнольд д'Андреган.
Граф ударил по столу кулаком в железной рукавице.
— Поступайте, как вам угодно! — крикнул он. — Но запомните одно: я и мои немецкие конники не спешимся, пока наши лошади не падут под нами, ибо в наших землях пешими сражаются только мужики.
Маршал Клермон гневно наклонился через стол, но тут вмешался король Иоанн.
— Довольно, довольно! — воскликнул он. — Вам надлежит давать мне советы, а мне — решать, что и как вы будете делать. Клермон и ты, Арнольд, отберете триста самых отважных всадников и постараетесь разметать лучников. А ты со своими немцами, граф Нассауский, будешь биться верхом, раз таково твое желание. Вы последуете за маршалами и окажете им необходимую поддержку. Остальное войско будет наступать пешим порядком, разделившись, как уже было решено, на три отряда: твой, Шарль (он ласково погладил по руке герцога Нормандского), твой, Филипп (он взглянул на герцога Орлеанского), и мой — наши главные силы. Тебе, Жоффруа де Шарньи, на этот день я вручаю орифламму… Но кто этот рыцарь и что ему угодно?
В шатер вбежал рыжебородый молодой человек с красным грифоном на сюрко. Раскрасневшееся лицо и запыленная одежда показывали, как он торопился.
— Государь, — сказал он, — я Робер де Дюра из свиты кардинала Перигорского. Вчера я доложил тебе обо всем, что мне удалось увидеть в английском лагере. Нынче утром меня опять туда допустили, и я увидел, что их повозки отъезжают в тыл. Государь, они бегут в Бордо!
— Так я и знал, клянусь Богом! — в ярости крикнул герцог Орлеанский. — Пока мы тут болтаем попусту, они проскользнули у нас между пальцами. Или я вас не предупреждал?
— Замолчи, Филипп, — сердито приказал король. — Но ты, юноша, видел это своими глазами?
— Да, государь, и прискакал прямо из их лагеря. Король Иоанн смерил его мрачным взглядом.
— Не понимаю, как честь позволила тебе раздобыть такие сведения подобным образом! — сказал он. — Однако не воспользоваться ими мы не можем. Не страшись, Филипп, до вечера, думается мне, ты досыта насмотришься на англичан. Обрушимся на них у брода, это даст нам большое преимущество. А теперь, благородные господа, прошу вас поспешить на свои места и исполнить все, что мы решили. Выступай с орифламмой, Жоффруа, а ты построй отряды, Арнольд. Да будут нам в сей день покровом Бог и святой Денис!
Принц Уэльский стоял на том пригорке, откуда Найджел накануне оглядывал долину. Вместе с Чандосом и капталем де Бушем он внимательно следил за французским войском вдалеке, а за спиной у него вереница повозок спускалась к броду через Мюиссон.
Позади принца негромко переговаривались между собой четверо рыцарей на конях и в полном вооружении, но с открытыми забралами. Любому воину было бы достаточно одного взгляда на их щиты, чтобы тут же назвать каждого по имени, ибо все четверо успели снискать славу во многих битвах. Пока они ожидали распоряжений, ведь каждый командовал той или иной частью войска. Худощавый молодой человек слева со смуглым сосредоточенным лицом был Уильям Монтекью, граф Солсбери, в свои двадцать восемь лет уже ветеран Креси. Об уважении, каким он пользовался, свидетельствовало хотя бы то, что принц поручил ему командовать арьергардом — в отступающей армии пост очень почетный. Беседовал он с седым, довольно пожилым человеком, чьи суровые черты напоминали львиные, а молочно-голубые глаза, обращенные на врагов, сверкали яростью. Так выглядел знаменитый Роберт Уффорд, граф Суффолк, который участвовал во всех кампаниях на континенте, начиная с Кадсенда. Рядом с ним высокий рыцарь, на чьем сюрко блестела серебряная звезда, Джон де Вир, граф Оксфордский, молча слушал Томаса Бошана, дюжего, добродушного, румяного вельможу и испытанного воина, который, наклонясь к нему, похлопывал железной рукавицей по его наколеннику. Они были старыми товарищами по оружию, ровесниками во цвете лет, равные и славой и опытом. Вот кто ждал распоряжений принца, сидя на конях позади него.
— Жаль, что ты не схватил его, — гневно сказал принц, продолжая разговор с Чандосом. — Хотя, пожалуй, разумнее было поступить по-твоему и внушить им мысль, будто мы отступаем.
— Бесспорно, он успел доставить эту весть, — ответил Чандос с улыбкой. — Едва повозки тронулись с места, как гляжу: он уже скачет вдоль опушки.
— Нет, ты хорошо придумал, Джон, — промолвил принц. — Что может быть утешительнее, чем использовать против них собственного их лазутчика? Если они не двинутся на нас, не знаю, как мы продержимся еще день, ведь на все войско не отыщется и корки хлеба. А если оставить эту позицию, где мы найдем вторую такую?
— Они попадутся на нашу наживку, благородный принц! Они проглотят крючок! Ведь в эту самую минуту Робер де Дюра оповещает их, что наш обоз двинулся к броду, и они поторопятся перехватить нас прежде, чем мы переправимся через реку… По кто это скачет сюда? Что-то случилось?
Всадник галопом взлетел на пригорок, спрыгнул с седла и упал перед принцем на одно колено.
— О чем ты просишь, милорд Одли? — сказал Эдуард.
— Государь, — произнес рыцарь, не вставая и смиренно склонив голову перед своим полководцем. — Я прошу милости.
— Встань, Джеймс, встань! Так чего же ты хочешь? Прославленный странствующий рыцарь, зерцало рыцарской доблести на все времена, встал и обратил на своего господина темные глаза, пылающие на загорелом лице.
— Государь, — сказал он, — я всегда верно служил моему королю, твоему отцу, и тебе и буду служить, покуда жив. Любимый господин мой, открою тебе, что уже давно я дал обет: если когда-нибудь мне доведется участвовать в битве под твоим началом, я буду впереди всех или погибну. Посему молю, милостиво дозволь мне с честью оставить мое место среди других, дабы я сам решил, как поступить, чтобы достойнее выполнить мой обет.
Принц улыбнулся, прекрасно понимая, что обет обетом, дозволение дозволением, но лорд Джеймс Одли все равно окажется в первом ряду.
— Поезжай, Джеймс, — сказал он, пожимая ему руку, — и да ниспошлет Господь, чтобы нынче ты превзошел отвагой самых отважных… Джон, ты слышишь? Что это значит?
Чандос повел хищным носом, точно орел, издалека почуявший битву.
— Без сомнения, государь, все обернулось так, как мы надеялись.
Издали донесся громовой клич. И еще, и еще.
— Глядите, они двинулись! — вскричал капталь де Буш.
Они давно уже видели блеск доспехов конницы, выстроенной перед французским лагерем. И теперь, когда до их слуха донеслись звуки множества труб, блеск этот стал меняться, то вспыхивая ярче, то почти угасая.
— Да, да! Они движутся! — воскликнул принц.
— Движутся! Они движутся! — пронеслось по рядам. И затем, подчиняясь внезапному порыву, лучники за живой изгородью вскочили, а рыцари позади них взмахнули копьями и мечами, и дружный, оглушительный вопль, полный воинственного восторга, донес их вызов приближающимся врагам. И тут же наступила такая тишина, что удар лошадиного копыта или позвякивание сбруи казались неестественно громкими. Затем в этой тишине начал нарастать глухой рев, обретая все большую силу по мере приближения французского войска.
Глава XXVI Как Найджел совершил свой третий подвиг
Четверо лучников лежали среди кустов перед живой изгородью, укрывавшей их товарищей. Там в длинной линии находился их собственный отряд — почти все те, кто отправился с Ноллесом в Бретань. Четверо в кустах были начальники — старый Уот из Карлайла, рыжий йоркширец Нед Уиддингтон, лысый мастер Бартоломью и Сэм кип Эйлуорд, вернувшийся после недельного отсутствия. Все они жевали хлеб и яблоки — Эйлоурд привез их полную сумку и щедро поделился со своими изголодавшимися товарищами. У старого Уота и йоркширца глаза глубоко запали, а щеки ввалились, круглая же физиономия Бартоломью перестала быть круглой, под глазами набрякли мешки, кожа дряблыми складками свисала под подбородком.
Позади них истощенные, озлобленные люди внимательно смотрели в просветы между ветками в полном молчании, которое нарушил только яростный приветственный крик, когда к ним подскакали Чандос с Найджелом, спрыгнули с коней и заняли позицию за ними. Повсюду за зеленой каймой лучников виднелись закованные в железо фигуры рыцарей и оруженосцев, которые присоединились к ним, чтобы разделить их судьбу.
— Вот, помнится, как-то состязался я с кентским лесником в Эшфорде… — начал мастер Бартоломью.
— Да слышали мы, слышали, — нетерпеливо перебил старый Уот. — Придержи язык, Бартоломью! Сейчас не время для пустых россказней. Пройдись-ка вдоль линии, погляди, может, где тетива поистерлась, или конец обломился, или еще что починки требует.
Лысый мастер направился к лучникам под залп грубоватых шуток. Но там и сям к нему сквозь ветки протягивали лук, прося совета.
— Наконечники навощите! — покрикивал он. — Пустите по рукам горшок с воском и навощите наконечники.
Где сухая стрела застрянет, там навощенная пробьет насквозь. Том Беверли, олух ты царя небесного, где твоя рукавица? Тетива же обдерет тебе всю руку, когда ты и половины стрел не расстреляешь. А ты, Уоткин, брось к губам тетиву оттягивать! К плечу тяни! Тетива — это тебе не кружка с вином. Становитесь посвободнее, чтоб было куда правую руку отодвигать, они ведь сейчас сюда явятся!
Он поспешил назад к трем своим товарищам, которые уже поднялись на ноги. За изгородью позади них растянулся на полмили строй лучников: каждый уже поднял боевой лук — полдесятка стрел за плечом, еще восемнадцать в колчане спереди. Наложив стрелу на тетиву, твердо расставив ноги, они со свирепым возбуждением смотрели в просветы между ветками в ожидании надвигающейся бури.
Огромная железная волна, медленно катившаяся к ним по равнине, замерла примерно в полумиле от их передовой линии. Большинство всадников спешилось, и конюхи с другими челядинцами повели коней назад. Затем французы построились тремя огромными отрядами, которые блестели на солнце, точно серебряные озера, и, подобно камышам, над ними поднимались знамена и значки. Разделяло их расстояние в несколько сот шагов. Тут же вперед выдвинулись два конных отряда. В первом триста всадников сомкнулись плотными рядами, тысяча во втором развернулась более широким фронтом.
К лучникам подъехал принц. Он был в черных доспехах, под открытым забралом красивое лицо с орлиными чертами горело воодушевлением и воинственным огнем. Лучники приветствовали его оглушительным криком, и он помахал им в ответ, точно охотник, подбодряющий нетерпеливую свору.
— Ну, Джон, что ты скажешь теперь? — спросил он. — Чем бы не пожертвовал мой благородный отец, лишь бы стоять с нами здесь теперь! А ты заметил, что они спешились?
— Да, милорд, они хорошо запомнили преподанный им урок, — промолвил Чандос. — Оттого что при Креси и в иных местах мы побеждали в пешем строю, они решили, будто разгадали наш секрет. Но, сдается мне, одно дело стоять в ожидании атаки и совсем другое — протащить на себе доспехи целую милю и атаковать, порядком приустав.
— Ты прав, Джон. Но что за всадники перед ними медленно движутся на нас? Как, по-твоему?
— Несомненно, они намерены подрезать поджилки нашим лучникам и расчистить путь остальным. Но отряд отборнейший! Видишь, милорд, цвета Клермона слева и д'Андрегана справа? Авангард ведут оба маршала.
— Клянусь душой, Джон, — воскликнул принц, — ты одним глазом различаешь куда больше, чем любой здесь двумя! А кто следует за ними в полумиле?
— Судя по доспехам, немцы, милорд.
Конные отряды медленно ехали по равнине, а оказавшись на расстоянии двух полетов стрелы от изгороди, остановились. Противника они не видели — только кое-где между листьев поблескивало железо, а чуть дальше над кустами и лозами торчали наконечники жандармских копий. Перед ними расстилался очаровательный, залитый мирным солнцем пейзаж, уже расцвеченный красками осени, и лишь эти вспышки там и сям говорили о безмолвно затаившихся врагах, которые преграждали им путь. Но опасность только еще больше подняла боевой дух французских рыцарей. Воздух загремел от их боевых кличей, и они угрожающе подняли над головой копья со своими значками. Зрелище со стороны английских позиций было великолепным: могучие кони, гордо изгибая шеи, роют копытами землю, всадники в сверкающих доспехах щеголяют яркими многоцветными эмблемами, колышутся перья, развеваются знамена.
Внезапно запела труба. И каждый всадник с громким криком всадил шпоры в бока коня, каждое копье легло на упор, и доблестный отряд, точно ослепительная молния, устремился на английский центр.
Сто ярдов остались позади, еще сто… Но перед ними по-прежнему ничто не двигалось, ни единый звук не вплетался в их хриплые крики и громовой топот их скакунов. А рысь уже переходила в галоп. Сквозь ветки видны были приближающиеся кони — белые, гнедые, вороные: шеи вытянуты, ноздри раздуты, брюхо распластано над землей. А всадники укрыты щитами так, что видно лишь забрало и перо над ним да впереди звездой сияет наконечник копья.
Внезапно принц поднял руку и отдал приказ, Чандос повторил его, он прокатился по линии, тетивы зазвенели все, как одна, засвистели стрелы, и разразилась долго сдерживаемая буря.
Бедные благородные копи! Бедные доблестные всадники! Когда кровавое упоение битвы угаснет, кто равнодушно вспомнит, как великолепный отряд в мгновение ока превратился в кровавое месиво под градом стрел, впивавшихся в морды и грудь скакунов? Передний ряд рухнул наземь, следующие налетали на него и падали, не в силах сдержать лошадей или свернуть в сторону от страшного вала, который с такой внезапностью вырос перед ними. Пятнадцати футов в высоту достиг этот вал из брызжущих кровью, бьющихся, ржущих лошадей и извивающихся в попытке выбраться из-под них всадников. На флангах некоторым удалось избежать этой участи, и они ринулись вперед к изгороди для того лишь, чтобы слететь со спины коня, пораженного стрелой. Ни один из трехсот отважных всадников не достиг роковой преграды из высоких кустов.
Но теперь уже с ревом накатывалась длинная железная волна немецких конников. Они разделились в центре, чтобы обогнуть жуткий курган смерти, и стремительно надвигались на лучников. Это были мужественные воины с опытными начальниками, и более свободный строй помог им избежать скученности, сгубившей авангард. Тем не менее они погибали поодиночке, как те — все вместе. Некоторых сразили стрелы, под остальными были убиты кони, и, оглушенные падением, они, обремененные тяжелыми доспехами, не находили сил встать на ноги.
Трое немцев, держась рядом, промчались через кусты, где укрывались начальники лучников, зарубили йоркширца Уиддингтона, прорвались сквозь изгородь, перемахнули через лучников позади нее и повернули к принцу. Один свалился со стрелой во лбу, второго выбил из седла Чандос, а третий пал от руки принца. Еще несколько всадников проскочили за изгородь у самой реки, но их перехватил Одли со своими оруженосцами, и все они полегли там. Только один всадник, чья лошадь, пораженная стрелами в глаз и в ноздрю, обезумела от боли и птицей перелетела через изгородь, пронесся через весь строй англичан и скрылся в лесу под хохот и улюлюканье. Остальные даже не приблизились к изгороди. Перед позицией англичан повсюду валялись немцы, раненые и убитые, а огромное нагромождение тел в центре указывало место гибели трехсот мужественных французов.
Пока две волны конницы превращались в эти кровавые остатки, три главных французских отряда остановились и завершили последние приготовления перед боем. Они еще не начали наступать, и ближайший находился в полумиле от изгороди, когда мимо пронеслись немногие уцелевшие — их взбесившиеся кони щетинились стрелами, точно ежи.
В ту же минуту английские лучники и жандармы пробрались сквозь изгородь и принялись вытаскивать из груды искалеченных лошадей тех всадников, которые подавали признаки жизни. Вылазка была чистым безумием, ибо вскоре сражение должно было разразиться по-настоящему, но ведь счастливчик, которому удалось бы захватить богатого пленника, мог получить немалый выкуп. Благородные духом пренебрегали мыслью о выкупах, пока исход дня оставался нерешенным, но неимущие солдаты — и англичане и гасконцы, — ухватив стонущего — человека за ногу или за руку, выволакивали его на траву и с кинжалом у горла требовали, чтобы он назвал свое имя, титул и положение. Тот, кому доставался завидный приз, поспешно уводил пленника за изгородь и отдавал в тылу под охрану слуг; тот же, кто оставался недоволен ответами, не столь уж редко пускал кинжал в ход и снова кидался в толчею у груды трупов. Клермон лежал мертвый шагах в десяти от изгороди — голубая Богоматерь на его сюрко была пронзена стрелой. Бедный оруженосец вытащил д'Андрегана из-под лошадиного трупа и объявил его своим пленником. Граф Зальцбургский и граф Нассауский оба были найдены в столь же беспомощном состоянии и отведены в тыл. Эйлуорд обхватил могучими ручищами графа Отто фон Лангебека и уложил его под своим кустом, благо у него была сломана нога. Черному Саймону достался граф Бертран де Вентадур, и он увлек его за изгородь. Суматоха, вопли, ссоры, обмен затрещинами, а компании лучников тем временем пополняли запас стрел, выдергивая их из убитых, а иногда и из живых. Затем раздался предостерегающий крик, и все тотчас разбежались по своим местам за живой изгородью.
Как раз вовремя! Ибо первый французский отряд был уже совсем близко. Если атака конников наводила ужас стремительностью и неистовством, то неторопливое приближение пеших железных рядов внушало даже еще больший страх. Вес доспехов замедлял шаги, но в их размеренности чудилось что-то неумолимое. Плечо к плечу, выставив вперед щиты, сжимая в правой руке пятифутовые копья, с мечами и булавами у пояса, французы двигались вперед широкой и длинной колонной. Вновь град стрел зазвенел и застучал по броне, и наступавшие пригнулись, приподняв щиты. Многие упали, но размеренное движение продолжалось. Развернувшись на полмили, они с оглушительными криками достигли изгороди и попытались проломить ее.
В течение пяти минут два ряда противостояли друг другу, и яростные удары копий отражались боевыми топорами и булавами. Во многих местах изгородь была проломлена или втоптана в землю, и французские жандармы набросились на более легко вооруженных лучников, рубя и кроша их. Уже казалось, что исход сражения решен.
Но Джон де Вир, граф Оксфордский, хладнокровный, находчивый, искушенный в военном деле, увидел возможность изменить положение и не упустил ее. Справа к речке спускался заболоченный луг. Почва там была такой зыбкой, что не могла выдержать веса тяжело вооруженного воина. По приказу графа небольшой отряд лучников зашел французам во фланг со стороны речки и начал осыпать их стрелами. В ту же минуту Чандос, Одли, Найджел, Бартоломью Бургерш, капталь де Буш и еще двадцать рыцарей вскочили в седло, повернули коней на узкую дорогу, разметали французов на своем пути, выехали на равнину и, пришпоривая коней, обрушили их на пеших жандармов справа и слева от дороги.
Как ужасен был Бурелет, когда, поводя налитыми кровью глазами, раздувая ноздри, встряхивая песочно-желтой гривой, он в ярости рвал зубами и бил тяжелыми копытами всех, кто оказывался перед ним. Страшен был и его всадник — холодно-спокойный, целеустремленный, быстрый, с сердцем, полным огня, и стальными мышцами. Точно дух битвы, бросал он своего рассвирепевшего коня в самую гущу врагов, но, сколько ни прилагал он сил, высокая фигура его господина на угольно-черном жеребце все время оставалась впереди него на полдлины копья.
Опасные минуты остались позади. Французы отступили. Те, кто прорвался за изгородь, мужественно пали, окруженные врагами. Отряд Уоррика, поспешно покинув виноградники, восполнил потери, понесенные Солсбери, и сверкающая волна покатилась назад, вначале столь же медленно, как накатывалась, а потом все быстрее, потому что наиболее смелые погибли, а те, кто послабее, уже думали только о том, как бы побыстрее оказаться в безопасности. И вновь стремительная вылазка из-за изгороди, вновь густо усеявшие землю зазубренные стрелы собираются, точно колосья, вновь раненых пленников безжалостно уволакивают в тыл. Затем строй восстановился, и англичане, усталые, запыхавшиеся, почти дрогнувшие, приготовились встретить следующую атаку.
И тут им улыбнулась неслыханная, нежданная удача, столь великая, что они не могли поверить своим глазам. За отрядом дофина, чей натиск они отразили с таким трудом, следовал столь же многочисленный отряд герцога Орлеанского, и вот отступающие, все в крови, в помятых доспехах, ослепленные страхом и потом, заливающим глаза, ворвались в его ряды и увлекли их за собой! Грозный строй рассыпался без единого удара, растаял, точно снег под лучами жаркого солнца. Равнина теперь была вся в сверкающих пятнах — каждый воин думал только о том, как бы добежать до своего коня и убраться подальше от этого проклятого места.
Однако когда отряд герцога рассеялся, то словно отдернулся занавес, открыв занимающий всю ширину долины великолепный отряд французского короля, непоколебленный, сомкнувший ряды для атаки. Численностью равный всему английскому войску, он был совершенно свежим, а вел его отважный монарх, который с неторопливой уверенностью человека, решившего победить или умереть, построил его для решающего сражения.
В этот краткий промежуток ликования принца окружили горячие молодые рыцари и оруженосцы и в полной уверенности, что победа уже одержана, умоляли его о разрешении самим перейти в нападение.
— Только поглядите на этого наглеца с тремя птицами на червленом поле! — вскричал сэр Морис Беркли. — Остановился между нами и французами, точно хочет высказать нам свое пренебрежение!
— Государь, молю тебя, дозволь мне выехать к нему навстречу, он, верно, ищет поединка! — взывал Найджел.
— Нет, благородные господа, не подобает нарушать строй, когда нам предстоит еще много дела, — ответил принц. — Да он уже повернул назад, так что и говорить больше не о чем.
— Нет, пресветлый принц, — возразил молодой рыцарь, первым заметивший француза. — Лебрайт, мой серый скакун, нагонит его прежде, чем он доберется до своих. С тех пор как я покинул берег Северна, мне не доводилось видеть коня быстрее. Вот сами поглядите! — И, пришпорив жеребца, он понесся по равнине.
Француз Жан де Эленн, оруженосец из Пикардии, вне себя от стыда и гнева из-за бегства своего отряда, остановился между двумя армиями в надежде загладить этот позор каким-нибудь подвигом или найти почетную смерть. Однако никто не отделился от строя англичан, и он повернул коня, чтобы присоединиться к отряду короля, как вдруг услышал за спиной конский топот. Оглянувшись, он увидел, что к нему мчится английский всадник, и поскакал ему навстречу, обнажив меч, как и его противник. Оба войска замерли, следя за поединком. Они съехались, копье вылетело из руки сэра Мориса Беркли, а когда он спрыгнул за ним на землю, француз нанес ему рану в бедро, спешился сам и потребовал, чтобы он сдался. Когда злополучный англичанин заковылял рядом со своим победителем, оба войска разразились хохотом.
— Клянусь моими десятью пальцами! — посмеиваясь, воскликнул Эйлуорд из-за остатков своего куста. — Орешек нашему рыцарю достался не по зубам. А кто он?
— Судя по гербу, — ответил старый Уот, — либо Беркли с запада, либо Попем из Кента.
— Помнится, состязался я как-то с кентским лесником… — начал толстый мастер.
— Да помолчи ты, Бартоломью! — перебил Уот. — Вон бедняга Нед лежит с раскроенной головой, так ты, чем бахвалиться, прочитал бы молитву за упокой его души. А, Том из Беверли! Что там у вас?
— В последний раз нам худо пришлось, Уот. Наших сорок полегло, а у Дина справа и того больше.
— Словами делу не поможешь, Том. А коли все полягут, опричь одного, так и он стоять должон до последнего.
Пока лучники обменивались такими замечаниями, военачальники позади них держали совет. Два французских отряда были обращены в бегство, но лица рыцарей, умудренных опытом, становились все тревожнее, по мере того как на их позицию медленно надвигался отряд короля. Линия лучников заметно поредела и растянулась. Яростная схватка у изгороди вывела из строя немало рыцарей и оруженосцев. Другие, ослабленные голодом, лежали на земле, стараясь отдышаться. Некоторые переносили раненых в тыл, укладывая их под деревьями, а многие подбирали оружие убитых, чтобы заменить сломанное копье или меч. Капталь де Буш, как ни закален и ни храбр он был, угрюмо хмурясь, шепотом излагал свои опасения Чандосу.
Однако отвага принца только больше воспламенилась в грозный час, и его темные глаза горели воинственной гордостью, когда он переводил их со своих истомленных товарищей на густые ряды французов, которые под вопли труб медленно двигались по равнине, осененные тысячами развевающихся на ветру значков.
— Будь что будет, Джон, а переведались мы с ними знатно, — сказал он. — В Англии за нас никому стыдно не будет. Ободритесь, друзья мои, ведь если мы победим, то прославимся навеки, если же погибнем, то достойно, а наши братья и родичи, уж конечно, за нас отомстят. Еще одно усилие, последнее, и день будет наш. Уоррик, Оксфорд, Солсбери, Суффолк — все вперед! И мое знамя! На коней, благородные господа! Лучники обессилены, и выиграть сражение должны наши добрые копья. Вперед, Уолтер! Да пребудут с Англией Бог и святой Георгий!
Сэр Уолтер Вудленд на высоком вороном жеребце занял место рядом с принцем, вставив королевское знамя в особое отверстие седла. К знамени со всех сторон поспешили рыцари и оруженосцы, образовав внушительный отряд — к людям принца присоединились и оставшиеся в живых воины Уоррика и Солсбери. Четыреста жандармов резерва теперь тоже заняли место в строю, но лицо Чандоса, когда он оглядел силы англичан, а потом перевел взгляд на приближающихся бесчисленных французов, стало еще серьезней.
— Не нравится мне это, милорд. Их слишком много, — шепнул он.
— А как бы ты распорядился, Джон? Скажи, что ты задумал?
— Надо, удерживая их в центре, ударить им во фланг. Как по-твоему, Жан?
Он обернулся к капталю де Бушу, чье смуглое решительное лицо отражало те же опасения.
— Поистине, Джон, я мыслю, как ты, — ответил он. — Французский король человек очень смелый, как и те, кто его окружает, и не вижу, как мы можем их отбросить, если не последуем твоему совету.
— Дайте мне хотя бы сотню людей, и я берусь выполнить маневр.
— Но, пресветлый принц, это мое право, ведь план принадлежит мне! — возразил Чандос.
— Нет, Джон, оставайся со мной. По ты, Жан, хорошо сказал, а теперь берись за дело. Поезжай попроси у графа Оксфордского сто жандармов и столько же легковооруженных конников. Обогнешь с ними вон тот пригорок, чтобы вас не заметили. Оставшиеся лучники пусть построятся на флангах, а когда выпустят все стрелы, вступят в рукопашный бой насколько хватит сил. Подождем, пока они не минуют вон тот терновник, а тогда, Уолтер, скачи с моим знаменем прямо к знамени французского короля. Благородные господа, пусть Господь и мысли о ваших дамах укрепят ваш дух!
Французский монарх, увидев, что пеший бой англичане выиграли, но изгородь в результате почти повсюду сровнена с землей и перестала быть серьезным препятствием, приказал своим рыцарям сесть в седло, и теперь на английскую позицию для последней, решительной схватки надвигался в конном строю весь цвет французского рыцарства. Король находился в центре переднего ряда. Жоффруа де Шарньи с золотой орифламмой ехал справа от него, а Эстас де Рибомон с королевскими лилиями — слева. Возле его локтя держался герцог Афинский, коннетабль Франции, а по сторонам — знатнейшие вельможи, преисполненные воинственной ярости: они то и дело разражались боевым кличем и потрясали оружием над головой. Шесть тысяч храбрецов самой доблестной страны в Европе, люди, чьи имена были точно гром военной трубы — Божье и Шатийон, Танкарвиль и Вентадур, — не отставали от лилий ни на шаг.
Вначале они заставляли коней идти шагом, чтобы те сохранили все силы для атаки. Затем перешли на рысь, которая быстро сменилась галопом, когда навстречу им, вбивая в землю остатки живой изгороди, широким фронтом, величаво двинулась одетая в железо английская конница. Через минуту, опустив поводья и не жалея шпор, два ряда всадников уже неслись карьером прямо друг на друга. Еще мгновение — и они сшиблись с таким грохотом, что его услышали горожане, собравшиеся на стенах Пуатье в добрых семи милях оттуда.
Удар был так ужасен, что многие лошади свалились мертвыми со сломанными шеями, а у всадников, удержавшихся в седле благодаря высокой луке, были сломаны ноги. Если скакуны сталкивались грудь с грудью, они поднимались на дыбы и падали на спину, придавливая седоков. Но во время скачки передние ряды разомкнулись, и многие всадники устремились в разрывы, оказавшись в самой гуще врагов. Тогда фланги раздвинулись, и в центре стало настолько просторнее, что уже можно было поднять меч и управлять конем. На пространстве в десять акров закружился бешеный водоворот. Мелькали шлемы, сверкая, поднимались и опускались мечи, булавы, палицы, взметывались руки, колыхались перья, поворачивались щиты, а боевой клич, вырывавшийся из тысяч глоток, и лязг металла о металл сливались в рев и грохот океанского прибоя, разбивающегося о скалы. Сражающиеся то продвигались вперед по долине, то откатывались назад, едва одна из сторон собиралась с силами для нового натиска. Сомкнутые в смертоносных объятиях, доблестные англичане и отважные французы с железными сердцами и пламенными душами напрягали все силы, чтобы одержать верх.
Сэр Уолтер Вудленд, шпоря вороного коня, ринулся в бушующий водоворот, тщась добраться до серебряно-голубого знамени короля Иоанна. Прямо за ним плотным клином скакали принц, Чандос, Найджел, сэр Реджинальд Кобем, Одли с четырьмя своими прославленными оруженосцами и еще десятка два лучших рыцарей Англии и Гаскони. Держась сплоченно, они мощными ударами и натиском могучих коней подавляли всякое сопротивление, но все равно пробивались вперед очень медленно: на них опять и опять накатывались волны свежих французских конников и, разделяясь перед ними, тотчас смыкались у них за спиной. Иногда удар очередной волны отбрасывал их назад, иногда они отвоевывали несколько шагов, а иногда еле удерживались на месте и тем не менее с каждой минутой оказывались все ближе и ближе к серебрянб-голубому знамени, реявшему в самом центре французского войска. В их ряды, хрипя от напряжения, вломился десяток французских рыцарей, замысливших вырвать знамя у сэра Уолтера Вудленда, но его с одного бока охраняли Чандос и Найджел, а с другого — Одли и его оруженосцы, и никто из успевших наложить руку на древко не уцелел.
Внезапно откуда-то спереди донесся нарастающий лязг, тут же утонувший в оглушительном крике: «Святой Георгий за Гиень!» Это на фланге ринулся в атаку капталь де Буш. «Святой Георгий за Англию!» — восклицали атакующие в центре, и всякий раз до них доносился ответный клич, сначала издалека, потом ближе и ближе. Ряды перед ними раздвинулись — французы подались! Невысокий рыцарь с золотым свитком на щите бросился на принца и пал под ударом его булавы. Это был герцог Афинский, коннетабль Франции, но ни у кого не нашлось мгновения заметить его гибель, и бой продолжался прямо над трупом. Французские ряды расстроились еще больше. Многие воины поворачивали коней, обескураженные зловещим кличем у себя за спиной. Небольшой английский клин убыстрил движение, а в самом его острие по-прежнему были принц, Чандос и Найджел. Внезапно в разрыве между редеющих отрядов возник могучий рыцарь в черных доспехах с золотым знаменем в руке. Он бросил свою бесценную ношу оруженосцу, который тут же ускакал с ней. Англичане с воплями кинулись за орифламмой, точно свора гончих, уже готовая впиться в задние ноги оленя. Но путь им преградил черный рыцарь.
— Шарньи, Шарньи, à la recusse![28] — крикнул он громовым голосом, и под его боевым топором пал сэр Реджинальд Кобем, а затем гасконец де Клиссон.
Сокрушительный удар опрокинул Найджела на круп Бурелета, но в тот же миг быстрое лезвие Чандоса пробило горловое прикрытие и пронзило шею француза. Так погиб Жоффруа де Шарньи, но орифламма была спасена.
Найджел был оглушен, однако удержался в седле, и Бурелет, чья золотая шерсть была вся забрызгана кровью, понес его дальше рядом с остальными. Французские конники обратились в бегство, но чуть дальше, точно скала среди бушующего потока, грозная группа рыцарей сохраняла строй, нанося удары по всем, кто пытался ворваться в их ряды, будь то враги или свои. Орифламма исчезла, как и серебряно-голубое знамя, но эти люди были полны решимости стоять насмерть. Бой с ними сулил высокую честь. И принц с теми, кто все время был рядом с ним, повернул к столь завидным противникам, остальные же английские всадники бросились преследовать беглецов в надежде на богатые выкупы. Но более благородные души — Одли, Чандос и другие — сочли бы низким думать о золоте, пока еще было с кем биться и заслужить честь. Яростной была стремительная атака, отчаянным и долгим — сопротивление.
Найджел, по-прежнему державшийся возле Чандоса, увидел прямо перед собой невысокого широкоплечего рыцаря на крепком белом жеребчике, но Бурелет не дал им обменяться ударами, а вздыбившись, ударом передних копыт свалил более легкого коня на землю. Падая, всадник ухватился за локоть Найджела, стащил его с седла, и они вместе покатились по траве между конскими ногами. Английский оруженосец оказался наверху, и его короткий меч блеснул перед забралом задыхающегося француза.
— Je me rends! Je me rends![29] — прохрипел тот.
На миг мысль о богатом выкупе заворожила Найджела — благородный белый скакун и доспехи с золотой насечкой сулили целое состояние счастливчику, который возьмет в плен их владельца. Но нет, пусть выкуп достается другим! Битва еще не кончена, так неужели он покинет принца и своего благородного господина ради собственной выгоды? Как уведет он пленника с поля брани, если честь призывает его туда, где еще кипит бой? Он не без труда встал на ноги, ухватился за гриву Бурелета и вскочил в седло.
Мгновение спустя он присоединился к Чандосу, и они вместе пробились сквозь последние ряды мужественных воинов, которые сражались до последнего. Позади них, словно скошенные травы, лежали мертвецы и раненые, впереди вся равнина была усеяна спасающимися французами и их преследователями.
Принц остановил коня и поднял забрало, а остальные сгрудились вокруг, торжествующе размахивая оружием и крича.
— Что скажешь, Джон? — с улыбкой воскликнул принц, сняв железную рукавицу и утирая ладонью покрытое испариной лицо. — Как ты?
— Цел и невредим, милорд, только руку немного покалечил да получил укол копья в плечо. Но как ты, государь? Ты не ранен?
— Право, Джон, что могло со мной случиться, раз я ехал между тобой и Одли? Но боюсь, сэр Джеймс тяжко ранен.
Доблестный лорд Одли лежал на земле, и из всех щелей его доспехов сочилась кровь. Его смелые оруженосцы — Даттон из Даттона, Делвс из Доддингтона, Фаулхерст из Кру и Хокстон из Уэйнхилла, — сами раненные и измученные, думали только о том, как помочь своему господину, и, сияв с него шлем, обтирали мокрой тряпицей его белое окровавленное лицо.
Он устремил на принца горящие глаза.
— Благодарю тебя, государь, за то, что ты удостоил вниманием такого жалкого рыцаря, как я! — промолвил он слабым голосом.
Принц спешился и наклонился к нему.
— Я не могу воздать тебе достаточно чести, Джеймс, — сказал он, — ибо своей отвагой ты нынче заслужил больше славы, чем все мы, и подвигами доказал, какой ты несравненный рыцарь.
— Милорд, — прошептал раненый, — в твоей воле говорить так, но если бы сие было правдой!
— Джеймс, — продолжал принц, — я беру тебя в свою свиту и назначаю тебе годовой доход в пятьсот марок с моих английских поместий.
— Государь, — ответил рыцарь, — да сделает меня Господь достойным чести, которую ты мне оказываешь. Твоим рыцарем я останусь до гроба, деньги же дозволь мне поделить между моими четырьмя оруженосцами, ведь если я что-то и совершил нынче, то лишь благодаря им… — Тут его голова упала на траву, и он застыл в неподвижности.
— Принесите воды! — приказал принц. — Пусть его осмотрит королевский лекарь. Лучше мне лишиться целого отряда, чем доброго сора Джеймса. Ха, Чандос, кто это?
Поперек тропы лежал рыцарь, чей шлем был вбит ему в плечи. На сюрко и щите у него алел грифон.
— Роберт де Дюра, соглядатай, — ответил Чандос.
— Его счастье, что смерть сама нашла его, — гневно молвил принц. — Хьюберт, пусть четверо лучников поднимут его на щит, отнесут в монастырь и положат у ног кардинала. Ты скажешь, что это привет, который я ему посылаю. Утверди мой флаг вон над тем высоким кустом, Уолтер, и пусть там поставят мою палатку, чтобы друзья знали, где меня искать.
Преследуемые и преследователи умчались уже очень далеко, и поле битвы совсем опустело, если не считать возвращающихся усталых всадников, перед которыми, спотыкаясь, брели их пленники. Лучники рассеялись по всей равнине, роясь в седельных сумках павших и снимая с них доспехи или разыскивая свои стрелы.
Внезапно, когда принц уже направился к кусту, где приказал поставить свою палатку, у него за спиной послышались сердитые голоса, и к нему устремилась группа рыцарей и оруженосцев, которые во всю глотку пререкались, поносили друг друга и сыпали проклятиями по-английски и по-французски. В середине этой компании прихрамывал дородный невысокий человек в доспехах с золотой насечкой. Видимо, он и был яблоком раздора — то один из спорящих хватал его за руку и тянул к себе, то другой, словно они намеревались разорвать его на части.
— Полегче, полегче, благородные господа, не ссорьтесь, прошу вас! — повторял он умоляющим голосом. — Хватит на всех, и вам незачем обходиться со мной столь неучтиво.
Но свара разгоралась все сильнее, сверкнули извлеченные из ножен мечи, и спорящие обменивались разъяренными взглядами. Глаза принца обратились на низенького пленника, и он даже попятился с возгласом изумления.
— Король Иоанн! — вскричал он. Вокруг него раздались ликующие клики.
— Король Франции! Король Франции взят в плен! — повторяли рыцари, вне себя от восторга.
— Нет, нет, благородные господа! Умерьте свою радость. Ни единого слова, которое удручило бы его душу! — И, подбежав к французскому королю, принц приветственно сжал обе руки его.
— Добро пожаловать, государь! — воскликнул он. — Поистине, для нас великое счастье, что столь доблестный рыцарь снизошел погостить у нас, раз уж так решила судьба. Эй, вина! Подайте вина королю!
Однако Иоанн был красен от гнева. Шлем с него сорвали без всяких церемоний, и на щеке запеклась кровь. Вокруг шумно толпились те, кто привел его сюда, не спуская с него алчущих глаз, словно охотничьи псы, которых оттащили от добычи. Среди них были гасконцы и англичане, рыцари, оруженосцы и лучники, и все они отталкивали друг друга, стремясь встать поближе к нему.
— Прошу тебя, благородный принц, прогони этих грубых мужланов, — сказал король Иоанн. — Право, они меня совсем замучили. Клянусь святым Денисом, мне чуть не оторвали руку!
— Так чего же вы хотите? — осведомился принц, гневно оборачиваясь к расшумевшейся толпе.
— Мы взяли его в плен, пресветлый принц! Он наш! — крикнули в ответ десятка два голосов.
Сбившись в кучу, спорящие рычали друг на дружку, точно волки:
— Это был я, государь!
— Нет, я!
— Врешь, негодяй! Это был я!
Свирепые глаза метали молнии, окровавленные руки тянулись к мечам.
— Нет, сие должно быть решено немедля! — сказал принц. — Молю тебя, пресветлый государь, немного терпения. Ибо злоба будет расти, если не рассудить их без промедления. Кто этот высокий рыцарь?
— Дени де Морбекю, милорд, рыцарь из Сент-Омера, французский изгнанник, у нас на службе.
— Припоминаю. Так что же, мессир Дени? Что скажешь ты об этом деле?
— Он сдался мне, пресветлый принц. В свалке его сбросили с коня, я увидел и схватил его. Сказал ему, что я рыцарь из Артуа, и он отдал мне свою перчатку. Вот она!
— Он правду говорит, пресветлый принц! Чистую правду! — наперебой закричали французы.
— Нет, государь, не суди поспешно! — крикнул английский оруженосец, проталкиваясь вперед. — Он был у меня в руках, и он мой пленник! А с этим заговорил, потому что по его речи узнал своего земляка. Но в плен его взял я, и сто человек тому свидетели!
— Он правду говорит, пресветлый принц! Мы своими глазами все видели, так оно и было! — хором завопили англичане.
Между англичанами и французскими союзниками все время шли непрекращающиеся свары, и принц понимал, как легко эта искра может вызвать пожар, угасить который будет не так-то просто. Огонь следовало затоптать, пока он не разгорелся.
— Пресветлый государь, — сказал он королю, — я вновь должен молить тебя о терпении. Твое слово и только твое может открыть нам истину. Кому ты милостиво соизволил вручить свою царственную особу?
Король Иоанн оторвался от кувшина, который тем временем был ему подан, и вытер губы с легкой улыбкой на румяном лице.
— Не этому англичанину, — сказал он, и гасконцы разразились радостными воплями. — Но и не этому подлому французу, — добавил он. — Сдался я не им.
Воцарилась изумленная тишина.
— Так кому же, государь?
Король неторопливо посмотрел вокруг.
— Светло-рыжый скакун, — сказал он. — Сущий дьявол! Моего бедного коня он свалил, точно шар — кеглю. О его хозяине я знаю только, что у него были красные розы на серебряном поле. А! Клянусь святым Денисом, вот же он! И вот его трижды проклятый конь!
Двигаясь точно во сне, чувствуя, что голова у него идет кругом, Найджел очутился в кольце рассерженных воинов. Принц положил ему руку на плечо.
— Так это же петушок с тилфордского моста, — сказал он. — Клянусь спасением души моего отца, я всегда говорил, что ты многого добьешься! Так король твой пленник?
— Нет, пресветлый принц.
— Но ты слышал, как он сказал, что сдается тебе?
— Да, государь. Но я не знал, что он король. Мой господин лорд Чандос еще сражался, и я поспешил к нему.
— А короля оставил лежать. Значит, сдача в плен завершена не была, и, по законам войны, выкуп получит Дени де Морбекю, если он сказал правду.
— Да, — ответил король. — Вторым был он.
— Тогда выкуп твой, Дени. Но клянусь спасением души моего отца, сам я всем богатствам Франции предпочел бы честь, которую заслужил этот оруженосец.
Слушая такие слова, произносимые в присутствии благороднейших рыцарей, Найджел почувствовал, как сильно вдруг забилось его сердце, и опустился перед принцем на одно колено.
— Пресветлый государь, как я могу отблагодарить тебя? — промолвил он. — Твои слова поистине дороже любого выкупа!
— Встань же, — сказал с улыбкой принц и опустил свой меч плашмя на его плечо. — Англия потеряла смелого оруженосца, но обрела доблестного рыцаря! Прошу тебя, не медли! Встань, сэр Найджел!
Глава XXVII Как третий вестник явился в Косфорд
Прошло два месяца, и длинные склоны Хайндхеда порыжели от засохшего папоротника — зябнущая земля оделась мохнатой бурой шкурой. Свистя и завывая, буйный ноябрьский ветер проносится над холмами, заламывает ветви косфордских буков и стучит грубыми оконными рамами. Толстый старый Рыцарь Дупплина, ставший еще толще, сидит, как и прежде, во главе своего стола, но обрамленное белой бородой лицо выглядит краснее прежнего. Перед ним стоит оловянный поднос со всякой снедью и кружка, пенящаяся элем. По его правую руку сидит леди Мери, чье смуглое, неяркое царственное лицо несет печать долгих лет тягостного ожидания, но оно исполнено того достоинства и кроткого света, которые дарят только печаль и умение скрывать ее. Слева сидит Метью, старый священник. Золотоволосая красавица давным-давно покинула Косфорд ради Фенхерста, и молодая прелестная леди Эдит Брокас, признанная первая красавица Сассекса, цветет солнечными улыбками и весельем, хотя изредка, быть может, ее улыбки и угасают, когда на мгновение ей вспоминается страшная ночь, когда в последнюю минуту ее вырвали из жестоких когтей гнусного шалфордского коршуна.
Новый порыв ветра швырнул дождевые струи в окно за спиной старого рыцаря, и он поднял голову.
— Клянусь святым Губертом, ну и непогода, — промолвил он. — А я-то думал завтра напустить сокола на цаплю у запруды или на крякву возле ручья. Мери, как там Катерина, моя маленькая сапсанка?
— Крыло я вправила, батюшка, и привела в порядок перья, но боюсь, ранее Рождества она не полетит.
— Прискорбно слышать, — заметил сэр Джон, — ибо я не видывал птицы лучше и бесстрашнее. В воскресенье две недели сровняется, отче, как цапля перебила ей крыло сильным клювом, и Мери ее лечит.
— Уповаю, сын мой, что в день Господень ты побывал на мессе, прежде чем предаться суетной забаве, — ответил отец Метыо.
— Ну-ну! — воскликнул со смехом старый рыцарь. — Или мне исповедоваться прямо за ужином? Я истовее молюсь благому Богу среди лесов и лугов, его творений, чем в творении рук человеческих из камня и дерева. А! Меня же сокольник Гастона де Фуа научил заговору для раненого сокола! Как бишь он говорил? «Лев от колена Иудина, корень Давидов победил!» Надо повторить это три раза, обходя жердочку с соколом. Старик священник покачал головой.
— Нет-нет, такие заговоры — ухищрения дьявола, — сказал он. — Святая церковь их отвергает, как вредные и греховные. Но как продвигается твоя вышивка, леди Мери? В прошлый раз, когда я отдыхал под этим гостеприимным кровом, ты уже вышила пятью цветами половину повести о Тесее и Ариадне.
— Вышита по-прежнему половина, святой отец.
— Как же так, дочь моя? Столь много у тебя разных забот?
— Нет, святой отец, в голове у нее совсем другое, — вмешался сэр Джон. — Сидит с иглой в руке, а мыслями от Косфорда далече! Как принц одержал победу…
— Батюшка, прошу тебя…
— Э-эй, Мери! Кто меня слышит, кроме твоего же исповедника? Вот я и говорю: как принц одержал победу и мы узнали, какую честь заслужил Найджел Лоринг, так ее точно сглазили. Сидит, как… ну, как вот ты сейчас ее видишь!
Мери вдруг встрепенулась и устремила сосредоточенный взгляд на темное, заливаемое дождем окно. Священнику на миг почудилось, что лицо ее вырезано из слоновой кости — таким неподвижным и бледным оно стало. Даже губы побелели.
— Что с тобой, дочь моя? Что ты увидела?
— Ничего, святой отец.
— Так почему же ты в таком волнении?
— Я слышу, святой отец.
— Что слышишь, дочь моя?
— Лошадиный топот. По дороге скачут всадники. Старый рыцарь расхохотался.
— Вот так все время, отче! Каждый день по дороге проезжают мимо десятки всадников, но чуть она заслышит стук копыт, сердечко у нее сразу замирает. Всегда моя Мери была такая сильная и спокойная! А теперь при каждом шорохе ее душа трепещет… Нет, дочка, нет, прошу тебя!
Она приподнялась, стискивая руки и не отводя темных взволнованных глаз от окна.
— Я слышу их, батюшка! Сквозь вой ветра и шум дождя я их слышу! Да, да, они сворачивают с большой дороги… уже свернули. Господи, они у дверей!
— Клянусь святым Губертом, девочка не ошиблась! — вскричал старый сэр Джон, стукнув кулаком по столу. — Эй, слуги, быстрее во двор! Поставьте-ка на очаге еще вина согреться. В ворота стучатся путники, а в такую ночь и собаку стыдно оставить снаружи лишнюю минуту. Пошевеливайся, Хеннекин, кому говорю! Не то моя палка прогуляется у тебя по спине.
Теперь уже все ясно слышали, как бьют копытами лошади во дворе. Мери в смятении вышла из-за стола, к двери приблизились быстрые шаги, она распахнулась, и на пороге остановился Найджел. Его улыбающееся лицо блестело дождевыми каплями, щеки раскраснелись от ветра, голубые глаза сияли нежностью и любовью. Что-то перехватило ей горло, пламя факелов вдруг затанцевало, но при мысли, что другие заглянут в святая святых ее души, на помощь ей пришла твердая воля. Женщинам присущ героизм, недоступный мужчинам, как бы храбры они ни были. Только ее глаза сказали ему все, когда она протянула ему руку.
— Добро пожаловать, Найджел! — промолвила она. Он склонился и поцеловал эту руку.
— Святая Екатерина помогла мне вернуться домой, — сказал он.
Каким веселым был этот ужин в косфордском господском доме! Найджел сидел между благодушным старым рыцарем и леди Мери во главе стола, а у нижнего конца Сэмкин Эйлуорд, втиснувшись между двумя служанками, то смешил, то пугал своих соседок рассказами о войне во Франции. Найджел должен был приподнять каблуки своих сапог из кожи лани, чтобы показать маленькие золотые шпоры. Пока он рассказывал обо всем, что с ним произошло, старый рыцарь то и дело хлопал его по плечу, Мери сжимала в ладонях его сильную правую руку, а добрый старик священник, улыбаясь, благословлял их обоих. Найджел вынул из сумки на поясе тонкое золотое кольцо, засверкавшее в свете факелов.
— Ты сказал, что завтра должен отправиться в путь, святой отец? — спросил он у священника.
— Да, сын мой, меня ждут.
— Но ты можешь помедлить до конца утра?
— Если я отправлюсь в путь после полудня, то не опоздаю.
— За утро ведь можно сделать очень много! — Найджел посмотрел на Мери, а она покраснела и улыбнулась. — Клянусь святым Павлом, я и так уже ждал слишком долго!
— Ей-ей, и я тоже не долго был женихом твоей матери, Мери! — воскликнул, посмеиваясь, старый рыцарь. — Женихи в былые дни не мешкали понапрасну. Завтра вторник, а вторник — день легкий. Жаль, что добрая леди Эрминтруда более не с нами и не увидит свадьбы! Старая гончая нагоняет нас, стариков, одного за другим, сам я слышу ее лай уже совсем близко и радуюсь, что перед концом успею назвать тебя сыном. Дай мне твою руку, Мери, а ты свою, Найджел. Примите же благословение старика! Да хранит вас обоих Бог, да ниспошлет он вам все, чего вы заслуживаете, ибо поистине во всей нашей прекрасной стране не найдется жениха благородней и невесты, более достойной стать его супругой.
Так расстанемся же с ними теперь, когда их сердца полны светлой радости, а перед их молодыми взорами простирается золотое будущее, полное счастья и надежд. Ах, мечты, рожденные зеленой весной! Увы, как часто они чахнут, увядают, опадают и истлевают по сторонам жизненной дороги! Но на этот раз по Божьему соизволению все произошло иначе — они расцвели пышным цветом, становились все прекраснее, все чудеснее, и весь широкий мир мог дивиться их красоте.
В другой книге было рассказано, как имя Найджела с годами обретало все большую славу{45}, а Мери всегда оставалась достойной его, и они поддерживали друг друга, поднимаясь все выше. Во многих странах добывал себе Найджел славу и честь, и всякий раз, возвращаясь изнуренным в свой дом, он черпал у той, кто была украшением этого дома, новые силы, загорался новым огнем и вновь стремился к подвигам. Много лет они жили в Туинемском замке, любимые и почитаемые всеми. А затем в свой срок вернулись в тилфордский господский дом и провели счастливую здоровую старость среди тех вересковых холмов, где прошла буйная юность Найджела до того, как война стала его ремеслом. Туда же вернулся и Эйлуорд, когда расстался с «Пестрым кречетом», где долгие годы продавал эль жителям окрестных лесов.
Но годы проходят, неустанно вращается колесо древней прялки, и обрывается нить. Мудрые и добродетельные, благородные и отважные являются из мрака и удаляются во мрак — откуда, куда и почему, кто может сказать? Вот склон Хайндхеда. Папоротник все так же рыжеет в ноябре, вереск все так же пылает огнем в июле, но где теперь косфордский господский дом? Где, если не считать десятка-другого разбросанных серых камней, где величественное уэверлийское аббатство? Однако и вечно грызущее время сглодало не все. Пройдись со мной, читатель, по шумной дороге, ведущей в Гилфорд. Вон на том встающем перед нами зеленом пригорке ты видишь лишенную крыши часовню, которая все еще подставляет ветрам четыре свои стены. Это часовня святой Екатерины, где Найджел и Мери обменялись клятвами. Внизу все также вьется река, а за ней ты видишь темные леса Чантри, тянущиеся до голой вершины, на которой стоит совсем целая, даже не лишившаяся крыши часовня святого Мученика, где два товарища отразили нападение горбатого владельца Шалфорда. А вон там, на склонах меловой гряды, видны следы дороги, по которой они отправились на войну. А теперь повернем на север вот по этой извилистой тропе. Тут все осталось таким же, каким было в дни Найджела. Вот комптонская церковь. Пройди под древней выщербленной аркой ее дверей. Перед ступенями древнего алтаря без надписей, без статуй покоится прах Найджела и Мери. А рядом — прах их дочери Мод и Аллейна Эриксона, чьей супругой она была. Возле спят вечным сном их дети и дети их детей. Здесь же на церковном кладбище маленький холмик в тени старого вяза отмечает место, где Сэмкин Эйлуорд вернулся в добрую землю, давшую ему жизнь.
Тихо лежат опавшие листья. Но они, и такие, как они, вечно питают огромный старый ствол Англии, который вновь и вновь сбрасывает листву и одевается свежей, такой же прекрасной, как прошлогодняя. Тело может пребывать в истлевающем гробу или под осыпающимися сводами склепа, но память о благородно прожитой жизни, о доблести и правде не умирает, но продолжает жить в людских сердцах. Нас ждет наш собственный труд, и все же мы прибавим себе сил и укрепим нашу веру, если на час оторвемся от дневных забот и оглянемся назад на женщин, которые были кротки и тверды душой, и на мужчин, которые любили честь больше жизни, когда выступали на той же зеленой сцене Англии, на которой недолгие годы играем свои скромные роли и мы.
Примечания:
1
15 июля.
(обратно)2
1 августа, 15 августа, 29 сентября.
(обратно)3
11 ноября.
(обратно)4
Мир вам (лат.).
(обратно)5
Тилфордский дуб (лат.).
(обратно)6
Согласно с законом… и между мужами (лат.).
(обратно)7
Извините! Извините, друзья мои! (франц.)
(обратно)8
Черт побери (франц.).
(обратно)9
Друг мой (франц.).
(обратно)10
Вовремя (франц.).
(обратно)11
Всем сеньорам, рыцарям и оруженосцам! (франц.)
(обратно)12
В расцвете жизни (лат.).
(обратно)13
Благословен Господь Бог мой, сотворивший, руку мою для битв и пальцы мои для войны.
(обратно)14
Делай, что должно, что бы ни случилось, — вот закон рыцаря (франц.).
(обратно)15
«Сказание о деяниях сэра Найджела» (франц.).
(обратно)16
Черт тебя побери (франц.).
(обратно)17
Приятель (франц.).
(обратно)18
«Две дочки Пьера» (франц.).
(обратно)19
Господи! (франц.)
(обратно)20
Черный дьявол! (франц.).
(обратно)21
Ко мне, англичанин, ко мне! (франц.)
(обратно)22
Проклятие! (франц.)
(обратно)23
Благослови! (лат.) — Название предобеденной католической молитвы.
(обратно)24
Люблю того, кто любит меня (франц.).
(обратно)25
Вперед! (франц.)
(обратно)26
Прекратите! Прекратите! Отойдите! (франц.)
(обратно)27
Трус (франц.).
(обратно)28
На выручку! (франц.)
(обратно)29
Я сдаюсь! Я сдаюсь! (франц.)
(обратно)Комментарии (Кирилл Андерсон):
1
Черная Смерть расчистила путь для великого восстания тридцать лет спустя, которое сделало английского крестьянина самым свободным… — Речь идет об эпидемии чумы, поразившей Англию в 1348–1349 гг., и, скорее всего, о восстании под водительством Уота Тайлера (1381), самом крупном из всех восстаний той поры. Хотя восстание и не привело к освобождению крестьян от феодальной зависимости, все же оно несколько ослабило ее.
(обратно)2
Донжон — отдельно стоящая главная башня феодального замка, круглая или четырехугольная, последнее убежище защитников замка.
(обратно)3
Нормандская знать. — После покорения в 1066 г. Англии нормандцами, предводительствуемыми Вильгельмом Завоевателем, англосаксы, обитавшие на острове, лишились части своих земель и свобод. Поэтому отношения между ними и пришельцами-нормандцами долгое время оставались очень напряженными.
(обратно)4
Цистерианские монахи — то есть монахи, принадлежавшие к ордену цистерианцев. Этот орден называли еще бернардинским, в честь святого Бернарда Клервоского, изменившего его устав в XII веке.
(обратно)5
Святые апостолы Иаков и Филип. — Апостолами называли первых учеников и последователей Иисуса Христа.
(обратно)6
Рождество Спасителя нашего. — Имеется в виду Иисус Христос, вероучитель, с именем которого связано возникновение христианской религии.
(обратно)7
Капитул — совет лиц, управлявших католическим монастырем.
(обратно)8
Скрипторий — мастерская, в которой монахи занимались переписыванием книг.
(обратно)9
Эпитимья — вид церковного наказания, налагавшегося на согрешившего.
(обратно)10
Вилланы — так в средневековой Англии называли зависимых крестьян.
(обратно)11
Неуплата щитовых денег — в XII–XIV вв. подать, которую вассал обязан был уплатить взамен личной военной службы у сеньора.
(обратно)12
Сквайр — так в Англии именовали дворян-землевладельцев.
(обратно)13
Пятивиргатное поле. — Виргат — старинная мера площади, равная 30 акрам.
(обратно)14
Серебряные вотивные сердечки. — Вотивными называли предметы или их уменьшенные изображения, которые в древности приносили в храм в качестве подношения Богу.
(обратно)15
Реликварий — ящичек или ларец, в котором хранились реликвии, то есть особо почитаемые священные предметы.
(обратно)16
Рака с костями святого Иакова. — Рака — ларец или гроб, в котором хранились останки святого.
(обратно)17
Саладин — правильнее Салах-ад-Дин (1138–1193), египетский султан, выдающийся полководец, успешно сражавшийся с крестоносцами.
(обратно)18
Тонзура. — Согласно церковным правилам, католические священники и монахи выбривали на макушке волосы кругом. Это выбритое место и называлось тонзурой.
(обратно)19
Эдуард III (1312–1377) король Англии из династии Плантагенетов, правил с 1327 г. Будучи внуком французского короля Филиппа IV он претендовал на престол Франции. Это и послужило поводом к началу Столетней войны (1337–1453), во время которой разворачивается действие романа.
(обратно)20
Менестрель — так называли поэтов, бывших одновременно и музыкантами, которые воспевали подвиги рыцарей и красоту их дам.
(обратно)21
…не столь спартанского века… — Воинственные жители Спарты, древнего государства, находившегося на территории Греции, отличались крайней строгостью нравов, запрещавших любую роскошь и изнеженность. Со временем слово «спартанский» стало нарицательным.
(обратно)22
Нормандец Вильгельм — Вильгельм I Завоеватель (ок. 1027–1087), герцог Нормандский (с 1035 г.). Высадившись в 1066 г. со своими войсками в Англии, он разбил армию англо-саксонского короля Гарольда II и захватил престол страны.
(обратно)23
Жандарм — от французского слова gens d'armes (буквально: люди оружия). В XIII XVII вв. так назывался один из видов тяжелой артиллерии.
(обратно)24
Святой Павел — апостол Павел, один из первых учеников Христа, немало странствовал, распространяя веру своего учителя.
(обратно)25
Святой Томас Кентерберийский — Томас Бекет (1118–1170) английский священник и государственный деятель. С 1155 г. он занимал пост канцлера, то есть премьер-министра Англии, а в 1162 г. стал архиепископом Кентерберийским, фактически главой английской церкви. Он пытался оказать противодействие политике короля Генриха II и был убит по его приказу После смерти причислен к лику католических святых.
(обратно)26
Королевские ассизы — сессии королевских судов, разбиравших гражданские иски.
(обратно)27
…мои грамоты, крепости… — Речь идет о юридических документах.
(обратно)28
Кровавое Гастингское сражение — битва между войсками Вильгельма Завоевателя и армией Гарольда. Произошла 14 октября 1066 г. около местечка Гастингс.
(обратно)29
Паладины Карла Великого — то есть сподвижники Карла Великого (742–814), французского короля, а затем императора. Впоследствии паладинами именовали рыцарей, неукоснительно хранивших верность своему государю или даме сердца.
(обратно)30
…из вышитых золотом раскрытых коробочек дрока. — По-французски название дрока звучало «плантагенет», как и родовое имя династии Плантагенетов.
(обратно)31
Черный принц — Эдуард, принц Уэльский (1330–1376), прозванный верным принцем за цвет его доспехов, был одним из лучших английских военачальников времен Столетней войны. На его счету были победы в таких крупных сражениях, как битва при Креси (1346) и при Пуатье (1356).
(обратно)32
Святая Земля — так в средние века называли Палестину, где, согласно Библии, жил, проповедовал и был распят Иисус Христос. Освобождение Святой Земли от «неверных» (мусульман) было провозглашено целью крестовых походов. Участники крестовых походов желали завоевать Палестину, о богатстве которой в Европе ходили сказочные слухи. Всего было восемь крестовых походов.
(обратно)33
…я вел при Креси… — В битве при Креси, одном из важнейших сражений Столетней войны, победа досталась англичанам благодаря действиям их лучников.
(обратно)34
Иерусалимское королевство — было основано крестоносцами в ходе первого крестового похода (1096–1099). Пало в XIII веке под ударами арабов.
Сюзерен — верховный сеньор данной территории.
(обратно)35
Ричард Львиное Сердце — король Англии Ричард I (1157 1199), прозванный Львиным Сердцем за небывалую отвагу и немалую жестокость. Правил с 1189 года, но большую часть своего царствования провел в военных походах, в том числе в нервом крестовом походе. Погиб во время войны с французскими феодалами.
(обратно)36
Святой Людовик — Людовик IX (1214–1270), возглавил седьмой и восьмой крестовые походы.
(обратно)37
…быть бы тебе наместником святого Петра! — Наместником святого Петра именуют папу Римского, главу католической церкви.
(обратно)38
Картель — вызов на рыцарский поединок.
(обратно)39
Кимвалы — старинный многострунный музыкальный инструмент.
(обратно)40
Сенешаль — чиновник, управляющий административным округом сенешальством. Здесь начальник Гарнизона.
(обратно)41
Соломон Премудрый. — Согласно Библии, царь Соломон отличался непревзойденной мудростью.
(обратно)42
Василиск — мифическое существо из породы «нечистой силы», взгляд которого завораживает и убивает.
(обратно)43
Король Иоанн — Иоанн III Добрый (1319–1364), царствовал с 1350 г. В битве при Пуатье (1356) попал в плен к англичанам.
(обратно)44
Коннетабль — так в средневековой Франции именовался начальник королевских рыцарей, а с XIV века главнокомандующий французской армией.
(обратно)45
В другой книге было рассказано, как имя Найджела с годами обретало все большую славу… — Конан Дойл имеет в виду свой роман «Белый отряд»
(обратно)


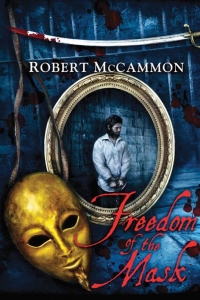

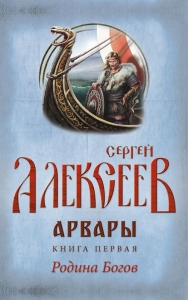

Комментарии к книге «Сэр Найджел», Артур Конан Дойль
Всего 0 комментариев