Энтони О’Нил «Империя Вечности»
«Империя вечности» — это художественное произведение, хотя каждый упоминаемый в нем персонаж реально существовал в истории и почти во всех случаях жил именно там, где указано в романе. Что же касается мотиваций, тут я позволил себе гораздо больше свободы, поэтому заранее извиняюсь перед рассерженными, душами покойных.
Добродушие и благожелательность, теплота и умение сочувствовать не могли не привлекать к нему людей; по мнению тех, кто мог оценить эти качества, сокровища пытливого и высокообразованного ума придавали ему особое обаяние.
Джон Стюарт. Воспоминание о последних годах жизни Александра Генри РиндаЛучше не жить совсем, нежели существовать на свете и покинуть его, не оставив следа.
НаполеонПролог ИЗВЕЧНАЯ ТАЙНА
В августе тысяча семьсот шестьдесят пятого года на суровом средиземноморском острове Корсика у Летиции и Карло Буонапарте родился сын, их первенец, получивший имя, которому суждено было стать одним из самых прославленных в истории.
Мальчика нарекли Наполеоном, и на следующий день он скончался.
Тридцать четыре года спустя, в полночь на двенадцатое августа тысяча семьсот девяносто девятого года наделенный атлетическим телосложением и орлиным обликом генерал Наполеон Бонапарт (третий по счету сын Карло и Летиции), с трудом прокладывая себе путь, полчаса блуждал по полузасыпанным галереям Великой пирамиды в Гизе, прежде чем отыскал царский чертог, пустую погребальную камеру в самом сердце монумента. Здесь, под покровом сверхъестественного безмолвия, его ожидал верховный жрец в багровых одеждах, пророк под маской; по прошествии времени воображение Наполеона отведет этому «красному человеку» ключевую роль, и тот превратится в средоточие всех его дерзких и горделивых замыслов.
Долгие часы спустя молодой генерал, покрытый испариной и запорошенный пылью веков, с бледным, но торжествующим лицом вышел нетвердой походкой из пирамиды и наотрез отказался обсуждать произошедшее там, в ее чреве. Офицеры едва узнали его по возвращении в Каир. Несколько дней Наполеон имел задумчивый вид, казался рассеянным, путался в мелочах, то и дело бормотал себе что-то под нос, поминая веления рока и Апокалипсис.
Однако в конце концов он собрался с мыслями, чтобы тайно покинуть город и в срочном порядке отплыть на фрегате во Францию, где неожиданно занял место первого консула, а вскоре сделался императором.
Шестнадцать лет пролетели как один день. Сломленный, отрекшийся от власти император, погрузневший, словно португальский монах, поднял медную подзорную трубу и, стоя на палубе военного судна «Нортумберленд», обвел взглядом неровные очертания Святой Елены — острова, слывущего одним из самых удаленных от Франции, во времена Восточно-Индийской кампании сыгравшего роль южноатлантического отстойника. Взору предстали пики вулканов, пронзившие облака; базальтовые склоны, ощетинившиеся жерлами артиллерийских орудий; призрачная деревня, некое подобие замка, вершина пирамидальной горы в ярком луче солнца… Иными словами — тюрьма, в которой Наполеону суждено было коротать остаток своих дней и которую, подобно Эльбе и даже (чуть ранее) Корсике, он увлек за собой в легенду, ибо такова всевластная мощь мысленных ассоциаций. Бывший император медленно опустил трубу, и стоявшие рядом расслышали, как он пробормотал:
— J'aurais mieux fait de rester en Égypte.
«Лучше бы я остался в Египте».
Шестью годами позже, четырнадцатого июля тысяча восемьсот двадцать первого года, во второй половине знойного дня один весьма необычный седоволосый человек, изнывающий от жары на диване у себя в доме на набережной Вольтера в Париже, вдруг заметил, как в окно залетела исключительно крупная пчела и, выписывая зигзаги, направилась к нему. Старик изумленно уставился на нее. Пчела зависла в воздухе. Мужчина вздохнул. Насекомое зажужжало, наводя на мысли о Наполеоне. Пчела, да не простая, а фараонова пчела — символ наполеоновской империи, — а как, в сущности, мало ей нужно.
Да, но что ее сюда привлекло? Запах мужчины ни в коей мере не заслуживал определения «сладкий». Может быть, насекомое хотело ему что-то сказать? Или же, подобно воспоминаниям, явилось только для того, чтобы жалить?
«Быть посему». Старик распахнул свой robe de chambre,[1] приглашая пчелу заняться делом. Но та, казалось, не знала, как ей поступить дальше. Мужчина буквально увидел озабоченные морщинки на ее лбу. Он замахал руками, затряс пальцами, чтобы раззадорить незваную гостью. Та поначалу отпрянула к окну, потом осторожно вернулась. Старик попытался ее пришлепнуть. Пчела увернулась, но ей даже в голову не пришло разозлиться.
А если поймать на лету?.. Насекомое успело проскочить между пальцами. Старик замахнулся кулаком; пчела улетела повыше. Он грозно зашипел; она прикинулась, будто не понимает намеков.
«Да что же такое с нынешними пчелами, — подумал старик. — Откуда им было набраться такого великодушия?»
И он презрительно отмахнулся от надоевшей твари; как раз в этот миг она шла на снижение и по нечаянности была задета костяшкой пальца. Лишившись чувств, пчела отлетела прочь, глухо ударилась о другую стену рядом с пейзажем Брейгеля Старшего и камнем упала на пол за секретером красного дерева.
Старик приподнялся на локтях, ища пчелу глазами, но ничего не увидел. Застигнутый странным ощущением вины, однако не в силах что-либо изменить, он печально вздохнул и решил, что, в любом случае, наступило самое время вставать.
Но не успели босые ноги коснуться пола и нащупать бархатные тапочки, как с лестницы донеслись торопливые шаги. В дверь постучали.
Старик поспешил забраться в постель с ногами и подпоясался, устыдившись не столько своей наготы, сколько неприглядности собственного вида.
— Входите, — произнес он.
Юный слуга-сардинец отворил дверь в комнату с неожиданно скорбным выражением на лице и пару мгновений, казалось, не знал, как начать. Наконец он выпалил:
— Смерть наступила, господин.
Несколько секунд старик на полном серьезе думал, что речь идет о пчеле: неужели удар о стену был настолько громок? Потом нагрянуло полное осознание, и вместе с тем — поразительно — все чувства куда-то улетучились.
— Когда?
— Десять недель тому назад, господин. На острове.
Старик припомнил, как десять недель тому назад промаялся бессонницей несколько ночей кряду, терзаемый непонятно откуда взявшейся мыслью о том, что мир навсегда переменился.
— А что причиной?
Слуга помедлил.
— По слухам, рак. Или отрава.
— Отрава?
— Так говорят.
Старик задумчиво кивнул.
— А его последние слова… О них что-нибудь известно?
Слуга сглотнул.
— France, — проговорил он. — Armée… tête d'armée… Joséphine.
Старик закрыл глаза и отдался во власть воспоминаний. Франция, армия, командующий, Жозефина…
«Ну конечно же. Конечно. Перед смертью императору все стало ясно. Уже на краю бездонной пропасти он наконец осознал ужасную истину».
— Принести вам выпить, господин? — спросил слуга. — Может, что-нибудь из погреба?
— Нет. — Старик с удовольствием открыл глаза и погладил белоснежные бакенбарды. — Лучше растопи-ка, пожалуйста, камин в кабинете.
— Простите, господин?
— Ты слышал, — неожиданно жестко отрезал тот. — Огня. И пожарче.
— Будет… будет сделано, господин, — ответил слуга и удалился с поклоном.
Старик, которому оставалось жить на свете не более четырех лет, одиноко лежал в постели, с болью в сердце размышляя о Наполеоне, Египте, братстве Вечности, а еще — о собственной мрачной роли в этой саге, о причастности к извечной тайне…
Потом, тяжело вздыхая, заставил себя подняться на ноги, переместился к окну, чтобы украдкой выглянуть сквозь занавески из легкой тафты (соглядатай — судя по виду, один из людей Гамильтона — оставался на посту, прятался на берегу среди бочек с соленьями), а затем принялся бродить по комнате, открывая потайные отделения в индийских шкатулках, письменных приборах, изготовленных на заказ, и комодах из красного дерева; стараясь ничего не пропустить, он собрал внушительную пачку писем, часть из которых была написана на почтовой бумаге и скреплена императорской печатью, другая часть — на газетных обрывках, а кое-что — на жилетной подкладке и скомканных носовых платках. Все эти документы секретным образом вывезли со Святой Елены, каждый из них принадлежал перу Наполеона Бонапарта — и посвящался Египту.
Наконец, убедившись, что ничего не забыто, Виван Денон — художник, куратор, искатель приключений и барон империи — запихнул тяжеловесную рассыпающуюся пачку в атласную наволочку и уже не столь твердой, как бывало когда-то, поступью решительно направился к лестнице.
Несколько минут спустя оглушенная пчела, пошатываясь, выползла из-под секретера, устремилась в просвет между развевающимися занавесками и полетела к Сене, над волнами которой отчего-то плыли теперь облака пепла.
Глава первая ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ И ВСЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ В ЕГИПТЕ
Не прошло и пятидесяти лет с тех пор, как Виван Денон представил миру le style egyptien.[2] Теперь любой обладающий вкусом джентльмен Британии мог, если бы захотел, прогуляться по садовой дорожке, обрамленной рядами сфинксов, постучать в дверь молоточком в форме головы Хатор,[3] увидеть на стенах прихожей изображения нильских папоротников, пройти к пылающему камину с фивейскими колоннами по бокам, налить себе чая из чайника, расписанного священными ибисами и крокодилами, раскинуть карты с пирамидами и дымящимися курильницами на рубашках и, достав из шкафа, украшенного резными свитками папирусов, томик сэра Гарднера Уилкинсона «Манеры и обычаи древних египтян», неторопливо полистать это популярнейшее издание на кушетке с изножьем в виде крокодила, а также с орнаментом из скарабеев и скорпионов.
Или же, будучи стесненным в средствах, он мог попросту сесть на омнибус, отходящий в десять пятнадцать от Чаринг-Кросс[4] до Хрустального дворца в Сиднеме к юго-востоку от Лондона, чтобы там, в северном трансепте,[5] с изумлением и трепетом созерцать исполненные в натуральную величину копии колоссов Абу-Симбела,[6] которые благосклонно, с безмятежностью бессмертных, взирали с высоты величественных престолов на свои новые владения, на исторические залы, заморские диковины и чудеса технологии, покуда в тысяча восемьсот шестьдесят шестом году не сгорели во время большого пожара, вспыхнувшего во дворце.
Пожалуй, меньше всего Александра Генри Ринда, худощавого молодого шотландца с ухоженной бородкой и страдальческим взором, занимала судьба Наполеона Бонапарта, не говоря уже о египетских редкостях; в тот день, в мае тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года, ему и в голову не приходило, что вскоре глубиной знаний по обеим темам он превзойдет всех своих современников.
Три года назад, посетив первую и частично уменьшенную инкарнацию Хрустального дворца в Гайд-парке, он был весьма обескуражен. И вот теперь, шагая с самым серьезным видом от станции вдоль незаконченной колоннады, предварявшей главный вход, чувствовал, как его начинает охватывать беспокойство: как бы от возбуждения не упустить главного, не погубить заученную речь или вообще не лишиться на время дара связно изъясняться — такое случалось при очень сильном волнении, и это была не самая страшная из его душевных и телесных слабостей: другие представляли собой настоящую угрозу для жизни (в глубине души Ринд подозревал, что не достигнет тридцатилетнего возраста, но сейчас ему некогда было размышлять о подобных вещах).
Оригинал Хрустального дворца — нечто вроде музея в стиле Гаргантюа, — возведенный для Великой выставки и посвященный совершенствованию человеческой расы благодаря упорному труду, был сооружен за каких-то семь месяцев из сборных колонн и акров граненого стекла — невиданное по тем временам достижение британской промышленности, сравнимое разве что с постройкой пирамид. Его реконструкция в Сиднеме протекала более умеренными темпами, и лишь теперь, за считаные недели до официального открытия, ощутимо набрала скорость. Ринд обошел закашлявшийся паровой двигатель, перемахнул через огромный стальной брус, обогнул дымящийся бойлер и предъявил учтивому охраннику у дверей письмо управляющего дворца — свой пропуск в сказочные чертоги.
Юноша был твердо настроен ни на что не отвлекаться. Солнечные лучи то вспыхивали, то гасли, рассеиваясь и танцуя под граненой стеклянной крышей, на перекрестьях балок, стремительно пробегая по экспонатам едва законченных выставок, по глади декоративных прудов и шеренгам горшков с пальмами. В большом трансепте, где высились трубы гигантского органа, Ринд замер перед оркестровой террасой, посмотрел на часы и, к своему удовольствию, удостоверился, что, как всегда, явился на место с безукоризненной точностью. Однако, прождав целых двадцать минут в одиночестве, под покровом бурлящих и расползающихся по небу туч, наблюдая, как истончаются и тают последние лучи, он почувствовал себя чуть ли не святотатцем и под конец утратил остатки мужества.
У входа в Византийский зал переговаривались и громко смеялись несколько человек в официальных костюмах — как пить дать высокопоставленные особы. В центре группы находился человек среднего роста, облаченный в блузу цвета индиго, рубиновый жилет и оранжево-розовый галстук. Любого другого такая одежда превратила бы в попугая, в циркового униформиста, но она смотрелась совершенно естественно на этом джентльмене с его ярко-рыжими бакенбардами, усами, похожими на языки пламени, и солнечными зайчиками на лысине, выделявшейся среди цилиндров подобно куполу мечети в Константинополе.
— Доброе утро, сэр, — смущенно обратился к нему подошедший Ринд, заметив, как от его неисправимо шотландского выговора стихли прочие голоса.
— И вам того же, — ответил человек с лысиной; его искрящиеся глаза уже заранее с неподдельным участием приветствовали впечатлительного юного шотландца.
— Прошу прощения, не подскажете ли вы, где сейчас может находиться мистер Фуллер, управляющий Хрустального дворца?
— Мистер Фуллер? Мистер Фрэнсис Фуллер?
— Ну да.
Лысый человек негромко усмехнулся.
— К сожалению, должен вам сказать, мой мальчик, что мистер Фуллер задерживается. Мы и сами ожидали его прихода, пока не получили от него сообщение.
— Задерживается? — Ринд был в полном смятении.
— Да, по всей видимости.
— Но… но у меня с ним назначена важная встреча.
— В таком случае мне остается только принести извинения от его имени. Вы только представьте, огромная партия австралийских попугаев затерялась где-то на железной дороге. Обычное осложнение из тех, что неожиданно возникают в последнюю минуту и могут нарушить даже блестяще продуманные планы.
Чувствуя на себе неприязненные взгляды, Ринд поспешил проглотить разочарование.
— Что ж, — произнес он, желая сгладить неловкость, — а вы случайно не знаете, когда мистер Фуллер вернется, хотя бы приблизительно?
— Боюсь, что нет. Однако, если я чем-то могу быть полезен в отсутствие мистера Фуллера…
— У меня к нему был разговор… э-э-э…
— Вы можете сообщить мне все, что хотели, и я передам ему при первой возможности.
— Нет-нет, спасибо, — ответил Ринд и услышал где-то вдали громовой раскат. — Я думаю, все и так обойдется.
— Бросьте, мой мальчик. — На лице собеседника отразилась искренняя озабоченность. — Вы проделали такой дальний путь из… Простите, откуда вы? Из какой части Шотландии?
— Из Сибстера, под Уиком.
— О, это далеко на севере… Немалое расстояние. Так что, прошу вас, выкладывайте.
Но Ринд, понимая, насколько сложным получится разговор, уже решил, что непременно соберется с силами для нового визита.
— Вы очень любезны, сэр; буду весьма признателен, если вы просто передадите мистеру Фуллеру, что Алекс Ринд был чрезвычайно разочарован, когда не застал его в музее, и был бы ужасно…
— Алекс Ринд? — Соломенно-желтые брови лысого человека удивленно выгнулись. — Александр Генри Ринд?
— Ну да.
— Автор… дайте-ка вспомнить… «Ранней шотландской истории и ее представителей» в «Ретроспективном обзоре»?
— Ну да, — изумился Ринд.
— И «Результатов раскопок на севере Шотландии»?
— А… ну да, это я. Но как же… Хочу сказать… — Молодой человек недоверчиво покосился на остальных. — Сэр, вы, должно быть, серьезно интересуетесь археологией, если читаете подобные тексты.
— Признаться, я и в самом деле немного увлекаюсь этой наукой.
— Тогда… Надеюсь, вы извините меня за то, что не имею… не имею чести знать…
— Прошу прощения, мой мальчик.
Собеседник протянул ему руку и уже собирался представиться, как вдруг со стороны Елизаветинского зала послышался оглушительный грохот: это рухнула гипсовая колонна. В наступившей затем тишине, покуда все глазели на повреждения, мужчина с лысиной улучил момент, чтобы выскользнуть из толпы и увлечь Ринда в сторону для более уединенной беседы.
— Сюда, — сказал он, ведя молодого человека за локоть к Историческим залам, — вот сюда. Прошу вас, выкладывайте, не стесняйтесь. Уверяю, я передам все слово в слово.
Ринд судорожно пытался вспомнить заготовленную речь.
— Ну… — только и выдавил он.
— Сразу оговорюсь: знаете, я и сам имею здесь кое-какое влияние.
— Что же, — начал Ринд, посмотрев на него благодарным взглядом. — Полагаю… полагаю, раз вы настолько хорошо знакомы с моими сочинениями, значит, должны разделять мой интерес к нашим отечественным древностям.
— Я нахожу его достойным всяческих похвал.
Собеседники миновали зал Ренессанса.
Молодой человек осмелел.
— Тогда вы не можете не согласиться, как согласился бы мистер Фуллер, окажись он на вашем месте, что археология — наш единственный источник познаний во всем, что касается белых пятен древнейшей истории.
— Я счел бы за честь назвать подобную философию своей собственной.
— …И что наш патриотический долг — спасти от уничтожения огромные исторические пласты.
— Это наш долг перед человечеством.
— Значит, вас, так же как и меня, приводит в негодование мысль о том, что подлинные археологические сокровища нашей страны гибнут при строительстве плотин и рытье дренажных канав, подвергаются разрушению, чтобы дать место рельсам и дорогам.
— Разумеется.
Позади остался зал Средневековья.
Ринда охватило волнение.
— И вы, без сомнения, в курсе, что каменные пирамидки повсеместно превращаются в столбы для ворот и печные трубы, кремневые орудия выбрасываются вместе со шлаком, а бесценные образцы керамики дробятся под конскими копытами и колесами экипажей.
— Неописуемый ужас. — Достаточно удалившись от остальных, мужчина с лысиной остановился у входа в Помпейский зал, выжидающе опираясь на свою трость.
— Раз так… — Ринд на мгновение сбился с мысли. — Раз так, вы готовы признать важность воспитания уважения к нашим национальным реликвиям, особенно среди гражданских властей и музейных попечителей… и вообще в народе?
— Ну да, наверное.
Это был первый двусмысленный ответ. Сбитый с толку молодой человек тем не менее продолжал наступать:
— И вы согласитесь, что в Хрустальном дворце довольно… что среди всех этих залов, посвященных современным чудесам и мировой истории, найдется… найдется место для выставки наших собственных, исконных реликвий?
Собеседник хранил гробовое молчание. Ринд не сдавался:
— В конце концов… если целью комитета Хрустального дворца, как, по-моему, заявлялось во всеуслышание, является не простое услаждение глаз, а сбор интеллектуального материала…
Собеседник нахмурился.
— И если вспомнить, что отсутствие национальных исторических раритетов само по себе говорит о многом… как бы…
Никакого ответа.
— Скажу вам больше, — продолжал Ринд. — Я вполне сознаю, что наши реликвии сложны для понимания в отличие от экстравагантных диковин Египта…
Тут молодой человек совершенно растерялся, увидев неодобрительное выражение лица и поджатые губы собеседника.
— Экстравагантных? Ну конечно, мой мальчик, конечно. Но вы же не станете утверждать, будто проделали весь путь из Уика только ради этих слов?
— Я убежден, — не отступал Ринд, — что точная копия пиктского жилища, к примеру, если возвести ее в нужном месте, породит не меньше восторгов и не потребует огромных затрат. Разве… разве вы не согласны?
Мужчина с лысиной помрачнел.
— О, в целом вы правы, мой мальчик. Само собой. Однако в действительности — вынужден с сожалением сказать, — в действительности я слишком хорошо представляю себе, каким будет ответ дворцовых властей, и ваше счастье, что вы не услышите его лично.
— И каким же… — Ринд сглотнул подступивший ком. — Каким же именно?
Собеседник хмыкнул.
— Выставка подобного рода заинтересует «лишь ограниченный круг зрителей». Она привлечет высоколобых академиков, а не широкие массы, готовые заплатить за билет.
Однако Ринд, ожидавший именно такого ответа от мистера Фуллера, протестующе замотал головой.
— Подумаешь! Я очень даже знаком с подобными возражениями — очень знаком, — но не могу принять их. Интересы национального образования должны стоять выше развлечений.
Мужчина с лысиной ласково улыбнулся.
— Позвольте сказать, мой мальчик, вы слишком большие надежды возлагаете на Хрустальный дворец. Оглянитесь вокруг. — Он обвел рукой ряды перекладин, обвешанных украшениями. — Что здесь, по-вашему, происходит? Вы в самом деле верите, будто дворец возвели для повышения общего культурного уровня? Это же лавка с диковинами — самая крупная в мире, и только. Здесь балаган, а не музей.
— Балаган…
— Он существует и процветает за счет обычных детских восторгов, а не ради чьего-то интеллектуального развития.
Однако молодому человеку, всю свою жизнь боровшемуся с деляческими воззрениями, разочарование только придало мужества.
— Так вы и вправду считаете, что здесь не найдется места, какого-нибудь пустого угла, куда можно втиснуть копию каменной пирамидки? Хижину? Надгробие? — Он со всей серьезностью посмотрел собеседнику в глаза. — Вы мне это хотите сказать?
Страшный раскат грома после его слов прозвучал большим восклицательным знаком.
Мужчина с лысиной усмехнулся.
— Мой мальчик, меня восхищает ваша преданность делу. Я говорю совершенно искренне. И все-таки не позволяйте эмоциям брать над вами верх.
Ринд залился краской.
Собеседник оглянулся: кое-кто из высокопоставленных до сих пор посматривал в их сторону.
— Ладно, пойдемте отсюда. Для таких бесед есть места и получше.
Проходя через Египетский зал, Ринд никак не мог отделаться от ощущения, что непременно должен был где-то видеть этого человека. Причудливая одежда, учтивые манеры и даже голос — все казалось таким… узнаваемым.
— Высота этих копий — шестьдесят пять футов, — промолвил мужчина с лысиной, указывая на колоссов Абу-Симбела. — Такая же, как у оригиналов. Да и точность воспроизведения впечатляет. Скажите мне, что вы видите, глядя на это чудо?
Ринд еле заставил себя покоситься на двух великанов-фараонов.
— Я вижу лишь каторжный труд.
Собеседник рассмеялся.
— Могу вас уверить, создатели этих копий получили солидное вознаграждение.
— Тогда я вижу тщеславие, — ответил молодой человек, осознавая резкость собственных слов. — Тщеславие фараонов, ради которых создавались оригиналы, и тех, кому вздумалось их повторить.
— Мой мальчик, я, конечно, рискую заговорить как предатель и все-таки советую вам посмотреть на вопрос с более практической точки зрения. Людей всегда будет привлекать размах, и глаз человека, как образованного, так и не слишком, всегда предпочтет изящную форму заурядной пользе. Прошу вас не отрицать эту истину, и постарайтесь разглядеть красоту в этой извечной чрезмерности.
Только ради того, чтобы не показаться слишком дерзким, Ринд поднял глаза на гипсовых гигантов.
— Да, это зрелище может сколько угодно оскорблять ваш взор бесстыдной картинностью, но я с сожалением должен признать: оно затмит ваши национальные реликвии, украдет у них весь почет и оставит лишь пренебрежение зрителя.
— Вы в самом деле верите, что человек настолько поверхностен?
— Человеческий глаз — разумеется.
Ринд покачал головой.
— Я просто хочу, чтобы люди поняли: археология не начинается и не заканчивается в Египте.
— Все на свете, — возразил мужчина с лысиной, — начинается и заканчивается в Египте. Взгляните. — Он показал тростью. — Это прославленный главный колонный зал в Карнаке. Колонны, надо признаться, уменьшены, но даже сейчас вызывают благоговение. Известно ли вам, что, когда Виван Денон и солдаты наполеоновской экспедиции впервые увидели это чудо, они побросали оружие и разразились аплодисментами?
— Нет, неизвестно, — сказал Ринд, хотя уже слышал эту историю и всегда считал ее мифом.
— Было время, когда я видел эти колонны с каждым восходом солнца и всякий раз еле удерживался, чтобы не захлопать в ладоши. Но, знаете, даже такое величие не спасло их от надругательства. Буквально каждый народ, побывавший там: финикийцы, римляне, византийцы, арабы, мамелюки, турки, французы, англичане, — каждый поддался порыву мародерствовать, разрушать, вырезать свое имя…
Ринд кивнул:
— Как раз от этих тщеславных проявлений я и хочу защитить наше национальное достояние.
— Да-да, но неужели вы не понимаете? Если самые уникальные памятники Египта не избежали участи парковых скамеек, разве не стоит задуматься о том, какая судьба ожидает пиктскую хижину? Кельтскую руину? Позвольте заметить: на мой взгляд, куда разумнее будет составить подробную карту с обозначением самых важных с точки зрения археологии мест и распространить ее среди наших попечителей и представителей власти с требованием принять надлежащие меры.
Сознавая свое поражение, Ринд кивнул.
— И вообще, в безвестности всегда есть что-то ужасно драгоценное, даже благородное, вы не находите? И если живут на свете люди, преуспевающие вдали от суетной славы, от постороннего любопытства и прочих неприятных последствий, — как вам кажется, нельзя ли то же самое сказать о реликвиях? Или определенных местах? Может быть, и они спят лучше, пока их не беспокоят? — Человек с лысиной улыбнулся. — Нет, в самом деле, подумайте о моих словах, и я уверен, вы согласитесь.
Тут наверху оглушительно застучало, и мужчины запрокинули головы: на стеклянную крышу над колоннами обрушился целый пушечный залп из града. Обезоруженный странной красотой зрелища и еще более странным предчувствием (ибо откуда ему было знать, что спустя восемнадцать месяцев он окажется в настоящем Карнаке?), Ринд ощутил, как желание продолжать спор бесследно растаяло; собственные убеждения по-прежнему казались ему вполне здравыми, а вот мотивы — почему-то весьма туманными, да и поведение — неразумным, неучтивым. Вместе с тем молодой человек не испытывал ничего, кроме уважения, к огненно-рыжему с блестящей лысиной собеседнику, который великодушно не пожалел для него времени, и более того — обращался с ним не как неприветливое официальное лицо, а как нежный и любящий дядюшка.
— Уильям Гамильтон, — заявил человек с лысиной, когда они выходили из Египетского зала, — вот с кем вам нужно поговорить.
— Сэр Уильям Гамильтон, известный математик?
— У. Р. Гамильтон, бывший заместитель государственного секретаря, а ныне — попечитель Британского музея. Уж он-то наверняка отыщет место, где можно выставить ваши национальные реликвии.
— Я столько времени мечтаю пообщаться с кем-нибудь из руководства музея, но все мои письма ложатся под сукно.
— Тогда скажите, что вы от меня. Вы не представляете, какие двери открывает мое имя.
Ринд посмотрел на своего собеседника.
— Простите, какое именно? Боюсь, что я был невнимателен…
— Разве я не сказал? — Мужчина поморщился. — В самом деле?
И он протянул руку для знакомства, однако в ту же секунду новый громовой раскат заставил чудовищным образом задребезжать миллионы квадратных футов стекла на дворцовой крыше. Человеку с лысиной пришлось представиться снова, при этом он усмехнулся такому стечению обстоятельств. Ни одна гроза не могла потрясти Ринда сильнее, чем прозвучавшее имя.
Горожане, жившие поблизости от Британского музея, частенько сетовали на его попечителей, привлекающих своей дряхлостью тучи моли, словно поношенная одежда без нафталина. При всем уважении к почтенным летам, должность в этом достойном ведомстве, казалось, уже сама по себе гарантировала своему обладателю неприкосновенную сохранность в течение бесконечного срока, словно мускусному быку, сибирскому лосю, ленивцу из Амазонки и множеству прочих видов, населяющих стеклянные шкафы галерей, посвященных млекопитающим.
— Алекс Ринд, — объявил молодой шотландец морщинистому карлику-привратнику у входа в особняк Монтегю. — У меня приглашение, — прибавил он, не получив немедленного ответа, и выудил из кармана письмо.
— Райан, что ли? — Согбенный старик лет, наверное, ста заворочал колючими, как ежи, бровями. — Археолог?
— Вроде того. — Ринд еще не свыкся с новым титулом. — У меня назначена встреча с мистером Гамильтоном.
— С мистером Гамильтоном. Точно. — Привратник еще сильнее нахмурился. — Он будет очень рад. — И посмотрел, с усилием подняв глаза, в лицо посетителю.
Ринд, успевший убрать письмо, терпеливо ждал, глядя прямо перед собой.
— Какой молодой, а уже ученый, — сказал старик. — Хотя… — Он пожал плечами. — Сюда проходите.
Они вошли в просторные залы, неожиданно темные и безлюдные. Впрочем, припомнил Ринд, попечители настолько радели о своих коллекциях, что не допускали нигде открытого пламени, не говоря уже об искусственном освещении, поэтому в пасмурные дни вроде сегодняшнего, когда солнце скрывалось за пеленой из туч и смога, здание погружалось в кромешный мрак и его оставалось только закрыть.
Дряхлый привратник, морщинистый, точно сломанный аккордеон, заковылял по мраморной лестнице, ведущей в Большой зал музея. Тут он остановился перед пустой читальней и, чуть не заскрипев от натуги, обернулся.
— Прошу, располагайтесь как у себя дома, мистер Как-вас-там-правильно?
— Ринд.
— Прошу, располагайтесь как у себя дома, мистер Райан. Мистер Гамильтон скоро будет.
И он растворился в темноте, словно домовой из сказки, оставив гостя в одиночестве дивиться странным событиям, которые так стремительно его сюда привели.
Буквально пару дней назад, еще до визита в Хрустальный дворец, Ринд потерял последнюю надежду найти благосклонное ухо среди музейных властей. Но вот не успел он составить очередное письмо, как в его гостиничном номере материализовалось послание — запоздалый ответ на прежнюю корреспонденцию и приглашение на беседу. Здесь явно попахивало закулисной игрой, однако Ринд не видел смысла разбираться в подобных тонкостях.
Не зная, чем отвлечься от беспокойных мыслей, он прошелся по свеженавощенному полу, и тонкий скрип его подошв напоминал крысиный писк. Молодой шотландец полюбовался настенными фресками с изображением танцующих нимф. В изумлении остановился перед статуями, очень похожими на сфинксов. Оценил бескрайний кессонный потолок, еле различимый во мраке. Прислушался к легкому шелесту дождя. Подышал тяжелым и спертым воздухом, пропитанным запахами старинных книг, пчелиного воска и формальдегида… И вдруг почувствовал себя совсем крохотным. А еще, как ни странно, ему почудился чей-то пристальный взгляд.
Незаметно, почти непреднамеренно, Ринд потихоньку перемещался в направлении Египетской галереи, когда его остановил чей-то голос:
— Эй, юноша!
Развернувшись, Ринд поначалу ничего не мог разобрать среди перламутровых лучей. Затем поморщился, услышав шуршание, как если бы к нему ползла гадюка, и наконец различил бледного, словно мертвец, человека в похоронном смокинге, жилетке пепельного цвета и черном цилиндре.
— Вы — мистер Ринд, — произнес мужчина и двинулся навстречу гостю прихрамывающей походкой.
— Да, — отвечал молодой шотландец. — А вы, должно быть, мистер Гамильтон.
— Сибстер, где-то под Уиком…
— Верно, — подтвердил Ринд, пожимая протянутую руку, неестественно бледную и костлявую.
Гамильтон изучал его через толстые стекла очков.
— А вы намного моложе, чем я ожидал.
— Мне почти двадцать один.
— Двадцать один? В самом деле? Учитесь, как я полагаю?
— В данное время — нет.
— Работаете?
— В данное время — нет.
Гамильтон продолжал рассматривать гостя в упор.
— Весьма любопытно. А впрочем, проходите. — Он приподнял свою трость, указывая путь. — Здесь у меня кабинет, как раз для подобного рода встреч.
— Вы принимаете посетителей?
— Когда возникает необходимость.
— …Поговорить о защите национальных реликвий?
— Юноша, вы ведь не очень стеснены во времени? Может, у вас есть другие дела?
— Нет-нет.
— Тогда пройдемте в мой маленький кабинет. Нас ожидает длинная беседа.
— Ну конечно.
Они неторопливо прошествовали вниз по ступеням в кабинет клерка, похожий на склеп, где Гамильтон снял цилиндр и погрузил свое хрустнувшее в суставах тело в кресло. Свет проникал в комнату лишь через решетку на потолке. Забитый водосток беспрестанно сочился дождевыми слезами.
Кап… кап… кап…
— Так значит, вам всего лишь двадцать один, — промолвил Гамильтон, поглаживая редкие пряди тонких, точно лен, волос. — Тогда, боюсь, я на целых пятьдесят шесть лет старше вас. Ну а сэр Гарднер находится где-то посередине — если не ошибаюсь, ему как раз исполнилось пятьдесят шесть. Поразмыслите об этом, юноша. Мы с вами представляем преемственность поколений — мы, сыновья и отцы археологии. Прошу, присаживайтесь.
— Так это правда? — Ринду показалось, что он услышал подтверждение своим догадкам. — Сэр Гарднер писал вам обо мне?
— Нет, он мне ничего не писал.
— Тогда откуда же вы узнали?..
— О вашем разговоре? — Гамильтон одарил посетителя ледяной улыбкой. — Что касается сэра Гарднера, от нашего пристального внимания ускользает очень немногое.
— Значит, кто-то нас видел? В Хрустальном дворце?
— Я слышал, это была задушевная беседа, словно между старыми друзьями. А ведь вы прежде никогда не встречались? И даже не переписывались?
— Никогда. Просто, видите ли, среди археологов сэр Гарднер слывет едва ли не героем. Он первым осудил грубые методы раскопок, которые были в ходу у других исследователей. Известно ли вам, что это он приказал заменить коптящие факелы в гробницах на восковые свечи, чтобы дым не портил стены?
— Да, я в курсе.
— Но я и не думал встретить его в Хрустальном дворце. Где угодно, только не там.
— Сэр Гарднер — советник дворцового комитета, и он написал подробный справочник по Египетскому залу; издание ожидается в самом скором времени.
— Я бы мог и сам догадаться, если бы был повнимательнее.
— Не волнуйтесь так, юноша. Уверяю вас, он совершенно не обижен.
Эти слова не могли не вызвать у Ринда благодарности — но и утешить его, приуменьшить чувство стыда, были не в силах. Надо же, сэр Гарднер Уилкинсон. Даже теперь, пять дней спустя, достаточно было вспомнить это имя, чтобы залиться краской смущения. Как же он сразу не догадался? Почему не заподозрил… чего-то в таком роде? Сейчас уже не хотелось и думать об этом.
Сэр Гарднер Уилкинсон, первый из археологов страны и величайший в мире египтолог. Начиная с тысяча восемьсот двадцать первого года, когда ему исполнилось двадцать четыре, он провел в этой стране двенадцать лет кряду, живя среди гробниц и храмов, изучая бесчисленные руины, перенося лишения, спасаясь от жестоких убийц и диких зверей, и приобрел за это время глубочайшие познания в области древних обычаев и нравов. Изнурительные труды по изучению настенных росписей убедили его, среди прочего, что египтяне играли в шашки, затворяли окна ставнями, дрессировали обезьян, чтобы те собирали фрукты, умели выкликать крокодилов из реки, называя их ласковыми прозвищами, пользовались искусственными инкубаторами, подвешивали мешочки с приправами над столом, чтобы еда не досталась крысам, и спали на обдуваемых ветром крышах, спасаясь от вездесущих нильских комаров.
В тысяча восемьсот тридцать девятом году за выдающиеся заслуги королева посвятила его в рыцари, и он стал единственным археологом, удостоившимся такой чести. Впрочем, с той поры сэр Гарднер только упрочил свою репутацию, предприняв несколько путешествий в Египет, опубликовав многочисленные академические и популярные труды, а кроме того, собрав немало впечатляющих званий и титулов, а именно: вице-президент Британской археологической ассоциации, почетный член Восточного общества Нью-Йорка, член-корреспондент Королевского азиатского общества, Венской императорской академии наук, а также Археологического общества Эдинбурга (в пыльных кабинетах которого Ринд изучал красноречивые послания Уилкинсона, не осмеливаясь даже вообразить, что когда-нибудь получит возможность потолковать по душам с их автором).
— А вы с ним близко знакомы?
— Скажу так: я следил за его карьерой не из праздного любопытства. Знаете, прежде чем появились его публикации, среди английских ученых было принято ссылаться на мой собственный труд о Египте.
Ринд неопределенно кивнул.
— С тех самых пор мы и сблизились. Сэр Гарднер сотрудничает с Королевским географическим обществом, которое было основано при моем содействии. К тому же он — доверенный консультант музея. Мы обращаемся к его помощи всякий раз, когда получаем предложение приобрести экспонаты, представляющие интерес с точки зрения археологии.
— Кажется, он очень приятный в общении человек.
— Весьма любезный джентльмен. Хотя временами он бывает нестерпимо скрытен.
Не зная, как отнестись к последним словам, Ринд предпочел сделать вид, будто их не расслышал.
— А… сэр Гарднер никогда не заговаривал о национальных реликвиях, которые здесь выставляются?
— Сэр Гарднер высказывает свое мнение обо всем, что касается музея.
— В таком случае, — не сдержался Ринд, — я уверен, что его не устраивает работа филиала британских древностей.
— Ну конечно…
— Пусть филиал и невелик, но мог бы вместить в пять раз больше экспонатов. И относиться к ним нужно бережнее, внимательнее. Вы ведь намереваетесь расширять отделение?
— Ну да, конечно. Правду сказать, по этому поводу я вас и вызвал. Давно пора навести порядок в британской коллекции.
Кап… кап… кап…
— Значит… — Ринд запнулся, боясь поверить. — Значит, вы приняли мое предложение расположить экспонаты в хронологическом порядке?
— Разумеется. Эта работа, для которой вы вызвались добровольцем, достойна всякого уважения, чрезвычайно своевременна, и мне остается лишь принести самые искренние извинения за то, что мы не могли ответить раньше. Можете приступать, как только будете готовы. Хоть завтра, если пожелаете.
— Ну… — Ринда захлестнуло волнение. — Ну это же… великолепно.
— Несомненно, ваш труд потребует времени, — вдруг обеспокоился Гамильтон. — Можно спросить, как долго вы собираетесь им заниматься?
— Об этом я еще не думал.
— В какой гостинице вы остановились?
— «У Морли» на Чаринг-Кросс.
— И не обговорили срока?
— Я вношу понедельную плату.
— Замечательно, — сказал собеседник. — Само собой, музей оплатит все расходы.
— Очень любезно с вашей стороны, мистер Гамильтон, однако…
— Разумеется, никаких прихотей.
— Нет-нет, вы не поняли, я…
— Или могу вам предложить комнату в «Мейфэр».[7] Кстати, моя жена до сих пор умело стряпает блюда шотландской кухни.
— Очень любезно с вашей стороны, мистер Гамильтон; прошу понять меня правильно, однако…
— Однако — что?
— В этом нет необходимости. Серьезно.
Кап… кап… кап…
Гамильтон поднял брови.
— Вы же понимаете, работа может растянуться на месяцы.
— Но я могу сам о себе позаботиться… Правда.
— Полагаю, вы обеспечены надежным доходом?
— Мой отец банкир. Он все устроил.
— Ясно. — Гамильтон с одобрением кивнул. — А вам действительно повезло, молодой человек. — Он задумчиво помолчал. — Все складывается еще лучше, чем я думал. Уверен, вы понимаете, что наш музей не в состоянии предложить крупного вознаграждения.
— Я и не жду вознаграждения, — возразил Ринд. — Для меня это огромная честь. — И тут, поддавшись восторженному порыву, он выпалил: — Честно говоря, это мне следует заплатить вам, мистер Гамильтон.
Но тут на лице собеседника вспыхнула столь неприкрытая радость, что Ринд заподозрил: его загнали в точно расставленные сети. Он произнес именно то, чего от него желали. Говоря иносказательно, молодой человек сам, по доброй воле, продался в рабство.
— Заплатить нам? — переспросил мистер Гамильтон, будто бы удивившись неожиданной мысли. — А что, это было бы даже занятно.
Он откинулся в кресле, продолжая буравить юного посетителя безжалостным взглядом, каким глядит на клиента гробовщик.
Кап… кап… кап…
На Ринда, не понаслышке знавшего о том, что такое холера, чахотка и болезни сердца, признаки скоротечности человеческой жизни давили тяжким грузом, а мысль о вероятности преждевременной смерти казалась ему назойливым постояльцем, никак не желающим съезжать с квартиры. В свое время — не так уж давно — молодой шотландец уже оставил надежду на любые серьезные отношения, убедив себя, что ни одна из женщин, достойных внимания, не выдержит его общества более нескольких минут, и не желая тратить силы на связь, которой, возможно, не суждено продлиться.
Жгучее стремление оставить какой-то след, не потерять ни единой драгоценной минуты нередко подвергало настоящим испытаниям его немалые запасы терпения, а то и природной застенчивости. Однако вслед за неизбежными страстными вспышками столь же неизбежно возникало ощущение стыда, угодливая любезность и, главное, мысли о собственном ничтожестве перед лицом бесконечности. Именно благодаря последнему обстоятельству Ринд выбрал своей стезей археологию — науку, которая, подобно астрономии, звала в ледяные просторы вечности; незаслуженно обойденные вниманием национальные реликвии подарили ему возможность излить нерастраченную романтическую и отцовскую теплоту сердца (а кроме того, отвлекали от более мрачных забот, что занимали его разум в тот памятный майский день визита в Хрустальный дворец и были так же свежи, как и кровь, внезапно хлынувшая из горла).
Несколько недель назад молодой шотландец наблюдал за раскопками пиктской хижины под Кеттлберном, кропотливо выбирая камни из густой зеленой поросли, когда его вдруг одолел приступ кашля; отвернувшись в сторону, Ринд прочистил горло — и испачкал траву большим сгустком крови. Землекопы едва ли не силой заставили его уйти в деревню и обратиться к врачу за помощью. Археолог упорно не желал этого делать, но потом превозмог свой страх и нехотя уступил, понимая, что пробил час посмотреть судьбе в глаза.
— У вас кровохарканье, — объявил врач. Так судья оглашает приговор.
— Это смертельно? — спросил Ринд.
— Само по себе — обычно нет. Но часто бывает симптомом…
— Туберкулеза?
Доктор сложил свои очки.
— Не исключено. Хотя в таком случае проявились бы и другие признаки. Скорее всего, мы имеем дело с очень серьезной формой заболевания дыхательных путей — воспалением бронхов или абсцессом легкого.
Ринд возблагодарил Господа за маленькие милости.
— Скажите, у вас наблюдались прежде подобные симптомы?
— Нет, ничего такого, — ответил Ринд.
Но он солгал. Уже давно ему достаточно было случайно проглоченной крошки, першения в горле и даже просто громкого смеха, чтобы на носовом платке появились пятнышки крови.
— А среди ваших родных не встречалось похожих случаев? Может быть, болезни горла или просто телесное истощение?
— Да нет, ничего особенного.
Однако и это была неправда. Семеро из младших детей в их семье умерли в самом нежном возрасте, а единственного выжившего брата недавно унесла чахотка; Алекс был последней надеждой отца.
— У вас не бывает одышки? Хрипов?
— Только во время крутых подъемов.
— Так вот, больше никаких крутых подъемов. И вообще никакого лишнего напряжения. Можно спросить, чем вы обычно занимаетесь, когда не копаетесь в грязи?
— Я студент Эдинбургского университета, готовлюсь к адвокатуре.
Доктор прищелкнул языком.
— Понятно. Продуваемые сквозняками учебные аудитории, грязные адвокатские конторы… Может, есть что-нибудь еще?
— Что-нибудь еще?
— Давайте начистоту. По-моему, вы способны принять правду как мужчина. В лучшем случае у вас нет рака, хотя это еще нужно проверить. Но качественный состав крови, которую вы сегодня исторгли, заставляет предполагать, самое меньшее, запущенное кровохарканье, и здесь заключается настоящая проблема. Если жидкость заполнит легкие во время сна, вы задохнетесь, даже не успев осознать, что происходит. Представьте себе: вы опускаете голову на подушку и вдруг… — Доктор щелкнул пальцами. — Оказываетесь прямо на небесах.
Ринд уже примирился со Всемогущим, поэтому просто кивнул.
— Что касается лекарств, тут я практически ничего не могу посоветовать. Лучшее лечение — постельный режим, усиленное питание, свежий воздух и постоянный присмотр. Между прочим, вы ведь не склонны сильно возбуждаться?
Шотландец покачал головой.
— Иными словами, ничто не заставит вашу кровь кипеть в жилах?
— Ничто.
Ринд засмотрелся на резвых ласточек за окном.
— Если понадобится, кто-нибудь из родных сумеет обеспечить вам достойный уход?
Глядя на птиц, молодой человек вспоминал пронизывающий ветер, грохочущие ставни на окнах, треск огня в очаге, долгие прогулки в горах…
— Юноша? — Доктор прищурился. — Я спросил, сумеет ли кто-нибудь из родных о вас позаботиться?
— Мой отец, — спохватился Ринд. — Ну конечно же, он присмотрит.
Он говорил убежденно, с уверенной улыбкой. А в голове между тем крутилось одно и то же: «Отец ничего не должен знать. Отец ничего не должен знать».
Закрытый экипаж с задернутыми шторами мчал по Трафальгарской площади. На взгляд Ринда, мистер Гамильтон еще никогда так не походил на владельца похоронного бюро, как сейчас. Отглаженный фрак цвета воронова крыла, цветок на сияющем лацкане, подозрительно напоминающий лаванду. Мало того, Гамильтон неизменно посматривал на шотландца как на новоиспеченного покойника, а как-то раз дошел до того, что принялся отряхивать его плечи и брезгливо поправлять воротник его черной суконной куртки.
— Надеюсь, теперь я выгляжу представительно? — осведомился Ринд.
— Более или менее. — Гамильтон откинулся на мягкую спинку сиденья. — А я, в свою очередь, надеюсь, что вы никому не проговорились о нынешней маленькой экспедиции.
— Даже если бы захотел, кому бы я мог проболтаться?
— Но вы не обмолвились ни намеком? Ни одной живой душе?
— Никому ни слова.
Гамильтон сжал резную шакалью голову, которая украшала его трость.
— В таком случае прошу вас и впредь не распространяться о подобных вещах. Не следует разглашать подробности предстоящей встречи. Даже ваш любимый отец не должен ничего знать.
Ринд покорно кивнул — и сам удивился, с какой это стати он сделался столь почтительным. Неужто все дело в едва обретенных привилегиях, касающихся музея?
— Скажите-ка, молодой человек, вы — патриот?
— Я шотландец.
— Потрудитесь растолковать разницу.
Ринд почувствовал, что не расположен к объяснениям.
— Ну… конечно же, патриот.
— Значит, вы не рассчитываете на финансовую выгоду?
— Говорю же вам… я шотландец.
Однако мистеру Гамильтону, казалось, было не до шуток.
— По-моему, во время нашей беседы в музее вы упоминали, что не ждете никакой платы?
— Нет, не жду. Это правда. Полагаю, я по природе слишком осторожен; не верю, что из мелкого колодца можно начерпать воды на целую деревню.
Собеседник хмыкнул.
— Как бы то ни было, я, разумеется, не имею права обещать золотые горы, но все же могу предположить, что вы получите за свои труды сполна. А в будущем вас ожидает еще более солидное вознаграждение. Если вы, конечно, понимаете, о чем речь.
Но Ринд понимал очень мало. Это была уже третья таинственная экспедиция с мистером Гамильтоном менее чем за неделю; между тем загадок и странностей не убавлялось.
В первый раз, после роскошного завтрака в великолепных покоях почтенного джентльмена, Ринд и Гамильтон отправились прогуляться по городу. Гамильтон поминутно указывал на здания, знакомые ему по службе в министерстве иностранных дел, — кабинеты, в которых доводилось работать под покровом полной секретности; дома, где плелись хитроумные интриги; резиденции, за которыми он следил «в интересах национальной безопасности». Оживившись от воспоминаний о прошлом и так разогнавшись по улице (в его-то годы), что юный шотландец не удивился бы, заметив над его цилиндром клубы белого дыма, Гамильтон подозрительно долго расписывал своему спутнику, какое это счастье — служить столь высокой цели.
— Я побывал во многих уголках света, но могу вам сказать откровенно: нигде я не испытал такого удовольствия, как прямо здесь, в Лондоне, преследуя добычу среди тумана. — Он сделал широкий жест концом трости. — Знаете, куда я только не проникал. Да куда угодно. Мне были знакомы все закоулки и двери города. Мороз, непроглядная тьма — ничто меня не смущало. Фонарщики и трубочисты стали моими друзьями. Лондонский смог — союзником. Вот когда чувствуешь себя по-настоящему живым.
Поначалу Ринд с удовольствием слушал, как ему казалось, ностальгические рассказы старика, но уже тремя днями позже, во время второй вылазки, стало ясно: в действительности молодого человека пытаются завербовать, хотя и неясно, с какой целью.
На этот раз мужчины отправились — и развили при этом столь большую скорость, что шотландец начал опасаться, как бы ему вновь не закашляться кровью, — на безупречно чистые мостовые в окрестностях Йорк-стрит. Гамильтон осторожно заглянул за угол, словно боясь налететь на свирепую сторожевую собаку.
— Отсюда уже видно, — шепнул он. — Правда, еле-еле.
Ринд послушно высунул голову из-за кирпичной стены: перед ним стояла запряженная коляска.
— А что я должен?..
— Сюда. — Гамильтон указал ему точку, более удобную для обзора. Мужчины переместились к порогу табачной лавки. — Теперь видите? Вон там, где цветочные ящики на окнах. Можете разглядеть?
Ринд почти ничего не различал в тумане.
— Да, вроде бы. А что там?
Гамильтон самодовольно вскинул голову.
— Лондонская резиденция сэра Гарднера Уилкинсона.
— Сэра Гарднера Уилкинсона? — Молодой человек растерянно заморгал. — Вы что же, за ним следите?
— Вот уже более двадцати лет.
Шотландец фыркнул.
— Вы лично?
— Когда представляется такая возможность.
— Но… Могу я спросить, зачем?
Мысль о том, что прославленный археолог, посвященный в рыцари самой королевой, находится под наблюдением, никак не укладывалась в его голове.
Гамильтон тщательно застегнул воротник пальто.
— Настанет день, и я вам все объясню. Но сейчас это в ваших же интересах — знать как можно меньше.
Рискуя показаться неблагодарным — в конце концов, музейные национальные реликвии были предоставлены в его полное распоряжение, — Ринд все-таки не удержался от любопытства:
— Мне хотят поручить какое-то задание, угадал? Что-то связанное с сэром Гарднером?
Гамильтон не возразил ни словом.
— Вот почему вы меня сюда привели?
— Британская империя будет очень вам благодарна, молодой человек.
— Британская империя?
— Видите ли, вы достигли подходящего возраста, чтобы сделаться учеником. Если позволите — возраста, в котором допустимо задавать самые разные вопросы.
— Учеником? — переспросил Ринд, не глядя на собеседника. — Значит, хотите, чтобы я втерся к нему в доверие? К сэру Гарднеру?
— Возможно, я чудовищно ошибаюсь, но, по-моему, втираться вам никуда не придется.
— Так вы… — Ринд попытался собраться с мыслями. — Вы все это время искали соглядатая? Чтоб шпионить за сэром Гарднером?
— «Соглядатай», юноша, это слишком зловещее слово. — Гамильтон смерил собеседника оценивающим взглядом. — Скажите-ка, — начал он, внезапно понизив голос, — вы слышали когда-нибудь о братстве…
Тут на дальнем конце улицы послышался резкий скрип; Гамильтон воровато оглянулся и отпрянул в тень.
Дверь дома под номером тридцать три распахнулась, и на улицу вышел элегантно одетый лысый господин с игривым терьером на поводке. Сэр Гарднер Уилкинсон, прославленный археолог, — вот у кого, судя по виду, вовсе не водилось зловещих мыслей, — бодро прошествовал в противоположную от табачной лавки сторону и растворился в тумане.
— Мы что же, пойдем за ним?
— Он скоро вернется. Вот только выгуляет свою псину в Риджентс-парке. Это на тридцать минут, самое большее — на сорок. Не стоит ждать. — Гамильтон внимательно посмотрел на Ринда. — Что скажете, юноша? Готовы исполнить свой долг?
В соседней церкви зазвонили колокола. Шотландец пожал плечами.
— Не в моих правилах увиливать от исполнения долга, но в данном случае…
Гамильтон задумался.
— Я знаю, кто сможет вас убедить, — произнес он наконец. — Как насчет вторника? В час пополудни заеду за вами в гостиницу. Только прошу, сделайте одолжение: оденьтесь прилично.
Сказано — сделано; Алекс Ринд облачился в самую приличную — хотя и несколько поношенную — одежду, однако по-прежнему не имел ни малейшего понятия, куда направляется, и лишь естественное чувство благодарности помогало ему с трудом сдерживать горячее нетерпение. Когда позади остался Уайтхолл,[8] в голове шотландца мелькнула шальная мысль: уж не собираются ли его отвезти на Даунинг-стрит, в здание министерства иностранных дел, а то и на встречу с самим премьер-министром? Это, по крайней мере, объяснило бы почти осязаемое напряжение почтенного спутника. Но нет: к счастью, они вскоре свернули за угол, на площадь, где выстроился конногвардейский полк. Гамильтон выудил из кармана серебряные часы и с тревогой посмотрел на циферблат.
— А знаете, — как бы между делом заметил Ринд, — я до сих пор не представляю, из-за чего весь этот сыр-бор и зачем нужно это задание.
Гамильтон только хмыкнул, убрав часы.
— Нет, правда, хоть намекните…
Пожилой джентльмен беспокойно поерзал, но продолжал хранить молчание.
— Неужели вы мне совсем ничего не откроете? Ни словечка?
— Что ж… — Гамильтон сощурился и, собравшись с мыслями, неохотно заставил себя проронить: — Юноша, вы наверняка имеете представление о Бонапарте?
Молодой человек ожидал услышать что угодно, но только не это.
— О генерале Бонапарте?
— Разумеется, я не имею в виду его племянника в Тюильри. Речь о Наполеоне Первом, корсиканце.
— Конечно же, я о нем слышал.
— Тогда скажите, что именно вам приходит на ум при звуках его имени?
— Ну…
Настала очередь Ринда беспокойно заерзать на сиденье: слава этого человека была слишком велика, чтобы предполагать простой ответ.
Молодой человек задумался. И в самом деле, что? Первым делом перед глазами почему-то всплыла многотомная биография Вальтера Скотта: внушительные кожаные переплеты на книжной полке в кабинете отца. Но это детские впечатления, а что же дальше? Неизгладимые образы: низкорослый военачальник, заложивший руку за ворот шинели; битва при пирамидах; неверная жена; золотая гирлянда в Нотр-Дам; разлетающиеся осколки чайного сервиза; Папа Римский под арестом; Маренго,[9] Йена,[10] Аустерлиц; Москва в огне; преисподняя под Ватерлоо; пригоршня каменистых островов; бесконечные акры земли, усеянной трупами убитых лошадей, и тающий дым артиллерийских орудий — с чего начать?
— Мне представляется человек, достигший определенного величия, — произнес шотландец.
— Чего еще ждать от вас, молодежи, — сухо проронил Гамильтон. — В те дни я служил в министерстве иностранных дел. В стране почти не осталось семьи, которая во всех этих войнах не лишилась бы хоть одного сына. Простите, но у меня совершенно иной взгляд на вещи.
Ринд понимал, что такое вполне возможно. Враги часто изображали Наполеона чудовищем, пожирателем невинных младенцев, пигмеем-кровосмесителем, слюноточивым сифилитиком, конским дерьмом, мифическим Зверем из Апокалипсиса. Однако стоило миновать опасности, как начиналось обожествление той же самой личности, чей неоспоримый военный гений и пугающий размах влияния на судьбы истории внушали противникам почтительное благоговение, а женщинам — романтические судороги, и даже поэты не находили слов, чтобы выразить свой восторг. Наполеон был пресловутым «человеком из толпы», дерзнувшим разорвать оковы повиновения и самовольно занять престол, затмивший своим величием все прочие троны; он был иконой, символом честолюбия и вдохновения. Потоки людей стекались на Пикадилли, чтобы одним глазком посмотреть на его пуленепробиваемую коляску, на Пэлл-Мэлл — ради скелета его коня, а в музейных залах, где выставлялись туалетные принадлежности Бонапарта, не говоря уже о важных государственных документах, было не протолкнуться от зачарованных почитателей.
— А вы что думаете о Наполеоне? — спросил Ринд.
— Мне представляется человек, забывший, где его подлинное место.
— Только и всего? Человек, забывший свое место?
— Нужно уметь признавать собственные рамки. Или, может, вы не согласны?
— Отчего же. Честолюбие таит в себе много опасностей, — ответил шотландец, но сам же внутренне поморщился и вздохнул: положа руку на сердце, он испытывал невольное восхищение перед этим одержавшим победу изгоем.
Тут за окном появился Букингемский дворец, и молодого археолога посетила мысль, казалось бы, не имевшая отношения к делу.
— Интересно, а что может думать по этому поводу ее королевское величество?
— Ее величество, — промолвил Гамильтон, — слишком мало живет на свете, чтобы о ком-то судить.
В облаках над дворцовым садом беззаботно порхал бумажный змей.
— Как по-вашему, королева сейчас у себя в резиденции?
— Безусловно, — подтвердил Гамильтон, торжественно выпятив подбородок. — Ее величество вчера вернулась из Осборн-хауса.[11]
Ринд поразмыслил над его тоном и, пораженный невероятным подозрением, покосился на спутника, который, к его ужасу, уже был у самого выхода.
— И чем, по-вашему, — отважился выпалить молодой человек, — она может заниматься? Прямо сейчас?
Гамильтон снова достал часы, холодно взглянул на Ринда и откашлялся, словно хотел предварить свои слова звуками фанфар.
— В этом нет никакого сомнения, юноша. Она ожидает нас.
Экипаж замер у дворцового входа, предназначенного для дипломатов, министров и прочих высокопоставленных особ.
Низкорослая дама тридцати пяти лет от роду, с которой предстояло встретиться Ринду, внешне чем-то похожая на его мать, взошла на престол в тысяча восемьсот тридцать седьмом году. В основном она сумела справиться с природной застенчивостью, но до сих пор ощущала себя не в своей тарелке во время светских бесед и раутов. В сороковых годах королеве посчастливилось благополучно пережить четыре покушения на убийство, а в тысяча восемьсот пятидесятом один обезумевший гусар набросился на нее и что было силы ударил по голове тростью. Эта женщина уже восемь раз разрешилась от бремени, причем без единого смертельного исхода — следует отдать должное королевским лекарям, — однако не скрывала своей нелюбви к детям. В то время она уже проявляла признаки мрачной задумчивости, которой станет отличаться и в будущем.
Ринд никогда не видел королеву, даже во время парадов; да что там королеву — ему вообще не доводилось встречать людей, обладающих по-настоящему высоким рангом и не обойденных славой. Шотландцу чудилось в этой истории нечто несбыточное, нереальное: неужели это его ведут ослепительно сияющими коридорами по дворцу из шестисот комнат — его, который пару часов назад еще сомневался в душевном здоровье мистера Гамильтона? Нет, о такой минуте молодой человек даже не грезил. Воспитанный в почтительном уважении к вышестоящим, он, как и многие шотландцы, не мог смириться с абсолютной королевской властью. Приученный христианской моралью отрицать любую зависть — все же невольно сокрушался сердцем при виде выставленного напоказ богатства. Как сын, находящийся на полном иждивении отца, Ринд не имел причин отвергать наследное право, однако был скептически настроен против самой идеи монархии. К тому же как человек, остро сознающий, что он смертен, с горьким сожалением вспоминал о напрасных бесчисленных жертвах, которых на протяжении истории требовали венценосные особы в погоне за новым величием.
И вот сейчас, оторопело скользя глазами по роскошной обстановке, пытаясь увидеть все, но не в силах сосредоточиться ни на чем, Ринд ощущал, как последние оплоты его душевного сопротивления рушатся под пышным гнетом позолоты, красного дерева и зеркал столь немыслимой ясности, какой ему не приходилось видеть даже в глади самого безмятежного озера своей родины.
За всю дорогу молодой человек не проронил ни слова — с той минуты, как вошел в парадную дверь и двинулся было расписаться в книге для посетителей, но Гамильтон удержал его за руку, прежде успев шепнуть пару слов охраннику, и по сию пору, шагая по коридорам вслед за почтенным прихрамывающим джентльменом, который тоже хранил гробовое молчание. Впрочем, теперь уже не имело смысла задавать вопросы, а тем более разговаривать просто от избытка эмоций. Пройдя через обшитую панелями гостиную, мужчины оказались в огромном Тронном зале, украшенном шелковыми драпировками и багряным ковром. Ливрейный лакей растаял в воздухе подобно струйке дыма. Ринд вытянулся в струнку рядом с Гамильтоном, чувствуя яростное биение собственного сердца, которое заглушало мерный ход серебряных часов его спутника.
Молодой археолог не имел никакого понятия о том, как нужно себя вести. Не представлял, что скажет. Он то поправлял манжеты, то пытался выпятить грудь, то глазел на причудливый узор ковра, и поэтому лишь запоздало, когда его спутник пошевелился и тихо кашлянул, шотландец понял, что они уже не одни.
Из-за помоста в дальнем конце зала, словно призрак, возникла женщина с бочкообразным станом. Ростом она была еще ниже Наполеона, однако при этом производила впечатление колосса. Дама поманила гостей, точно ручных собачек, и те послушно побрели на зов, притянутые властными чарами.
— Сюда, — прошептала она, и мужчины без промедления протиснулись через раздвижные двери в потайной коридор.
— Сэр Уильям, — промолвила королева, приветствуя Гамильтона.
(Ринд по рассеянности пропустил почтительный титул мимо ушей.)
— Ваше величество, — ответил Гамильтон с неожиданно ловким поклоном.
— А вы, сэр, — она устремила голубые водянистые глаза на шотландца, — полагаю, мистер Александр Генри Ринд.
Молодой человек протянул было руку, затем поспешил убрать ее, испуганно воззрился на кукольную ладонь королевы, раздумывая, не полагается ли в подобном случае целовать пальцы, и в конце концов, подражая своему спутнику, ограничился поклоном.
— Да, это я, ваше величество, — произнес он и зачем-то кивнул.
— Прошу прощения за то, что наша встреча проходит в столь необычных условиях, — изрекла королева. — Однако, учитывая тему предстоящей беседы, вы сами должны понимать: секретность не помешает. Мы же не хотим, чтобы хоть единое слово просочилось в Придворный циркуляр.[12]
Заметив, что венценосная особа и впрямь испытывает неловкость, Ринд осмелел:
— Ну… конечно же, ваше величество.
Гамильтон одобрительно кашлянул.
— Я слышала, вы родом из Шотландии.
— Из Сибстера, что под Уиком.
— Я много раз бывала в Шотландии.
— Приезжайте сколько угодно, Вам всегда будут рады, — выпалил Ринд и тут же мысленно выбранил себя за самонадеянность.
— Эту акварель, — королева кивнула на недурное изображение горы, поросшей вереском, — я написала в окрестностях Питлохри.[13]
Ринд не знал, что ответить.
— Очень… очень похоже, ваше величество.
Придворный спаниель в конце коридора потянул носом воздух.
Королева еле заметно подалась вперед и приглушенно заговорила:
— Уильям представил вас как весьма достойного молодого человека.
— Надеюсь… надеюсь, что это так, ваше величество.
— Без сомнения, вы осознаете всю серьезность положения и важность вашей миссии.
— Конечно, ваше величество.
— Чертог вечности… Разумеется, мы уже много лет о нем слышим, но лишь сейчас его тайны стали всерьез затрагивать интересы национальной безопасности. Сэр Уильям, безусловно, предъявил вам исторические свидетельства?
Ринд неопределенно кивнул.
— Конечно.
— Как вы знаете, совсем недавно мы оказались втянуты в весьма неприятный конфликт с Россией. Остается горячо молиться, чтобы он не привел к более серьезным последствиям, но даже в этом случае от его исхода будет зависеть будущее Оттоманской империи, Леванта[14] и, если на то пошло, всей Европы. Настал переломный момент в истории.
Ринд во все глаза уставился на бледный шрам на широком белом челе королевы.
— Вот почему нам следует вооружиться всеми необходимыми сведениями.
— Понимаю, ваше величество.
— К тому же, как вам известно, об этом чертоге ходит множество противоречивых легенд — о точном содержании пророчеств, их смысле или, лучше сказать, ценности, и главное, о том, что именно «красный человек» поведал Бонапарту.
— Конечно, — ответил шотландец, совершенно сбитый с толку.
— Но я, в конце концов, правящая особа. У меня столько же прав на приобщение к тайнам чертога, сколько было у Бонапарта — или у Клеопатры. Нельзя позволить, чтобы ими воспользовались вражеские силы, а то и просто какой-нибудь любитель истории Египта.
— По-моему, это… разумно.
Королева ответила простодушной улыбкой.
— Мне понятны ваши колебания, мистер Ринд. Уверяю вас, что я бесконечно восхищаюсь сэром Гарднером Уилкинсоном — как-никак, я собственноручно посвятила его в рыцари. Но если он столь упорно отказывается раскрыть нам то, что узнал о чертоге, если он столь упорно держит свои изыскания под покровом тайны, то я уверена, что этому есть рациональное объяснение. Должно быть. В конце концов все непременно выяснится. Мы ищем истину и очень надеемся, что вы нам поможете.
— Для… для меня это великая честь, ваше величество. — Молодой человек поклонился.
На лице королевы появилось благосклонное выражение.
— Тогда мне остается только благословить вас на этот путь, мистер Ринд. Верю, что и Господь благословит вас.
Шотландец снова кивнул.
— Можете на меня положиться, ваше величество, — произнес он и невольно попятился к раздвижным дверям, распахнутым рукой Гамильтона, а потом шумно выдохнул, когда очутился в Тронном зале и королева пропала из виду.
Надо же было так далеко продвинуться всего лишь за двенадцать дней, размышлял молодой человек некоторое время спустя. Еще совсем недавно он, к своему стыду, не узнал сэра Гарднера Уилкинсона в Хрустальном дворце — и вот уже получает приказы от королевы Виктории в Букингемском дворце. Не считая второй подобной встречи в Виндзорском замке примерно двадцать два месяца спустя, нынешнее событие так и останется важнейшим в его жизни. Но, как всегда безукоризненно верный своему слову, Ринд не обмолвился об этом ни единой душе, даже намеком, не доверил подробностей даже личному дневнику, сохранив бесценное воспоминание в сердце, и в свой час благоговейно унес его с собой в вечность.
Глава вторая ВСЕ ВЕЛИЧИЕ МИРА СОКРЫТО ЗДЕСЬ
— Вы в самом деле не знаете, кто это?
Шелковый вкус, ум, голос, волосы, кожа, язык и… ну да, представьте себе, душа, хотя, конечно, не здесь же ее раскрывать… Виван Денон подошел к буфету и только что наполнил стакан благоухающим лимонадом из великолепного хрустального графина. Кто же сказал, шепнул эти слова? Гражданин Поль Баррас[15] из Комитета общественной безопасности. Время? Лето тысяча семьсот девяносто пятого года. Место? Позднее Денон и не вспомнит этого в точности. Может, салон мадам Таллиен?[16] Бальная зала Талейрана?[17] Или что-то совсем другое? Да какая, в сущности, разница? Безумная пора, наступившая, когда миновали худшие дни Революции и представители высших классов французского общества провозгласили моду на декаданс, окрестив его новым именем liberte,[18] промчалась, точно в угаре, оставив после себя лишь размытые воспоминания о бархатных драпировках, прозрачных платьях, облегающих брюках и фланелевых туфлях.
— Дорогой мой Поль, — сказал Денон и приглушенно хихикнул, — о чем вы, чума вас возьми, говорите?
— Mon ami,[19] я не мог не заметить вашей рассеянности.
— Рассеянности?
— Это бросилось в глаза уже от камина! Вы якобы вели беседу с тем молодым человеком, а сами так и пожирали взглядом некую юную особу в дальнем конце комнаты.
Денон ухмыльнулся, при этом на его щеках появились пошлые ямочки.
— Просто я залюбовался алой лентой вокруг ее прелестной юной шейки. Надо же, восхитительная мода! Как, по-вашему, это может называться? А-ля гильотина?
— Полагаю, друг мой, о моде вам известно гораздо больше моего. Не говоря уже о гильотинах.
Денон только хмыкнул (в тяжкие дни работы национальным гравером он слишком часто видел, как на Гревской площади скатывались отрубленные головы), но уклонился от прямого ответа:
— А почему она так завладела вашим вниманием, старый вы греховодник? Засмотрелись на свежий персик? Или сей нежный плод уже сорван?
— Ни то ни другое, друг мой. Честное слово! Девушка меня совсем не интересует. Куда занятнее тот молодой человек, с которым вы только что беседовали.
— Этот? — Пораженный до глубины души, Денон бросил взгляд через всю комнату.
Коротышка, о котором говорил Баррас, стоял в одиночестве под центральной люстрой, украдкой поглядывая на отражения в зеркалах, оправленных в золоченные рамы, как если бы прежде ни разу не наблюдал обнаженной груди. Вид у него был немного помятый, даже болезненный: не припудренные волосы до плеч, впалые щеки, потертый черный фрак, да еще этот грубый корсиканский акцент — трудно представить себе существо, более далекое от предпочтений бисексуального Барраса.
— Вы не шутите?
— Ну разумеется! — воскликнул собеседник. — Вы что же, не знаете, кто это?
— Очевидно, неудавшийся отпрыск какого-нибудь развратника или злодея?
Баррас хохотнул.
— Да это же бригадный генерал Бонапарт. Я лично поздравлял его с назначением.
— Бригадный генерал? Серьезно?
Из разговора с молодым человеком Денон заподозрил в нем всего лишь артиллерийского офицера; по правде сказать, он и завел беседу только для того, чтобы укрепиться на выгодной позиции, откуда можно было созерцать припудренные плечики очаровательной нимфы. Да и что это за беседа? Парочка ни к чему не обязывающих замечаний — о шуме, кажется… Да, верно: гул окружающих разговоров подвиг юношу пробормотать отчаянную пошлость о музыке пушек и грохоте, который, дескать, по многу дней после битвы звучит у него в ушах. Не очень занятная тема. Денон из вежливости заставил себя несколько раз хмыкнуть, изображая интерес.
— Совершенно незаурядный воин, — промолвил Баррас. — При Тулоне он разработал блестящий стратегический план и сумел исполнить его с бесстрашием одержимого человека. Представьте, он захватил английский форт и загнал на море объединенные силы четырех наций!
— Да неужели? — Денон недоверчиво изогнул бровь.
— И это еще не все: в бою его лошадь подстрелили, а самому Бонапарту проткнули ногу штыком, едва не задев бедренную артерию. Однако нашего героя было уже не остановить. Это редкостный офицер, доложу я вам, чистый метеор!
Денон посмотрел на молодого человека внимательнее и мысленно решил, что первое, отнюдь не лестное впечатление, оказалось неверным. На второй взгляд военный даже как будто стал выше ростом, глаза его засверкали потаенным блеском. Явные же следы усталости — не есть ли они признак напряженного интеллектуального труда, а не телесной распущенности?
Баррас похлопал приятеля по плечу.
— Мой добрый Виван, я замечаю в нем некое величие, какого он сам в себе пока не видит. В наше опасное время, когда ни в чем нельзя быть убежденным, нужно учиться втираться в доверие. — Он хихикнул. — По крайней мере хотя бы запомните, как его зовут.
Рассеянно шагая через комнату якобы для того, чтобы утолить жажду нимфы с красной ленточкой, Денон неожиданно понял, что уже не помнит имени юного генерала. И тем не менее некий поток неудержимо влек его за собой, и вот уже «добрый Виван», почти против собственной воли, поспешил предложить незнакомцу лимонад, предназначавшийся для куда более сладких губ.
— Merci,[20] — произнес молодой генерал, осушив стакан, точно измученный жаждой верблюд. — Должен признаться, шампанское здесь… м-м-м… суховато.
Денон снисходительно улыбнулся.
— Гражданин Баррас, — проговорил он, еще не вполне овладев собой, — только что предположил, что вас ожидает великая слава, мой дорогой генерал, если только уже не дождалась.
Молодой человек усмехнулся, изогнув чувственные губы (собеседник с изумлением обнаружил, что почти готов целовать их), и ответил:
— Боюсь, я не столь известен. Могу поспорить, в этой комнате не отыщется человека, которому мое имя хоть что-то скажет.
Денон кашлянул.
— Уверен, что скоро все переменится. Военные вообще склонны оставлять в истории очень яркий след.
— Великие военные, — уточнил генерал. — Но даже им никогда не сравниться с пророками.
— А как насчет военных-пророков?
— Вот у них, вероятно, самые лучшие шансы, — с довольным видом согласился генерал. — Чего не скажешь о людях искусства, — прибавил он, очевидно намекая на собеседника. — Настоящая слава их тоже не балует.
— Живущих — очень редко, — парировал Денон, остроумно обыграв свое имя.[21]
Генерал оценил его тонкий выпад.
— Ну а художники?
— Тоже не добиваются большой известности, особенно когда забывают подписывать собственные труды.
И все же Денон был удивлен: похоже, молодой человек (оказавшийся гораздо умнее и глубже, чем это виделось поначалу) слышал и о его анонимной книге.
— Всегда найдется художник — и, думаю, сочинитель, — которому слава безразлична, — заметил тот.
— А может, он умышленно избегает ее жадных объятий.
Генерал усмехнулся.
— Полагаю, встречаются и такие, кому приятна сама погоня, кто счастлив терзаться и мучиться вдали от предмета своих желаний.
Денон усмехнулся в ответ.
— Уверяю вас, дорогой генерал: будь моей целью слава, я ни за что на свете не позволил бы ей терзать и мучить меня.
Молодой человек хитро прищурился.
— Значит, вы совершенно убеждены, что желаете именно сам предмет? — Он указал взглядом на нимфу с красной ленточкой. — Или все-таки наслаждаетесь охотой?
— Предмет?..
Денон был воистину ошарашен. Неужели этот юноша с самого начала подозревал о его рассеянности? И говорил банальные вещи в полной уверенности, что его не слушают?
— Как вам сказать, — польщенно усмехнувшись, выдавил Денон. — Охотник-практик занимается своим делом ради выживания, а не ради забавы.
Молодой генерал поднял пустой стакан.
— Тогда — за охотника. За художника. Писателя-порнографа. Дипломата. Шпиона.
Денон всеми силами попытался не выдать крайнего изумления.
— Боже мой… Похоже, вы действительно обо мне наслышаны.
— Я и сам не очень знатного происхождения, поэтому восхищаюсь людьми, сумевшими разорвать оковы неблагосклонной судьбы.
— Позвольте?..
— Чтобы сын провинциального адвоката сделался дворцовым камергером за два коротких года… Как тут не позавидовать?
Денону, употребившему все усилия на то, чтобы скрыть свое происхождение, все труднее удавалось сохранять на лице подобие отрешенной невозмутимости.
— Ну… — начал он. — Говорят, это крупное достижение. Видите ли, достаточно иметь хорошо подвешенный язык, чтобы продвинуться в свете.
— Ваша правда, — согласился генерал. — Тем более что вы у нас по меньшей мере Александр Македонский среди рассказчиков.
Денон смущенно хохотнул в ответ, однако не нашелся, что возразить: еще в молодые годы он так прославился своим талантом излагать истории, подобным дару знаменитой Шехерезады, что сам Людовик XV, услышав об очередном занятном случае, частенько требовал пересказать его остроумному придворному юноше, дабы к вечеру весь королевский чертог мог насладиться анекдотом в очищенном, как переплавленное золото, виде. Невольно польщенный и вдохновленный — да нет, просто вынужденный — проявить свое умение, Денон позабыл и думать о чарующей нимфе: помыслы о ней отступили подобно бесчисленным полкам, загнанным в море твердой рукой молодого генерала. Вместо этого он принялся перебирать архивы памяти в поисках подходящего рассказа и совершенно нечаянно (в ту пору ему еще не было известно, сколь жадно его собеседник искал экзотики, цели, миссии — предмета, которому он мог бы посвятить свою одержимую душу) выбрал одну восхитительно таинственную египетскую историю.
— Кстати, — начал он, — приходилось ли вам, дорогой генерал, слышать о чертоге царей в Египте?
Собеседник подался вперед.
— Царский чертог? Тот, что в Великой пирамиде? Разумеется!
— Нет, мой дорогой генерал, вы говорите о la Chambre du Roi, который прославлен по всему миру. Я же имею в виду la Chambre des Rois — чертог царей, известный как чертог вечности и куда более загадочный.
Молодой человек заметно напрягся.
— Как вы сказали — чертог вечности? Признаюсь, никогда о нем не слышал.
Денон удовлетворенно кивнул.
— Это произошло несколько лет назад. Будучи conseiller d'ambassade[22] в Неаполитанском королевстве, я приехал в Портику с дипломатическим визитом, и Франческо де Вегас, набросавший самый первый план раскопок, уговорил меня посетить руины Геркуланума.
(Вообще-то, насколько помнил рассказчик, он умирал от скуки в Неаполе и готов был на что угодно, лишь бы сбежать от лени, вина и устриц.)
— Возможно, вы слышали о том, что Геркуланум, как и соседние с ним Помпеи, погиб во время знаменитого извержения Везувия в семьдесят девятом году нашей эры. Нет слов, это было ужасно для местных жителей, но, к счастью для археологов, огромные участки города сохранились в первозданном виде. Среди уцелевших предметов обнаружилось множество бесценных манускриптов, большинство — на папирусных свитках, все еще намотанных на тонкие палки и разложенных по длинным полкам; казалось, они едва не лопались от желания поведать миру свои секреты, хотя и выглядели столь хрупкими, что могли бы разлететься от малейшего дуновения. Как я узнал, манускрипты перешли в руки падре Антонио Пьяджи, чудаковатого старика-монаха с беззубой улыбкой и трясущимися руками.
(На самом деле Пьяджи оказался на удивление подвижным и сметливым священнослужителем; Денон мысленно извинился перед ним за клевету.)
— Так вот, этот занятный старик, при всей своей дряхлости, собрал гениальное копировальное устройство: бережно закрепив на нем края манускрипта, можно было приложить к оригинальной надписи тонкий слой шелка, вымоченного в ликере, и древние буквы проступали на свет — впервые за сотни лет после извержения. Кое-что из этих сокровищ он показал и мне; я без труда узнал египетские мотивы, которые видел на стенах домов в районе раскопок, и наугад полюбопытствовал, не встречались ли ему рукописи, относящиеся к эпохе фараонов.
Денон, конечно, заметил жадный интерес, вспыхнувший в глазах молодого генерала, но не придал ему особенного значения. В ту пору Париж буквально сходил с ума от всего египетского: вспомним хотя бы фараоновские обряды, исполняемые в поддельных древних святилищах, и безмерную популярность гадальщиков на испещренных иероглифами картах таро.
— Тут, разумеется, монах разволновался, — продолжал рассказчик. — На какое-то время он замолчал, точно собирался с мыслями. Мне даже почудилась тонкая струйка пота у его виска. В конце концов старик решил, что видит перед собой человека, которому можно доверить секрет, и самым таинственным тоном поведал удивительную историю…
(По правде сказать, Пьяджи выложил все свои загадки столь будничным голосом, словно жаловался на подорожание сыра. Но для пущего впечатления Денон понизил голос до шепота. Генерал и художник будто бы отгородились непроницаемой стеной от шумного, переполненного людьми салона и очутились в безлюдном чертоге, куда не долетало ни звука).
— Старик признался, что сам он во время раскопок не находил египетских документов, но год назад некие монахи из Модены, наслышанные о его удивительном изобретении, явились к нему поздним вечером под покровом глубокой секретности. Они принесли с собой тяжелый сундук с висячим замком, открыли потайное дно и достали оттуда документ чрезвычайной редкости, только что найденный, по их собственным словам, в одном из древних подвалов, когда над ним обрушился пол. Как поведали необычные гости, манускрипт, написанный на латыни и греческом, был некогда спасен из Александрийской библиотеки, которая, как вы помните, сгорела дотла во время уличных боев, когда воины Юлия Цезаря захватили город…
— По версии Плутарха, — безотчетно поправил его молодой генерал, впервые за последние несколько минут решившись подать голос. — Другие историки утверждают, что библиотека была уничтожена в третьем столетии, а то и в двенадцатом.
— Да, я об этом слышал, — солгал Денон, вспомнив, что следует быть осмотрительнее. — Между тем монахи бережно развернули исключительно хрупкие свитки, и Пьяджи принялся за работу. Несколько долгих часов он хранил гробовое молчание и не задавал вопросов до самой последней минуты, когда величие находки сделалось ясно как день. «Но это же, — произнес он дрожащим голосом, — это же не что иное, как утерянный манускрипт „Эгиптики“!»
Молодой генерал вмешался снова:
— «Эгиптика»? Энциклопедия Древнего Египта?[23] Та самая, на которую опирался Цеца,[24] когда создавал свой нетленный труд?
— Видимо, да, — подтвердил Денон, хотя, безусловно, впервые слышал это странное имя. — Надо признать, глазам доброго падре предстало далеко не все, поскольку сам документ был не слишком велик и к тому же грешил пробелами, однако, перенося разрозненные слова на шелк, монах сумел различить несколько упоминаний о так называемом чертоге вечности. Разумеется, Пьяджи уже доводилось слышать о роскошном чертоге, денно и нощно охраняемом свирепыми стражами, хранящем, согласно бесчисленным легендам, секреты человеческого счастья, всех минувших и грядущих веков и другую космическую информацию, предназначенную исключительно для ушей фараонов. Старик знал, что многие короли, императоры и калифы пытались найти это место, подобно тому как прочие искали священный Грааль, и всегда под покровом строжайшей тайны. Считается, что за последние две тысячи лет по меньшей мере некоторые великие исторические фигуры были допущены лично к его секретам.
— Кто? — спросил молодой генерал. — Какие фигуры?
— Август Цезарь, — радостно сообщил Денон. — Клеопатра, Александр Македонский.
— Македонский?
— Так гласит легенда. Дело довольно щекотливое — о нем по сей день перешептываются в высочайших кругах. Честно сказать, я и сам имел отношение к подобным слухам в ту пору, когда служил при дворе Людовика Пятнадцатого, хотя и никогда не придавал им большого значения. Но там, в Геркулануме, я повстречал человека, который своими глазами видел письменное свидетельство, к тому же полученное из первых рук.
— А может, этому падре, — вмешался молодой генерал, явно заинтригованный рассказом, — удалось разгадать и место расположения чертога?
— Пьяджи копировал фрагменты в бессистемном порядке, да и те у него забрали монахи, чтобы спрятать обратно в сундук, покуда старик не увидел слишком многого. Но прежде чем гости растворились в зимнем рассвете, он все-таки не удержался и спросил, что они собираются делать с обнаруженным сокровищем. Можете ли вы представить, каким был ответ?
Генерал энергично помотал головой.
— Монахи заявили, что намерены вернуть манускрипт на прежнее место — и запечатать навеки.
— Значит, никто ничего не узнал? Ни одна душа?
— Даже Папа Римский! — ответил Денон. — Они взвалили себе на плечи бремя ужасной тайны, решив унести ее с собой в могилу.
— Для того, чтобы сохранить чертог вечности? Спасти святыню от надругательства?
— Или из страха перед новыми тайнами! — произнес, упиваясь эффектом, Денон. — Быть может, смирение внушило монахам, что никто из смертных — даже носящий на пальце кольцо святого Петра — не достоин узнать об этих пророчествах.
Генерал закивал, глаза его страстно блестели, и Денон позволил себе сделать паузу, чтобы его слова глубже проникли в сознание честолюбивого собеседника, а сам покуда взял у проходящего мимо слуги бокал шампанского. Потягивая искристый напиток, он между прочим отметил про себя, что выбранная им в добычу прелестница (сама напоминающая дутый бокал с вином) уединилась в уголке с молоденьким кавалером классической внешности и завязала игривый разговор. «Напрасная трата времени», — усмехнулся Денон, знавший наверняка, что юный аполлон частенько ночует на пышных перинах Барраса. Оставалось только вздохнуть и глотнуть еще шампанского.
— Скажите, а вы бывали когда-нибудь на Везувии? — начал было Денон, готовясь поведать очередную захватывающую историю из своих похождений в Неаполе. — Поразительное место. Струи лавы так высоко выстреливают в воздух…
Однако тут, к немалой своей тревоге, он обнаружил, что собеседник не собирается — и никогда не собирался — дать сбить себя с толку.
— А вы совершенно уверены, — на полном серьезе перебил его генерал Наполеон Бонапарт, — что монахи явились из Модены?
Четвертого октября тысяча семьсот девяносто пятого года Денон посетил театр «Фейдо» в приятной компании уступчивой «революционной вдовушки» с короткой памятью и увесистой грудью. Вечер выдался неспокойный, и стоило пылкой парочке, уже втянувшейся в прелюдию к любовной игре, покинуть экипаж, как вдали раздалась барабанная дробь, возвещающая о марше мятежной партии.
— Это роялисты? — спросила дрожащая спутница.
— Национальная гвардия, — ответил Денон, прислушиваясь. — У них превосходные барабанщики.
— Неужели будет контрреволюция?
— Не думаю, если мятежников быстро и своевременно возьмут в тиски.
— Так же быстро, как вы меня? — хихикнула вдовушка, точно кокетливая монашка.
Поглаживая ее полную руку, Денон не удержался от колкости.
— У меня такое чувство, что им достанет гордости для более упорного сопротивления, — пробормотал он.
Пьеса называлась «Примерный сын». Денон сам ее выбрал в надежде на то, что душераздирающая развязка сентиментальной трагедии вынудит его оставшуюся без мужа пассию искать утешения и некой близости, — а впрочем, вряд ли дама нуждалась в подобном подстрекательстве. И вот, сопровождая спутницу к заказанным местам, он с беспокойством заметил в ложе напротив одиноко сидящего, погруженного в раздумья Бонапарта. Как правило, эту ложу снимали Богарне: было уже известно, что молодой генерал ухаживает за светской львицей Розой де Богарне, зрелой вдовой, чья кроткая улыбка скрывала как расчетливую натуру, так и ряд отвратительных зубов.
Опустившись на бархатное сиденье, Денон поспешил спрятаться за занавесками и стал с преувеличенным вниманием смотреть на сцену, тем более что пьеса уже началась. Однако боковым зрением он вдруг увидел, как молодой генерал торопится подозвать его знаками.
Денон невольно отпрянул в тень, но было уже поздно. В конце концов, тяжело вздохнув, он понял, что ничего не попишешь, извинился перед своей изумленной дамой и отправился на зов.
— Я о чертоге вечности, — шепнул Наполеон. — Хочу кое-что спросить.
Ничуть не удивленный, Денон присел на соседнее кресло и подался вперед, изображая напряженный интерес. Последние несколько недель он только тем и занимался, что собирал сведения о молодом генерале, этом сыне адвоката-дворянина, уроженце пропитанной кровью Корсики, и наконец решил: знай он все это раньше, непременно воздержался бы от египетской байки — или по крайней мере не стал бы приправлять ее столь пряными, ударяющими в голову подробностями.
Наполеон Бонапарт отличался цепким умом, достаточным уровнем культуры, природной проницательностью и необыкновенной чувствительностью — все это сразу бросалось в глаза. Но кроме того, с ранних лет он жадно впитывал суеверия, рассказы о призраках, легенды и мифы о королях и калифах, привыкая оценивать людские достижения по самым завышенным и романтическим меркам. Как человек, над чьими недостатками беспощадно глумились в военном училище, он выучился ловить любую возможность, чтобы заглушить голоса насмешников и отомстить за себя, поднявшись на недосягаемую высоту. Однако, словно и этого было мало, Наполеон успел развить в себе исключительную любовь к Востоку: «Все величие мира сокрыто здесь», — провозглашал он, не тая мечты править в этих краях с тюрбаном на голове и новым Кораном в руке. Судите сами, стоит ли изумляться, что Денон раскаялся в собственной неосторожности. Поманить морковкой ручного осла — совсем не то же самое, что дразнить акулу свежей кровью.
— Ну разумеется, мой дорогой генерал.
— Среди посетителей чертога вы, как я отчетливо помню, называли Александра Македонского.
— Все верно, называл.
— И вам, конечно же, известно об этой истории в оазисе Сива?
— Э-э-э… Напомните, пожалуйста, — проронил Денон, не отрывая глаз от далекой, но впечатляющей груди своей дамы сердца.
— Легенда гласит, что шипящие змеи сопроводили Александра в Сиву, прямо к святилищу Амона Ра, верховные жрецы которого открыли полководцу его судьбу, посулили ему не только престол фараона в Египте, но и титул властелина рода человеческого.
— Сива… Властелин человечества… Да-да, припоминаю.
— Разве отсюда не следует, что и чертог находится в оазисе Сива? Ведь это единственное мистическое приключение Александра в Египте.
— Не уверен, — возразил Денон. — Святой отец… м-м-м, говорил, что точное местонахождение чертога во все века старались… утаить.
— Значит, легенда может оказаться просто вымыслом или даже ловушкой для легковерных искателей?
— Во всяком случае, похоже, очень многое было сделано, чтобы сбить охотников со следа.
Прелестная юная актриса на сцене принялась рыдать в носовой платок.
— А как насчет Августа Цезаря? По вашим словам, он тоже посещал чертог. А между тем нет никаких свидетельств тому, чтобы он вообще ступал на землю Египта. После битвы при Актии и разгрома флотилии Клеопатры император вернулся в Рим.
— Неужели я сказал: «Август»? По-моему, это был Юлий Цезарь.
— Нет, вы точно назвали Августа.
— Что ж… — Денон усмехнулся. — Вот вам еще одна тайна, мой дорогой генерал.
Наполеон склонился к собеседнику:
— Я спрашиваю, потому что интересуюсь, так ли необходимо лично побывать в чертоге, чтобы узнать его тайны. По-вашему, Август мог бы послать в Египет доверенного человека за всеми нужными сведениями?
— Звучит правдоподобно.
— Вы ведь знаете, что во времена правления Августа префект Элий Галл в обществе греческого географа Страбона предпринял утомительное путешествие за чудесами Египта?
— Если не ошибаюсь, я совсем недавно слышал это имя.
— Возможно, из уст отца Пьяджи?
— Пьяджи? — Уже не в первый раз Денон поразился памяти собеседника. — По-моему, старого монаха звали…
— Я собственными ушами слышал имя — Антонио Пьяджи.
— Пьяджи… Пьяцци… сколько их было… Но Элий Галл — да-да, чем больше я думаю, тем больше уверен.
— И вы не намекали, что лично слышали при дворе Людовика Пятнадцатого о более современных экспедициях?
— Чего только не услышишь, служа при дворе.
— Можете вспомнить хотя бы некоторых правителей из этой династии?
— Ладно… — Денон помедлил. — Кажется, среди них был… — Он выбрал более или менее случайное имя. — Людовик Четырнадцатый.
Наполеон с готовностью закивал.
— Именно так! Вам известно, что в тысяча семьсот четырнадцатом году Людовик Четырнадцатый посылал в Египет Поля Лукаса?
— Поля Лукаса?
— Но этого мало. В тысяча семьсот десятом году Карл Двенадцатый, король Швеции, снарядил в такую же экспедицию Корнелия Лооса. А еще позже, в тысяча семьсот тридцать седьмом году, датский король Христиан Шестой высочайшим повелением отправил в Египет Фредерика Людвига Нордена!
Тут из соседней ложи послышался негодующий стук. Выглянув, мужчины наткнулись на леденящий взгляд напудренной важной мадам. В ответ Наполеон сверкнул глазами и выставил напоказ плечо с увесистым эполетом. Женщина съежилась в кресле; тем временем пьеса, как ей и полагалось, шла своим чередом.
— Норден? Лоос? — прошептал Денон. — Странно, я о них уже где-то слышал.
— Да-да. Видите, доказательства подбираются. Вот он, давний секрет королевских семейств и высочайших кругов. Предмет вечных поисков, порой, как мне представляется, успешных, но их плоды всегда скрывали от простонародья. Неудивительно, что монахи решили похоронить тайну в подвале! Кстати, не помните, из какого они были ордена?
— Кажется, бенедиктинцы…
— Вы уверены? В тех краях множество орденов. А может, капуцины? Или францисканцы?
— Ну… что-то в этом роде, — с благодарностью подхватил Денон.
— Но по крайней мере они пришли из Модены?
— Пожалуй, да, из Модены. Или Мантуи. Если только не из Милана.
— В общем, это где-то к северу от Неаполя?
— Точнее, где-то в Италии.
Против ожидания, Наполеон просиял.
— Отлично! Раз уж сам чертог находится где-то в Египте, почему бы единственному ключу к разгадке не находиться где-то в Италии?
Он погрузился в молчание, раздумывая над вызовом судьбы — все-таки вызов — это великолепно! — и больше не задал ни одного вопроса. Денон заключил, что может быть свободен, и возвратился к себе в ложу.
Однако, как это часто случается с блестящими рассказчиками, теперь он и сам уже не мог отделить правду от «красного словца». Само собой, взятая за основу легенда по большей части была изложена верно, хотя… Готов ли Денон поклясться в этом чем-нибудь ценным? Своей головой, например? Или репутацией? Готов ли поставить на кон свою золотую пуговицу? И вообще, разве он верит в подобные басни? Будучи приятелем и учеником Вольтера, Денон привык держаться на почтительном расстоянии от всяческих культовых отправлений и магических сфер. Нет, он, конечно, посещал сеансы в парижском храме Изиды, наслаждаясь их приподнятой атмосферой, раз или два позволял гадать себе по руке или на кофейной гуще, почитывал гороскопы, а в нежном одиннадцатилетнем возрасте услышал от цыганки-предсказательницы, что сделается знаменитым придворным, будет иметь успех у дам и навсегда останется под покровительством счастливой звезды. Впрочем, всей этой ереси он придавал не больше значения, нежели пылким стонам продажной женщины.
И все-таки в страстной вере Наполеона было нечто такое, что заставило Денона крепко призадуматься. А вдруг легенда и впрямь содержит зерно истины? В конце концов, кто может знать наверняка? Разве наш мир обеднел загадками, над которыми до сих пор ломают головы самые просвещенные люди?
Настало время признаться: Денон попал под влияние молодого генерала и почему-то совершенно не испугался этого. Инстинкт выживания, заострившийся в дни Революции подобно боевому клинку, на сей раз не подавал сигналов тревоги. (К слову: похоже, с его старинной подружкой Розой де Богарне творилось то же самое, иначе как объяснить этот немыслимый флирт?) Достаточно сказать, что и спустя много лет Денон будет ясно помнить подробности вечернего разговора с Наполеоном в отличие от сластолюбивой вдовушки, которую тут же забудет.
На следующий день, возглавив пять тысяч отрядов, Бонапарт защитил правительство от повстанцев, неустанно обстреливая картечью их тающие ряды. С приходом ночи более тысячи бунтовщиков остались лежать бездыханными на залитых кровью улицах.
Полгода спустя Наполеон взял Розу в супруги, дав ей новое имя — Жозефина.
Еще через два дня он объявил начало итальянской кампании.
Предупрежденный о том, что его снова разыскивает Наполеон, Денон решил укрыться в музейных хранилищах Лувра.
Шел февраль тысяча семьсот девяносто восьмого года. Первые встречи остались позади; с тех пор молодой генерал заметно перерос тщедушного низкорослого офицера артиллерии с сумасбродными амбициями. Он ворвался в Италию и с пугающей стремительностью обратил в беспорядочное бегство австрийские и пьемонтские военные силы, побеждая в битве за битвой, занимая город за городом, заключая одно соглашение за другим, прилагая добычу к добыче; создал Цизальпинскую и Лигурийскую республики на севере Италии, забрал в подчинение Бельгию и весь левый берег Рейна; и вот, двадцати восьми лет от роду, он вернулся в Париж, став предметом всеобщего изумления, — завоеватель, освободитель, грабитель, дипломат, командующий… кто угодно.
По этой гремучей смеси качеств, соединить которые смогли бы разве что самые мощные гальванические силы, Денон безошибочно узнал в Наполеоне человека с пугающей способностью быть всем сразу; вот почему один лишь намек на возобновление знакомства породил в его душе целую бурю восторга и ужаса. Впрочем, судя по тому как развивались события, встреча казалась тем более неизбежной, чем усерднее он ее избегал. Вот почему в тот ненастный зимний день, будучи со сверхъестественной легкостью обнаруженным в Лувре — точно выслеженным натасканным волкодавом, — Денон почувствовал лишь непривычную, но отнюдь не неприятную, обреченность.
— Знаете, что сказал мой дядя Грегорио? — спросил подозрительно жизнерадостный генерал.
— Ну и что же сказал дядя Грегорио? — отвечал собеседник ему в тон, одновременно притворяясь, будто ужасно занят: он ведь якобы явился сюда изучить хрупкие итальянские трофеи — вазы, алтарные фрагменты, бюсты из мрамора и бесценные произведения искусства.
— Он сказал: если хочешь поймать лису, которая съела кур, ищи лису, а не перья.
Денон прикинулся, что не понял намека.
— Умный у вас дядюшка. Нет, вы только взгляните! «Ужасы войны» Ван Дейка. Какое изящество!
— Это я лично переслал во Францию.
— И превосходно сделали! Какое запустение! А грязь! И осыпающаяся краска!
— Мой дорогой Виван, а вы не хотите узнать, кто такой дядя Грегорио и что он имел в виду под этой таинственной фразой?
— Даже в раме червоточины. Червоточины!
— Или, например, зачем я вообще к нему обратился?
— Надо же, червоточины!
Наполеон, чисто выбритый и помывшийся, в отлично сшитом костюме, только фыркнул:
— Мой дорогой Виван, вы что, не слышите? Я спросил, знаете ли вы моего дядю и почему я сделал крюк через Сан-Минато ради встречи с ним?
Денон сделал паузу, наморщил лоб и заморгал.
— Что?.. Ваш дядюшка? — Тут он опять повернулся к картине. — А ведь, я уверен, над ней пришлось поработать. Ах, эти червоточины!
Наполеон сложил руки за спиной.
— Падре Григорий Бонапарт — один из наиболее почитаемых и образованных христианских священников. Нет такого вопроса, касающегося церкви, который бы ускользнул от его внимания. Я изложил ему вашу историю о местных монахах, утаивших бесценный документ древности, причем, как мог, завуалировал подробности. И вы представляете, что он мне ответил? Догадываетесь?
По-прежнему не глядя на собеседника, Денон рассеянно теребил мочку уха.
— Ну и что же сказал ваш драгоценный дядюшка?
— Он тут же понял: речь идет о чертоге вечности. Понимаете, в ту же минуту! Он тоже слышал легенду, в точности совпадающую с вашим рассказом. И, по его словам, в чертоге помимо всяких мистических знаков и кодов содержится такое… Ну, что, по-вашему?
Денон сглотнул сухой ком в горле.
— Так что же?
— Личная подпись Бога.
— Подпись Бога?
— Вот именно.
Денон медленно шел по рядам, с показным восхищением оглядывая сокровища.
— Какое великолепие! — обронил он через плечо.
Наполеон безжалостно шагал следом.
— Увы, он был не в силах что-либо прибавить, хотя бы указать месторасположение документа или орден, к которому принадлежали эти скрытные монахи. Я искал повсюду. В замках. В монастырях. В библиотеках. В университетах. Я изымал самые разные рукописи, я сотнями отсылал их на исследование в секретный архив Ватикана — и не нашел ни единого упоминания о чертоге.
— Ну, значит…
— С другой стороны, как выражается мой дядя, нужно искать лису, а не перья.
— Лису… — отрешенно проговорил Денон, остановившись перед «Умирающим галлом» и устремив на него пристальный взгляд.
— Больше нет смысла работать над этим в Италии.
— Италия…
— Если перья и были, они уже разлетелись.
— Разлетелись…
— Так что выбора у меня не осталось. Никакого.
— Никакого выбора…
Наполеон приосанился.
— Я отправляюсь в Египет.
— Египет… — отозвался Денон, продолжая восхищаться изваянием.
— Подобно Александру Македонскому, я беру с собой несколько лучших умов.
— Ах, Македонскому!
— Это будет моя Commission des Sciences et des Arts.[25]
— Надо же, комиссия!
— Архитекторы, математики, естествоиспытатели, астрономы, минералоги, химик, картографы…
— Да-да, понятно…
— Мой дорогой Виван, — озадаченно спросил Наполеон. — У вас такой безучастный вид. Неужели вы все пропустили мимо ушей? Я объявил, что еду в Египет.
— В Египет? — Денон по-прежнему не сводил глаз со статуи. — Что ж, полагаю, у вас благородные причины.
Наполеон с готовностью парировал вызов:
— Освободить достойных крестьян от ига мамелюков. Предоставить последние достижения техники и медицины народу, погрязшему в варварстве. Оросить долины Нила, вернуть колыбель цивилизации к процветанию, а также обогатить сферы искусства и истории путем самого тщательного изучения местной флоры, фауны и архитектуры.
— Чудесные планы!
— Я уже нанял Гаспара Монжа,[26] Жоффруа Сент-Илера,[27] Николя Жака Конте[28] и Деодата Доломье.[29]
Денон принялся обходить статую.
— Обратите внимание, какие муки выражает это лицо! Буквально каждая черточка! Здесь боль, которая превыше смерти!
— Мне не хватает лишь художника.
— Умирание духа — о, это даже страшнее, чем угасание плоти!
— И сочинителя, — гнул свое Наполеон.
— Как пятна света подчеркивают его страдания!
— А главное — шпиона.
— Надо будет непременно выставить эту статую в хорошо освещенном зале.
— У меня есть на примете подходящий человек.
Денон совершенно скрылся за «Умирающим галлом».
Наполеон улыбнулся.
— Вы что, не слышали ни слова, негодник? Я разыскиваю чертог, и мне нужен помощник. Это будет самое значительное путешествие в мировой истории. Мне очень важно, чтобы вы сопровождали меня в Египет. Вы перероете эту страну, покуда я буду усмирять каирских аборигенов.
Денон помедлил, чтобы собраться с мыслями, и наконец вышел из своего укрытия. Лицо его было бесстрастно, словно могильная плита.
— Я… не могу поехать.
Наполеон усмехнулся.
— С чего бы это?
— Мне пятьдесят один год.
— Гаспару Монжу пятьдесят два.
— У меня… у меня здесь полно хлопот. Нужно еще навести порядок среди этих шедевров и лично пронаблюдать за их реставрацией.
— В Египте нас ожидают сокровища, бесконечно более драгоценные.
— Я только что переехал в новый дом.
— Значит, без сожаления с ним расстанетесь, — ответил Наполеон и рассмеялся: — Да будет вам, скажите еще, будто вы не хотите своими глазами увидеть чертог вечности! Не вы ли первый заразили меня рассказами о его славе? А может, это судьба? Разве ей не под силу смести с дороги все надуманные преграды?
Денон заглянул в бледно-голубые глаза генерала и увидел в них отражение империй.
— Да, но я…
Наполеон подался вперед и ущипнул его за щеку.
— Мой дорогой Виван, известно ли вам, что сказал мой дядя Грегорио?
— Какой разговорчивый у вас родственник.
— Он сказал, что в серьезных делах следует отвергать послушных и с радостью принимать непокорных.
— Так говорит ваш дядюшка?
— Он же не только святой, но еще и философ.
Поразмыслив, Денон напустил на себя рассерженный вид.
— Ну тогда… тогда я решительно требую: возьмите меня в Египет! — воскликнул он, воздевая руки. — Я настаиваю! Я сейчас лопну от воодушевления!
Генерал нахмурился.
— Ах вот как! Теперь вы настаиваете?
— Именно!
Наполеон вздохнул, всем своим видом выразив разочарование.
— Ну раз уж вы столь воинственно настроены, мне остается только одно: будь по-вашему. Что ж поделаешь? — прибавил он.
И, миновав «Преображение» Рафаэля, беззаботно пошагал к выходу.
— До встречи в Тулоне, — обронил на прощание генерал, подавив усмешку.
Доминик Виван Денон был, несомненно, натурой творческой, но при этом лишенной любых романтических иллюзий в отношении смерти; не представляя себе более или менее достойного существования за гранью этой жизни, он пылко предался поискам земных удовольствий. Стратегический запас моднейших убеждений, отмеченных игривой двусмысленностью, помогал ему прокладывать путь в наиболее беспокойную для его нации эпоху и в конечном счете позволил стать одним из немногих подлинных счастливцев столетия. В свое время Денон успел свести знакомство с Людовиком XV и Людовиком XVI, с Марией-Антуанеттой, мадам де Помпадур, Фридрихом Великим, Вольтером, Екатериной Великой, с Робеспьером, Гёте, Стендалем и с Папой Пием VI. Но тайный агент всегда верен принципу: привлекать к себе как можно меньше внимания, и потому Вивану оставалось лишь восхищаться честолюбием людей, подобных Наполеону, столь охотно готовых отказаться от безвестности ради того, чтобы превратиться в живую легенду, мишень для наемных убийц, в дышащий холст, на котором свет напишет портрет собственных слабостей и тщеславных грез. Но, будто этого мало, какой безрассудной дерзостью нужно обладать, чтобы ринуться в битву из единственного желания — наделить миф плотью и кровью! Денону много раз доводилось вступать в сомнительную игру, но никогда еще его не дразнила близостью сама смерть.
Тем не менее он подавил свои страхи и с чувством обреченности отправился в Тулон, чтобы взойти на борт вместе с прочими участниками экспедиции. Великая армада из четырехсот с лишним кораблей занимала четыре квадратных мили Средиземного моря. На палубах и в трюмах теснилось тридцать пять тысяч растерянных солдат, шестнадцать тысяч бывалых матросов, двести недоумевающих ученых, тысяча рассерженных лошадей — и дюжины перелетных птиц, что беспрестанно садились на реи, принимая их за ветви бескрайнего плавучего леса.
Впереди, несомый теми же потоками, которые некогда благополучно доставили Цезаря к берегам Александрии, гордо рассекал волны флагманский корабль «Ориент» — ощетинившаяся грозными дулами громадина, до того перегруженная боевыми и прочими припасами, что, покидая гавань, она царапала килем дно. В роскошном салоне Наполеон установил свою кровать, закрепив ее на хитроумных шарнирах, дабы совершенно не чувствовать качки; как правило, чтобы заснуть, он почитывал что-нибудь историческое, наблюдал импровизированные представления на палубе или вел с избранными попутчиками бесконечные споры научного, философского и фривольного содержания.
Туманным вечером двадцать пятого июня вдалеке затрещали сигнальные выстрелы. Неужели эскадра лорда Нельсона пустилась в погоню? Наполеон посмеялся над этим предположением и с удвоенным пылом вернулся к спору о тайном значении снов. Кое-кто из ученых в угоду собеседнику предлагал свои толкования: к примеру, пригрезившаяся обезьяна, по их словам, означала близость озлобленного врага, звук трубы предвещал колебания фортуны, а град предсказывал несчастье. На что Виван Денон, нарочно доставленный на корабль ради этой вечерней дискуссии, колко возразил, что просто обязан теперь попасть в беду, ибо как раз накануне видел во сне обезьяну, которая рьяно трубила в трубу под ужасным градом. На этом беседа оборвалась.
Немного погодя, при плавно колеблющемся свете фонарей, художник представил командующему целую папку свежих набросков, на которых были изображены дельфины, резвящиеся перед носом «Юноны», сполохи ружейного огня на Мальте и вулкан Этна, плюющийся лавой на расстояние до пятидесяти лиг. Наполеон, в свою очередь, показал ему прокламацию, которую собирался издать по прибытии в Александрию. Денон пробежал документ глазами:
«Именем Милостивого и Сострадательного Бога… Бонапарт, командующий французской армии, обращается к вам… С давних пор эта свора невольников, купленных на Кавказе и в Грузии, властвует над прекраснейшей страной в мире… Но Всемогущий повелел, чтобы их владычеству был положен конец… Я пришел для того, чтобы возвратить вам ваши права, наказать похитителей… Я более, чем мамелюки, чту Бога, Его пророка Магомета и Аль-Коран… Трижды блаженны те, кто будет заодно с нами! Они обретут почести, и богатство их приумножится… Но горе, трижды горе тем, кто пристанет к мамелюкам и поднимет оружие против нас! Для них не будет надежды; они все погибнет… и самые их имена навеки сотрутся из памяти… Боже, храни славу французской армии!»
— Похоже на послание… пророка, — заметил Денон.
— Ну разумеется! Я много раз перечитывал Коран, а также историю арабов.
— Чтобы лучше понять их культуру?
— Нет, чтобы подчинить ее своей воле.
Тут Денон позволил себе выразить сомнение:
— Насколько я знаю мусульман, вряд ли они готовы принять неверного завоевателя с распростертыми объятиями.
— Вот еще! — отмахнулся Наполеон. — Египтяне будут в восторге от новых порядков. Эти мамелюки — всего лишь тираны.
— Да, но они тираны-единоверцы.
— Подумаешь! — презрительно фыркнул собеседник. — Трудности, конечно, возникнут: здешние края кишат фанатиками, как муравьями. Главное — сразу показать себя хозяином, распространить суровые воззвания и внушить почтение через страх. В общем, поддерживать свою власть ровно настолько, чтобы развязать себе руки для более важных дел.
Денон, облаченный во фрак с золотой тесьмой и панталоны до колен, словно собравшийся в оперу, с отчаянием посмотрел туда, где на правый борт надвигалась густая стена тумана.
— Я тут… я тут хотел сказать пару слов обо всем этом…
— О чем?
— Насчет чертога… Так называемого чертога вечности.
— А что такое?
— Ну… — Художник сглотнул. — Боюсь, я легкомысленно заставил вас понастроить воздушных замков.
— Ну-ка, ну-ка… Куда вы клоните? — Наполеон сощурился. — Хотите сказать, будто все выдумали? Теперь, когда осталась еще неделя — и мы в Египте?
— Нет, я ничего не выдумал, даже не имел в виду ничего подобного. Но ведь очень вероятно, вы понимаете, что чертог никогда не найдется или, скажем, легенды сильно преувеличивают…
— Что такое? — поразился Наполеон. — Значит, чертога, возможно, не существует и вы мне только сейчас об этом заявляете?
— Нужно учитывать и такую ужасную вероятность, — промолвил Денон под громкие вздохи вздымающихся парусов.
Наполеон сверкнул глазами, однако не смог сдержать ухмылки.
— Ах вы, старый злющий бездельник! Опасаетесь, что ваш командующий будет разочарован, верно?
— Ну-у-у…
Наполеон рассмеялся.
— Успокойтесь, дорогой Виван. Если уж Вольней предупреждал меня о том же самом…
— Вольней?
— Ну да, выдающийся египтолог Франции Константен Франсуа Вольней.
— Я знаю о нем. Но… вы и с ним это обсуждали?
— Очень даже подробно. Он тоже предупреждал меня, хотел уберечь от завышенных ожиданий. Однако не стал отрицать существования чертога.
— В самом деле?
— Естественно. Вольней назвал имена бесчисленных священников и естествоиспытателей, которые занимались поисками в Средние века, в основном под покровительством и при поддержке соответствующего Папы Римского. Не говоря уже о более известных личностях вроде Халифа аль-Мамуна… Вы, разумеется, слышали о таком?
— Халиф аль-Мамун?
— Да, сын Гаруна аль-Рашида из «Тысяча и одной ночи». Незаурядный знаток философии и многих наук. Наслушавшись захватывающих дух историй, он ради поисков нарочно прибыл в Египет из самого Багдада. В конце концов он сколотил себе состояние и, расписавшись в поражении, удалился восвояси. Но говорят, что его визирь, персиянин по имени Хасан ибн Сахль, где-то в песках нашел неописуемые сокровища и что некий таинственный жрец раскрыл ему извечные секреты.
— «Тысяча и одна ночь»?
— Нет, вы неисправимый скептик! Аль-Мамун существовал в действительности. Ибн Сахль тоже. Они так же реальны, как и я сам!
Денон нахмурился.
— Ну а чертог? Вам известно, что в нем таится?
— Все! Именно так, как вы утверждали. Ключ к бессмертию. История будущих веков. И даже смысл бытия. А что вас так удивляет?
— Просто… — Денон пожал плечами. — Смысл бытия… его весьма трудно найти.
— Как и сам чертог! Однако вы до сих пор не верите — я вижу, вы готовы лопнуть от недоверия. Но это же вольтерьянство! Послушайте, я подробно изучил историю Египта и знаю, что тамошние провидцы пользовались огромным почетом в древние времена, причем у правителей самых разных стран. Египтяне-ученые, архитекторы, астрономы опередили своих коллег по всему свету, чародеи и приверженцы каббалы не имели себе равных, а фараоны все без исключения грезили вечной жизнью. Считается, будто в устройстве храмов отразился сам космос. Так вот, я даже вообразить не могу, чтобы среди столь великих чудес и загадок не отыскалось чертога, который бросил бы вызов вечности!
И вновь Денон ощутил, как его заражает восторженность собеседника, очаровывает сама вероятность свидания с древними чудесами и неразгаданным волшебством. Какой же резон упорствовать дальше?
— А что до смысла бытия, — закончил Наполеон со смехом, — то будьте усердны в своем деле и вы отыщете его даже раньше, чем я!
Главнокомандующий явно проникся чувством собственной непобедимости. В сопровождении Денона он прогуливался по палубе, которой суждено было через пять недель, во время серьезной морской передряги при Абикуре, взлететь на воздух, словно при извержении вулкана; любовался четырьмя акрами трепещущих на ветру парусов, которые вспыхнут и сгорят подобно сухому пергаменту; обходил грот-мачту — годы спустя из нее изготовят гроб для лорда Нельсона, и дружески ударял по ладони проходящего мимо адмирала Брюэ, чье тело вскоре будет разорвано ударом пушечного ядра.
— Кстати, о «Тысяча и одной ночи», — напомнил Наполеон, глядя, как сырой туман сгущается вокруг судна. — Известно ли вам, что каждое арабское имя что-нибудь да значит? Аладдин — это «Слава веры», Камар-аз-Заман — «Луна времени».
— Разумеется. Арабы — весьма поэтичный народ.
— Да, и не только они. Вот, например, мое имя — Наполеон, знаете, как оно переводится? Лев пустыни.
— Ну а мое полное имя, — скромно потупился Денон, — ничего такого не означает. Доминик означает «раб Божий», а вот Виван Денон? «Живущий ради ничего»? «Не живущий»?
— «Живущий ради ничего», — поддразнил собеседника Бонапарт. — «Раб Божий, живущий ради ничего». — Он усмехнулся. — «Не имеющий иной причины для жизни, кроме поисков чертога вечности по воле льва в пустыне»!
Командующий обнял художника и прижал его к себе, словно брата.
Переворот песочных часов — и плавучая крепость, мерцая огоньками фонарей, глубже ушла в густое марево. На палубе одинокая скрипка затянула «Турецкий марш»; ближайший фрегат отозвался походной песней, а где-то вдали затренькало четырехпедальное фортепьяно. Матросы шептали молитвы у себя в гамаках, лошади глухо фыркали, во мгле гудели корабельные канаты.
В тот самый час перед рассветом грандиозная флотилия, укрывшись за пеленой тумана, чудесным образом миновала флот лорда Нельсона.
Первого июля тысяча семьсот девяносто восьмого года Наполеон ступил на землю Александрии.
Глава третья ЛЕГЕНДАРНЫЕ ВРЕМЕНА В ИСТОРИИ
«Отель „У Морли“, Чаринг-Кросс Восьмое июня, 1854
Уважаемый сэр Гарднер!
Я решил написать вам, чтобы выразить свою искреннюю радость от нашей встречи в Хрустальном дворце две недели тому назад и поблагодарить за великодушие, за бескорыстно уделенное мне время. Если в ту минуту мое поведение показалось вам недостаточно вежливым, то смиренно прошу о прощении: моя одержимость национальными реликвиями нередко вступает в разлад с моей же природной учтивостью.
Далее, я должен признать свою вину за то, что сразу вас не узнал и тем более не сумел надлежащим образом принести извинения. Боюсь, я был чересчур потрясен, осознав собственный промах, и не нашел в себе сил раскаяться, как следовало.
Однако же, если это вас не обременит, осмелюсь спросить, нельзя ли нам договориться о новой встрече, чтобы обсудить наш общий интерес — методы современной археологии. Вот уже несколько месяцев я думаю начать книгу под рабочим названием „Закон клада“, в которой намерен изложить историю пиратского мышления, господствовавшего в археологии на протяжении последних десятилетий. Положа руку на сердце: теперь, несмотря на все опасения, мне стало совершенно ясно, что было бы крупной ошибкой упустить из виду тему Египта, в которой вы, без сомнения, наш самый главный эксперт. Мне кажется разумным начать с изучения египетской кампании Наполеона Бонапарта и связанных с ней исследований Вивана Денона.
Если вам будет угодно назначить удобное время и место, ваш покорный слуга был бы чрезвычайно благодарен. Со своей стороны я готов сделать все возможное, чтобы не обременить вас.
Искренне ваш,
Алекс Генри Ринд».Ринда не отпускало ощущение совершающегося обмана. В то время как сэр Гарднер Уилкинсон, помимо всего прочего всемирно известный знаток в вопросе гармоничного использования цвета (в описываемое время он как раз писал об этом книгу), с гордостью демонстрировал ему сложенный зонт, собеседник, подстригший бороду, дабы придать себе более бесхитростный вид, постоянно боролся с чувством собственной неискренности; чтобы набраться решимости, ему приходилось то и дело воскрешать в памяти заговорщический шепот королевы Виктории.
— Когда я купил эту вещь в Кале — в ту пору мне стукнуло примерно столько же, сколько вам сейчас, — зонтик был ослепительно изумрудным. Потом я поднялся с ним на Везувий, и серные испарения придали ткани сапфирово-синий оттенок. В Египте я укрывался под ним от солнца; помет летучих мышей оставил хлорофилловые пятна. Потом было знойное лето в Дельфах: брызги от спелых фиг испестрили купол разводами цвета морской волны. А еще — как-то раз в Далмации я прислонил эту красоту к стенке таверны, и пегая собака выбелила ткань особо едкой мочой. В итоге получилось нечто совершенно замечательное… Вы, случаем, не страдаете предрассудками?
Ринд замялся с ответом.
— По-моему, все мы в какой-то степени ими страдаем.
Сэр Гарднер рассмеялся.
— Мудрый ответ. Вы даже не представляете себе, насколько мудрый. Просто я не хотел бы, чтобы мой рассказ помешал вам насладиться удивительным зрелищем.
С этими словами он эффектно раскрыл свой легендарный зонт. В полумраке уставленного книгами кабинета тот походил на редкий тропический цветок.
— Ну разве не чудо? — спросил сэр Гарднер, любовно вращая купол.
— Вы до сих пор им пользуетесь?
— Увы, в этом-то вся беда. Столько ливневых бурь, столько дней среди пекла — и все было в полном порядке, а вот теперь выясняется, что лондонский смог угрожает непоправимо погубить расцветку.
— А разве жара в Египте зонту не вредила?
— Совсем наоборот. Египетский воздух — исключительный консервант, и даже очень древние колонны в тех краях могут похвастать практически свежими фресками.
Шотландец кивнул.
— Еще одна причина оставить колонны на том же месте, где их возвели.
Сэр Гарднер осторожно закрыл зонт.
— Собираетесь упомянуть этот довод в вашей книге?
— Да, среди прочих.
— Что ж, это правильно… — Хозяин вдруг словно опомнился. — А впрочем, для разговора есть темы поважнее, чем диковины моего дома. — Он возвратил зонт в защитный футляр и поднял на гостя заблестевшие глаза. — Надеюсь, вы ничего не имеете против собак?
— В детстве я часто играл с терьерами.
— Так и думал. Знаете, мой пес очень тонко чувствует неприязнь и, если бы он уловил с вашей стороны хоть малейшую фальшь — давно уже зарычал бы.
— Вот видите.
Хозяин и гость забрали беспристрастного четвероногого судью из конуры на первом этаже и отправились в Риджентс-парк.
— Новый паша Египта проявил похвальную заинтересованность в сохранении руин, — произнес сэр Гарднер, спешащий за терьером, который рьяно натягивал поводок, — но все-таки книга вроде вашей никогда не помешает.
Ринд из последних сил поспевал за ними, рискуя повредить слабым легким.
— Буду счастлив, если она заставит одуматься хоть одного мародера.
— Сейчас, разумеется, все не так ужасно, как в былое время, когда гробницы преспокойно вскрывали при помощи пороха и таранов, а целые стены тайно вывозили за границу в деревянных ящиках. Я наблюдал подобное чуть ли не каждый день.
— Представляю, как разрывалось ваше сердце.
Сэр Гарднер пожал плечами.
— Ну, эти люди находили, что возразить.
— Да уж, они за словом в карман не лезут.
— Видите ли, тогдашний паша велел разбирать древние храмы на строительные блоки. Так вот, расхитители утверждали, что попросту спасают памятники от уничтожения, подобно тому как вы пытаетесь сохранить каменные пирамидки своей родины от строительства железных дорог.
Ринд покачал головой.
— В жизни минус на минус еще никогда не давал плюса.
— Вы правы, — одобрительно посмотрел на него сэр Гарднер. — Еще как правы. Однако признаюсь, моя собственная совесть начинала временами колебаться. Подозреваю, что ваш шотландский характер отличается куда большей несгибаемостью.
Тут молодому человеку полагалось почувствовать себя польщенным, но вместо этого он испугался, как бы не отойти далеко от темы, увлекшись своим любимым вопросом. И вдруг он услышал:
— В письме вы упомянули, что думаете начать с изучения наполеоновской экспедиции.
Ринд напрягся.
— Ну… это ведь он открыл дорогу в Египет всем мародерам.
— Да, но французы всего лишь вырезали надписи на колоннах, до настоящего разрушения дело не дошло. Можно сказать, что в эпоху римлян расхитители позволяли себе гораздо больше.
— По крайней мере в ту пору Египет был практически нетронут. — Внезапно молодого человека понесло еще дальше: — И потом, сама личность Наполеона… От его присутствия любая тайна становится еще притягательнее.
«Тайна?! — внутренне застонал он. — Я что, произнес это вслух?!»
Сэр Гарднер посмотрел на шотландца с любопытством.
— Что вам известно о похождениях Наполеона в Египте?
Ринд помолчал.
— А почему вы спросили?
— Хотел для начала установить границы ваших собственных познаний. Возможно, вы удивитесь малочисленности сохранившихся научных сведений об этой экспедиции.
Впервые молодой шотландец мог без обиды расписаться в собственном невежестве, ведь после памятного визита в Букингемский дворец мистер Гамильтон даже не пытался заниматься его дальнейшим образованием, объяснив свое нежелание «стратегическими причинами».
— Э-э-э… — начал Ринд. — Я слышал, что Наполеон выстроил свои войска перед пирамидами и воскликнул сакраментальное: «Солдаты! Помните, что с этих вершин на вас глядят сорок столетий!»
— Предположительно так и было. Что еще?
— Ну… — Ринд искренне напрягал память. — Он взобрался на вершину Великой пирамиды, потом случилось какое-то восстание, потом он побывал в Палестине… видел несколько мумий — и нашел Розеттский камень.
— Это все? — осведомился сэр Гарднер.
— В основном, да. Как я ответил урок?
— Могу заверить, что вы по крайней мере наполовину правы.
— Только наполовину? — Ринд заморгал. — А… что не так?
— Не важно. Вы когда-нибудь слышали о сэре Уильяме Гамильтоне?
Ринд едва не залился краской.
— Сэр Уильям Гамильтон? Из Британского музея?
Археолог усмехнулся.
— Нет, не У. Р. Гамильтон. Я думал, вам уже известно, что У. Р. вовсе не означает «рыцарь».
— А… ну да.
— Я имею в виду сэра Уильяма Гамильтона, прославленного метафизика, вашего земляка. Удивительный человек. У него любопытные взгляды относительно мифического восхождения Наполеона к вершине Великой пирамиды.
— Мифического? Так это неправда?
— О, разумеется, Наполеон предпринял одно или два путешествия к пирамидам, но нет ни единого документального подтверждения, чтобы он куда-то поднимался; с чего бы французским историкам умолчать о подобном подвиге? Похоже, вместо этого Наполеон стоял в стороне, наблюдая за тем, как его ученые спутники взбираются по гигантским строительным блокам, — ведь это было суровое, даже пугающее испытание для человека с его ростом.
— Да, но я уверен, — начал Ринд, — что видел иллюстрацию в одном фолианте, и там Бонапарт стоял на вершине…
— Разумеется: какой же художник устоит перед столь символичной картиной? Об этом-то и писал сэр Уильям. Если подавляющее большинство полагает, будто Наполеон поднимался на Великую пирамиду, то какая разница, есть ли здесь доля правды?
— По-моему, правду всегда нужно отделять от мифов.
— Верно. Однако, имея дело с Наполеоном, чья жизнь окружена легендами, кто скажет, где пролегает эта граница? Особенно если такая личность материализуется в Египте, то есть в колыбели мифов. Вдобавок даже у самого бескомпромиссного историка бывают ситуации, когда приходится уступать общественным предрассудкам. И потом, нам попросту не дано всего знать; существуют белые пятна, дерзкие предположения, неубедительные свидетельства, противоречивые истории, не заслуживающие доверия рассказы, наконец, пропаганда — вот где миф оказывается более ценен, живуч и плодотворен.
Ринд не совсем понимал, к чему эти речи, но продолжал волноваться, как бы его не раскусили.
— По-вашему, выходит, нет никакого смысла в исследованиях и во всем, что касается наполеоновской экспедиции, буквально ничего нельзя принимать на веру.
— О, мы можем принять на веру очень многое. Упрочив свое положение в Каире, Наполеон правил твердой рукой, если не сказать — жестоко. Его уважали и ненавидели. Он посылал ученых на самые легендарные исследования. Однако не прошло и года, как он внезапно решил вернуться. А вот все остальное, что происходило в промежутке, — с улыбкой прибавил сэр Гарднер, — овеяно мифами.
В парке он отпустил терьера с поводка и теперь наблюдал, как радостно тот носится между деревьями. Ринд был в задумчивом настроении, а его спутник неожиданно впал в философию.
— С другой стороны, — произнес он, — не подумайте, будто бы я намерен оспаривать место Наполеона в египетских анналах. С исторической точки зрения будет несправедливо его недооценивать. Ведь это было первое значительное столкновение между Западом и Востоком, если не считать Крестовых походов. Вы только вообразите! Отзвуки подобных встреч гремят в веках.
Расшалившийся пес тем временем вспугнул нескольких уток и загнал их в пруд.
— К тому же Наполеон сыграл решающую роль в зарождении археологии — этого тоже нельзя отрицать. Я просто предупреждаю вас: не поддавайтесь чарам этого человека. Будьте осторожны с легендой, иначе она захватит ваше воображение так, что вы и представить не можете. Согласитесь, не очень приятная перспектива для молодого археолога, которому еще столько нужно успеть.
— Непременно учту, — заверил шотландец, всерьез опасаясь, как бы его расследование не зашло в тупик, не успев начаться.
Неутомимый пес решил, что бедные утки достаточно напуганы, и принялся носиться по парку в поисках новой добычи.
— Как зовут этого малыша? — праздно полюбопытствовал Ринд.
Однако сэр Гарднер тянул с ответом; Ринду даже начало казаться, что тот не расслышал вопроса. Но вот наконец прозвучало смущенное:
— Наполеон.
Известный археолог покаянно улыбнулся.
По настоянию сэра Гарднера Ринд взялся читать в английском переводе «Voyages dans la Basse et la Haute Égypte»[30] Денона, знаменитый отчет художника о египетском походе, снабженный авторскими иллюстрациями.
До сих пор молодой шотландец немногое знал об этом человеке, разве что часто слышал в разговорах упоминание его влиятельного и отчего-то грозного имени. В Эдинбурге Ринд поборол искушение и не стал читать о приключениях Вивана Денона, отчасти потому, что не имел лишнего времени для подобных развлечений, но главным образом — не желая, по примеру автора, поддаваться таинственным чарам заморских стран. Даже теперь, уже с книгой в руках, он ловил себя на том, что намеренно пропускает абзацы, перелистывает целые страницы, пытаясь сохранить холодную и трезвую голову. Однако, несмотря на самые ревностные усилия, Ринд очень скоро увлекся. Такая уж это была история.
В октябре тысяча семьсот девяносто восьмого года Денон покинул Каир, нарядившись в оливковый фрак, вельветовый жилет, лаковые туфли и вызывающую фетровую шляпу. Девять месяцев спустя он вернулся в разодранном тюрбане, краденом пехотном мундире, оборванных шальварах из муслина и сандалиях, подбитых парусиной, — исхудалый, темный от загара, с лицом, испещренным шрамами, подозрительно похожими на следы оспы; в его запавших глазах темнела бездна пережитых столетий.
Якобы по собственной воле пустившись на поиски приключений (книга умалчивала о мистическом чертоге и необычных отклонениях от наполеоновского маршрута), он все это время странствовал бок о бок с воинами бесстрашной Двадцать первой полубригады под командованием генерала Луи Шарля Дезэ, преследуя остатки свирепых войск мамелюков до самого Верхнего — или Южного — Египта. Снова и снова враг отступал, будто бы растеряв последние силы, только для того чтобы перегруппироваться, набрать новых рекрутов и яростно броситься в бой с неверными. Придворный Денон, еще несколько месяцев тому назад утопавший в Париже в лучших перинах из утиного пуха, превратился в свидетеля ежедневных стычек: пехота против всадников, машущих кривыми турецкими саблями, мушкеты против изогнутых кинжалов и острых пик. Не раз и не два человек, составлявший ему компанию за завтраком, еще до обеда терял свои внутренности на глазах у автора книги. Но и возмездие было не менее ужасно. Стоило застрекотать карабину или даже блеснуть отобранной у противника сабле — и вот уже было готово пиршество для стервятников и шакалов.
«Война, ты ослепительно прекрасна в исторической дали, — писал Денон, — а вблизи отвратительна».
Чрезвычайные условия вдвойне осложняли любую научную работу. Слишком часто исследователь проводил в новом храме буквально считаные минуты — и тут же в спешке седлал своего осла под яростный бой барабанов. Нередко сами руины таили опасность, давая укрытие снайперам, гиенам и враждебно настроенным местным жителям. В роли мольберта могло выступать подставленное колено или верблюжий горб, а рисовальные принадлежности приходилось на ходу мастерить из обугленных щепок и оплавленных пуль. Кроме того, природа посылала одно суровое испытание за другим: песчаные самумы, испепеляющую жажду, носовые кровотечения, волдыри, глазные болезни, расстройства желудка. Люди и кони сплошь и рядом становились жертвами нестерпимого зноя, страдая безумным сердцебиением; их легкие больно сжимались, конечности сводило корчами, а мозг заполняла черная тьма — ужасная, мучительная кончина.
Тем не менее автор старался как мог. День за днем он осматривал пирамиды, монастыри, лабиринты и крепости. Решительно заходил в пещеры, лачуги, спускался в запечатанные подвалы и в петляющие подземные галереи. Ночевал в склепах, которые кишели жалящими насекомыми. Бывал и в тесных курятниках, и во дворцах на сотни комнат. Бесстрашно проникал в заброшенные селения и спотыкался о минареты, погребенные в песках. Дивился пирамидам Сахары, небесной планисфере Дендеры, карнакским колоннам, поющим колоссам Мемнона[31] и божественному острову Филе,[32] а посетив Луксор, зарисовал тот самый обелиск, что много лет спустя воздвигнется над погребальной процессией Наполеона в Париже.
— Представляю, как это должно быть потрясающе, — рассуждал сэр Гарднер у себя в гостиной, разбирая подходящие по цвету образцы, — увидеть все эти древности так, словно ты — один из первых зрителей.
Ринд оторвался от записи беглых заметок.
— Но вы же сами утверждали, что еще прежде в Египте бывало множество путешественников.
— Денон обладал особенно проницательным взором. Во многих смыслах это он открыл Египет для современности. После него храмы уже не те.
— Значит, Денон… Вы хотите сказать, его пристальный взгляд в каком-то смысле умалил загадку Египта?
— Денон и его восторженные последователи. Общими усилиями они лишили древние памятники былого величия, словно прошлись по ним ураганом, — это бесспорный факт.
— Получается, к тому времени, как вы попали в страну?..
— Храмы, чертоги, гробницы — слишком многие из них уже были изучены и измерены, зарисованы в мельчайших подробностях, воспроизведены в скульптуре, что, сами понимаете, заметно приуменьшило радость открытия. Оставалось одно — искать никому не известные склепы и чертоги.
Молодой собеседник увидел неплохую возможность — и не преминул ею воспользоваться.
— И сколько же вы нашли?
Знаменитый археолог пристально посмотрел на него поверх образцов.
— Сколько смог.
Ринд поспешил сделать вид, будто поглощен своими заметками.
Сэр Гарднер продолжал буравить его взглядом.
— Могу я спросить, как вам его «Путешествия»?
— Продвигаюсь… — ответил шотландец, силясь не выдать своего горячего интереса.
— И что вы думаете?
— По-моему, это просто… восхитительно.
— Разумеется, — оживился сэр Гарднер. — А знаете, что меня восхищает больше всего?
— Гравюры?
Археолог усмехнулся.
— Нет, хотя они тоже изумительны. Автора отличает глубина моральной ответственности за происходящее. Его занимает судьба страны, а не только древние руины. Денону хватает силы духа, хватает дерзости задаваться вопросами о том, каковы мотивы экспедиции. Он размышляет, не явились ли французы с тем, чтобы просто сменить мамелюков на троне, и чем вообще последние заслужили такую немилость. Причем все это — на страницах книги, посвященной главнокомандующему кампании.
Ринд кивнул.
— Да уж, редкая храбрость.
— И это при всей его осторожности.
— Скажите, а вы ни разу не встречались?
Сэр Гарднер отвел глаза.
— Ну, когда я впервые приезжал в Париж, старик еще держался молодцом… — Тут он умолк, отложил образцы и явно решил сменить тему: — А как вы смотрите на то, чтобы вместе отужинать?
Ринд невольно заартачился.
— Это слишком любезно с вашей стороны, сэр Гарднер, но я не могу, в самом деле…
— Пустяки, мой мальчик. Не желаю ничего слушать. По воскресеньям моя экономка готовит отменное жаркое под изумительной устричной подливкой. Увы, львиная доля в итоге перемещается в миску Наполеона.
Шотландец не сразу сообразил, что речь идет о собаке.
— Тогда тем более, я не собираюсь отнимать у бедняги…
— Вздор. Вы чересчур учтивы. А я так очень рад, что нашел возможность отплатить фортуне за гостеприимство сэра Уильяма Джелла. Вы ведь о нем слышали?
— Это антиквар?
— Да, и в свое время — знаменитейший. Когда я был примерно ваших лет, он пригласил меня к себе домой в Рим, а позже в Неаполь и помог досконально изучить историю Египта. Потом, будучи слишком болен, чтобы путешествовать, он послал меня в эту загадочную страну как своего заместителя. То были лучшие годы моей жизни. Увы, они миновали. Однако история порой повторяется, и довольно неожиданным образом.
Ринд не стал возражать, хотя, сказать по правде, неприятно удивился тому, что сэр Гарднер может питать в его отношении большие надежды. Молодой человек вовсе не собирался в Египет. Он преследовал одну лишь цель — раскопать неведомые секреты прославленного археолога, что бы они собой ни представляли, и разом отделаться от нелегкой шарады. Можно ли наслаждаться обществом словоохотливого и великодушного хозяина, можно ли вообще хоть чему-то радоваться, затаив в сердце подобные мысли?
По мере того как гостиная исподволь наполнялась волнующим ароматом жареной утки, Ринд увлеченно перечитывал «Путешествия», открывая для себя в записках художника необыкновенную человечность и обличительные мотивы.
«Можем ли мы ненавидеть этих людей? — писал Денон о жителях покоренных земель. — Имеем ли право умалять их достоинство, превращать в пленников? Разве не станут они для нас вечным укором, готовя богатые урожаи на могилах своих предков?»
Честно говоря, чем ближе молодой шотландец узнавал автора книги, тем ярче бросалось ему в глаза их несомненное сходство с радушным хозяином — сэром Гарднером. Оба прослыли знатоками учтивых манер и изящества в одежде. Оба чрезвычайно ценили хорошее общество и при этом по большей части вели уединенный образ жизни. Оба были одаренными художниками, дилетантами, снедаемыми страстью к подлинной красоте. Оба неутомимых путешественника снискали величайшую славу, написав знаменитые книги о Египте. В свою очередь, каждый был отмечен монаршей благосклонностью: Денон стал имперским бароном, а сэр Гарднер — королевским рыцарем. При этом, несмотря на все достижения и большую известность, оба черпали силы в неколебимой природной скромности.
Тем более искусственным и до странного приглаженным казалось Ринду само посвящение Наполеону на фронтисписе «Путешествий»: «Соединить величие вашего имени с величием египетских монументов — значит связать славные победы наших дней с легендарными временами в истории. Я всеми силами стремился к тому, чтобы сей труд оказался достоин героя, которому посвящается».
В конце концов читатель решил, что не имеет права сомневаться в чужой лояльности. Остаток дня он провел, все сильнее очаровываясь легендарными приключениями, покуда сэр Гарднер нагуливал аппетит в компании терьера по кличке Наполеон, к которому был привязан всей душой — пожалуй, не менее, чем Денон — к своему главнокомандующему.
— Так вы говорите, он часто упоминает Египет?
— А если когда и отвлекается, — рассказывал Ринд, — то с явной неохотой.
У. Р. Гамильтон понимающе кивнул.
— Да, эта страна умеет вскружить голову.
Разговор проходил в достопамятном, похожем на склеп кабинете. Гамильтон восседал за баррикадой письменного стола. Глядя, как остатки эфемерных волос тщетно силятся прикрыть скальп собеседника, шотландец невольно подумал о том, что в отличие от Денона этот старик выглядит полной противоположностью сэру Гарднеру Уилкинсону — скрытный, невзрачный с виду, к тому же лысеющий; да и морщины у него не от частых улыбок, а от привычки вечно хмуриться. Гамильтон постоянно таился в тени, тогда как знаменитого археолога влекло яркое солнце.
— А как насчет Наполеона? Или Денона? О них он когда-нибудь говорит?
— То и дело, — ответил Ринд. — Думаю, последний вызывает у сэра Гарднера особенно нежные чувства.
Гамильтон фыркнул.
— Боюсь, он не имел чести познакомиться лично с этим старым мошенником.
— А вот я не уверен.
Собеседник еле заметно подался вперед.
— Прошу прощения. Он утверждал обратное?
— Честно говоря, затрудняюсь ответить. Сэр Гарднер часто склонен изъясняться намеками.
— Вот уж воистину, досадная черта характера. Кстати, он, случаем, не упоминал сэра Уильяма Джелла?
— И с очень большой теплотой. Сэр Гарднер постоянно называет себя его учеником.
— Да, это правда. Так вот, учителя тоже бесила его манера двусмысленно изъясняться.
Где-то на улице Монтегю загремел экипаж. Ринд беспокойно поерзал в кресле.
— Не могу отделаться от подозрения, будто сэр Гарднер воспитывает меня точно так же, как Джелл воспитывал его самого.
— На это я и рассчитывал.
— И кажется, с дальним прицелом — отослать меня в Египет.
— Он так и сказал?
— А чем еще объяснить подобное воодушевление?
Гамильтон просиял.
— Отличная новость, юноша. Похоже, он в самом деле берет вас под крылышко.
— Но я же… Вы понимаете?
— Что такое?
— Я не могу в Египет. И думать об этом не хочу. Ни в коем случае.
Колючие брови Гамильтона сошлись на переносице.
— Что это, юноша, на вас нашло? На свете бывают места и поскучнее.
— Нет, ни за что, никогда не соглашусь. Поверьте, я серьезно.
— Даже в интересах нации?
Ринд вспомнил разговор с королевой Викторией и едва не дрогнул.
— Нет… нет и нет, — повторил он, помотав головой. — Серьезно…
Гамильтон хмыкнул.
— Ну и ладно. Уверен, что в этом не будет необходимости. Но ради стратегических соображений с вашей стороны будет куда полезнее не отказываться от этой идеи в присутствии сэра Гарднера. Надеюсь, вы понимаете?
— Понимаю.
— Если он поверит, что сможет уговорить вас участвовать в поездке, это повысит ваши шансы подобраться к его дневникам. Видите ли, в Египте сэр Гарднер записывал все до мельчайших подробностей и к тому же чертил бесценные схемы.
— По-моему, я их видел.
Гамильтон изумленно вскинул голову.
— Еще раз прошу прощения. Он вам их показывал?
— Не совсем. Но в кабинете сэра Гарднера длинными рядами стоят переплетенные журналы.
— Он пустил вас к себе в кабинет?
— Буквально на минутку. Я мало что разглядел.
— Но ведь сэр Гарднер ни единой душе не позволяет туда заходить, даже своей экономке. Вы это знали?
— Он запирает кабинет, когда выходит, и держит его всегда на замке.
— Надо же — получить доступ к чертогу, не менее таинственному, чем все чертоги Египта… — с восторженным видом произнес Гамильтон. — Думаю, вы себе даже не представляете, какой удостоились чести. Это самый верный знак. — Он помедлил. — Думаете, вы когда-нибудь сможете побывать там… в частном порядке?
Шотландец пожал плечами.
— Поживем — увидим. Хотя сэр Гарднер и впрямь заинтересован в том, чтобы я больше времени проводил за работой. Он даже, — прибавил молодой человек приглушенной скороговоркой, — предложил мне у него поселиться.
Гамильтон склонился вперед, приложив ладонь к уху:
— Как вы сказали, юноша?
— Я приглашен к нему в дом в качестве постоянно проживающего ученика. Под лестницей как раз пустует комната…
— Правда? Да это же неоценимая возможность!
— Но я еще не дал согласия.
— Должны дать!
Ринд покачал головой.
— Нет. Вы чересчур много просите.
— Но это ускорит открытие… Ее величество будет в полном восторге!
— Нет, в самом деле, вы не можете ожидать, чтобы я… ну…
— Знаете, если он оформит постоянное кураторство…
— Но… — Ринд запнулся и снова почувствовал, что поддается на уговоры. — Э-э-э… — выдавил он, думая о национальных реликвиях. — Ладно, я еще подумаю.
— Так-то лучше, юноша.
Молодой человек еще раз покосился на собеседника, увидел бескровную самодовольную ухмылку и узкие щели глаз и с трудом подавил в себе поднявшееся негодование. Если на то пошло, он был от природы скромен, однако терпеть не мог играть роль покорной овечки; гордился своими манерами и простодушием, но не желал становиться жертвой бессовестных манипуляций.
— Хочу заметить, — начал Ринд, собравшись с силами, — на данном этапе будет полезнее хотя бы немного просветить меня насчет предмета поисков.
— Что вы хотите сказать?
— В смысле… Понимаю, в неведении тоже есть свои преимущества, просто в определенный момент оно начнет представлять опасность.
Гамильтон хмыкнул.
— Вот как? Нашей борзой маловато запаха?
Ринд уловил в его словах насмешку.
— Это серьезно, — не сдавался он. — Я же могу пропустить какое-то косвенное доказательство и даже не знать этого. А то и что-нибудь посерьезнее. Да я могу пропустить… вообще все.
— Разумно. Прошу вас понять меня правильно. Пожалуй, на сегодняшний день легкий намек вам действительно не помешает. Можете для начала прочесть книгу Денона «Путешествия по Верхнему и Нижнему Египту». Я достану вам экземпляр…
— Уже прочитал. Два раза.
Гамильтон поморгал.
— Уже, говорите?
— По совету сэра Гарднера.
— Вот оно что. А он объяснил вам, зачем это нужно?
— Чтобы лучше ознакомиться с египетской кампанией.
— Может, он обратил ваше внимание на определенные отрывки?
— Да нет.
— И не предлагал поискать в книге что-то конкретное? Хоть что-нибудь?
— Ну если только…
— Если только?..
— Разве что человечность.
— Человечность? — Гамильтон поразмыслил, наморщив лоб. — Поразительно.
Некоторое время он сидел, задумавшись, с туманным взором.
Ринд беспомощно пожал плечами:
— А в этой книге что-то есть? Угадал?
В глазах Гамильтона не сразу появилось осмысленное выражение.
— Какой-нибудь секрет? — продолжал допытываться Ринд. — Или ключ, который нужно найти?
— Прочитайте еще раз. Или пять раз, если понадобится.
— Но вы должны мне сказать! В записках Денона скрыто что-нибудь важное?
Но Гамильтон уже отпрянул обратно в тень.
— Важнее всего, юноша, то, о чем автор умалчивает, — провещал он из глубокого полумрака, сгустившегося за письменным столом. — О чем он недоговаривает. Вот вам настоящая тайна.
Следующей ночью молодой человек внимательно перечитывал «Путешествия» при свечах, расположившись у себя в комнатушке под лестницей. Лишь теперь, вооружившись скептическим видением Гамильтона, он заметил осознанно — и даже изощренно — оставленные белые пятна. Не то чтобы в книге недоставало подробностей: напротив, она изобиловала сведениями о местных флоре, фауне и особенно архитектурных сооружениях, живописала битвы и лишения, выпадавшие на долю путешественника, и, кроме того, как указывал сэр Гарднер, содержала многочисленные отступления морального и философского характера. И все же стоило автору коснуться так называемых технических вопросов — точных дат, имен, приказов, побуждений и, в частности, разговоров с Наполеоном, — рассказ принимал весьма обтекаемые формы, сбивая исследователя с толку.
Ринд поднял глаза, утомленные мерцающим светом, и несколько раз крепко зажмурился. А вдруг у него разыгралось воображение и все это — просто влияние Гамильтона? Предваряя свои заметки, Денон и сам написал о том, что книга предназначалась для легкого чтения, а не для научных кабинетов. Это вполне объясняет некоторые пробелы, непоследовательность и даже противоречия в изложении: чего и ждать от воспоминаний, изложенных на пяти сотнях страниц и к тому же родившихся уже в уютной и безопасной обстановке Парижа?
Понемногу читателя одолела усталость, но и тогда, когда книга выскользнула из рук, он продолжал терзаться сомнениями. Очень легко было поверить в человечность Денона. И так же легко — в его скрытность. В любом случае, события египетской кампании Наполеона Бонапарта, со времени которых сменилось лишь два поколения, успели обрасти мифами, если не сказками, полными широких жестов, красивых поз и великих истин; казалось, им, словно клинописным табличкам, суждено было не одно столетие ожидать расшифровки.
Глава четвертая ОКРЫЛЯЮЩИЙ ЗОВ СУДЬБЫ
Уже отправившийся втайне на поиски чертога вечности, Денон пропустил битву при пирамидах, однако Наполеон очень часто вспоминал своего товарища и столь же часто сетовал на его отсутствие. Ибо на поле боя развернулась настоящая феерия, мечта художника. Только теперь, наблюдая, как перед глазами оживают мифологические сюжеты древности, главнокомандующий наконец поверил: да, он в Египте.
В Александрии ему довелось испытать своего рода разочарование. Наполеон мечтал оказаться в грандиозном беломраморном мегаполисе, овеянном исторической славой, с амфитеатрами, гимнасией и легендарным маяком, а вместо этого увидел — и быстро завоевал, пожертвовав какими-то тремя сотнями человек, — захудалый портовый городишко: обшарпанные желтые дома, песчаные заносы, кучи мусора и пучок чахлых пальм. Солдаты и продажные красотки бежали прочь; представители высшего общества и средних классов малодушно попрятались по домам; остались лишь крестьяне-оборванцы да голые ребятишки; при этом местные жители дружно — ну просто все до одного — проявили черную неблагодарность по отношению к освободителям.
Наполеон, переживший дерзкое покушение (пуля оцарапала ему носок сапога, телохранители изрубили стрелявшего на мелкие кусочки), уже в сопровождении Денона явился навстречу с известным своим коварством правителем города по имени Сайд Мохаммад аль-Кораим. Поминутно косясь в окно, на залитую солнцем гавань и весьма внушительный вражеский флот, дрожащий аль-Кораим поклялся хранить нерушимую верность Французской республике и обещал от имени местных властей оказывать всяческую поддержку делу свержения ненавистных мамелюков, а получив от Наполеона памятный пояс, выдержанный в гамме триколора, раболепно склонил шею, словно предчувствовал, как ее в скором времени рассечет меч палача.
Последовавший затем допрос велся через крайне любопытного переводчика по имени Жан Мишель Вентуре.[33] Поэтому, когда речь зашла о чертоге вечности, главнокомандующий темнил как только мог.
— Спроси-ка, — приказал он, — известно ли этому человеку о каком-нибудь потайном чертоге.
— Потайном чертоге?
— Спрашивай!
Тот повиновался, и аль-Кораим угодливо затараторил:
— Hunaka katheerun min al-ghuraf assyrriya fi Misr.
Переводчик кивнул.
— Он говорит: в Египте множество потайных чертогов.
— Я имею в виду особенно таинственный.
Жан Мишель перевел и выслушал ответ.
— Он говорит, что и таких предостаточно.
Наполеон переглянулся с Деноном.
— Тогда узнай, нет ли чего-то подобного где-нибудь поблизости.
— Он говорит, сколько угодно и поблизости от чего угодно.
— Но мне нужен чертог необыкновенного значения.
— В Египте не счесть чертогов необыкновенного значения.
Главнокомандующий нахмурился.
— А есть среди них… по-настоящему уникальный?
Переводчик скривился в улыбке:
— Да, и таких очень много.
Денон откашлялся.
— Все ясно, — вмешался он, ухмыльнувшись, — чего и ждать от человека, если он до смерти боится ответить неправильно.
Аль-Кораим не понял ни слова, но тут же с готовностью закивал.
Чуть позже Наполеон и Денон вместе отправились к Помпейской колонне. Исследовав укрепления и малоинтересные руины, покрытые пылью, они так и не обнаружили ни малейшего намека на потайной чертог. Уже в одиночку Денон изучил развалины бань Клеопатры, сарацинские сооружения… и каждый портик, подвал и вообще всякое укромное место, какое сумел найти. Докладывая о своей неудаче главнокомандующему, он выглядел смущенным и, судя по его виду, с трудом скрывал отчаяние, словно только что осознал величие возложенной на него задачи. Наполеон повелел своему спутнику немедленно обыскать плодородную дельту Нила, переворачивая каждый камешек на пути, в то время как сам он будет преследовать вражескую армию через пустыню к Каиру.
Вот почему Денон пропустил изнурительный переход, избежав нестерпимой жажды, жалящих насекомых, дизентерии, миражей, нападений свирепых, словно акулы, бедуинов, — да, этого он избежал, размышлял теперь главнокомандующий, но заодно лишился возможности своими глазами увидеть битву при пирамидах — зрелище, ради которого стоило перенести все мыслимые страдания.
Наполеон уже давно свыкся с мыслью о гибели. Он встречался с ней лицом к лицу в дни Корсиканского восстания в Тулоне, затем в Париже — во время Революции; по его приказу не раз устраивалась резня; он преодолел даже собственные суицидальные наклонности и вот наконец научился не придавать значения мыслям о безопасности на бранном поле. Теперь, когда смерть превратилась всего лишь в отвлеченное понятие, сражения обрели для Бонапарта некую сладостную притягательность. Здесь же, на этой загубленной арбузной бахче у самого Нила, битва, исход которой был заранее предрешен, переполняла душу совершенно нереальной красотой.
По левую руку сверкали каирские купола, по правую — расстилалась Ливийская пустыня, на горизонте высились пирамиды. Со всех сторон Наполеона окружали солдаты его армии — все двадцать тысяч. Дула мушкетов, карабинов и острые штыки сверкали на солнце иглами ощетинившегося дикобраза. А далеко впереди (увидев подобное, любой историк лишился бы чувств) выстроилось восьмитысячное воинство безжалостного клана, который более шести веков жестоко угнетал египтян.
Да, это были они, знаменитые мамелюки — не признающие законов, не ведающие страха, алчные, самоуверенные, бисексуальные, с юных лет обученные искусству верховой езды и брачным утехам — на изумление застывшая в развитии каста, несколько столетий тому назад истребившая воинов-крестоносцев, воспользовавшись их же численным и техническим преимуществом.
Вот они, великолепные в своих кашемировых тюрбанах, канареечно-желтых куртках-безрукавках, широких красных шальварах и богато расшитых сандалиях… Одни восседали на спинах горячих арабских скакунов, другие стояли, опираясь на медные стремена и зажимая поводья между зубами; кое-где поблескивали, взметнувшись над головами, кривые турецкие сабли или мушкеты в серебряной оправе и раздавались крики, подобные птичьим голосам в джунглях. Время от времени кто-нибудь из наиболее запальчивых предводителей с вызовом проезжал перед стройными рядами французов, поднимая тучи бронзовой пыли в лучах послеполуденного солнца… Лоснящиеся крупы коней, колыхание перьев белых цапель, полосатые куртки-безрукавки, витые шнуры… Бешеный галоп, крутой разворот — не различить, где человек, а где животное, развевается ткань… Потрясающее, сказочное зрелище настолько завораживало своим безумием, что долгое время Бонапарт просто не мог отдать приказа открыть огонь. Снова и снова он с кривой усмешкой озирал шеренги своих солдат: кто разделит его восторг исключительной красотой этой минуты, ее величием, опасностью, историчностью?.. Однако на бледных лицах лежала одна и та же печать ледяного страха и отчаянной решимости. Даже самые необстрелянные юнцы понимали, что созданы из очень хрупкого материала — из плоти и крови. В отличие от своего командующего каждый из них ощущал себя смертным и ничего не значащим в глазах провидения.
Уже через несколько часов все было кончено. Кавалеристы мамелюков опять и опять устремляли коней на французские дивизии, но каждый раз падали, подкошенные залпами картечи, выстрелами из мушкетов и кремневых ружей. Однако противник лишь больше свирепел и не желал сдаваться. Продолжая ползти по собственным еще теплым внутренностям, вражеские солдаты опустошали обоймы пистолетов и с пронзительным визгом рубили, кусались, царапались, точно дикие кошки. Раз или два какой-нибудь всадник сгоряча прорывался через передний фланг и углублялся в каре, где был разрублен на куски; плоть человеческая мешалась с алым соком и мякотью раздавленных арбузов.
Тысяча разъяренных мамелюков нашли свою смерть в тот день. Французы лишились примерно тридцати душ.
Над полем брани еще стелился густым туманом артиллерийский дым, когда победители принялись собирать с погибших богатую дань: бриллиантовые украшения, золотые слитки в зашитых карманах, нагруженные добром седельные вьюки, оружие в серебряной оправе… Те немногие, кому довелось уцелеть, отступили в охваченный паникой Каир и бежали оттуда вместе с перепуганными жителями.
С наступлением вечера Наполеон расположился в Гизе, в покинутом особняке одного из военных предводителей мамелюков. Утолив жажду несколькими бокалами шербета, главнокомандующий приказал поутру привести к нему шейхов Каира на допрос — и тут же уснул на мягком диване. Ночью штабной офицер разбудил его и сообщил, что город местами охвачен огнем. Бонапарт вышел на балкон и залюбовался далеким пожаром. Черные силуэты минаретов пронзали небо на фоне пляшущих языков пламени.
— Что же нам делать? — в большой тревоге спросил офицер.
— Это же произведение искусства, — промолвил Наполеон. — Насладимся им.
После чего обернулся и увидел, как засияли отраженным светом великие пирамиды. В это мгновение он словно проник пророческим взором в будущее: настанет время, и на его глазах запылают другие великие города.
Попивая прохладительный крыжовенный напиток, поминутно протягивая руку за мясом, приготовленным на вертеле, и вдыхая ароматные пары из длинной курительной трубки, Наполеон в который раз наблюдал за собранием шейхов, чиновников и купцов своего каирского совета в надежде выпытать столь упорно хранимую тайну чертога.
Более пяти месяцев минуло после битвы при пирамидах, а он до сих пор ни на шаг не приблизился к разгадке. Разумеется, беспокойство, встречавшее любой его намек на сокровенные чудеса: это недовольное бормотание, эти невольные гримасы на бородатых суровых лицах, — само по себе говорило о многом, однако с практической точки зрения Бонапарт и теперь знал не более, чем в Париже. И даже не мог убедить себя, что положение когда-нибудь переменится. Казалось бы, он сидел со скрещенными ногами на затейливо расшитом ковре в захваченном дворце Эзбекия, в тонком платье-рубашке типа камис[34] (некоторое время он пробовал носить тюрбан и галабею,[35] но это смотрелось чересчур нелепо) и все было, как в самых волшебных мечтах: пряная пища, африканский зной, напоенный благовониями воздух, причудливые арабески на стенах — «Тысяча и одна ночь», да и только!
Однако жестокая реальность заключалась в том, что слишком многое не сходилось с желанным ответом.
Ну да, конечно, город встретил завоевателя изумительно грациозной аркой и позолоченным фонтаном, но с первой минуты показал себя отнюдь не сиятельной столицей, прославленной в сказках. Столетия эпидемий, нищеты и бесчеловечного угнетения превратили его в трущобы с мрачными кофейнями, зловонными восточными базарами, смрадной водой и лежалыми кучами мусора на глухих улицах, кишащих насекомыми. Наполеон сделал все, что мог: приказал хоронить усопших за пределами городской стены, окуривать дома, перетравить бродячих собак и обезглавить всех зараженных сифилисом продажных женщин, — но ядовитые испарения по-прежнему терзали его чувствительный нос, а глаза то и дело щурились, страдая от вездесущей пыли.
К тому же на этот народ невозможно было произвести впечатление. Чего только не предлагал Бонапарт: от ветряных мельниц до тачек. Он устроил научные лаборатории и ввел печатные станки, чтобы издавать газеты, осветил городские улицы при помощи подвесных фонарей, открыл театры, заказал подробную карту страны, велел измерить пирамиды и даже запустил тридцатифутовый воздушный шар над площадью Эзбекия… Местное население упрямо хранило явное безразличие.
Бесплодными остались и все усилия очаровать исламские власти. Наполеон справлял их бесчисленные празднества, публично отрекся от любой связи с варварами-крестоносцами, настаивал на том, чтобы возвести гигантскую мечеть, где целиком разместилась бы для молитвы французская армия (еще немного — и он приказал бы своим воинам принять мусульманство, когда бы не страх перед обрезанием). Все административные должности он раздал самым уважаемым уроженцам Каира, которых и принимал у себя ежедневно, с мыслимыми и немыслимыми почестями. А толку-то… толку… Стоило — как, например, сейчас — затронуть в разговоре тему тайных чудес: дескать, ходят слухи, что в этих песках сокрыт чертог, где человеку доступно узреть лик Аллаха, в ответ звучало нечто досадно невразумительное или намеренно загадочное.
— Лик Аллаха открывается нам на рассвете дня, — пробубнил муфтий.
— У Аллаха столько же ликов, сколько имен, — важно произнес начальник городской стражи.
— Аллах судит нас, взирая с далеких звезд, — пробормотал кади.
— Мы не всегда способны распознать лик Аллаха, — закончил седобородый имам.
В ответ взбешенный Наполеон, которому надоела роль смиренного философа, указал на себя и, сверкнув глазами, надменно выпалил:
— Тогда, возможно, Всемогущий уже перед вами, а кроме него, других богов нет.
Но после такой бесцеремонной провокации достойные люди потупили взоры и снисходительно закивали, словно связанные ужасной клятвой оберегать тайну целиком, до последней крупицы.
Наполеон раздумывал, не пригрозить ли молчунам смертной казнью (неужели до этого дошло?), когда заметил, как шейх аль-Мохди оценивает его проницательным — или даже одобрительным — взглядом. В любом случае, странное выражение на что-то намекало.
Какое-то время Наполеону казалось, что шейх готов рассказать ему нечто важное, предложить какое-то объяснение, а то и принести извинения за скрытность. Кроме того, аль-Мохди казался наиболее цивилизованным и сговорчивым среди всех, наиболее горячо приветствовал нововведения и более прочих был склонен обращаться к победителю с неприкрытым восторгом. «Султан аль-Кабир», «великий султан», — нечего и говорить, как льстило самолюбию Наполеона подобное обращение. В любом случае, он вознамерился особенно сблизиться с этим человеком, чтобы выведать его секреты. Не стоило долее тратить время, и Бонапарт распустил собрание, несколько раз решительно хлопнув в ладоши, после чего отделил шейха от остальных, словно овцу от уходящего стада, завербовал его в ряды своих единомышленников: «Прогресс — это беговой скакун, нет смысла заставлять его брать барьеры», — и пригласил на беседу в Институт Египта, разместившийся в бывшем дворце Касим-бея.
Здесь Наполеон великодушно предложил гостю порыться в богато иллюстрированных атласах и космографических таблицах, выставил перед ним зоологические экспонаты, коллекции минералов, манометры, гидрометры, электрические приборы и с особой гордостью продемонстрировал ему сказочный фантаскоп — поставленный на колеса волшебный фонарь с окрашенными линзами, который бесшумно передвигался по рельсам и являл глазам мерцающих призраков на дымных завесах. Однако, к своей досаде, гостеприимный хозяин обнаружил, что шейх совершенно не собирается выражать свои восторги. Мало того, аль-Мохди явно не заблуждался по поводу настоящих мотивов Наполеона. Это стало чересчур заметно, когда собеседники переместились в пышный сад, под сень цветущих лимонов.
— Вам нужен чертог вечности, — без выражения сказал шейх.
Захваченный врасплох, Наполеон не сразу нашелся с ответом.
— Ваша проницательность, — произнес он, глядя в угольно-черные глаза аль-Мохди, — делает вам честь.
— Вам никогда его не найти.
— Мой посланник Виван Денон отправлен на поиски вместе с отборными воинами французской армии. Он перероет все ваши пустыни, пока не отыщет…
— Вам никогда его не увидеть.
— Увижу, если он существует. А вы, как я замечаю, не отрицаете этого.
— Кто я такой, чтобы отрицать?
— Действительно. — Наполеон уже начал терять терпение. — Довольно уже изъясняться загадками.
Шейх поклонился.
— Разумеется. Я говорю как друг: будьте осторожны. Вам не попасть в чертог вечности.
— Собственной персоной — может, и нет, но я все равно разведаю его секреты.
— Они превыше вашего понимания.
— Ясно. — Наполеон отмахнулся от пчелы, еле сдерживая негодование. — Зато не выше вашего, так?
— Разумеется, выше.
— Но вам-то они открыты?
— Я не желаю их знать.
— Тогда как вы можете судить, по плечу ли вам это бремя?
— Я всегда относился с уважением к тому, чего смертным не следует ведать. Разве не сказано в вашей Библии о запретном плоде?
Наполеон хмыкнул.
— Перед вами тот, кто ни в грош не ставит регрессивные философии; уверен, что люди должны познать все на свете. Вам известно, где расположен чертог?
— Не имею ни малейшего понятия.
— Может, до вас долетали какие-то слухи?
— Слухи меня не интересуют.
— Тогда хотя бы укажите человека, который бы согласился потолковать со мной более откровенно.
— Моя прямота — уже огромное исключение; скоро вы это поймете.
Наполеон решил сделать вид, будто благородно уступает.
— По крайней мере согласитесь, что двум упрямцам лучше пойти своими дорогами, чтобы снова повстречаться на почве общих интересов.
Аль-Мохди приложил правую ладонь ко лбу и отвесил глубокий поклон.
— Умоляю Аллаха, чтобы собственная дорога не завела султана аль-Кабира слишком далеко и чтобы он никогда не терял общей почвы из виду.
Наполеон удалился в угрюмом настроении. Воспоминания об этой беседе преследовали его в течение долгих недель. Надо же, «секреты чертога превыше вашего понимания»! Можно подумать, его считают мальчишкой-барабанщиком с ослиной башкой! Немного погодя Бонапарт предпринял еще одну, на сей раз более напористую попытку добиться правды, но шейх аль-Мохди был тверд, как кремень, настаивая на своем полном неведении. В конце концов Наполеон едва удержался, чтобы не пригрозить упрямцу пытками во имя интересов большой дипломатии; теперь он со все возрастающим нетерпением ожидал вестей от Денона.
Однако поток торопливо набросанных писем, посылаемых изо всех уголков страны, постепенно мелел, превращаясь в жалкий ручеек лаконичных донесений, перетянутых нитью из рукава, а потом и вовсе иссяк. Молчание злило Наполеона еще сильнее, чем невозможность хотя бы на шаг продвинуться вперед. Много раз он был почти готов лично отправиться в Верхний Египет и разыскать пропавшего художника, удерживаясь только из страха разминуться с ним по дороге или, что еще ужаснее, утратить власть над Каиром в свое отсутствие. Это последнее соображение по крайней мере отвлекало от беспокойных ожиданий: вражеские силы собирались на севере с намерением взять город приступом — и главнокомандующий пылко ухватился за эту возможность. Вскоре он вел свои дивизии, чтобы устроить неприятелю упредительную кровавую баню.
На обратной дороге после одной из таких достопамятных схваток — разгрома турок в районе египетской бухты Абикур двадцать пятого июля тысяча семьсот девяносто девятого года — Наполеон получил великое известие: Денон возвратился в Каир и привез очень важные новости. Правда, до города оставалось несколько дней пути; к тому времени Бонапарт уже так наслаждался предвкушением, что сознательно оттягивал встречу.
В любом случае, оставалось выполнить некоторые другие обязательства: очередной триумфальный парад, где выставлялись напоказ пленники и прочие военные трофеи; созванное наспех собрание, на котором Наполеон укорял шейхов уже за предположение, будто бы он способен проиграть битву, — а тем паче за пожелание этого; потом еще нужно было как следует потомиться в горячей ванне, постричься, сытно поужинать и нанести «визит вежливости» своей возлюбленной. Уже с наступлением сумерек, при отблесках разноцветных фонарей, зажженных вокруг дворца, Бонапарт решил, что готов к большим откровениям. Он вызвал к себе Вивана Денона и устроился в ожидании на пышных расшитых подушках, потягивая вино из кубка, наслаждаясь приятной усталостью во всем теле.
— Боже мой! — воскликнул он, когда художник наконец появился. — Что это с вами?
— Переменился? — спросил тот после объятий. — А сами-то вы давно смотрелись в зеркало? Почернели, как настоящий мавр! И что с вашей прической?
Наполеон провел рукой по сильно укоротившимся локонам.
— Не правда ли, я стал похож на Цезаря? — Он рассмеялся. — Но где же ваше тело? Куда вы его подевали?
Денон пренебрежительно отмахнулся.
— Львиная доля плоти ушла в обильный пот. Кое-что растаяло от страха. И пожалуй, очень многое было утрачено при составлении вот этих заметок. — Тут он достал раздутую папку. — Здесь вы найдете все до единого чудеса, с которыми я повстречался за время экспедиции.
Наполеон принял папку, как истинное сокровище, но не смог заставить себя прикоснуться к ее завязкам — только полюбовался обложкой из верблюжьей кожи и бросил на подушки, над которыми сразу поднялось ароматное облачко.
— Похоже, вы изрядно потрудились.
— Я работал девять месяцев.
— Девять месяцев, надо же. А кажется, будто целую вечность.
Художник пожал плечами.
— Я слышал, что и султан аль-Кабир тоже не сидел без меня сложа руки.
— Да ладно! — Наполеон собирался и сам разыграть безразличие, но любопытство все-таки одержало верх: — А что? Что вы слышали, старая перечница?
Денон опустился на мягкий диван.
— С чего бы начать? Поездка к Суэцкому перешейку…
— Я уверен, мы прокопаем там огромный канал.
— Путешествие на гору Синай…
— Кстати, вы в курсе? Меня принимала делегация киновитов.[36] Мне предложили подписать декларацию о покровительстве подобно Али[37] и Саладину![38]
— Еще говорят, вы чуть не погибли в Красном море, волны уже смыкались у вас над головой…
Наполеон усмехнулся.
— Ну вот! Теперь у французского духовенства появился отличный повод для злорадства!
Денон покосился на ультрамариновое небо за окном.
— Кроме того, я знаю о вашей поездке на Святую землю.
— Да, я спал в Назарете и стоял на том самом месте, где Гавриил посетил Деву Марию!
— Похоже, этих благочестивых поступков для вас оказалось недостаточно.
— Само собой, — кивнул Бонапарт, удивленный тоном художника. — Куда же сейчас без военных мерзостей.
— Мне говорили, — продолжал Денон, — что в Яффе было особенно мерзко.
Наполеон не любил вспоминать о неприятном эпизоде, в ходе которого тысячи турецких военнопленных были расстреляны, забиты прикладами или же изрублены на куски, но и не собирался стыдиться случившегося.
— Весьма сожалею, — произнес он, — однако нужно быть самоубийцей, чтобы связываться с людьми подобного сорта. Думаете, я зря просиживал штаны в военном училище, оканчивал Парижскую военную школу?
Снаружи донесся грохот: пиротехники вовсю готовились к празднику пророка. Денон откашлялся.
— По моим сведениям, и в Каире тоже не обошлось без военных мерзостей.
— Всего лишь очередное восстание; я его быстро усмирил.
— Отрубив немало горячих голов, если верить молве.
— Ну разумеется. — Наполеон сощурил глаза. — Да что такое, старина? Может, вы перегрелись на солнце?
— С чего вы взяли?
— Кажется, я слышу неодобрение? Какая муха вас там укусила? Откуда этот менторский тон?
— Менторский тон? Дорогой генерал, я-то думал, что говорю, как обычно. Вернее даже, с большим восхищением. Теперь уже ясно: мантия фараона пришлась вам впору.
— Мантия фараона? А что, и вправду похоже?
— Так и видишь на этом челе золотой венец, ваша божественность.
Наполеон почувствовал, что совершенно сбит с толку. Еще недавно его забавляли препирательства со старым ворчуном, но теперь между ними словно черная кошка пробежала. Впрочем, сарказм художника соответствовал его виду — уж очень Денон исхудал, почернел на солнце и вообще переменился.
— Хватит уже обо мне! — с грубым хохотом воскликнул главнокомандующий. — Расскажите о вашем походе. Где вы успели побывать?
— От Александрии до Асуана, и всюду в моих ушах гремели ваши пушки.
— Надеюсь, вы не уставали задавать вопросы?
— У меня весь язык в мозолях.
Наполеон ухмыльнулся.
— Я тоже расспрашивал, и немало, не только здесь, но и на Святой земле.
— Как я понимаю, без успеха?
— Молчат или отвечают загадками.
Денон сочувственно кивнул.
— Ну а вы? — спросил Наполеон, встревоженный изможденным видом художника. — Как все прошло?
Денон опять посмотрел за окно: в небесах проклевывались первые звезды.
— Я видел много чудесного.
— Много… чертогов?
— О да, и великолепных.
— И что же?..
— Что?
— Старая развалина! Вы будете говорить или нет?
Денон кивнул на папку.
— Мой дорогой генерал, тут все записано.
Не сводя с художника недоуменного взгляда, Наполеон распустил завязки, достал увесистую пачку истрепанных по краям листов — почти две сотни эскизов, выполненных чернильным пером, углем, акварелью, а также оттиски, полученные методом притирания, — и шумно пролистал их с возрастающим нетерпением.
— Замечательно, — выдохнул он. — Великолепно. — И поднял глаза. — Только сначала, дорогой Виван, скажите, что именно я вижу перед собой.
— Храмы, храмы, храмы… — В голосе художника звучала страшная усталость. — В Дендере, в Карнаке, Элефантине… Повсюду. Гробницы — их тоже множество. Статуи-колоссы. Древние крепости. Темные, неприветливые строения, испещренные таинственными символами незнакомых созвездий…
Наполеон уже еле сдерживался.
— Ну а чертог вечности?
— Чертог вечности?
— Вы же знаете, о чем я!
Во взгляде Денона застыло непонимание.
— Чертог! Вы нашли его или нет?
Денон уже в третий раз покосился на окно: над площадью взорвалась пробная огненная ракета, рассыпавшись фонтаном розовых слез, — и вздохнул:
— Мой генерал, я искал даже в голубиных гнездах.
Наполеон смотрел на него во все глаза.
— Я был везде, — продолжал художник, обернувшись к нему. — Я говорил со всеми. Допытывался у шейхов, пленных солдат, купцов, крестьян, бедуинов, принцев, детей на улицах. Буквально расстреливал их вопросами. Рисовал все, что увижу. Хватался за любую возможность. Никто на свете не в состоянии провести более дотошного исследования.
Наполеон просмотрел рисунки, словно искал доказательства услышанному, и поднял взгляд на бесстрастное лицо художника.
— Ничего? — прошептал он.
— Ничего, — подтвердил Денон.
— И вы… заглянули под каждый камень?
— В каждый храм и в каждую пещеру, начиная от башни ветров и до монастыря Святой Елены.
— Святой Елены?
— Это та, что нашла истинный Крест Господень.[39]
С эстрады на площади донеслась музыка.
— Понятно, — обронил Наполеон, рассеянно убирая рисунки обратно в папку. — Понятно. — Тут он сглотнул и пронзил художника строгим взглядом. — Так вы… даете слово, что ничего не упустили?
— Клянусь честью дипломата. Мне действительно очень жаль.
— Вы опросили всех, кого могли?
— Всех до единого.
— Значит… значит, чертога вечности никогда не существовало?
— Похоже, что так.
— И вся история — миф, от начала до конца?
— Похоже, что так.
— А эти рассказы об Александре и древнем жреце, легенды о Калифе аль-Мамуне, слухи, которые долетали до вас при дворе Людовика Пятнадцатого, — сплошной вымысел, детские сказки?
— Похоже, что так.
— Вот почему все так старательно избегают расспросов? Это не хитрость, а самое заурядное неведение?
— Похоже, что так.
— Понятно, — продолжал кивать Наполеон. — Понятно. — У него задрожала нижняя губа. — Понятно.
Ночью главнокомандующий нетрезвой походкой бродил по спальне, отвергнув ласки возлюбленной, и силился свыкнуться с поражением. Но все было напрасно.
Со дня прибытия в Египет Наполеону довелось пережить немало разочарований: лорд Нельсон уничтожил его флотилию, Святая земля оказала холодный прием, а самое главное — выяснилось, что во Франции Жозефина ему изменяла, и даже после свадьбы. Но до сих пор Бонапарту хватало силы характера, чтобы обращать подобные события себе на пользу.
Не осталось кораблей? Ну что ж, пути назад отрезаны!
Пришлось отступить из Палестины? Главное, что в Каире об этом так и не прознали: по возвращении Наполеона встречали улицы, устланные пальмовыми ветвями.
Супруга оказалась неверна? Значит, он лишний раз убедился в собственной правоте: все женщины одинаковы. Настало время убрать с глаз розовую пелену «настоящей любви», вернуться к утонченному цинизму и наконец развязать себе руки для новых великих свершений.
Но вот и последний удар судьбы: затея с пресловутым чертогом вечности, единственная причина, ради которой стоило плыть в Египет, оказалась пустой бутылью, откуда ему не придется выпить ни капли.
Между тем чуть ли не с первых дней жизни, еще не научившись ходить, а только ползая по тканому ковру с изображением гомеровских мифических героев, Бонапарт ощущал себя особенным. Это удивительное чувство, развившееся в ту пору, когда он впервые прочел об Александре Македонском и Цезаре, укрепилось после оглушительного торжества в Тулоне и прямо-таки захлестнуло душу во время победоносной итальянской кампании. Казалось, земля бежит из-под ног, и сердце рвалось в небеса. Нет, не ему прозябать в темнице неизвестности, безропотно тянуть лямку заурядной повседневности! Наполеон собирался написать собственное имя грозовыми молниями, обратить каждый миг своего существования в историю и в конце концов навеки занять почетное место в пантеоне бессмертных. И для кого же тогда существуют неприступные тайны вроде чертога вечности?
Так как же смириться с мыслью о том, что эта вершина не будет взята? Можно ли по-прежнему править Египтом, обладая столь ужасным знанием? Не получив окончательного знамения от судьбы?
И если на то пошло, стоит ли безоговорочно доверять Денону? Художник так неприятно переменился; не только тело, но и душа его исхудала и потемнела на солнце. А этот самодовольный и снисходительный тон, эта усталость, даже презрение в глазах — похоже, ежедневные стычки со смертью отучили Денона от привычки к притворству, тем более к лести. Вероятно, он видел нечто особенное, проведал некий секрет или же обрел в пустыне совершенно новую философию. Нахмурившись, Бонапарт размышлял о словах Денона, как некогда о словах шейха аль-Мохди: «Тайны чертога превыше вашего понимания», — и подозрения закипали в его голове, покуда не стали совсем нестерпимыми.
Уже глубоко за полночь Наполеон покинул свою резиденцию, пересек несколько улиц и разыскал Институт Египта, но не застал художника в отведенной ему комнате.
— Он отвык ночевать в постели, — объяснил Дютертр, его товарищ по кисти. — Теперь засыпает только под звездами.
Они поднялись на крышу и там обнаружили спящего, чьи волосы дерзко серебрились под лунным светом.
— «Честь дипломата»! — обрушился на него Бонапарт.
Художник испуганно вскинул голову.
— Так значит, «честь дипломата»! — продолжал кричать Наполеон, брызжа слюной во все стороны. — Вы мне клялись, будто ничего не упустили! Что, разве не так?
— Мой генерал…
— Да за кого вы все меня принимаете? За слабоумного?
Денон протестующе замотал головой.
— Я знаю, вы что-то скрываете! Знаю, понятно вам?! И я это выясню, Богом клянусь! Если понадобится, вытрясу из вас правду! — Наполеон шагнул вперед, и глаза его замерцали во тьме раскаленными углями. — «Тайны чертога превыше вашего понимания»! Да кто я такой, по-вашему?
Казалось, художник лишился дара речи.
— Думаете, я недостоин, да? Думаете, я не король?
Денон молчал, не ведая, что ответить.
— Я — фараон! — прокричал Бонапарт. — Фараон! Сомневаетесь? Вы же сами мне намекали!
К Вивану вернулся голос:
— Конечно, мой гене…
— Фараон! — зашипел главнокомандующий. — Фараон, а не генерал! Властитель над жизнью и смертью!
Пару мгновений, взирая сверху вниз на онемевшего художника, Наполеон даже подумывал доказать свою правоту, раздробив ему череп одним ударом каблука.
Потом он сплюнул, развернулся и прошествовал к лестнице в сопровождении верных телохранителей, окутанный облаком дыма и винных паров.
Наутро, промаявшись бессонницей и угрызениями совести, Бонапарт вызвал во дворец Денона, к которому вдруг вернулась прежняя учтивость, и рассыпался в извинениях: дескать, ночью у него расшалились нервы; дескать, его серьезно расстроили вести о чертоге; к тому же попытка успокоиться с помощью избыточной дозы опиума оказалась весьма неудачной, и вообще, в последнее время он пришел к убеждению, что от него сознательно что-то утаивают, неизвестно по какой причине считая главнокомандующего недостойным узнать тайны чертога вечности. Ведь это ему померещилось? Верно?..
Денон закивал так усердно, что у него едва не сломалась шея.
Однако не следует больше беспокоиться, продолжал Наполеон, ведь он провел целую ночь в размышлениях и решил не обходиться одной экспедицией, а посылать новые, целую сотню, если понадобится, ибо чертог, без сомнения, существует, осталось только его найти, и, покуда имеется подобная возможность, ни в коем случае нельзя опускать руки. Может статься, это потребует посвящения в тайну еще кого-нибудь; главнокомандующий согласен и на такой риск. Он готов перерыть пустыни, разрушить храмы, сровнять с землей деревни, сделать все, что угодно. На самом деле, он уже набросал кое-какие планы, определил, куда в первую очередь нужно послать экспедиции, решив начать с величественных Фив.
— А вы, мой дорогой Виван, вы отправитесь через пустыню к оазису Сива… Что это вы так побледнели?
— Я? Побледнел? — переспросил Денон. — Вам показалось, дорогой генерал. По-моему, это чудесная новая возможность.
Наполеон, которому за последние тридцать часов не удалось как следует выспаться, не различил в его словах сарказма — и остался доволен.
Однако ночью он опять лежал без сна, вновь и вновь отвергая и пересматривая собственные планы. Внезапно внизу послышался странный шум. Не дожидаясь объяснений, Наполеон перелез через спящую возлюбленную и спустился по лестнице.
В освещенной свечами зале, под крутыми арками с арабесками, стоял Виван Денон, облаченный в парадный мундир и полотняные брюки; в его глазах застыла нерешительность.
— Генерал Бонапарт, — прохрипел он, — прошу простить меня, вы же знаете, я бы никогда… я бы не стал беспокоить… если бы не дело огромной важности.
— О чем вы? — прищурился Наполеон.
Только теперь он увидел рядом с Деноном толпу очень смуглых и хмурых шейхов, размахивающих горящими факелами, словно актеры на сцене, играющие «Али-Бабу и сорок разбойников».
— Прошу вас, как никогда прежде, доверьтесь мне, — промолвил Денон.
— Да что случилось?
— Это… это насчет чертога, мой генерал.
Наполеон резко очнулся от мутного полусна.
— Чертог вечности? — переспросил он, опасливо покосившись на шейхов. — А в чем дело?
Денон тяжело сглотнул.
— Все, что я говорил раньше… сожалею, но…
Внушительный седобородый мужчина, явно духовное лицо, выступил вперед, по восточному обычаю приложил правую ладонь ко лбу и отвесил поклон.
— Мир тебе, султан аль-Кабир. Я — шейх Мохаммад аль-Шеркави из мечети аль-Азхар.[40] С вашего разрешения, этой ночью я стану вашим провожатым.
— Провожатым? Куда?
— Туда, где вам откроются тайны грядущих столетий.
«Может, я все-таки сплю», — подумал Наполеон.
— А где? Где это место?
— Положитесь на меня, и вы получите все ответы.
На миг Наполеон усомнился, уж не обман ли это, но потом заметил непритворно испуганное лицо Денона — подобное было бы невозможно сыграть… И вдруг он понял. Его собираются сопроводить, как Александра Македонского, в некий храм или еще куда-то, где высший жрец или другой посвященный раскроет ему чудесные секреты чертога.
— А это далеко? — хрипло спросил он.
— Вы вернетесь к рассвету.
У Бонапарта сжало горло и перехватило дыхание: какое великое дело ему предстояло свершить!
— Это правда, мой генерал, — заверил Денон. — Вы не пожалеете.
Наполеон почувствовал, как у него застучало в висках.
— Отлично, — произнес он, пытаясь как-то совладать с собой. — Сейчас я оденусь и соберу военный эскорт…
— Никаких военных, — отрезал аль-Шеркави.
— Вы ожидаете, что я выйду на улицу без охраны?
— Солдаты могут сопроводить вас до городских ворот, но дальше мы отправимся без них.
— Откуда мне знать, что вы заслуживаете такого доверия?
Аль-Шеркави поклонился.
— Вам ничего не угрожает, султан аль-Кабир. Клянусь девяносто девятью именами Аллаха.
— Ему можно верить, мой генерал, — прибавил Денон. — Даю слово чести.
Трудно сказать, что повлияло сильнее — умственное утомление или неодолимая тяга к приключениям, однако Наполеон отбросил излишнюю осторожность.
— Будь по-вашему, — решился он. — Будь по-вашему. Я сейчас.
Взлетев по лестнице, он поспешил натянуть мундир и треуголку и с бешено бьющимся сердцем осмотрел себя в наклонном зеркале. Помятое лицо, мешки под глазами… Подумать только, как же несправедлива судьба: пятеро из двенадцати детей, рожденных его матерью, скончались в младенчестве или совсем юных годах, а он… он не просто повзрослел и окреп, но сделался самым живым человеком среди живущих. И вот, окрыленный зовом судьбы, он сбежал по ступеням, чтобы вместе с безмолвными шейхами прошествовать по извилистым улицам и устремиться на запад под небесами, не знающими иных облаков, кроме звездных туманностей.
Спустя два часа его приветствовал в царском чертоге мужчина в мерцающих багровых одеждах.
— Enchanté,[41] — промолвил «красный человек» и поклонился.
Глава пятая КЛЮЧИ К НЕВИДИМОМУ
С тех пор как Александр Генри Ринд поселился в комнатке под лестницей (это было единственное помещение в жилище Уилкинсона, которое расцветкой обоев не походило на турецкий бордель), он спал очень чутко. Ринд слышал, как в доме то заскрипит половица, то зашаркает лапами пес, то за окном устроят шум какие-нибудь гуляки, то в голове зароятся беспокойные мысли. Сэр Гарднер, как правило, поднимался ни свет ни заря, уходил со своим Наполеоном на утренний «моцион», после чего с радостным румянцем на щеках возвращался на кухню, заранее предвкушая сытный завтрак, состоящий из аппетитных колбасок и ячменных лепешек с малиновым джемом. За едой хозяин развлекал Ринда, едва успевшего протереть покрасневшие глаза, неизменной беседой на очередную животрепещущую тему, как то: не глупо ли вводить на железной дороге красно-зеленые семафоры, ведь именно эти цвета, по его утверждению, хуже всего различают дальтоники; или, например, о том, насколько правильно было бы открывать библиотеки, музеи и галереи по воскресеньям, в единственный день, когда рабочие массы тоже могли бы заниматься самообразованием; или о необходимости уважать чужую культуру, включая мелкие особенности вроде привычки египетских собак цапать за руку любого европейца, который вздумает погладить песика.
Стоит ли говорить, что к теме Египта он возвращался особенно часто и с огромным воодушевлением. Сэр Гарднер не был там уже пять с лишним лет, однако с радостью отправился бы в эту страну хоть завтра. Египетские пески до сих пор шелестели в складках поношенных камзолов, высыпались на стол из дорожных тетрадей, скрипели в корпусе наручных часов… И очень часто туманили взор, когда сэр Гарднер обращался к бесценным воспоминаниям.
— В Египте, — восторгался он, — на каждый шепот вам отзовется эхо истории.
И все-таки на некоторые темы словоохотливый хозяин, подобно Денону, вдруг начинал говорить обиняками. В частности, он так искусно уклонялся от разговора о своих египетских дневниках, что молодой шотландец далеко не сразу оценил его изворотливость.
— Мои дневники? — удивился сэр Гарднер. — Поверьте, вам бы пришлось изрядно потрудиться, чтобы найти там хоть унцию ценных сведений. Почерк у меня — настоящие иероглифы. Знаете, что заявил Гамильтон, когда я передал часть своих записей в дар музею?
— И что же? — напрягся Ринд.
— Он заподозрил, будто бы я намеренно укрываю какие-то сведения. Нет, он безнадежно подозрительный тип.
Ринд, не скрывавший своих отношений с Гамильтоном (по крайней мере в делах, касающихся национальных реликвий), смятенно закивал.
— Может, вы и правы, но мне ведь однажды придется освоить иероглифы. И потом, я уверен, что мог бы извлечь пользу…
— Сомневаюсь. Во всяком случае, все, что имело ценность, давно переписано набело и опубликовано. К тому же писатель из меня неважный.
— Полагаю, об этом лучше судить читателям.
— Я совершенно серьезно, мой мальчик. Потребовалась целая вечность, чтобы меня вообще начали печатать. А вот ваши сочинения — просто выше всяких похвал.
— Да н-нет, что вы. Какая нелепость. Ни с вами, ни с кем-то еще мне никогда не сравниться. Я даже и не имею таких амбиций.
— Перестаньте. — Сэр Гарднер округлил глаза. — Что же такого ужасного в том, чтобы иметь амбиции?
— Может, и ничего. Меня куда больше пугает болезнь тщеславия.
Полностью сбитый с толку, молодой шотландец не нашел, что прибавить, и только позже ему пришло в голову: собеседник просто сыграл на его природной скромности, чтобы уйти от разговора.
Еще одной, не менее скользкой темой оказался вопрос о мародерстве французов.
— Французы? А почему вы спрашиваете? — спросил археолог, пытаясь удержать на ячменной лепешке лужицу растаявшего сливочного масла.
— Просто вы как-то сказали, что эти люди сыграли незначительную роль в разграблении Египта.
— Я так говорил?
— И весьма убедительно.
Сэр Гарднер уставился на свою тарелку.
— А у вас есть причины думать иначе?
— Я провел небольшое исследование…
В действительности Ринд побывал в сумрачной Египетской галерее музея, где У. Р. Гамильтон показал ему пятьдесят пять тонн саркофагов, сфинксов, мраморных статуй и обелисков, большую часть из которых он лично, по заданию лорда Элджина,[42] спас из трюмов французских кораблей, отплывавших от берегов Египта в тысяча восемьсот первом году.
— Хм-м, ну да… — Сэр Гарднер отправил в рот еще кусок лепешки и, наконец-то насытившись, вытер пальцы салфеткой. — Я, наверно, имел в виду Бонапарта с Деноном лично. Они в самом деле почти не принимали участия в грабежах. Еще лепешку?
— Нет, спасибо.
— Наполеон, как всегда, ждет своей доли.
И снова Ринду понадобилась пара мгновений, чтобы заметить сидящего у стола терьера.
Сэр Гарднер бросил собаке последний кусочек.
— Довольно с тебя, дружок, а то располнеешь, как твой тезка. — Тут археолог наморщил лоб, как если бы вдруг припомнил одно чрезвычайно срочное дело. — Кстати, — сказал он, поднимаясь и шаря в карманах, — что-то мы сильно припозднились с утренним моционом.
И тут же исчез, точно бежал из чумного дома, чтобы больше уже никогда не заговаривать о мародерах из Франции.
Наконец, была еще одна, более частная запретная тема — окутанная тайной экскурсия Наполеона в царский чертог. У. Р. Гамильтон хотя и заявил во время похода в музей, что никаких точных подробностей этого события не сохранилось, а уж причины и вовсе покрыты мраком, однако привел свидетельства, опубликованные в прессе той поры, к примеру в «La Gazette Nationale», и даже сослался на собственные достоверные источники, подтверждающие, что странное посещение и вправду состоялось.
— По-моему, вы как-то упоминали, — как бы между делом заметил Ринд в беседе с прославленным архитектором, — что Наполеон не поднимался на пирамиды?
— Хм-м? — отозвался тот, читая аккуратно сложенный номер «Таймс».
— Дело в том… — не сдавался Ринд, — я читал, что на самом деле он входил внутрь Великой пирамиды в сопровождении каирских имамов и муфтий.
Сэр Гарднер наморщил лоб.
— Бог мой, где вы такое вычитали? — И, не давая молодому человеку ответить, продолжил: — Знаете, почему я подозреваю, что Наполеон только мельком видел пирамиды? Почему он так и не нашел времени посетить Верхний Египет? А также Фивы, Дендеру, Сахару? Хотя до всех этих мест было рукой подать, а Бонапарт, по его словам, обожал древнюю историю?
Ринд покачал головой.
— Полагаю, из тех же соображений, которые не пустили его в Рим — хотя Наполеон буквально бредил этим великим городом и не единожды оказывался поблизости. Думаю, он боялся почувствовать себя никем. Перед лицом древних сооружений Египта и Рима любой здравомыслящий человек неизменно проникается глубоким смирением. Денон побывал и там и там — и не скупился в своих рассказах на выражения благоговейного восторга. Наполеон же, напротив, отзывался о египетских памятниках пренебрежительно, хотя львиной доли из них вообще не видел; он даже предполагает, будто бы здания Парижа превосходят их красотой и величием! Видите, какое двоемыслие? Бонапарт и страстно увлечен Египтом, и в то же время страшится, как бы эта страна не поглотила его без остатка.
— Мне кажется, ни один человек не захочет, чтобы его проглотили, — заметил Ринд, припомнив собственное напускное презрение к гипсовым колоссам Хрустального дворца.
— Чепуха, мой мальчик. Смею заверить: когда вы сами посмотрите в лицо Сфинксу — думаю, это непременно случится, причем гораздо раньше, чем вы предполагаете, — то увидите то же самое, что когда-то увидел я. То, что доступно людям, скромным от природы, но безнадежно скрыто от глаз Наполеона.
— И что же? — спросил Ринд.
Археолог улыбнулся.
— Покой и ясную безмятежность.
— Безмятежность? — повторил молодой шотландец с запинкой, так как нечасто произносил это слово.
Сэр Гарднер молча посмотрел на него.
— Скажите, мой мальчик, в вашей жизни уже появилась некая юная леди?
Тот даже вздрогнул от неожиданности.
— А что… Почему вы спрашиваете?
— Ну… такой приятный молодой человек в расцвете лет…
Отчаянно смутившись, Ринд прибегнул к отговорке, достойной школяра.
— Единственная леди в моей жизни, — пролепетал он, пытаясь придать голосу насмешливый тон, — это ее величество королева.
Сэр Гарднер выдержал короткую паузу и не менее двусмысленно вымолвил:
— Превосходный ответ.
Ночью, обдумывая этот разговор у себя в комнате, Ринд в сотый раз удивился тому, с какой легкостью позволил переключить свое внимание. И еще задумался: для чего хозяин столь усердно подчеркивает утонченные свойства его характера, особенно скромность, и почему виртуозно обходит стороной тему «французы в Египте». В сущности, у шотландца появилось двое отцов, каждый из которых, умело играя на струнах души, куда-то тянул его: У. Р. Гамильтон — властный, вечно сдержанный и сморщенный, словно мумия, и сэр Гарднер Уилкинсон — великодушный до неприличия, открытый для жизни, как его пестрый зонтик, но в то же время тщательно оберегающий личные секреты и неизвестно зачем постоянно оценивающий своего ученика. Оказавшись между ними, молодой человек отчаянно страдал оттого, что не может продвинуться хотя бы на шаг вперед. Если у них с Наполеоном и было что-нибудь общее, так это неутолимая жажда прогресса:
Не печаль и не блаженство Жизни цель: она зовет Нас к труду, в котором бодро Мы должны идти вперед.[43]Эти строки сделались его личным девизом. В легком тиканье часов Ринду слышался треск реликвий, погибающих во имя очередной железной дороги, и близкий шорох шагов неотвратимой смерти. Но если Наполеон был в состоянии бездумно, с огромным размахом следовать каждому своему порыву, то молодой шотландец, будучи жертвой собственной застенчивости, лишь молча подавлял отчаяние и частые сомнения, повинуясь безжалостному гнету чувства долга и чести, пытаясь как-то воплощать в жизнь собственные планы, при этом не обманув чужих высоких ожиданий. В душе он завидовал людям вроде Гамильтона и сэра Гарднера: полные жизни, обладающие цельным характером, они в то же время куда спокойнее, почти со скукой взирали на собственные достижения. С другой стороны, оба джентльмена успели достойно завершить множество глав своей судьбы, тогда как Ринд по сей день сидел за столом, занеся перо над первой страницей, думая, откуда начать, и даже не зная, будет ли у него такая возможность.
Молодой человек вздохнул и задул свечу.
В тысяча восемьсот пятьдесят четвертом году Британский музей насчитывал более пятисот тысяч книг. Залы его библиотеки словно магнитом притягивали ученых, студентов, пропагандистов, а также разных чудаков, которых родные гнали на улицу, чтобы те не устроили в доме пожара. Правда, кроме доступных любому изданий существовала особая группа запрещенных книг, инкунабул[44] и бесценных томов, просматривать которые разрешалось лишь по специальной договоренности и к тому же под строгим надзором. Среди них нашлось немало экземпляров, к которым Ринд, прилежно радеющий о своем образовании, получил право прикасаться — но только в перчатках и с особым пиететом.
Взять, например, «Description de l'Égypte»[45] — самый заманчивый плод египетской кампании. Шедевр, над которым в Париже трудились целых двадцать лет: в десяти томах содержались тексты, еще в десяти — изысканные гравюры, а в трех последних — карты шириной в ярд. В двадцатых годах девятнадцатого столетия была выпущена относительно более доступная версия этого издания, предназначавшегося поначалу исключительно для коронованных особ. Для того чтобы это сокровище появилось на свет, потребовалось в корне преобразовать устройство цветных печатных прессов, поменять производство и гравировальных машин, и веленевой бумаги. Это была настоящая Французская революция в книгопечатании.
Снова и снова Ринд любовался роскошными страницами, на которых чернилами самых сочных оттенков со множеством мельчайших подробностей изображались монументы, руины, острова, торговые суда с матросами и купцами, флора и фауна Египта. Пожалуй, чужая земля никогда еще так полно не умещалась в тисненых кожаных переплетах.
— До чего изумительная, дотошная аккуратность! — как-то раз восхитился он, склоняясь над очередным томом в алькове Салона рукописей.
— Ну, аккуратность — это чересчур сильно сказано, — возразил Гамильтон у него за плечом.
— Наверное, но с другой стороны… Что? — вскинул голову Ринд. — Хотите сказать, здесь могут быть неточности?
— Целая масса искажений. Разумеется, ведь граверы трудились в тысячах миль от оригиналов, так что ошибки вполне простительны… в большинстве случаев.
— А в остальных случаях?
Гамильтон ответил едва уловимой улыбкой.
— Первые тома издавались под покровительством Бонапарта и по завершении были в торжественной обстановке преподнесены ему лично. Но были случаи, когда он попросту не мог удержаться и вмешивался в работу, словно курица, которая квохчет над яйцом. Знаете, что сказал Наполеон, увидев на иллюстрациях царский чертог Великой пирамиды?
Ринд нахмурил лоб.
— Не помню таких иллюстраций.
— Вот именно. Все потому, что Бонапарт разругал художников в пух и прах. Он заявил — нет, он был твердо убежден, что в царском чертоге были звезды.
— Звезды? Внутри Великой пирамиды? Никогда об этом не слышал.
— Разумеется, юноша: их там нет. Однако издатели были в таком замешательстве, что предпочли совсем обойтись без иллюстраций.
Ринд задумался.
— Значит, царский чертог… на самом деле может оказаться чертогом вечности? Легендарным чертогом вечности?
— В девятом веке нашей эры калиф аль-Мамун именно так и считал. Но когда наконец он взломал Великую пирамиду и пробился внутрь, то обнаружил один лишь просторный склеп длиной примерно в тридцать пять футов, голые стены из полированного гранита и пустой саркофаг, который гудел, словно колокол. Вот и все. То же самое видели Денон, я сам, да и сэр Гарднер. Чертог замечателен разве что полным отсутствием излишеств. Но, даже невзирая на звезды, я убежден: Бонапарту открылось не более нашего. И никакого чертога вечности.
— Тогда для чего, — спросил молодой шотландец, пожав плечами, — для чего вообще нужен был этот визит?
— Думаю, это сооружение, подобно храму Амона-Ра в Сиве, просто как нельзя лучше подходит для бесед о сокровенном. Похоже, есть некая очень серьезная причина, и тайны чертога вечности нуждаются в том, чтобы говорить о них, не раскрывая его настоящего расположения. Даже если его придется прятать от глаз великих владык. Вы слыхали когда-нибудь об аль-Джахизе Пучеглазом? — С этими словами Гамильтон взял увесистую кожаную папку и достал оттуда исписанный от руки листок. — Этот ученый, философ был современником калифа аль-Мамуна, написавшим более трехсот трудов, дошедших до наших дней. Здесь перевод отрывка из его малоизвестного текста, «Книги далеких чудес».
Ринду понадобилась примерно минута, чтобы вчитаться в неудобоваримую прозу.
«Достаточно причин тому, чтобы скрыть от непосвященных al-ghayb,[46] — сие место безраздельно принадлежит единому Всевидящему. Как известно, повелитель верных аль-Мамун отправился в Египет — это было на седьмом году его правления, в двухсот четвертом году от вознесения, — в поисках сокровищ пирамид, но я узнал из уст Хасана ибн-Сахля, визиря повелителя верных, что главным образом его влекли не тленные сокровища, а тайны веков — ключи к невидимому; позже случилось, что и Хасан ибн-Сахль самолично путешествовал по пустыням и дельтам и сдружился с местными жителями, и он открыл эти ключи в чертоге вечности, как рассказывал, и годы спустя он передал их калифу аль-Мамуну в Багдаде, но как именно — об этом визирь умалчивает. Произошло это в аль-Кхулд [во Дворце вечности] накануне свадьбы аль-Мамуна с дочерью ибн-Сахля Барун в году двухсот четырнадцатом от вознесения, и я не могу подвергать сомнению слова старинного друга; тем более не могу я не верить собственным глазам, ибо сам читал у Аристотеля и Страбона об этом чертоге и слышал, что чудесные ключи были так же явлены Александру Македонскому в Сиве, как аль-Мамуну в аль-Кхулд; но подобные откровения предназначены лишь для пророков и повелителей — такова воля Аллаха, ибо Он один хранит все ключи подобного рода и никто на свете не знает больше Него…»
— У Аристотеля? — повторил Ринд, стараясь не выказать своего потрясения.
— Во времена калифа аль-Мамуна арабы с особенным рвением добывали и переводили древние манускрипты. Вот, посмотрите.
На сей раз Гамильтон выудил из папки крохотную книжицу, редчайшее оригинальное издание «Книги сокрытых жемчужин и драгоценной тайны, с указанием секретных мест, где спрятаны клады». Ринд осторожно раскрыл потрепанные страницы, любуясь убористой арабской вязью, а Гамильтон между тем пояснил:
— Автор неизвестен; дата создания — ранее четырнадцатого века; книга до сих пор в ходу, правда, в ужасно усеченной форме. Даже и эта чудом пережила несколько насильственных сокращений.
— Сокращений? — Ринд обратил внимание на нестыковки в креплении страниц.
— По слухам, на книгу была объявлена яростная охота и все неугодное попросту выдрали. Мой экземпляр тоже неполноценен. Зато, — Гамильтон протянул молодому шотландцу листок с переводом текста на последней странице, — вот что гласит послесловие: «Остается надеяться, что читатель исполнил все наставления, представленные здесь, и своими глазами увидел груды серебра, горы чистейшего золота, великолепные гробницы и пещеры необычайной красоты. Остается надеяться, что читатель благополучно преуспел в этом начинании, обретя мудрость и спокойствие духа — то, что всегда угодно Аллаху. Все знают, Египет — страна таинственных чудес, многие из которых стерегут змеи, скорпионы, механизмы и злые духи, каверзные ловушки и свирепые дозорные, но невозможно описать словами сокровища вечного чертога или даже силы, его охраняющие, ибо никому не ведомо невидимое на небесах и на земле, кроме Аллаха». И так далее.
Гамильтон предъявлял Ринду одно свидетельство за другим, извлекая их из тщательно подобранных папок: «Liber secretorum fidelium Crucis»[47] тысяча триста двадцать первого года, путевые дневники средневековых пилигримов, «Эдип Египетский» Кирхера[48] за тысяча шестьсот пятьдесят второй год, неопубликованные заметки шотландского аристократа и путешественника Джеймса Брюса… Никто из авторов не видел чертога вечности собственными глазами, к тому же с названием была сильная путаница, но все сходились в одном: где-то среди бескрайних песков могущественные силы стерегут древний склеп, хранящий тайны, не предназначенные для простых смертных.
Позже в музейном подвале, в окружении фрагментов изваяний и позабытых редкостей, Гамильтон поставил фонарь на полку и стянул платок с главного сокровища.
— Взгляните сюда, юноша.
Ринд много раз исследовал Розеттский камень, самый известный египетский артефакт музея, конфискованный в тысяча восемьсот первом году у французов и послуживший ключом к разгадке иероглифического кода. Черная гранитная глыба, на которую смотрел молодой шотландец, напоминала тот камень размером и формой, но отличалась большей длиной столбиков из прекрасно прописанных знаков: птиц, кубков, раскрытых глаз, весов, петель, зазубренных линий.
— Здесь мы находим самое древнее упоминание о чертоге вечности, — пояснил Гамильтон. — Это текст, обнаруженный на крышке одного саркофага в Долине царей. Предположительно создан в эпоху Нового царства — с шестнадцатого по одиннадцатый век до нашей эры.
Ринд прищурился, глядя сквозь оседающую пыль.
— Что тут написано?
Гамильтон провел указательным пальцем по знакам, переводя вслух: «Под сим каменным сводом, над которым трудилось пятьдесят человек, нашел последнее упокоение его величество со своими рабами. Поистине, это самый прекрасный и священный чертог на свете, помимо того чертога, который нельзя упоминать. Для его защиты мы призываем ядовитых тварей земли и демонов нижнего мира, и всех, кроме благородных духов, охраняющих тот чертог, который нельзя упоминать. Да переживет сей склеп все прочие, за исключением чертога, наиболее ценного для вечности, — того, который нам запрещено упоминать».
Гамильтон постучал пальцем по изображению:
— Вот один из многочисленных египетских иероглифов, обозначающих вечность. Змея, ползущая над полоской земли, — зрительный образ преходящего времени. А это, — он указал на полукруг, — каравай хлеба, признак женского рода.
— А что, в Древнем Египте вечность была женского рода?
— Ее статическая и устойчивая форма — разумеется.
— А есть и другие?
Гамильтон посмотрел на Ринда, и в его глазах заплясали блики огня.
— Еще есть мужская. Бонапартовская.
— С какими свойствами?
— Активная. Зацикленная. — Гамильтон усмехнулся. — Бесконечно возвращающийся фараон.
Некоторое время спустя, когда Ринд вышел из музея на вечернюю улицу, на воздух, пропитанный пеплом и дымом, его захватил водоворот разноречивых мыслей и чувств. С одной стороны, врожденный скептицизм не позволял безоглядно принять на веру доказательства Гамильтона; с другой — молодой шотландец чувствовал, как его неудержимо затягивает поток таинственного (что, видимо, и входило в замыслы Гамильтона), увлекая все далее от бесценных наконечников и кремней родной старины. Положа руку на сердце, хотя в этом стыдно было сознаться, Ринда прельщало величие в любых видах: национальные каменные пирамиды бледнели в его глазах перед египетскими храмами, свежая деревенская зелень — перед городской суетой, а заурядный солдат — перед личностью Наполеона; и даже акцент шотландца, казалось, стремительно утрачивал былую резкость. При мысли об этом его едва передергивало от стыда.
Сунув руки в карманы, Ринд пошагал по сумеречной улице навстречу безрадостному солнцу Лондона.
Четыре дня спустя, очутившись среди покрытых клочьями пыли перекрестных балок крыши в отчаянных поисках доступа к запертому кабинету сэра Гарднера, молодой человек неожиданно задумался, в какой же степени он теперь действует согласно замыслам У. Р. Гамильтона и не побуждает ли его к действию собственное разыгравшееся любопытство.
Без сомнения, он уже пал жертвой грез о храмах, обелисках и змеях, ползущих над хлебными караваями. При этом, не получая дальнейших подсказок со стороны гостеприимного хозяина, Ринд чувствовал, как запертый кабинет начинает притягивать его своей загадочностью не менее, чем сам чертог вечности. Поэтому стоило прославленному археологу выйти — на прогулку с собакой или в один из бесчисленных клубов, — как молодой человек пытался тайком разыскать «ключи к невидимому»: исследовал укромные шкатулки, буфеты, солонки, лаковые ларцы, обшаривал кухонные полки, виновато вздрагивая при каждом скрипе половицы или шагах экономки. Но вот однажды, в пятницу утром, экономка тоже покинула дом с явным намерением пополнить запасы в кладовых; Ринд расхрабрился, влез на стул, забрался в потолочный люк и двинулся на четвереньках по ненадежным балкам, точно расхититель древних гробниц Египта, ища потайную дверцу, отверстие, дымоход или просто щель, чтобы еще хоть одним глазком заглянуть в запретный чертог. Но все усилия были совершенно напрасны. Вскоре от вездесущей пыли и бешено бьющегося пульса у молодого шотландца помутилось в голове. Ему даже захотелось оказаться в ловушке, взаперти; и этого не пришлось долго ждать.
Со сверхъестественной неотвратимостью заскрипела входная дверь.
Торопливо попятившись, Ринд выпал из люка, приземлился на четвереньки подобно коту и поспешил спрятать стул. Ноги у него гудели, в легких пылал огонь, а в горле страшно першило. Шотландец выпрямился и принялся отчаянно стряхивать пыль с рукавов.
Сэр Гарднер возник на лестнице с аккуратно завернутым бумажным пакетом. В эту минуту он более всего напоминал контрабандиста, забывшего о маскировке.
— А, вот вы где.
— Мне послышался шум, — отвечал молодой человек, над которым по-прежнему вился дымок из пыли.
— Наверное, крысы. Знаете, сосед прикармливает голубей и так неосторожно разбрасывает крошки…
— То-то я различил воркование.
— Могу себе представить.
У Ринда все сильнее горело горло.
— Секунду. — Сэр Гарднер отпер ключом дверь кабинета, убрал туда сверток и слабо улыбнулся. — Может, немного хереса?
— Лучше чая.
Внезапно Ринд не сдержался, отвернулся в сторону и резко закашлялся в кулак. На ладони осталась красная волокнистая мокрота.
Поддавшись первому порыву — скрыть свое состояние, — он с бодрым видом спрятал руку от глаз сэра Гарднера… Но тут же зашелся в новом приступе — и выплеснул из легких алую жидкость прямо на узорчатые обои.
— Алекс! — вскричал археолог. — Что с вами?
— Ничего, — пролепетал Ринд, ища в кармане носовой платок. — Ничего страшного… Правда.
— Сейчас же иду за доктором.
— Нет… не надо. Я знаю, в чем дело, — ответил молодой человек, утирая кровь с подбородка. — Haemoptysis,[49] — проговорил он, будто творил заклинание. — Haemoptysis. Легочная болезнь.
Сэр Гарднер еще сильнее нахмурил лоб.
— Да, заболевание легких, — продолжал настаивать Ринд, подняв ладонь. — Время от времени… — он судорожно вдохнул, — бывают рецидивы.
— И вы обследовались в больнице?
— Со всей возможной тщательностью.
Однако сэра Гарднера было не так легко сбить с толку.
— Я знаю одного хорошего врача неподалеку…
— Нет, нет… Оставьте. — Шотландец выдавил подобие усмешки. — Пожалуйста, все в порядке, это со стороны страшновато. Прошу вас, не стоит отнимать время у вашего хорошего доктора.
Прославленный археолог пожал плечами, по-прежнему сомневаясь, но покуда не зная, как отвечать на столь бурные возражения.
— Ну ладно. По крайней мере давайте спустимся к камину, вы не против? Я разведу огонь и принесу чего-нибудь подкрепиться.
— А вот это… было бы чудесно, — кивнул Ринд.
Всего лишь через несколько минут он с наигранным восторгом уписывал луковую похлебку.
— Надеюсь, — мягко начал сэр Гарднер, — ваше состояние не опасно для жизни?
— Конечно нет. Нужно только строго соблюдать режим. А я, признаюсь, иногда забываю об этом.
— Не стоит вести себя так опрометчиво.
Ринд кашлянул.
— Вы правы.
Сэр Гарднер задумчиво хмыкнул.
— Не мешало бы вам немного умерить прыть. «Кто никуда не торопится — долго живет». Так говорили римляне.
Ринд продолжал есть похлебку.
— Боюсь показаться последним приспособленцем, — прибавил археолог, — однако мне кажется, ваше недомогание, особенно если диагноз верен, — дает вам лишний повод пересмотреть некоторые предубеждения.
Но молодой шотландец не клюнул на эту наживку:
— Я не совсем понимаю, о чем вы.
— Видите ли, для людей, не обладающих железным здоровьем, существуют места с куда более благоприятным климатом.
Ринд опустил ложку на край тарелки.
— Я-то всегда полагал, что Египет — страна эпидемий, где процветают расстройства пищеварения.
— Эпидемии в наши дни очень редки, а думать, что ешь, нужно в любом уголке мира.
— А как же глазные болезни?
— У меня был целый букет, но воздух пустыни оказался необычайно целебен. Он может излечить и многое другое.
Ринд еле заметно покачал головой.
— Нет, я серьезно, мой мальчик. Немало найдется людей, которые жаловались на свои легкие, покидая Англию, а возвращались из Египта здоровыми и помолодевшими. Там же не знают ни изнурительных зим, ни простуд.
Ринду вспомнился врач из Кеттлберна, беспристрастный в этом вопросе, но придерживавшийся схожей точки зрения. («Как же вы здесь поправитесь, — убеждал он, — если с трудом вдыхаете воздух через толщу сажи? Взгляните хотя бы на тех ласточек. Всю зиму они наслаждаются целебной атмосферой Египта, покуда вы бродите подымным переулкам Эдинбурга. Только не говорите мне, что у ласточки больше мозгов, чем у какого-нибудь шотландца!»)
— Знаете, — продолжал сэр Гарднер, — греческие лекари считали египтян самой здоровой нацией в мире.
— Если не ошибаюсь, еще Платон утверждал, что лучшее лечение — позволить больному скончаться как можно скорее.
Археолог тихо усмехнулся.
— Мой мальчик, неужели вам наплевать на свое здоровье?
— Нет, нет! — отозвался Ринд, едва не залившись краской смущения.
— Тогда я не вижу причин отказываться от возможности хорошего лечения.
— Не в этом дело, — растерялся молодой человек. — Ведь кроме болезней в Египте довольно других, более грозных опасностей…
— Например?
— Разбойники, враждебные туземцы… крокодилы.
Прославленный археолог рассмеялся.
— У человека с уравновешенным характером больше шансов погибнуть от зубов ирландского волка, чем угодить в пасть египетского крокодила. А что касается безопасности, уверяю вас, на побережье Нила так же спокойно, как и в нашем Гайд-парке в полдень. — Тут он с довольным видом погладил верхушку своей трости. — Я уже не говорю о других бесценных преимуществах, нематериального плана. Взгляните хотя бы на Наполеона.
Впервые за несколько недель сэр Гарднер по собственной воле упомянул это имя, и Ринд постарался не выдать своего изумления.
— Позвольте, вы говорите не о своем терьере?
— Нет, я имею в виду Бонапарта, генерала. Из Египта он возвратился совершенно иным человеком.
— В какую сторону он изменился — в лучшую или в худшую?
— Это с какой стороны посмотреть. Во всяком случае, он явно открыл там нечто такое, что направило его на путь изменения.
Не зная, к чему эти речи, но и не желая упустить необычайную возможность, Ринд постарался выжать из собеседника еще хоть что-нибудь.
— А по-моему, вы как-то упоминали, — обронил он, не отрывая глаз от своей тарелки, — будто Наполеон почти не видел чудес Египта.
В наступившей тишине Ринд увидел, как лицо сэра Гарднера расцвело в хитрой улыбке:
— Да, но ведь он из тех редких людей, к которым гора приходит сама. Еще похлебки?
— Э-э-э… Спасибо, не надо.
— Может, чая?
— Нет…
— В Египте ваш аппетит разгуляется, — улыбнулся сэр Гарднер. — Наполеону это не повредило.
Не сказав более ни слова, он оставил ученика в туманном недоумении, а сам отправился на прогулку с терьером.
Глава шестая LE MASQUE PROPHÈTE
В канун Рождества тысяча восьмисотого года Виван Денон работал над своими «Путешествиями» в тесной квартирке на рю де Ортье, когда внезапный раскатистый грохот сотряс оконные стекла, так что многочисленные заморские диковины отозвались мелодичным звоном. Выглянув в щель между ставнями, Денон увидел молнию, сверкнувшую в разреженных тучах над Лувром, однако не заметил никаких иных признаков бури или дождя; к тому же кожа, успевшая обрести в Египте чувствительность хорошего барометра, не предвещала погодных колебаний. Осталось предположить, что в небесах разразилась сухая гроза, вроде той, которую ему довелось перенести в Восточной пустыне, на полпути между Нилом и Красным морем. Денон припомнил тогдашние ощущения — запах текущей из носа крови и вкус песка, забившего рот, — и содрогнулся, испытав невольную гордость за пережитое.
Минуло более года с тех пор, как они с Наполеоном под покровом глубокой ночи покинули Каир. Взойдя на венский фрегат в Александрии, они ускользнули от английских крейсеров (уже во второй раз на помощь пришел спасительный туман) и отплыли во Францию, где были встречены вовсе не как дезертиры — египетская кампания продолжала с грехом пополам развиваться под руководством генералов Клебера и Мену, — но как настоящие герои-завоеватели. На фоне беспорядков, которые захлестнули страну, Наполеон молниеносно прибрал правительство к рукам, свершив стремительный и бескровный coup d'état.[50] Можно сказать, в одиночку он восстановил закон и порядок, усмирил мятежников, преобразовал потерявшую боевой дух армию и возродил охладевшую было связь с церковью; если прежде и оставались какие-либо сомнения в его способностях лидера — в военной ли сфере, административной, законодательной или в отношениях с широкими народными массами, — все они вскоре рассеялись без следа. Переехав из скромного жилища в роскошные апартаменты дворца Тюильри, Бонапарт наводнил сверкающие позолотой галереи статуями своих бессмертных кумиров: Александра Македонского, Ганнибала, Юлия Цезаря и Фридриха Великого. Официально он занимал пост первого консула, но, в сущности, правил Францией — как полновластный фараон Сены.
Впрочем, Денону довелось пережить не менее революционные изменения, оставившие отпечаток не только на его теле, но и в его мировоззрении. Лишения армейской жизни во вражеской стране навсегда избавили его от иллюзорной гордыни; жестокость военного времени изгнала всякие сомнения относительно дикости человеческой природы; и наконец, извечная красота Египта, порой подстерегавшая путешественника в самых неожиданных местах, излечила душу от пристрастия к порнографии, а также к любым проявлениям суеты. Однако художник ни о чем не сожалел. В глубине сердца уже задолго до экспедиции он предчувствовал, как однажды с раскаянием отвернется от своего изящно-упадочнического образа жизни — от кружевных платочков, пышных подушек и бесконечных маскарадов. Так что Денон по сей день не мог отдыхать на перинах, обходился скудным армейским пайком и простой водой, спал при открытых окнах в любую погоду — и даже искренне страдал от того, что не видит в Сене жизнерадостных крокодилов (в последние месяцы путешествия эти твари блаженно плескались рядом с ним в нильских водах — насытившись мясом убитых, они не зарились на его костлявое тело). И если раньше Денон вел довольно распутную жизнь, отдаваясь мимолетным увлечениям бездумно и без особой страсти, то сейчас никто не узнал бы прежнего ловеласа. Он и сам не мог объяснить причин этой перемены — казалось, в Египте художнику открылся высший уровень бытия, не имеющий отношения к телесным утехам.
В последнее время он окружил себя уцелевшими египетскими эскизами («Храмы, храмы, храмы…»), заполнил ими каждый свободный клочок пространства. Они придавали заметкам-воспоминаниям яркости, а гравюрам — точности. Живя в одиночестве — никаких слуг, роскошных покоев, погребов с вином и ни малейшего желания развлекать гостей, — Денон так сосредоточился на работе, что даже кресло под ним почти не скрипело, а пальцы, сжимавшие перо, покрылись в соответствующих местах глубокими канавками. Случалось, он подолгу сидел, уставившись в пустоту, а затем проводил по лицу тяжелым плюмажем, только чтобы напомнить себе о существовании собственного тела. Иными словами, Денон стал придатком будущей книги — подобно тому, как Наполеон сделался орудием истории.
…Время рассеялось в призрачной чернильной дымке. Свеча превратилась в лужицу воска и нервно мерцала, когда под окном загрохотал экипаж; звякнули колокольчики, заскрипели двери, на лестнице раздались торопливые шаги. Художник смутно внимал этим звукам, не представляя, к кому из жильцов спешит странный ночной посетитель. И тут его дверь задрожала от громкого стука.
В недоумении и тревоге (все-таки близилась полночь), тщетно гадая, кто бы это мог быть, Денон отложил перо и перочинный нож, затеплил новую свечу, пригладил волосы и воротник и, убедившись, что в крайнем случае легко дотянется до кочерги, под назойливый грохот пошел открывать.
Казалось, хозяин комнаты приготовился к любой неожиданности — однако окаменел на пороге, не в силах сдержать изумления. Витых пять секунд он отказывался верить своим глазам и наконец выдохнул:
— Бонапарт!
Стоявший на пороге человек с их последней встречи сильно побледнел, располнел и даже как будто стал ниже ростом — с этим Денон постепенно свыкся. Но такое землистое, такое затравленное лицо было у Наполеона только по возвращении из Великой пирамиды. Облаченный в мундир первого консула — золотые пуговицы, алый бархат, расшитые отвороты, — гость говорил глухим голосом, поднимавшимся словно из глубины колодца. Голосом человека, потрясенного до глубины души.
— Я только что из «Опера Франсез»…
Ах да, припомнил Денон, «Сотворение мира» Гайдна. Но не могла же театральная постановка произвести столь неизгладимое впечатление?
— Может… может, зайдете?
Бонапарт не двинулся с места.
— Хотите бокал бордо?
Никакого ответа.
— Правда, не знаю, как насчет выдержки, но…
Внезапно Наполеон что-то прошептал.
— Простите?.. — переспросил Денон.
Похоже, неурочный гость лишь сейчас разглядел, кто перед ним.
— Неуязвимый, — повторил он, и в руке у хозяина затрепетала свеча. — Я вообще неуязвим.
Он произнес это так, словно сообщал о своем возрасте: «Мне тридцать один…»
— Неуязвимый, — снова проговорил Бонапарт, ожидая каких-нибудь возражений.
Но затаивший дыхание художник не нуждался в напоминаниях о том, что видит не просто бригадного генерала. Даже не просто главнокомандующего. И уж тем более не болезненно-бледного низкорослого офицера артиллерии с никому не понятными замашками.
— В детские годы, — изрек фараон Сены бесстрастным тоном адвоката, излагающего очередное свидетельство, — я дважды должен был утонуть, но меня спасали от верной смерти.
На мятежной Корсике в меня стреляли столько раз, что и не счесть. Пули свистели совсем близко, некоторые — буквально в волоске от кожи.
В Тулоне ядро из пушки сбило меня с ног, подо мной подстрелили троих коней, я получил выстрел в грудь, укол штыком в ногу и колотую рану на голове.
В Арколе подо мной разорвало еще двоих лошадей и на моих ушах остались царапины от пуль.
В Александрии — вы свидетель — вражеский выстрел испортил мой сапог.
В Маренго — это вы тоже должны помнить — меня опять задело взрывом, но я отделался ссадиной на ноге.
В этом самом году на меня совершили по крайней мере три покушения, и все закончились крахом…
Тут голос Наполеона сошел на шепот:
— Однако сегодня, сегодня…
Дальше он мог уже не объяснять. Все его поведение, осанка, трагический тон… и эта яркая вспышка над Лувром… Денону все стало ясно как день.
Художник и сам носил бремя подобных воспоминаний, их было более чем достаточно. В бытность свою шпионом в России, а затем в Швейцарии он несколько раз чудом избежал смертной казни; в разгар Французской революции безумец Робеспьер, этот архитектор царства террора, вызвал его к себе на полуночный допрос — Денон ухитрился уйти от верной гибели, втянув Робеспьера в увлекательный спор об искусстве; однажды среди египетских руин он услышал свист возле уха, поднял глаза, увидел мамелюка, перезаряжавшего ружье, невозмутимо застрелил его прямо в сердце и молча вернулся к своим наброскам.
Каждый отдельный случай оставил неизгладимый след в душе, на долгое время обострив восприятие мира, но ни один из них не мог бы сравниться с тем, что пережил Наполеон этой ночью.
— Неуязвимый, — вновь прошептал первый консул. — У меня давно были подозрения, и тогда, внутри Великой пирамиды, «красный человек» подтвердил каждое слово, но только сейчас я поверил по-настоящему.
Не зная, что ответить, Денон попытался еще раз проявить гостеприимство.
— Может, присядете?
— Бессмертный, — произнес Наполеон, и где-то в далекой ночи ударили глухие колокола.
— Рождество… — прошептал Денон.
Наполеон взглянул на него, открыл было рот, чтобы что-то сказать, затем передумал и молча улыбнулся.
Хозяин и гость продолжали смотреть друг на друга в упор. На сквозняке огонек свечи вытянулся в тонкую ниточку… Наконец Бонапарт опустил глаза, словно очнувшись от чар, развернулся и, оставив за собой запах дорогого одеколона, проворно сбежал вниз по лестнице.
С полминуты художник стоял как вкопанный, потом наконец задул свечу и подошел к окну: Наполеон торопливо сел в экипаж, заднюю часть которого, казалось, выжгло невероятным жаром, так что полопалась краска на обугленном дереве, — и укатил под грохот позолоченных колес.
Поутру Денон узнал, как все было. Недовольные роялисты прикрепили бочонок с порохом и картечью на винную телегу с расчетом поджечь его в ту минуту, когда карета первого консула проедет мимо по дороге в «Опера Франсез». Однако подвыпивший кучер невесть почему стегнул коней; те понесли как бешеные, и экипаж промчался мимо без особого вреда. Последовал вулканический взрыв. По слухам, двадцать человек скончались на месте, и десятки прохожих лишились ног или рук. Несколько лавок сгорело дотла. По всей округе вдоль Сен-Нисез летели оконные стекла. Побывав на месте, Денон увидел шеренгу черных деревьев, над которыми все еще поднимался дым. На булыжниках мостовой сверкали осколки стекла. В придорожных канавах темнела густая кровь, чего не встречалось в Париже со времен Революции. Военные соскребали с фасадов останки конских и человеческих тел. Художник с отвращением отшатнулся, ощутил под ногой нечто мягкое — и обнаружил, что наступил недетскую ладошку.
Жестоко, мерзко? О да, и к тому же до боли знакомо. Денон отчаянно попытался отыскать в происходящем хоть что-нибудь положительное (в тысяча семьсот семьдесят восьмом году, посетив зловещую Этну, он решил про себя, что более всего плодородная страна процветает именно в окрестностях действующего вулкана), но вскоре, отказавшись от этой затеи, в великом смятении побрел домой. Одно дело — наблюдать извержение издали, и совершенно другое — когда оно касается лично вас; изучать мифологию в уютном кабинете — далеко не то же самое, что жить рядом с героями, сошедшими на улицы с древних страниц. Вдобавок не нужно было быть великим пророком, чтобы предвидеть в будущем новые взрывы, новые реки крови. Денону оставалось лишь тайно молить судьбу об отсрочке и смягчении приговора.
Когда он вернулся к себе, оказалось, что ветер ворвался в комнату и разбросал египетские эскизы, словно сухие осенние листья. Денон принялся собирать их и на какое-то время обрел чувство внутреннего порядка, ведь на его глазах дни, полные грозных опасностей и волнений, здесь превратились в историю, в коллекцию воспоминаний и побед, неправдоподобно безобидных на расстоянии.
— Как ты думаешь, — вполголоса спросила Жозефина, — этот монумент могли воздвигнуть в честь какой-нибудь царицы Нила?
— Вполне вероятно, — сказал Денон.
— А как по-твоему, настанет время, когда что-нибудь в этом роде воздвигнут и в мою честь?
— Полагаю, твой муж именно это и собирается сделать, — отвечал Денон, хотя ему и не нравилось направление разговора.
Стоял декабрь тысяча восемьсот третьего года. Художник и супруга Наполеона, вот уже лет десять связанные крепкими узами дружбы, были вдвоем в роскошной стеклянной оранжерее Мальмезона, великолепного замка, принадлежащего Бонапарту и расположенного в шести милях от Парижа. Жозефина пригласила Денона, чтобы похвастать последними приобретениями — оба они с почти детской увлеченностью собирали произведения искусства, различные артефакты, диковины и военные трофеи, — но разразилась гроза, ужасная и немилосердная, словно полк мамелюков, и гостю с хозяйкой пришлось укрыться под сводами теплицы в окружении обелисков, изваяний, прозрачных водопадов и пышного шатра из карибских цветов, знакомых Жозефине по ее детским годам на Мартинике.[51]
— Мой муж, — произнесла она с застенчивой улыбкой, — сильно переменился после Египта, ты не находишь?
— Оттуда еще никто не возвращался прежним.
— Но Бонапарт в особенности. Согласись, ведь он стал похож на деспота?
— Думаю, — осторожно ввернул Денон, — перед лицом великих деяний истории твой супруг осознал, как много ему предстоит совершить.
— Он постоянно упоминает одну и ту же ночь. Ту, что провел внутри пирамиды.
— В самом деле?
— Ага, значит, и тебе об этом известно? — Жозефина развернулась к собеседнику. — Ты что-то слышал?
Глаза художника еле заметно блеснули.
— Да, кое-какие намеки. А что он тебе рассказывал?
— Вроде бы некий пророк в маске — «красный человек» — открыл ему будущее, причем во всех подробностях.
Денон кивнул.
— Вот и при мне он бормотал что-то в этом роде.
— Но это ведь не похоже на Бонапарта? Верить каким-то мистикам…
— В подобных вопросах он совершенно непредсказуем.
— И ты считаешь, такое могло быть на самом деле? Все, как он описывал? По-моему, это слишком… театрально.
— Я бы не стал недооценивать силу воображения великого человека, — дипломатично возразил Денон.
Жозефина смотрела, как изгибаются под ливнем ветви деревьев, точно руки волшебного дирижера.
— Знаешь, он заточил мою ясновидящую, мадемуазель Ленорман.[52]
— До меня долетали слухи…
— Это не слухи. А ведь она первая посоветовала мне выйти за Бонапарта. Обещала, что если соглашусь, то в один прекрасный день стану императрицей Франции.
— Тогда почему…
— Да, но ты не представляешь себе, что она предсказала совсем недавно!
Художник вздохнул.
— Не представляю.
Жозефина понизила голос до шепота:
— Она предрекла, что муж однажды оставит меня.
— Чушь.
— Я серьезно. Мадемуазель Ленорман прочитала правду в разбитом зеркале, в своих гадальных книгах, на картах таро — всюду одно и то же. Наполеон меня бросит.
— Твой муж боготворит одну тебя, — ответил Денон.
И нисколько не покривил душой. Если страсть самой Жозефины, особенно поначалу, была скорее наигранной и непостоянной (отнюдь не считая Бонапарта красавцем, вдова благосклонно выслушивала его пылкие уверения и с любопытством ждала, куда заведет ее этот выгодный союз), то в сердце Наполеона с первой минуты вспыхнула жаркая любовь, не оставляющая места сомнениям.
— Ты полагаешь?
На мгновение Жозефина гордо приосанилась, но тут же поникла: нет, слишком уж многое в последнее время стало другим. Супруг переменился, в том числе из-за того, что узнал о ее похождениях. По возвращении из Египта, пылая праведным гневом, он первым делом отослал вещи любимой прочь из их общего дома на рю де Виктори и приказал привратнику ни в коем случае не пускать изменницу обратно. Чувствуя себя глубоко виноватой, униженная у всех на глазах Жозефина сумела пробиться на самый верх винтовой лестницы, чтобы ночь напролет рыдать перед упрямо запертой дверью. Мало-помалу (возможно, не без расчета) Наполеон смягчился, однако с той поры границы дозволенного были совсем иными. Теперь уже супруге приходилось хранить безусловную верность, тогда как муж преспокойно развлекался на стороне.
— Я сорокалетняя женщина, — произнесла она, печально глядя на газелей, резвящихся среди деревьев.
— И так же прекрасна, как всегда.
— А вдруг я не сумею подарить ему сына? Что тогда?
— Еще есть время.
— Он никогда не возьмет вину на себя, — продолжала Жозефина, сцепив на животе пальцы. — Никогда. И я останусь одна. Мадемуазель Ленорман это ясно видела.
— Она не имеет права бросаться такими словами. Неудивительно, что твой муж избавился от этой болтуньи.
Жозефина покачала головой.
— Она сказала, что в Египте Бонапарт нашел себе другую. Ту, которую будет любить больше. Больше меня. Больше всех на свете.
— Кого? — забеспокоился Денон, вспомнив о некой леди…
— История, — ответила Жозефина. — Бессмертие. Как ни назови. Вот кто его единственная настоящая страсть.
Художник почти успокоился.
— Ну, это правда. Подозреваю, что для него мы все вторичны перед лицом истории.
— Нет, — мрачно возразила Жозефина. — Знаю, было время, когда я значила для него куда больше.
Денон промолчал, понимая, что не отыщет нужных слов для утешения, и, как всегда, полагаясь на знаменитое чувство самосохранения Жозефины. Художника охватила неизъяснимая печаль. Женщина, сидевшая подле него, словно готовилась предстать перед судом. Казалось, лезвие гильотины уже сверкает над ее шеей — так же, как во дни Революции. Притом Жозефина и не скрывала, что прежде всего боится не одиночества, даже не смерти, но жалости современников. Эта женщина жаждала для себя блистательной, а не трагической роли, желала прослыть победительницей, а не отвергнутой неудачницей. Она всем сердцем мечтала о сыне, однако не ради любви — скорее ради сохранения статуса, ради бессмертия.
«А впрочем, — бесстрастно размышлял бездетный Денон, — много ли найдется людей, которые могут похвастать менее эгоистичными причинами?»
— Когда-то мой муж был уязвим и слаб. — В голосе Жозефины слышалась тоска. — Он оказался на дне глубокой пропасти, моя любовь помогла ему выйти на волю.
«Любовь, — лениво подумал Денон, — и еще чертог».
— И вот он свободен, как птица, а я упала на самое дно.
«Разве не странно, — мелькнуло в голове художника, — искать любви, которая жила бы и дальше, за краем пропасти?» А Жозефина вновь покачала головой и жалобно повторила:
— Он меня бросит.
По стенам теплицы бежали струи дождя.
— Поживем — увидим, — обронил Денон, изобразив насмешливую улыбку, хотя, разумеется, ни в чем не был уверен.
Ведь Наполеон менялся просто на глазах.
Шесть месяцев спустя, повстречав Жозефину во дворце Тюильри, Денон не увидел в ней и следов прежнего уныния. Ее супруг наконец решился провозгласить себя императором — по его словам, это был единственный способ избавиться от постоянных покушений и заговоров, ибо если власть объявить наследственной, убийство правителя сразу же потеряет смысл. Будущая императрица видела в грядущем событии превосходное подтверждение слов своей салонной пророчицы. От прочих, не столь приятных предсказаний в такую минуту можно было попросту отмахнуться.
— К нам едет Папа Римский! — объявила Жозефина в зале Швейцарской гвардии.
— Сам Папа?
— Он ответил на приглашение мужа и будет присутствовать на коронации!
— Коронации? — Денон выгнул бровь. — Похоже, с каждым днем нас ожидает все более пышная церемония.
— О да, самая пышная в мире! — воскликнула Жозефина и засмеялась над собственной восторженностью (очевидно, шумное поведение помогало ей подавить остатки последних сомнений), однако не стала вдаваться в подробности; вскоре она укатила в карете, крикнув на прощание: — À tout à l'heure![53]
— До скорого, — улыбнулся Денон, разделяя радость этой женщины, словно любимой сестры, и углубился в недра огромного дворца.
Наполеона он обнаружил в Марсовом зале — тот наблюдал за установкой гигантского полотна с изображением Геркулеса, окруженного клубящимися тучами. С минуту Денон оставался в тени, наблюдая, как невысокий человечек последними словами бранит декораторов: «Да я бы не доверил вам развешивать меню в сельских закусочных!» — и думал о том, что, вопреки дурным предчувствиям, годы, прошедшие после памятного рождественского взрыва, стали благодаря нечеловеческой работоспособности Наполеона эпохой больших свершений.
Экономика становилась все более централизованной, продолжались реформы образовательной и чиновничьей систем, с церковью был заключен союз, появился новый, расширенный гражданский кодекс, а также новая система знаков отличия, страну опоясала сеть дорог, возводились плотины, причалы, акведуки, заводы, школы, фонтаны, дворцы, галереи… Благоприятные перемены не обошли стороной и Денона: помимо назначения главным управляющим Лувра (переименованного по его же просьбе в Musée Napoleon[54]) художнику было доверено наблюдать за чеканкой монет и медалей, приобретением и хранением произведений искусства, украшением дворцовых галерей, постановкой спектаклей для простонародья и, кроме того, надзирать за фарфоровой, обойной и ковровой мануфактурами. Плюс ко всему Денон был негласным советником Наполеона в вопросах вкуса и стиля, военным портретистом, топографом бранных полей и даже суровым дирижером, под дудку которого плясали художники, в чьи обязанности входило запечатление наполеоновской славы на бессмертных полотнах. Мало того, египетские мемуары, опубликованные сначала в виде двух фолиантов цвета слоновой кости, пережившие сорок переизданий подряд и приблизительно столько же переводов на иностранные языки, имели оглушительный успех, который позволил автору окончательно перебраться в престижный район, на набережную Вольтера напротив Лувра, где он разместился в многоэтажном доме, словно живой экспонат в отдельном зале, диковина в собственном музее.
— А, старая развалина! — воскликнул Наполеон, заметив вошедшего. — Да как ты смеешь являться мне на глаза!
При этом его лицо озарилось выражением нежной детской привязанности.
Денон сунул свою папку под мышку и притворился крайне испуганным:
— В чем дело, монсеньор?
— Эти оклейщики обоев, — презрительно махнул рукой Наполеон, — ведут себя, как пьяные матросы.
Художник внимательно посмотрел на них.
— Возможно, это и есть пьяные матросы.
Бонапарт громко фыркнул:
— Где ты нашел этаких удальцов, на набережной в таверне?
— Ну что вы, я вообще их не находил.
— Хочешь уйти от ответственности?
— Не хочу, монсеньор, — ответил Денон с поклоном. — Видите ли, моя обязанность — следить за предметами украшения вашего дворца, а не за людьми, которые этим занимаются.
Наполеон рассмеялся.
— Ладно, пройдем сюда. — Тут он любезно предложил художнику локоть, в очередной раз сердито покосившись на декораторов. — Сюда. У нас ведь найдутся дела поважнее, верно?
— Разумеется, — произнес Денон, переступая порог салона. — Хотя бы мои рисунки, исполненные по вашему заказу.
— Имперская эмблема?
— Символ императора.
— А… ну да.
Наполеон и Денон неспешно прогуливались по просторному Шамбр де Парад. Художник достал эскизы.
— Зная о вашем пристрастии к египетскому искусству, — сказал он, указывая глазами на испещренные иероглифами обои, — я решил предложить несколько вариантов. Некоторые из них, как, например, вот этот, напоминают рисунки на храмовых стенах, что мне довелось видеть в Египте.
Бонапарт на ходу рассеянно скользнул глазами по листу.
— Змея?
— Есть основания полагать, что этот знак имеет отношение к вечности.
Наполеон хмыкнул.
— Ни один правитель не пожелает сделать своей эмблемой змею.
— Да? — Сбитый с толку столь резким отказом, Денон постарался взять себя в руки. — Тогда, может быть, вот это вам подойдет? — Художник зашелестел бумагой: ястреб, крылатый глобус, лев… — Символы не такие оригинальные, как змея, конечно, но в каждом своя изюминка…
Наполеон удостоил рисунки лишь небрежного взгляда.
— Нет, дорогой мой Виван, это не то, что мне нужно.
— Не то?
— Нет. Видишь ли, я долго размышлял и хочу предложить свой собственный вариант.
— Ваш собственный вариант? — Любой художник страшится подобных заявлений как огня, однако Денон овладел собой. — Ну разумеется.
— Кое-что простое и в то же время символичное.
— Естественно.
Наполеон вдруг остановился посередине зала, перед бюстом Сципиона, и повернулся к собеседнику с неожиданно горделивым видом.
Денон терпеливо ждал.
— Это пчела, — изрек наконец Бонапарт. — Вот что я надумал.
— Пчела?
— Говорят, будто в Древнем Египте она представляла великого царя — фараона.
Денон пожал плечами.
— Может, и так… — осторожно сказал он, стараясь, чтобы в его словах не прозвучало насмешки. — Понимаете, обычно пчела напоминает о смиренном труде… самопожертвовании… о безымянной жизни…
Но собеседник уже не желал его слушать.
— Нет. Пчела больно жалит, если придется, она беспрестанно работает, носит в свой улей сладкий нектар. Чего же лучше?
— Но…
— Никаких «но». Я все решил. Желаю видеть свой знак повсюду. На гобеленах и шелковых драпировках, на конских чепраках, на гербах и знаменах… — Он сделал широкий жест рукой. — Хочу, чтобы пчелы буквально роились по всей империи!
Денон как-то кисло обвел глазами просторный зал.
— Роились… повсюду…
Подумав, он все-таки рискнул пойти на дерзость.
— Ну что ж, — произнес художник, оглянувшись на Бонапарта с тоскливой улыбкой, — кажется, я больше не гожусь для такой работы, — и демонстративно убрал рисунки в папку.
— Постой, — виновато сморщился Наполеон, — не торопись. — Он кашлянул. — Есть еще одно дело…
Денон ожидал продолжения.
— Хочу, чтобы коронацию достойно отразили в искусстве, — изрек Бонапарт и внезапно сорвался с места. — На память потомкам.
— Разумеется.
Художник последовал за ним, удивляясь, как может подобный вопрос волновать человека, чья слава уже увековечена в бесчисленных картинах, монументах, гобеленах, на предметах домашней утвари… и даже на монетах.
— Только мне нужен лучший живописец, какого ты сможешь найти.
— Может, Луи Давид?[55] Он работает с большим размахом.
— Давид? Замечательно. Пусть приступает немедля…
Однако Наполеона, казалось, в эту минуту занимало совсем другое.
— Да, и еще кое-что…
Мужчины шагали вдоль шеренги из мраморных бюстов героев: Брут, Демосфен, Джордж Вашингтон…
— Я пригласил Папу Римского, ты в курсе?
— Да, слышал…
— Сейчас меня не остановят никакие расходы. Это будет один из важнейших дней в моей жизни.
— Если не самый важный.
Наполеон одобрительно посмотрел на своего спутника.
— Значит, и ты понимаешь, как важно, чтобы все прошло идеально?
— Разумеется.
— И почему все значимые персоны должны непременно присутствовать?
— Безусловно.
— Так вот… — Бонапарт помедлил. — Есть один человек, которого я бы очень хотел увидеть на коронации. Без него мой праздник будет… неполным.
«Дядя Грегорио? — пронеслось в голове Денона. — Какой-нибудь приятель из военного училища? Проститутка, с которой он потерял невинность?..»
В конце концов он решил промолчать и на сей раз.
— Я знаю, это ужасно тщеславно с моей стороны, — начал Наполеон, — но если уж Папа готов оставить свою резиденцию в Риме, то, может быть, некий джентльмен согласится приехать из… оттуда, где он живет?
Достигнув конца зала, он резко замер и вновь развернулся к Денону, весь напрягшись, словно кожа на барабане.
Где-то скрипнула дверь.
— Я имею в виду того, кто направил меня на этот путь, — продолжал Бонапарт, понизив голос. — Того, кто определил мою судьбу — и тем самым расписал ее наперед.
Денон бесстрастно смотрел на будущего императора.
— Я встретил его в Египте, — промолвил Наполеон. — Внутри Великой пирамиды.
У собеседника вытянулось лицо.
— Ты же знаешь, о ком я.
Денон задумчиво поджал губы.
— L'Homme Rouge, — шепнул Бонапарт.
Повисло молчание.
— «Красный человек», — повторил Наполеон и, не дождавшись ответа, рассердился: — Что ты так смотришь? В чем дело?..
Тут из другого конца зала донесся смех: к двери подходили, болтая, двое лакеев.
Вздрогнув, словно его застали за неприличным занятием, Бонапарт огляделся в поисках убежища, заметил резную дверь и втолкнул Денона в комнатку со шкафами и зеркалами. Убедившись, что они одни, он уставился на своего спутника ледяным взглядом.
— В чем дело? Ты его должен знать!
— Ну конечно, — ответил Денон и возвел глаза к потолку. — «Красный человек». Пророк под маской, с которым, по вашим словам, вы говорили в Египте.
— «По вашим словам»? — задохнулся Наполеон. — Что за речи? Ты-то в курсе, что мы с ним виделись. Разве не ты устроил нашу встречу?
Художник не проронил ни слова.
— Ночью ты сам явился ко мне во дворец на площади Эзбекия, причем с таким виноватым видом, будто кого-то обокрал. Помнишь, с тобой было полдюжины шейхов, которые отвели меня к Великой пирамиде.
— Это правда, я…
— Разумеется, правда!
— Правда в том, — не сдавался Денон, — что я был во дворце и показал вам дорогу…
— К Великой пирамиде? К царскому чертогу?
— Да.
— Ну тогда ты знаком с этим «красным человеком».
Денон опять промолчал.
— Да что с тобой? Ты не можешь не знать! Ты сам хотел, чтобы мне открылись тайны грядущего!
— И это верно.
— Ну конечно!
— Однако… — Художник понял, что у него не осталось выбора. — Все было не совсем так, как вы говорите.
— Что? — Наполеон запнулся и тут же ринулся в наступление: — Ведь я получил откровение из чертога вечности! Прямо в священной гробнице Великой пирамиды, подобно Александру Македонскому в Сиве! Я видел свою судьбу, от века записанную древними пророками!
— Мои воспоминания несколько… отличаются от ваших.
— Тогда говори! Что ты запомнил?
Денон сглотнул, качнул головой и осторожно начал:
— Я хотел, чтобы вы увидели чертог вечности…
— Ну да!
— …во всей его строгой простоте… чистоте… и удивительной пустоте.
Бонапарт непонимающе уставился на собеседника.
— Ведь это поразительно: усыпальница в сердце древнейшего мирового монумента — и начисто лишена украшений. Здесь, и только здесь, могла находиться земная обитель вечности… гробница человеческого тщеславия… конец всех наших дорог…
Во взгляде Наполеона росло непомерное изумление.
— Что за вздор! Ты хочешь меня уверить, будто на стенах не было звезд? Великолепных, сияющих Плеяд? Скажешь, я все это выдумал?
Денон опустил взгляд.
— Ну а моя счастливая звезда?
Молчание.
— А «красный человек» — верховный жрец, мистик, пророк под маской — он тоже, по-твоему, выдумка?
Молчание.
— А его предсказания? Разгадка таинственных кодов чертога?
Художник не шевелился.
— Так как же?
Денон решительно поднял глаза: отступать было уже некуда.
— Я знаю одно…
— Что? Что ты знаешь?
— В тот день главнокомандующий пережил жестокую битву при Абикуре…
— Не первую и не последнюю!
— …много ночей не спал…
— И это для меня не редкость!
— …истощил свое тело свыше простых человеческих сил и к тому же, по вашему собственному признанию, принимал дурманящие вещества…
— Продолжай.
— Поэтому я полагаю, в ту самую ночь он был особенно… — Денон сделал над собой усилие и выпалил: — Впечатлителен.
Бонапарт широко распахнул глаза.
— И наконец, я знаю, что Франция ждала его возвращения, вопросы настоятельно требовали ответов и он желал утвердиться в своем призвании…
Наполеон продолжал неотрывно смотреть на художника.
— К тому же из его собственных ранних трудов мне известно, — Денон перешел на шепот, — что командующий долгие годы питал особую склонность к пророкам в масках…
В воздухе повисла зловещая тишина. Виван почти расслышал ход мыслей Бонапарта, старающегося найти в его рассуждениях слабое место. Но это было все равно что биться головой о каменную стену. В юности будущий император мечтал прославиться как писатель; среди его лучших произведений был и «Пророк под маской», правдивая история Махди,[56] средневекового мессии Кхурасани, который возглавил войско фанатиков и предпринял несколько неудачных попыток переворота, после чего отравил всех своих людей, а сам добровольно взошел на костер. Махди носил прозвище Хакем (в переводе с арабского — «мудрец» или «ученый»), он объявил себя непобедимым посланником Бога, пытался предсказывать будущее и прятал уродливое лицо под ослепительной серебряной маской.
Наконец Денон отважился повернуть голову на затекшей шее и взглянуть на Бонапарта. Тот безмолвно буравил глазами собственное отражение в одном из бесчисленных зеркал. Художник на миг испугался, точно задел сосуд со взрывоопасной смесью.
И вдруг напряжение ушло — словно воду выпустили из раковины. Первый консул рассмеялся, негромко и неубедительно, как если бы весь разговор был затеян ради шутки.
— Ладно… — промолвил он, глядя в зеркало. — Значит, ты говоришь мне «нет»?
— Нет?
Наполеон обернулся.
— Я так понимаю, что ты не сможешь вызвать сюда «красного человека»?
Денон поклонился с покорной улыбкой:
— Боюсь, что не смогу.
Последовала долгая пауза, после чего Бонапарт опять рассмеялся.
— Тогда уходи, мерзавец. — Для пущей ясности он выпятил губы и подул. — Иди, иди прочь со своими ястребами и змеями, пока не отыщешь что-нибудь по-настоящему достойное моего величия!
Похлопав художника по спине, Бонапарт проводил его из дворца, осыпая шутливой бранью, и удалился в лабиринт из позолоченных галерей и бесконечных отражений.
Дорога к дому от дворца Тюильри занимала немного времени, поэтому в обычные дни (если не приходилось везти особенно ценные экспонаты) Денон ходил пешком. Однако в тот вечер он взял закрытый экипаж и медленно покатил по сонным улицам. И всюду его преследовали призраки Египта: колонны Вандомской площади, сфинксы на столбах ворот, у фонтанов… Даже шлюхи возле Пале Рояль провожали мужчин подведенными черной краской глазами, как у египетских богинь. Господи, содрогнулся Денон, ведь и само название города объявили происходящим от искаженного латинского «Par Isi» — «У храма Изиды».
Если вдуматься: неужели он, или Бонапарт, или кто-то еще доставил Египет в Париж? Или эта страна загадок всегда обитала здесь?
И еще этот «красный человек», le Masque Prophète, — вправду ли он вызывал к себе Наполеона? Или сам был вызван воображением усталого командующего? И скоро ли в нем опять возникнет нужда?
В конце концов, размышлял художник, все сводится к тому, какими пределами человек ограничивает собственные амбиции. Денон мысленно повторил незабываемую последнюю фразу из книги о Махди: «Как далеко заводит нас погоня за славой!», откинулся на мягкую спинку сиденья и прижал к себе папку с эскизами. Оставалось лишь гадать, как далеко Наполеон передвинет границы действительности в погоне за собственным сном.
Глава седьмая ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ МАНЯТ
В Лондоне, как обнаружил Ринд, египетский стиль преобладал в основном на кладбищах, среди храмоподобных мавзолеев, обелисков, саркофагов, колонн с лотосовидными капителями и урн с прахом. Александра всегда тянуло в подобные места, он любил бродить по извилистым тропкам, как человек, желающий привыкнуть к новому дому, куда еще не успел переехать. Шотландцу отнюдь не казалось неподобающим то, что нетленные архитектурные мотивы Египта, этой гробницы великих империй, много столетий спустя возникли здесь, чтобы навек заключить в себе разлагающиеся останки знатных чиновников и аристократов.
В декабре тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года, когда Ринд писал седьмую главу своей книги о методах археологии, в Крыму разгорелась война; сэр Гарднер Уилкинсон временно покинул город, уехав однажды поутру с тяжело дышащим Наполеоном и кучей внушительных чемоданов, при этом беззаботно объявив, что понятия не имеет, когда вернется.
— Может, он хотя бы намекнул, куда собирается? — допытывался у молодого человека У. Р. Гамильтон. — Случайно, не в замок Алник, резиденцию герцога Нортумберлендского?
— По-моему, он упоминал место под названием Ллановер.
— Точно, это в Уэльсе. Он там часто бывает, но это вас пока не касается. А как же вы, юноша? Остаетесь в доме?
— Я пробовал отказаться, но хозяин решительно не желал ничего слушать.
— Что ж, это совсем неплохо, — рассудил Гамильтон. — Настало время продолжить ваше образование, так что лучше не отвлекаться. И потом, наверняка вам успело приесться общество сэра Гарднера.
По правде сказать, это было не так: в первые же дни Ринд осознал, что ужасно скучает по вездесущему археологу, по шалостям четвероногого Наполеона. К тому же единственный гость начал подозревать, что его присутствие тяготит экономку, поэтому все чаще проводил время вне дома — бродил по городу и думал о Египте, как мог бы думать о женщине, в которую постепенно и безнадежно влюблялся. В особенности его привлекал фасад Египет-холла на Пикадилли, по большей части грубо сработанный в тысяча восемьсот двенадцатом году по эскизам Денона; здесь молодой шотландец, при всей своей немощности и скромной самооценке, ощущал духовную связь с художником, разглядывая причудливые узоры, некогда представавшие глазам француза, — пусть даже трижды переделанные, черные от сажи, в кучках воробьиного помета и в трещинах от зимних морозов.
Вот почему приглашение У. Р. Гамильтона в зал манускриптов для изучения оригинальных рисунков Денона (в спешке забытых автором при отъезде из Каира) вызвало у Ринда плохо скрываемый восторг.
— Вы говорите, это его рука?
— Именно так.
— И что, Наполеон Бонапарт лично смотрел эти эскизы?
— По всей вероятности.
Молодой человек уловил неодобрение в голосе собеседника, однако не мог ничего с собой поделать.
— Кажется, будто видишь все собственными глазами, — заметил он, трепетно прикасаясь к бумаге, будто к одной из бесценных реликвий своей родины. — А ведь чувствуется, что художник очень спешил.
— Он-то спешил, это верно. А вот вы совершите большую ошибку, если станете торопиться.
Ринд поднял глаза.
— Мы и сами много лет упускали рисунки из виду. Покуда главный помощник хранителя рукописей доктор Кюретон не совершил одно важное открытие.
— Открытие?
— Здесь — одна из причин, почему Бонапарт считал себя неуязвимым.
Шотландец еще раз перелистал страницы и пожал плечами.
— Мне ничего не бросилось в глаза.
— Подлинные сокровища никогда не лежат на поверхности. Подумайте как следует. Времени у вас достаточно.
Ринд очень внимательно, до боли в глазах, всматривался в рисунки с изображениями склепов, святилищ, пышнотелых танцующих дев, полуобнаженных рабов, благородных лиц — живых и высеченных из камня…
— Я просто в недоумении, — обратился он к доктору Кюретону, вошедшему в зал с чернильницей.
— Боюсь, я не вправе что-либо вам объяснять, — ответил тот.
И Ринд вернулся к работе под перестук и звон молотков рабочих, которые строили для музея гигантский читальный зал, но так ничего и не нашел, если не считать парочки относительно любопытных страниц. Уже приготовившись расписаться в своем поражении, он вдруг обнаружил, что в зале стемнело, грохот утих, а часы на стене отбивают шесть вечера. Будто бы очнувшись от сна, молодой человек поднялся, чтобы уйти, — и лишь теперь с изумлением увидел Гамильтона, который хищно следил за ним, стоя поодаль.
Ринд поморгал.
— Я не заметил, как вы вернулись.
— Ну что, вы нашли их?
— Кого — их?
Бывший шпион подошел к столу, шурша фалдами фрака.
— Отличная работа, юноша, — произнес он, указывая на отложенные листы. — Я знал, что вы быстро справитесь.
— Вот эти? — Ринд уселся обратно. — Я и сам не понимаю, почему отобрал их.
— Конечно.
— Мне вдруг померещилось некое…
— Несоответствие? Так я и думал. — Гамильтон поднял первый лист. — Расскажите-ка мне вот об этом. Что вас насторожило?
Ринд посмотрел на цветной портрет мужчины в тюрбане, в сияющей маске и развевающемся красном плаще, с воздетыми, как у пророка, руками.
— Не знаю, — ответил шотландец. — В этом рисунке есть что-то странное. Нереальное.
— В отличие от прочих портретов?
Ринд перебрал в уме остальные лица — шейхов, крестьян, бедуинов, турок — и согласно кивнул.
— А что? Вы знаете, кто это?
Но Гамильтон уже держал в руках портрет молодого туземца с густыми, как шерсть, волосами, ясным взглядом и таинственной, словно у сфинкса, улыбкой.
— Ну а как насчет этой работы?
— Здесь тоже что-то необычное… Какой-то неземной лик… Будто у святого… Не знаю.
Гамильтон прищелкнул языком.
— Значит, вы не заметили… — Он указал на борозды на бумаге. — Правда не видите?
— Отпечатки? Ну да. — Страницы в папке часто носили подобные следы: очевидно, работая в жутко стесненных условиях, Денон для удобства подкладывал под рисунок другие листы. — Но они же нечеткие, как всегда.
— Нечеткие? Ничего подобного. Доктор Кюретон способен расшифровать самые слабые отпечатки с такой же уверенностью, как сэр Гарднер может разбирать египетские письмена — или как мы читаем вечерние газеты. По большей части это архитектурные фрагменты. Хватает и разных иероглифов. Однако следы на этом портрете прежде всего не совпадают ни с одним эскизом. Очевидно, месье Денон избавился от оригинала. — Гамильтон протянул собеседнику чернильную перерисовку, выполненную рукой доктора Кюретона. — Взгляните поближе, юноша.
Ринд посмотрел. Перед ним тянулись три строчки символов: явные иероглифы постепенно уступали место более современным символам.
— Наброски от скуки?
— Нет, не от скуки.
— Нет…
Знаки располагались в продуманном, почти хронологическом порядке и вовсе не походили на плод праздного воображения.
— Что-нибудь узнаёте? — спросил Гамильтон.
Шотландец пожал плечами.
— Кинжал… патриархальный крест…[57] трезубец…
Гамильтон указал на другие:
— Римский орел.[58] Знак алхимиков. Византийская монограмма. Навигационный символ.
Осознав наконец, куда он клонит, Ринд ощутил неприятный холодок. Одно дело — понимать, что рисунки были начертаны не от нечего делать; но если они составляют шифр, возможно, скопированный с некоего образца… Ринд попытался представить, но скептицизм взял верх над воображением.
— Кажется, я не совсем понимаю… — произнес молодой человек, поднимая глаза. — Нет, совершенно не понимаю.
Его собеседник выпрямился, нимало не удивившись и даже отчасти забавляясь подобным упрямством.
— Скажите, в котором часу экономка сэра Гарднера накрывает на стол? В половине восьмого?
— Ну да, как правило.
Гамильтон собрал разложенные листы.
— Вы всегда были пунктуальны, не стоит изменять этой доброй привычке, — промолвил он, застегивая папку. — Желаю вам выспаться, юноша, и хорошенько, а завтра мы продолжим наш разговор.
Однако той ночью шотландец приложил все силы, чтобы отвлечься от дум о Египте. Ринд нарочно засиделся допоздна у камина со свежим выпуском «Таймс», но даже газета напоминала, сколь многое зависит его миссии. Чего только стоили, например, последние депеши из Крыма: «Наши окопы в ужасном состоянии; нет никакой возможности осушить их, и люди вынуждены по двенадцать часов проводить в сырости… болезни распространяются с пугающей быстротой… солдаты одеты из рук вон плохо, мундиры протерты до дыр… новая вспышка холеры… вчерашняя битва унесла тридцать три жизни…» По какому-то роковому совпадению следом ему на глаза попалась заметка о ее величестве, отобедавшей накануне с герцогиней Кентской и графом Абердинским, после чего, как сообщал придворный циркуляр, коронованная особа «не стала покидать Виндзорский замок по причине неблагоприятной погоды».
Уже погружаясь в сон, Ринд продолжал скорбеть о судьбах наций. Однако в причудливых грезах ему, как ни странно, явились не продрогшие в окопах солдаты и даже не обеспокоенные монархи, а фантастический «красный человек».
Нескончаемый стук молотков распугал голубей музея; растревоженные птицы кружили над районом Блумзбери целыми тучами. Внутри же здания постоянная вибрация выгнала из укрытий сонмы прежде незаметных паразитов, не исключая особенно свирепого подвида прожорливых кровососов, известных как «музейные блохи» и вечно роившихся под паровыми котлами этого храма истории.
— Вот ведь чума на наши головы, — посетовал У. Р. Гамильтон.
Ринд сочувственно кивнул в ответ.
— Боюсь, как бы не притащить их в дом и не заразить собаку сэра Гарднера.
— Вообще-то, юноша, — фыркнул собеседник, — я говорил о строителях.
Спасаясь от какофонии, Гамильтон и Ринд бродили по территории подземного хранилища, где блохам приходилось довольствоваться почти несъедобными шкурами чучел животных.
— Я регулярно докладываю ее величеству, как продвигается наше дело, — сообщил Гамильтон.
Шотландец поморщился.
— И что же, она довольна?
— Вполне. Королева прекрасно понимает: вам нужно время.
— Да, но сколько времени? Я ведь не первый месяц ищу вслепую, война идет своим ходом, а между тем от всех моих стараний — никакого прока.
— Это не так. Поверьте, сэр Гарднер лишь тогда приоткроет свои секреты, когда совершенно уверится, что перекроил вас по собственному образу и подобию. Если не ошибаюсь, до сих пор вы весьма убедительно играли роль… — Гамильтон окинул собеседника быстрым, но цепким взглядом. — А что это за одежда? Новая?
Ринд посмотрел на себя: пиджак оттенка индиго, багровый жилет, блуза цвета календулы… Неужели он и вправду так легко поддается влиянию?
— Ну да, это все вещи из гардероба сэра Гарднера. Ему они были не впору… Сэр Гарднер настаивал… И потом, я приехал в Лондон в таком затрапезном виде, что не нравился даже самому себе.
— Юноша, да вы похожи на рыцаря с витража в каком-нибудь баварском соборе.
— Но…
— Ладно. Не обращайте внимания. Главное — помните, что ее величество на вас рассчитывает. А ее доверие дорогого стоит.
— Конечно… — протянул Ринд неуверенно.
— Знаете, — продолжал Гамильтон, — вот уже несколько десятилетий тайна чертога — это моя путеводная нить. Моя цель и долг перед родиной. Подозреваю, что только благодаря ей ваш покорный слуга и живет по сей день на свете. Я просто уверен, что не умру, пока не найду разгадки. Или покуда вы не найдете и не посвятите в нее королеву.
Эта новая ответственность легла на плечи Ринда столь неожиданным бременем, что молодой шотландец опустился на первое попавшееся сиденье.
— Значит, — вымолвил он, — вы твердо убеждены в существовании чертога?
Будучи на полсотни лет старше собеседника, Гамильтон остался стоять, опираясь на трость.
— Скажите, вы хорошо поразмыслили над символами, которые я вам показывал?
— Да, пожалуй…
— И что же вам кажется наиболее невероятным?
— Хотя бы то, — начал Ринд, которому стало не по себе от снисходительного тона собеседника, — что Виван Денон скопировал символы со стены древнеегипетского храма. Что эти иероглифы, или пиктограммы, или как их там, были в чертоге вечности. Если я правильно понял, к чему вы клоните.
Он-то надеялся услышать разумное объяснение или по крайней мере возражение, однако старик ответил улыбкой.
— Понимаю ваши сомнения. Но прошу вас не забывать: я изучал Египет более пятидесяти лет. Это добрых полвека. И поверьте, я — человек, привыкший к логическим рассуждениям и не склонный к полетам фантазии.
Ринд тряхнул головой.
— Но разве нет никакой вероятности… даже самой маленькой… что символы нарисованы просто от скуки?
— Юноша, — вздохнул Гамильтон, — по правде сказать, я и сам поначалу искал толкование попроще. Что-нибудь не столь опасное, вплоть до ошибки или даже мистификации. Однако в ходе скрупулезных исследований, прибегнув к твердой логике, я вынужден был прийти к выводам, от которых много лет назад отмахнулся бы как от полной нелепицы. Начнем с того, что Денон рисовал в чрезвычайно стесненных условиях и вряд ли нашел бы время для праздных набросков. Вы же читали его «Путешествия».
Ринду вспомнилось авторское извинение за качество рисунков, «которые нередко приходилось выполнять прямо на колене, или стоя, или даже в седле. Целый год я не мог найти времени, чтобы довести до ума хоть одну работу, поскольку ни разу не сидел за столом».
— Как нам известно, — продолжал Гамильтон, — Денон исполнял в Египте некую загадочную миссию. Мы знаем, что Бонапарт покинул страну внезапно — после того как тайно посетил Великую пирамиду. И что в течение тысяч лет бесчисленные монархи снаряжали посланников на поиски чертога вечности. Он обладает властью над человеческими жизнями, над судьбами целых империй. Пока что все факты неоспоримы. Теперь, после многих лет расследований, можно предположить: легендарный чертог действительно скрывает иероглифический код к истории прошлых и грядущих веков, настолько ясный и настолько потрясающий, что Денон, подобно своим предшественникам, передавал его правителю через посредничество египетского мистика, а сам уклонился от любой ответственности, дескать, знать ничего не знаю, из страха перед тем, как полученные сведения повлияют на Бонапарта. И вот теперь все, что он видел, вернее, все, что осталось нам, уложилось в три ряда символов. Они, естественно, кажутся анахронизмами…
— Это уж точно, — согласился Ринд. — Анахронизмами. И менее всего — работой древних египтян.
— Вполне возможно, с тех пор были внесены добавления, и все-таки в них сокрыто определенное пророчество.
Молодой человек покачал головой.
— Торопитесь с выводами, юноша. — Гамильтон опустился в кресло возле тотемного орла. — Какая, в сущности, разница, во что верим я или вы? Главное, что этому верили сотни монархов. Тайна чертога влекла их веками, меняла их судьбы. Следовательно, перед нами истина, освященная монаршим авторитетом.
Его слова напомнили Ринду рассуждения сэра Гарднера о том, что мифы сильнее исторической истины.
— Значит, вы сами в это не верите?
— Позвольте сначала задать один вопрос. Что вам известно об иероглифах Египта, об их истории?
Ринд почувствовал себя надоедливым студентом.
— Ну, они много веков не поддавались расшифровке…
— Продолжайте.
— Иероглифы принимали за магические формулы, за аллегорические символы и тому подобное. Но потом обнаружили Розеттский камень, код наконец был разгадан, язык… оказался намного более приземленным. Он сочетал пиктограммы, идеограммы и фонетические символы.
— Вы правы, — подтвердил Гамильтон. — После того как ученые прочитали текст на Розеттском камне, иероглифы утратили в их глазах любые магические свойства. С другой стороны, поняв язык древнего народа, мы многое узнали о нем самом. Известно ли вам, что в Египте было весьма любопытное представление о вечности? Люди верили, будто прошлое, настоящее и будущее можно переживать в одно и то же мгновение; в их представлении время закручено в кольцо, оно повторяется снова и снова ad nauseam[59] вплоть до эпохи хаоса. И потому фараон может возвращаться на землю через определенные исторические промежутки. Вы знали это?
Однако Ринд, в чьей памяти, разумеется, блеснули слова о Наполеоне как вечно возвращающемся фараоне, лишь покачал головой:
— Нет…
— Далее, богу Тоту приписывались тайны сверхъестественной мудрости. Считалось, что он мог открывать людям будущее в виде мистических символов. Одни лишь верховные жрецы и особые писцы — «дети Тота» — имели доступ к его великим тайнам, непостижимым для непосвященных. И конечно же, с давних пор нам известно, что древнеегипетские оракулы слыли лучшими в мире римлян и эллинов, их совета искали монархи со всех концов света. Александр Македонский, Август, Клеопатра — все прибегали к их мудрости. По словам знаменитого греческого географа Страбона, эти оракулы хранили секреты старинной магии, а также тайное знание, нисходящее с небес.
— Вы говорите об астрологии? — спросил Ринд.
— И не только о ней, юноша. Вы, разумеется, христианин?
— Разумеется.
— Тогда как насчет Моисея, Исайи, Иеремии… Откровений Иоанна Богослова? Что вы думаете об этих пророчествах? О подобных провидцах?
— Я считаю, они изъяснялись…
— Образно? Метафорами? — Гамильтон торжествующе улыбнулся. — Известно ли вам, что в эпоху Ренессанса мудрость Тота всерьез пытались соединить с учением церкви? И было время, когда ее ценили весьма высоко, даже в сравнении с христианской доктриной. Во главе движения стоял среди прочих Джордано Бруно, бывший монах-доминиканец, который много странствовал по Европе — к примеру, преподавал в Оксфорде — и призывал людей к просвещению. Однако его заявления о том, что Моисей занимался колдовством в Египте, что в иероглифах содержатся пророчества о грядущем и что христианство произошло из культа Осириса, — все это навлекло на него гнев Римской церкви. Как вы помните, в итоге Бруно заключили в Кампо ди Фьори, после чего сожгли заживо. И вместе с ним погибла последняя возможность на примирение двух учений. Представляю, как нелегко вам преодолеть столетия вражды между ними; не думайте, будто я не ценю ваших усилий. Однако символы древности продолжают жить, чертог существует, а в нем… что же, там, внутри, нас могут ожидать необычайные открытия.
Ринд помолчал, а затем спросил:
— Вы, случаем, не масон?
— А почему вы спрашиваете?
— Ну… — Молодой шотландец вспомнил о том, что в основе масонства лежало немало заимствований из древнеегипетского мистицизма.
— Лучше не отвлекайтесь, — нахмурился Гамильтон. — А впрочем, говорят, будто многие из генералов Бонапарта, служивших в Египте, принадлежали к вольным каменщикам, вы ведь об этом слышали? В Каире они основали первую ложу Мемфиса, и путешествие Наполеона к царскому чертогу якобы стало частью обряда посвящения, который проводил один почтенный мистик…
Перед глазами Ринда возник эскиз Денона.
— Вы хотите сказать, верховный жрец? Тот, что в красных одеждах?
— Ах, этот пресловутый «красный человек». — Гамильтон произнес последние слова, словно имя заклятого врага. — Оракул. Пророк под маской. Тот, кто, согласно легенде, раскрыл Бонапарту секреты чертога. — Гамильтон презрительно фыркнул. — В том или ином виде «красный человек» существовал со времен Александра Македонского. На самом деле мы полагаем, что прорицатель Наполеона — всего лишь один из долгой череды пророков Египта, почитаемой касты «красных людей» или же высокообразованных стражей мудрости; на протяжении долгих веков каждый из них получал приказ поделиться своими знаниями, расшифровкой кодов чертога, с определенным помазанным на власть фараоном, после чего становился его ангелом-хранителем до самой смерти. К примеру, «красный человек» Бонапарта, по нашему мнению, сыграл в его жизни особую роль, время от времени являясь императору на протяжение всех лет его власти.
Ринд недоверчиво нахмурил лоб.
— Египетский мистик последовал за Наполеоном в Париж?
— Бонапарт первым среди знаменитых правителей, после Александра Македонского, отправился в Египет на поиски чертога. И потом он стал, пожалуй, самым великим после Цезаря. Обладая своего рода властью над Наполеоном, «красный человек» должен был ощущать ответственность за его судьбу и даже вину за его исключительные поступки.
Ринд покачал головой.
— Можете сколько угодно разыгрывать роль Фомы Неверующего. — В голосе Гамильтона прозвучало нетерпение. — В конце концов, это ничего не меняет. Двуличный Денон тоже делал вид, будто «красного человека» не существует, будто все дело в неуемной фантазии Наполеона: ментальные проекции, ожившие грезы и прочее. Однако это не помешало пророку под маской прославиться во Франции. Могу показать вам книги, памфлеты, карикатуры и даже либретто, если желаете. Бальзак называет «красного человека» негодяем, который предал Бонапарта в критическую минуту. Мадемуазель Ленорман, ясновидица Жозефины, — гением, управлявшим судьбой императора. Сам Вальтер Скотт упоминает его как мистика, пытавшегося обуздать непомерное тщеславие Бонапарта. Многие полагали, что загадочный пророк скрывается где-то в Париже, возможно даже, под крышей дворца Тюильри, но этого, разумеется, уже не проверить. Зато нам известно, что Наполеон привез из Египта юного мамелюка по имени Рустам, которого сделал своим телохранителем и с которым не расставался ни в мирной жизни, ни на поле битвы. Так вот, подобный страж мог бы с легкостью обеспечить «красному человеку» доступ к разным потайным помещениям и ходам дворца, а скорее всего — подчинялся ему еще в Каире.
Ринд промолчал.
— Как бы то ни было, поверьте, пророк под маской действительно существовал, он ходил по земле, как и всякий джентльмен из плоти и крови; поверьте, встреча внутри Великой пирамиды была не последней и Наполеон общался с «красным человеком» несколько раз во время каких-то важных событий, в частности накануне коронации. — Старик посмотрел на собеседника. — Вы еще не знакомы с моим сыном, Уильямом-младшим?
— Нет, — растерялся Ринд; ему и в голову не приходило, что Гамильтон может иметь сына.
— Он известный геолог. Часто бывает здесь, в музее, изучает коллекции минералов. Попрошу, чтобы Уильям показал вам звезды «красного человека».
— Звезды?
Но Гамильтон уже, скрипя суставами, поднялся на ноги.
— Всему свое время, юноша. Не хочется вас утомлять; вы и так уже чересчур много услышали. Итак, до воскресенья. По выходным в этом сумасшедшем доме можно вздохнуть спокойно, — прибавил он, глядя на Ринда запавшими глазами. И вдруг улыбнулся: — Да, юноша… Надеюсь, вам хватило скромности не воображать, будто вы — первый?
Прошло какое-то время. Молодой шотландец в одиночку бродил по безмолвным галереям музея, предавшись мыслям и не замечая ни статуй, ни чучел животных, ни даже национальных реликвий. Стало быть, он — всего лишь новый рекрут, один из многих, искавших чертог вечности. Да что же такое этот чертог? Хранилище древнего шифра, запечатлевшего ход истории человечества с помощью иероглифов? Вдобавок связанное с кастой египетских мистиков… Людей в красных одеждах? Невероятно, нелепо. И все-таки Гамильтон — пожалуй, самый трезвый и неромантичный среди знакомых Ринда — явно считал существование чертога вполне доказанным фактом. Ее величество королева, тоже, казалось бы, начисто лишенная предрассудков, верила в чертог. И похоже, не только она, но и другие венценосные правители, и множество ученых. Но если признать, что чертог в каком-то смысле реален и все эти люди не обманулись, — какие же тайны он, черт возьми, скрывает? О чем говорят загадочные символы? О секретах настолько прекрасных, настолько непостижимых или же настолько изумляющих, что видеть их дозволено лишь царям и, возможно, богам?
Проходя мимо читального зала, Ринд оторвался от беспокойных размышлений из-за грохота молотков по металлу. К своей радости, он различил сквозь перестук два голоса с шотландским акцентом. Как оказалось, среди строителей было двое молодых людей из Ивернесса.
Легкая беседа с ними — о зайцах Северного нагорья, о дичи, о рыбных садках и фьордах Мори — помогла Ринду хотя бы на время отвлечься, вспомнить о родине и немного прийти в себя.
А между тем загадки и вопросы лишь множились. В воскресенье, покидая музей после очередной напряженной лекции, он чувствовал себя совершенно сбитым с толку. Все эти разговоры о древних пророчествах и «красном человеке»… Несмотря на уверения Гамильтона, молодой человек не мог отделаться от ощущения, что старик о чем-то умалчивает, достаточно сосредоточиться — и поймешь, о чем именно. С другой стороны, Ринд в этом деле — новичок, может и сам ошибаться.
— Что вам известно о Клеопатре? — спросил его Гамильтон в душном зале минералогии.
Пожав плечами, шотландец послушно напряг память.
— Клеопатра? Знаменитая царица Египта… Последняя — или предпоследняя? — из Птолемеев… Любовница Юлия Цезаря и Марка Антония… Проиграла Августу… Убила себя при помощи ядовитой змеи… — Он посмотрел на своих собеседников. — Это я прочитал у Шекспира.
— Достаточно, юноша, — одобрил Гамильтон и обернулся к сыну.
— Клеопатра, — с готовностью подхватил Уильям-младший, — подобно большинству цариц, обожала роскошные украшения. Говорят, в особых случаях она принимала послов, облачившись чуть ли не в одни драгоценные камни. И еще: судя по всему, она питала особую слабость к изумрудам.
— Изумруды, — вмешался У. Р. Гамильтон, — почитались в Египте как символы вечности.
— Их часто находят на мумиях людей высокого рода, — продолжал Уильям-младший. — Египетские маги утверждали, будто бы эти камни хранят секрет будущего. В любом случае, Клеопатра была так очарована изумрудами, что объявила их достоянием одних лишь особ неземного, божественного происхождения, таких как она сама, и полностью прибрала к рукам копи Восточной пустыни, которые тут же прозвали копями Клеопатры.
— Говорят, — прибавил его отец, — там добывали камни исключительного размера и красоты.
Уильям-младший кивнул.
— У Теофраста встречается упоминание об изумруде длиной в четыре локтя. Плиний описывает мраморного льва с изумрудными глазами, настолько яркими, что их блеск устрашал рыбаков Красного моря. Да что там — якобы из камней вырезали целые колонны. К сожалению, должен признать, нам не удалось отыскать даже остатков подобного великолепия. Однако…
При всей своей подчеркнутой учтивости, а также внушительных объемах, Уильям Гамильтон-младший (кроме всего прочего, недавно избранный президентом Королевского географического общества) волновался и вел себя несколько подобострастно, словно все время желал произвести впечатление на отца.
— Трудно сказать точно, когда, — произнес он, доставая из сейфа минерал причудливой формы, — но копи выпотрошили, возможно, еще при фараонах Нового царства. Сэр Гарднер называет Аменхотепа Третьего…
— Без всяких на то оснований, — фыркнул У. Р. Гамильтон.
Ринд наклонился, чтобы взглянуть на прекрасный камень поближе.
— Да, но в наших беседах, — возразил он, — я ни разу не слышал, чтобы он упоминал изумрудные копи. Или хотя бы Восточную пустыню…
— В настоящее время они заброшены, — признал Уильям-младший. — Работы там сверх меры, а прибыль ничтожна. И потом, туда нелегко добираться… Сто пятьдесят миль в сторону от Нила по безводным пескам, и очень далеко от Касра на Красном море.
— Восточная пустыня, — вставил отец, — единственная точка в маршруте Денона, до которой я не смог добраться. В ту пору земля кишела мародерами и вообще там царило полное беззаконие. Проводник убеждал нас, что это чрезвычайно опасно, и мы поддались на уговоры — не знаю, к лучшему или нет.
— Этот регион, — прибавил Уильям-младший, — всегда слыл неблагополучным. Еще при Элии Галле и Страбоне. При Хасане ибн-Сахле. И при Деноне. Змеи, волки, враждебные аборигены, зыбучие пески… и даже злые духи, если верить местным племенам. Одним словом, не самый спокойный край. Что уж говорить о копях Клеопатры.
— Так вы полагаете, Денон побывал в изумрудных копях? — уточнил Ринд, не заметивший ни одного подобного упоминания в «Путешествиях».
— Автор не сознается в этом прямо, — ответил старик. — Он пишет о других каменоломнях и копях…
— Сера, золото, порфир, — подхватил Уильям-младший. — Горы богаты самыми разными минералами…
— Но в остальном Денон не очень-то словоохотлив. Рассказывает, как стремительно скакал по пустыне с проводником, однако умалчивает о том, куда. По-моему, он вполне мог наведаться и в копи Клеопатры.
Ринд пожал плечами.
— Значит, еще один пробел в книге? И автор нарочно избегает этой темы? Думаете, он желал защитить копи от любопытных? Потому что где-то там скрывается чертог, набитый изумрудами?
Однако У. Р. Гамильтон не спешил с подобными выводами.
— Есть много рассказов и много версий. Как вам известно, мы подозреваем, что хранители чертога готовы защищать его тайну любой ценой. Возможно, вы правы: он полон изумительных драгоценностей. Или ужасных откровений. Или же так решили жрецы, «красные люди». Ил и все дело в древнем проклятии — трудно сказать. Как бы там ни было, мы допускаем, что Денон и мистики устроили внутри Великой пирамиды весьма необычную церемонию с участием Наполеона, используя так называемые «звезды», и, хотя потом он все отрицал, художник не удержался и захватил один-два сувенира на память. — Старик подал сыну знак, и тот достал из сейфа несколько блестящих камней. — Я говорю о звездах, которые, по словам Бонапарта, сверкали в чертоге.
— Это кальцит, — произнес Уильям-младший, — а если точнее, травертин. Добытый в Восточной пустыне, в окрестностях копей Клеопатры. Египтяне делали из него урны и саркофаги. Иногда этот камень путают с алебастром.
Ринд чуть прищурился, глядя на желтые блестящие минералы.
— На вид вроде… ничего особенного.
— Так и есть, — согласился У. Р. Гамильтон, — если смотреть невооруженным взглядом.
— Подобно некоторым другим кальцитам, апатитам и полевым шпатам, — продолжил Уильям-младший, — травертин обладает интересным и очень редким свойством. Это называется «термолюминесценция». — Заметив растерянное выражение на лице шотландца, он уточнил: — Иными словами, способность отдельных минералов ярко светиться при нагревании примерно до двухсот градусов по Фаренгейту — достаточно положить их на раскаленные угли или, скажем, в кипящую воду.
— После чего камни могут светиться в темноте, — без выражения произнес его отец. — Причем довольно долгое время.
Уильям-младший кивнул.
— Вот эти образцы — они хранились в коллекции Денона — имеют на поверхности следы гуммиарабика, клеящего вещества, которое с незапамятных времен добывалось в Египте из смолы акации. Его вполне могло хватить на то, чтобы закрепить минерал на стене, и скорее всего — после долгого нагревания. Обратите внимание на это пятно: похоже на след от раскаленного угля.
— Подобные образцы, — проговорил его отец, — обнаружены при раскопках в оазисе Сива, в Багдаде неподалеку от Дворца вечности, а также в нисходящей галерее Великой пирамиды. Нам удалось купить камни Денона через год после его смерти на аукционе. Кстати, еще один был найден в кармане Бонапарта перед его вскрытием — так сказать, личная «счастливая звезда»…
Тут он прервался, услышав эхо радостного смеха: это дети одного из кураторов затеяли прятки в зале насекомых. Ринд мысленно поблагодарил их за краткую передышку.
— Я не совсем понимаю, — сказал он, глядя на собеседников. — До сих пор не понимаю. По вашим словам, в копях скрывается нечто действительно драгоценное, а звезды должны были отражать его чудеса. Тогда почему вы никого не послали на поиски?
У. Р. Гамильтон хмыкнул.
— Мы посылали, юноша, и не раз. Ученых, солдат, шпионов. Почти все без исключения подтверждают обычные рассказы: в шахтах темно, опасно, полно скорпионов… Вот и сэр Гарднер настаивает, что интерес к этим копям чересчур завышен. Именно так и сказано в его книгах «Современный Египет и Фивы», «Общий обзор Египта» и даже в «Справочнике для путешественников». Всякий раз, когда всплывает эта тема, он реагирует одинаково. Попробуйте сами затронуть ее в очередной беседе — уверяю вас, вы получите тот же ответ: «Интерес к изумрудным копям неоправданно завышен».
— И что же, они в самом деле такие невзрачные?
— Вы бы нашли там хижины без крыш, поселение горняков и сеть узких шахт, ветвящихся вниз по Забаре — Изумрудной горе. Сэр Гарднер и другие рискнули спуститься в них, но мы не знаем ни одного свидетельства о каких-либо удивительных находках.
— Никто, — подтвердил Уильям-младший, — пока еще не похвастал изумительными открытиями. В этом исследователи единодушны.
— Мало того, — прибавил его отец, — существует еще одно, пожалуй, самое серьезное возражение против существования сказочного чертога в окрестностях Восточной пустыни. Никто не знает этой местности лучше самих горняков — людей, которые тысячи лет тяжело трудились на шахтах. Невероятно, чтобы кто-то из них, наткнувшись на комнату, полную сокровищ, не присвоил бы хоть немного или не проболтался бы о ее секретах, особенно за подходящее вознаграждение.
Вспомнив своих собеседников из Ивернесса, Ринд нашел этот довод неубедительным.
— Тогда зачем, — начал он, — столько внимания заброшенным шахтам? Почему они вообще вас интересуют?
У. Р. Гамильтон испустил тяжелый вздох, полный боли, которая, похоже, копилась едва ли не десятилетиями.
— Потому что сэр Гарднер, вопреки собственным уверениям, не раз и не два возвращался в копи Клеопатры. Он словно был одержим ими. Многие из его товарищей-археологов — Ричард Говард-Вайз, Жозеф Бономи, Фредерик Катервуд — отмечали особую скрытность сэра Гарднера во всем, что касается изумрудных копей. К тому же любые рассказы о шахтах, даже из самых надежных источников, грешат подозрительной незавершенностью, включая те, где события расписаны до минуты. И наконец, я занимаюсь поисками чертога пятьдесят лет и сам видел, какие непробиваемые стены воздвигнуты вокруг этой темы. Ложь, увертки, умолчания, протесты… — Он покачал головой. — Если один человек сложит вместе несколько камней, это всего лишь куча. Если с полдюжины товарищей ему помогут, вырастет стена. Но если десятки людей много лет подряд воздвигают стены, получится крепость и поневоле задашься вопросом: а вдруг они задумали скрыть нечто необычайно важное?
— Чем гуще дым, — заметил Уильям-младший, — тем сильнее должен быть пожар.
У. Р. Гамильтон саркастически улыбнулся.
— Помнится, юноша, на днях вы выразили беспокойство по поводу того, что слишком медленно продвигаетесь к разгадке. Поймите: вы все еще, не сознавая этого, пробираетесь через каменный лабиринт. Ради вашего блага — ради всех нас — желаю вам отыскать выход. И упаси вас небо налететь на ужасную стену, как это частенько случалось со мной.
Завершив свою речь, Гамильтон кивнул сыну; тот запер сейфы и возвратил отцу ключи, словно послушный ребенок, закончивший увлекательную игру.
«Портман-сквер, Йорк-стрит, 33
30 ноября 1854 г.
Мой дорогой отец!
Как всегда, благодарю за великодушную помощь, но умоляю вас больше не посылать мне денег. У меня накопились кое-какие сбережения, которых должно хватить на несколько месяцев, и я не в силах отделаться от мысли о том, что помощь сиротскому приюту, местной церкви или бедным — любая из этих целей оказалась бы более достойной вашей щедрости.
Я продолжаю работать над книгой о методах археологии — правда, настолько медленно, что, боюсь, еще до своего завершения она сама станет археологической реликвией. Между тем сэр Гарднер Уилкинсон по-прежнему мой гостеприимный хозяин, наставник и просто кладезь ценных сведений. Если бы вы только знали, в каких краях он побывал.
Отец, вы оказались совершенно правы: Лондон действительно весьма оживленный город, огромный и абсолютно не похожий на другие. Здесь перед вашим сыном открылись новые возможности, великие тайны манят меня, и я шагаю навстречу им без тени сомнения или страха. Но даже пребывая в полном одиночестве, как сейчас, я слышу ваш голос и голос матушки — в этом мое постоянное утешение и неизменные напоминания о чести.
Надеюсь, что вы здоровы и благополучны. Я чувствую себя превосходно, как никогда.
Мои наилучшие пожелания Бесси. Передавайте привет собакам.
Ваш любящий сын
Алекс».Мой дорогой отец!
Глава восьмая ГОЛОС СОВЕСТИ
Вечером первого декабря тысяча восемьсот четвертого года, накануне коронации, парижские театры бесплатно распахнули свои двери, по городу маршировали отряды, а воздух ежечасно сотрясали артиллерийские залпы. Озаренные пылающими факелами улицы, по которым предстояло проследовать торжественной процессии, были очищены от снега и тщательно присыпаны песком, здания украшались бенгальскими огнями и цветными лентами, а совсем уж невзрачные постройки в окрестностях Нотр-Дам в спешном порядке безжалостно снесли. К часу ночи на страшном холоде по улицам все еще сновали проворными призраками солдаты, отставшие от своих частей, бражники и чернорабочие.
Холод… Наполеон не забудет этого, но так и не сможет восстановить в памяти, как покидал дворец, когда вернулся и где он на самом деле побывал. Останется лишь смутное впечатление: вроде бы, его провели вниз по потайному коридору, по длинной подземной галерее, потом был выход в садовый павильон — и морозная ночь. А дальше? В памяти всплывут тонкие струйки пара, которые поднимались над маской «красного человека». Хруст инея под ногами. Странное мельтешение световых пятен среди мерцающей темноты — может статься, золотые рыбки в искусственном пруду Тюильри? Суровый окрик часового с мушкетом: «Qui va là?»[60] — и тут же виноватое отступление (кажется, Наполеон отмахнулся от недогадливого гренадера). Гигантская искусственная звезда над площадью Согласия, затмившая сиянием даже луну.
— А кое-кто, — нетвердо проговорил Бонапарт, — пытался меня уверить, что вы не существуете.
«Красный человек» задумчиво покосился на спутника при свете ручного фонаря, но ничего не ответил.
— Можно спросить, куда вы меня ведете?
Молчание.
— И вообще, что происходит?
Ни слова.
Наполеон, дрожа, посмотрел на небо, затянутое рваными тучами.
— Даже не знаю, я как-то ни в чем не уверен, — пробормотал он, и это была чистая правда: силы его давно истощились, а чувство нереальности пропитывало воздух ощутимее ночного мороза.
День выдался долгий и чрезвычайно изматывающий. С одной стороны, senatus consultum[61] наконец утвердил его притязания на трон и право передачи короны будущему наследнику: минута не менее торжественная, чем предстоящая назавтра церемония. Но в то же время Римский Папа Пий VI, поселенный не где-нибудь, а в дворцовой комнате, убранство которой в точности повторяло его спальные покои в Ватикане, отказался вести коронацию на том основании, что Наполеон и Жозефина не венчаны в церкви; пришлось молниеносно устроить обряд в закрытой часовне Тюильри.
С формальностями покончили ближе к полуночи, после чего Жозефина пылко возжелала приступить к исполнению супружеских обязанностей, освященному в глазах Господа, но Бонапарт, как обычно, был холоден и рассеян.
— Не сегодня, дорогая. Боюсь что-нибудь упустить.
С этими словами он поднялся к себе в кабинет, известив секретаря, что хочет уединиться на неопределенный срок. Потом запер дверь, прошелся по роскошно убранной комнате, среди бархатной мебели, витражей со сказочными грифонами, гобеленов с египетскими пейзажами — и замер подобно грозному Зевсу над макетом Нотр-Дам в разрезе. Пристально оглядел ряды куколок, изображающих министров, придворных и прочих знатных лиц, а также пажей, собравшихся в крошечном соборе, и в последний раз мысленно попытался переставить их, продумывая все возможные неожиданности, словно хотел предугадать любой ход неблагосклонной судьбы.
И вдруг заговорил таким официальным тоном: «Придется вам подождать своей очереди, господин ведающий раздачей милостыни», что телохранитель-мамелюк Рустам просунул голову в дверь из соседней комнаты. Наполеон жестом велел ему исчезнуть.
Снова оставшись один, он внезапно почувствовал слабость и ухватился за край письменного стола. Судорожно вдыхая подогретый воздух, завтрашний император часто-часто заморгал. Который час?.. Наполеон достал из кармана часы с боем, но цифры поплыли перед глазами. Сколько же он не спал? Об этом лучше не думать. Бонапарт опустился в кресло, зажмурился, преодолевая неприятную резь в глазах, и провел по лицу ладонью с желтыми пятнами табака. Голова немилосердно кружилась, где-то в туманной дали стучало сердце; между размеренными вдохами Наполеон расслышал, как щелкнул замок, ощутил мимолетный сквозняк и на мгновение решил, что это Рустам решил его проведать. Не услышав вопроса и вообще ни единого звука, он открыл глаза. Похоже, телохранитель остался у себя. Бонапарт был совершенно один.
Вздохнув, он еще несколько раз зажмурился и начал с усилием подниматься на ноги, когда вдруг заметил в дальнем конце комнаты фигуру, озаренную мерцающими бликами. Что это, новый ковер из Египта? Еще одна диковина, очередной трофей Денона? Наполеон хотел отвернуться, но нет — в последнюю секунду он понял, что перед ним человек, причем не кто-нибудь, а… Тут он даже не удивился, ибо часто предвидел эту минуту в грезах, — это был «красный человек».
Долгое время оба хранили молчание.
Потом Бонапарт смущенно откашлялся и произнес:
— Мы не виделись с той самой встречи в Египте.
Нежданный посетитель в охристом тюрбане, в серебряной маске и багровом плаще замер со скрещенными руками, будто статуя.
— Вы пришли мне что-то сказать? — спросил Наполеон. И, уже не сдержавшись, пытаясь взять ситуацию под контроль, прикрикнул: — Отвечайте же!
Едва заметный кивок. И вот наконец послышался голос, начисто лишенный акцента и словно пробившийся через толщу сна:
— Настала пора вспомнить прошлое.
В то же мгновение поток мыслей Наполеона смешался, вскипел и иссяк, в точности как это было внутри Великой пирамиды. Краски, запахи, чувства — размазались, расплылись, и, не успев опомниться или вновь овладеть собственным телом, без пяти минут император уже шагал по темным переулкам вслед за пророком, будто верный пес на поводке.
— По-моему, это не самая подходящая ночь, — заметил Бонапарт, минуя увитую лозами шпалеру. — Не лучше ли оставить подобные размышления на будущее, когда у меня появится больше времени?
«Красный человек» скептически посмотрел на него и отозвался все тем же жутким голосом:
— Увы, мне кажется, у вас его будет более чем достаточно.
Наполеон передернулся в ознобе.
— Это пророчество?
— А тут и не нужно быть пророком.
— Извините, но к чему предаваться воспоминаниям в такую ночь, ночь накануне моего второго рождения?
Мистик не отвечал.
— Я ведь совсем не тщеславен, — не сдавался Наполеон. — Мои достижения, мои заслуги, они…
— Сами за себя говорят? — «Красный человек» словно читал его мысли. — Вот почему мы не станем на них останавливаться, — прибавил он и предостерегающе поднял руку: — А теперь прошу вас, не отставайте. Тропа, на которую мы ступаем, нечасто слышала шаги консулов и еще реже — поступь императоров.
А что же было потом? Вроде бы мост через Сену? Левобережный лабиринт, и за ним — Латинский квартал? И… неужели — та скверная улочка Юшетт? Позднее все воспоминания будут указывать на это, однако Наполеон так и не сможет восстановить подробностей. Казалось, они с «красным человеком» попросту нырнули в сумеречную путаницу трущоб поблизости от Лувра, где взгляд Бонапарта не различал ни одной знакомой детали. Они как во сне скользили по мостовым среди сугробов и конского навоза, кренящихся ветхих строений и бешено качающихся фонарей; ведьмоподобные дамы и их кавалеры, похожие на пиратов, с громким хохотом торопились мимо и не оглядывались. И все это время где-то в вышине одинокий слепой скрипач наигрывал «Турецкий марш», точь-в-точь как тот мальчишка на мачте злополучного «Ориента»…
В унылой гостинице их встретила суровая консьержка, распекавшая должника-постояльца, но и она без звука пропустила странных ночных гостей. Они двинулись вверх по винтовой лестнице. Во всем здании не было ни единой прочной ступеньки, ни единой двери, которая крепко держалась бы на своих петлях, и ни единой пары половиц, что не грозили бы разверзнуться под ногами. Казалось, гостиница так же искала скорой гибели, как и любой, кто входил туда. Воспоминание ужалило Наполеона, будто злая пчела.
— Гостиница «Кадран блё», — прошептал он. — Не может быть.
В ответ его спутник лишь молча распахнул дверь и жестом велел пройти в унылый номер, где с памятных Бонапарту времен совершенно ничего не переменилось: монашеская койка, пара плетеных стульев у непрочного стола, пожелтевшие от табачного дыма стены и кособокая полка, на которой теснились Гёте, поэмы Оссиана, Вольтер, арабские истории…
— Я жил здесь, — еле слышно пробормотал Наполеон. — Некоторое время назад…
Те самые черные дни его молодости пролегли в промежутке между Тулонской битвой и Жозефиной. Тогда он уже обрел положение, но не богатство. Бродил по улицам Парижа без цели и без любви. Силился проникнуть в роскошные салоны, только чтобы сбежать оттуда, преисполнившись отвращения к излишествам и пустоте. Тогда он впервые повстречался с Деноном, впервые услышал о чертоге.
— Не правда ли, отрезвляющий вид? — подал голос «красный человек».
— Ужасный, — прошептал Наполеон, изумленный силой нахлынувшей на него тоски.
«Красный человек» поставил фонарь на скрипучую полку.
— Вина? — предложил он, указывая на знакомую бутылку дешевого «шамбертена».
— Нет, не надо. — Бонапарт побледнел. — Пожалуйста… — Он умоляюще посмотрел на своего проводника. — Зачем это все? Каких воспоминаний вы от меня ждете?
«Красный человек» кивком указал на окно.
— Может быть, подойдете и сами посмотрите?
Однако Наполеон слишком часто сверлил глазами убогую улочку, воображая себе стремительный прыжок, мгновенное решение всех проблем — и более никаких долгов, обязательств, изматывающих грез…
Он помотал головой:
— С тех пор прошла целая вечность.
— Семь лет, кажется?
— Девять. Почти декада. Того человека давно уже нет в живых.
— Нет в живых? И что же с ним такое стряслось?
— Он был наивен… Невежество завело его в преисподнюю.
— Невежество? А может быть, идеалы?
— Какая разница? — Наполеон, дрожа, опустился на стул. — Он, то есть я, выстроил мост через бездну. И я не собираюсь обратно.
— Этот мост возвели не вы, — возразил мистик, — а сам Сатана.
Будущий император взглянул на багровую фигуру, которая странным образом высилась над ним, невзирая на скромный рост.
— Так вы — Сатана?
— Полагаете? — промолвил «красный человек», и Бонапарт вздрогнул и отвел взгляд.
— Не понимаю, чего вы добиваетесь, — начал он. — Хотите стащить меня в пропасть?
— Хочу отвести вас от ее края. И ото всех ненадежных мостов.
— Но это же вы тогда, в Великой пирамиде, объявили, что я сделаюсь правителем Франции… правителем всей Европы.
— Я поведал тайны чертога, а он изъясняется лишь образами, знаками…
— Это правда. И я воплотил их в жизнь. В чем же дело? В чем я провинился?
«Красный человек» и ухом не повел в ответ на его излияния.
— Вы еще спрашиваете, тогда как через несколько часов собираетесь короноваться в соборе Нотр-Дам?
— Ах, эта коронация? Всего-то? — презрительно отозвался Наполеон. — Представление для народа. Думаете, мне самому приятно?
— Императору предстоит еще множество неприятных спектаклей или я не прав?
— По-моему, власть вынуждает нас говорить языком черни.
— Значит ли это, что в обществе свиней необходимо валяться в грязи?
Сбитый с толку его саркастическим тоном, Бонапарт потянулся за оловянной кружкой и забарабанил пальцами по неровному краю.
— Так и есть. Нельзя отрицать: толпа неумна, недисциплинированна и усмирить ее очень даже непросто. С массами следует говорить языком впечатлений. Символов. Это единственное, что им доступно.
— Нельзя отрицать и другое: такой подход порождает деспотов.
— Ну нет, — покачал головой Наполеон. — В конечном счете всех великих вождей называли деспотами. Но я никогда не стану таким. Мне точно известно, где следует остановиться.
Мистик не отвечал.
— Вы просто не понимаете, с какими силами я имею дело. Это стихия, лесной пожар. Чтобы чего-то достичь, его нужно обуздать любыми средствами. Тогда уже, с помощью укрощенного пламени, можно вершить великие дела, вы согласны? Можно запустить сияющий воздушный шар и взмыть к небесам.
— А мне представляется аэронавт, который увлекся игрой с огнем и забыл, куда направлялся.
Наполеон еще раз покачал головой.
— Да нет же… Нет… Игра стоит свеч. — Его рука крепко сжала кружку. — Общество испорчено, потому что сам человек по природе испорчен. В этом и заключается моя работа — овладеть силой пламени, обуздать огонь самолюбия и порочности, предотвратить катастрофу.
— А моя работа — предупредить вас, чтобы вы не сожгли себе пальцы, — сказал пророк, удобно устраиваясь на свободном стуле. Мистик смотрел на собеседника с отеческой нежностью, обращаясь к нему, будто к заблудшему сыну. — Напомнить вам, что великого человека должно что-то влечь вперед, а не толкать в спину. Что подлинные герои трудятся в потемках гораздо больше, нежели при ярком свете. Что с охотничьим псом лишь одна беда: он не может без дичи. И что любой солдат — любой гражданин — это не только мундир, но и живая душа.
Будущий император поморщился, услышав столь безыскусную проповедь, какую и сам сочинил бы во дни своей неиспорченной юности.
— Так вот в чем ваша цель? Поучать меня, будто школьный директор?
— Помогать вам советом, как святой.
— Но кто же вы? Иисус Христос?
«Красный человек» налил себе в кружку вина.
— Полагаете? — прошептал он, не отводя взгляда.
А потом они медленно плыли по улице, и Наполеон, как никогда, терзался от полной неразберихи в мыслях и чувствах, когда мимо прошел мужчина с черной угольной тачкой и, очевидно приняв обоих за гуляк с карнавала, воскликнул:
— Отличный костюмчик, месье! Вы же вылитый новый император!
Силясь хоть немного сосредоточить взгляд, Бонапарт развернулся, чтобы выкрикнуть:
— Я и есть ваш новый император!
Угольщик озадаченно перевел глаза на фигуру в красном; пророк развел руками, словно желая сказать: «Я здесь ни при чем, мало ли что на уме у этого чудака».
Несколько часов спустя, на излете последних мгновений жизни простого смертного, Наполеон был затянут в изящный бархатный мундир с кружевами и пряжками, разодет в горностаевые меха и страусовые перья и мчался в ослепительной карете из золота и стекла по пышно украшенным улицам Парижа навстречу огромному, будто изъеденная ветром гора, собору Нотр-Дам. Здесь Бонапарт принял мантию, сплошь расшитую пчелами, и царственным шагом прошествовал мимо хоров, мимо выстроившихся сановников, мимо оркестра, для которого специально была написана музыка, под взмывшими ввысь балдахинами (на их пурпурных складках роились тысячи позолоченных пчелок) и вдоль по длинному проходу к роскошно задрапированному, сияющему свечами алтарю. Здесь, преклонив колени на бархатном коврике, он был согласно обряду помазан Папой Римским Пием VI, и здесь же, дерзко бросая вызов общественному мнению, собственноручно возложил на свою голову золотой лавровый венец — после чего торжественно короновал готовую прослезиться Жозефину — и сделался единовластным правителем империи, во владениях которой (во времена расцвета) проживало восемьдесят миллионов человек.
«Когда-то я был ничем, но сумел подняться и стал могущественнейшим фараоном в мире, — думал Наполеон, повернувшись от алтаря под гром воспрянувших аккордов. — Недурно для низкорослого лысеющего корсиканца с маленьким пенисом».
И лишь одно не давало ему в полной мере насладиться минутой триумфа. Все началось еще в соборе, где Бонапарту беспрестанно мерещился «красный человек», притаившийся под сводами подобно соколу, устроившемуся на жердочке, и неодобрительно взирающий на него с высоты. Дальше — больше: на обратном пути, выглядывая из окна императорского экипажа, Наполеон видел не пажей с горящими факелами, не музыкантов и не восхищенные толпы зевак, а багровые одеяния пророка, то мелькавшие в просветах между домами, то трепещущие среди цветочных клумб, то отраженные в окнах. За ужином одержимость достигла высшей точки: мистик осуждающе смотрел на императора из глубины серебряных тарелок, из пламени свечей и рыбьих голов… даже из яркой клубники, что украшала нелепый десерт. Бонапарт и на этот раз почти не уделял внимания потрясенной сегодняшними событиями Жозефине — а ведь они нарочно остались ужинать наедине. Залпом допив свой бокал, он отбросил салфетку, ополоснул руки и немедленно отправился выяснять причину своего наваждения. Первым делом Наполеон чуть ли не с лупой изучил записи, занесенные минувшим вечером в дворцовый журнал, но не нашел ни единого незнакомого имени; потолковал с гренадерами у ворот и прочей охраной, однако никто не помнил человека в красных одеждах; справился у секретаря, проведшего целую ночь в комнате, расположенной под его кабинетом, — тоже безуспешно, после чего обратился к Рустаму, которого видел последним перед появлением пророка в маске, но юный мамелюк настаивал на том, что не слышал ни звука.
— Что, никаких чужих голосов?
— Только ваш собственный, господин.
Пораженный Бонапарт тщательно изучил панельную обшивку своего кабинета. Он поднимал бесценные египетские ковры; снимал со стен картины; ощупывал все, что хотя бы отдаленно напоминало секретный рычаг; простукивал пол; внимательно осматривал потолок, покрытый туманными изображениями аллегорий и знаков Зодиака. Потом опустился в кресло, обмяк и прислушался к суматохе собственных мыслей. И под конец, разумеется, вызвал Вивана Денона.
— Вы знаете дворец как никто другой. Скажите, в этих стенах есть потайные отсеки?
— Отсеки? — переспросил тот, прижимая ладонь к атласному жилету: он плотно поужинал на пиру после коронации и теперь мучился несварением. — Ну да… конечно же, сир. Мария-Антуанетта любила во время игры прятаться в секретных шкафах. Людовик Шестнадцатый хранил опасные для своей репутации бумаги в знаменитом armoire de fer.[62] К тому же, кто знает, какие нововведения появились при Екатерине Медичи, тем более при безумном Робеспьере?
— Ну а что насчет галерей? Потайных коридоров?
— Э-э-э… думаю, где-то должны быть.
— И они ведут в эту комнату?
— Сир, вы застали меня врасплох. То есть… это надо изучать… — На его лбу появились морщины. — Неужели кража?
Наполеон вздохнул.
— Прошлой ночью… прошлой ночью меня кое-кто навестил… — Он укоризненно посмотрел на Денона: — Вы понимаете, о ком речь, — и, не дождавшись ответа, пояснил: — «Красный человек».
Веки художника дрогнули.
— «Красный человек»…
— Верно. Помните? Полгода назад вы уверяли, будто бы он — плод моего воображения?
— Сир…
— Не отпирайтесь! Даже не вздумайте!
— Сир…
— Вы утверждали, что я его создал из собственных грез!
— Сир, я всего лишь назвал его порождением…
— Порождением чего?
— Вашей… усталости.
Наполеон усмехнулся.
— Значит, он — плод усталого воображения?
— Ну…
— А прошлая ночь? Может, вы снова заявите, что я переутомился?
— Сир… — пробормотал Денон и переступил с ноги на ногу. — Прошу вас, расскажите, что именно произошло прошлой ночью. Вдруг это нам поможет?
Бонапарт раздраженно потянул воздух носом.
— Я вошел сюда посмотреть на макет собора, когда… — Тут он запнулся, не желая признавать, что его одолела смертельная усталость. — Когда захотел присесть. Потом я открыл глаза — и пророк уже стоял в кабинете, почти на том же месте, где теперь стоите вы.
Денон обернулся через плечо на гобелен с изображением шейхов.
— Оставьте! Знаю, о чем вы сейчас подумали. Скажете, я не могу отличить живого человека от картинки на ковре?
— Нет, сир. Но вам неизвестно, как он проник в кабинет?
— Поэтому я и вызвал вас!
— А вы уверены, что это не был кто-нибудь из ваших братьев? Например, Луи? Он, кажется, любит рядиться призраком?
— Нет, это не были мои братья. Что же я, не смогу распознать голос родственника?
— Или Папа Римский? Вдруг он пробрался к вам, чтобы побеседовать с глазу на глаз?
— Ну почему вы такой твердолобый? С какой, интересно, стати Пию тащить меня на ночную прогулку?
— Вы покидали дворец?..
— Да, по какому-то подземному коридору, и вышли где-то в садах, а потом долго шли, покуда не оказались на улице Юшетт.
— Это же в Латинском квартале? — недоверчиво уточнил Денон.
— Да, я уверен… — Тут голос Бонапарта впервые дрогнул: — «К-красный человек»… хотел напомнить мне мое прошлое.
— Оно было ему известно?
— Конечно, во всех подробностях. Мы заходили в мой номер в гостинице «Кадран блё»… Там совершенно ничего не изменилось.
Денон красноречиво молчал.
— Ну что? Теперь вы решите, что я спятил?
— Отнюдь, сир. Однако… Латинский квартал? Вы настаиваете?
— Если даже и не Латинский квартал, то его точное подобие. И комната всей обстановкой напоминала мой номер. И люди… Кстати, там был угольщик в белой шляпе — он определенно нас видел. Осталось только найти его… Что вы так смотрите?
— Сир, в этом городе очень много угольщиков.
— Ну так я выслежу всех до единого!
— И приметесь расспрашивать, кто из них видел вас в обществе красного призрака?
— Я вам не говорил, что это призрак! Я никогда так не говорил!
— И тем не менее предупреждаю вас, будьте осторожны. Слишком явные расспросы вызовут кривотолки, а это сыграет на руку вашим противникам.
Наполеон сердито сверкнул глазами.
— Вы мне не верите? Даже не допускаете мысли, что это правда? По-вашему, я перестал различать явь и грезы? Скажите прямо!
— Сир…
— А может быть, я и сейчас крепко сплю? И вы тоже — очередная галлюцинация?
— Позвольте узнать, сир, где вы проснулись сегодня утром?
— А что?
— Мне кажется, это важно.
— Здесь, в этой комнате. А при чем…
— В том самом кресле, куда вы присели перевести дух, когда увидели мистика?
— В том же самом… да. Ну и что?
— А можно спросить, на каком языке он к вам обращался? Французском? Итальянском?
Бонапарт напустил на себя разгневанный вид:
— Какая разница?!
Денон потеребил край жилета.
— Поверьте, сир, вам нечего стыдиться. После долгого поста и одиночества Христос повстречал в пустыне Сатану. Магомет видел ангела Джабраила. Моисей беседовал с Богом на вершине горы Синай. В истории не перечесть великих людей, которые, будучи в состоянии расстроенного сознания, общались со сверхъестественными посланниками.
— А мне-то что? Вы же не собираетесь объявить «красного человека» сатаной?
Денон устало улыбнулся.
— Отнюдь, сир. По-моему, как и во всех описанных случаях, ваш призрак — существо не столько материальное, сколько сотканное из напряженных размышлений… из голоса совести… воображаемый собеседник, друг…
— Так вы считаете, я начал дружить с привидениями?
— Но вы и сами, — бесстрастно произнес художник, — нередко упоминали необъяснимую тягу людей к потустороннему. Их склонность по собственной воле предаваться самообману. Если же речь идет о таком человеке, как вы, со столь неуемным разумом, столь могучим воображением и, раз уж на то пошло, который настолько укоренился в католических предрассудках и чувстве вины, вовсе не удивительно, что в минуту истощения телесных сил, легкого помутнения, а то и обморока, в укромном уголке вашего необъятного космоса возникло желание добровольно предаться… — Денон замялся, — самообману.
Дерзкое заявление, однако Наполеон, вместо того чтобы оскорбиться, странным образом успокоился, поскольку его суеверия были прекрасно известны окружающим: боязнь кошек, увлечение гороскопами, страх перед пятницей и числом тринадцать… Невзирая на показной атеизм, перед каждой битвой Бонапарт непременно украдкой осенял себя крестным знамением… К тому же он слишком часто и открыто рассуждал о необузданной алчности человеческого воображения (и на деле без зазрения совести использовал эту слабость для восхождения к власти), чтобы теперь отрекаться от собственных слов.
«А вдруг это правда? — задумался император. — Неужели неутомимый рассудок сыграл со мной шутку?»
Глаза его скользнули по миниатюрной копии Нотр-Дам — среди толпящихся куколок Наполеону привиделся человечек в красном плаще. Тогда он отвел взгляд — и на мгновение вообразил пророка в маске витающим среди тканей за спиной Денона. Бонапарт зажмурился — но и в темноте под веками багровый мистик смотрел на него в упор.
— Что же он вам сказал прошлой ночью, сир? — после некоторого молчания спросил художник. — Что именно?
— Прошлой ночью? — Наполеон открыл глаза и вновь сосредоточился. — Ну, он… призывал меня быть благоразумнее.
— Благоразумнее?
— Да, твердил одно и то же… разглагольствовал о нравственной ответственности главы государства и все в таком роде.
— Не самая подходящая речь для беса. Не сочтите за дерзость, сир, но я бы советовал вам прислушаться к мудрости этого «красного человека», или пророка в маске, откуда бы тот ни взялся, прислушаться, словно к самому себе… — Денон переступил с ноги на ногу. — Ибо весьма вероятно, что он и есть вы.
Наполеон не ответил ни слова.
— А сейчас, — продолжал, осмелев, собеседник, — вам не помешает хотя бы на время оставить подобные размышления. Они чересчур волнительны и… — прибавил он, опять прижимая ладонь к груди, — вредят пищеварению.
Однако Наполеон, взбешенный его снисходительным тоном, вновь разъярился и приказал немедленно обыскать огромный дворец. Так что, в то время как Жозефина в который раз удалилась спать в одиночестве, Денон и дворцовая стража под неумолчный грохот фейерверков устало прочесывали сводчатые залы, внутренние помещения и залитые ярким сиянием галереи, но, разумеется, не нашли никаких незнакомых лестниц или потайных коридоров, не говоря уже о малейших следах загадочного l'Homme Rouge.
После этих событий «красный человек» несколько месяцев не появлялся ни в Тюильри, ни где-либо еще. На какое-то время новый император против обыкновения притих, будто бы впрямь решил повиноваться мрачному пророку — или же собственной совести. Впрочем, амбиции неизбежно взяли верх над запретами, убеждения — над колебаниями, а сладкий зов триумфа заглушил страх возможного поражения; Наполеону хватило изворотливости ума, чтобы считать свой первый разговор с «красным человеком» историческим событием, ну а второй — порождением ночного кошмара.
И вот второго декабря тысяча восемьсот пятого года, ровно год спустя после коронации, лучи восходящего солнца озарили солдат Grand Armee[63] (как празднично засверкали бесчисленные клинки, штыки, рукояти, шлемы, шпоры!), устремившихся на поле брани под Аустерлицем навстречу мощным российско-австрийским войскам, чтобы с наступлением ночи принести Бонапарту его чистейшую и величайшую победу. Остатки сомнений рассеялись как утренний туман, любые мысли о смирении остались позади, словно улица Юшетт, а потусторонняя сфера казалась просто еще одним государством, примкнувшим к его империи.
«Я был никем, но возвысился до самого могущественного фараона в мире, — беспрестанно повторял Наполеон, — и не могу остановиться, и не остановлюсь, покуда не завоюю вечность».
Глава девятая БРАТСТВО ВЕЧНОСТИ
— Пожалуй, мой отец иногда кажется чересчур суровым…
Ринд еле заметно кивнул.
— Но это лишь видимость. Он очень предан своей стране; мало кто претерпел за нее столько мук и разочарований.
— Конечно.
— А в последние годы прибавились эти ужасные недомогания — ревматизм, боли в деснах, обмороки… Тихие шепоты из могилы. Из царства вечности.
Ринд, еще никогда не слышавший, чтобы о смерти говорили в подобных выражениях, неопределенно качнул головой.
— Все началось в тысяча восемьсот первом году, — продолжал Уильям-младший, — сразу же после ухода французов…
Собеседники неспешно шагали по фешенебельному району Мейфэр.
— Ему тогда исполнилось двадцать четыре — вполовину меньше, нежели мне сейчас. В то время путешествие в Египет сулило множество приключений. Воспрянувшие духом арабы и мамелюки свирепствовали, словно рои разъяренных шершней. Отправиться в такое пекло значило подвергнуть себя серьезной опасности. В сущности, совершить безумство. Думаю, отец говорил об этом.
Шотландец припомнил немало подобных случаев.
— Да, но ведь он находился там вместе с дивизией?
— Отнюдь. В этом-то все дело. Это была секретная миссия. Слухи о чертоге вечности, а главное — о любопытстве Бонапарта, уже ползли. Лорд Элджин, в ту пору посланник в Константинополе, решился выяснить истину. Поэтому сразу же после капитуляции французов мой отец — секретарь лорда Элджина — был послан в Египет, где первым делом завладел Розеттским камнем, после чего связался с человеком по имени Уильям Лик, армейским капитаном, который успел провести самую тщательную разведку в определенных частях страны. Вероятно, вы о нем уже слышали?
— Уильям Лик — друг вашего отца?
— Близкий знакомый. Вы уверены, что никто не упоминал при вас его имени? Быть может, сэр Гарднер?
— Нет, никогда.
— Знаете, этот человек живет неподалеку отсюда. С ним приятно общаться… большую часть времени. — Уильям-младший издал неопределенный звук. — Во всяком случае, его посылали в Египет с заданием докладывать о политических и военных беспорядках. Отец же должен был, я цитирую, «собирать любые данные об архитектурных свидетельствах власти древних монархов».
Пышность оборота позабавила Ринда.
— То есть найти чертог вечности?
— Ну да, только в приказе были использованы более цветистые выражения, — улыбнулся Уильям-младший. — Итак, отец и Лик отправились из Александрии, чтобы полностью повторить маршрут Денона вдоль по течению Нила — они делали остановки в тех же самых местах, осматривали все, что осматривал он, и даже беседовали с теми же самыми местными жителями.
— Без успеха, как я понимаю.
— На их долю выпали особенно суровые испытания. Вдвоем они путешествовали примерно полгода, занимаясь исследованиями, попутно отбиваясь от речных пиратов и враждебных племен. Но дело в том, что по возвращении в Лондон, когда настала пора сообща сопоставить карты и путевые заметки, Лик почему-то вдруг отказался сотрудничать, заявив, будто утратил все свои дневники и произведения на обратной дороге. При этом вид у него был подозрительно равнодушный и безмятежный.
Собеседники повернули на Болтон-роу.
— Позже, работая над собственной книгой — «Эгиптикой», как отец ее назвал в память об Иоанне Цеце, — он натолкнулся уже на явное сопротивление бывшего товарища. Тот не собирался ни в коей мере помогать при составлении карт и наотрез отказался делиться воспоминаниями. В то время отец не мог постигнуть причин подобного поведения. Потом, когда Лик завязал переписку с Виваном Деноном при посредничестве Института Франции, а еще позже — близкую дружбу с сэром Гарднером Уилкинсоном, отцом овладела естественная подозрительность.
Ринд и Уильям-младший остановились перед домом Гамильтона.
— Возможно ли, — вполголоса произнес Уильям-младший, — чтобы во время одиночных поисков Лик обнаружил чертог? Или повстречал кого-нибудь, кому бы это удалось? Но не имел намерения делиться своим открытием? Не обидно ли, что он обсуждал такие вопросы с людьми вроде сэра Гарднера, Денона и прочими, тогда как мой отец намеренно был исключен из круга посвященных? Настала пора очень странного молчания, которое длится и по сей день. После многих и многих лет…
С этими словами он тихо вздохнул и достал из кармана ключ от парадной двери.
— Представьте себе, как уязвило отца подобное отношение. Его, человека, который столь высоко ценит верность и благодарность, считая их свойствами благородных душ.
Собеседники вошли в переднюю огромного жилища. Геолог повесил цилиндр на крючок, прислушиваясь, есть ли дома кто-нибудь еще. Однако его приветствовали только две любопытные кошки.
— Это Сехмет[64] и Мафдет,[65] — с нежностью произнес Уильям-младший. — Отец назвал их в честь египетских богинь.
Ринд молча кивнул: он уже видел этих животных за утренним чаем.
— Они — настоящая гордость матери. Отец еле терпит кошек; по крайней мере в этом они с Бонапартом похожи.
Гость тут же вспомнил, как старик зашипел на любимиц жены, точно кобра.
— По словам отца, в кошках нет ни унции благодарности, ни тем более самоотречения. Так что сами понимаете, насколько противны ему подобные существа.
— Это уж точно.
На краткий миг Уильям-младший посмотрел на него отцовскими глазами, глазами гробовщика — вероятно, искал какой-то подвох.
— Ну да, естественно, — прибавил Ринд, почему-то нимало не удивившись.
Всего полчаса назад они покинули музейный полумрак и, вроде бы случайно, увлеклись разговором. Когда геолог исподволь принялся направлять собеседника в сторону Мейфэр, тот заподозрил некий умысел. И вот теперь, поднимаясь по устланной коврами лестнице в сопровождении одной из кошек, шотландец уже не сомневался: все было тщательно подстроено (без сомнения, с полного ведома У. Р. Гамильтона), чтобы дать ему представление о чем-то настолько болезненном и неприятном для старика, что тот не решился поговорить об этом лично.
— Пришли, — произнес Уильям-младший, остановившись у внушительной дубовой двери и доставая еще один серебряный ключ. — Здесь кабинет отца.
Кошка, которой не раз и не два попадало за любопытство, инстинктивно съежилась и бросилась наутек.
Кабинет У. Р. Гамильтона по крайней мере втрое превосходил размерами рабочую комнату сэра Гарднера. Потолок подпирали шкафы, набитые книгами и египетскими реликвиями; они, а также мрамор и красное дерево, в больших количествах присутствовавшие в отделке, придавали кабинету сходство с залом музея, разве что освещение здесь было куда ярче.
— Вот где отец проводит большую часть времени, — вполголоса сообщил сын хозяина. — Царский чертог…
Два массивных письменных стола целиком были заняты атласами и картами. В углу стоял гигантский глобус; Египет на нем немного прогибался внутрь — очевидно, от бесчисленных прикосновений, а то и взглядов. И всюду, разложенные будто бы для ежедневного просмотра, лежали бумаги с начертанными символами — подобные Ринд уже видел в музее.
— Знаете, — произнес Уильям-младший, остановившись у полки с пухлыми, не тоньше двух дюймов, папками, — со времен бонапартовской кампании в Египет посылалось несметное количество экспедиций, более, нежели за пятнадцать веков до этого. Некоторые экспедиции были официальными, некоторые — наполовину официальными, но львиная доля проводилась в условиях высшей секретности. Отец всеми силами старался проследить за каждой из них, обращаясь к любым доступным источникам.
Говоря это, Уильям-младший поочередно прикасался к папкам, украшенным цветными полосками и микроскопическими надписями.
— Монаршая экспедиция барона Генриха фон Мутоли.
…Знаменитая экспедиция Жана Франсуа Шампольона и Ипполита Росселини, снаряженная совместно на деньги короля Карла X и великого герцога Леопольда II.
…Баварская экспедиция герцога Максимилиана Джозефа, отправленная по воле его отца — короля Людвига I.
…Прославленная прусская экспедиция Ричарда Лепсиуса для короля Фридриха Уильяма…
После каждого прозвучавшего имени сын хозяина косился на гостя, словно желая подловить его на невольной реакции, однако сейчас посмотрел в упор.
— Вы когда-нибудь слышали об этих людях? Хотя бы о ком-то?
— Я слышал о Лепсиусе, — подтвердил Ринд.
— Это имя упоминал сэр Гарднер?
— Не помню точно.
— Возможно, вы изучали его труды?
— Пока еще нет. А что?
Геолог скроил недовольную мину.
— Экспедиция Лепсиуса считается самой экстравагантной со времен Бонапарта. Этот человек исследовал Египет вдоль и поперек, делал все, что ему заблагорассудится, — установил рождественскую ель посреди царского чертога, даже запускал фейерверки с вершин пирамид… Но моего отца заинтересовало иное — подозрительная перемена в его манерах и поведении по возвращении в Берлин. Если прежде сей типичный пруссак отличался необузданными страстями, высокомерием и безрассудством, то после Египта всем показалось, будто бы он увидел или пережил нечто такое… некое преображение.
— Вы говорите о чертоге?
— Отец считает именно так. Достаточно сказать, что король собственноручно вручил путешественнику полсотни тысяч талеров. Отсюда всего один шаг до простой догадки: Лепсиус передал монарху тайны чертога, так же как до него поступил Денон, или нанял для этого «красного человека». Вы совершенно уверены, что сэр Гарднер его ни разу не упоминал?
— Ни разу.
— А может быть, он говорил о том, как меняется человек, побывавший в Египте?
Ринд ненадолго задумался.
— Пожалуй, говорил.
— Что именно?
— В основном намеками. Якобы эта страна не оставляет нас прежними.
— Вы не запомнили конкретных имен?
— Бонапарт.
— И все?
— Насколько я помню, да. А что?
Однако Уильям-младший покуда ушел от ответа.
— А как насчет Орландо Феликса? — Он указал на папки, снабженные разными ярлыками: «Феликс», «Эффенди», «Датанази», «Лейн», «Бертон», «Хэй». — Это имя вы слышали?
— Кажется, нет.
— Он — герой Ватерлоо и знаток иероглифических языков. Примерно тридцать лет назад отец обратился к его услугам, полагаясь на военную дисциплину, которая учит людей выполнять поручения, не рассуждая. Четыре года Феликс провел в Египте, путешествуя всюду. Сплавлялся по Нилу, шпионил за прочими экспедициями, заводил знакомства с нужными людьми из правительства — и в конце концов объявил, что все поиски были напрасны. Якобы ни следа, ни намека. Ни даже туманного слуха. Феликс, вообразите, настаивал, будто чертога вечности не существует и никогда не существовало. И в то же время, подобно Лику, странным образом отказывался делиться подробностями своих странствий, увиливал, в общем, вел себя не по-солдатски. А потом, как и Лик, сделался близким приятелем сэра Гарднера. Знаете, ведь они до сих пор встречаются в замке Алвик, резиденции герцога Нортумберлендского.
Геолог ткнул пальцем в следующую папку:
— Далее, Осман Эффенди. Урожденный Уильям Тейлор, шотландец. В Египте его взяли в плен, насильно подвергли обрезанию и обратили в ислам. Тейлора освободил паша Мохаммед Али. После чего Тейлор стал главным проводником по Каиру: помогал британским приезжим находить пристанище и продовольствие, выправлял пропуска, охранительные грамоты и прочее. Казалось бы, лучшая кандидатура для того, чтобы присматривать за молодым Уилкинсоном и другими экспедициями, сплавлявшимися по Нилу. Однако и он под конец стал избегать прямых ответов и даже обзавелся многими странностями. В тысяча восемьсот тридцатых годах дизентерия унесла его жизнь…
Уильям-младший взглянул на Ринда, затем продолжал:
— Джованни Датанази. Грек по крови, археолог, работал в Египте долее самого сэра Гарднера. Жил неподалеку от Долины царей. Довольно ревнив, нелюдим, озлоблен. Но вот он вернулся в Лондон, чтобы устроить аукцион своих произведений, — и все заметили, что в его характере появилась определенная «щепетильность», по его собственному выражению, не позволявшая хотя бы словом обмолвиться о своих открытиях, даже когда среди его записок всплыли некие весьма странные символы. — Геолог небрежно махнул рукой на разложенные бумаги. — И опять же достаточно будет сказать: после Египта Датанази полностью изменился. Когда он скончался в богадельне (это случилось несколько месяцев назад), отец без малейшего удивления узнал, что сэр Гарднер годами поддерживал ученого, посылая кое-какие деньги… Теперь Эдвард Лейн, переводчик «Тысячи и одной ночи». Мой отец и его завербовал. Лейн тоже потом утверждал, причем весьма неубедительно, будто чертог вечности — просто миф… Следующий Джеймс Бертон, с ним та же история… Роберт Хэй, не совсем шпион. Просто человек, публично подтвердивший скрытность сэра Гарднера в некоторых вопросах. Джованни Бельцони, известный…
— Как вы сказали? — вдруг перебил его Ринд, ибо этого человека он, безусловно, знал.
Цирковой силач, искатель приключений, изобретатель и настоящий великан, Бельцони сделал для популяризации египетской культуры на Западе едва ли не более самого Денона. Это его знаменитая книга «Новейшие открытия в пирамидах и храмах Египта» породила целые поколения археологов. Устроенная Бельцони выставка освещенных газовыми рожками мумий, храмовых фасадов из гипса и папирусов под стеклом превратила его в знаменитость — за советом к нему стали обращаться даже королевские и царские особы.
— Неужели Бельцони тоже работал на вашего отца?
— Напрямую — нет. Он вел раскопки по поручению Генри Солта, в ту пору британского генерального консула в Каире, а тот был, если можно так выразиться, главным представителем отца в Египте. Именно Солт заподозрил, что Бельцони открыл среди песков нечто чрезвычайно важное, хотя и по неизвестным причинам отказывался говорить об этом. Итак, мой отец выследил путешественника по возвращении в Англию, как только тот поселился в Бейсуотере, и что вы думаете? — нашел совершенно переменившегося человека. Ранее многословный и сумасбродный, словом, подлинный служитель цирка, Бельцони вдруг стал сдержанным, упорно уклонялся от прямых ответов и вообще изображал полное неведение — дескать, знать не знаю, о чем разговор. Отец натолкнулся на настоящую крепостную стену — впрочем, такое поведение у побывавших в Египте было ему не в новинку. Вернувшись из этой страны, люди самых разных национальностей и социального положения становились удивительно похожи. Некий налет таинственности, удовлетворения, уверенности, общей сопричастности чему-то особенному, — в точности таковы были и все прочие. Бельцони, Лепсиус, Лик, Феликс. И даже месье Денон. Весьма раздражающее сочетание. Оно уже само по себе отличает человека, посетившего чертог вечности. Безмятежность, глаза познавшего и, пожалуй, излишняя насмешливость в речах.
— Безмятежность… — повторил Ринд, отчего-то подумав о Сфинксе.
— Верные признаки обманщика. Они яснее любых иероглифов свидетельствуют о том, что человек был принят в братство Вечности. Высокомерие, ощущение превосходства или раздутой гордости — называйте, как пожелаете. Вы ведь наверняка замечали нечто подобное за сэром Гарднером?
Ринд на мгновение попытался сравнить перечисленные качества с поведением археолога. Ну да, все сходилось.
— Похоже, что так.
— А за другими? — спросил Уильям-младший. — Его же кто-нибудь посещает?
Шотландец покачал головой.
— Не думаю. А сами вы часто замечали что-то в этом роде?
— И не только за сэром Гарднером. Существует уйма других людей.
Ринд пораскинул мозгами.
— А может быть, это всего лишь покой ученого, который насытил свое любопытство? Или путешественника, увидевшего страну мечты?
— Ну уж нет! — рассмеялся геолог. — Вам еще предстоит узнать кое-какие тонкости… нюансы. Нет, эти свойства присущи только членам братства.
Молодой человек пожал плечами.
— А вы, вы лично, не пробовали обзавестись такими же?
— Хотите сказать, не пытался ли я отыскать чертог? — произнес геолог и улыбнулся. — Я, к сожалению, сын своего отца и, значит, ни от кого не добьюсь толку. Нет, это не моя миссия. Она не для того, кто носит фамилию Гамильтон, — прибавил он, и Ринд еще раз ощутил на себе тяжелый взгляд владельца похоронной конторы. — Зато для вас, юноша, это великая честь. Работа, на которую положена целая жизнь, — Уильям-младший обвел рукой кабинет, — благодаря вам наконец-то может прийти к успешному завершению. Вероятно, уже через пару недель или месяцев. Или хотя бы продолжиться вашими усилиями. Если, конечно, превратится в дело и вашей жизни.
Ринд не спешил отвечать. Он с трудом представлял себе, что когда-нибудь будет сидеть в таком же вот кабинете, ломая голову над картами, сводками, изучая непонятные символы, гоняя назойливых кошек. Молодого человека совершенно не впечатляла, тем более не радовала перспектива наставлять очередного шпиона, водить его по музейным подвалам. Еще больше пугала мысль о том, как его серьезный характер, словно по волшебству, вдруг обретет причудливые черты, якобы общие для членов братства.
«Безмятежность, глаза познавшего и, пожалуй, излишняя насмешливость в речах…»
— Как бы то ни было, — с кислой улыбкой промолвил Уильям-младший, — надеюсь, наш разговор помог вам лучше понять моего отца.
«Кажется, я опять попался на удочку», — размышлял Ринд.
Сначала его выманили из музея ради тщательно продуманной беседы, потом засыпали фразами о чудесных человеческих качествах У. Р. Гамильтона, потребовали сочувствия, забросали именами, исподтишка наблюдая, не клюнет ли гость на наживку; все, и даже встреча с кошками, было рассчитано на то, чтобы произвести впечатление или хитростью добиться нужного ответа.
Однако, шагая домой по Йорк-стрит, шотландец не ощущал никакой досады. Ясно же, что У. Р. Гамильтон десятилетиями бился о стену секретов и отрицания. Должно быть, он слишком часто вставал на ноги с земли, проглатывал обиды, залечивал раны, стискивал зубы и вновь устремлялся в атаку. Время от времени камешек-другой поддавался, и появлялась тонкая щель. Но этого никогда не хватало, чтобы пробиться внутрь. А Гамильтон продолжал бороться. Снова. И снова. И снова. С завидным постоянством.
Разве это не извиняло и его подозрительные манеры, и горечь в сердце, и отчасти своекорыстное мировоззрение? И если, как утверждал его сын, вопреки всем разочарованиям, Гамильтон остался заботливым отцом, добродетельным супругом и сохранил неколебимую верность Англии, — что ж, такой человек заслужил того, чтобы добиться своей цели. В сущности, будет просто несправедливо оставить его стремления без отклика. Гамильтон должен найти ответ, если, конечно, тот существует и борьба имеет смысл.
В таком свете даже его сомнительное определение цели — в конечном счете целью следовало считать официальное признание со стороны монарха — выглядело извинительным проявлением тщеславия. Человек, посвятивший десятки лет поискам легендарного чертога, не говоря уже о годах беззаветной службы в качестве дипломата, шпиона, заместителя министра государства и основателя Королевского географического общества, — мог ли Гамильтон не досадовать, не получив столь вожделенного рыцарского звания? Могли внутренне не страдать, когда ее величество, пропуская мимо ушей любые поправки, продолжала величать его «сэром Уильямом» — очевидно, принимая как должное, что посвящение уже давно состоялось? И, раз уж на то пошло, как мог он не сетовать на судьбу, родившись в эпоху целого созвездия прославленных Уильямов Гамильтонов (среди которых было не менее трех рыцарей)? Стоит ли удивляться, что он сократил свое имя до инициалов, дабы хоть чем-нибудь выделяться в ряду знаменитых тезок?
«В Древнем Египте, — поведал Уильям-младший на прощание, — прозвание человека имело огромную важность, и люди делали все, чтобы сохранить его для потомков навечно. Теперь вам понятно, почему отец желает уйти из жизни (ведь этот ужасный день однажды настанет) только тогда, когда обеспечит себе имя. Достойное имя, которое прозвучит гордо. Спустя столько лет это единственное, что он может после себя оставить».
И если прежде Ринд невольно поморщился бы, услышав столь тщеславную фразу, то, покидая Болтон-роу, он призадумался: найдется ли на свете человек, совершенно свободный от подобных притязаний. От пылкого желания отличиться в жизни. Стать предметом всеобщей зависти. Или хотя бы просто привлекать людей.
Разве же Бонапарт, «Наполеон Великий», не был очарован грядущей славой и звучностью собственного имени? Сменил же он «Буонапарте» на «Бонапарт» перед самым началом египетской кампании и даже готов был взять новое имя, покуда не уверился в мистическом значении старого.
И разве Денон, барон империи, не сократил свое — Доминик Виван де Нон — сразу же после Революции, отчасти следуя духу времени, отчасти чтобы скрыть происхождение, но главным образом желая избавиться от ненужных ассоциаций: «раб Божий, живущий ради ничего»?
А Уилкинсон, рыцарь королевства? Не он ли предпочел обращение «сэр Гарднер» более точному «сэр Джон», только с тем, чтобы выделиться из плеяды прочих сэров Джонов, наводнивших империю?
Великий боже, изумился шотландец, приближаясь к Оксфорд-стрит, ведь он и сам превратил Александра Генри Ринда просто в Алекса Ринда после неприятного случая в Эдинбургском университете, когда преподаватель насмешливо воскликнул: «Наш Александр Великий, кажется, грезит наяву? Простите, или я говорю с Александром Ничтожным?»
«Да и кто я такой, — раздумывал молодой человек, — чтобы упрекать людей в самомнении? Или обидчивости? Или же в неискренности?»
Это пристрастие к самокопанию было настолько же присуще душе шотландца, как и склонность к состраданию — еще одно непременное качество пресвитерианца. Но вот он вышел на Орчард-стрит. Налетел порыв ледяного ветра, задребезжали стекла, с шумом взметнулись листья, по коже побежали мурашки, и Ринд внезапно усомнился в собственных рассуждениях.
Да нет же, нет!
Теперь он ясно вспомнил, почему решил изменить свое имя в студенческие годы. Вовсе не из-за той колкости — молодой человек смеялся вместе с товарищами по группе, — а чтобы избежать излишней напыщенности и любых намеков на снобизм.
О нет, им двигало не тщеславие. Скорее даже наоборот.
Кстати, он точно так же поторопился с выводами насчет Вивана Денона и сэра Гарднера, обвинив обоих в жажде признания. Разве они хоть чем-нибудь доказали, что неравнодушны к столь суетным благам?
Ну а как насчет «извинительного тщеславия»? Теперь, в холодном и отрезвляющем свете дня, заливавшем Портман-сквер, уже само это выражение выглядело нелепостью. Стремление обрести громкое имя, чтобы оно не забылось в веках, всегда казалось шотландцу начальной формой самомнения. Это было нескромно, не по-христиански и вдобавок, по мнению Ринда, только мешало в решении насущных задач. Охотники за почестями, искатели престижа и веса в обществе, полагал он, неспособны достичь безмятежности членов пресловутого братства Вечности.
«Так что же со мной случилось?» — спрашивал себя молодой человек, удаляясь от Болтон-роу.
Быть может, Уильям-младший хитроумно сбил его с истинного пути? Или он сам позволил жалости одержать верх над убеждениями? Или его решимость мало-помалу таяла, так же как и преданность родным реликвиям? Ведь было же время, когда Ринд никому не давал поблажек в подобных вопросах — ни королю, ни себе самому, ни даже отцу, чье страстное желание увидеть внука, «наследника нашего имени», тоже считал чрезвычайно эгоистичным. Поскольку главное — это человеческий дух, по сравнению с которым одна-единственная жизнь, а тем паче имя — не более чем прах и пустота. И всем фараонам на свете с их гордостью и амбициями не изменить этого.
И все же, все же… Бледное сонное солнце пробилось сквозь облака и засверкало в окнах на Джордж-стрит, наконец-то пригрев пешехода, и молодой человек опять усомнился в собственном праве на беспощадный суд. По сути, Наполеон и Гамильтон — дети иной эпохи, их породило бурное время, и кто он такой, чтобы в свои двадцать один год выносить приговор кому бы то ни было?
И если на то пошло, можно ли утверждать с уверенностью, что привлекательные качества сэра Гарднера и Денона, произведшие на него такое приятное впечатление, не представляют собой маску, за которой кроется ледяная расчетливость? А поведение Гамильтона, напротив, искренне отражает его отчаяние и преданность родине? И, может статься, Наполеоном двигала, помимо его воли, вовсе не жажда славы, а неодолимые силы истории?
Впрочем, кому интересно мнение обыкновенного прохожего? И смеет ли он надеяться познать истину? Хотя бы отчасти? Великие умы иногда посвящали поискам целую жизнь — и то уходили ни с чем. Чего в таком случае ожидать молодому человеку, чьи годы уже сочтены?
Вздыхая и зябко поеживаясь на ветру, по улицам Лондона одиноко бродил Александр Ничтожный. Молодой шотландец, коему оставалось так мало дней и лет на суету, еще меньше — на тщеславие и немного — на безмятежность. Запутавшийся, сбитый с толку чужими речами, страдающий под гнетом неумолимого времени, мечтающий получить от судьбы лишь несколько кратких минут покоя и понимания, прежде чем вся его жизнь неприметной слезинкой канет в глубины вечности.
На Глостер-плейс некий джентльмен в бархатном фраке протягивал цветок смущенной девице. Ринд деликатно перешел на другую сторону улицы.
Глава десятая НА ПОЛЕ ИЛИ НА СЦЕНЕ
В феврале тысяча восемьсот седьмого года — это было в Восточной Пруссии — Наполеон отыскал Денона посреди укрытого снегом кладбища под Эйлау; художник самозабвенно рисовал в такой близи от линии фронта, что Бонапарту пришлось приказать ему удалиться в более безопасное место.
— Ах вы, старый пес! — воскликнул император, перекрывая рев падающих вокруг артиллерийских осколков. — Вас же там чуть не убили!
Денон отмахнулся:
— Хорош тот пес, который бежит от любой опасности, бросая хозяина.
— Ну, осторожная собака все-таки лучше мертвой.
— Поверьте, сир, меня нимало не соблазняет вид чужой крови, не говоря уже о моей собственной.
— И все-таки в последнее время вы неуловимо переменились. Вернее сказать, с тех пор, как побывали в Египте. Похоже, вы потеряли страх.
— Потерял страх?
— Вы словно человек, только что очистивший душу на исповеди.
— Не сказал бы. По-моему, я не стал храбрее, чем прежде. Разве что самую малость поглупел.
— Да, но с чем это связано? Будь у меня целая армия подобных глупцов, мы бы уже выиграли сражение.
Наполеон сказал это в шутку, зная, что его воины несколько дней стояли насмерть под ураганом отчаянных русских атак и грохотом пушечных выстрелов.
Денон улыбнулся.
— Я вам еще не рассказывал, что мне в одиннадцать лет нагадала одна цыганка?
— Та, которая обещала вечную защиту под покровительством славной звезды?
— Значит, вы помните, — кивнул художник. — Ну так, может статься, эта звезда, — продолжил он, пристально посмотрев на своего императора, — и придает мне уверенности.
— Звезда удачи? — переспросил Бонапарт, неспешно шагая между гробницами и рассеянно поглаживая карман. — Вы намекаете на меня?
— Вы совершенно правильно поняли, сир.
Наполеон усмехнулся:
— Да, но не забывайте: все звезды вселенной, вместе взятые, не дают вам права на опрометчивость. Можно подумать, у вас нет более безопасных занятий. Сколько церквей ожидают ваших набегов, сколько дворцов предстоит ограбить! Сколько великих полотен так и просятся в имперское собрание живописи!
— Увы. Боюсь, моя слава опережает меня. Едва почуяв приближение вашего покорного слуги, горожане прячут бесценные картины подобно испуганным отцам, укрывающим самых красивых дочек. В любом случае, здесь тоже найдется чем поживиться, — прибавил Денон, помахав набросками. — Надо как можно точнее зарисовать подробности боя для моих собратьев-художников. И еще: в Египте я, кажется, пристрастился к запаху сражений.
— Это верно, — понимающе кивнул Наполеон. — Порох и пот — я тоже не знаю лучшего одеколона.
— Вообще-то, сир, я имею в виду другой аромат.
— Аромат?
— Думаю, это запах желания.
Бонапарт изогнул бровь.
— Только не говорите, что вас это возбуждает.
— Я говорю о жажде жизни, сир, о желании милости Божией, о взывании к благосклонности судьбы. Я чувствую, как эти струятся из человеческих пор. Можно ли тут остаться равнодушным?
Наполеон покачал головой: дескать, ох уж эти художники.
— Поосторожнее с вашим носом, он вас до добра не доведет.
— И к тому же это такая великая честь — озирать безымянные, девственные поля, прежде чем мой император дарует им бессмертие.
За ближайшим холмом разорвался снаряд. В воздух взметнулись туча снега и черный фонтан земли вперемешку с растерзанными телами гренадеров. Ожидая, пока рассеется ударная волна, Бонапарт переменил ход мыслей.
— В последнее время, — вздохнул он, — я часто подумываю о так называемом бессмертии.
— О чем вы, сир?
Император остановился напротив израненного шрапнелью креста и вздохнул.
— Вы, разумеется, в курсе моих небольших романов на стороне?
Художник неопределенно кивнул.
— Ну…
— Бросьте. — Со времен египетской кампании у Наполеона было по меньшей мере с десяток любовниц — фрейлин, актрис и секретарш, хотя, по правде сказать, кое с кем из них он даже и не связался бы, если бы не сознание монаршего долга; в конце концов, что такое разрядка единственного маленького орудия по сравнению с оргазмом тысячи пушек? — Вы наверняка наслышаны о мадемуазель Валевской?
— Это та, которая… Кажется…
— Полька и патриотка. Блондинка с голубыми глазами. Любительница музыки.
— Вроде бы припоминаю.
— Она обожает читать и может подолгу цитировать классиков.
— Изрядный и благородный талант.
— И при этом… — Бонапарт смотрел на Денона сквозь пелену снега. — Знаете, как она выразилась об Александре Македонском, когда я упомянул его имя?
Собеседник пожал плечами.
— Назвала его величайшим римским генералом. Более знаменитым, нежели Юлий Цезарь, так она сказала. Представляете?
Художник из вежливости вступился:
— Вы же понимаете, она в столь юных летах…
— Ей двадцать. Александр в этом возрасте взошел на трон. Завоеватель Фракии, Египта, Персии, Месопотамии… Величайший полководец, какого видел мир, — с усилием прибавил Наполеон. — И вот находится леди из католической женской школы, даже не знающая толком, кто он такой.
— Это было две тысячи лет назад.
— Да, минуло много веков. Но как же тогда человеку выжить? Для вечности, я имею в виду? Что для этого нужно?
Денон беспомощно развел руками.
— На свете даже теперь наверняка существуют люди, ни разу не слыхавшие моего имени. Может быть, и в самом Париже.
— Разве что в доме умалишенных.
Бонапарт отвернулся. Снежная завеса заметно сгущалась.
— Нет, — произнес он и покачал головой. — Вы же знаете, был и другой Наполеон. Первенец моей матери. Неразумное дитя, не больше того. Ему досталась жизнь бабочки-однодневки…
У них над головами просвистел снаряд.
— Меня уже долгие годы терзает мысль о его существовании. О его не-существовании. В сущности, я присвоил чужое имя.
Император говорил, почти не разжимая губ, выпуская едва заметные струйки пара.
— Вы задаетесь вопросом, — предположил Денон, — имеет ли смысл стремиться к славе? И есть ли жизнь за порогом смерти.
Наполеон страдальчески посмотрел на собеседника.
— Я задаюсь вопросом, — тоскливо промолвил он в клубах налетевшей метели, — нужно ли мне завоевывать мир.
На следующий день император брел по полю сражения, усеянному телами людей, конскими трупами и дурными предчувствиями. Да, это была победа, еще одна среди многих, но почему-то с ужасно зловещим привкусом. Повсюду темнела кровь, заснеженное поле совершенно побагровело, покрывшись останками сорока тысяч убитых французов и русских, однако Наполеон отчего-то не ощущал привычного упоения славой и своей блистательной судьбой. Не то чтобы он предчувствовал приближение опасности: император по-прежнему разъезжал под ураганом шрапнели практически налегке, прикрываясь от гибели одним лишь кашемировым сюртуком… Дело в другом. Армия постепенно утрачивала строгую дисциплину, управление растущей как на дрожжах империей истощало ресурсы, враги проворно множились, как и отнюдь не приличные божеству телесные недуги (прерывистый пульс, легочная гиперемия, нервические высыпания на коже, тики, головокружение, мигрени, приступы гастрита, жестокие судороги, боль при мочеиспускании, запоры и геморрой), но самое неприятное — Жозефине предстояло произвести на свет наследника. Наблюдая тяжелое зрелище (жирные вороны, покрытые коростой засохшей крови, выбирали куски мяса среди походного снаряжения и пушечных ядер), ища хоть какого-то утешения, Наполеон обратился к мыслям о знаменательной ночи внутри Великой пирамиды; с тех пор не прошло и восьми лет, но воспоминания уже почему-то подернулись пеленой, так что было уже и не разобрать, где явь, а где вымысел.
— А, — бросил он, едва взглянув на нее, — явилась наконец.
Наполеон сидел в окружении бронзовых сфинксов за гигантским письменным столом у себя в кабинете, расположенном в замке Фонтенбло, в тридцати пяти милях к юго-востоку от Парижа, и делал вид, будто пишет заметки по случаю недавно ратифицированного Шенбруннского договора, хотя на самом деле всеми силами пытался изобразить холодность.
— Я торопилась как могла, — промолвила Жозефина.
— И все-таки опоздала, — заметил он, выводя на бумаге лишенные смысла слова.
— Но я только что получила вашу записку… Не успела даже переодеться…
— Сколько же? Месяцев пять? Пять месяцев мы не виделись?
Она не ответила.
— После всех этих битв и переговоров, — произнес он, впервые подняв глаза, — могу я по крайней мере рассчитывать, что супруга встретит меня объятиями?
— Но я же… — Она растерялась. Мерцающее платье, жалкое лицо. — Я только что получила вашу…
— Ну да, конечно, это я уже слышал. — Наполеон вздохнул. — И все-таки сомневаюсь, очень сомневаюсь…
Жозефина потупила взор.
— В чем именно?
— Сомневаюсь, правда ли мы с тобой…
Еще не дослушав, она отпрянула, будто от удара, и болезненно сморщилась.
Наполеон запнулся. Язык у него онемел, а в сердце совсем не осталось решимости.
«Проклятье! — подумал он. — Да что со мной такое?»
Тут Жозефина достала из рукава носовой платок, и Бонапарт мысленно выругался. Вот уже несколько месяцев, если не лет, он постепенно готовил себя к этому разговору. Вымораживал свое сердце. А теперь, когда дошло до дела, лишний раз поддался пошлой сентиментальности.
Жозефина что-то пролепетала.
— Чего тебе? — рявкнул он.
Она утерла слезу.
— Даже не знаю…
— Что?
— Не знаю, что еще я могла бы сделать.
— Тебе перечислить подробно?
Жозефина сглотнула.
— Я вас почти не вижу. Мы почти не бываем вместе…
— Ах да, во всем виноваты мои разъезды! — Он чуть не расхохотался ей в лицо. — Может быть, ты вообразила, будто бы мне приятно покидать Францию? Ради бесчисленных войн и сражений?
Молчание.
— По-твоему, я не должен защищать собственную страну? Ты этого хочешь?
— Я вовсе… — прошептала она, не поднимая взгляда.
— Что?
— Не это имела в виду.
— Ну, разумеется.
Жозефина задрожала как лист и громко сглотнула.
— Мне все известно.
— Известно?
— Я знаю… достаточно.
Тут он поморщился: что несет эта глупая бабенка?
— Ну и что же ты знаешь?
— Есть… кое-кто еще.
— Кое-кто?
Она горестно шмыгнула носом.
— Мне известно, кем заняты ваши мысли.
На миг император лишился дара речи.
«„Красный человек“! — пронеслось у него в голове. — Неужели он самый? Но кто ей мог рассказать? — Его сердце нещадно забилось. — Господи! Если она прознала о наших последних встречах…»
Это происходило в замке Финкенштейн и в Шенбруннском дворце, тяжкими бессонными ночами, после особенно серьезного истощения сил. Пророк под маской являлся внезапно, без предупреждения. Чтобы прочесть очередную высокопарную лекцию о нравственных законах. Правда, теперь уже не было никаких прогулок по улицам или визитов в прошлое. Наполеон с трудом вспоминал хоть какие-то подробности, когда, вздрогнув, просыпался в собственном кресле, как поутру перед коронацией; смутные обрывки ускользали от мысленного взора подобно давно забытым грезам.
— Кто тебе рассказал? — воскликнул он, понимая, что ранит жену в самое сердце. — Я спрашиваю, кто тебе рассказал?
Жозефина отвернулась, по ее лицу текли слезы.
Император поднялся с места, кипя от ярости.
— Что ты слышала, женщина? — прошипел он, шагая к ней из-за стола. — Что именно? Сейчас же выкладывай!
Она дерзко расправила плечи, разумеется, не понимая всей глубины его отчаяния.
— И что теперь? Думаешь, я сошел с ума? Верно? Что они там наплели? Признавайся! — закричал Наполеон, едва удерживаясь, чтобы не схватить ее за горло.
Жозефина мучительно выдавила:
— Говорят…
— Продолжай! — Он почти надвинулся на нее.
— Говорят… — Несчастная на миг покосилась на своего мужа. Губы ее дрожали. — Ну, говорят…
— Дальше!
— …что она полька.
Наполеон окаменел на месте.
— Она?
Жозефина опять отвернулась, не в силах выносить этот разговор.
— И по слухам, их было много… — хриплым шепотом продолжала она. — Говорят, вы думаете жениться…
Бонапарт заморгал.
— Она… — повторил он, пытаясь унять биение сердца.
Так вот в чем дело. Эти походы на сторону, нелепые, короткие романы… Необходимость найти жену, способную родить наследника. Как раз об этом Наполеон и хотел сегодня потолковать…
— А, — облегченно протянул он. — Ну… — и развернулся обратно к письменному столу.
Жозефина что-то пробормотала.
— Что еще? — гаркнул он, даже не оглянувшись.
— Значит, это правда?
Возвращаясь, Наполеон погладил сфинкса по голове. А потом посмотрел на глупое, растрепанное существо, свою супругу, презирая ее постылые чувства.
— Иди отдохни, женщина. Ты ужасно выглядишь.
Жозефина не тронулась с места.
— Да что такое? Не видишь, я занят!
Он бросил рассеянный взгляд на свои бумаги и не поднимал головы, пока не уверился, что жена ушла.
В ту ночь император полусидел на постели под балдахином из полосатой военной материи, составляя приказ верному шпиону, полковнику Иву-Винсенту Бутэну.
«Для вас есть новая миссия…»
Тут заскрипела дверная ручка.
«В Египте я повстречал одного человека…»
И снова — ручка. Это, конечно же, Жозефина. Хочет попасть в смежную спальню.
«Это верховный жрец, пророк и мистик, чье существование кое-кто пытается отрицать…»
Однако дверь была запечатана до ее прихода. Жозефина об этом не знала.
«Человек этот мог последовать за мной…»
Она продолжала дергать за ручку. Наполеон вернулся к своим запискам.
«Необходимо найти его или хотя бы собрать сведения…»
И снова этот шум. Затем ручку оставили в покое. За дверью повисло молчание.
«В ваше распоряжение будет предоставлено все, что потребуется…»
В коридоре послышались тихие всхлипы. Поняла наконец. Вот и нет нужды объясняться.
«Дело это высочайшей важности…»
— Кто вы? — потребовал ответа Наполеон, не вставая с походной кровати.
Был поздний вечер второго июля тысяча восемьсот двенадцатого года. Войска стояли под Вильнюсом. Император страдал от гриппа в хлопающей на ветру палатке; он только что пересек российскую границу на пути к Москве и совершенно не удивился (напротив, он даже грезил об этом в ночных кошмарах), когда пророк под маской решил материализоваться в пятый раз.
— Откуда вы?
— Нет, откуда вы? — усмехнулся «красный человек».
— Не понимаю, к чему эти речи? — Наполеон, так и не дождавшийся ответа от полковника Бутэна, не получив из Египта ни единой строчки, силился сосредоточиться. — Как ваше имя?
— Вы знаете, кто я.
— Имя! То, которое вы называли внутри Великой пирамиды!
— Разве я называл?
— Отвечайте сейчас же, иначе… иначе… — Бонапарт попытался нащупать саблю. — Я зарублю вас на месте.
Пророк под маской осклабился.
— Восстань, о великий Махди, и рассеки меня своим лезвием. Увидишь, будет ли польза.
И он вызывающе скрестил на груди руки.
В испуге и смущении Наполеон проглотил пастилку от кашля. Нет, со времен Великой пирамиды таинственный гость определенно переменился. Не таков он был и в Тюильри, и даже в Шенбруннском дворце. На сей раз «красный человек» растерял остатки терпения, отбросил всяческую учтивость и сочувствие и даже не скрывал своего презрения.
— Что… что вы имеете в виду? — Ладонь императора задрожала над бронзовой рукоятью сабли. — Что я не могу причинить вам вред?
— Напротив. Кажется, это вы у нас неуязвимы, о Махди?
— И для чего это странное обращение? Почему вы меня так называете?
— Разве не в ваших силах уничтожить врага одной лишь силой взгляда? Остановить летящие ядра мановением руки?
— Я никогда не заявлял ничего подобного!
— Тогда к чему вы затеяли эту безумную кампанию?
— Почему безумную? О чем, вообще, разговор?
— Сколько людей вы теряете?
«Шесть тысяч в день, — пронеслось в голове императора. — Пушечное мясо под страшным соусом из дождя и пота…»
— Да какая разница?
Глаза пророка гневно сверкнули.
— Так вы не усвоили ни одного урока! Сколько же можно ждать?
— Ждать чего?
— Не вы ли уверяли меня в ночь перед коронацией, будто бы понимаете и предвидите все опасности? Когда же вы образумитесь?
— Но я уже образумился! И еще как! Куда вы смотрели?
Он даже не знал, с чего начать. Во-первых, Наполеон все-таки расторг свой брак с Жозефиной. И чуть ли не в тот же день женился на миловидной австрийской принцессе Марии-Луизе, восемнадцати лет от роду. Наконец обзавелся законным наследником, Наполеоном Вторым. Естественно вжился в роль нежного отца, окружив своего первенца неусыпной заботой и осыпав щедрыми подарками, каждый день повторяя себе, что только любовь имеет значение, а тщеславные помыслы приносят одни лишь муки, и даже почти научился предчувствовать приближение «красного человека».
— Образумились? — Гость рассмеялся. — Странное заявление! Мы встретились во время похода на Москву, и вы еще смеете толковать о каких-то переменах?
— На это были причины! В этот раз обстоятельства выше меня!
— Вы поддались на провокацию царя Александра, решив одержать над ним верх.
— Он сам отступил от нашего договора, открыв страну для торговли с Британией. Если бы я не вмешался, Европе грозила бы катастрофа.
— Вы совершенно уверены, что сражаетесь против русского Александра? Или, может, бросаете вызов его знаменитому тезке, Македонскому?
Наполеон задохнулся:
— В каком смысле?
— Семейное счастье, согласие в доме, простые человеческие заботы и радости — как далеко им до страниц учебников истории, вы согласны?
— Думаете, я делаю все это ради одной только славы?
— Слава, — процедил «красный человек». — На поле или на сцене.
Бонапарта передернуло от озноба.
— По-вашему, я не смогу победить? Вот отчего весь этот шум? Ну так позвольте сказать… — Он судорожно искал убедительные слова. — Я никогда и ни в чем не был так уверен, как сейчас. Российская империя падет от единственного удара, нанесенного прямо в сердце. Ее дни сочтены.
Пророк под маской хранил ледяное молчание.
— Что же вы не отвечаете? — Наполеона затрясло по-настоящему. — Я намерен объединить Европу в империю разума, история не видела более благородной цели. Я дам крепостным свободу, учрежу единый закон для всех и встану во главе наций, я стану первым, точь-в-точь как вы предсказали в гостинице «Кадран блё»!
«Красный человек» смотрел на него во все глаза.
— Не понимаю! В Египте вы утверждали, что я буду править целым континентом! Вы же сами указали мне жизненный путь! И что теперь? Оказывается, все это были метафоры?
— Скоро и ваше имя станет метафорой, — насмешливо протянул пророк под маской. — Идеалом, предостережением, символом настоящей трагедии. А ваше бренное тело останется бренным. Только скромные люди уносят собственные имена с собой в могилу.
Бонапарт невольно поймал на лету лакомый кусочек.
— Значит, по крайней мере имя… Хотите сказать, что оно переживет века?
«Красный человек» продолжал буравить его взглядом.
— Меня будут почитать? Поклоняться?
Таинственный гость смотрел на него, словно не веря своим глазам.
— Вы что, язык проглотили? Желаете, чтобы я начал говорить сам с собой?
Наконец из-под маски блеснула хищная ухмылка.
— А разве когда-нибудь было иначе, о Махди?
Не выдержав обжигающего взора, Наполеон беспомощно потупился. Потом собрался с силами, вскинул голову…
Но «красный человек» уже исчез подобно сказочному джинну.
Десять недель спустя Бонапарт поднялся на вершину Поклонной горы, чтобы обозреть луковичные купола и позолоченные шпили Москвы, сияющей на солнце, словно шкатулка с драгоценностями. Со дней, пережитых в Египте, императору не доводилось испытывать такого довольства собой.
— Взгляните, Дюрок,[66] — произнес он, едва удерживаясь, чтобы не подмигнуть. — Москва расстилается у меня под ногами, как однажды стелился Каир.
— Точно так, сир, — подтвердил генерал.
— А он еще пытался меня уверить, будто бы это невозможно. Представляете?
— Кто, сир?
Однако Наполеон, по примеру «красного человека», многозначительно промолчал. Затем он пришпорил коня и поскакал по пустынному городу навстречу ослепительно великолепному Кремлю.
На следующую ночь поджигатели черными демонами сновали по улицам, и звездное небо закрыли библейские столпы дыма и пламени. Четыре пятых огромного города обратились в пепел. Наблюдая из дворцового окна за пожаром (как некогда, на совсем иной ступени своей карьеры, он любовался мерцанием огня и ярких искр над Каиром), император почувствовал себя маленьким, одиноким и уязвимым, словно восковая кукла.
Тремя днями позже, прикрывая лицо платком, он пробирался сквозь настоящее столпотворение. Повсюду сновали мародеры, сгребающие награбленное, наемная солдатня, ухмыляющиеся узники, выпущенные из тюрем, а между ними бродила, разыскивая корм, беглая скотина. И вдруг, обогнув дымящиеся руины воспитательного дома, Бонапарт краем глаза увидел нечто необычайное: фигура в красных одеждах юркнула за почернелую печь для обжига.
— Что с вами, сир? — спросил один из гвардейцев.
Однако Наполеона, завидевшего добычу, было уже не остановить. Он направил коня прямо через горелые балки. Фигура метнулась в сторону багровым всплеском. Император окликнул неизвестного. Тот ускорил бег. Наполеон заскрипел зубами и сделал ложный выпад. Словно прочитав его мысли, гвардейцы устремились вперед, настигли незнакомца и вскоре окружили его на развалинах православной церкви. Здесь, у порушенного алтаря, Бонапарт наконец догнал преследуемого. Тот оказался шустрым сумасшедшим очень плотной комплекции в краденом плаще. Полоумный чем-то напомнил Наполеону его самого, только с увядшим умом, хотя и более крепким телом.
— Задержать его, сир? — спросил гвардеец.
— Нет… не надо… — рассеянно обронил император. — Я обознался, принял его… за другого.
Еще четыре недели спустя, когда на черные руины с небес опустилась первая снежинка, Наполеон, подгоняемый страхом окончательно потерять политический вес и здоровье, отдал исторический приказ о тысячемильном отступлении. Под крики воронья и волчий вой, отбиваясь от казаков, влача за собой караваны телег, груженных добычей, Grande Armee неровно тянулась по выжженным и разграбленным селам. Настала пора морозных вьюг; люди и лошади погибали сотнями тысяч. Теперь уже «красный человек» мерещился Наполеону повсюду: то его воины, обокрав московские театры, облачились в причудливые багровые костюмы; то какой-то несчастный, чтобы согреться, обвернулся внутренностями закланных лошадей и весь покрылся кровавой коркой; то крестьяне-варвары изловили его лазутчиков и вздернули на березах, пробив им гвоздями лбы и вырвав глаза при помощи штопоров…
Укрывшись на чердаке мучного склада под речкой Березиной, страдавший от жара император проснулся от адского хохота и, с огромным трудом открыв беленые ставни, увидел безумную картину, похожую на порождение горячечного кошмара. «Красный человек», словно буйнопомешанный, резво скакал у костра, взметая снег. Вокруг, жутко скалясь и попивая из котелков горячую конскую кровь, гоготали солдаты. Но вот один из них обрядился в шкуру волка, и Бонапарт запоздало понял: они всего лишь тешатся любительским представлением, пародией на «Красную Шапочку» Шарля Перро.
За время русской кампании Франция потеряла около миллиона человек, однако в глазах Наполеона это была просто новая ария для его нескончаемой оперы. Так и не получив ответов, которых жаждал, он решил обратиться за советом к Папе Римскому.
Глава одиннадцатая ВРАГ ИМПЕРИИ
В апреле тысяча восемьсот пятьдесят пятого года хитрый, как лис, новый император Франции (а также его супруга Евгения) с почетом был принят в Англии. Он провел четыре чудесных дня в стенах Виндзорского замка, посещал балы, театральные оперы и пышные пиры, вальсировал с королевой Викторией в галерее Ватерлоо, сочувственно выслушал ее сетования на тяжкое бремя всех монархов, обменялся сведениями об ужасной Крымской войне, в которой их государства выступали союзниками, и так очаровал королевскую семью, что при его уходе все дети ревели, будто младенцы.
Нового императора звали Людовик-Наполеон; покойному Наполеону Бонапарту он доводился племянником — единственный законный сын скончался от туберкулеза в возрасте двадцати одного года. Этот коварный и самодовольный политик, наживавшийся на еще вполне осязаемой тайне своего дяди, исхитрился в тысяча восемьсот сорок восьмом году сделаться президентом Французской республики и четырьмя годами позже, подобно Наполеону Третьему, учредить в государстве Вторую империю.
Двадцатого апреля ее величество сопроводила щеголеватого новоиспеченного Наполеона к прославленному чуду британской архитектуры, хрустальному дворцу в Сиднеме. В Египетском зале великие монархи полюбовались маской фараона Рамзеса Третьего, барельефным портретом Александра Македонского, иероглифическими надписями, принадлежащими Тиберию Цезарю, Клеопатре, Птолемею Второму и фараону Сусакиму.
— Я полагаю, — проговорил не в меру игривый император, — среди этого пантеона отыскалось место для блистательной Виктории?
В ответ очарованная венценосная собеседница грациозным жестом указала на фриз, украшенный высокопарной надписью из иероглифов, которая гласила: «На семнадцатом году правления ее величества королевы Виктории силами руководителей, архитекторов, скульпторов и художников был возведен сей дворец с прекрасным садом: здесь тысяча колонн, тысяча статуй, тысяча деревьев, тысяча цветов, тысяча птиц и зверей, тысяча фонтанов и тысяча ваз. Процветания!»
— После чего император обронил фразу, которую королева справедливо сочла весьма загадочной, — рассказывал У. Р. Гамильтон Ринду.
Они находились в просторном отделении британских древностей; когда-то Ринд неутомимо перебирал здесь национальные реликвии, сортировал их, датировал, снабжал ярлыками, сметал с них пыль, будто бы с горного хрусталя, пополняя собрание образцами из подвалов и собственных ценных коллекций.
— И что же он сказал?
— «Как жаль, что дядя не дожил до того дня, когда смог бы прочитать свое имя, начертанное иероглифами. А впрочем, возможно, все-таки дожил и это случилось где-то в Египте».
— Намек на чертог вечности?
— Тут император начал изъясняться расплывчато, а то и сознательно принялся напускать туман. Однако нет никаких сомнений: он намекал на мистическое посещение Бонапартом Великой пирамиды, хотя наверняка и сам не знал подробностей.
— А ее величество? — Ринд задумчиво поднял наконечник копья эпохи неолита. — Как она отреагировала на его слова?
— Ее величество — женщина проницательная и знает: зайца можно выманить только терпением, а не тычками. Поэтому она молча кивнула и не стала задавать вопросов, надеясь, что собеседник сам что-нибудь прибавит.
— Но он этого не сделал?
— К сожалению, нет. Впрочем, если судить по успешности визита императора, в будущем ему еще не раз представится такая возможность. В любом случае, этот разговор еще сильнее разжег интерес королевы к чертогу вечности, усилив ее решимость раскрыть его извечные тайны. Дело вновь обретает срочный характер.
— Но ведь зайца не выманить…
— Да, юноша, я помню свои слова. — Гамильтон прищурился. — Я просто хотел уточнить, не добились ли вы чего-нибудь за эти дни — такого, о чем бы я мог доложить ее величеству?
Ринд посмотрел на реликвии, невесть почему ощутив себя виноватым.
— В последнее время сэр Гарднер мало занимался вопросами археологии.
— Он все еще выезжает в Уэльс?
— Да, и не только. Порой исчезает на несколько дней.
— И увозит с собой путевые журналы?
— Увозит.
Гамильтон кивнул.
— По-прежнему не объясняя причин своих отлучек?
— Он очень… — Шотландец запнулся, подбирая слово. — Неразговорчив.
— Ну а как насчет Египта? Сэр Гарднер еще пытается воодушевить вас на путешествие?
— Он и не прекращал этого делать.
— Случаем, не намекая на то, чтобы составить вам компанию? Возможно, в виде прощальной поездки?
— Пожалуй, нет, но…
— Но?
— Я думаю, это вопрос времени.
В наступившей тишине Ринд буквально кожей почувствовал полный надежды взгляд Гамильтона.
— Пожалуйста, юноша, ведь вы не лишили его иллюзий?
Шотландец помедлил, не желая признаваться в том, что его все сильнее тянет в Египет, и даже не ради зова храмов древности, даже не ради тайн чертога; просто он верил: где-то там его поджидают тайны, величественные и в то же время необычайно сокровенные, завеса которых приподнимется лишь перед истинно взыскующим.
— Знаете, — проговорил молодой человек, не сводя глаз с национальных реликвий, — я прежде смотрел на эти сокровища, эти замковые камни, копейные наконечники, произведения древних пиктов, кельтов и римлян… Смотрел и думал о том, какие они старинные… И долгое время не мог представить себе ничего столь же прекрасного, столь же многозначительного…
Гамильтон продолжал сверлить его взглядом.
— Так вы согласились поехать в Египет? Вы наконец-то согласны последовать по стопам сэра Гарднера и моим собственным?
Ринд помолчал, чтобы подавить внезапно охватившее его чувство поражения.
— Со всем смирением.
— Отличная новость, юноша.
— Но это еще не официально. Понимаете? Прежде чем вообще задуматься об отъезде, мне нужно многое узнать.
— Разумеется, разумеется. Однако по мере вашего приближения к согласию сэр Гарднер сам начнет раскрывать свои секреты. Будьте постоянно начеку.
Ринд кивнул.
— Ибо сейчас уже невозможно предсказать, когда, каким образом и какие сведения вдруг всплывут в разговоре. Сэр Гарднер охотно будет играть с вами в кошки-мышки, дразнить своими фокусами.
Отчего-то шотландец обиделся.
— Я совершенно уверен, что читаю его, словно раскрытую книгу.
Гамильтон усмехнулся.
— Этого он от вас и добивается. Так полагал и сэр Уильям Джелл, когда посылал мальчишку в Египет, однако довольно скоро понял, что заблуждался. Он был буквально раздавлен предательством ученика, его уловками и неискренностью.
Ринду припомнился кабинет Гамильтона, где сэру Гарднеру Уилкинсону посвящалась целая книжная полка.
— Это слова самого Джелла?
— Да, он во все времена оставался верен своей стране и неустанно охотился за секретами чертога, щедро пополняя досье министерства иностранных дел. Мы состояли в переписке в течение многих лет, вплоть до его смерти. — Гамильтон помолчал, о чем-то раздумывая. — Хотите увидеть свидетельства? Взглянуть на досье? На данном этапе вам будет полезно как можно больше узнать о том, с кем приходится иметь дело.
Честно сказать, Ринда не вдохновляла мысль о возвращении в дом Гамильтона; и еще он почему-то не желал выяснять неприглядные вещи о сэре Гарднере. С другой стороны, своими частыми и продолжительными отъездами гостеприимный хозяин вынудил его жаждать новой информации, вдобавок молодой шотландец не мог не признаться: его раздражали недостаток внимания и вечная скрытность этого человека. Ринд понимал: сейчас он готов ухватиться за что угодно — даже за выдумку или злостную сплетню, — лишь бы избавиться от мучительной неясности. Поэтому он вздохнул.
— Ну если только это в моих интересах, — пробормотал Ринд, виновато кладя на место кельтский кремень. — Похоже, у меня нет выбора.
Не прошло и часа, как он уже поднимался по лестнице в сопровождении любопытных кошек.
«Сегодня прибыл новый турист, недавно из Оксфорда, мальчик по имени Гарднер Уилкинсон. Волосы как лен, сверкающие глаза и бронзовая кожа. Обожает красивых леди, плохо разбирается в винах. Говорит, что проделал уже половину великого путешествия».
Джелл аккуратно записывал все частности: содержание разговоров, даты, место действия, впечатления, наблюдения за характером («прилежен, серьезен, честен, прямо-таки сын викария, вступающий в пору расцвета»), даже критические замечания по поводу вкуса юного Уилкинсона («мог бы проявить в одежде чуть больше чувства стиля»). И все это излагалось в напыщенных, но подробных письмах, по большей части адресованных «У. Гамильтону, эск.» через министерство иностранных дел и Общество дилетантов,[67] которые Ринд перелистывал с благоговением, точно бесценные манускрипты.
«Он показал мне стопку своих эскизов, рисунки фараоновых монументов, отправленных в Рим, и я заметил, что его иероглифы превзошли аккуратностью даже „Description de l'Égypte“. Как выяснилось, мальчик очень мало знаком с этой страной, и я сообщил ему о великом внимании к ней римских пап, императоров и прочих, а также напомнил, что Август воздвиг посередине Большого цирка[68] свой личный, вывезенный из Египта обелиск».
В тысяча восемьсот двадцатом году Джелл поселился в Риме, на холме Палатин, на беспорядочно спланированной вилле среди нагромождения предметов искусства, диковин и стонущих книжных полок, ароматов садового жасмина и гелиотропов, постоянно окруженный британскими туристами, которые жевали его виноград, терпеливо слушали, как он бренчит на гитаре, и даже старательно изображали интерес к «пению» его любимых собак.
«Я сказал, что был бы счастлив хоть сегодня отплыть в Египет, когда бы не возраст, не подагра, не денежные затруднения и тому подобное. Но если бы только мне удалось найти молодого человека с хорошим здоровьем и верным глазом — да, это было бы почти то же самое, что путешествовать самому. Уилкинсон усмехнулся в ответ. Он положительно неглуп и способен понять намек».
Насколько сумел разобраться Ринд, автор писем годами искал себе ученика и посланника, так же как Гамильтон отыскал его — только немного в иных условиях. Хотя и явно не уступал геологу в настойчивости.
«Поначалу он отнекивался, говорил о своих обязательствах на родине; я возразил, что мальчика его возраста обычно приходится отговаривать от подобных путешествий, а никак не наоборот; он взялся рассказывать о четырнадцатом драгунском полке, в котором ему предстояло получить чин; я же сказал, что в жизни есть более захватывающие занятия, нежели копание в конском навозе».
Ринд улыбнулся. Удивительно было читать о юности Уилкинсона, о его взглядах до Египта, до знакомства с археологией, до чертога вечности. Оказывается, когда-то он представлял собой более честного и открытого человека, лишенного ореола загадочности; человека, которому только еще предстояло обзавестись невозмутимостью и прочими подобными качествами.
«Он отозвался о Египте как о совершенно чуждой стране, не вызывающей у него ни малейшей охоты плыть за море; я ответил: дескать, в его-то годы опасность лишь придает остроты приключениям, а также упомянул своего старинного друга Генри Солта, британского генерального консула в Каире, который охотно выправит любые необходимые бумаги. И потом предложил мальчику стать его покровителем, каким был Август Цезарь для Элия Галла; чтобы подогреть его амбиции, я напомнил, что резиденция Цезаря некогда располагалась на этом же самом холме, и даже сам в разговоре пытался придать себе сенаторской важности, насколько позволила моя представительная комплекция».
И все-таки кончилось тем, что Уилкинсон так и не дал согласия («Мальчик неисправимо независим»), а вскоре продолжил поездку, отправившись во Флоренцию и Геную.
Насколько понял шотландец, Джелл и думать забыл об этом молодом человеке, занявшись поиском новых рекрутов («найти бы другого мальчика, совершающего великое путешествие, хотя бы и не такого смышленого»), но тут, нежданно-негаданно, Уилкинсон сам нашел его знойным июнем тысяча восемьсот двадцать первого года. То лето Джелл проводил в Неаполе.
«Мальчик только что посетил Везувий и пожелал показать мне свой зонтик, чудесно перелинявший под воздействием вулканических испарений [на этом месте Ринд возликовал, точно встретил старого приятеля]. Он расписывал мне свой восторг по поводу цвета, на что я резонно заметил, дескать, в Египте куда больше красок и сказочных оттенков, а затем посоветовал задуматься, что же на самом деле привело его ко мне. Несомненно, желание быть переубежденным.
„Бренность, мальчик мой!“ — воскликнул я, указав на дымящийся вулкан. В любую минуту проклятая гора могла бы взорваться и погрести нас под потоками лавы. То же самое провозгласили ему помпейские руины. Мальчику следовало бы пользоваться своей юностью, наполняя жизнь чудесами, покуда какая-нибудь катастрофа не обратила его в горстку праха или же возраст — в жалкого дряхлого калеку вроде меня».
Записи последующих дней рассказывали о том, как Джелл, хромая, водил юного Уилкинсона по развалинам, как мало-помалу забирал над ним определенную власть и в Ноле, на месте кончины Августа Цезаря, искусно сплетал сеть из теней великих древних.
«Имеет ли он понятие, спросил я, чем Августа Цезаря так завораживал Египет? А Македонского? А Бонапарта? И сам ответил: величайшей загадкой в мире».
В конце концов Джелл потратил целый месяц на то, чтобы сделать Уилкинсона своим учеником, и весь остаток лета — чтобы наставить его в истории чертога и Египта вообще, изложить новейшие исследования в области расшифровки иероглифов и к тому же, прибегнув к помощи местного падре, преподать основы арабского языка. Каждый шаг Гарднера на пути к цели удостаивался отдельной записи, словно продвижения корабля по заранее намеченному маршруту — в вахтенном журнале.
В разгаре осени восемьсот двадцать первого года Уилкинсон покинул Неаполь и в ноябре прибыл в Александрию.
Из Египта он не отлучался вплоть до лета тысяча восемьсот тридцать третьего года.
Первые из множества писем, собранные в отдельную папку, описывали его благополучный приезд; путь в Каир; неловкие попытки ассимиляции; встречи с Генри Солтом, Османом Эффенди и недоверчивым пашой Мохаммедом Али, а кроме того, содержали бесчисленные заметки социального, политического и просто случайного характера.
«Здешние улицы, кишащие людьми и ослами, — писал юный Уилкинсон знакомым почерком, — настолько узки, что навьюченному верблюду почти не протиснуться».
Но стоило путешественнику отплыть по Нилу, как, по мере углубления в пустыню, письма стали все более редки, запутанны и время от времени — попросту неразборчивы:
«Каждый готов яростно поносить положение женщин [-- --], но мне вспоминаются пьяные зверства англичан, сочетавших насилие с жестокостью [-- -- --]».
Потом наступило время долгих периодов молчания, когда Джелл не находил себе места, опасаясь за здоровье ученика, после чего получал очередную формальную отписку, которая лишь усиливала его разочарование.
«Я был повсюду и нигде. Видел все и ничего не видел. Истощен и в то же время полон сил».
В тысяча восемьсот двадцать восьмом году, опасаясь, что ученик совершил некое открытие, которое нельзя доверять почтовой бумаге, Джелл отослал в Египет обеспокоенное письмо.
«Минуло уже несколько лет, и Цезарь подумывает: не пора ли его эмиссару вернуться в Рим?»
Но Уилкинсон оставлял подобные мольбы без внимания, ссылаясь на то, что ему предстоит еще многое сделать, а взамен весьма скупо делился подробностями своих исследований, ни словом не упоминая чертога.
«От Нила в Вост. пустыню уходит несколько дорог: Мугайаг, эль-Дебба, эль-Мерк, Сиккат эль-Хомар и Вади эль-Гуш. Я прошел одну-две из них, не больше…»
Теперь его послания по обычаю предваряло странное обращение: «О император, великий король среди королей, могущественнейший среди фараонов…»
Адресат поначалу считал сей изысканный оборот неуклюжим знаком привязанности, однако со временем заподозрил неладное.
«Я все думаю об этом Уилкинсоне, — писал он Гамильтону в тысяча восемьсот тридцатом году. — Ему прекрасно известно мое аристократическое происхождение, но с какой стати он продолжает обращаться ко мне, словно к монаршей особе? Что это — тонкий намек на Августа? Или же дело куда серьезнее? Может быть, он прознал о наших связях? О заинтересованности высших кругов? И если Уилкинсон не желает отчитываться передо мной, то перед кем он отчитывается? Что сделалось с мальчиком в Египте? Почему он ведет себя, точно враг империи?»
Джелл так и не получил внятных ответов. Наконец-то отплыв из Египта, Уилкинсон возвратился в Лондон через Геную, явно избегая встречи с наставником в Неаполе. Три года спустя сэр Уильям Джелл там и скончался. Так и не увидев своего ученика после пятнадцати лет ожидания, так и не разгадав секретов чертога вечности.
Уложив последнее письмо в открытую усыпальницу-папку, Ринд испытал глубокую горечь и искреннее сочувствие к этому человеку.
Что же касается заметок Гамильтона, к изучению которых шотландец приступил на следующий день своего пребывания в Болтон-роу, то их отличал лаконичный и прозаический стиль, полный самых разных инициалов и сокращений, — сэр Гарднер, к примеру, обозначался как «Г. У.», а после и вовсе — «У.», — но в целом они представляли собой куда более тонкий разбор перемещений юного Уилкинсона, нежели письма Джелла.
Исходной их точкой стало возвращение археолога из Египта.
«Г. У. прибыв, в Фолкстон. Большой багаж. Ночевка в гостинице „Краб и лобстер“.
Лондон. Снял жилье в „Ориентал-клаб“, долгая прогулка по Гайд-парку.
Визит — Роберт Хей. Обед — жаркое из дичи, Леден-холл-ст.
Кофе, газеты, „Салон сигар“, пляж.
Воскресная служба в соб. Св. Павла, глазел на потолок.
Скачки в Эскоте, нюхал розы.
Примерка у портного, Уордор-ст.
Стрижка и бритье».
Если ранние записи, казалось, велись несколькими разными людьми, то вскорости львиная доля слежки очевидно легла на плечи самого Гамильтона.
«Встреча с У. Г. в „Ориентал-клаб“, представился как през. Кор. геогр. общ-ва, предложил свою помощь, познакомил с издателями».
Похоже, Гамильтон намеревался исподволь войти в доверие к археологу, стать ему, насколько это возможно, полезным, показать себя самым что ни на есть приятным, непритязательным и достойным доверия человеком — из тех, перед кем даже очень разборчивый джентльмен не преминет раскрыть и самые большие секреты, поэтому ни разу не заговаривал о Египте — по крайней мере первое время.
«Г. У. толкует в основном о Лондоне. В ужасе от кислотных туманов, любопытен к локомотивам. С трудом ест пудинг. Сетует на местные сочетания красок. „В Египте даже неискушенный человек проявляет куда больше вкуса“. Носит очки со стеклами, окрашенными хной. Говорит, через них район Сохо напоминает Восточный Каир».
Любые, даже незначительные на первый взгляд мелочи отмечались в записях буквально с математической точностью, чтобы потом подвергнуться исследованию подобно некоему коду, который со временем предстояло расшифровать. Один лишь период с тысяча восемьсот тридцать пятого года по тысяча восемьсот тридцать седьмой занял добрых три папки.
Однако к началу тридцать девятого понемногу стало ясно: завидное терпение Гамильтона иссякает.
«Опять говорил с У. о чудесах Е., предложил редактировать его путевые журналы, ссылаясь на свой богатый опыт».
Возможно, он перегнул палку. Или, напротив, недостаточно старался. Так или иначе, Уилкинсон, сохраняя свою обычную любезность, не позволял себе в разговоре никаких замечаний о Египте, кроме избитых истин, известных любому путешественнику.
«У. сказал, что с близкого расстояния пирамиды выглядят особенно огромными».
«У. говорит, что вода из Нила пригодна для питья и очень освежает».
«У. рассуждал о целебных свойствах пустынного воздуха…»
Единственным исключением стало странное имя «Неопатра», мелькнувшее однажды в подслушанной беседе с Орландо Феликсом, потом еще раз — в приватной беседе с Эдвардом Лейном и, наконец, — в перехваченном письме к французскому минералогу Фредерику Кальо: «Как я понимаю, вы знаете Неопатру, леди, которую я полюбил больше всех, да и М. Денон, по-моему, тоже».
Гамильтон отметил это имя на полях как принадлежащее не реальной особе, но, скорее всего, как закодированное упоминание копей Клеопатры; впрочем, в последнем он был не слишком уверен. Дальнейшие записи содержались в туго перевязанной папке под грифом «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». Не желая притрагиваться к подобным бумагам без разрешения, молодой человек спустился по лестнице и нашел старика сидящим перед старинными напольными часами, как подобало бы отцу, заждавшемуся своего сына.
— Там есть одна палка… — начал молодой человек.
— Разрешаю вам открывать их все, — кивнул Гамильтон.
Вернувшись в кабинет, Ринд со странным беспокойством развязал шнуровку и взломал восковую печать. Из папки хлынул поток документов, самых официальных, какие только ему доводилось видеть, составленных и написанных в высшей степени элегантно и на бумаге самого что ни на есть наилучшего качества. Еще бы, ведь они предназначались не для кого-нибудь, а для королевы Виктории.
Послания содержали дерзкий замысел — пробить защиту известного археолога в то время, когда он менее всего будет готов к атаке, испытать на прочность возведенную им крепостную стену. «Учитывая сложившиеся обстоятельства, — писал Гамильтон, — благородная цель оправдает любые средства». Как без труда убедился молодой читатель, план этот не имел недостатка в громких именах главных игроков.
«5 апреля. Говорил с Г. В. в кл. „Ат.“».
Сокращение «кл. „Ат.“», догадался Ринд, обозначало клуб «Атенеум» на Пэлл-Мэлл, известнейшее место собраний аристократов, членов парламента и знаменитых ученых — среди постоянных посетителей числился и сэр Гарднер. Да, но кто же скрывался под инициалами «Г. В.»?
«8 апреля. Встреча с Г. В. в Апс.-х. Обсуждали стратегию».
«Апс.-х.», сообразил шотландец, это Апсли-хаус, овеянный легендами особняк на Гайд-парк-корнер. Но тогда, вдруг осенило молодого человека, загадочный «Г. В.» был не кем иным, как его прославленным обитателем, герцогом Веллингтоном, героем Ватерлоо, «величайшим мужем страны», по словам королевы Виктории.
Даже теперь, два года спустя после смерти героя, Ринд ощутил благоговейный трепет. А как иначе? Величайший бритт эпохи, герой, герцог осуществил самую блестящую военную победу своего времени. После той великой битвы он был окружен почетом, славой и горячим признанием всей империи — и даже, правда недолго, премьер-министром. В его честь называли фасоны шляп, таверны, улицы, площади, горы, города и, представьте себе, полость внутри Великой пирамиды.
Оправившись от первого изумления, Ринд смекнул, что участие герцога в этой истории вполне закономерно. В конце концов, секреты чертога — пожалуй, единственная собственность Наполеона, ускользнувшая из рук знаменитого героя, который успел приобрести практически все остальное — поваров императора, его возлюбленных, его клинки, знамена, портреты, скульптуры, обувь и походную кровать (на ней он провел немало ночей); подобно драконоубийце, превозносящему величие поверженного чудовища, он с выгодой для себя наживался на легенде о тайне Бонапарта, стараясь приукрасить ее при любой возможности. Было бы странно, если бы герцог не пожелал узнать самую сокровенную тайну своего дракона — возможно, источник его волшебной силы — или остановился бы в достижении «благородной цели».
«20 апр. Г. В. приглашает У. в Апс.-х.».
«27 апр. У. официально принят».
А вот это, подумал Ринд, был очень тонкий ход со стороны Гамильтона. Польщенный честью, Уилкинсон вряд ли бы заподозрил подвох. И хотя он легко расстраивал замыслы Гамильтона и ему подобных, но как устоять перед человеком, победившим Наполеона?
«2 мая, 19.00. У. приехал в Апс.-х.».
Последовавший затем разговор был подробно записан рукой герцога, весьма многословного в своих посланиях, на десяти страницах цветистой прозы.
«Он находился в довольно солнечном расположении духа, сравнимом по яркости разве что с румянцем на его коже. Я лично встретил гостя у двери, помог раздеться; отпустил какую-то шутку; он ответил; мы немного пофехтовали остроумием, словно долгие годы только этим и занимались, покуда я не убедился, что мы едем в одной упряжке, иными словами, возглавляем один и тот же полк, а он не удостоверился в моей честной игре без всяких тайных мотивов. Я показал ему дом…»
Ринду живо представилось, как седовласый герцог (чей нос на знаменитых портретах в профиль напоминал боевой топорик), слегка сутулясь из-за артрита, расхаживает по комнатам, будто заправский куратор, показывая свои восхитительные коллекции: «Мои картины, мои королевские сервизы, собрание знамен и прочих вещей, принадлежавших Наполеону, а также большую фарфоровую модель египетского храма, посвященную Деноном императрице Жозефине. „Изумительно“, — произнес гость, и в глазах его я прочитал ностальгию».
Далее герцог обратил внимание посетителя на железные ставни, установленные в бытность его на посту премьер-министра, когда толпа бесновалась снаружи, требуя избирательных привилегий: «Еще немного, — заметил я, — и мы устроили бы собственную революцию»; а после, в ожидании жаркого, предложил Уилкинсону потешиться бильярдом при свете ламп на рапсовом масле.
«Но тут проклятый инстинкт игрока одержал верх, и только на третьей партии я осознал, что мой партнер безмолвно отсиживается в кресле. „Что может быть хуже проигрыша? — великодушно пошутил я. — Только выигрыш!“»
Ужин подавали в галерее Ватерлоо, на египетском сервизе севрского фарфора, приберегаемом для особо почетных гостей; на нем волшебные зрелища, впервые представавшие Денону сквозь песчаную мглу, приобретали вид картинок, которые молодой археолог находил под жюльеном.
«„Все равно что нечаянно, за поворотом, натолкнуться на старого друга“, — пробормотал гость…»
Потом они удалились в Полосатый кабинет, где наполнили воздух змеящимися струйками сигарного дыма и беседами о египетских приключениях. Когда герцогу наконец показалось, что противник ослабил оборону, он «тут же повел кавалерию в наступление».
«— Любопытно, — сказал я, — много ли там, в Египте, осталось неразгаданных тайн?
— О, без сомнения, им нет числа.
— Вот было бы чудесно, — продолжал я, — открыть что-нибудь воистину потрясающее. Связанное, например, с именем Клеопатры.
— Клеопатра, — ответил он, — совсем недолго жила в Александрии, а этот город утратил львиную долю былой славы.
— Погодите-ка, — возразил я, — однажды в Париже, не помню точно кто, но кто-то упоминал при мне Восточную пустыню… Кажется, Клеопатрины копи? Копи Клеопатры? Или Неопатры? Неопатрины рудники? Что-то в этом роде. Во всяком случае, они должны быть полны изумрудов. А может, еще каких-нибудь чудес?»
Вот когда утопающему в ароматном дыме и молчании Уилкинсону надлежало дрогнуть под неподъемным бременем гражданского долга и доброй воли. Околдованный вошедшим к нему в доверие прославленным воином, он просто обязан был по собственному желанию выдать свои самые драгоценные тайны. Но в ту же секунду, когда он собрался ответить (герцог упомянул об этом со странной долей разочарования), «гость умолк и нахмурился, словно внезапно передумал. Потом очевидно решил заговорить — и снова запнулся, с наморщенным лбом и болью в глазах…».
Так что же на самом деле заставило археолога передумать? Какая черта в характере герцога или подробность его жизни могла смутить Уилкинсона? То ли печально известное высокомерие, то ли презрение к рабочему классу? К простым солдатам? К его верной многострадальной жене? (Говорят, во время венчания герцог пробормотал: «О Юпитер, ну и уродина!»)
Как бы там ни было, Ринд и отдаленно не представлял себе всей глубины разочарования, отчаяния и даже ненависти, обуявших душу Гамильтона после очередной неудачи. Ибо теперь уже герцога Веллингтона — как прежде королеву и его самого — признали недостойным вкусить заветной истины. Ведь было же ясно как день: Гарднер Уилкинсон, выдающийся археолог, почти надумал проговориться в тот вечер в Апсли-хаусе, но вдруг со стуком захлопнул мысленные железные ставни, укрывшись за издевательской ухмылкой.
«— Интерес к изумрудным копям, — промолвил он, — неоправданно завышен».
— Изумрудные копи? — Загорелый «враг империи», вернувшийся после очередной таинственной отлучки, устроился поудобнее в пышном бархатном кресле. — К чему этот вопрос?
Молодой человек посмотрел на Наполеона. Холодными промозглыми вечерами этот ворчливый терьер, купавшийся не реже своего помешанного на чистоте тезки, удостаивался почетного права восседать на коленях сэра Гарднера, обтянутых брюками без единого пятнышка, и получать от хозяина всяческие ласки; время от времени его тянули за острые уши, и пес нежно порыкивал от счастья. Но Ринду было известно еще кое-что: Наполеон служил своего рода эмоциональным барометром и немедленно покидал нагретое место при первых же признаках неудовольствия сэра Гарднера.
— Просто меня удивляет, — сказал шотландец, крутя между пальцами затупившийся карандаш, — почему о них так мало известно.
— Вообще-то, туда очень далеко и неудобно добираться.
— От Нила, но не от Касра, откуда столько людей отправляется в Индию.
— Пройдя с караваном из самого Каира, путешественники уже не в состоянии делать лишний крюк.
— А как же неизбежные проволочки в порту? — не отступал Ринд. — В такое время любое развлечение покажется манной небесной.
Сэр Гарднер пожал плечами.
— Об этом лучше спросить абабдехов, хозяев земли. Тамошние проводники за версту чуют запах бакшиша и нипочем не упустили бы своего.
Ринд покосился на пса: тот и ухом не повел.
— Значит, все дело в моей восторженности. Вот бы взглянуть на эти руины, на хижины древних рудокопов, спуститься в шахты, где они проливали пот… Неодолимый соблазн для людей вроде меня.
Лицо сэра Гарднера просветлело.
— Ах да, рудокопы, — одобрительно кивнул он. — Конечно же, с этой точки зрения интерес к изумрудным копям неоправданно низок.
Совершенно сбитый с толку, в страхе выдать себя невольным жестом, Ринд беспомощно перевел глаза на безмятежную собаку и обратно на ее хозяина.
— Погодите… — Тут он закашлялся, не уверенный даже в том, что правильно расслышал последнюю фразу. — Раньше вы утверждали совсем другое, сэр Гарднер…
— Другое? А разве я утверждал? Когда?
— В ваших работах. В книгах. По-моему, вы писали, что интерес к изумрудным копям неоправданно завышен.
Археолог фыркнул.
— Мои книги годятся только для широких масс, вы-то должны понимать. Это для тех, кому Египет любопытен лишь в рамках нашего Хрустального дворца. Но люди, умеющие видеть и ценить даже мелкие подробности, откроют для себя в копях Клеопатры немало восхитительного. — С этими словами он притянул Наполеона поближе к себе. — Вам ведь уже известно, как трепетно я привязан к древним египтянам? Я имею в виду не росписи на стенах, а настоящих людей?
— Ну… да, разумеется.
Голос сэра Гарднера заметно потеплел:
— Все исторические сведения говорят о том, что этот народ превосходил остальные в отношении культурной жизни; невозможно даже предположить, чтобы он черпал удовольствие в бездумной жестокости. Это были славные люди, жившие в славное время и мало чем отличавшиеся от нас. Они молились своим богам, покупали вино в бутылках, считали, что год состоит из двенадцати месяцев, любили музыку, шутов и особенно своих домашних животных… — Он ласково потрепал Наполеона за ухо. — И вместе с тем их общество, как и любое другое, делилось на касты, к низшей из которых, судя по всему, относились рудокопы.
Археолог немного помолчал и снова принялся гладить собаку.
— В египетских документах они вообще не упоминаются — видимо, из чувства стыда. Единственное описание их быта мы находим у Диодора,[69] и читать его крайне неприятно. Рудокопами становились, как правило, или военнопленные, или преступники, обвиненные в бунте, — причем зачастую на основании злобного навета. Закованные в кандалы, они должны были трудиться без отдыха, днем и ночью, под неусыпным наблюдением надзирателей — большей частью солдат-варваров, не знавших местного языка и не имевших понятия о милосердии. И если бы работали только мужчины! Но нет, бывало так, что на одной цепи оказывались целые семьи; бесчеловечное отношение уравнивало юных и старцев, инвалидов и даже беременных женщин. Нагие, со светильниками, привязанными к головам, страдая от нестерпимой духоты, от ударов бичей и дубинок, рудокопы буквально вгрызались в породу, а при малейшем подозрении в воровстве их нещадно пороли. Одни беспрерывные муки, без надежды на утешение после смерти… — Сэр Гарднер почти виновато взглянул на собеседника. — Знаете, я бывал там несколько раз, на этих самых копях Клеопатры. Меня туда словно магнитом тянуло.
Молодой шотландец кивнул.
— И что же… что вы нашли?
— Лабиринт извилистых шахт. Старые терракотовые светильники, все еще лежавшие на полу, корзины из пальмовых листьев, потрепанные пеньковые веревки. В некоторых местах потолок обрушен, на стенах — глубокие царапины от инструментов. Я видел огромную пещеру, всю почерневшую от дыма факелов. Но там совершенно нельзя дышать: вся эта пыль, ужасная влажность и запах пота… Невыносимые условия. Мне пришлось уйти, отступить. Думаю, теперь-то вы согласитесь: копи — не самое привлекательное место для путешественника. — Он покачал головой, словно стряхивая торжественно-печальное настроение. — А впрочем, я просто уверен, что вам, когда вы туда наконец попадете, будет чем утолить свое любопытство.
— Не сомневаюсь, — промолвил Ринд, боясь поверить в долгожданную возможность удачи. — Но что же такого особенного я там обнаружу?
— Мальчик мой, — удивленно поднял брови собеседник, — я же вам только что рассказал. Или вас вдруг перестали занимать старинные светильники и корзины?
Ринд выдавил усмешку.
— Сэр Гарднер… Вы же сами знаете ответ. Просто… — Он покрутил карандаш. — Вы видели столько великих чудес, что меня удивляет, чем это может быть интересно для вас.
— Человеческий взгляд на вещи, мой мальчик. Разве это не ваш конек?
— Ну да, разумеется.
— Но только не мой, вы хотите сказать? А я, значит, бессердечный и черствый старик?
— Тот, кто так любит свою собаку, — ответил Ринд, покосившись на Наполеона, — не может не иметь сердца.
— Это уж точно! — рассмеялся сэр Гарднер и потрепал терьера за холку. — Чистая правда. А знаете, что удивляет меня? И даже радует? Кажется, вы впервые не возразили на мое предложение отправиться в Египет.
— Возможно, я просто устал возражать.
— И наконец решились? Пожалуйста, скажите, что это так.
— Пожалуй, — начал молодой человек, вспомнив слова Гамильтона, — я еще подумаю.
— Только представьте: я мог бы стать вашим Августом, а вы — моим Элием Галлом.
— Если речь о деньгах, то я их не приму.
— Деньги? Вздор. При чем здесь деньги? Это же ради вашей книги. И главное, здоровья.
— А как насчет вашего собственного здоровья? — Ринд не любил, когда затрагивали тему его болезни. — С тех пор как вы вернулись из Уэльса, только и сетуете на недостаток впечатлений. Хотите стать моим провожатым?
На лице археолога появилось странное выражение.
— Я бы с радостью, — произнес он, — но у меня здесь дела.
— Да ведь у вас еще меньше причин отказываться. И туристический путеводитель наверняка нужно время от времени обновлять?
— Время от времени.
— И Элий Галл будет счастлив странствовать в обществе своего императора.
— Конечно-конечно, я бы с огромным удовольствием.
— Тогда почему вы отпираетесь?
— Отпираюсь?
— Ну да. Какая у вас может быть отговорка?
Внезапно Наполеон метнулся прочь с колен хозяина и лег на коврик у камина. Сэр Гарднер едва заметил обиженный взгляд своего любимца.
— Видите ли… Я уже говорил, что у меня тоже есть сердце, верно?
Ринд непонимающе пожал плечами.
— Так вот, я уже давно собирался вам сказать… Насчет моих дел, обязательств… моих отлучек в Уэльс. — Археолог вдруг встал, подошел к камину и бесцельно разворошил угли. — Бог знает, что вы могли вообразить, — нет, правда, как это глупо… — Он открыл было рот для объяснений, но оборвал себя на полуслове. — Да нет, серьезно. — Сэр Гарднер вздохнул. — Даже не знаю, нелепость какая-то… — Потыкав дрова кочергой, он повернулся, взглянул собеседнику прямо в глаза и целых десять секунд не произносил ни слова.
Молодой человек уже и не знал, куда смотреть, когда наконец услышал:
— Вообще-то, я добиваюсь внимания одной леди… — Даже в мерцающем свете камина было заметно, как сэр Гарднер залился краской. — Леди, вы понимаете?
— А… Ну да, — только и вымолвил потрясенный Ринд.
Хозяин дома вновь пошевелил дрова и рассеянно разворошил тлеющие угли.
— Это мисс Каролина Лукас. Дочь коннозаводчика из Уэльса. Тридцати трех лет от роду. У этой восхитительной девушки вольный нрав, необычайная чуткость к людям и самый утонченный вкус. Скоро она опять наведается в Лондон, и я был бы счастлив пригласить ее на обед.
У Ринда возникло чувство, будто хозяин спрашивает у него разрешения.
— Сэр Гарднер… — Он растерялся, подыскивая нужные слова. — Сочту за честь, если вы нас познакомите.
Археолог отвернулся к растревоженному огню.
— Она для меня очень много значит. Вернувшись из Египта, я столько лет искал такую девушку.
— Конечно, сэр Гарднер. Очень рад за вас… То есть могу ли я чем-то помочь?
Однако собеседник вешал кочергу на крюк и явно пропустил его слова мимо ушей, думая лишь о том, чтобы вернуть себе самообладание.
— Ну ладно, — сказал он, опускаясь обратно в кресло. — О чем, бишь, мы говорили? На чем остановились?
— Э-э-э… Кажется, на изумрудах.
— Точно. Изумрудные копи. Клеопатра… — Сэр Гарднер не то жалобно, не то иронично улыбнулся. — Как же мы ухитрились отвлечься от подобной темы?
В ответ Наполеон заворчал на коврике.
Между тем беседа быстро поменяла русло, и нельзя сказать, чтобы Ринда это слишком опечалило. Неожиданное откровение заставило его прозреть: оказывается, далеко не за каждой крепостной стеной скрываются тайны мирового значения, и в мире, пожалуй, найдется не много кладов, которые охранялись бы так же ревностно, как личные переживания британского джентльмена. Оставалось гадать: что, если и прочие странности, умолчания и туманные высказывания сэра Гарднера объясняются столь же невинными причинами? Вдруг и запретные дневники содержат всего лишь личные записи, а то и любовные письма? Разве этого не достаточно, чтобы беречь их пуще глаза?
Если до сих пор молодой шотландец поочередно сдавал позиции: проникся величием Египта, поддался чарам рассказов Вивана Денона, подпал под очарование легенды о чертоге и даже начал задумываться, не на самом ли деле жрецы древней цивилизации обладали сверхъестественной силой обожествлять людей, — то теперь усомнился.
А если в конце концов история сведется к банальным сердечным секретам?
Но нет, опомнился он, такое просто невозможно. Это было бы еще фантастичнее всех прежних предположений. Уж лучше поверить словам У. Р. Гамильтона. Как же иначе? Ведь этот человек бился над разгадкой тайны много дольше, точнее, в два раза дольше, чем Ринд вообще жил на свете. Даже если оставить в стороне все прочие доказательства, косвенные и не очень, богатый опыт Гамильтона сам по себе представлял крепостную стену, о которую вот уже столько времени безнадежно разбивались валы юношеского сарказма, излучаемого знатоком национальных реликвий.
И тем не менее в душе молодого человека уже зрела догадка, связанная с именем Неопатры и неожиданным признанием сэра Гарднера. Во всей этой истории непременно должна быть замешана женщина.
Глава двенадцатая AQUILA RAPAX
Девятнадцатого января тысяча восемьсот тринадцатого года, вооружившись небольшим арсеналом из теорий заговоров и религиозных тайн, Наполеон встретился с Папой Пием Седьмым. Бонапарт пребывал в скверном расположении духа, что объяснялось недавним унизительным отступлением из Москвы. К этому времени понтифик вот уже более трех лет содержался под французским надзором.
— Ваше святейшество, вы, наверное, слышали о святом Малахии?
— Святой Малахия? — переспросил Пий, стоя посреди натопленных папских апартаментов и сжимая за спиной четки. — Вы имеете в виду архиепископа двенадцатого столетия из Армы? Разумеется, сын мой, а почему вы спрашиваете?
— Насколько мне известно, ему дано было узреть всех будущих Пап в особом видении свыше, которое он записал и представил Папе Иннокентию Второму.
Губы понтифика растянулись в улыбке.
— Похоже, сын мой, вы получили доступ к моим секретным архивам.
Наполеон ответил улыбкой на улыбку:
— Короткие записки святого Малахии до сих пор сохраняли с завидной аккуратностью. Поразительной аккуратностью. Правда, ваше святейшество, для вас он подобрал довольно странное определение: «Aquila Rapax», «хищный орел».
— Боюсь, это так, — кивнул Пий.
Наполеон притворился смущенным.
— Надо признаться, по-моему, эти слова не слишком подходят к случаю. Хищный орел? Алчный орел? Вот уж совсем не похоже на правду, верно? — Тут Бонапарт задумчиво изогнул бровь. — Разве что, разумеется… Разве что иметь в виду «орел добычелюбивый», а? Как вам кажется? Разве что это намек на пылкую страсть к произведениям искусства, которые вы готовы добывать любыми средствами?
Он сверкнул глазами, однако понтифик не изменил своей нестерпимо кроткой улыбке мученика — той самой, с которой не расставался с тех пор, как его, словно простого приходского кюре, вызвали на коронацию. Стоически обходительной, героически снисходительной улыбке в духе «меня ничем не проймешь». Девять лет назад ее одной хватило, чтобы всецело разоружить Наполеона.
Однако после ночного визита «красного человека» в замке Финкенштейн в сердце императора начали прорастать зерна подозрения, что и Папа замешан во всей этой странной истории. Узнав об активных раскопках в Риме, предпринятых церковью (скованные цепями осужденные расчищали путь к старинным монументам, копая под храмами, обыскивая древние подземные галереи), Наполеон испугался, не охотится ли Пий за фрагментами «Эгиптики» или хроник Элия Галла либо за другим утерянным артефактом, который мог привести к чертогу, а потому немедля ринулся в наступление.
В июле тысяча восемьсот девятого года французские войска взяли с боем Квиринал, силой захватили понтифика и увезли его в Савону, где он содержался в заточении в бывшем монастыре, покуда не был переведен в Фонтенбло. Обезвредив таким образом главного подозреваемого, Бонапарт начал собственные обширные раскопки в окрестностях Рима. Пост управляющего он предложил Вивану Денону; художник отказался, сославшись на занятость. Новые надзиратели, получившие строжайший наказ: особо откладывать все, что походило бы на звезду, документ либо иное сокровище, хотя бы отдаленно напоминающее о Египте, — отправились расчищать храмы Сатурна и Конкордии, Базилику Максенция, Мавзолей Августа, подземные Бани Нерона и прочие бесчисленные исторические места, привлекая к работам, достигшим невиданного размаха, тысячи рабочих из бедноты. Мало того, из архивов Ватикана было конфисковано сто тысяч томов и рукописей — их погрузили на повозки и переправили прямиком в Париж, в гостиницу «Субин», в руки лучших архивариусов Наполеона для тщательного изучения.
Так и не докопавшись до сколько-нибудь ценных сведений о Египте или пророках в масках (самым большим достижением был рассказ о бродячих фокусниках Каира, рядящихся в красные одежды), исследователи все же наткнулись на некие любопытные подробности, которые не преминул намотать на ус император, прежде чем выехать в Фонтенбло тем ослепительно солнечным зимним утром тысяча восемьсот тринадцатого года.
— Добычелюбивый орел? — ухмыльнулся он теперь. — Или, может статься, стервятник? Тот, кто подолгу парит в воздухе, а потом кидается камнем и пожинает плоды чужих трудов? Скажете, это не так, ваше хваленое святейшество?
Его святейшество хоть и славился мягким характером, но все-таки не смолчал:
— Но ведь, согласитесь, на огромном расстоянии птиц может спутать даже самый прозорливый авгур. Между прочим, должен заметить: орел является одним из символов императора…
— Прошу прощения? Вы всерьез думаете, будто видение святого архиепископа могло относиться ко мне?
— Сын мой, я только предполагаю, что здесь могла произойти некоторая путаница. И разве не вы присоединили Рим к своей империи?
— Но я же не Папа!
— Нет…
— Тогда о чем разговор? Или вы собираетесь уступить мне кольцо рыбака?[70] Так, что ли? У меня и без того не счесть побрякушек!
— Уступить кольцо рыбака не в моей власти, сын мой…
— Ну разумеется!
— Не в моей, потому что оно и так у вас, — закончил понтифик, и то была чистая правда: имущество Папы конфисковали вместе с архивами.
Наполеон быстро взял себя в руки.
— Значит, мои вояки работают лучше, нежели я ожидал… Не важно. Я знаю, вы продолжаете хранить некие очень секретные бумаги, и требую выдать их сейчас же. Предупреждаю, что не потерплю никаких отговорок.
— Секретные бумаги?
— Вы понимаете, о чем я говорю. Для начала — «scrinium Sanctæ»,[71] где Папа Римский обычно возит особо ценные документы во время путешествий.
— Сын мой, ваши сведения устарели. «Scrinium Sanctæ» никто не пользуется вот уже несколько веков подряд.
Наполеон шумно втянул воздух носом.
— А как насчет вашего главного архивариуса, Гаэтано Марини? Он признался, что наиболее важные документы Ватикана были сознательно спрятаны — причем в таких местах, о которых якобы даже он не имеет понятия.
— Это административные записи, чужакам они без надобности.
— Хорошо, тогда что вы скажете о чертоге вечности? — Увидев недоуменный взгляд понтифика, Бонапарт продолжал: — Да-да, о легендарном чертоге сказочной красоты и чудесных пророчеств?
Пий сочувственно посмотрел на него, словно встретил безумного пилигрима.
— Это где-то в Египте?
Наполеон пришел в ярость.
— Только не говорите, будто впервые о нем услышали! И затевали свои раскопки не для того, чтобы отыскать чертог!
— Сын мой, даю вам честное слово, я никогда не…
— Да что вы? Серьезно? Так я и поверил! Ну а l’Homme Rouge? Может, вы и о нем ничего не знаете?
— «Красный человек»?
— Ну конечно! Вам и в голову не придет подослать ко мне ряженого монаха с оскорбительными проповедями! Нет, это не вы!
— Я бы от всего сердца…
— И вам неинтересен Египет, правда? Его сокровища? Его величайшие тайны?
— Сын мой… Я от всего сердца желал бы…
— И это не Ватикан веками снаряжал туда экспедиции? Вывозил древние памятники, старинные рукописи? Пытался расшифровать иероглифы? А как же Джордано Бруно — монах, сожженный заживо за то, что хранил опасные знания египетских оккультных учений? — Наполеон буравил Папу испепеляющим взором, уставившись ему прямо в глаза. — Так что не нужно притворяться, будто бы церковь не занимают секреты фараонов!
— Сын мой…
— Да вы хоть знаете, на что я способен? — выпалил Бонапарт, чуть не дрожа от злости. — Если откажетесь помогать, я такое сделаю!
Понтифик отвечал ему безмятежным взглядом.
— Даже не вздумайте сомневаться в моем могуществе! Я не оставлю от церкви камня на камне. Уничтожу вместе со всеми ее мерзостями! Может быть, вы не верите? Не верите?
Рот собеседника растянулся в самой обезоруживающей улыбке.
— Сын мой, — произнес понтифик снисходительно, — да все священнослужители мира не сумели этого сделать почти за две тысячи лет.
В последующие пять дней император грозил ему, что предаст огласке все прегрешения церкви, начиная от судебного разбирательства над Галилеем и поддержки Крестовых походов до подавления тамплиеров и архивов инквизиции. Но Папа Римский по-прежнему не желал — просто не мог — поддаваться, даже когда император хватал его за пуговицы черной сутаны (понтифику запретили надевать красную), бил об пол севрский фарфор и разражался бранью, какой Пию вот уже много лет не доводилось слышать.
В конце концов, как и в случае с завоеванием Москвы, отступить пришлось именно Бонапарту: на сей раз ему повстречался противник еще более суровый, нежели русская зима. Папа вернулся в Рим, где был принят с огромным почетом и где, простив заблудшего сына, оставался до последнего вздоха. В течение следующих трех лет архивы Ватикана мало-помалу перетекали обратно, при этом львиная доля порочащих церковь бумаг таинственным образом отсырела или же оказалась разорвана, роздана как сырье римским мануфактурам. Тем временем его святейшество чрезвычайно заинтересовался Египтом и даже вызвал к себе падре Ладислауса, главного посланника Ватикана в Каире, чтобы потребовать у него подробнейшего доклада о легендарном чертоге вечности — и об усилиях, предпринятых для его поисков.
А вот Наполеон как раз теперь не имел возможности возобновить охоту за неуловимой тайной. Вынужденный сражаться с осмелевшей коалицией российских, прусских, австрийских, британских и шведских военных сил, он, по обычаю, бился как лев, но уже не мог ничего поделать: враг попросту многократно превосходил его числом. В октябре тысяча восемьсот тринадцатого года он проиграл под Лейпцигом так называемую «битву народов», и Францию заняли чужестранцы. Бонапарт подписал отречение от престола, неудачно пытался покончить с собой, был навсегда разлучен с женой и сыном и впервые выслан на средиземный остров Эльбу, где целых девять месяцев ни разу не видел «красного человека».
И все же нельзя сказать, чтобы Египет совершенно покинул бывшего императора на маленьком острове. По приказу Наполеона тяжелые золотые пчелы роились теперь на новом флаге Эльбы и на обоях его виллы, а в летнем домике на Сан-Мартино целую комнату расписали египетскими сюжетами по мотивам рисунков Денона и красочных иллюстраций из «Description de l'Égypte».
Хотя в отношении прочего Бонапарт всеми силами стремился забыть о днях, проведенных в Каире. В тяжелую минуту отречения он наконец признал свой провал, свою неспособность достичь вершины собственной судьбы, несостоятельность первых пророчеств «красного человека» — и даже начал сомневаться в его существовании: что, если в самом деле Денон прав? А затем, двадцать девятого мая тысяча восемьсот четырнадцатого года, в резиденции Мальмезон угасла от хвори — от дифтерита ли, от глубокой ли тоски, кто знает? — его настоящая любовь, Жозефина. Смерть эта лишь подтвердила ужасную правду: мечты умирают, как люди.
— Все кончено, — изрек Наполеон и повторял это снова и снова, без остановки, битых два дня: — Все кончено! — словно пытался отчаянно переубедить самого себя.
Впрочем, ему недолго пришлось искать, чем отвлечься: островок находился в плачевном положении, его ресурсы требовали разумного использования, а двенадцать сотен жителей — хорошей организации. В качестве нового суверена Бонапарт переселил целые семьи, расчистил и осветил улицы, возвел укрепления, проследил за уборкой новых урожаев, построил предприятия, составил грандиозные планы сооружения театров, больниц, общественных зданий, дорог, набережных и школ. Империя съежилась до размеров крохотного клочка земли, но ее правитель все еще стремился породить зависть у всех, кто его отверг.
Однако со временем, когда сделалось ясно, что восстановленная в Париже монархия не намерена выполнять свои финансовые обязательства перед островом, когда все письма второй жене Марии-Луизе остались без ответа и особенно когда на Эльбу стали доходить слухи о том, что заменивший Бонапарта король Людовик XVIII не пользуется в народе доброй славой, — Наполеон затосковал по Франции, как некогда тосковал по покинутой Жозефине. Внезапно границы маленького островка начали душить его.
Изгнанный император удалился для размышлений в Египетскую комнату и там, озирая фрески с изображением битвы при пирамидах — вздыбленные белые скакуны, развевающиеся шелка, сверкающие сабли, и все это на впечатляющем фоне минаретов и памятников древности, — крепко задумался, не преступает ли высшие законы, растрачивая свои недюжинные силы на сбор олив и картошки. Не создан ли его дух для более возвышенных дел? И в конце концов, разве он не бессмертен? Мысли вновь и вновь возвращались к тому неудачному покушению на самоубийство, когда в апреле тысяча восемьсот четырнадцатого года Наполеон принял настойку из белладонны и чемерицы, столь сильнодействующую, что от нее околела бы даже акула. И что же? Тело ответило жестокой рвотой и судорогами. Можно было подумать, сама судьба отвергла яд.
А вдруг и в самом деле, спрашивал себя Бонапарт, а вдруг даже крови его известно то, что пока отрицает мятежное сознание?
Узнику вспомнился случай, имевший место во время битвы при Арси-сюр-Об, когда он увидел прямо перед собой дымящийся снаряд и, недолго думая, повернул коня так, чтобы тот принял на себя всю силу взрыва. Животное разорвало на куски, а всадник поднялся без единой царапины и тут же отправился искать другого скакуна. Ну разве способен на такое простой смертный?
А тот удивительный день в Ганау, когда в нескольких ярдах от Наполеона упала зажигательная бомба? Все вокруг метнулись прочь, точно вспугнутая стая голубей; Наполеон же продолжал стоять как ни в чем не бывало и видел, как шнур догорел, но устройство чудесным образом не взорвалось.
А пули, оставившие царапины на его ушах при отступлении из Москвы? И та, выпущенная по нему из мушкета в Гутсадте, едва не задевшая его сердце? И нож убийцы-наемника из Шенбрунна? Тогда Бонапарт совершенно случайно шагнул в сторону, и это спасло ему жизнь. Случайно ли? А все эти лошади, застреленные под ним на поле боя, — их было, кажется, не меньше семнадцати? Не говоря уже о прочих свиданиях со смертью, считая и тот эффектный взрыв под Рождество тысяча восьмисотого года?
Какие еще нужны доказательства? Если забыть о позоре в Лейпциге, то не разумно ли предположить, что Наполеон был создан из очень прочной, не имеющей себе равных материи? Так зачем ему лишние свидетельства, полученные из рук пророка под маской, судьбы или Бога — чьи угодно, кроме собственных?
Разве он сам — не бог? Или не творец своей судьбы?
Слухи о том, что его собираются перевести куда-то еще, подальше, стали последней каплей: Бонапарт наконец решился действовать. В ночь на двадцать шестое февраля тысяча восемьсот пятнадцатого года, сумев отвлечь подосланных лазутчиков и островную охрану, он тайно покинул дворец, промчался в карете к причалу и поднялся на борт поспешно перекрашенного брига «Непостоянный», который, в тот же миг подняв паруса, отплыл во Францию — по дороге, опять же чудом, разминувшись с британскими кораблями. Ступив на берег мыса Антиб, Наполеон при поддержке каких-то семисот человек, подобно мифическому герою, перенесся через Альпы. Его стремительность и сила пугающе возрастали с каждым часом.
Возле Гренобля путь ему преградил батальон пятого полка, преданного королю Людовику. Однако именно этой минуты Наполеон и дожидался. Он бесстрашно выехал навстречу пехотинцам, спешился перед дрожащими мушкетными дулами, расставил ноги в грязи, выпятил грудь, вызывающе распахнул сюртук, обнажив девственно-белую жилетку, и с пылающим взором прокричал: «Солдаты, кто из вас хочет стрелять в своего императора? Стреляйте!»
— Пли! — в замешательстве приказал капитан полка.
Следующий миг растянулся на целую вечность, но Бонапарт нимало не сомневался в исходе. Спустя пятнадцать лет после возвращения из Египта он видел на лицах солдат выражение, которое привык различать в глазах женщин, детей, послов, чиновников, генералов, королей и священников: невольное благоговение, покорность и естественный испуг бренного существа перед тем, кому принадлежала вечность.
— Vive l'Empereur![72] — грянули солдаты, потрясая оружием и подбрасывая над головами свои кивера.
А потом устремились вперед, чтобы коснуться его, словно святого.
Когда еще за последние две тысячи лет история видела что-нибудь более величественное?
Кто наблюдал подобное преображение?
На чьих глазах человек вот так же вознесся бы в небеса?
За головокружительным продвижением Наполеона к Парижу следили газеты, пестрящие лицемерными заголовками. «Оборотень уже в Каннах» и «Тиран в Лионе» быстро уступили место «Завтра Наполеон будет в наших стенах» и «Его величество вошел в Фонтенбло». Двадцатого мая король Людовик бежал из Тюильри подобно трусливому таракану, а император явился, чтобы вернуть себе трон. Под ликование двадцатитысячной толпы он взошел по дворцовой лестнице (поклонники были готовы снести балюстраду, лишь бы дотронуться до предмета своего обожания), принял объятия своих прежних слуг и придворных, ответил на приветствие встревоженного Денона и проследовал к себе в кабинет, который без жалости очистил от королевских побрякушек, чтобы разместить свои карты и военные сводки.
Сколько еще предстояло свершить! Прежде всего — подавить любое сопротивление, собрать миллионные капиталы, снарядить не одну тысячу новых рекрутов, выдоить арсеналы и великой армией дать решающее сражение огромной коалиции сил, которые грозно скапливались на севере под командованием герцога Веллингтона. Осунувшийся, постоянно на взводе, с мутным взглядом и пятнами табака на одежде, он часто надолго запирался в кабинете, работая ночи напролет и разрешая себе прикорнуть лишь тогда, когда разум отказывался справляться с нагрузкой.
Наполеон, конечно же, помнил из прошлого опыта, что именно при таких условиях ему являлся «красный человек», но не страшился принять и этот вызов. Пусть только пророк попробует возникнуть со своими поучениями! Император готов был встретить его так же, как встретил вооруженных солдат пятого полка — без дрожи, в полной уверенности, что справится с любой опасностью.
В ночь на тридцать первое мая, беспокойно ворочаясь на кабинетном диване (время ли спать!), он ощутил еле заметное дуновение, услышал шелест, легкий скрип и понял: «красный человек» вернулся читать наставления. Наполеон даже глаз не открыл.
— Я знаю, это ты! — презрительно ухмыльнулся он, сжимая пальцами переносицу. — Не надейся удостоиться от меня хотя бы взгляда.
Никакого ответа.
— Плевал я на тебя, слышишь? Мне уже безразлично, кто ты. Мне вообще нет дела до вашего брата, ясно?
Ни слова.
— Мне все равно! — выпалил Наполеон, брызжа слюной. — Ты для меня не существуешь. Ты — Кассандра: пытаешься запугать меня мрачными предостережениями, отравить мою душу сомнениями. Убирайся, я ничего не желаю слышать!
Ни единый звук не указывал на то, что «красный человек» хотя бы тронулся с места.
— Меня не интересуют твои цели, — продолжал Бонапарт. — Ты сбил меня с пути… Вышиб из седла… Наверное, упивался моими несчастьями. Поражениями, к которым сам же намеренно указал мне путь. О, представляю, как ты радовался! Так вот, я больше не собираюсь тебя слушать. Меня не волнуют пророчества — и уже никогда не будут волновать!
Повисло мучительное молчание.
— Знаю, о чем ты сейчас думаешь. Когда-то, внутри Великой пирамиды, я внимал каждому твоему слову. Что же, в те дни я был совсем другим человеком. Еще не вкусившим всемогущества, не представлявшим, какой ценой оно сохраняется. Но сегодня, любезный сэр, я вычеркнул Египет из памяти, понятно?
Тишина.
— Египет более ничего не значит! Он умер! Я — император Наполеон, Наполеон Великий. Я — это Франция. Это Революция. Я сам себя сотворил! Я поведу на врага народ, который обожает меня, и обязательно одержу победу!
Ледяное молчание.
— Только не надо говорить, будто я не оправдал надежд человеческого братства или как бишь его. Тебе хорошо твердить о какой-то там справедливости, о естественных законах, но я скажу так: народ желает одного — безопасности, а ее никогда не достичь, если не править железной рукой. Чтобы сделать шаг вперед, нужно быть воином. И только императору под силу приблизить грядущее. Я взлетел даже выше, чем ты предсказал в Египте, и не знаю дороги назад!
Зловещая тишина.
— Слышишь меня? — выкрикнул Бонапарт. — А может, еще сомневаешься? Или трепещешь перед моим величием? Что, язык проглотил от страха?
Тут он открыл глаза, отчаянно заморгал, окинул комнату взглядом — и наконец обнаружил нарушителя своего спокойствия. Но совсем не того, кого ожидал.
— Я нашел его, сир, — пролепетал в замешательстве паж по имени Луи Сен-Дени, протягивая Наполеону платье для коронации, пышное императорское облачение, на поиски которого был послан пару часов назад.
На следующий день, первого июня тысяча восемьсот пятнадцатого года, под грохот церемониальных пушек Наполеон торжественно проследовал от ворот Тюильри до вершины Монмартра. В последний раз император в одеждах великого Цезаря появился перед двухсоттысячной толпой, собравшейся на Марсовом поле.
— Клянетесь ли вы, если нужно, сложить свои головы ради блага всей нации? Клянетесь ли умереть, но не дать иноземцам вторгнуться и диктовать нам свои законы?
— Смерть врагам Франции! — взревели солдаты. — Vive l'Empereur! Vive la liberté![73]
Оставалось еще семнадцать дней до Ватерлоо.
Четыре месяца спустя Наполеон поднимет подзорную трубу, чтобы оглядеть бесприютные скалы Святой Елены. И с тоской пробормочет:
— Уж лучше бы мне остаться в Египте.
Глава тринадцатая ИМЯ, КОТОРОЕ МЫ ОСТАВИМ ИСТОРИИ
И вдруг, за каких-нибудь тридцать минут, жизнь Ринда резко переменилась.
Его труду по археологии — можно сказать, незаконнорожденному, но взращенному с нежностью ребенку — недоставало лишь окончательной редакции и личных наблюдений; что же касается отъезда в Египет, оставалось только получить официальное подтверждение. Сэр Гарднер обрушил на молодого человека безудержный поток сведений, правда, почти все они относились к практической стороне путешествия и научных исследований. Поэтому, когда события — при самых неожиданных обстоятельствах — приняли крутой поворот, для Ринда было бы вполне простительно в самую неподходящую минуту утратить хладнокровие. Однако, к стыду своему, шотландец уже настолько свыкся с навязанной ему ролью, что научился владеть собой даже в тех случаях, когда его заставали врасплох.
Это произошло в один приятный летний вторник. Сэр Гарднер, отпустивший кухарку на поминки, сам хлопотал у плиты, поджаривая так называемый «омлет по-фивски» из доброй дюжины яиц от соседских голубей.
— Благодарю, но я этого есть не стану! — упрямо заявила Каролина Лукас и сморщила нос.
— Вы же проголодаетесь.
— Ничего, мне полезно.
— Знаете, чтобы составить мнение, нужно сначала попробовать.
— Некоторые вещи, — парировала гостья, — и пробовать незачем.
Сэр Гарднер усмехнулся.
— Вообще-то, это для нашего Алекса. Ему пора привыкать к подобной пище: что, если поблизости не окажется продуктового рынка?
Шотландец сидел поодаль и делал вид, будто поглощен изучением арабского разговорника из «Руководства для путешественников». Стоило сэру Гарднеру и Каролине затеять шутливую перепалку, как он спешил удалиться с поля боя, чтобы не вмешиваться. Несмотря на все различия между ними, эти двое смотрелись на удивление гармонично, словно верные партнеры по фехтованию; насмешники упивались игрой, усердно избегая намеков на влюбленность. Вероятно, ее и не было, в том безумном смысле, какой обычно придают этому слову. Зато между ними возникло нечто более долговечное, утвержденное на неизбывной нежности и солнечном настроении, которыми двое людей, свободных от общественного давления и глупых предрассудков, одаривали друг друга, не заботясь о том, как их поймут окружающие.
Каролина повернулась к Ринду.
— Алекс, а вы увидите Фивы?
Тот пожал плечами.
— Я пока что ни в чем не уверен.
Гостья с обожанием посмотрела на своего кавалера.
— Представляете, сэр Гарднер жил прямо среди гробниц. Он даже спал, как мумия.
— Думаю, — сказал археолог, — что гробница великого визиря при Тутмосе Третьем по-прежнему в неплохом состоянии. И если понадобится, готова принять на ночлег нового постояльца. А не только новую стайку голубей.
Шотландец кивнул.
— С удовольствием загляну, если окажусь в тех краях.
— Не сомневайтесь, окажетесь. И по-моему, даже гораздо дальше… — Помешивая омлет, сэр Гарднер проницательно взглянул на Ринда. — Вы же охотитесь за «красным человеком», я прав?
Тот, к кому он обращался, не вздрогнул, не побледнел и, в общем, никак не выразил изумления. Разве что не удержался и сжал губы.
— «Красный человек»?..
Хозяин дома продолжал помешивать еду.
— …Кажется, я что-то такое слышал.
— Слышали? — покосился на него сэр Гарднер. — Навряд ли. Я так называю портреты древних египтян. Красный с давних пор считается самым естественным цветом для человека.
— А, — протянул Ринд, сделав над собой усилие, чтобы не залиться краской в подтверждение последних слов собеседника. — Я-то думал… думал, что вы имели в виду «красного человека» Наполеона… Пророка под маской… l'Homme Rouge.
Сэр Гарднер поднял бровь.
— Ну, мистика, с которым он повстречался в Египте. Его еще упоминали Скотт и Бальзак.
— Мальчик мой, — улыбнулся археолог, переворачивая омлет, — эти джентльмены славились богатой фантазией. Нет, я говорю о фигурах, изображенных на стенах египетских зданий. Вот истинное сокровище, от которого замирает сердце. Между прочим, египтяне считали красный цветом самой жизни.
— Подобно грекам и ассирийцам, — вставила Каролина. — И прочим народам древности.
— Моя милая розочка, — просиял сэр Гарднер, — как и я, без ума от красок.
— О, краски, — подхватила та, — пища для взгляда!
— Согласен, — с радостью поддакнул археолог и встряхнул сковородку. — Да, но я что-то не помню, — прибавил он, переводя глаза на свою подругу, — угощалась ли ты моим зонтиком?
— Тот самый зонтик? Боже, я думала, это миф.
— Тогда и я тоже миф, — рассмеялся сэр Гарднер и повернулся к Ринду. — Он в кабинете; Алекс, вы не могли бы его принести?
— Из вашего кабинета?
Молодой человек и на этот раз поборол изумление. В последнее время комната отпиралась так редко, что и сам хозяин почти не ходил туда, словно смущаясь ее неприкосновенностью.
Однако теперь сэр Гарднер вел себя как ни в чем не бывало.
— Держите… — проговорил он, шаря свободной рукой в кармане. — Вы же знаете, где он лежит?
— Я помню.
Молодой человек принял ключи, недоверчиво посмотрел на знаменитого археолога, старательно перчившего омлет, и покорно удалился. Оказавшись один в священной комнате, Ринд увидел плотно заставленные книжные полки. Может быть, стоит немного порыться в книгах? Он почти слышал, как Гамильтон умоляет об этом… И все-таки, разыскав в полумраке футляр, достал оттуда легендарное сокровище и спустился по лестнице, оставив дверь слегка приоткрытой.
На кухне зонтик расцвел, восхитив Каролину красочной вспышкой. Однако сэр Гарднер уже не просил Ринда вернуть диковину на место, а попросту отложил в сторонку, чтобы подать омлет (весьма заурядное блюдо, когда бы не перец), велеречиво распространяясь о гармоничных цветах Египта.
— В Каире, знаете ли, встречаются такие утонченные сочетания… Хотя даже там в наше время все чаще увидишь зеленые пятна в угоду местным покупателям. — Сэр Гарднер пренебрежительно фыркнул. — Избыток зеленого — первый признак фальшивки.
После обеда Ринд притворился, будто ушел к себе в комнату, в то время как сэр Гарднер позвал Каролину на задний дворик дома (хотел похвастать перед ней новым фокусом, которому научил Наполеона), прислонив забытый зонтик у двери кладовой. Молодой человек задумался: не наведаться ли в кабинет снова, на сей раз — тайком? Успеет ли он? Не пропустит ли шаги воркующей парочки по лестнице? Сумеет ли оправдаться, сказав, например: «Знаете, я просто хотел вернуть на место зонтик, и вот…»
В этот миг он услышал залихватский свист, обращенный к терьеру, но вскоре перешедший в мелодию «Сэр, берегите курочек от лиса», — и решился пойти на риск. Взяв зонтик под мышку, Ринд проворно зашагал вверх по не застеленным коврами ступеням, из коих ни единая чудесным образом не заскрипела. Затаив дыхание, толкнул дверь кабинета и, словно испуганный кот, метнулся в сумрак. Свист оборвался; Ринд едва не ринулся наутек, но тут же успокоился, когда со двора донесся жизнерадостный мотив «Зеленых рукавов». Молодой человек потянулся к полкам, еще не зная, с чего начать, однако понимая: время не ждет и разбираться некогда. Он отложил диковину сэра Гарднера в сторону, осторожно вынул первый из секретных дневников и распустил завязки, после чего с колотящимся сердцем распахнул обложку «под мрамор».
Взгляду предстало множество самых причудливых знаков: колонны, буквы, верблюды, горный пик, бесчисленные иероглифы, пчелы, соколы, ибисы, змеи, бык… И зонтик? Ринд не поверил своим глазам: может быть, перед ним какое-то растение? Стилизованный гриб?
Не так-то легко было разобраться среди мешанины разнообразных рисунков, тем более в полутьме. Веселый свист не умолкал. Шотландец переместился к окну, отдернул портьеру и хотел уже поднести запретную папку к глазам, когда хлынувшие в комнату лучи высветили у стены безмолвную фигуру… «красного человека»?
Даже в такую минуту Ринд не вздрогнул, не вскрикнул от изумления, но преисполнился жгучего стыда и окаменел.
Опираясь на свою трость, сэр Гарднер Уилкинсон стоял среди блестящей на свету растревоженной пыли. Глаза его мерцали, а на губах играла снисходительная улыбка.
— Не правда ли, — произнесен, — чудесно встретить женщину, которая свистит как извозчик? И при этом ведет себя как настоящая леди?
— Наполеон, подобно всем великим терьерам, — рассуждал археолог, едва поспевая за псом, который увлекал его вперед по сумеречным улицам, — всегда рвется в бой.
Перепуганный Ринд не услышал шутки.
— Сэр Гарднер, простите… Могу сказать одно: меня связывали определенные обязательства…
Конечно, это не оправдание… Разве тут оправдаешься?..
— Не городите чепухи, мой мальчик.
— Меня принудили к обману… Знаете, сам я не склонен… Эта неискренность… она столько раз… отравляла меня…
— Не стоит извиняться. Лучше не говорите ничего, а то я разочаруюсь. Верность и честь — бывают люди, для которых эти слова — пустой звук, но вы не из их числа. Полагаю, вы дали кому-то обещание. Не так ли?
— Ну да.
— Высокопоставленному лицу?
— Можно сказать и так.
— Случаем, не ее величеству?
Ринд тяжело вздохнул.
— Ей лично.
— Неужели лично? Вот это честь, мой мальчик. Я был уверен только в том, что вы отчитываетесь перед сэром Гамильтоном. Естественно, ради блага Британской империи.
Молодой человек окончательно растерялся.
— И давно вы все знаете?
— С тех пор, как получил ваше первое письмо. Нет, раньше. С тех пор, когда увидел, как вы с ним прячетесь у входа в табачную лавку.
Шотландцу вспомнился тот мглистый день.
— Уже тогда?
— Разумеется. У. Р. полюбил там укрываться, как только я переехал на Йорк-стрит. Если не он, то кто-нибудь из его соглядатаев. А между прочим, место прекрасно просматривается из окна кабинета.
— Соглядатаев? — Лишний раз убедившись, что он — только винтик в огромной системе, Ринд отчего-то почувствовал себя обманутым. — Сколько же их у Гамильтона?
— Трудно сказать. Он следит за мной вот уже двадцать пять лет. В Лондоне, Каире, в Риме… Даже как-то спокойнее, когда за тобой повсюду наблюдают глаза соотечественников… А впрочем — только не оборачивайтесь — и за вами тоже.
Ринд напрягся.
— Прямо сейчас?
— Думаете, вы для них вне подозрений?
— За нами, что, правда наблюдают?
— Естественно.
— Но разве… — Шотландец судорожно подыскивал возражение. — Разве я сам не шпион?
— К сожалению, У. Р. не расположен всецело доверять вам.
Молодой человек задумался над его словами — и вновь устыдился.
— Кажется, в этом он прав.
— Не корите себя, мой мальчик. В любом случае, на вашу роль трудно было найти более достойного джентльмена.
Собеседники вышли на Нью-роуд. Вокруг сновали двухколесные экипажи, мелкие служащие спешили по домам.
— Именно ваше благородство, — продолжал археолог, — вкупе со скромностью и поможет вам в один прекрасный день приблизиться к чертогу.
— К чертогу?
Ринд по привычке попытался скрыть удивление (все-таки сэр Гарднер впервые заговорил о великой тайне), но потом сообразил, что может не скрывать своих чувств.
— К чертогу вечности? — с жаром воскликнул он и, заставив себя приглушить голос, прибавил: — Значит, он существует? На самом деле?
— Ну конечно существует.
— И вы… вы его видели?
Сэр Гарднер мимоходом оттащил Наполеона от вращающегося колеса экипажа.
— Видел, и, вероятно, чаще любого из англичан.
У Ринда чуть было не подкосились ноги.
— И… каков он? Я ведь могу спросить? Что там?
— Обычно, — промолвил сэр Гарднер, — чертог сам говорит за себя.
— Но… как же лицо Бога? Тайны вечности?
— Все это лучше увидеть собственными глазами… И вы увидите. Я как никогда уверен в этом. Хотя, разумеется, не мне решать, достойны вы или нет.
— А как… — Ринд обошел торговца спичками. — Как я узнаю?
Археолог улыбнулся.
— Спросите себя, когда заглянете в очи Сфинкса.
В Риджентс-парке Наполеон, едва освободившись от поводка, помчался знакомиться с огромным мастифом. Внезапно налетевший ветерок заставил шептаться листву на верхушках деревьев; гуляющие дамы схватились за свои шляпки, а где-то неподалеку расчирикались воробьи. Сэр Гарднер несколько раз облегченно вздохнул и промокнул лоб. Ринд зачарованно смотрел в вечернее небо, благоговейно размышляя об открывшихся перед ним возможностях.
— Нужно еще решить, что я скажу Гамильтону, — вдруг произнес он.
— Разумеется, только правду, — ответил сэр Гарднер, убирая носовой платок обратно в карман. — Что я наконец-то признал существование чертога. Однако ни словом не обмолвился, где его нужно искать.
— И где же его искать?
— В Египте. Где-то там.
— Под Сфинксом?
— Занятная идея. Знаете, между лапами Сфинкса действительно спрятан чертог, только совсем не тот.
— Тогда в копях Клеопатры?
Сэр Гарднер усмехнулся, но не стал отвечать прямо.
— Все начинается и все заканчивается в Египте. Чертог привлечет вас к себе, так же как он в последнее время привлек многих — слишком многих. Вы сами отыщете путь. Поверьте мне, непременно отыщете.
— А Гамильтон, — проговорил шотландец, наблюдая за тем, как терьер поливает юное деревце, — он не нашел дороги?
— У. Р. не совсем подходил для этого. Трудно вам объяснить, каких именно качеств ему не хватает. Вроде бы есть у него и верность, и способность ценить прекрасное. Прошу вас, поймите правильно: это весьма почтенный джентльмен, преданный тем, кому служит. Больно вспоминать, как часто я и некоторые другие безвинно мучили его — и только за излишнее упорство, что, разумеется, мало нас извиняет… И все-таки это не самый скромный человек на свете — уверен, вы понимаете, о чем я, — и этого одного достаточно, чтобы исключить его из рядов посвященных.
— А как же, — начал Ринд, припомнив гамильтоновские списки людей, якобы посетивших чертог, — Ричард Лепсиус, экстравагантный пруссак?
— Он изрядно потрепал мне нервы, — признал сэр Гарднер. — Размах экспедиции, сам источник спонсорских денег… Я бросил все дела и ринулся в Египет, чтобы потолковать с этим Лепсиусом, заморочить его и по возможности направить на ложный путь. Однако в конце концов мне открылся человек глубоко смиренный, несмотря на нелепую браваду. И я не ошибся. Честь его возобладала, и тайна осталась тайной.
— Ну а Денон?
— О, Денон, — восторженно подхватил археолог. — Дамский угодник, денди, салонный остряк… И опять-таки, человек, не раз доказавший свою гуманность на деле. Затеявший сбор помощи жертвам землетрясения в Калабрии, проливавший слезы над полями сражений, сокрушавшийся о строителях пирамид и заявлявший, что ни в одном из рабочих нельзя видеть лишь орудие… Таков был Денон, лицезревший чертог вечности.
— Вы с ним когда-нибудь встречались?
— Не могу сказать точно. Кажется, я однажды видел его издалека — бредущим по берегу Сены, в полосатом жилете и сюртуке бутылочного оттенка… Тогда, в тысяча восемьсот девятнадцатом году, ему было глубоко за семьдесят. Один знакомый даже предположил, что и мне бы стоило поучиться под началом этого благородного старика: он проявлял великодушную щедрость к любому, кого считал достойным. Однако в то время Египет почти не занимал меня, да и самого Денона я знал просто как писателя, увлеченного этой страной, не более. Лишь по прошествии многих лет я оценил его по-настоящему, как цельную и мужественную личность, но, сами понимаете, его уже не было среди нас.
— Хорошо, а Наполеон Бонапарт? — не отступал Ринд. — Он тоже воплощение скромности?
— Точнее — человек своих принципов.
— Но видевший чертог? Или хотя бы познавший его тайны?
— По крайней мере он сам так считал.
— Ему же открылось грядущее? Из уст «красного человека» — этой таинственной фигуры?
— Открылось… Или, может быть, лишь показалось.
Ринд замолчал; он чувствовал себя так, словно наконец пробился через запертую дверь — и обнаружил за ней непроницаемую стену.
— Боюсь, я стал слишком туманно выражаться, — улыбнулся сэр Гарднер. — Прошу вас, помилуйте. Тайна чертога принадлежит могучей силе, которая существует вот уже много столетий, однако со времен Наполеона ее разгадка висит на волоске: чье-нибудь неосторожное слово, минутная слабость может все погубить. Кстати, подозреваю, что вы последний из иноземцев, кому дозволят насладиться красотами чертога, последний из принятых в братство Вечности, — прибавил он и свистом подозвал Наполеона.
— А если я поделюсь тем, что узнаю, с ее величеством? — спросил Ринд. — Останусь ли я членом вашего братства? Или вынужден буду молчать до скончания дней?
— Не хотелось бы путать вас еще сильнее, — промолвил сэр Гарднер в наступающей тьме, — но, дорогой мой Алекс, думаю, вы сами убедитесь: одно другому не мешает.
По дороге на Йорк-стрит они остановились перед безупречно вымытой витриной магазина гравюр и эстампов якобы с целью полюбоваться египетскими литографиями Давида Робертса[74] — «Карнакский двор» и «Медник на восточном базаре», а в действительности — чтобы понаблюдать за преследующим их соглядатаем.
— Видите? — сказал археолог, указывая на отражение в стекле.
Прищурившись, Ринд различил под газовым фонарем силуэт человека, одетого как моряк и не спускающего глаз с обоих собеседников, и вдруг заметил:
— А мне его почему-то жалко.
— С чего бы?
— Как же… Столько усилий, и все впустую.
— Умылся, причесался, а гости возьми да и не приди? — усмехнулся сэр Гарднер и тронулся дальше. — Жалость к преследователю — одно из редчайших достоинств. Алекс, мой мальчик, вы сами — сокровище, каких не сыскать в Египте. Почти не сыскать.
Знойным августом тысяча восемьсот пятьдесят пятого года королева Виктория решила нанести ответный визит Наполеону Третьему, посетившему ее три месяца тому назад.
Венценосную особу встречал роскошно украшенный Париж. Из резиденции, где остановилась королева, ее с эскортом препроводили на торжественное представление в «Опера Франсез», в собор Нотр-Дам, затем в Лувр и, самое примечательное, в часовню Святого Джерома Дома инвалидов, где под пурпурным бархатом и золотыми пчелами был выставлен гроб Наполеона, извлеченный из могилы на острове Святой Елены в тысяча восемьсот сороковом году. Здесь, после долгого торжественного молчания, Виктория опустила руку на плечо своего наследника, принца Уэльского, и приказала ему «преклонить колени перед великим Наполеоном». В этот самый миг, если верить надежным источникам, за окном зашипела и разорвалась шаровая молния, наполнив священные стены сиянием и заставив каменный свод содрогнуться от грома.
— Но именно во дворце Тюильри, где в настоящее время ведется серьезная реставрация, — рассказывал Гамильтон Ринду, — ее величество ждал наиболее любопытный сюрприз. Понимаете, во время строительных работ на чердаке среди прочих исторических предметов вроде государственных бумаг были обнаружены: золотая табакерка, багровый плащ и серебряная маска; новый император назвал находку «одеждами „красного человека“», в которые самолично облачился тем же вечером на костюмированном балу.
— L'Homme Rouge? Он так и сказал?
— Император признался, что взял их из сундука с другими масками, так что происхождение теперь уже трудно установить, однако ее величество легко поверила предъявленным доказательствам, поскольку она уже знакома с легендой о «красном человеке»… Кстати, юноша, сэр Гарднер упоминал о нем?
Не привыкший врать, Ринд решил обойтись полуправдой.
— Он только сказал, что стены Египта полнятся «красными людьми».
— Еще один невнятный намек. Может быть, он соблаговолил объяснить вам, где скрыт чертог?
— Разве что в невнятных намеках, — выдавил шотландец.
— Сэр Гарднер не давал вам каких-либо особенных указаний насчет маршрута?
— Он только велел как можно тщательнее следовать по пути Денона.
— А копи Клеопатры? Что-нибудь в этом роде?
— Нет.
— Имена, адреса в Каире? Хоть что-то?
— Ничего, — честно ответил Ринд.
Гамильтон призадумался.
— Да, это так на него похоже. Не удивлюсь, если вы получите указания, уже поднимаясь на борт парохода. На этот случай надо будет придумать способ связи перед самым отплытием.
— Конечно.
— А пока советую вам держать нос по ветру. Любое незначительное замечание может стать ключом к разгадке. Какая-нибудь невзначай предложенная книга — содержать секретные указания. «Знакомый» проводник или погонщик верблюдов — оказаться членом их треклятого братства. А то и «красным человеком».
— Буду иметь в виду, — заверил Ринд, не покривив душой.
Они обернулись на залитый предзакатным солнцем фасад музея, на сияющий во всем своем медном блеске купол читального зала. Около года здание провело в заточении, под чудовищной массой из арочных ферм и лесов; теперь, когда этот наружный скелет убрали, когда рабочие разошлись и неумолчный перестук остался в прошлом, музей чем-то напоминал дитя, только что родившееся на свет, с глазами, полными самых радужных надежд. Однако на Ринда, уже давно привыкшего к неуюту читальни, зрелище вдруг нагнало печальные мысли, едва ли не острую телесную боль разлуки. Увидит ли он когда-нибудь это место снова?.. На Гамильтона снизошло философское настроение.
— Как однажды сказал Бонапарт, все, что мы делаем на этом свете, скоро забудется, жить будет только имя, которое мы оставим истории. Вам выпала необычайная возможность прославиться и получить все заслуженные награды. Скажу как на духу: не всем, далеко не всем достается такая судьба. На это просто нельзя смотреть спокойно.
Ринд молча кивнул.
— Можете мне не верить, юноша, — проговорил Гамильтон сквозь зубы, — но я в восторге от вас и ваших достижений.
Шотландец издал неопределенный звук.
— Это правда, — не унимался собеседник, — истинная правда.
И, словно только что подумав об этом, прибавил:
— Кажется, здесь мы с сэром Гарднером очень похожи.
Ринд посмотрел на голубей, лениво кружащих над куполом.
— Рано или поздно, — продолжал Гамильтон, — он предложит вам вступить в братство.
— Что вы, он даже не намекал, — через силу солгал молодой человек.
— И тем не менее. — Старик смерил его многозначительным взглядом. — Это произойдет, не сейчас, так позже. Но я полагаюсь на вашу честь и порядочность. Вы — лучший из тех, на кого мог пасть мой выбор. Какие бы силы на вас ни давили, я верю, что вы устоите.
— Польщен доверием.
— В час искушений думайте о ее величестве. О Британской империи. А если ничто не поможет — вспоминайте меня. Мне осталось жить год, в лучшем случае, два. Но не могу же я сойти в могилу побежденным рукой сэра Гарднера и Денона. Не могу. Надеюсь, что вы меня не подведете.
В последнее время Гамильтон привык — по поводу и без повода — поминать близость собственной смерти, однако теперь, разглядывая его при печальном закатном свете, Ринд понял, что старик и впрямь похож на тонкую паутинку — точно так же, как иногда и он сам. Оказавшись буквально меж двух огней, не видя перед собой подлинно честного исхода и не утешая себя отговорками, молодой шотландец все же исхитрился придумать двусмысленный ответ:
— Действительно, я не хочу никого подводить.
И, символически пожав Гамильтону руку на прощание (им еще предстояло встретиться, чтобы обсудить расходы на дорогу), поспешил удалиться.
Остаток сентября он готовился к экспедиции — совершал прогулки, постепенно увеличивая нагрузку, посещал бани, питался бульоном и кашами, спал по-спартански, а в основном — занимался делами, которые предшествуют любому серьезному путешествию: послал несколько важных писем, составил завещание, выправил новый паспорт, запасся достаточной суммой валюты, тем временем постепенно приучая себя к мысли о разлуке с привычным ему миром: уютное кресло, надежный камин, кухонная печь, почтовый ящик… И кроме того, под присмотром опытного в таких делах сэра Гарднера собирал все, что могло понадобиться для шестнадцатидневного плавания на пароходе и остановки в Египте на неопределенный срок, а потом аккуратно сложил необходимое в большую дорожную сумку.
— Боже мой! — воскликнул археолог, привыкший странствовать с багажом, которого хватило бы на небольшой солдатский полк. — А где остальные вещи?
— Все здесь, внутри.
— Быть этого не может. Я дал вам аптечку, где она? И трость с вкладной шпагой?
— В сумке.
— Хорошо, а складной стул? Москитная сетка? Непромокаемые простыни?
— Все здесь.
— Вы что, фокусник? Да как эти вещи могли уместиться в подобной…
— Знаете, сэр Гарднер, я бы с радостью продемонстрировал, но боюсь дотрагиваться до сумки: кажется, она в любую секунду может устроить нам извержение Везувия.
Археолог расхохотался.
— Стало быть, не любите обременять себя лишним имуществом?
— Вероятно, я таким образом учусь находить прекрасное в простоте.
Сэр Гарднер одобрительно хмыкнул.
— А как же наклейки с указанием маршрута? Поверьте на слово: отправляя багаж без маркировки, вы прямо-таки напрашиваетесь на то, чтобы его послали не туда.
Ринд пожал плечами.
— Ну а вы что предлагаете?
В ответ археолог достал из кармана кусочек мела и, склонившись над сумкой, сплошь разукрасил ее размашистыми надписями: «КАИР». Затем поднялся с покрасневшим от натуги лицом и предложил шутливый тост:
— За победителя!
— За победителя! — эхом откликнулся Ринд.
Молодой человек достаточно разобрался в начатках арабского языка, чтобы понять соль: «al-Quahira», или Каир, переводится как «Победитель». И как он раньше не замечал в этом названии своеобразного пророчества?
Глава четырнадцатая ПРОКЛЯТИЕ, ПУСТИВШЕЕ КОРНИ
Стремительная слава Наполеона повлияла даже на ход времени, еще при жизни превратив личные вещи императора в бесценные реликвии, а торговцев памятными безделицами — в подлинных археологов, устремившихся на поле битвы при Ватерлоо менее чем через три месяца после знаменитого сражения, чтобы разжиться конскими костями, зубами солдат, обрывками мундиров, осколками снарядов… Кое-кто вырубал изрешеченные шрапнелью деревья, чтобы пустить их на подлокотники для кресел и зубочистки.
В Париже, казалось, весь мир перевернулся с ног на голову. После развала империи, изгнания Наполеона и очередного возвращения Людовика XVIII на трон городские улицы наводнили иноземные солдаты, высокомерные дипломаты, хромые ветераны великой армии, голодные крестьяне и очень голодные псы. Изваяния императора быстро снесли, триколор посрывали с общественных зданий, с крыш посбивали имперских орлов, с фасадов — бесчисленные каменные буквы «N», а золотых роящихся пчел распустили по нитке, прикрыли заплатами — в общем, поистребили самыми разными способами. Пропаганда вовсю старалась представить Наполеона чудовищем, превратившим свою страну в руины: расписывала страдания семей, которые утратили на войне кормильцев, загубленный урожай на полях, изрытых колесами артиллерийских повозок, кричала о миллионах франков, растраченных на неудачные кампании; поэтому какое-то время захватчиков принимали с любезностью, даже с вымученным воодушевлением, пока наконец бесчисленные обиды не распалили в сердцах вполне закономерное чувство унижения.
Вивану Денону пришлось ежедневно терпеть уроки смирения, глядя, как замызганные чужеземные солдаты шатаются в пьяном виде по залам Лувра, лапают мраморные статуи, плотоядно ухмыляются перед полотнами Караваджо и мочатся в погребальные урны этрусков. Что уж говорить о пылающих праведным гневом посланниках со всех концов Европы, устремившихся в Париж за шедеврами, которые были вывезены из их стран. После стольких невероятных усилий, потраченных на собирание драгоценных произведений искусства, Денон испытывал — или притворялся, будто испытывал, — глубокое смятение. Разумеется, при первой же возможности он постарался как можно больше узнать об ответственном за реституцию дипломате, язвительном чиновнике тридцати восьми лет от роду с незатейливым именем Уильям Гамильтон.
— Я знал одного посла в Неаполе, сэра Уильяма Гамильтона, — заметил Денон, расточая прямо-таки неземное обаяние. — А вас еще, случаем, не посвятили в рыцари?
Собеседник, еле выследивший неуловимого художника в галерее Лувра, кисло улыбнулся.
— Пока еще нет.
— Восхитительный человек! Я как-то рисовал его жену. — Денон заговорщически подмигнул. — Кто же знал, что она заведет affair de coeur[75] с лордом Нельсоном — ну, вы понимаете…
Гамильтон кашлянул.
— Верно. Я тоже много раз наслаждался обществом сэра Уильяма: мы оба связаны с Британским музеем и он — пожалуй, самая крупная фигура.
— Ручаюсь, двух Гамильтонов уже довольно, чтобы сие благородное заведение процветало! И как там, позвольте спросить, поживают наши египетские экспонаты?
— Пользуются неимоверной популярностью, как же иначе? Только разрешите поправить: экспонаты уж точно не ваши, а наши.
— Конечно, друг мой, я и не собирался ни на что намекать! В этом вопросе и так уже наделано столько глупостей, — прибавил Денон, из-за спины которого боязливо выглядывали десятки конфискованных портретов, и одарил собеседника своей коронной, по-прежнему ослепительной улыбкой.
— Да, много глупостей, — процедил тот, в чьи заботы входило доставить по назначению коллекцию античных скульптур, известную как «мраморы Парфенона». — Однако мы можем обратиться и к более приятным воспоминаниям. Если позволите, я хотел бы запоздало выразить благодарность за ваши достойные восхищения книги об этой стране, оказавшие мне во время путешествия неоценимую пользу.
— Ah bon,[76] — ответил художник с притворным удивлением. — Вы тоже бывали в Египте?
— Простите, месье, я думал, вам об этом известно.
— Нет, неизвестно. Рискну расписаться в собственном неведении, но почему я должен был это знать?
— Ну, просто я последовал вашему примеру…
— В каком смысле?
— Проделал путешествие по стране через два года после вас. Провел исследования. Написал книгу.
— Книгу? — с наивным видом заморгал Денон, уже обзаведшийся тяжеловесным экземпляром и нашедший, что скучный текст не стоит затраченных на него трудов. — Серьезно? И как же она называется?
— «Эгиптика», — ответил Гамильтон, откашлявшись.
— «Эгиптика»! — воскликнул художник. — Вот это название! Настоящая классика! Обязательно поищу. Кто знает, какие чудесные тайны откроются мне на ее страницах! — и рассмеялся, словно отпустил понятную только им двоим шутку.
Тут он, возможно, перегнул палку. Просто не мог больше сдерживаться. Художник прекрасно знал, что Гамильтон наводил о нем справки. Что сам он давно под подозрением. И даже слышал об осторожных расспросах по поводу некоего чертога… Однако последние два месяца выдались настолько, мягко говоря, напряженными, что Денон не устоял перед искушением крошечной мести.
Гамильтон выпрямился в полный рост и пронзил собеседника взглядом, которым хозяин смотрит на пса, нагадившего на ковре. Похолодевшие глаза англичанина, хищная осанка и немилосердно сжатые губы — все говорило о том, что он готов покончить с ненужными приличиями. Пожалуй, Гамильтон слишком долго ждал этой минуты. Теперь, наконец-то выследив добычу, он с упоением растерзает ее.
— Месье Денон, — начал Гамильтон, — давайте начистоту. Как нам известно из верных источников, пребывая в Египте, вы исполняли секретную миссию под покровительством генерала Бонапарта.
Художник изобразил мимолетное удивление.
— Ну разумеется! — воскликнул он, убирая руки за спину. — Я изучал монументы древности. Об этом знает весь мир.
— Месье Денон, вы прекрасно понимаете, что речь о другом.
— Правда? О чем же? Умоляю вас, объясните.
— Я говорю, месье, о ваших поисках чертога вечности.
— Чертога вечности? — заморгал Денон. — Какое… восхитительное имя! Сразу возбуждает любопытство! Где вы его услышали? Это название какой-то игры?
— Мы уверены, месье, — продолжал напирать Гамильтон, — что вы не только объездили весь Египет в поисках упомянутого чертога, но и передали его секреты генералу Бонапарту перед отправлением из Каира.
Тот грубо захохотал.
— Дружище, мне жаль вас огорчать, но ваши домыслы беспочвенны. Какая сорока принесла вам их на хвосте?
— Я не вправе раскрывать источники. И потом, вас это не касается.
— Но мне всегда обидно слышать, как заурядные сплетни выдают за надежную информацию!
Гамильтон помолчал.
— Месье Денон, должен ли я напоминать вам, что наделен абсолютной властью в отношении процесса текущей реституции? И что не премину воспользоваться ею в полной мере?
Денон переступил с ноги на ногу.
— Сэр, я вас не совсем понимаю.
— Я имею в виду, к вашему сведению, что лучшие трофеи в этом воровском притоне, — Гамильтон покосился на портреты, — находятся целиком в моем распоряжении…
Художник выпучил глаза.
— …И в случае отказа сотрудничать я с превеликим наслаждением проявлю немилость, улавливаете мою мысль?
Денон яростно встретил полный ненависти взгляд англичанина и, убедившись, что тот совершенно серьезен, почувствовал, как и его самого исподволь покидают остатки терпеливой любезности. Постепенно его лицо, его осанка и поза преобразились до неузнаваемости.
— Ну что ж, — проговорил он, покачиваясь на каблуках. — Все ясно. — И криво ухмыльнулся. — Значит, вот как?
— Да, вот так.
— И вы настолько верите своим нелепым источникам, что любыми средствами готовы добыть подтверждение, верно?
— Просто я поощряю вас рассказать правду. Если ради этого придется прибегнуть к шантажу, я не стану миндальничать.
— Все ясно, — повторил Денон, раздувая ноздри. — Сэр, вы бесчестный человек.
— Это уж как вам угодно, месье. Я только хотел напомнить, что сила не на вашей стороне. В моих руках — судьбы наиболее бесценных сокровищ. И к тому же, должен заметить, я получил доступ к одной вашей папке…
— Какой еще папке?
— Это некая стопка египетских эскизов, хранящаяся в данное время не где-нибудь, а в Британском музее.
Денон побледнел.
— Мои рисунки у вас… у вас?
Гамильтон важно кивнул.
— Но это же кража! Они мои!
— Скорее спасение предметов искусства. Они были вами выброшены.
— Тогда я объявлю свои права. Творение по закону принадлежит творцу!
— Да, но пока что, — возразил англичанин с коварной усмешкой, — они находятся в наших руках.
Художник уже не мог выносить его высокомерного тона.
— Сэр, да вы — самый обыкновенный вор.
— А вы, месье, вор весьма утонченный. И тем не менее еще не поздно заключать сделку.
— Мало вам шантажировать меня чужими работами, теперь уже в ход пошли мои собственные?
— Это называется «взаимная выгода», месье.
— Но я же сказал вам, что мне нечего предложить.
— Боюсь, вы не совсем откровенны.
— Хочу напомнить, что я — имперский барон и мое слово — это слово джентльмена.
— А я, в свой черед, хочу напомнить: ваша империя распалась, поэтому ваше слово не стоит выеденного яйца.
Глаза Денона сузились, и, проведя языком по пересохшим губам, он выпалил проклятие, которое будет мучить Гамильтона до конца его дней.
— Да чтоб вам вовеки не стать рыцарем, сэр! — рявкнул художник. — И никогда не узнать тайны чертога!
— Ага, — встрепенулся тот. — Значит, вы признаете, что он существует?
Скрестив на груди руки, Денон отвел свой взгляд.
— Ничего я не признаю.
— Но вы только что сказали…
— Ничего я не говорил. И никаких подтверждений вам не дождаться.
Англичанин широко раскрыл глаза.
— Вы поплатитесь шедеврами.
— Зато сохраню честь.
— От вашего Musée Napoleon останутся только смутные воспоминания.
— Людское воображение припишет ему еще больше славы.
— И вы никогда не увидите своей драгоценной папки.
Денон потемнел лицом.
— Можете вытереть моими эскизами ваш сопливый нос.
Вглядевшись в каменные черты художника, Гамильтон произнес:
— Отлично, месье. Вот вы, значит, как?
Тот сделался, словно кремень, и молчал.
— Даю вам последнюю возможность…
Ни звука.
— Ну тогда очень скоро вас навестят мои солдаты, — процедил англичанин и нахлобучил шляпу. — Не сомневаюсь, вы примете их со всей хваленой любезностью джентльмена.
Уже на следующей неделе в Лувр нагрянул гренадерский полк и под ружейными дулами принялся выносить шедевры.
Понимая, что в эту тяжкую минуту Гамильтон испытывает остатки его истекающего терпения, художник наслаждался твердостью собственного духа.
— Пусть забирают! — воскликнул он. — Безглазые твари, им никогда этого не оценить.
Несколько дней спустя он ушел в отставку и удалился в свой частный музей на набережной Вольтера; само собой, человеческое достоинство, чувство юмора и утонченный вкус остались при нем. В конце концов художник философски смирился с утратой, признал правоту иноземцев, потребовавших обратно свои сокровища, и принял свои страдания как легкую кару за преступления.
Что же касается Гамильтона, явившегося в Париж хладнокровным завоевателем, то он все глубже погружался в трясину безысходной одержимости. Через три недели, повстречав его на Пон Руаяль, Денон увидел перед собой человека с лысиной и морщинами, с пепельными мешками под глазами и даже на миг проникся жалостью: художник вдруг понял, что его почти цыганское проклятие — «чтоб вам вовеки не стать рыцарем и никогда не узнать тайны чертога» — уже пустило глубокие корни в судьбе англичанина.
Как бы неприлично далеко ни был сослан в этот раз Наполеон, страсти бонапартистов продолжали бурлить по всей стране, а старые раны упорно гноились, не заживая. Нещадно побитые при Ватерлоо, униженные иноземной оккупацией, раздавленные новыми налогами, разочарованные новым, явно помельчавшим правителем, страждущие массы, не видя перед собой настоящего дела, с готовностью оправдывали прегрешения прежнего императора. Они тосковали по временам, когда перед Францией склонялись целые нации, слагая на алтарь имперской славы свои границы, сыновей, сокровища и величие. Местами в стране даже зародился опасный, наполовину мистический культ, нечто близкое к почитанию мучеников, так что уже при жизни Наполеона стали называть призраком, ангелом или святым, который якобы никогда не спал и не нуждался в пище, который ускользал от любой опасности благодаря сверхъестественным покровителям и носил в своих ножнах не просто клинок, но Меч Господень.
Как же в подобных условиях было не процветать легендам о «красном человеке»? Безымянный мистик заочно сделался знаменитостью; его существование подтверждали солдаты («В ночь накануне битвы при Йене я видел, как он совещался с императором»), придворные («Как-то вечером я мельком заметил его на крыше Тюильри») и прислуга («Я говорил с ним на кухне, он попросил меду»). Впрочем, границы могущества и даже цели таинственной личности оставались до обидного непонятны людям: «Я слышал, что это русский лазутчик», «А я — что безумный монах», «Да нет же, маг; иначе как он может являться повсюду, где пожелает?»
Вот почему Денон отчасти позабавился, услышав о почти наполеоновском пристрастии Гамильтона к таинственному пророку под маской. По слухам, англичанин собрал небольшую армию агентов (в основном среди британских эмигрантов, а также роялистских шпионов и частной полиции Людовика XVIII) и разослал их по салонам, борделям, кафе и тавернам — выведывать все, что можно, о «красном человеке» и пребывании Наполеона в Каире. Как правило, главные вопросы прикрывались пустой болтовней и бессовестной лестью, призванной развязать язык собеседнику: «Да что вы говорите, служили в Египте? Знаете, я никак не возьму в толк, что заставило Бонапарта все бросить и бежать из Каира. Ходят какие-то сплетни про египетского провидца и тому подобное. Но, согласитесь, для мужчины — тем более для француза — это же несерьезный повод…»
Разумеется, Гамильтону не везло: поступавшие к нему сведения были в высшей степени сомнительны и противоречивы. Что, конечно же, лишь подстегнуло его безумную решимость добраться до истины. Неудивительно, что англичанин снова заинтересовался Виваном Деноном.
Удалившись на пенсию, освободившись от бремени забот и ответственности, художник вспомнил о своем умении жить на широкую ногу. И если теперь он не разгуливал весело по бульварам и аукционным домам, то по крайней мере потчевал гостей анекдотами, с удовольствием показывал дамам привезенные из путешествий диковины и по целым дням сочинял письма, которые лично разносил по бесчисленным почтовым ящикам города.
Подосланные шпионы, обычно под личинами страстных книгочеев либо верных бонапартистов, неизменно легко находили с ним общий язык и уж совсем без труда подпаивали хозяина; тот, в свою очередь, лез из кожи вон, лишь бы угодить каждому такому посетителю.
Оставалось только вообразить лицо Гамильтона, когда тот получит долгожданные сведения.
«Святой человек явил Наполеону одиннадцатую и двенадцатую синайские заповеди».
«У Бонапарта были определенные трудности с пылким темпераментом, а тут он узнал об исключительных афродизиакальных свойствах кошачьих мумий».
«Генерал отыскал в Египте одного врача, творящего чудеса с больными тромбозным геморроем; вопрос был чересчур деликатен, поэтому осмотр провели в уединении Великой пирамиды».
Наверное, Гамильтон раздраженно отмахивался от подобных нелепостей, как от издевки; возможно, рычал от злости либо презрительно фыркал, однако Денону больше нравилось представлять себе, как тот мысленно снимает шляпу перед обыгравшим его противником.
Между тем лазутчики, пытавшиеся проникнуть в дом в отсутствие хозяина, находили гостеприимно распахнутые окна и двери, записки с указаниями на особые полки в погребе, а как-то раз их даже встретил слуга с подсвечником и тарелкой свежих эклеров. Тем временем художник посиживал в очередном салоне и беспечно сетовал на грызунов, расплодившихся в его жилище, — огромных, по его словам, паразитов, непробиваемо тупых, да еще и с махровым британским акцентом.
Занявшись проверкой почты Денона, Гамильтон обнаружил немало бойких уничижительных выпадов против своей персоны («беззубая кляча», «сопливый любитель бумажек», «музейный жук», «бес во плоти»), а также узнал, что письма, в которых нередко всплывали подробные описания встреч с различными привидениями, зачастую адресовались мертвецам, якобы проживающим на несуществующих улицах; автору явно было не занимать остроумия, свободного времени и желания подразнить своего врага.
Однако, несмотря на все эти выходки, художник не мог совершенно скрыть своей заботы о судьбе бывшего императора, тоскуя по нему, как печалился бы о единственном любимом племяннике. Он всем сердцем скучал по шуткам Наполеона, его горячности, работоспособности и даже по его непомерным амбициям. Денон, разумеется, старался держаться в курсе последних вестей со Святой Елены — жадно поглощал газетные репортажи, сосредоточенно изучал политические бюллетени, скупал все книги, написанные врачами, прислугой и солдатами с острова, ловил на лету бесчисленные слухи… и всегда торопился вскрыть очередной плотный пакет с убористыми письмами от Наполеона, которые доставлялись ему самыми разными окольными путями и за которыми усиленно охотился Гамильтон, не гнушаясь и отчаянными угрозами.
— Если выяснится, что вы на самом деле получали послания со Святой Елены, — скалил зубы молодой лазутчик в кафе «Де миль колон», — это будет расценено как мятеж; вас заживо сгноят в темнице, или того хуже.
— Весьма печальная кончина для безобидного старого дурака.
— Безобидны вы или нет, это решать другим людям, и ни один из них не склонен к милосердию. — Увидев презрительную ухмылку художника, он разозлился: — Не вам надо мной насмехаться, месье. Напомню, речь идет о вашей жизни.
— Молодой человек, я в точности знаю, когда умру, и мне доподлинно известна жалкая участь моих мучителей.
Лазутчик едва не подпрыгнул:
— Да? И где же вы набрались подобных сведений, позвольте спросить? Не в Египте ли?
— В шатре цыганки. В глазах пролетевшей птицы. На дне чашки с китайской заваркой. Сами решайте, что вас больше устраивает, молодой человек, и передавайте привет музейному жуку.
Денон поднялся и бросил на стол монету.
Если верить наиболее красноречивым источникам, впавший в уныние император сумел одною лишь силой мысли превратить остров Святой Елены из якобы субтропического рая с живительным воздухом, пышной зеленью и целебным солнечным светом (упоминавшимися прежде во всех путевых заметках) в чистилище, где беспрестанно барабанил дождь и выли пассаты, обрывая чахлую листву с эвкалиптов, а прожорливые термиты вгрызались в каждую планку, дерево или бесприютную душу. Великий муж обитал на равнине Лонгвуд, на высоком вулканическом плато, в постройке, состоявшей из нагромождения душных комнат и некогда предназначавшейся для скотины. Здесь он расхаживал по скрипучим дощатым полам, прислушиваясь к неумолимому ходу часов, беспокойно ворочался по ночам на походной койке, подолгу мок в ванне, читал газеты трехмесячной давности, порой играл в карты или в шахматы — и неустанно диктовал обширные мемуары, восхвалявшие миссию Бонапарта на этой земле. Иногда, ради сохранения здоровья, он выходил на прогулку или брал экипаж и объезжал границы своих мизерных владений, а как-то раз устроил в крошечном саду боевую позицию, приказав китайцам-наемникам прорыть оросительные каналы и пересадить деревья, в то время как сам отстреливал кур, ягнят или молодых бычков, имевших неосторожность нарушить ревностно охраняемые границы.
Теперь его заклятым врагом, заместившим герцога Веллингтона, единственным, на ком Наполеон мог отыграться за Ватерлоо, сделался губернатор острова сэр Гудсон Лоу, чье имя вскоре стало синонимом фанатичной бескомпромиссности. Главный из островных лазутчиков Гамильтона, он превосходно выполнял бумажную работу, славился аккуратностью, несгибаемостью и немилосердной подозрительностью… Денону даже не нужно было видеть этого человека, чтобы понять, что сила — на стороне Бонапарта.
Всего за пять месяцев между ними состоялось шесть разговоров, и с каждым разом трения нарастали; с тех пор Лоу официально не видел узника вплоть до смерти последнего. Впрочем, первая встреча прошла во вполне дружеской обстановке. Наполеон в охотничьем камзоле с серебряными пуговицами в виде оленей и лис принял тюремщика у себя в лонгвудском кабинете, застыв у мраморного камина и сквозь щелочки век разглядывая своего посетителя («Так выглядит гиена в капкане», — решит он позже), как мог бы разглядывать поле грядущей битвы. Около тридцати минут тюремщик и узник беседовали по-итальянски о Корсике, католиках, брачных узах и прочем, после чего долгое время предавались восторженным воспоминаниям о полном чудес Египте (Лоу служил там солдатом), и Бонапарт заметил: мол, он по-прежнему всей душой верит, что через Суэцкий перешеек можно прорыть канал, причем без чрезмерных издержек («достаточно полмиллиона стерлингов»). Губернатор, которому, согласно избранной стратегии, полагалось лишь подготовить почву для дальнейших задушевных бесед, удалился совершенно довольный собой и немного погодя составил самый подробный отчет о встрече, который и переправил Гамильтону с первым же отчалившим судном.
Однако во время второго разговора (он состоялся в спальне при зашторенных окнах; Наполеон был небрит, в домашнем халате и мучился тошнотой) Лоу допустил тактическую ошибку, объявив о нововведениях, которыми он вознамерился осчастливить Лонгвуд с целью укрепления неприступности острова. Узник в ответ озлобился и к следующей решающей встрече был уже во всеоружии.
Опять у себя в кабинете, опять в охотничьем камзоле и с головным убором под мышкой, он расхаживал взад и вперед, сетуя на условия своего содержания и на действия британского правительства. Но губернатор, уже надумавший продвигаться дальше в расследовании, не желал уходить несолоно хлебавши, а потому в нетерпении переусердствовал.
— Так или иначе, — промолвил он, — я тут размышлял о ваших планах насчет Суэцкого канала.
— Канала? — бросил Бонапарт, не сбавляя шага. — При чем здесь канал?
Тюремщик выставил вперед подбородок.
— Ведь это только один из множества дерзких замыслов, которые вы лелеяли для Египта.
— И что?
— Я слышал, новый паша Мохаммед Али решил разобраться, с какой стати вы тайно покинули страну, не дождавшись осуществления своих планов…
Наполеон остановился.
— И якобы он обнаружил, что вас одурачила кучка подкупленных неизвестными силами арабов, преувеличившая опасности вашего пребывания в Каире…
Наполеон повернулся.
— И что мужчина в красных одеждах — бродячий фокусник или кто-нибудь в этом роде — за приличную сумму согласился напророчить вам великую судьбу — конечно, ценою вашего возвращения во Францию…
Наполеон впился глазами в губернатора.
— Не знаю, к чему я об этом вспомнил, — продолжал тот. — Я слышал этот рассказ несколько месяцев назад. Странная история, что ни говорите. А может, очередная нелепая сплетня, каких предостаточно бродит в тех краях…
Именно здесь, по замыслу Лоу, непомерная гордыня должна была подвигнуть императора на отчаянные откровения или, по крайней мере, заставить его невольно поправить собеседника. Но в этот самый миг под окнами проносили большое старинное зеркало в раме (губернатор обожал украшать свой дом подобными безделушками); ослепительно яркий луч солнца упал на стекло, отразился от него и ворвался в салон, превратив императора в пламенный столб. И хотя ростом Лоу был немного выше узника, однако впервые почувствовал, как умалился в его присутствии; пылающий взгляд Бонапарта буквально прожигал его насквозь.
— Вот оно что, — ухмыльнулся Наполеон. — Ясно, ясно! И как я сразу не догадался! Вас подослали, не отрицайте!
Тюремщик напрягся.
— Не представляю, о чем вы говорите, сэр.
— Ну да, конечно! Не представляете! Что это мне взбрело на ум? Кто вас послал? Кто сочинял эти вопросы? И всю эту ахинею с арабами?
— Что, сэр?
— А, понимаю, решили прикинуться дурачком! Неубедительно! Вы же простой исполнитель, я прав?
— Сэр, — произнес Лоу, — я пришел сюда не для того, чтобы выслушивать оскорбления.
— Но и я не пущу на порог того, кто меня оскорбляет! Скажите прямо, чего вы добиваетесь. Я — император Наполеон и требую к себе уважения!
Губернатор совсем растерялся.
— Сэр, — начал он, изобразив обиду, — вижу, вы не расположены говорить в подобающем тоне и мне лучше удалиться.
Вот тут Бонапарт едва не взорвался.
— А может, сказать вам правду? — воскликнул он. — Желаете слышать правду, сэр? Думаю, вам приказано любой ценой вытянуть сведения о моих последних днях в Египте. Да-да, любыми средствами. Можно морочить мне голову. Прикинуться другом. Все, что угодно. А если не выйдет… Скорее всего, вам велено попросту отравить меня, сэр. Убить.
Лицо Лоу стало свекольного цвета.
— Вы же не ждете, чтобы я на это ответил, сэр?
— Да нет, я требую ответа!
— Тогда я скажу одно… Только одно. Во время прошлого разговора вы заметили, что не сумели постичь характер англичанина. Так вот, знайте: вам тем более не удалось постичь характер английского солдата.
С этими словами, пылая гневом, он развернулся и ринулся прочь.
Однако сказанного было уже не поправить, и через три короткие встречи Наполеон наотрез отказался беседовать со своим тюремщиком. Не ожидавший столь быстрого разоблачения и позора, Лоу погрузился в болото навязчивых состояний. Теперь уже он опасался, что Бонапарта вывезут в бочке с вином, в сахарном ящике или даже в узле из грязных простыней, и выскакивал по ночам из постели, чтобы пришпорить коня и скакать по извилистым тропам — только бы убедиться, что узник по-прежнему на месте. Губернатор удвоил охрану Лонгвуда и повсюду установил новые блокпосты и укрепления, издав ряд таких строгих ограничений, что их непомерная суровость поразила даже герцога Веллингтона.
Хотя, если вдуматься, герцогу было легко рассуждать о строгости: он-то, как и Наполеон, твердо знал о своем бессмертии. Лоу же, напротив, не перенес бы провала, помноженного на немыслимый побег вверенного ему узника. Душу его беспрестанно терзало прощальное проклятие императора: «И через пять веков мое имя будет сиять как солнце, а ваше — останется знаком позора и несправедливости».
Что и говорить, проклятие стократ ужаснее той опрометчивой фразы, которой Денон пригвоздил Гамильтона, ибо оно исходило от человека, каждое слово которого пылало в небе, написанное огненными хвостами комет.
Глава пятнадцатая ПРАХ ДРЕВНИХ ДИНАСТИЙ
Четвертого октября тысяча восемьсот пятьдесят пятого года в порту Саутгемптона Ринд поднялся на борт колесного парохода «Ориентал» компании «Р&О» (водоизмещение — тысяча шестьсот семьдесят три тонны, мощность моторов — сорок пять лошадиных сил). Молодой человек не успел даже отыскать свою каюту над машинным отсеком, когда невысокий небритый мужчина, выступив из полумрака, указал на его саквояж.
— Разрешите взглянуть?
— Что-то не так? — ответил Ринд, приняв чужака за неряху-стюарда. — Мою дорожную сумку еще вчера погрузили на борт, а тут всего лишь…
— Это вы получили от Уилкинсона?
Внезапно шотландец похолодел, припомнив моряка, чей силуэт отражался в витрине на Бейкер-стрит.
— Ну да, в последнюю минуту. Но…
Маленький человечек, не теряя времени, толкнул дверь в каюту, схватил саквояж и вытряхнул его содержимое на пассажирскую койку, после чего молниеносно перелистал страницы взятых наугад книг («Фонетическая система иероглифов» Шампольона, «История» Геродота в переводе Ларчера, «География» Страбона), ощупал сумку в поисках потайных карманов и поднял глаза на Ринда.
— Он объяснил вам, зачем это все нужно?
— Чтобы читать в дороге. Здесь и работы Вивана Денона, и прочее.
— А Уилкинсон, случаем, не давал вам прощальных напутствий?
— Да нет, ничего особенного.
Небритый мужчина вновь покосился на книги.
— На страницах может скрываться тайное сообщение. Если что-то найдете или вдруг вспомните — пошлите депешу из Гибралтара. Или с острова Мальты. Ее величество надеется на вас, юноша.
— Обязательно, — кивнул Ринд.
Честно говоря, ему и вправду было почти нечего рассказать о прощании с сэром Гарднером. Оно прошло на удивление будничным образом: сдержанное джентльменское рукопожатие, последние советы в дорогу — меньше бывать на солнце на первых порах, не прогонять скуку выпивкой, спать лишь тогда, когда в небе появятся звезды… Ну и таинственное заключение из разряда тех, на которые сетовал У. Р. Гамильтон: «Просто следуйте дорогой Денона, в Каир через дельту Нила. Поверьте, вы будете сильно удивлены, и как раз тогда, когда меньше всего ожидаете». И все это — не в саутгемптонском порту и даже не на вокзале, а в прихожей дома на Йорк-стрит, как если бы Ринд не отплывал в далекий Египет, а собирался в Рочестер на выходные.
Поднявшись на содрогающуюся верхнюю палубу, молодой шотландец успел заметить, как перед самым отбытием парохода юркий лазутчик спустился по сходням, ловко протиснулся сквозь толпу провожающих и скрылся в салоне закрытого экипажа, что битых два часа поджидал его у багажной конторы.
Ринд уже не сомневался: его дорожную сумку заранее перерыли как следует; молодой человек ничуть не удивился бы, узнав, что кто-нибудь из людей на борту — командир, механик или просто пассажир — приставлен к нему соглядатаем. Весьма оригинальная прелюдия к долгому путешествию: теперь даже нельзя будет обратиться к носильщику или завязать невинную беседу, чтобы не заподозрить в другом шпиона.
А тут еще, к счастью или к несчастью, на пароходе предоставлялось множество неодолимых соблазнов поговорить. Чтобы только сбежать из душной и шумной кабины, Ринд целыми днями гулял по палубе, подолгу стоял у поручней, задавал членам команды разные технические вопросы или сидел за книгами. Среди его собеседников были чиновники на пути в Индию, командированные за границу корреспонденты газет, дантист, направивший стопы в Каир (где высшие классы общества открыли для себя кариес), и пара коннозаводчиков, надумавших отвезти призовую кобылицу Фейр Нелл на состязания с арабскими скакунами в пустыне Сахара.
От нечего делать молодой человек даже начал поглядывать на красивых леди, ведя с ними легкую игривую болтовню. В самом деле, если не считать минут, когда морская болезнь терзала его желудок, пароходные трубы сыпали серый пепел на голову, а «живая провизия» источала амбре, от которого нестерпимо страдал чуткий нос, Ринд ощущал, как болезненные мысли покидают его, будто унесенные свежим ветром (тем более что капитан и направил судно по ветру). Для человека, которому ни разу в жизни не приходилось переводить стрелки, покидая привычный часовой пояс, это были поистине живительные впечатления и с подлинно мифологическим отзвуком: отважный герой пускается в одиссею, навстречу невиданным чудесам, опасностям и переменам. Шотландец сам себе казался бы терьером, рвущимся с поводка, когда бы единственный корабельный пес не перегрелся на солнце до сумасшествия и не бросился в воды Бискайского залива.
С мальчишеским изумлением Ринд любовался ловкими обезьянками на Гибралтаре, фосфорическим сиянием, озарившим как-то под вечер морские гребни, стекающим ослепительными каплями с лопастей гребного колеса (Infusorial animaculæ, как пояснил оказавшийся рядом ученый), хаосом башен, деревьев и куполов на Мальте. И вот, за несколько дней до прибытия в Египет, «Ориентал» облекся волшебным ночным туманом, точно так же, как некогда «Ориент». Застыв на носу, внимая сентиментальной мелодии корабельного оркестра, молодой человек воображал, будто слышит неподалеку во мгле приглушенные голоса Денона и Бонапарта.
Еще в октябре Ринду пришлось убедиться, что Александрия, настолько разочаровавшая двух знаменитых французов пятьдесят семь лет назад, уже не та. Преобразования, начатые волей Наполеона и подхваченные сильной рукой Мохаммеда Али, породили истинное столпотворение для купцов, наемников, банкиров, мошенников, перекупщиков, разъездных торговцев, дельцов и безрассудных искателей приключений. В городе появились ветряки, маленький оперный театр, паровой буксир, шипящий локомотив на железнодорожном вокзале, а также гигантский храмоподобный товарный склад, забитый сельскохозяйственными продуктами. Уличный оборванец, освещая тьму фонарем, проводил Ринда к роскошному отелю «Европа», где молодой человек снял номер, сладко выспался на перине с гагачьим пухом, поднялся по звонку будильника, голосившего как муэдзин, и поел на завтрак лепешек с повидлом при свете искристой стеклянной люстры. После чего не преминул, помня совет сэра Гарднера, обзавестись недостающей провизией (включая новый котелок, свечи, мухобойку и крысоловки), взял напрокат надежного осла, нанял весьма подозрительного проводника и отбыл в Каир через Канопские ворота.
Пилигриму посчастливилось увидеть Помпейскую колонну, обелиски розового гранита, известные как «иглы Клеопатры», руины старинных бань и подземелий (словом, все, что лицезрели глаза Денона), однако в его голове неумолчным эхом звенело прощальное напутствие сэра Гарднера, заставляя держаться настороже в беспрестанном ожидании удивительных событий или загадочных подарков судьбы; подобное напряжение обостряло все чувства — и в то же время не позволяло в полной мере насладиться величием древних памятников.
Шотландец проехал вдоль побережья, еще усеянного обломками французского флота, отмахнулся от сельских девушек, продающих солдатские пуговицы, словно древних жуков-скарабеев, и попал в Абу-Мандур, где осмотрел минареты и башни монастырей, утратившие былую внушительность рядом с чередой телеграфных столбов.
Красноватый Нил показался ему гигантской веной, бегущей среди густых зарослей мимозы и банановых деревьев. Поспав на расстеленном одеяле под неблагозвучную симфонию из песен цикад и шакальего воя, Ринд пробудился между невесомыми струйками восходящего пара и продолжал путь в Каир под громкое хлопанье крыльев несметных стай бекасов и цапель; проголодавшись, он охотился на зайцев и кабанов: пистолеты сэра Гарднера не давали осечек. Как-то раз молодой человек изрядно перепугался, увидев перед собой при лунном свете мускулистого нубийца с блестящим клинком, и дрожащей рукой навел на него оружие — но тот оказался всего лишь знакомцем проводника, который пригласил обоих отведать американского кофе под сенью столетней смоковницы.
Потом Ринд увидел прелестных нагих купальщиц (и тут же отвел глаза, опасаясь то ли за собственную скромность, то ли за скромность девушек) и речную флотилию с белозубыми корабельщиками, ловко направляющими треугольные — «латинские» — паруса своих суденышек, прыгающие на воде пробки от содовой, пятно от машинного масла, переливчатое, словно голубиная шея, и плывущие по течению отходы рафинадного заводика. Молодой человек погулял по развалинам рисовой мельницы, паровой двигатель которой, затянутый паутиной из виноградных лоз, давно заглушила трава; наведался на процветающую текстильную фабрику и купил себе красную феску — которую, правда, через два дня навсегда унес порыв ветра; под Вадраном ему предъявили распухшую тушу водяного буйвола, поглотившего, согласно местной легенде, целую реку.
Сухопутные странствия заняли около двух недель. И все это время Ринд волновался, не пропустил ли ненароком какого-то важного знака, по недогадливости своей не поняв очевидного или не почувствовав близкой тайны; молодой человек стал опасаться: а вдруг утомительное путешествие по дельте задумывалось только для того, чтобы показать ему вечную истину Природы, покоряющей все и вся. Не это ли имел в виду сэр Гарднер, говоря об ответах, которые можно найти в Египте?
Усталый, измученный палящим солнцем, Ринд от растерянности едва замечал, где находится, вплоть до незабываемой минуты, когда различил сквозь утреннюю знойную дымку, на фоне массивных медовых пирамид и пурпурного холма Моккатам, изящные дворцы, гробницы и мечети Каира.
Да, это был тот самый лабиринт глухих улиц, куда двадцать пятого июля тысяча семьсот девяносто восьмого года в погоне за бегущими от рассвета тенями, чувствуя на себе настороженные взгляды со ста минаретов, впервые ступил завоеватель Наполеон, влекомый благоуханием жасмина и судьбой. Тот самый бурлящий город, куда двадцать второго сентября тысяча семьсот девяносто восьмого года забрел изголодавшийся, обессиленный Денон — и в ту же минуту пленился восхитительной гармонией красоты и целесообразности, одеяния и цвета кожи. Та самая пестрая и шумная столица, куда двадцатого октября тысяча восемьсот первого года по следам уходящей французской армии проник У. Р. Гамильтон, подозрительно косясь на каждую темную пещерку или запертое окно. Та самая суматошная метрополия, которой двадцать первого декабря тысяча восемьсот двадцать первого года достиг светловолосый юноша по фамилии Уилкинсон, чтобы, подобно Денону, поддаться чувственным чарам теней, света, опасностей и ароматов…
И вот теперь, пятого ноября тысяча восемьсот пятьдесят пятого года, к этому многоязыкому городу приблизился Ринд, понемногу проникаясь ощущением приобретенных знаний и преодоленных пространств. И все же ему хватило сил на изумление — неподалеку от ворот Завоеваний молодого человека сразило наповал одно в высшей степени странное зрелище. Вот оно: «Вы будете сильно удивлены, и как раз тогда, когда меньше всего ожидаете». Мимо шотландца с грохотом прокатил экипаж из тростника, в котором, почти утопая под грудой саквояжей и чемоданов, сидел не кто иной, как сэр Гарднер Уилкинсон, собственной персоной.
Уже с наступлением ночи Ринд обнаружил археолога в гостинице «У Уильяма» — той самой, в которой снял номер, последовав совету сэра Гарднера.
— Ну и ну. Похоже, вас очень трудно поразить.
— Я видел вас еще за городскими стенами, — признался ошеломленный шотландец, — и просто успел прийти в себя.
На самом деле он расплатился с проводником, отпустил его и в одиночку пустился по улицам, решив самостоятельно разыскать дорогу к гостинице: оказавшись в новом городе, он всегда предпочитал разбираться в нем не развлечения ради, а поставив перед собой определенную цель. Однако здесь, в Каире, в лабиринте переулков, запутанных пострашнее, чем в Эдинбурге или парижском Латинском квартале, он скоро сдался и вынужден был прибегнуть к помощи одного настырного погонщика ослов.
— Франко? Греко? Инглес? — не отставал мальчишка.
— Я шотландец, — ответил Ринд и, не дождавшись никакой реакции, спросил: — Отведешь меня в гостиницу «У Уильяма»?
Таким образом, с наступлением темноты он сидел вместе с археологом на освещенной фонарями веранде, глядя на площадь Эзбекия, где некогда жил — и проводил свои многочисленные парады — Бонапарт, а нынче обитали попрошайки, водовозы, бронзоволицые чиновники из Индии, уланы, отступающие из Крыма, и задиристые, обвешанные патронташами турки.
— Честное слово, — промолвил сэр Гарднер, окуная кусочек пудинга в сливки, — это вам не omelette à la Thèbes, верно?
— Можно спросить, — отозвался Ринд, — как вы здесь оказались?
— Как я сюда добрался? — намеренно переиначил его вопрос археолог. — Двадцатого числа отплыл из Саутгемптона пароходом «Индус», двадцать пятого был на Гибралтаре, тридцать первого — на Мальте. Сегодня утром покинул Александрию и вскоре доехал по превосходной новехонькой железной дороге до конечной — пока что — станции Кафр аль Зайят, и заметьте, всего за шесть часов, а ведь в прошлый раз тот же путь, но по Махмудовскому каналу, занял битых четыре дня. Очень даже рекомендую.
— Позвольте заметить, сэр Гарднер, что вы могли бы посоветовать мне этот способ и раньше.
— Знаете, — откликнулся тот со смехом, — на расстоянии было трудно определить его эффективность.
— А вы уверены, что не нарочно послали меня более длинной дорогой, чтобы теперь нагнать в Каире?
Сэр Гарднер поковырял свой пудинг.
— Вы стали весьма подозрительны.
— При всем почтении к вам, сэр Гарднер, я не могу…
— Знаете, я не стану увиливать, но, право, затрудняюсь с ответом. Может, мне требовался повод, чтобы в последний раз приехать сюда. Может быть, я нуждался в определенной цели. Или просто… — прибавил он с застенчивым видом, — позавидовал вам.
— А скорее всего, — вслух подумал Ринд, — так и задумали с самого начала. Настигнуть меня по дороге.
— Да, потому что мне нужно вам кое-что передать. Сокровище, которому нет цены. Оно повысит ваши шансы найти чертог. Это чудесный талисман, я с ним почти не расстаюсь.
— И вы не могли вручить его мне в Лондоне?
— Я ни за что не позволил бы этой вещи попасть в недостойные руки. А знаете, Йорк-стрит впервые на моей памяти отдыхает от шпионов. Только представьте, за мной совершенно никто не следил. Однако на всякий случай пришлось усердно делать вид, будто я направляюсь в Уэльс в обществе Каролины и Наполеона.
— И что же такое, позвольте полюбопытствовать, это ваше сокровище, ваш талисман? — Ринд наклонился в кресле, изображая жгучий интерес, но на самом деле попросту наслаждаясь компанией своего наставника. — Ради которого вы преодолели две тысячи миль?
— Терпение, мальчик мой. Завтра утром — самое подходящее время. Сначала мне нужно распаковать багаж, а на одно это уйдет целая вечность.
Однако на следующее утро ученик и наставник отправились на ознакомительную прогулку по городу, где повсюду замечали следы французской оккупации: вывески кафе, трехцветные флаги на рыночных площадях, бродячий актер в треуголке, изъясняющийся на жутком французском, огромные деревянные вывески, указывающие туристам путь к гостиницам «Нил», «Бельвиль» и «Ориент».
— Реклама, — презрительно выдохнул сэр Гарднер, — одно из многих преимуществ, дарованных франками восточному миру.
Впрочем, археологу то и дело приходилось сокрушенно крутить головой, глядя на стены домов, побеленных по приказу нового паши; замечая недостаток скамеек по сторонам дороги (чтобы не затруднять движения экипажей) и выступающие окна (для предупреждения пожаров), стеклянные витрины магазинов, полицейских в мундирах европейского покроя, правительственных чиновников, выряженных во фраки с узкими брюками и чопорные перчатки. Разумеется, все вокруг выглядело теперь куда чище и целесообразнее: улицы тщательно подметались, а чтобы пыль в воздухе не висела, их обрызгивали водой, — но сэра Гарднера угнетала мрачная мысль о том, что предмет его пылкой любви тает и меняется на глазах.
— Все бренно в этом мире, — вздыхал он.
В полдень путешественники навестили британское консульство, чтобы выправить необходимые бумаги для Верхнего Египта, и здесь же услышали о готовящемся бале в честь завершения строительства новой железной дороги.
— Я еще в Лондоне получил приглашение, — заявил сэр Гарднер. — О небо, что бы в этой стране ни построили, я каждый раз оказываюсь в числе званых гостей.
После этого путешественники вернулись в гостиницу: по словам старика, его развезло на страшной жаре и он желал немного прикорнуть.
— Боюсь, эти странствия отнимают слишком много сил, — посетовал он так жалобно, что Ринду оставалось только умолять его отдыхать и ни о чем не заботиться.
Однако в назначенный час сэр Гарднер поднялся с постели, облачился во фрак и галстук, тщательно уложил прическу, расчесал усы, обвисшие, как у морского льва, и уговорил молодого шотландца сопровождать его на бал, ибо «никогда не знаешь, кого можно там встретить».
Как только утихли последние завывания с минаретов, наставник и ученик подкатили в экипаже ко дворцу, украшенному не менее пышно, чем Тюильри (разве что шейхи у стен были настоящими, а не картинками на гобеленах), поднялись по лестнице в просторный бальный зал, посередине которого на высоком пьедестале, словно древний объект поклонения, был водружен серебристый макет локомотива. Сэра Гарднера, сидевшего рядом с Риндом спиной к ажурной перегородке, все принимали как лучшего друга — и многочисленные леди в платьях с глубоким вырезом, и влиятельные торговцы, и придворные всех мастей, и робеющие инженеры-железнодорожники.
Тучный паша Саид, любимый сын покойного Мохаммеда Али, обратился с приветственной речью к собравшимся, после чего уступил место фокуснику, выдувавшему над факелом огромные языки пламени. Когда ослепительная, точно молния, вспышка вызвала где-то за спиной изумленные вздохи, Ринд обернулся и увидел, как за перегородкой сверкают глаза гаремных девушек, — и ему стало невыразимо грустно. Потом один араб весьма внушительного вида прочел панегирик в честь парового двигателя, причем по-французски, за что его наградили самыми искренними аплодисментами. Чуть позже сэр Гарднер подошел к этому человеку. Они оказались давними знакомыми и долго и оживленно беседовали, словно родные братья, время от времени посматривая на смущенного шотландца. И вот наконец археолог подвел к арабу своего спутника.
— Алекс, чрезвычайно рад представить вам моего доброго друга, натуру необычайно тонкую, великодушную и цельную. Все это я могу говорить, не опасаясь возражений, поскольку, хоть он и человек огромной культуры, бедняга ни слова не понимает по-английски.
— Bonsoir,[77] — промолвил араб и, поклонившись по-восточному, протянул руку.
— Очень приятно, — сказал шотландец, неуверенно отвечая на пожатие, и посмотрел на сэра Гарднера в ожидании разъяснений.
— Алекс, — произнес археолог, — вы не поверите, но это ваш брат Рифа'а аль-Тахтави.
Сэр Гарднер все объяснил на следующее утро, во время поездки к пирамидам.
— Аль-Тахтави было тридцать лет, когда Мохаммед Али отослал его в Париж. Видите ли, паша питал слабость ко всему, что связано с Наполеоном, и более полувека искал доказательства существования чертога. Разумеется, до правителя долетали разные слухи; он допросил буквально каждого, кто имел отношение к Бонапарту в дни оккупации, а кроме того, лично участвовал в нескольких экспедициях по стране, наблюдал за многими другими, ну и конечно, внедрял соглядатаев в поисковые группы, которым платили иноземные короли. Короче говоря, сделал все возможное, чтобы найти следы чертога, но ничего не добился. Тогда ему в голову пришла идея послать аль-Тахтави в Париж, якобы для обучения коммерции и наукам, на самом же деле — чтобы молодой человек вошел в доверие к тому, кого паша даже издали счел ключом к разгадке. Случилось так, что аль-Тахтави не повезло: приехав на место, он узнал о смерти Вивана Денона и все-таки пробыл в Париже довольно долго, в общей сложности пять лет, в течение которых свел знакомство со многими другими учеными, успевшими посетить Египет, и в том числе с минералогом Фредериком Кальо. Этот последний и рассказал ему о чертоге, указав даже его местонахождение.
Ринду вспомнился список Гамильтона.
— Кальо был членом братства?
— Был и есть.
— Значит, он счел аль-Тахтави достойным?
— Вы не знаете Рифа'а! Я бы сам с превеликой радостью поддержал такое решение.
— И что, этот человек бывал в чертоге?
— Ну да, как только вернулся в Египет.
— А затем рассказал обо всем паше?
— Или позволил это сделать кому-то еще, — ответил сэр Гарднер и отвел взгляд.
Ринд не хотел идти на попятную, но быстро смекнул, что даже сейчас, на последней стадии поисков, существует черта, которой покуда нельзя переступать, и погрузился в молчание.
А потом прославленный археолог на несколько минут оставил шотландца наедине со Сфинксом (раскопки были до сих пор не закончены), в то время как сам пошел гулять под иссушающим солнцем, отгоняя нищих. Молодой человек робко посмотрел на иссеченный ветрами каменный лик. Что же он выражает — безмятежность, следы раздумий, мимолетность времени?.. К возвращению изнуренного археолога Ринд решил, что его смущение и есть единственный настоящий ответ.
— Должен признаться, я не мог долго смотреть, — честно сказал он. — Не хотел проявлять непочтение.
Сэр Гарднер не ожидал подобного и все-таки явно остался доволен… Однако по-прежнему не заикался о загадочном талисмане. Когда же молодой человек напрямую спросил об этом, наставник сделал удивленные глаза и воскликнул:
— Как? Разве я еще не отдал его?
— Боюсь, что нет, сэр Гарднер.
— Ладно, когда взойдем на борт и отчалим — да, это будет самое подходящее время.
Доказав, что не напрасно столько лет путешествовал и учился ладить с людьми, он успел нанять крепкое речное судно с приличной командой. Когда пилигримы вернулись от пирамид, оно было уже вымочено в воде для избавления от паразитов, затем как следует законопачено, просмолено, снаряжено надежными парусами и нагружено неисчислимыми чемоданами археолога. И вот кораблик медленно тронулся вверх по Нилу, огибая юркие ялики, плоты, гребные шлюпки, лодки и прочую плавучую мелочь. Меж тем сэр Гарднер не подавал и виду, будто собирается распаковывать вещи или делиться откровениями. Похоже, он вообще ничего не планировал заранее: зная, что видит любимую страну в последний раз, ученый заботился прежде всего о том, чтобы как можно ярче запечатлеть в душе ее величие и поэзию — будет чем скрасить долгие годы старости.
Достаточно хорошо знакомый с подобным состоянием неопределенности, Ринд и не думал унывать. Чистейший местный воздух и солнечные лучи вселили в него дотоле неведомую жизнерадостность. Ученику хватало и того, чтобы сидеть бок о бок с учителем и впитывать сердцем проплывавший мимо пейзаж — нескончаемую череду руин, арок и колоссальных изваяний кумиров; дворцы, из окон которых доносилась нежная музыка; пышные поля сахарного тростника, табака и пшеницы; тучи бабочек; огромные пеликаньи стаи; кузнечиков размером с мышей и крокодилов с самодовольными ухмылками… Все вставало свои на места перед лицом подобного единения человека с природой и временем.
Правда, сэр Гарднер и тут нашел причину для недовольства, ведь даже старинные храмы постоянно утрачивали первозданную красоту: стены их темнели от копоти светильников и не одна колонна была разрушена только ради добычи строительного материала.
— Разумеется, вам не понять, — уныло заметил археолог в храме богини Хатор, — но даже «красные люди» уже не такие красные.
В отличие от молодого шотландца он быстро терял остатки здоровья, страдая от зноя и неудобств; к тому же разлука с Каролиной переполняла душу неожиданно острой тоской, так что через каких-то шесть дней сэр Гарднер объявил скрепя сердце, что не вынесет больше тягот путешествия. Со вздохом опустившись в объятия скрипучего кресла, он в последний раз залюбовался закатом на Ниле. Небо в лиловых разводах, усеянное облачками шафранового оттенка, мало-помалу превращалось в чернильно-синее с кровавыми полосами… Прекрасное зрелище, сравнимое разве что с видом самих пирамид.
Потом он ушел к себе в маленькую каюту, чтобы, порывшись в груде жилеток и медных кастрюль, разыскать обещанный талисман.
— А вот и мы, — объявил сэр Гарднер, вернувшись в компании своего пятнистого зонтика.
Ринд разразился веселым смехом. Потом присмотрелся к наставнику и в испуге понял, что тот не шутит.
— Алекс, сынок, я искренне разочарован. Неужто вы не понимаете оказанной вам чести? Я тридцать пять лет не выпускал эту редкую вещицу из рук. Надеюсь, вы будете хорошо за ней присматривать.
— Премного благодарен, сэр Гарднер, но вы уверены, что в местных условиях она мне может понадобиться?
— Алекс, погода здесь ни при чем, а вот чертог — при всем. Поверьте, без этого зонтика не стоит и пробовать отправляться на поиски.
На этом объяснения закончились. Следующим утром, сердечно пожав товарищу руку и дав последние напутствия, но не подкинув больше ни единого намека, археолог развернул суденышко и отплыл обратно в Каир, чтобы показаться хорошим врачам. Оставшись один, Ринд взял свой багаж и зонтик, в глубокой задумчивости сел на один из множества колесных пароходов, бороздивших волны бессмертной реки, и предался невеселым размышлениям. Несмотря на прощальные уверения сэра Гарднера, чертог вечности по-прежнему казался столь же далеким, как некогда в стенах Британского музея. Прочие пассажиры — по большей части невежды, распухшие от шампанского и пирожков с пряностями, — с непристойной радостью погрязали в грубых увеселениях. Заполонившие Нил огромные баржи, нагруженные бивнями, страусовым пером и девушками-рабынями, наводили на Ринда ужас. От памятников древности, еще недавно переполнявших сердце священным трепетом, разило гнилостным запахом тирании и суеверия. Будущее рисовалось воистину мерзким: нашествие развлекательных пароходиков, гостиницы, санатории, сувенирные лавки… Всю лунную ночь он отсиживался на корме за перегородкой в компании пугливой абиссинской обезьянки, благоразумно избегавшей как пассажиров-мужчин (для них на носу корабля проводились азартные бои между скорпионом и пауком, на которых разрешалось делать ставки), так и общества дам (они собирались в салуне и, гремя по клавишам расстроенного фортепьяно, распевали песенки с пантомимами), но даже здесь нашел новый повод для отчаяния, когда увидел проплывавший мимо плот, уставленный клетками с павианами. Маленький спутник Ринда проводил своих несчастных сородичей взглядом просвещенного человека, взирающего на черных рабов.
С рассветом окутанный туманом пароход остановился у луксорского причала, потеснив «плавучие домики», и стаи туристов устремились к развалинам, осаждаемые ордами назойливых гидов, коробейников и торговцев напитками. Ринд улизнул на западный берег и в Долине царей разыскал бывший дом злополучного Джованни Датанази, а чуть поодаль — жилище юного Гарднера Уилкинсона. Однако и здесь вместо обещанного «гостеприимного приюта» его глазам предстала заброшенная, обшарпанная постройка; оконные ставни и двери с петель давно посрывали воры, а в зубчатой голубиной башне кишмя кишели крысы и ящерицы.
Где-то вдали заворчала гроза. Увидев на небе огненные полосы молний, молодой человек пересек реку и пустился бродить среди разукрашенных пилонов,[78] видя повсюду «красных людей», но не находя разгадки. Его позвали отведать вместе с остальными поджаренных тостов с корицей и мятой; Ринд вежливо уклонился от приглашения. Потом он наткнулся на любовную парочку, уединившуюся в склепе, на парня в очках, взгромоздившегося на груду камней с номером «Таймс» месячной давности… и пришел в себя только в Карнаке, когда первые крупные капли дождя загнали чуть ли не всех пассажиров на борт.
Оставшись один в Колонном зале, глядя в самую гущу громадных бурлящих туч, шотландец чувствовал себя так, словно уже бывал здесь раньше — на этом же самом месте, при схожих обстоятельствах. А потом ему вспомнился Египетский зал Хрустального дворца, под крышей которого молодой человек стоял восемнадцать месяцев тому назад, в день такой же ужасной грозы. Только тогда тяжелые градины громко скатывались по стеклянной крыше фальшивого храма, теперь же они рикошетом отскакивали от настоящих колонн, ударяли странника по плечам и покрывали песок слоем быстро тающего льда.
Раскрыв над собой зонтик-талисман, Ринд уныло побрел обратно к пароходу, как вдруг из темного портика донесся чей-то голос.
— Мистер Ра-Хинд? — осведомился мужчина в одеждах шейха.
Сэр Гарднер Уилкинсон обнаружил у бедуинов Египта такие качества, как обостренное чувство чести, отвращение к вероломству и благородную простоту — романтичные, недвусмысленные свойства души, которыми неизменно восхищался, особенно выделяя абабдехов из Восточной пустыни. Во время страшного голода тысяча восемьсот двадцать пятого года археолог помог этим людям, жертвуя последним бесценным куском, лишь бы выжили дети и женщины, и абабдехи навек запомнили его доброту.
Похоже было, что шейх Селам — посланник, представлявший интересы своего рода перед торговцами и правительственными чиновниками в Фивах, — лично знал сэра Гарднера, хотя и называл его почетным именем «Измаил». И еще, похоже, он каким-то загадочным образом (молодой человек так и не решился спросить) ожидал прибытия шотландца. Во всяком случае, шейх не теряя времени показал Ринду старинные карты, грубо начертанные от руки, достал ему чудесного одногорбого верблюда и отослал в пустыню, торжественно благословив по бедуинскому обычаю.
— Есть ли у вас firmans? — спросил он, имея в виду официальный пропуск. — И пистолеты?
— И то и другое, — тревожно откликнулся молодой человек.
— Они не понадобятся. Только зонтик.
Итак, молодой человек с клетчатой повязкой на голове и в очках с закопченными стеклами, прикрываясь пестрым зонтом, тронулся в путь по древней дороге, по которой некогда ездили колесницы, торговцы пряностями и ценной древесиной. Тем не менее мысли его целиком занимала участь людей, обреченных работать на изумрудных копях и столетиями месивших ногами пыль. Ринд отчего-то не сомневался, что едет именно туда, хотя шейх всего лишь велел ехать вперед, покуда «мудрые судьи» не остановят его и не укажут новое направление. После восемнадцати долгих месяцев неопределенность все не кончалась, однако шотландец утешался ощущением неотвратимой судьбы, чувствуя себя главным героем романа, близящегося к развязке. К тому же он совершенно не испытывал одиночества, словно был уверен, что за его спиной машет крыльями таинственный ангел-хранитель, и мысленно воображал рядом тех, кто посетил копи до него: Уилкинсона, Лепсиуса, аль-Тахтави, Бельцони, Денона, Хасана ибн-Сахля, Элия Галла и Страбона… только не У. Р. Гамильтона, из железных тисков которого молодой человек, похоже, внезапно вырвался.
Постепенно Ринд проникался восхищенной нежностью к своему верблюду, ни разу не заревевшему и не сбившемуся с пути, даже когда наездник в задумчивости отпускал поводья; шотландец был очень рад мельком видеть газелей, серых куропаток и даже скорпионов, не говоря уже о стае перелетных ласточек; ночами он засыпал под мерное тиканье тарантулов, точно прислушивался к испорченным часам. В минуты голода подкреплял силы пресными лепешками и водой из бутыли, а отдыхая в тени, читал потрепанный томик «Стихов для болящих и страждущих», полученный на борту «Ориента» в подарок от одного добросердечного миссионера. Впереди по-прежнему расстилалась величественная равнина; иногда ветер пригоршнями бросал в лицо прах древних династий, но в остальное время молодой человек наслаждался исключительно чистым воздухом, какого нигде не встречал, даже у самого Нила. Каждый новый день приносил Ринду очередное изумительное открытие: то ему попадался вырубленный из камня храм, посвященный Амону-Ра, то иероглифы, грубо высеченные скучающими солдатами на колоннах и скалах, то маленькие пирамиды, водруженные на холмах как дозорные башни.
Окровавленные платки остались в далеком прошлом, вместе с белыми от инея окнами. Горя желанием наконец-то увидеть легендарный чертог, путешественник продолжал свои странствия даже ночами, под ярким звездным куполом; от переизбытка телесных и душевных сил ему хотелось кричать во все горло (на диво собственному верблюду) стихи для оставленных и осиротевших:
Как тяжко жизненной тропой Брести тому, кто одинок, Не зная нежности людской, Что подкрепила б средь тревог.Когда впереди, переливаясь всеми цветами, ослепительно засиял на утреннем солнце сланцевый горный хребет, Ринд понял, что цель уже близка. И хотя он по-прежнему не слышал ни звука и не встречал знаков человеческого присутствия (если не считать колесниц, орлов и красных людей, изображенных на скалах), он ясно чувствовал на себе чьи-то пронзительные взгляды.
— «Один ли ты? Ведь Бог с тобой!» — восклицал молодой человек.
— «Не сокрушайся: „друга нет“», — цитировал он, и пещеры отзывались гулким эхом.
— «Бог всемогущий и живой», — воодушевленно произносил странник.
— «Избавит от страстей и бед»,[79] — еле слышным шепотом заканчивал он.
Немного погодя путешественник увидел россыпь глинобитных лачуг — и группу курчавых, вооруженных ножами и карабинами туземцев, которые явно ждали его приезда.
Своеобычное наречие абабдехов практически было замещено смесью из арабского языка (важного для торговли), некоторых обрывков французского (приобретенных во время оккупации) и серьезных вкраплений английского (местные жители часто общались с британскими моряками, размещенными в Касре). Самым словоохотливым среди туземцев оказался приветливый юноша, чья внешность удивительно напоминала портрет работы Денона — на этом портрете доктор Кюретон много лет спустя обнаружил отпечатки куда более любопытных рисунков…
— Ты друг с Измаил? — спросил туземец молодого шотландца.
— Очень на это надеюсь. Меня зовут Алекс. А тебя?
Собеседник приложил правую ладонь ко лбу и поклонился:
— У меня нет имени.
А затем проводил Ринда через поселение к самой крупной из лачуг. Там, наклонившись в седле, на верблюде восседал величественный седовласый шейх — дедушка юноши, а может, прадед.
— Issmi Iskander, — представился Ринд. — Меня зовут Алекс.
— А мое имя — Ничто, — отвечал шейх.
Однако при всей своей скрытности эти люди проявили образцовое гостеприимство — они предложили Ринду самые ароматные блюда, чистейшую воду из источников, мягчайшую постель, а для удобства добавили даже подушку в шелковой наволочке, овчину и зеркало для бритья, купленное у одного заезжего торговца. Вместе с тем шотландец ни на минуту не переставал ощущать их внимательные, оценивающие взгляды. Так и не догадавшись, каких же качеств от него ждут, молодой человек решил остаться самим собой.
Разумеется, Ринд молчал о чертоге и, разумеется, ни разу не слышал вопросов о том, зачем и откуда он взялся в племени. Целых пять дней он попросту наслаждался радушием хозяев, посильно участвовал в их нелегком каждодневном труде и подолгу, до полного утомления, гулял по холмам, которые напоминали причудливым разнообразием оттенков коралловые рифы.
Однажды юный туземец отвел его к поселению, где много веков тому назад рабочие изумрудных копей и их родные обессиленно спали на каменных ложах под нестерпимо палящим солнцем. Здесь, в окружении осыпающихся каменных лачуг, Ринду поминутно попадались обломки глиняной посуды, костей, глиняных светильников и блестящие осколки изумрудов; налюбовавшись полуграмотными надписями на самых разных древних языках — от египетского до арабского, — молодой человек с благоговейным трепетом осмотрел грубо высеченные в скалах капища, где рудокопы преклоняли колени, ища утешения в молитвах.
— У нильских берегов храмы куда солиднее, — заметил он.
— А эти — некрасивы? — спросил проводник.
— Они не такие внушительные, зато намного… — Шотландец умолк, подбирая нужное слово. — Человечнее.
Вечером того же дня седовласый шейх достал жестянку из-под печенья и показал гостю племени хрустящий лист мелованной бумаги, на котором был набросан чей-то портрет; Ринд безошибочно узнал стиль сэра Гарднера Уилкинсона. За первым рисунком явился второй — на этот раз, несомненно, руки Вивана Денона. Молодой человек запоздало сообразил, что видит перед собой ранние портреты самого шейха. Вот только сэр Гарднер изображал морщины и густую, окладистую бороду, а Денон — гладкое юношеское лицо и сияющие глаза.
Меж тем туземец молча протянул гостю затупленную обугленную палочку: очевидно, просил его сделать третий рисунок. Ринд попытался отговориться тем, что он — горе-художник, однако шейх настаивал. Пришлось молодому человеку против собственной воли взяться за импровизированный карандаш и сделать все, что было в его силах, хотя и всерьез опасаясь гнева «заказчика». Увидев портрет, благородный старец лишь рассмеялся и согласился: действительно горе-художник.
— Живи здесь, живи с нами, — промолвил юный туземец, когда они с Риндом застыли под небом, любуясь восходом белой, как череп, луны. — Живи нескончаемые лета.
Шотландец уже заметил, что местные долгожители бодры и легки, словно газели. И конечно, его глубоко восхищали их суровая простота и полное отсутствие тщеславия. Но все-таки он покачал головой:
— Нет, у меня иная судьба. Я не имею права на ваши сокровища.
— Они твои. Владей ими.
— Я оценю их гораздо лучше, когда буду вдали.
Собеседник пристально посмотрел на него.
— Хочешь взять наши сокровища на родину?
Вот он, момент истины, догадался Ринд, и честно ответил:
— Разумеется, я их возьму. — Тут он постучал по виску пальцем. — Но только в собственных мыслях.
На следующий день туземец некоторое время совещался с соплеменниками (те поглядывали теперь на гостя с каким-то новым почтением, а может быть, даже завистью), а ночью, под убывающей луной, вышел в пустыню с корабельным фонарем и позвал за собой молодого шотландца — насладиться самым таинственным и удивительным в мире сокровищем.
Глава шестнадцатая СУРОВАЯ ОСАДА ПАМЯТИ
Его свободу ограничивала четырехмильная каменная стена; дозорные, выставленные буквально на каждом шагу; четыре военных судна у причала и еще шесть — непрерывно кружащих вокруг острова; пятьдесят третий полк в полном составе; и бесконечная водяная пустыня (любой приближающийся корабль бросался в глаза уже за двенадцать лиг, а до ближайшей суши оставалась тысяча двести миль). Бок о бок с ним проживала отборная свита: слуги, секретари, врачи с поварами, а также представители Австрии, Пруссии и роялистской Франции, уполномоченные денно и нощно записывать любые мелочи, касавшиеся узника, вплоть до количества забитых на бильярде шаров и урчания в желудке.
Жалуясь окружающим на недостаток известности, на самом деле ссыльный ожидал все новых опровержений — и тут же получал отчеты из первых рук: о нем говорят в горах Уэльса, китайцы упоминают его наравне с Чингисханом, а в Южной Африке Наполеонами нарекают непобедимых быков, коней на скачках и бойцовых петухов. Теперь уже что бы ни случилось, а он останется самым известным, самым окрыляющим, самым важным существом на земле.
Однако в конечном счете все это слабо утешало в сравнении с бесславием настоящего времени. Насильно отлученный от Франции, лишившийся бранных полей, обделенный властью, схоронивший мечту о блестящих победах, изголодавшийся по осязаемым знакам величия… Что ему оставалось? Лишь поддаваться отчаянию и сварливой раздражительности, покуда бьющая через край энергия пожирала его изнутри.
— Я уже не живу, — вздыхал узник. — Я только существую.
Со временем он завел себе правило — часами простаивать в малом китайском павильоне, облачившись в линялый зеленый мундир с треуголкой, и, глядя на сверкающие морские волны в расщелине между скал, размышлять о том, какое множество неблагодарных свиней он собственными руками вытащил из трясины забвения на свет истории: льстецы, подхалимы, соглядатаи, приживальщики, лицемеры, притворщики, любовницы, трусливые законники, неграмотные солдаты, мятежные генералы, полицейские чины, заговорщики, жалкие болтуны, вздорные придворные, никчемные волокиты, высокомерные монархи, тюремщики с плохими желудками, неисчислимые армии дрянных бумагомарак и надменных историков, лошади, боевые поля, деревни, десятилетия, острова и целые страны — все они цеплялись за фалды его мундира, хищно вгрызаясь в чужую славу, и при этом смели еще судить Наполеона, учить его, оскорблять… называть сумасшедшим.
И здесь, на Святой Елене, люди подобного сорта готовы были часами дежурить в кустах, лишь бы одним глазком посмотреть на бывшего императора. Это они искали любую случайную работу, любой повод, чтобы попасть на Лонгвуд, хоть на минуту вдохнуть его спертый воздух и потом упиваться рассказами о «великих волнениях» до скончания своих жалких дней. Они же на обратном пути из Китая или Индии нарочно делали крюк, причаливали к острову и просили аудиенции, как если бы узником был сам Папа.
В июле тысяча восемьсот семнадцатого года таким человеком стал чернобородый англичанин Томас Маннинг, ученый и путешественник, весьма обязанный Бонапарту за милостивое разрешение покинуть Париж в тысяча восемьсот третьем, когда разгорелась война между Францией и Англией. Разговор состоялся в кабинете Наполеона. Развлекая бывшего императора очаровательными историями о своей жизни в Тибете, Маннинг изумленно вскинул брови, когда собеседник признался, что всегда считал далай-ламу просто мифом.
— Ваше величество, это не миф, хотя и не мужчина в полном смысле слова. Ко времени моего приезда в Лхасу[80] ему исполнилось только шесть лет.
— Шесть лет? — Наполеон представил себя самого в этом возрасте: порывистого, подвижного мальчугана, думавшего о сластях больше, чем о святости. — И он уже у власти?
— Официально — вассал китайского императора, но верноподданные считают его воплощением священного Будды.
— И каким же образом это было установлено?
Маннинг поставил свой чай на столик.
— Вообще-то, я задал ему тот же самый вопрос.
— Вы разговаривали с далай-ламой? — поразился Наполеон.
— Да, первый из англичан. Я был удостоен даже нескольких бесед у него во дворце на Крыше мира.
— И как вам понравился шестилетний мальчик?
— Это самый прекрасный ребенок на свете, — произнес Маннинг так, словно вел речь о своем сыне. — У него чарующая улыбка, а в сердце — глубокая мудрость, превосходящая детские лета. Далай-лама поведал о золотой урне, откуда вытянул жребий священного лидера, и еще о множестве испытаний, которые завершают отбор.
— Может, он посвятил вас в подробности?
— Ваше величество, должен признаться, я далеко не все понял, поскольку малыш изъяснялся стихами. Но, например, мне известно о некоем особом чертоге, куда он должен был наведаться лично за подтверждением своей судьбы.
— Особый чертог? — нахмурился Наполеон. — Любопытно.
— По его словам, это самая прекрасная комната, в которой хранятся все тайны мира и которую должен посетить любой правитель, прежде чем брать на себя ответственность бренной власти.
— Значит, чертог…
— Да, чертог вечности, так он сказал.
По коже бывшего императора побежали мурашки.
— А этот самый чертог, — выдохнул он, пристально глядя в глаза собеседнику, — он случайно…
— Простите, ваше величество?
— Он случайно находится не… в Египте?
— О нет, — любезно улыбнулся Маннинг. — Не в Египте.
— А где же?
— Полагаю, ваше величество, что далай-лама всего лишь имел в виду человеческое сердце.
Бонапарту непонятно почему полегчало.
— Вот оно что. — Он закивал, чувствуя, как успокаивается пульс.
— Именно так, ваше величество.
Наполеон продолжал кивать.
— А этот ребенок… По-вашему, он отыскал в своем сердце судьбу, которой желал?
— Трудно сказать, — развел руками путешественник. — У него был такой безмятежный, умиротворенный вид… Выходит, мальчик не знал о своей ужасной участи.
— Ужасной?
Маннинг помрачнел.
— Спустя каких-то три года после нашей встречи, в возрасте девяти лет, ваше величество, он скончался от воспаления легких.
— Понятно, — пробормотал узник, не испытывая ни капли скорби. — Понятно.
И вдруг, ненадолго задумавшись, натужно усмехнулся:
— Значит, бывают секреты, недоступные даже сердцу?
Удивленный его словами, ученый продолжал кивать и вежливо улыбаться, однако Наполеон уже не видел и не слышал его. Он рассеянно смотрел на чайный сервиз, украшенный сфинксами и храмами Денона, и уносился в своем воображении к иным чертогам, к иным, куда более славным дням.
Честно сказать, мысли бывшего императора далеко не сразу вернулись к чертогу вечности. В первые годы ссылки, уже второй по счету, его распирало от негодования, не оставляя времени на воспоминания о Египте или сомнения в собственном рассудке; единственными «красными людьми», которых он видел, были солдаты пятьдесят третьего полка, бесконечно марширующие вокруг Лонгвуда. Все, что касалось чертога, доставляло такую боль, что думать о нем не хотелось, а примириться с невозможностью разгадки казалось абсолютно невозможным. В сложившихся обстоятельствах оставался вроде бы единственный разумный выход — найти себе другое занятие. Впрочем, когда Бонапарт запоздало узнал о печальной участи молчаливого полковника Бутэна (убитого какими-то головорезами в тысяча восемьсот пятнадцатом году под Баальбеком); когда принужден был воскресить в памяти события египетской кампании (ведь он диктовал мемуары); когда чинуши вроде сэра Гудсона Лоу столь бездарно пытались вытянуть из него искомые сведения, а в самых невинных на первый взгляд беседах чаще и чаще стали проскальзывать вопросы о Каире — их задавали буквально все: посланники, секретари, водопроводчики, оклейщики обоев, садовники, посетители вроде Маннинга, так что в конце концов Наполеон начал видеть вокруг одних лазутчиков, — его с головой поглотила решимость найти разгадку.
Узник засыпал Денона и прочих французских ученых посланиями, настойчивыми, а потом и просто истеричными, но не добился вразумительного ответа, после чего взялся поливать адресатов грязью, обесценивая все их заслуги в Египте. Он пытался вступить в переписку с мамелюком Рустамом, своим телохранителем, однако жалкий перебежчик не желал иметь ничего общего с бывшим господином. Подлые секретари подались в роялисты. Прочих помощников и слуг вообще было не сыскать. В отчаянии Наполеон обратился к своей каирской возлюбленной, Паулине Форе, но эта мерзавка сжигала все его письма, не распечатывая. Не найдя ни одного человека, кто согласился бы поведать ему о той последней неделе в Египте, Наполеон заподозрил обширнейший заговор. И только со временем, обнаружив, что Лоу просматривал всю его корреспонденцию, крепко задумался: в самом ли деле наиболее важные письма покидали остров? Тогда узник начал пересылать их тайком, щедро подкупая британских военных, купцов или моряков, плававших на судах с китайскими пряностями: порой переправить на материк один лист бумаги обходилось дороже, нежели доставить взрослого пассажира. Когда же и этот способ явил свою ненадежность, Наполеон пустился на чудеса изобретательности, пряча шифрованные записки за подкладкой жилета, в кофейных чашках, табакерках и прочих подарках, которые отправлял во Францию. Дошло до того, что Лоу начал рыться в грязном белье Бонапарта, усматривая в недавно прошитых стежках на одежде символическое изображение Нила, а в разноцветных бобах с огорода — особый тайный код.
В конце концов, не получив никакого ответа, Наполеон решил в последний раз устроить суровую осаду собственной памяти. Он был убежден, что обладает в этой области поистине чудодейственной силой, ибо смолоду гордился умением не только перечислить поименно всех военных в своем полку, но и сказать, откуда кто родом и даже каких придерживается политических убеждений. Где-то в тайном и темном чертоге черепной коробки, убеждал себя Бонапарт, в тупике какой-нибудь извилистой галереи наверняка затерялось арабское имя, которым «красный человек» представился той ночью внутри Великой пирамиды. Нужно было только настойчиво пробиться к нему сквозь марево мелких происшествий и несущественных подробностей. И вот, затеяв опасную игру только затем, чтобы определить имя главного персонажа в загадочной истории, Наполеон вступил в немилосердную войну против собственного рассудка: теперь ему оставалось или победить, или сойти с ума.
Чтобы растормошить свою память, он оживил египетскую кампанию в мельчайших подробностях, так что носом чувствовал запахи пряностей и боевого пороха; он прочел о далекой стране все книги, какие сумел достать; подолгу сидел над атласами и глобусом; повесил у себя в кабинете подробную топологическую карту, составленную силами ученых его Института Египта и запрещенную им же много лет назад; то и дело возвращался к томику сказок «Тысяча и одной ночи», наслаждаясь поэтичными именами героев; а главное — выписал из Парижа официальный вариант французско-арабского словаря, разработанного лингвистами экспедиции.
В ожидании последнего император томился, словно в лихорадке.
— А знаешь ли ты, что слово «арсенал» имеет арабское происхождение? — спрашивал он своего пажа Сен-Дени.
— И «сахар» тоже.
— Надо же, арсенал и сахар! Целая культура в пороховом рожке.
Но когда словарь оказался на острове, сэр Гудсон Лоу наотрез отказался передать его узнику.
— Гиена! — шипел Бонапарт. — Кто дал ему право удерживать книгу, разрешенную мне по закону?
— Он опасается, не зашифровано ли там секретное послание, господин.
— Да? И что же он отменит в следующий раз? Наверное, солнечный свет?
— Он бы с радостью, господин, если бы мог.
Оставшись без помощи словаря, Наполеон продолжал терзать свой разум до полного изнеможения. Не раз и не два он испытывал танталовы муки, приближаясь к неуловимой разгадке: теперь узник был уверен, что первая часть имени — Абдулла, но далее, как ни бился, не мог извлечь из памяти даже одного-двух слогов, которые показались бы знакомыми. Между тем за окном увядала трава, чахли цветы, деревья теряли пышную листву, старились и умирали времена года, таяли скалы — алчное время пожирало все и вся, тем более человеческую плоть, грозя поглотить и его, так и не отыскавшего ответ.
Разочарование обостряло тоску, а та, в свой черед, подстегивала упрямую решимость идти до конца. За бессонницей и мигренями пришли головокружения, тошнота, приступы озноба, обильный пот. Тело Наполеона распадалось на части, сознание съеживалось, однако он не сдавался в яростной борьбе против собственной смертности.
В сентябре тысяча восемьсот двадцатого года Бонапарт написал отчаянное прощальное послание Денону, не ведая даже, достигнет ли оно адресата.
В феврале тысяча восемьсот двадцать первого узник в последний раз оседлал своего скакуна по кличке Шейх.
К апрелю двадцать первого — начал кашлять черной кофейной гущей с прожилками крови; живот у него обвис, желудок отказывался принимать пищу, а глаза уже не выносили яркого света. Прикованный к постели, Наполеон заговаривался и бредил.
И только в конце месяца, поверив, что смерть заклятого врага подступила к порогу, сэр Гудсон Лоу разрешил принести словарь.
Как и его давно почивший отец, оказавшись почти на краю разверстой могилы, Бонапарт решил заблаговременно вернуться в лоно унаследованной веры или по крайней мере сохранить удобный нейтралитет. Его исповедником стал простодушный Анжело Виньяли, юный священник из Ватикана, — правда, бывший император подозревал в нем лазутчика Папы Римского, а значит, еще одного соглядатая из тех, что так и вертелись вокруг, в особенности теперь, почуяв стремительное приближение смерти. Так или иначе, именно падре Виньяли принес Наполеону долгожданную книгу и с готовностью помог переместиться в кресло у прикроватного столика, где все-таки не царила загробная тьма.
Зеленый сафьян переплета был усеян тиснеными золотыми пчелами. Убористо исписанный фронтиспис украшало довольно любопытное стихотворение багдадского поэта девятого столетия по имени Абу аль-Атахия:
Но в час, когда охватит тебя предсмертный холод И сердце затрепещет под оболочкой бренной, Внезапно ты прозреешь и вся земная слава Покажется убогой, ничтожной и презренной.[81]С трясущейся головой и дрожащими губами Наполеон лихорадочно листал страницы, ища знакомое имя или слово, от которого заработала бы память. Время от времени он громко читал что-нибудь, задумывался, смаковал произнесенное, отвергал и устремлялся дальше.
— «Yahdi», — говорил он, к примеру, и палец его на миг застывал на месте. — «Дарить»…
— «Layla» — «ночь»…
— «Sha'a» — «желать»…
Капли дождя расплывались пятнами по стеклу, высыхали и падали снова; Бонапарт продолжал искать, бормоча и морщась, презрительно отворачиваясь от ячменного отвара, рисового пюре и прочих деликатесов, которыми вздумали соблазнять пациента встревоженные лекари. Император болезненно побледнел, глаза его налились кровью, но он запрещал прикасаться платком к своему покрытому холодной испариной лбу, боясь хоть на миг прервать охоту теперь, когда добыча была так близка — и что ему цена, что ему сама смерть!
Когда субтропический день резко сменился субтропической ночью и мимо при свете свечи на цыпочках прошел Сен-Дени, Наполеон вдруг застонал, закрыл руками лицо и, судя по его виду, едва ли не разрыдался, хотя со стороны невозможно было понять: то ли он совершил ужасное открытие, то ли просто поддался изнеможению.
— Сир, — обратился к хозяину Сен-Дени, — принести вам халат?
Бонапарт не ответил.
— Сир?
Наполеон испустил еще один тяжкий вздох и с трудом поднялся на ноги, но тут же покачнулся. Его подхватили под руки, довели до кровати, уложили на взбитые подушки, укрыли простынями в темных разводах от рвоты — а потом застыли над крохотным, мятущимся в бреду человечком, пытаясь хоть что-то разглядеть за крепко сжатыми веками. Никто не догадывался, что генерал, чьи сражения унесли почти четыре миллиона жизней, мысленно уже покинул Святую Елену и никогда не вернется обратно: он перенесся в Египет, на сумеречные каирские улицы, в двенадцатое августа тысяча восемьсот девяносто девятого года и снова держал путь к великим пирамидам.
Глава семнадцатая ИМПЕРИЯ ВЕЧНОСТИ
Над Забарой, Изумрудной горой, высотой в 4520 футов, высился посеребренный лунным сиянием пик, напоминающий Великую пирамиду. «Идеальное место для легендарного чертога», — подумалось Ринду. Безымянный туземец, погасив корабельный фонарь и украдкой посматривая по сторонам, извилистыми путями вел его к подножию, где в сланце темнело множество пещер, но путники не удостоили вниманием ни одну из них.
Бочком продвигаясь по восходящему выступу, иногда перешагивая через ядовитых змей, они достигли каменистой осыпи (луна как раз утонула за облаками) и осторожно добрались до трещины столь неприметной, что никто бы не обнаружил ее случайным образом. Туземец по-воробьиному огляделся, удостоверился в том, что ночное светило еще прячется, и торопливо протиснулся в отверстие, жестом позвав за собой спутника.
Ринд — он был немного выше ростом, но так же строен — набрал в грудь воздуха и юркнул следом. С оцарапанным лбом, едва не вывихнув лодыжку, шотландец нырнул во тьму, где его охватил вполне предсказуемый восторг и в то же самое время неизъяснимая печаль.
Впереди чиркнула не то спичка, не то кремень, и резко вспыхнувший свет фонаря выхватил из мрака первые ярды узкой неровной шахты, ведущей вниз.
Звезды мигали, качались и плыли перед глазами. Наполеон то и дело моргал, силясь совладать с собой, зная лишь одно: шейхи плотно столпились вокруг и куда-то влекут его по залитому луной Каиру, словно вырванную из учебника истории страницу, подхваченную ветром.
(«Сир?»)
Он еле-еле улавливал этот голос, доносящийся как будто бы с неба.
(«Сир?»)
Наполеон продолжал брести, ничего не чувствуя и совершенно не владея собой, подобно лунатику, хотя был уверен, что не спит. Рычали собаки, шейхи тихо переговаривались между собой, время от времени отрывисто отвечая по-арабски на оклики французских часовых. И… что же потом? Кажется, они миновали ворота Эзбекия, цепочкой спустились по узкой тропе между мусорными кучами, поднялись на качающийся паром и пересекли чернильные воды Нила, взобрались по заросшему осокой берегу, оседлали голосистых ослов и поехали мимо оросительных каналов, мимо пальм, тамарисков, диких смоковниц…
— Куда вы меня везете? — вымолвил Наполеон, прекрасно понимая нелепость своего вопроса, ибо на горизонте уже возвышались осиянные звездами пирамиды.
Под ногами то проседали дюны, то дыбились окаменевшие волны песка. Достигнув долины улыбающегося Сфинкса, кавалькада двинулась по тропе, зажатой между причудливыми наносами, к северной грани Великой пирамиды. Тут всадники спешились и поднялись на шестьдесят футов над землей к отверстию, пробитому тысячу лет назад людьми калифа аль-Мамуна.
(«Сир? Вы меня слышите?»)
Заполыхали факелы, тьма немного рассеялась, и перед Наполеоном разверзлась нисходящая галерея, темнее и глубже его самых черных кошмаров.
Безымянный туземец предупреждал, что будет неудобно. Согнувшись в три погибели, Ринд без труда воображал, будто спускается извилистым неровным коридором прямо в ад. С каждым шагом воздух становился все удушливее от растревоженного песка, и пот застывал на коже желтой коростой. Кое-где на глаза попадались пятна копоти и следы рабочих инструментов, оставленные много столетий тому назад; было невыносимо думать, что люди — женщины и дети — надрывались в подобных условиях, и все ради прихоти фараона.
Снедаемый горечью и утомлением, шотландец протискивался за своим проводником по лабиринту троп и развилок. Он почти позабыл о том, куда собирался попасть, когда галерея внезапно расширилась и превратилась в небольшую пещеру, пол которой представлял собой глубокую яму, засыпанную знакомыми круглыми камнями.
За несколько месяцев со дня прибытия в Египет французские солдаты сделали все возможное, чтобы расчистить ходы внутри Великой пирамиды, но и сейчас Бонапарт был вынужден кое-где ползти на четвереньках, а то и плашмя, через песочные завалы, подтягиваясь вперед на локтях, вслед за мерцающими светильниками шейхов — чего не сделаешь ради редкостной, выдающейся судьбы! Наконец Наполеон смог подняться, вытереть мокрый лоб и, отмахнувшись от налетевших летучих мышей размером с кулак, дать себе секундную передышку на пути.
(«Теперь ему не оправиться… Вот уже столько часов… Он уже не очнется…»)
Но вот и Великая галерея. Спускаться пришлось при помощи зарубок в стене и скользкой веревки. Пламя ярчайших факелов не достигало высокого потолка, а где-то наверху стояли шейхи, торжественные, словно в почетном карауле, — впрочем, некоторые тревожно косились на еле заметный вход, будто бы желая показать, что им не пристало пересекать запретную черту.
(«Настала пора позаботиться о последнем помазании…»)
Отлично осознавая серьезность минуты, стараясь унять подступившую дрожь, маленький генерал выпрямился во весь рост, сглотнул, откашлялся, нерешительно стряхнул с рукавов пыль. Потом еще раз глотнул воздуха, напоследок взглянул на устрашенных шейхов, пригнулся и пополз через крохотное отверстие, которое наконец-то вывело его в самое чрево царского чертога. Под безмятежным сводом в сердце Великой пирамиды при свете раскаленной жаровни Наполеона ждал пророк в серебряной маске и ярких багряных одеждах.
— Enchanté,— промолвил «красный человек» и по-восточному поклонился, прижав ладонь ко лбу.
Безымянный туземец качнул фонарем над ямой.
Там были целые сотни камней. Ринд узнал породу, образец которой видел в Британском музее.
— Термолюминесцентный травертин, — пробормотал он.
— Царский чертог, — объявил проводник.
Ринд ощутил внутри странную пустоту.
— Здесь?
Туземец кивнул.
— Но я не понимаю, — развел руками шотландец. — Это… это и есть царский чертог?
— Небесные звезды, — подтвердил египтянин. — Стоит нагреть их и разместить по стенам чертога, причем любого, и они превращаются в небесные звезды.
Взгляд Ринда беспомощно заскользил по камням, пробежался по всей пещере, ища чего-то большего, и снова вернулся к яме.
— Чертог вечности, — глухо прошептал путешественник в полном смятении.
Полированные гранитные стены, потолок и пол чертога были обклеены камнями на смоле. В углу стояла полыхающая огнем жаровня. От витавшего в воздухе сладковатого дыма кружилась голова.
(«Избави его, Господи, от злой смерти и от мук адовых…»)
Сердце Наполеона стучало, словно литавры.
— Кто ты? — выдохнул он.
«Красный человек», застывший у пустого саркофага, величественно, точно верховный жрец, воздел руки к потолку и сверкнул глазами.
— Я — пророк под маской, — возвестил он, и вся пещера зазвенела эхом. — Я покажу тебе твое будущее.
Бонапарт сделал несколько неуверенных шагов вперед, лихорадочно подыскивая слова.
— Мое будущее… Да, мое будущее…
«Красный человек» не сводил с него пристального взгляда.
— Ну и… — Наполеон вдруг замер на полуфразе; мысли его отчаянно путались. — Какое оно? Что меня ждет?
(«Не взирай на грехи его, на которые толкнули его страсти и похоти…»)
«Красный человек» помедлил, еще раз поклонился — и внезапно завертелся на месте, взметнулся багровым вихрем. Пламя погасло. Чертог погрузился в бархатную тьму.
И тут понемногу — снизу, вверху, по сторонам — начали проступать они: Кассиопея, Центавр, Большой Пес… Знакомые звезды и созвездия.
У Бонапарта вырвался восхищенный вздох. Оказавшись посередине крохотной вселенной, он словно парил в невесомости, вырвался из-под власти закона гравитации.
— Небесные звезды, — повторил туземец, — берут отсюда, из этого места. Люди разных стран и народов увозят их во дворцы своих правителей.
— Представление с фокусами? — ахнул Ринд, не в силах принять столь обыденный ответ.
— Так было со дней Александра. Со дней аль-Мамуна и Цезаря. Хранитель чертога, мужчина в красных одеждах, возносит правителя на небеса и там говорит ему то, что правитель желает услышать.
— Да, но что именно? — не сдавался шотландец.
— Все, что угодно слышать правителю, — отвечал проводник.
Глядя на камни, столько веков служившие исследователям из разных империй и царств, Ринд неожиданно вспомнил: да ведь У. Р. Гамильтон и предполагал нечто подобное во время их разговора в Британском музее: мол, травертин укрепляли на стенах, чтобы создать подобие космоса, некий поддельный чертог для защиты настоящего, что-то вроде ловушки…
Но если так… Если так, отсюда вовсе не следует, что никакого сокровища нет. Наоборот: может быть, оно близко, как никогда…
Более того (молодого путешественника охватил восторг), вполне вероятно, подлинный чертог настолько прекрасен, что его не вообразить ни одному королю и ни один император не достоин туда войти…
Шотландец почувствовал это сердцем, задумался — и наконец поверил со всей убежденностью.
Повернувшись назад, он увидел улыбающегося проводника.
— Сюда, — прошептал юный бедуин, указав на еле заметное отверстие в стене, и повел своего спутника далее, в глубь пирамиды Забара.
Утратив ориентацию, Наполеон крутился в космосе, словно метеор. Небесные звезды огненными пчелами вертелись вокруг. Он уже не ощущал своего веса, уже не различал красных одежд пророка, зато видел маску, сиявшую подобно туманности на фоне звездных полей.
Вдруг она резко надвинулась на него из темноты и приблизилась к уху.
И «красный человек» самым что ни на есть небесным голосом раскрыл Бонапарту его беспримерную судьбу.
Он рассказал все, что Наполеон мечтал услышать.
— Ты станешь императором Франции, — провозгласил нараспев l'Homme Rouge — и это было только начало.
Как долго они пробирались грубо высеченными потайными ходами? Ринда не волновало время: он доверился проводнику и, если на то пошло, своим инстинктам. На вершине восходящей галереи маленький туземец помог ему встать на ноги. Взмокшие от липкого пота, вымазанные пылью паломники позволили себе немного перевести дух. Так же как и внутри Великой пирамиды, перед ними открылся низенький коридор, по которому нужно было ползти, согнувшись пополам; из коридора шотландец и египтянин попали в сердцевину горы. Туземец выпрямился и осветил фонарем своды чертога.
…Ни стен из полированного гранита, ни саркофагов, ни, разумеется, звезд. Пещера напоминала пропорциями царский чертог Великой пирамиды — правда, была гораздо меньше и казалась вырубленной прямо в камне, причем с необычайным усердием.
Туземец поднял фонарь повыше и замер, давая спутнику время осмотреться, после чего указал ему на самую гладкую стену, украшенную на уровне глаз пятью строчками иероглифического текста.
Ринд пробежал по нему глазами, но из-за скромных познаний сумел прочитать лишь некоторые символы: перепелят, рябь на воде, сложенные платки… коленопреклоненных мужей, присевших на корточки женщин, стоячие свитки и прочие идеограммы; похожий на знамя знак, представлявший бога… солнечный диск… имперскую пчелу… и на вершине — царское имя Аменхотепа Третьего — Небмаатра, повелителя истины, почтительно заключенное в картуш.
Напрягая память, он попытался прочесть послание, но быстро сдался.
«Во время правления Аменхотепа Третьего… Я… что-то сделал… могила… рабочий… женщина…» И вроде бы: «солнце»?
Ринд повернулся к проводнику и с бешено бьющимся сердцем хрипло спросил:
— Что… что здесь написано?
Туземец кивнул, откашлялся и с превеликим наслаждением произнес древний текст в том же виде, в каком его передавали в течение многих веков, осторожно осовременивая, но ничего не меняя: «Я, рудокоп времен Аменхотепа Третьего, хороню здесь свою жену, сиявшую, как само солнце. Она была для меня богиней. Пожалуйста, не говорите фараонам».
— France… Armeé… Tete d'armée… Joséphine… — прошептал Наполеон.
Веки его задрожали; он чувствовал себя как человек, которого грубо тащат сквозь толщу времени, вырывают из грез. В лицо ему словно брызнула вода — может, то были дождевые капли. Казалось, грудь разверзлась и выпустила наружу огромный пчелиный рой. И снова раздался тот неприятный, назойливый голос с небес: «Избави, Господи, раба Своего, как избавил Моисея от руки фараоновой…»
Он дернулся, захрипел, нахмурился и почти прорвался на поверхность, к свету. Но вдруг осознал: там не будет утешения, не будет ничего, что ему так хотелось видеть, — и вновь отступил, все глубже и глубже погружаясь в объятия памяти, в космос, в царский чертог, обратно к чудным пророчествам «красного человека»: «Ты станешь императором Франции. Королем Италии. Хозяином Голландии. Монархом Испании, Португалии и всех иллирийских провинций. Префектом Германии. Спасителем Польши. Первым орлом Почетного легиона. Целый мир затрепещет у тебя в руке. Ты создашь величайшую армию в истории. Ты поведешь эту армию к вечности. И Жозефина, твоя преданная помощница, будет императрицей».
Замерев посреди вселенной, Наполеон Бонапарт представлял себе, что сияет подобно солнцу.
— Это так… восхитительно, — ахнул Ринд.
Эпитафия обошлась без имен, ведь простым египтянам не полагалось места в вечности. Возможно, здесь погребли всех жен рудокопов. Или даже всех жен обыкновенных людей.
Однако туземец уже торопился далее.
— Это еще не все, — произнес он и, переместив фонарь, указал на примыкающую стену.
Ринд изумленно обернулся. Сначала он вобрал глазами увиденную картину как единое целое, несколько секунд «переваривал» подробности — а потом застыл на месте, задохнувшись от восхищения.
Новую стену покрывали бесконечные цепочки маленьких пиктограмм, начертанных при помощи кинжалов, ногтей, резцов, штыков… Некоторые картинки едва читались, а кое-где от грубых ударов едва не осыпалась часть стены… Древнеегипетские символы понемногу сменялись другими, исполненными в почтительном псевдоиероглифическом стиле: искривленные пастушьи посохи, римские орлы, весы, якоря, колеса, сабли, кресты, ружья, кадила, матросские эмблемы, религиозные и геральдические символы, секстант, ножницы, очки, циферблат…
Все это были на ходу придуманные росписи моряков, солдат, воров, торговцев, церковников, расхитителей гробниц, святых, визирей, алхимиков, резчиков по камню, паромщиков, шейхов и ученых… Ринд поднимал глаза все выше и выше: вот елка Лепсиуса, вот зонт сэра Гарднера, писчее перо Денона, бесчисленные знаки рыцарей, странствующих купцов и отшельников, и греческих географов, и римских центурионов, и даже росчерк простого плотника, вынужденного бежать со своей женой и новорожденным сыном в Египет… Неповторимая и необъятная хроника, настоящий шедевр, творение рук многих паломников, за тысячи лет посетивших чертог… Священный завет братства Вечности… Обещание не раскрывать никому, где находится эта гробница… Не говорить фараонам.
Шотландец стоял будто вкопанный, лишившись дара речи, то и дело сглатывая от волнения и ничего не замечая вокруг, пока не увидел в протянутой руке проводника маленькое зубило. Неужто ему предлагают прибавить собственную роспись, а то и несколько, на выбор, как наверняка поступили Денон и другие? Ринд помотал головой, не смея даже помыслить о такой чести; в его душе бушевали самые невероятные чувства.
— Нет-нет, — отказался он. — Для меня это слишком… прекрасно.
Туземец помедлил (казалось, до этой минуты он все еще колебался) — и наконец, по-видимому, решился.
— Я думаю, — зашептал он, — я думаю, хабибу[82] можно увидеть кое-что еще прекраснее.
— Кто ты? — обратился Наполеон к призраку. — Как твое имя?
Тот напустил на себя оскорбленный вид.
— Я — пророк под маской. Хранитель небесных звезд.
— Но у тебя должно быть имя. Если ты человек, тебя же как-то зовут.
(«Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их; окружили меня, как пчелы: именем Господним я низложил их…»)
По ту сторону саркофага воцарилось молчание; наконец пророк поклонился.
— Мое имя, — произнес он, — Абдулла Яхия лайла-Шей. Но ты можешь называть меня l'Homme Rouge.
Ринд шарил жадным взглядом по стенам чертога, освещенным фонарем, но ничего такого не находил — ни новых надписей, ни заветов, ни единого украшения. Душа его смутилась, но тут шотландец понял: да ведь эта самая пустота и есть ответ.
Обернувшись к безымянному проводнику, он посмотрел в самую глубь его братских глаз и там отыскал подтверждение своим мыслям.
— Вот же… вот оно, — тихо промолвил Ринд и протянул руку к совершенно чистой стене. — Нетронутая… Это завет для тех…
Можно было не договаривать: «…завет для тех, кому не нужно скреплять его подписью; для тех, у кого он в сердце».
Стена неизвестных; людей, которые честно трудились не покладая рук, однако вовсе не ради того, чтобы прославиться или добиться бессмертия.
Туземец без имени улыбнулся и спрятал зубило. В эту минуту, в сердцевине горы, Александр Ничтожный почувствовал небывалый прилив жизненных сил и небывалый покой на сердце.
Перестук белых градин в храме, переливы нильского заката, улыбка луны над пустыней — для членов братства Вечности все эти мимолетные, неуловимые радости никогда не затмили бы наслаждения от первого взгляда на текст давно умершего рудокопа, на бесконечные росчерки или, как в случае Ринда, на совершенно чистую стену.
Написав две книги, одну из которых он посвятил сэру Гарднеру Уилкинсону, в тысяча восемьсот шестьдесят третьем году шотландец в последний раз вернулся в Египет — где на его глазах чертог запечатали, чтобы сохранить для потомков, — после чего пал жертвой серьезнейшего легочного кровотечения и вынужден был отступить — поначалу в Корфу, а затем перебраться на озеро Комо в Северной Италии. Третьего июля Ринд сел в экипаж и отправился в горы подышать целебным воздухом; по дороге остановился у святилища Девы Марии, чтобы поставить свечку; вечером возвратился в гостиницу, посетовал на усталость, однако предложенного лекарства не принял.
— Если не ошибаюсь, — промолвил он с улыбкой, — сегодня я буду спать как младенец.
Наутро его нашли в постели недвижным и бездыханным, с необычайно безмятежным выражением на лице: путешественник испустил дух в самой скромной обстановке, в самом глубоком сне. В тот год ему исполнилось двадцать девять — возраст Наполеона, посетившего пирамиды.
Алекса погребли на приходском кладбище, рядом с матерью; его имущество унаследовали общественные библиотеки, сиротские дома и женские образовательные учреждения. Сэр Гарднер Уилкинсон, переняв интерес ученика к национальным реликвиям — тоже в некотором роде наследство, — переехал вместе со своей возлюбленной Каролиной в Южный Уэльс, где скончался в ночь на двадцать девятое октября тысяча восемьсот семьдесят пятого года на семьдесят восьмом году жизни (столько же было Денону, когда он умер в Париже) и был похоронен в Лландовери под незатейливым обелиском.
Несколько недель после первого посещения Изумрудной горы Ринд задавался одним и тем же вопросом: прекрасен ли увиденный им погребальный чертог по контрасту с тем, что находится внутри Великой пирамиды, или же просто дополняет его. И наконец решил, подобно Денону, что тот, второй, с его ясной строгостью и пустым саркофагом, наверняка создавался как ранняя обитель вечности, место, в котором сходятся судьбы всех людей на свете. В феврале тысяча восемьсот пятьдесят шестого года шотландец вернулся в Лондон переменившимся человеком: теперь он держался еще невозмутимее, говорил с еще большим достоинством. У. Р. Гамильтон заглянул в его безмятежные, исполненные знания глаза — и все понял без слов.
— Что ж, юноша, — произнес он, — примите самые искренние поздравления. Я горжусь вами, как собственным сыном.
Молодой человек торжественно кивнул и спросил:
— Возможно ли устроить встречу с ее величеством?
— Я уже обо всем позаботился.
— Если хотите, — учтиво заметил Ринд, — я мог бы заранее поделиться с вами…
Гамильтон отрицательно замотал головой.
— Довольно и этого; теперь я сойду в могилу, зная, что послужил королеве и отечеству, что не сдался, не проиграл, что все старания были не напрасны. Да и потом, — прибавил он с лукавой улыбкой, — я слишком долго искал чертог, чтобы понять одну простую вещь: людям вроде меня подобные тайны не по зубам.
В манерах бывшего помощника государственного министра сквозила непривычная безмятежность и мудрость, а в речах даже слышался отзвук иронии. Шотландец мысленно подивился тому, как малая толика смирения способна утешить человека.
Случилось так, что, облачившись в красные одежды каирского бродячего фокусника, Ринд переступил порог уединенного кабинета в Виндзорском замке, благоговейными руками удалил оттуда портреты кисти Гольбейна, все украшения и сувениры, бережно занавесил окна, приклеил на стенах и потолке кусочки нагретого травертина, застыл в самом центре маленького космоса и поведал зачарованной королеве Виктории все, что ей так хотелось услышать.
— Ты станешь матроной эпохи, — провозгласил он, и это было только начало.
Случилось так, что на протяжении многих и многих десятилетий секреты чертога точно таким же образом Фридрих Уильям IV перенимал от Ричарда Лепсиуса в берлинском дворце Монбижу; паша Мохаммед Али — от Рифа'а аль-Тахтави в каирской цитадели; Папа Римский Пий VII — от падре Ладислава в римском Квиринале; Кристиан IV — от Фредерика Людвига Нордена во дворце Фреденсборг под Копенгагеном; Карл XII — от Корнелиуса Лооса в Королевском дворце в Стокгольме; калиф аль-Мамун — от визиря Хасана ибн-Сахля в багдадском Дворце вечности; Август Цезарь — от Элия Галла в императорском дворце на Палантине; Александр Великий — от верховных жрецов Сивы в храме Амона-Ра, как и бесконечный ряд других королей, императоров, фараонов — от своих личных лазутчиков.
(«Слетите к нему, ангелы Господни, примите душу его в объятия и вознесите ношу свою пред лице Всевышнего…»)
И случилось так, что Наполеон Бонапарт запоздало прозрел и понял истину на земле Святой Елены, за миг до того, как рухнуть на постель и навсегда перенестись в империю вечности. Откровение о великой судьбе, за которое он отчаянно цеплялся двадцать два года, оказалось мошенничеством. Ибо, перерыв страницы франко-арабского словаря, сверженный император все-таки вспомнил имя «красного человека», перевел — и, потрясенный, обнаружил то, что смутно подозревал долгие годы.
Абдулла Яхия лайла-Шей.
Раб божий, живущий ради ничего.
Доминик Виван Денон.
БЛАГОДАРНОСТИ
Однажды Наполеон заявил, будто бы вовсе не изучал историю, а завоевывал ее: «…иными словами, я искал и отсеивал только то, что мог приложить к своим идеям, отвергая бесполезное и делая лишь те выводы, которые меня устраивали». Признаюсь, работая над «Империей вечности», я придерживался похожего принципа целесообразности: львиная доля написанного — чистая правда, но многое тщательно было подогнано, вставлено в новый контекст, а кое-где и бессовестно приукрашено. Выражаясь яснее, читатель может не сомневаться: львиная доля того, что касается таинственного чертога, — либо натяжка, либо вымысел чистой воды, а остальное — в основном исторические факты.
Так, посещение чертога Наполеоном описано в разных источниках, но до сих пор не доказано и наотрез отрицалось его секретарем Бурриенном. Или, к примеру, «красный человек», считавшийся плодом воображения императора: рассказы о его появлениях неполны и недостоверны, однако известно, что там, где это якобы происходило, поблизости оказывался обычно и Денон. Существование первого Наполеона, сына Летиции и Карло Буонапарте, признается в наше время большинством историков, расходящихся лишь в одном вопросе: умер ли он во младенчестве или сразу после рождения. Выражение «на следующий день» показалось мне наиболее подходящим компромиссом.
Путешествие У. Р. Гамильтона в Египет в тысяча восемьсот первом году с тайной миссией, яростная стычка с Деноном по поводу вывезенных шедевров и довольно холодная переписка с Риндом, посвященная национальным реликвиям Британского музея, — все это отражено в исторических документах, но было бы лицемерием не признать, что на страницах этой книги его наиболее неприятные качества были преувеличены — впрочем, как и значение наставничества сэра Гарднера Уилкинсона. Хотя, бесспорно, Алекс был весьма благодарен ему за великодушную поддержку и встречался с ним в гостинице «У Уильяма» по возвращении из Каира в ноябре тысяча восемьсот пятьдесят пятого года.
Разумеется, список изученных мной книг о Египте может соперничать своими объемами только со списком трудов о Наполеоне, поэтому перечисление всех источников составило бы слишком громоздкую — для романа — библиографию. Однако не могу не упомянуть хотя бы несколько произведений, в наибольшей степени повлиявших на развитие моего сюжета. Если не считать книг, написанных главными действующими лицами, то это прежде всего «Наполеон и суеверия» Георга Могэна; «Сэр Гарднер и его окружение» Джейсона Томпсона; «Воспоминание о последних годах жизни Александра Генри Ринда» Джона Стюарта; «Рыцарь Лувра» Филипа Солерса; «Барон Доминик Виван Денон: гедонист и ученый в эпоху перемен» Юдифи Новински; «Кто есть кто в египтологии» Уоррена Р. Доусона и Эрика П. Апхилла и в особенности — захватывающее творение Кристофера Герольда «Наполеон в Египте».
Спасибо вам, Эриел Мой, Николас Коуэлл, Грант Хейз и Австралийский центр египтологии, Энтони Чин, Рашид Наас, Марк Гибсон, Зара и Кэтрин Фрэм, Роза Крессуэлл, Аннета Хьюз, Лесли Макфадьян, Джейн Полфриман, Кэтрин Хилл, Мэри Тривби, Симона Бертье, Род Моррисон и Карл Гаррисон-Форд.
Благодарю за любезно предоставленную помощь сотрудников Британской библиотеки, Национальной шотландской библиотеки, библиотеки штата Виктория, библиотеки при Университете Монаш и особенно Бодлианской библиотеки при Оксфордском университете.
Примечания
1
Халат (фр.) — Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)2
Египетский стиль (фр.).
(обратно)3
Хатор — в древнеегипетской мифологии и религии богиня неба и плодородия, любви и веселья. Изображалась в виде женщины с головой коровы. Считалась покровительницей женщин и детей.
(обратно)4
Перекресток между Трафальгарской площадью и улицей Уайтхолл, принятый за центр Лондона при отсчете расстояний.
(обратно)5
Поперечный неф.
(обратно)6
Абу-Симбел — скала на западном берегу Нила, в которой высечены два древнеегипетских храма.
(обратно)7
Лондонская гостиница-люкс в фешенебельном районе Мейфэр.
(обратно)8
Улица в Лондоне, на которой расположены правительственные учреждения.
(обратно)9
Селение в Северной Италии, юго-западнее Алессандрии. Под Маренго во время войны Франции против 2-й антифранцузской коалиции французская армия Наполеона Бонапарта разбила австрийские войска и заняла Северную Италию.
(обратно)10
Город в Тюрингии. Вблизи Йены в 1806 г. Наполеон разбил войска Пруссии.
(обратно)11
Бывшая королевская резиденция на острове Уайт, где скончалась королева Виктория.
(обратно)12
Ежедневный бюллетень об участии членов королевской семьи в официальных мероприятиях; рассылается редакциям газет и журналов. Введен королем Георгом III в 1803 г.
(обратно)13
Курорт в графстве Перт, Шотландия.
(обратно)14
Общее название стран, прилегающих к восточной части Средиземного моря.
(обратно)15
Баррас, Поль Жак Франсуа (1755–1829) — граф, революционный деятель; 1789 — член национального собрания; 1794 — комендант Парижа, участник террора, потом виновник падения Робеспьера; 1795 — президент конвента, способствовал выдвижению молодого Бонапарта, назначил его главнокомандующим армией в Италии в 1796; после захвата власти Бонапартом в 1799 (18 брюмера) удален от дел, а в 1810 году ему было запрещено жить во Франции. Вынужденный поселиться в Риме, он оставался там вплоть до первого отречения Наполеона. Любовница Барраса Жозефина Богарне впоследствии стала любовницей Наполеона.
(обратно)16
Таллиен, Мария Игнация Тереза (1770–1835) — жена Жана Ламберта Таллиена, одна из выдающихся женщин времен Революции. Имела благодаря красоте и уму успех в парижском обществе, и ее салон был одним из самых популярных.
(обратно)17
Талейран, Перигор Шарль Морис (1754–1838) — князь Беневентский (1806-15), герцог Дино (с 1817), дипломат, государственный деятель.
(обратно)18
Свобода (фр.).
(обратно)19
Мой друг (фр.).
(обратно)20
Благодарю (фр.).
(обратно)21
Vivant — имя героя в переводе с французского означает «живущий, живой».
(обратно)22
Посольский советник (фр.).
(обратно)23
Сочинение Манефона (III век дон. э.)считается утерянным. Отрывки из него приводятся в книге Иосифа Флавия «Против Апиона».
(обратно)24
Иоанн Цеца (1110–1185) — византийский писатель. Автор написанной гекзаметром поэмы на гомеровские сюжеты, трактатов по метрике и грамматике, комментариев к древнегреческим поэтам и философам. Главное сочинение — «Книга историй» содержит ценные историко-литературные и мифологические сведения.
(обратно)25
Комиссия по науке и искусствам (фр.).
(обратно)26
Монж, Гаспар(1746–1818) — французский математик. В 1780 был избран членом Парижской академии наук, в 1794 стал директором Политехнической школы. В течение восьми месяцев занимал пост морского министра в правительстве Наполеона, заведовал пороховыми и пушечными заводами республики, сопровождал Наполеона в его экспедиции в Египет (1798–1801). Наполеон пожаловал ему титул графа, удостоил многих других отличий.
(обратно)27
Жоффруа Сент-Илер, Этьен (1772–1844) — французский зоолог. Профессор зоологии Национального музея естественной истории (с 1841) и университета в Париже (с 1850). С 1833 член Института Франции, в 1856–1857 президент Парижской академии наук.
(обратно)28
Николя Жак Конте (1755–1805) — портретист, талантливый создатель миниатюр, соучредитель «Национальной школы искусств и ремесел». Во время Египетской кампании Наполеона изобрел систему предохранения винтовок от ржавчины, запал для пушечных ядер, гениальную систему подачи сигнала и множество других полезных вещей. Являясь членом Египетского института, участвовал в других научных разработках, в частности в изобретении барометра. Также с поразительной точностью вычислил высоту пирамид Гизы. В 1794 году Конте изобрел карандаш с искусственным стержнем. До сих пор для производства деревянных карандашей применяется только метод Конте.
(обратно)29
Доломье, Деодат Гюи Сильвен Танкред (1750–1801) — известный французский геолог и минералог.
(обратно)30
«Путешествия по Нижнему и Верхнему Египту» (фр.).
(обратно)31
Колоссы Мемнона — гигантские статуи, которые располагаются на западном берегу Нила в Фивах, рядом с современным Луксором. Согласно историческим сведениям, один из колоссов был частично разрушен в результате землетрясения в 27 году до нашей эры. С тех пор в трудах греческих и римских авторов упоминается странный протяжный звук, который камень издавал на рассвете. Считалось, что так Мемнон приветствовал свою мать Аврору, богиню утренней зари. Услышать голос погибшего героя приезжали многие путешественники. Статуе приписывали способности оракула, а ее голос считался знаком благосклонности богов. После реставрации по приказу римского императора Септимия Севера статуя умолкла навсегда. Позже этому удивительному явлению нашли вполне прозаическое объяснение. По всей видимости, звук возникал от ветра, скользящего по трещинам монумента, либо от вибраций, происходящих под воздействием тепла на остывший камень.
(обратно)32
Храмовый комплекс на острове Филе (Филэ или Филы): храм Нектанеба I, павильон Трояна, храм Хатор и монументальный храм Исиды — один из немногих хорошо сохранившихся архитектурных сооружений времен Птолемеев.
(обратно)33
Жан Мишель Вентуре де Паради из Марселя, воспитанник иезуитской школы, французский дипломатический агент в странах Востока, член Географического общества, преподаватель Школы восточных языков и автор ученого труда под названием «Грамматика и словарь берберийского языка».
(обратно)34
Самый распространенный вид азиатской одежды как среди молодежи, так и среди старшего поколения.
(обратно)35
Длинная просторная рубаха до пят, с широкими рукавами, без воротника у народов Северной и Центральной Африки. Для людей состоятельных она шьется из тонкого сукна.
(обратно)36
Монахи монастыря Святой Екатерины в Египте.
(обратно)37
Али-Бей (1728–1773) — бей Египта, в 1766 стал правителем Каира.
(обратно)38
Салах ад-Дин (Салах ад-Дин Юсуф ибн Айюб, в европейских источниках: Саладин, 1138–1193) — полководец и правитель Египта, основатель династии Айюбидов.
(обратно)39
Как гласит церковное предание, место сокрытия Креста Господня было неизвестно. После долгих опросов и поисков оно было указано одним евреем по имени Иуда. По его словам, Святой Крест Господень покоился под капищем языческой богини Венеры. По приказу Елены статуя Венеры была низвергнута, а капище разрушено. И вот Гроб Господень найден и расчищен. Около него, на восточной стороне, были обретены три креста. Предстояло узнать, какой из них принадлежит Христу, а какие — двум разбойникам, распятым вместе с Ним. В то время мимо найденных крестов проносили для погребения умершего человека. Святитель Макарий велел похоронной процессии остановиться. По совету епископа найденные кресты стали по одному возлагать на умершего. Когда же был возложен Крест Христов, мертвый воскрес.
(обратно)40
Джами'аль-Азхар (Блистательнейшая мечеть) — название наиболее почитаемой мечети и религиозного университета в Каире. Мечеть строилась одновременное городом аль-Кахира (Каиром), ставшим новой столицей Египта. Уже тогда в мечети началось преподавание сначала коранических наук, а позднее математики, астрономии, естествознания и географии.
(обратно)41
Очень приятно (фр.).
(обратно)42
Британский посланник в Оттоманской империи. В начале XIX века вывез в Англию статуи и рельефы Парфенона, творения великого древнегреческого скульптора Фидия, датируемые V веком до н. э.
(обратно)43
Г. Лонгфелло «Псалом жизни», пер. И. Бунина.
(обратно)44
Инкунабулы (от лат. incunabula — колыбель) — печатные издания в Европе, вышедшие с момента изобретения книгопечатания (сер. XV в.) до 1 января 1501 г. Известно около 40 тыс. названий инкунабул (около 500 тыс. экземпляров).
(обратно)45
«Описание Египта» (фр.).
(обратно)46
Дословно: «невидимое, тайное, скрытое» (арабск.).
(обратно)47
«Liber secretorum fidelium Crucis» — «Книга секретов для верных Кресту», полное название «Книга секретов для верных Кресту, дабы помочь им вновь завоевать Святую землю», автор Марино Сануто (Санудо) Старший из Венеции.
(обратно)48
Атанасиус Кирхер (1601–1680) — немецкий ученый, философ, математик, теолог. Создатель знаменитого первого в Риме публичного музея. Занимался также астрологией и герметическими науками.
(обратно)49
Кровохарканье (греч.).
(обратно)50
Государственный переворот (фр.).
(обратно)51
Остров в Карибском море, принадлежит Франции.
(обратно)52
Мария Анна Аделаида Ленорман (1772–1843) — знаменитая французская гадалка и писательница. Гадательный салон мадемуазель Ленорман имел огромную популярность. В нем перебывал весь цвет тогдашнего Парижа. Позже Наполеон изгнал ее из Франции «за вольнодумство». Тогда она написала «Пророческие воспоминания одной сивиллы о причинах ее ареста», где предсказала смерть Наполеона на острове и реставрацию Бурбонов. Но это сочинение было издано лишь после падения Наполеона.
(обратно)53
До скорого! (фр.)
(обратно)54
Музей Наполеона (фр.).
(обратно)55
Давид, Жак Луи (1748–1825) — французский живописец, один из ведущих деятелей Великой французской революции. Подобно якобинцам, приветствовал Наполеона, который казался ему воплощением революционного духа. Пораженный энергией Давида, Наполеон пригласил его присоединиться к египетской кампании в качестве официального художника, но Давид отказался. В 1804 он стал первым живописцем императора и получил заказы на создание огромных полотен — «Коронование императора Наполеона и императрицы Жозефины в соборе Парижской Богоматери» и «Присяга армии Наполеона на Марсовом поле». Через своих учеников Давид оказал большое влияние на развитие живописи в Бельгии, Дании и Германии.
(обратно)56
Махди (от араб, «ведомый верным путем») — в шиитском исламе седьмой имам Исмаил или двенадцатый имам Мухаммед аль-Мунтазар (исчез в 878), возвращение которого положит конец несправедливости и приведет к возрождению мусульман. Правоверные сунниты также верят в приход Махди, в легенде о котором обнаруживаются следы учения о Мессии. Некоторые лидеры мусульманских движений провозглашали себя Махди.
(обратно)57
Символ Православной церкви, который также называют «католическим крестом кардинала» и «крестом с двумя перекладинами». Верхняя перекладина служит для надписи «Иисус Христос, Царь Иудейский», сделанной по распоряжению Понтия Пилата. Под названием «архиепископальный крест» он часто встречается на гербах архиепископов.
(обратно)58
Римские орлы (истор.) — знамена римских легионов (серебряные изображения орла на высокой ручке).
(обратно)59
До отвращения (лат.).
(обратно)60
Кто идет? (фр.)
(обратно)61
Сенатус-консульт, так во Франции в период Консульства, Первой и Второй империй назывались акты, изменявшие или дополнявшие конституцию. Фактически они принимались консулом или императором, неформально исходили от сената. Так, посредством сенатус-консульта 4 августа 1802 года Наполеон учредил для себя пожизненное консульство, а 18 мая 1804 года была установлена империя.
(обратно)62
Железном шкафу (фр.)
(обратно)63
Великая армия — название, данное Наполеоном в 1805 г. реорганизованной единой французской армии.
(обратно)64
Сехмет (Сохмет) — богиня-покровительница Мемфиса, олицетворение сурового зноя и разрушительной энергии солнца. Изображалась с головой льва.
(обратно)65
Мафдет — в египетской мифологии солнечное божество-змееборец; богиня возмездия, судья в подземном мире. Воплощалась в образе гепарда.
(обратно)66
Дюрок Мишель, герцог Фриульский (1772–1813) — французский маршал, постоянный спутник Наполеона, участвовал в египетской экспедиции.
(обратно)67
Создано в 1733 г., способствовало проведению археологических раскопок.
(обратно)68
Circus Maximum, первый известный нам стационарный цирк, названный в 7 году до н. э. одним из чудес Рима.
(обратно)69
Диодор Сицилийский (ок. 90–21 до н. э.) — древнегреческий историк, автор сочинения «Историческая библиотека», охватывающего синхронно изложенную историю Древнего Востока, Греции, эллинистических государств и Рима от легендарных времен до середины I в. до н. э.
(обратно)70
Кольцо рыбака — атрибут облачения римских пап; призвано напоминать о том, что папа является наследником апостола Петра, который по роду занятий был рыбаком.
(обратно)71
Ларец Святых Тайн (лат.).
(обратно)72
Да здравствует император! (фр.)
(обратно)73
Да здравствует свобода! (фр.)
(обратно)74
Робертс, Давид (1796–1864) — выдающийся английский живописец архитектурных памятников. Изображения Испании и Египта, изданные им в 1835–1839 гг. в виде альбомов, были встречены публикой с чрезвычайным интересом.
(обратно)75
Интрижку (фр.).
(обратно)76
Здесь: «Надо же» (фр.).
(обратно)77
Добрый вечер (фр.).
(обратно)78
Пилон — пирамидальная колонна у входа в древнеегипетский храм.
(обратно)79
Октавиус Уинслоу. Полночные гармонии.
(обратно)80
Лхаса (по-тибетски — «божественное место») — религиозный центр ламаизма.
(обратно)81
«На пиру у халифа Гаруна аль-Рашида».
(обратно)82
Любимый друг (арабск.).
(обратно)






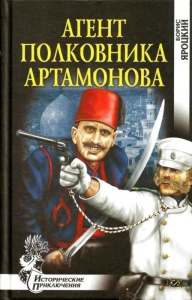
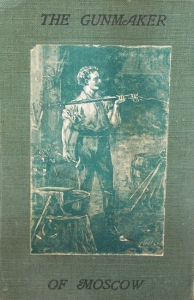
Комментарии к книге «Империя Вечности», Энтони О'Нил
Всего 0 комментариев