Жеральд Мессадье «Сен-Жермен: Человек, не желавший умирать» Том 1 «Маска из ниоткуда»
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ОВЕН И ТЕЛЕЦ (1728–1730)
Памяти Жоржа Энена и Жоржа Зезоса
1. ИСЧЕЗНУВШИЙ ПАЖ
Заря благоухала ароматом жасмина, льющимся с высоких стен, окружавших дворец. В небо Мехико взлетела первая нота ангелуса.[1] Огромные желтые цветы дурмана, увившего решетки шпалер, приветствовали вышедшую в сад девушку с двумя корзинками на бедрах. Сдержав улыбку, она сообщнически кивнула в ответ.
Лет шестнадцати-семнадцати, тоненькая, с едва развившейся грудью. Но наверняка не индианка и не mestiza:[2] природная бледность лица, обрамленного блестящей смолью волос, убранных в узел на затылке и прикрытых шалью, выдавала европейское происхождение. Она торопливо достигла задней калитки, подняла тяжелую деревянную щеколду и через мгновение оказалась на calle[3] дель Висерей Альбукерке, пустынной в этот ранний час. Другую сторону улицы окаймлял лишь низкий бурьян, потому что строить напротив дворца никто не осмеливался. Двигаясь вдоль стены, девушка добралась до первых домов города и тем же бодрым шагом углубилась в лабиринт патрицианского квартала.
Шагая навстречу солнцу, она вскоре вышла к окраине и там заметила тележку, запряженную осликом.
— Ole! Ты куда? — окликнула она погонщика, пеона с землистым лицом, потомка некогда славных индейцев майя, крещенных уже почти два века назад.
Погонщик остановился и повернул к ней выдубленное солнцем лицо. Угрюмо уставился. Белые говорили с индейцами только для того, чтобы за что-нибудь отругать. Но эта была приветлива и улыбчива. Может, дурочка. Во всяком случае, служит у белых, если судить по ее наряду.
— В Тласкалу, — отрывисто бросил он, словно пролаяв.
— Два песо, если посадишь в свою тележку.
Погонщик посмотрел на нее так, словно она предложила прокатиться верхом на нем самом. Что собирается делать эта белая в Тласкале, глухой индейской деревне, до которой добрых три часа пути?
— Ты хочешь в Тласкалу? — спросил он недоверчиво.
— Dos pesos, — повторила она.
Индеец столько и за три дня не зарабатывал. Поэтому кивнул, и девушка устроилась среди пустых вонючих корзин из-под салата, птицы, баранины и бог знает чего еще.
Несмотря на черепаший ход тележки, выехавшей из Мехико в восьмом часу, к полудню они добрались до Тласкалы, где таинственная пассажирка соскочила на землю, дала погонщику обещанные два песо и исчезла на деревенской площади. Он только и успел заметить, как ее маленький зад мелькнул в толпе поселян, уже начавших убирать свои лотки перед церковью Сан Исидро, звонившей во все свои колокола. Был понедельник, 12 июня 1728 года.
Примерно через три часа после того, как девица укатила на индейской тележке, во дворце вице-короля Мексики, в покоях его гостьи доньи Консепсьон де Лос Артабасес, графини Миранды, супруги губернатора Лимы, раздались крики.
Как правило, донья Консепсьон вставала около девяти; ее гувернантка, донья Исабель Руис, уже привыкла к этому за те пятнадцать лет, что состояла у нее на службе. Незадолго до девяти донья Исабель удивилась, не слыша голоса хозяйки, требующей, как обычно, свой завтрак и кувшин теплой воды для утреннего умывания. Гувернантка постучала, потом, через несколько мгновений, толкнула тяжелую дверь спальни.
И застыла от ужаса, увидев нагое тело своей хозяйки, раскинувшееся на постели в позе, далеко выходящей за рамки непринужденности, которую могла позволить себе такая патрицианка, как донья Консепсьон. Но еще большую тревогу вызывало выражение лица дамы: оно могло бы показаться заспанным, если бы не чрезмерная бледность, наводившая скорее на мысль о недомогании.
— Донья Консепсьон? — пролепетала дуэнья, охваченная ужасным предчувствием.
Она коснулась руки хозяйки. При этом ее внимание привлекло новое зрелище: на полу, с другой стороны кровати со столбиками, был распростерт брат Игнасио, личный духовник доньи Консепсьон, тоже в чем мать родила. И его состояние не казалось более завидным, чем состояние дамы. Замешательство дуэньи переросло в головокружение, потом в панику, подогреваемую ужасными подозрениями.
Духовник лежал в луже блевотины, испускавшей гнусное зловоние.
На столе в примыкающей к спальне гостиной виднелись остатки трапезы, наверняка поздней. Но кто накрыл на стол? Уж конечно, не донья Консепсьон. Духовник? Тоже сомнительно. Тогда точно паж. Три бутылки испанского вина на полу и четвертая на столе свидетельствовали о возлияниях. Тем не менее было только два прибора. И три бокала. Кто же был этот третий? Вряд ли паж. Это ведь всего лишь мальчишка, ничтожество, почти слуга к тому же.
К ужасным предчувствиям дуэньи добавилось твердое убеждение: надо известить вице-короля, и как можно скорее. Но может ли она оставить донью Консепсьон в таком состоянии? Не должна ли она сперва придать ей более благопристойный вид? Исправить обстановку, явно изобличавшую оргию? Но тогда надо бы вымыть и одеть исповедника… С чьей же помощью? Тут из горла графини вырвался хрип:
— Madre de Dios! Ayudame![4]
Сердце гувернантки забилось еще сильнее.
— Донья Консепсьон?
Дама приоткрыла веки. Повела мутным глазом.
— Воды…
Донья Исабель бросилась к кувшину, который заметила на столе, но, охваченная новым подозрением, выбежала вон, схватила кувшин в комнате по другую сторону коридора, вернулась и уже из него дала напиться своей хозяйке.
Она надеялась, что графиня выйдет из оцепенения и можно будет наконец избавиться от… распростертого на полу исповедника. Если это уже не труп. Но донья Консепсьон упала на подушку с глубоким вздохом и, пробормотав приказ, чтобы ее не беспокоили, снова впала в забытье. Донья Исабель накрыла графиню простынями и, насколько это было возможно, попыталась придать ей более пристойный вид.
Потом, вся в слезах, побежала через залы, патио и коридоры, заполненные чиновниками колониальной администрации, в центральное крыло дворца, дабы поставить в известность вице-короля. У того уже началась аудиенция. Дуэнья обратилась к первому камергеру, и тот воспользовался паузой между двумя ходатаями, чтобы сообщить о случившемся. Последовало тайное дознание, в рамках которого камергер самолично сопроводил донью Исабель в покои графини Миранды.
Слуги, пронюхав о происшествии, толпились в коридорах. Прибытие первого камергера, величественной особы в сером шелковом кафтане с кружевным накрахмаленным жабо, повергло их в трепет.
Сначала камергер осмотрел донью Консепсьон, храпевшую, как пьяный звонарь. Потом обогнул кровать и склонился над телом ее духовника; тот раньше был весьма хорош собой, когда стоял на ногах. Пощупал его пульс. Жест совершенно излишний, поскольку трупная бледность молодого человека была вполне красноречива.
— Мертв, — изрек камергер.
Донья Исабель испустила крик ужаса.
— Madre de Dios!
— Боюсь, что незачем приплетать Мать нашего Господа к этой драме, — сказал камергер, наклонившись, чтобы взять с пола отвратительно грязную простыню.
Дуэнья отпрянула и перекрестилась. Камергер открыл дверь, велел принести одеяло и призвал двух лакеев.
— Отнесите тело в часовню, — приказал он. — Я сам сообщу аббату о случившемся.
Он подождал исполнения приказа и повернулся к донье Исабель:
— Вы знали этого человека?
— Брата Игнасио? Он исповедует… исповедовал графиню семь лет.
Камергер кивнул и, чтобы не слышать храпа графини, направился в маленькую гостиную, где заметил три бокала на столе. Он взял один, понюхал и поставил обратно.
— Кто был здесь вчера вечером кроме графини и ее духовника?
— Не знаю, ваша милость. Графиня поужинала в семь часов, как обычно, с братом Игнасио, потом удалилась. Я ушла спать в девять часов.
— Но кто же тогда накрыл на стол?
— Не знаю… Быть может, паж.
— Паж?
— Висентино.
Камергер опять кивнул; он вспомнил, о ком идет речь, поскольку красоту этого юнца трудно было не заметить: огромные темные глаза, алые губы, лилейная кожа, блестящие, черные, как вороново крыло, волосы. Когда графиня прибыла во дворец, мальчик нес ее сумочку.
— Где он?
— Я его еще не видела, благодарение Богу.
Камергер подошел к двери и приказал:
— Пусть найдут пажа Висентино!
Затем стал мерить комнату шагами, заложив руки за спину.
— Этот паж имел обыкновение пить с графиней?
Донья Исабель ответила растерянным взглядом.
— Не знаю, ваша милость… Н-не думаю… Это ведь всего лишь паж…
Она залилась слезами.
Постучали. Пажа Висентино не было в его комнате, и никто не знал, где он. Камергер приказал искать по всему дворцу, а если надо, и по всему Мехико. Потом спросил:
— Где графиня хранит свои драгоценности?
— В железном ларце.
— Где он?
— Не знаю, ваша милость, — ответила донья Исабель еще более испуганно. — В Лиме графиня запирала его в железном шкафу, ключ от которого был только у нее. А здесь, думаю, прятала под кроватью.
— Под кроватью?
Камергер заглянул под кровать графини, чей храп сменился хриплым дыханием. Ничего, кроме ночного горшка.
— Отыщите мне этот ларец.
Новая напасть повергла донью Исабель в почти старческую дрожь. За исключением большого шкафа, который содержал только два плаща и дорожные сундуки, покои, предоставленные в распоряжение графини Миранды, были меблированы по-спартански, как и большая часть колониальных жилищ: две кровати, два кресла, столы, молитвенная скамеечка перед маленьким алтарем с распятием. Дуэнья развела руками в знак бессилия.
— Как звали пажа?
— Висентино де ла Феи.
Камергер покинул покои графини стремительно и в дурном расположении духа.
Графиня Миранда отчасти пришла в себя. Но только через два дня. И лишь отчасти. Утром, заметив у изножия своей постели самого вице-короля и его камергера, она сильно удивилась и с угрозой спросила:
— А где ангелы?
Вопрос вызвал тягостное молчание.
— Здесь нет ангелов, — ответил наконец вице-король. — Вам нездоровилось, графиня. Мы беспокоимся о ваших драгоценностях. Где вы их храните?
— Под кроватью, — сказала она недоуменно.
— Их там нет.
— Невозможно. Ключ при мне.
Она положила руку на грудь, явно стараясь нашарить цепочку. Цепочки там не было.
— Где мой ключ? — крикнула графиня.
Вице-король и камергер мрачно переглянулись.
— Очевидно, исчез вместе с вашим ларцом. И с вашим пажом.
— Висентино? Не может быть. Он здесь. Я его только что видела.
И графиня стала визгливо звать пажа. Наконец в глазах доньи Консепсьон промелькнула растерянность.
— Куда вы дели Висентино, ваша светлость? — спросила она грозно.
Вице-король посмотрел на нее долгим взглядом.
— Графиня, корабль, который доставит вас в Испанию, отплывает в конце недели. Вы отправитесь в путь завтра.
— А где брат Игнасио?
— На небе, сударыня. Или в аду. До свидания, сударыня.
Когда вице-король и камергер покидали комнату, графиня Миранда истошно вопила, призывая Висентино и брата Игнасио.
В конце недели, 21 июня, с умом столь же прискорбно пострадавшим, как и ее богатство, графиня Миранда под надзором доньи Исабель села в Веракрусе на борт пятидесятидвухпушечного корабля «Espiritu de Gracias»,[5] взявшего курс на Кадис.
Тем временем прелестная девушка, покинувшая дворец на заре этой драмы, высадилась во флоридском порту Майами после трехдневного плавания на скрипучей, но еще стойко державшейся на волнах посудине с не слишком удачно подобранным именем «Estrella del Sur».[6] Что касается имени самой девушки, которым поинтересовался капитан корабля, удивленный, что столь хорошенькая барышня путешествует одна, то она еле слышным голоском назвалась Мерседес де Леаль, дочерью армейского лейтенанта из Новой Испании, который отправил ее к больной матушке. Она даже предъявила записку от этого самого лейтенанта де Леаля, где тот убедительно просил капитана доставить его дитя по назначению. К офицерской дочке почтительно относились в течение всего плавания.
В первый день июля нарочный гонец сообщил графу Миранде о постигшем его несчастье.
Удар был жесток: пропавший ларец заключал в себе пятнадцать изумрудов, самый крупный из которых, еще необработанный, был величиной с кулак, множество драгоценных камней из Тапробаны, включая восхитительный рубин, невиданный лунный камень и целое состояние в тихоокеанских жемчужинах, в том числе крупных черных, а также четыреста тринадцать португальских райсов и тысячу двести пятьдесят испанских эскудо…
На следующий день после этой горестной новости губернатор Лимы граф Миранда был найден мертвым в своей постели. Он умер от кровоизлияния в мозг, о чем свидетельствовала почерневшая струйка крови, запекшаяся у него на губах.
Наверняка переволновался.
2. КОШМАР
Майами был весь пропитан затхлостью. К тому же пышная растительность и топкая почва расплодили полчища комаров. Их присутствие угадывалось сразу, стоило только поставить ногу на трап, спускавшийся к причалу.
Прежде чем ступить на него, Мерседес де Леаль окинула сцену быстрым взглядом. На набережных кишели индейцы племени текеста, среди которых попадались и метисы, нагружавшие и разгружавшие корабли под надзором десятников и испанских офицеров. Наверняка они же служили и носильщиками, доставлявшими багаж пассажиров по указанным адресам.
Мерседес пригляделась к поведению офицеров порта: не похоже, чтобы те кого-то подстерегали. Так что она двинулась к берегу чуть кокетливой поступью девушки, которая знает, что нравится, и легко спрыгнула на причал.
Затем она обратилась к одному из десятников, чтобы спросить у него адрес приличной гостиницы. Тот окинул ее взглядом, умилился, сделался вежливым и посоветовал «Посада дель Алькальде», заведение, которое содержит его добрая подруга донья Ана. Он намекнул, что стоит сослаться на него, и даже кликнул индейца, которому поручил проводить барышню и отнести ее багаж. Багаж этот состоял из маленького плетеного чемодана и большой кожаной сумки. Однако именно с этой сумкой путешественница не захотела расстаться.
Они пешком пересекли город, если можно так назвать торговую факторию, состоящую всего из одной большой улицы, застроенной с обеих сторон деревянными домами с широкими верандами, где проживало тысячи две колониальных чиновников да примерно столько же прочего люда: купцов, фрахтовщиков, плотников и авантюристов всех мастей, решивших набить себе тут карманы.
Донья Ана, увядшая в испарениях тропиков матрона, развешивала белье на задворках гостиницы. Она явилась на зов с угрюмым видом, но смягчилась при имени десятника. Даже изобразила слащавую улыбку, обнажив гнилые зубы. Потом проводила новую постоялицу в ее комнату и велела индейцу поднять туда плетеный чемодан.
— Плата вперед, — сказала она. — Пятнадцать мараведи за ночь.
Девушка достала из складок своего плаща кошелек и с улыбкой отсчитала требуемую сумму. Матрона была смущена. Нечасто встретишь такую воспитанную барышню.
— Senorita, — сказала она. — Майами — порт. Вечерами на улицах опасно. Моряки — пьяницы, а индейцы — дикари. Такая миленькая девушка, как ты, и десяти шагов не сделает, как к ней пристанут. Незачем искать bodegon.[7] Я тебе сама подам ужин, и он будет получше, чем в другом месте.
Мерседес де Леаль согласилась, одарив хозяйку улыбкой.
Оставшись одна, девушка закрыла дверь на задвижку и рухнула на кровать. Столько ночей она спала только вполглаза!
Чем же его опоили? Что сделали с его телом, как смогли превратить в животное?
Его член вспахивал лоно графини Миранды, стонавшей от сладострастия. Ее перезревшие груди колыхались на помятом животе.
А сзади в него напирал чертов францисканец. Капли пота падали на его плечи. Графиня стонала. Брат Игнасио багровел.
Висентино же, изнемогая, чувствовал, как мертвеют его мозг и внутренности.
Его телом пользовались как вещью. У него украли тело. Не могло его тело совокупляться с этой похотливой самкой.
Сцена регулярно повторялась больше двух лет подряд с небольшими вариациями. Всякий раз, как губернатор отправлялся в инспекционную поездку, что случалось довольно часто, суку и ее прихвостня вновь охватывала страсть.
Он задыхался в объятиях брата Игнасио.
Великое небо, как духовник мог исповедовать после этого? И исповедовался ли сам?
Искривленный агонией оргазма красный рот доньи Консепсьон и симметрично — ее пронзенные срамные уста.
Так было, пока дворцовый садовник, индеец, не заметил однажды, как он любуется желтыми колокольчиками дурмана.
— Трех листиков довольно, chico.[8] Одну ночь настоять в вине — и прощай! Навек в безумный сон!
И индеец разразился смехом, распахнув беззубый рот.
— Adios, mundo crudel![9]
Этот смех смущал душу, неотступно преследовал его.
Три листика.
В тот вечер в них словно дьявол вселился, наверняка из-за перемены места, давшей ощущение призрачной свободы. Они захотели повторить. Каждый уже выпил по бутылке вина. Он предложил перевести дух, промочив горло андалузским. И наполнил бокалы, вылив потом содержимое своего в большую вазу с аронником.
— Ангелочек, ты совратишь даже чертей в аду, — признался ему брат Игнасио.
— Una vez mas… La parrillada![10]
Висентино де ла Феи судорожно вздрогнул и проснулся. В горле пересохло, хотелось помочиться. Комнату уже наполнили нервным звоном первые вечерние комары.
Он сел на кровати, прерывисто дыша, потом помочился в жестяной горшок, отпил глоток воды из пористого глиняного кувшина и посмотрел на себя в зеркало. Пот смыл румяна, скрывавшие пушок на верхней губе. Он открыл плетеный чемодан, купленный в Веракрусе вместе с женским платьем; бросил взгляд на мужскую одежду, унесенную из дворца, и наконец достал бритву, чашку и мыло. Побрился с хирургической тщательностью. Потом наскоро освежился и достал просторный длинный халат из вышитого батиста, украденный у старшей дочери доньи Исабель, дуэньи. Осмотрев его, надел на себя, перетянул в талии шелковым пояском, сунул за пазуху кинжал, прихваченный в комнате графини, и спустился вниз перекусить, не забыв свою сумку, которую поставил под стул.
Ключ от ларца, осторожно снятый с графини, висел теперь на его собственной шее. На той же самой цепочке.
Трактирщица по-матерински позаботилась о нем, усадив за отдельным столом у окна. На фоне неба оттенка индиго цвели магнолии.
Едва Висентино притронулся к жаркому с картофельным салатом, как в зал шумно ввалились три человека с размашистыми жестами и, усевшись за стол, заказали вина и обильный ужин. Это были испанцы, судя по одежде — купцы. Они громко переговаривались между собой:
— …королевский улов! Губернатор этого не перенес. Помер с горя! В Мехико только об этом и говорят.
Висентино напряг слух.
— Ему еще повезло: только половину истории узнал. Графиня-то, его жена, наставляла ему рога с пажом и духовником!
Все трое затряслись от скабрезного смеха.
— Сразу с обоими?
— Представьте себе!
— И что с ней стало?
— Вернулась в Севилью. Похоже, наполовину спятила.
— А сокровище куда подевалось? — спросил один из сотрапезников.
— Тайна! Исчезло вместе с пажом. Я слышал, что этим делом очень заинтересовался сам инквизитор. Не знаю, то ли из-за пропавших драгоценностей, то ли из-за смерти духовника.
Висентино почувствовал, что бледнеет. К счастью, донья Ана экономила на свечах и в трактире было темновато. Кусок картошки застрял у него в горле, и он смог протолкнуть его, только сделав большой глоток вина.
— Такие драгоценности, — сказал другой сотрапезник назидательно, — не очень-то спрячешь. Когда мальчишка попытается их продать, тогда его и схватят. Описание драгоценностей, наверное, уже по всей Новой Испании разослано.
Это предположение вызвало новые, столь же развязные комментарии.
Сердце Висентино было готово выскочить из груди. Он слегка промокнул губы батистовым носовым платочком, вынутым из-за корсажа, вызвав новое восхищение трактирщицы столь изысканными манерами. Потом расплатился и поднялся в свою комнату, прерывисто дыша.
Да, он украл ларец. Но разве сама графиня и ее проклятый духовник не украли его жизнь? Что значат эти драгоценности по сравнению с ужасом и отвращением, которые он пережил?
Висентино задыхался.
И все же драгоценности важны, даже слишком важны, теперь он это понял: они подвергают его жизнь опасности.
Он нащупал кинжал за пазухой. Потом ключ на шее.
Эти обжоры правы: власти всех провинций Новой Испании наверняка располагают его описанием. И власти Флориды тоже. Ему надо срочно покинуть владения испанской короны. Бежать. Но куда? И как?
Неужели один кошмар будет вечно сменяться другим?
3. ТЕКЕСТА
Темнело, звуки на улице звучали все приглушеннее. Висентино лежал на кровати, погруженный в немое оцепенение, и ломал голову, как ему бежать из Новой Испании. В дверь постучали. Сердце снова подпрыгнуло в груди.
— Кто там? — спросил он через дверь.
— Это я, донья Ана, хозяйка.
Он напустил на себя побольше женственности, изобразил улыбку на губах, отодвинул защелку и приоткрыл дверь. Толчок трактирщицы застал его врасплох, а та, бесцеремонно вломившись, захлопнула за собой дверь и встала перед ним столбом, скрестив на груди руки. Уже одно это заставляло насторожиться. Но еще хуже была ее неподвижность — ироничная и немая. Висентино испуганно уставился на нее.
— Что происходит? — наконец спросил он слабым голоском.
Донья Ана ответила, сухо дернув подбородком:
— Кончена комедия.
— Я не понимаю…
— Кончена комедия! — повторила трактирщица властно. — Тот паж, что украл драгоценности губернатора Лимы, — это ты. Я-то сразу подумала: странно, что такая молоденькая девушка путешествует одна. Да еще эта тень на твоей верхней губе. Давай сюда немедля шкатулку, не то кликну жандармов.
Очевидно, она не смогла устоять перед искушением: ведь такая куча денег! Одна только мысль об этих пропавших сокровищах должна была обострить ее бдительность и довести воображение чуть не до галлюцинации.
— Но вы ошибаетесь, донья Ана…
Трактирщица не обратила внимания на его протесты и обшарила глазами комнату, освещенную двумя свечками. Явно высматривала ларец. Но обнаружить его можно было, только заглянув под кровать и открыв дорожную сумку.
Самый черный ужас охватил Висентино. Донья Ана наверняка попытается завладеть ларцом с помощью силы. А потом сдаст своего постояльца полиции. Если он сейчас промедлит, партия проиграна: его жизнь окончится в этой гостиничной комнате. Его ждет веревка.
Веревка. Он уже видел раньше повешенных — казненных за воровство индейцев. Представил себя с вытянутой шеей, с черным вывалившимся языком. С трудом сдержал крик. Схватившись рукой за горло, нащупал цепочку с ключом. Зловещее предзнаменование: удавка уже на его шее… Нет, только не такая смерть! Только не смерть!
— Где шкатулка? — прорычала донья Ана, оскалив гнилые зубы.
Она стала надвигаться на Висентино, по-прежнему сидящего на кровати и беспомощно глядящего на нее. Лоснящееся от сального пота, искаженное судорогой алчности лицо, злобный взгляд. Кем она была в другой жизни? Крысой?
— Вы в самом деле ошибаетесь, донья Ана, — пролепетал он еле слышно.
Та потеряла терпение и, с яростью уставившись на Висентино, сграбастала его за ворот халата. От нее несло чесноком и винным перегаром.
Безумное головокружение накатило на Висентино. Сунув руку за пазуху, он выхватил кинжал и одним отчаянным ударом всадил его в сердце доньи Аны. По самую рукоятку.
Трактирщица жутко выкатила глаза, разжала руку и разинула рот, чтобы закричать, но ни один звук не вырвался из ее горла. Потом она рухнула и захрипела.
Бледный, почти теряя сознание, Висентино склонился над ней. Какой прекрасный кинжал. Бесценный друг. Он вытащил клинок. Судорога сотрясла умирающую, и из раны хлынул поток крови. Висентино отскочил. Потом вымыл кинжал и засунул его в ножны.
На счету была каждая минута. Выйти из гостиницы через главный вход чересчур рискованно. Значит, через окно. Но как, по-прежнему в девичьем платье? Слишком поздно, переодеваться уже некогда. Не дай бог придет кто-нибудь, удивленный затянувшимся отсутствием хозяйки. Висентино закрыл плетеный чемодан и выбросил его в окно, потом схватил сумку, перекинул ногу через подоконник и прыгнул.
В саду было темно и пусто.
Куда бежать? В какую сторону?
Он постарался уйти от гостиницы как можно дальше. И остановился только через час, чтобы перевести дух в темной рощице. Поразмыслил. Когда обнаружат труп доньи Аны, повсюду разошлют описание девушки, в чьей комнате та была убита. Поэтому Висентино избавился от юбки, женской обуви и халата, запихал их в чемодан и вытащил оттуда короткие, до колен, штаны серого сукна, рубашку и жилет. Переодевшись, засунул под жилет кинжал, потом натянул мужские башмаки, гораздо более удобные для ходьбы.
Поскольку он знал: путь ему предстоит не близкий.
Висентино шел всю ночь, словно подгоняемый неведомым проклятием, распугивая рептилий, каких-то зверьков, с шорохом удиравших в заросли, и ночных птиц, взлетавших с громким хлопаньем крыльев и короткими вскриками. Эти звуки пугали его и вместе с тем успокаивали, поскольку означали, что он удалялся от Майами, средоточия всех опасностей. Ориентируясь по звездам, Висентино шел на север. Почему на север? Он не знал этого, но инстинкт вел его именно туда.
День занялся, когда Висентино вышел к какому-то озеру на равнине. Совершенно измотанный, весь в поту и мошкаре, он надеялся присесть и передохнуть, как вдруг услышал пронзительные женские крики. Почти одновременно заметил что-то барахтающееся в воде. Прищурился. В волнах, поднятых утренним ветром, тонул ребенок, то показываясь, то исчезая. Увидев в этом несчастном самого себя, Висентино впервые выпустил из рук свою сумку и бросился в воду. Стремительным рывком преодолев течение, доплыл до ребенка, схватил его и приподнял головку малыша над водой. Тут он заметил, что и сам тонет: маленькое создание, почувствовав, что это единственный шанс на спасение, вцепилось своему спасателю в волосы. Он высвободился и, обхватив ребенка левой рукой, стал грести правой, работая ногами. Пытаясь таким образом достичь берега, он вдруг понял, что переоценил свои силы, таявшие с каждым взмахом. Он потеряет две жизни. Но ему чудесно повезло: течение вынесло их на отмель и его нога коснулась дна. Он встал, сделал два шага и рухнул, не выпуская ребенка из рук.
Прибежала женщина, с ней какие-то люди. Она бросилась в воду и схватила ребенка, всхлипывая, вся в слезах. Мужчины вытащили Висентино на берег. Он лежал на спине, тяжело дыша, закрыв глаза. Потом его охватило оцепенение, и в облаке смутных образов перед ним возникло лицо собственной матери…
Он потерял сознание.
Возбужденные голоса, опять крики. Висентино открыл глаза. Его растирали чьи-то руки. Потом куда-то поволокли по траве. Прошло бесконечное время. Кто-то усадил его, поддержал, дал выпить чего-то крепкого. Внутренности обожгло огнем. Он закашлялся. Вокруг него толпились мужчины, женщины, дети. Мать спасенного ребенка гладила его по лицу. Висентино улыбнулся. Десяток рук обхватили его и помогли встать на топком берегу. Ноги не слушались.
Внезапно его охватила паника. Сумка!
От того места, где он бросился в воду, было уже не меньше трети лье.
Подошел какой-то индеец, держа в руках сумку и плетеный чемодан.
Юноша расплакался.
Индейцы отвели его в свое стойбище. Тот, кто принес его багаж, следовал за ними. Сам Висентино не смог бы поднять и яблоко.
Индейцы уложили его под навесом из шкур, раздели и снова растерли каким-то спиртным с едким запахом.
Силы окончательно оставили Висентино, и он заснул.
Мужчина был гол по пояс, босоног, в короткой кожаной юбке. Он протянул Висентино чашку с похлебкой, сваренной из бог знает какой дичи, очевидно водоплавающей, поскольку она смутно отдавала мускусом. Но похлебка была горячая, и юноша выпил ее почти одним духом. Мужчина с дубленым лицом (кожа как сафьян, подумал Висентино) сидел на корточках и смотрел на него не мигая. Мать ребенка, тоже сидя на корточках, держала свое спасенное дитя на руках и наблюдала за ними.
Солнце золотило мир мягким сусальным золотом. Перед вигвамом толпились люди.
«Я у индейцев текеста», — подумал Висентино.
Он заметил свою сумку на расстоянии вытянутой руки и был уверен, что индейцы даже не пытались ее открыть; впрочем, ключ от ларца по-прежнему висел на его шее. Три пары глаз внимательно изучали его.
— Ты спас жизнь, — сказал мужчина на ломаном испанском. — За это получишь две.
По его непринужденной властности Висентино догадался, что это вождь.
«Моего настоящего счета он не знает, — подумал Висентино. — Я должен еще одну».
— Я вождь этого племени, — подтвердил человек. — Меня зовут Сисматья. Теперь ты один из наших. Если хочешь, — добавил он с улыбкой.
— Я благодарю тебя. Но мне надо идти на север, — ответил Висентино. — Вы можете мне помочь?
— На север? — переспросил вождь удивленно.
Висентино кивнул.
— Как тебя зовут?
— Висентино.
— Чантино, — сказал Сисматья, — тебе нехорошо у твоих?
Висентино мотнул головой.
— Если они не твои и ты их боишься, то здесь ты в безопасности. Они сюда никогда не приходят.
Похоже, текеста уже встречались с беглецами.
— Но тебе надо знать, Чантино: на севере враги твоих, — сказал Сисматья озабоченно.
— Те, кого ты называешь моими, совсем не мои. Я должен идти на север. От этого зависит моя жизнь.
Сисматья бросил на него пронзительный взгляд.
— Твоя жизнь? Они хотят тебя убить?
Висентино энергично кивнул.
— Какое же преступление ты совершил?
— Они держали меня в рабстве. Я убежал.
Это в некотором смысле было правдой.
— Значит, ты хочешь перейти через границу?
Висентино кивнул.
— Хорошо, мы сейчас поужинаем, и я поговорю об этом со старейшинами нашего племени. Нас не очень много, но один я не могу решать, потому что кто-то из наших должен будет пойти с тобой. Иначе ты на север не доберешься. Много земель надо пройти. Но мы тебе поможем.
Он встал и вышел из вигвама. Женщина тоже поднялась и протянула ребенка другому мужчине, отцу, как догадался Висентино. Тот в свою очередь протянул мальчугана Висентино. Малышу, наверное, было годика три. Черные как смоль глаза и янтарная кожа. Он робко улыбнулся чужаку и потянулся ручонкой к его лицу. В первый раз за долгое, бесконечно долгое время Висентино тоже улыбнулся. На глаза навернулись слезы. Он вернул ребенка отцу, тот поставил малыша на землю, и они вышли все вчетвером.
Висентино увидел свою рубашку, трепыхавшуюся на ветру: индейцы повесили ее для просушки на ветвях вербы. Штаны тоже. Кальсоны. Чулки. Башмаки в траве. Все это было словно сброшенная кожа.
— Вождь тебе дает эту рубаху, — сказала женщина, протянув ее Висентино.
Рубаха из бурого полотна, украшенная красно-белым расшитым поясом.
— И вот это.
Высокие мокасины. Висентино надел их и весело притопнул ногами.
— И твой нож, — сказал мужчина, возвращая Висентино кинжал.
Пытаясь согреть юношу, индейцы сняли с него все. Он понюхал кожу и узнал запах. Камфара. Он был целиком в их власти, а они думали только о том, как бы получше о нем позаботиться. Эта мысль пришла к нему позже, а в этот миг Висентино сказал себе, что не только он спас жизнь ребенку, но и тот спас его собственную.
Вечерний ветерок принес прохладу и запах жареного мяса. У большого костра на вертелах жарились какие-то крупные птицы. У других костров, поменьше, валил пар из горшков разного размера. С наступлением темноты Сисматья знаком позвал Висентино за собой. Человек пятьдесят мужчин стояли вокруг большого костра. Когда вождь сел, усадив Висентино рядом с собой, они тоже сели. Все взгляды были обращены к нему.
Женщины принесли горшки с маленькими ручками и стаканчики из рога. Сисматья сначала налил своему гостю; напиток был крепкий, неизвестный Висентино. Потом вождь обратился к собравшимся. Из его короткой речи Висентино, разумеется, не понял ни слова, но она погрузила мужчин в глубокие размышления. Наконец взял слово другой человек. Его речь была еще короче, чем у вождя. Многие закивали головами и обратили свои взгляды к одному из своих, словно ожидая от него ответа. Это был молодой мужчина лет тридцати, с лицом гладким, но решительным. Он посмотрел на Висентино. Потом заговорил — еще более кратко. Вождь кивнул. После чего повернулся к Висентино:
— Мы выведем тебя отсюда, Чантино. Это долгий путь. Он лежит через много земель. Через землю аи. Потом через землю тимукуа, которая еще больше. Потом через землю хитчитов. Потом через землю чероки. И наконец, через землю ючи. Там ты придешь к границе. Это путь длиной в луну. Тебе будет нужен проводник, который умеет охотиться и править лодкой. Потому что гораздо легче и быстрее плыть по рекам. Это будет Кетмоо, вот он.
Вождь указал на того самого молодого индейца с грубовато скроенным лицом. Висентино кивнул и улыбнулся ему. Тот улыбнулся в ответ.
— Как же мы поплывем? — спросил Висентино.
— Возьмете небольшое каноэ. Думаю, ты хороший ходок. Это тебе пригодится.
Висентино вдруг представил себе таинственный лабиринт, который выведет его из ада — колоний Новой Испании. К англичанам.
Англичане. Пройдя через Луну, ему предстоит оказаться на Марсе.
Но выбора у него не было.
— Благодарю тебя, — сказал он Сисматье.
Они отведали дикую индейку. Некоторые ее части, самые белые, были особенно вкусны. Потом бобы, в такой же похлебке, что он уже пробовал. Как оказалось, она сварена из нутрии.
4. ДАНЬ АЛЛИГАТОРУ
Они пустились в путь утром. Сисматья посоветовал Висентино одеться по-индейски, чтобы не привлекать внимания, если их заметят испанцы. Висентино согласился. Впрочем, жара заставила его раздеться до пояса, и он шел так весь день, впервые не пряча кинжал, привязанный к поясу. Из поклажи он взял только свое мужское платье, завернутое в одеяло, большую флягу со свежей водой и дорожную сумку с ларцом. Кетмоо, его проводник, нес лук, колчан со стрелами, мешочек с трутом и кремнями на поясе, нож и еще какое-то метательное оружие. А на спине, в легкой сетке из широких лиан, — каноэ, самое маленькое и легкое суденышко, какое Висентино только мог себе представить: сшитое из кож, с каркасом из твердого дерева, длиной едва ли больше, чем рост самого Кетмоо. Можно было подумать, что это детская игрушка. Сбоку висело широкое весло.
Висентино недоумевал, как туда смогут поместиться два человека. Но в этом новом мире ему все было в диковинку, и он догадывался, что не стоит донимать вопросами людей, которые спасали ему жизнь. Ведь они и понятия не имели, что он бежит от застенков Его Наикатолического Величества и веревки с петлей. Так что лучше воздержаться от любых замечаний.
В полдень тем не менее Висентино начал испытывать жажду, а к середине дня опустошил уже половину фляги. Да и голод постоянно напоминал о себе. Неужели его проводник не нуждается в пище? Заметив большие темно-зеленые, похожие на груши плоды, Висентино узнал их — такие же росли во фруктовых садах дворца. Авокадо. Он сорвал столько, сколько могло поместиться в руках, — пять штук.
— Ты голоден? — спросил Кетмоо безразлично.
Висентино кивнул, набивая рот маслянистой мякотью. Незадолго до заката индеец замедлил ход и в конце концов остановился на поляне. Висентино, уставший до изнеможения, упал в траву и вытянулся под большим деревом. Отдых был недолог. Его тотчас же осадили тучи мошкары. Кетмоо снял каноэ с плеч, заботливо положил его на землю и принялся сооружать костер. Видимо, он знал, с какого дерева срывать еще зеленые ветки, поскольку от костра повалил густой и пахучий дым, отгонявший москитов и мошек. Потом индеец взял лук с колчаном и стал осматриваться. Висентино следил за каждым его движением. Вдруг Кетмоо натянул лук. Кого он приметил? Вместо ответа свистнула стрела и послышалось испуганное хлопанье крыльев. Текеста неспешно направился к своей добыче. Дикая индейка. Он вытащил стрелу, кинул тушку Висентино и сказал:
— Ощипываешь и потрошишь.
Озадаченный Висентино вопросительно посмотрел на индейца: ему никогда раньше не доводилось делать ни того, ни другого. Кетмоо сел и стал смотреть, как он старается, с трудом выдирая перо за пером. Наверняка действия белого не внушили особого доверия индейцу, поскольку через какое-то время он взял птицу из рук своего ученика, отрезал ей голову, энергичным жестом вспорол живот и в несколько мгновений избавил от внутренностей. Потом сжег остаток перьев на костре и, наломав других веток, сделал из них две вилки, воткнул в землю по обе стороны костра, насадил индейку на почти прямой сук и стал жарить.
— Ты никогда не готовил себе еду? — спросил он.
— Нет.
— Значит, ты зависишь от других.
Висентино сдержал улыбку, выслушав этот урок примитивной философии. Потом Кетмоо опять взял свой лук, колчан и удалился. Отсутствовал он довольно долго и вернулся, неся другую индейку и какое-то похожее на большую черную крысу животное.
— Делаешь запасы? — спросил Висентино, кивнув на индейку и ондатру.
— Не для нас, — загадочно ответил Кетмоо.
Висентино не осмелился задавать другие вопросы. Индейка уже вовсю шипела на огне, когда Кетмоо снял ее вместе с вертелом, отрезал кусок и отведал, вопросительно подняв брови, точно шеф-повар, пробующий жаркое в кухнях какого-нибудь испанского гранда.
— Скоро будет готово, — сказал он, оглядывая окрестный пейзаж.
И вот этому человеку Висентино доверил свою жизнь. В волнениях, сопровождавших оба его бегства, спасение маленького индейца и его собственное возвращение к жизни, он просто впитывал в себя события, не раздумывая над ними. И только сейчас вдруг оценил, до какой степени был беззащитен — и перед доньей Консепсьон де Лос Артабасес, графиней Мирандой, и перед братом Игнасио, и перед трактирщицей доньей Аной. И даже перед теми, кто хотел ему добра, перед Сисматьей, а теперь вот перед Кетмоо. Как индейка перед стрелами.
Солнце село. Небесная синева неудержимо чернела. Ночь наполнилась криками птиц, шорохами, трепетом листвы.
— Спи сначала ты, — сказал Кетмоо, — я посторожу. Потом твоя очередь.
Тысячи страхов зароились в душе Висентино. Спать? Он станет еще более уязвим, чем когда бы то ни было. А случись меж ними обоими поединок, он, даже оказавшись победителем, никогда не сможет выбраться из этих лесов. Возможно, заметив колебания своего спутника, индеец догадался о его мыслях.
— Я тебя охранять, Чантино, — сказал он с чуть грустной улыбкой.
Опасаясь показаться неблагодарным, Висентино развернул одеяло и закутался в него, потом вытянулся, положив голову на свою сумку. Им овладел фатализм. Через мгновение он уже спал.
Легшая на плечо рука разбудила его.
— Твоя очередь.
Висентино сел. Кетмоо оживил огонь.
— Звери не придут. Огонь не подпустит. Но другие люди могут пройти этой дорогой. Не испанцы. Наши. Лучше мне с ними говорить. Тогда разбуди меня.
Висентино стал караулить. Он вслушивался в странные ночные звуки. Потрескивание ветвей. Внезапный свист, писк, хлопанье крыльев и еще эти пронзительные, изредка раздававшиеся истерические вопли, будто разочарованные демоны кричали во тьме.
Висентино открыл сумку и удостоверился, что ларец по-прежнему там. Он заглядывал в него всего один раз. Быть может, он богаче всех в мире, но пока он всего лишь мальчишка, затерянный в бескрайних лесах и ничего не знающий о своем завтрашнем дне.
Юноша стал растирать себе ноги. Никогда он столько не ходил.
Вдруг ему пришла мысль: а когда же они воспользуются каноэ? Впрочем, воспользуются ли они им вообще? Он достал последний плод авокадо и доел его, отрезая кинжалом куски маслянистой мякоти.
На следующий день он самолично убедился в незаменимости каноэ, когда они достигли байу — прорезанных лесами болот, где в воду свешивались сотни воздушных корней, словно деревья, достигнув света и неба, снова ностальгически тянулись к земле, образуя настоящий занавес из лиан. Солнце стояло уже высоко, когда Кетмоо спустил каноэ на воду и уселся в нем, скрестив ноги, зажав лук пальцами ног, а колчан, мешок и вчерашнюю неощипанную индейку с ондатрой пристроив перед собой. Потом он сделал знак Висентино занять место сзади. Тот послушался, разувшись и полный дурных предчувствий, что вот-вот опрокинет своим весом утлую скорлупку. Но даже когда они поместились туда оба, между краем борта и поверхностью воды оставалась еще добрая ладонь. Индеец взмахнул веслом, и каноэ двинулось вперед, морща волнами зеленую воду, над которой висели, касаясь ее, прозрачные рои насекомых.
Так они плыли часами, то по рекам, то углубляясь в сине-зеленые водные пространства, окаймленные зарослями таинственных деревьев.
— Здесь никаких испанцев, — объявил Кетмоо. — Только звери.
Немного позже индеец перестал грести, уставившись на воду. Висентино проследил за его взглядом и решил было, что какой-то сломанный сук несет течением в их сторону. Но потом сердце бешено заколотилось: аллигатор! У него вырвался крик. Но Кетмоо оставался спокойным. Он взял тушку ондатры и широким жестом бросил в сторону водяного чудовища. Добыча упала позади рептилии. Аллигатор остановился, развернулся, разинул пасть, похожую на огромный клюв, и рванулся к подарку с удивительной быстротой. Схватив ондатру, чудовище погрузилось в воду и исчезло.
— Он нас больше не побеспокоит, — сказал Кетмоо, опять невозмутимо взявшийся за весло.
Висентино понял, кому предназначались вчерашние припасы.
На закате они пристали к речному берегу у какой-то поляны. Висентино вылез первым и вдруг, карабкаясь на берег, похолодел от ужаса. Какое-то животное перепрыгнуло с низкого сука на другой, подбираясь к ним поближе. Пума. Висентино придушенно вскрикнул. Но Кетмоо тоже заметил зверя. Не дрогнув, посмотрел ему в глаза, а когда тот уже выгнул спину, собираясь прыгнуть, бросил ему припасенную для этой надобности индейку. Фокус опять удался: пума метнула подозрительный взгляд в сторону Висентино, потом прыгнула к птице, схватила добычу и скрылась в зарослях.
Висентино еще дрожал от пережитого ужаса. Кетмоо вылез из каноэ и, смеясь, обнял его за плечи.
— Они тоже хотят есть, — сказал он. — Лучше откупиться, чем попусту их убивать. Надо будет пополнить запасы.
Через несколько дней блужданий по болотам и равнинам Висентино проникся духом этих неведомых пространств. Он научился у Кетмоо разводить огонь, ощипывать и готовить диких индеек и других птиц, распознавать ночные звуки. Он загорел на солнце, и теперь его, черноглазого, с повязкой на черных как смоль волосах, охотнее приняли бы за полукровку или за квартерона, чем за белого.
Впрочем, так и случилось, когда они встретили первых аи. После обмена длинными речами, в которых Висентино, разумеется, не понял ни слова, к нему подошел человек неопределенного возраста и стал рассматривать. Потом что-то сказал ему на своем языке, а когда Висентино удивленно поднял брови, покачал головой.
— Он говорит, что ты текеста, хотя сам об этом не знаешь, — объяснил Кетмоо со смехом.
Не будучи знаком с землями, через которые им предстояло пройти, Кетмоо попросил аи указать ему самый надежный маршрут, то есть наиболее удаленный от поселений белых. Поскольку на берегах Киссимее и Вевахотее имелись испанские поселки, они двигались мимо них по ночам. Испанцы почти не попадались, лишь изредка вздымали пыль на дорогах военные отряды или тряская почтовая карета. Чаще можно было увидеть черных рабов, почти голышом работавших на плантациях сахарного тростника и хлопка.
Проведя столько дней и ночей наедине друг с другом, путники сблизились.
— Ты был как они? — спросил Кетмоо однажды днем, когда они плыли по извилистой реке под низкими сводами ветвей.
— По-другому, — ответил Висентино из-за его спины.
— Я так и думал.
— Почему?
— Твои руки и ноги слишком нежные. И ты убил ради свободы?
Пораженный Висентино не ответил.
— У нас бесчестьем было бы не убить, — продолжил Кетмоо.
Это заставило Висентино задуматься. Выходит, индеец уверен, что он совершил убийство. По крайней мере одно.
— В сумке у тебя деньги?
— Да.
— Хорошо. Они твои по праву.
Даже когда они устроились на ночь, у Висентино не шли из головы эти рассуждения. Как же давно догадался Кетмоо об истинных причинах его бегства? А его сородичи, они тоже догадались?
Путники в очередной раз сменили территорию, теперь это была земля племени тимукуа. И повторилась та же сцена, что и с аи. Висентино был бы не прочь посмотреться в зеркало, чтобы самому судить о произошедшей с ним метаморфозе. Наконец они достигли земель хитчитов. Опять леса. Висентино и представить себе не мог, что их может быть столько, и таких дремучих.
— Скоро конец твоего путешествия, — сказал как-то Кетмоо. — Мы уже у чероки.
Их пригласили на трапезу — этим они были обязаны в равной степени любопытству, которое вызывал у всех лжеиндеец Чантино, и известному гостеприимству племени чероки.
Во время ужина — неужели не существовало в этом мире другой пищи, кроме диких индеек и ондатр? — один из чероки, сидевший рядом с Висентино, внезапно застыл и уставился на его бедро. Индейцы быстро перебросились несколькими непонятными словами. Вождь отдал какой-то короткий приказ. Висентино почувствовал чье-то прикосновение к своему бедру, опустил глаза и обмер от ужаса: большущая змея пристроилась у него под боком и, пригревшись, едва шевелилась.
— Не двигайся, — приказал Кетмоо многозначительно.
Висентино наклонился к рептилии, и та подняла голову. Потом скользнула вдоль его бедра и спокойно уползла в траву. Сердце Висентино колотилось так, будто собиралось выскочить из груди.
— Чантино, — сказал вождь на ломаном испанском, — у нас это знак. Тебя защищают духи.
Он долго и пристально смотрел на Висентино, потом добавил:
— Ты будешь жить долго. Так долго, что люди скажут: смерть тебя боится.
Потом индеец протянул гостю чашку с какой-то терпкой жидкостью.
— Выпей, чтобы это осуществилось.
Висентино подчинился.
Четыре дня спустя они пересекли землю ючи. Два проводника из этого племени довели их до границы Флориды с Джорджией.
— Иди на восток, ты быстро найдешь английскую деревню.
Они с Кетмоо обнялись. У юноши увлажнились глаза. Этот текеста смыл все ужасы и гнусности, налипшие к нему за долгие месяцы, даже за всю жизнь, как ему казалось. Висентино вдруг заметил, что запахи примятой травы, воды и пыли, ароматы мускусных деревьев и диких цветов подействовали на его незримые раны как бальзам.
— Поблагодари от меня вождя, — попросил Висентино. — Ты и он останетесь в моем сердце навсегда.
Кетмоо кивнул.
— Иди, — сказал он.
Висентино вздохнул, повернулся и пошел с узелком на плече, с сумкой под мышкой. Он шел довольно долго, шагая через луга и думая, что скоро достигнет самой южной из колоний британской короны, если уже не достиг.
В самом деле, через час показались колокольня и шиферные крыши. Он остановился и опять сменил облик, надев одежду белого человека. Платье слегка потеряло свежесть, а башмаки ссохлись.
Но Висентино теперь был вне досягаемости инквизиции, полиции Новой Испании и ищеек губернатора Лимы.
И своего прошлого.
5. СЫН ПИРАТА
Висентино не знал названия деревни. Не знал ни слова по-английски. И умирал от голода.
Итак, опять его жизнь будет зависеть — в который раз — от чьего-то сочувствия или подозрений. И от собственной смекалки. Ибо нужна хорошая история, чтобы оправдать присутствие беглеца из Новой Испании во враждебных английских колониях. Он знал только два английских имени: Дрейк и Лондон. Сэр Френсис Дрейк, пират, умерший более ста тридцати лет назад, олицетворение самого дьявола для испанцев, о котором во дворце губернатора Лимы до сих пор рассказывали немало жутких историй. И Лондон, самый большой город Англии.
Висентино ничего не знал о мире. Последние десять лет он прожил под неусыпным надзором брата Игнасио. Ел с ним, спал с ним, испытывал на себе его физическое насилие, удовлетворял его сексуальные аппетиты, выслушивал его толкование мира. Тот лечил его, когда он болел, наставлял в любви к церкви, в послушании, уважении к старшим и властям. Теперь юноша стал сиротой, избавившись от неправедного отца, который злоупотреблял своей властью и подавлял его.
Висентино вооружился мужеством и вошел в деревню. Первый человек, которого он встретил, был мужчина лет сорока с бледным морщинистым лицом, в длинном черном плаще и высокой, тоже черной, широкополой шляпе.
Человек обратился к нему по-английски. Висентино захлопал ресницами, улыбнулся и ответил по-испански, что не говорит по-английски.
Человек нахмурился. Висентино улыбнулся еще шире и благожелательнее.
— Come with me, — сказал человек, сопровождая слова повелительным жестом. — I know someone who speaks your tongue.[11]
Висентино последовал за ним по главной улице, грунтовой, совсем как в Ла-Пасе. Они вошли в какую-то лавку, казавшуюся одновременно скобяной, жестяной и бакалейной. Обнаружили там человека с полузакрытыми глазами, решившего, видимо, только так смотреть на заурядность и пошлость мира. Оба англичанина обменялись несколькими быстрыми словами, и торговец обратился к Висентино по-испански:
— Откуда ты?
— Из Майами.
— А здесь что делаешь?
— Хочу добраться до Лондона.
Англичанин, говоривший по-испански, наверняка был толмачом в этом приграничном городке, посредничая в торговле с коммерсантами из Флориды, которые при случае покупали или продавали тут плоды земледелия, ведь торговля не признает границ.
— В Лондон? — удивился торговец скобяным товаром. — Зачем?
— Повидать родных.
— И как фамилия твоих родных?
— Дрейк.
Имя заставило встрепенуться человека в черном, хоть он и не понимал по-испански. Оба англичанина заинтригованно переглянулись.
— Дрейк, говоришь?
Висентино кивнул.
— Тебя самого как зовут?
— Винсент Дрейк.
На этот раз человек с полузакрытыми глазами открыл их полностью.
— Но ты же не говоришь по-английски?
— Моя мать испанка. Мы ведь жили среди испанцев, вот и отец не говорил по-английски, потому что не с кем было.
— А откуда твой отец?
— С Испаньолы. Там я и родился.
— А имя своего прадеда ты знаешь?
— Френсис.
Гробовое молчание воцарилось в лавке. Оба англичанина ошеломленно воззрились на своего гостя, словно он был пришельцем с Луны.
— Как же ты сюда добрался? — спросил человек в черном, придя в себя.
Лавочник перевел.
— Верхом.
— А где твоя лошадь?
— Пала три дня назад.
— Can't believe my own ears,[12] — сказал человек в черном.
— И ты шел пешком? Как же ты не заблудился? — спросил коммерсант недоверчиво.
— Индейцы довели меня до границы.
— Какие индейцы?
— Ючи, — ответил спокойно Висентино де ла Феи, ставший отныне Винсентом Дрейком, сознавая, какое впечатление его слова производят на собеседников.
Никакого сомнения: назваться именем дьявола и объявить его своим предком было удачной идеей.
— Где тут можно купить поесть? — спросил Дрейк.
— У тебя есть деньги?
— Да.
— Сколько?
— Хватит, чтобы добраться до Лондона, — ответил юноша уверенно.
Это оказалось хорошей новостью для человека в черном, олдермена деревни Стейтенвилл: значит, этот бродяга не станет обузой для муниципальной благотворительности.
— И еще мне нужна новая одежда, — добавил Винсент Дрейк непринужденно.
— С этим придется подождать, — ответил олдермен неодобрительно. — Мы тут щегольству не угождаем. Придется ехать в Уэйкросс, а может, и в Саванну. — Он повернулся к другому англичанину. — Отведу этого молодца к миссис Баскомб. Завтра поглядим, какое продолжение дать этому делу.
Коммерсант вкратце и с гораздо меньшей надменностью перевел эти слова.
Олдермен встал и сделал Висентино знак следовать за ним. Через несколько минут они подошли к дому с большой террасой. Англичанин поднялся на крыльцо и позвонил в колокольчик. Появилась женщина с бледным и усталым лицом. Он объяснил ей, в чем дело; та окинула взглядом своего будущего постояльца и кивнула, спросив:
— About money?[13]
Висентино понял слово, похожее на испанское moneda; он вытащил из своего узла кошелек и открыл его; англичане заглянули внутрь: там было несколько медных монет и две серебряные — все, что осталось от эскудо, который он разменял в Веракрусе, и еще три золотых — один райе и два эскудо. Миссис Баскомб и олдермен казались удивленными. Висентино понял, что они сочли его вполне обеспеченным, но не более того. В итоге миссис Баскомб запустила два пальца в кошелек и выудила оттуда серебряную монету.
Она пригласила его на кухню и подала телячье рагу с картошкой и густым соусом, что показалось юноше восхитительным пиршеством, положила на стол круглый хлеб, поставила стакан и графин. Наконец сама уселась перед своим новым постояльцем и стала смотреть, как он ест. Висентино удивленно улыбнулся ей; она чуть грустно улыбнулась в ответ. Он понял, что ее интересуют его манеры за столом. Через какое-то время женщина в задумчивости ушла.
Вечером, примерно в одно время, но на большом расстоянии друг от друга, состоялись два собрания. В обоих главным предметом обсуждения был Висентино.
Первое состоялось в Ла-Пасе, и участвовали в нем новый губернатор и дворецкий.
— Так вы говорите, — заявил губернатор, — что сокровища моего предшественника исчезли в Мехико одновременно с пажом его супруги?
— Прежний губернатор граф Миранда, ваша светлость, велел произвести углубленное дознание, при поддержке вице-короля. Покои, которые занимала графиня, были тщательно осмотрены в поисках ларца. Не нашли и следа.
— Вы сами видели этот ларец?
— Да, ваша светлость, один раз, когда губернатор приказал вырубить нишу в стене, за большим шкафом, чтобы поместить его туда. Он был железным, обтянут толстой рыжеватой кожей, примерно таких размеров. — Дворецкий показал жестом длину с предплечье, а высоту и ширину в две его трети. — И довольно увесистый. Я бы даже сказал, двадцать пять — тридцать фунтов.
— И губернатор доверил его своей супруге?
— Думаю, немногие знали о сокровищах, которые в нем хранились. Во время поездки его, должно быть, нес брат Игнасио, духовник графини, или один из двоих слуг-индейцев.
— Слуг допросили?
— Да, ваша светлость. Их жилище во дворце было обыскано, но в любом случае они не входили в покои графини за те два дня, что предшествовали происшествию.
— Узнали, от чего умер брат Игнасио?
— Инквизитор в Мехико полагает, что он был отравлен каким-то веществом, которое также поражает рассудок. Такого добра, увы, хватает в здешних краях. Графиня тоже его употребила, но, без сомнения, в меньшем количестве. Этим и объясняется, что она выжила, хотя и повредилась в уме. Яд наверняка был подсыпан в вино.
— Это же явные признаки заговора! — воскликнул губернатор, гордый своей проницательностью. — А паж?
— Никто о нем ничего не знает, кроме того, что он исчез.
— А его семья?
Дворецкий выглядел смущенным.
— Боюсь, у него больше никого не осталось, ваша светлость, — сказал он, явно чего-то недоговаривая.
— Что вы хотите сказать?
— Ваша светлость, дело несколько щекотливое.
— Говорите.
— Этого пажа официально звали Висенте де ла Феи, но мы узнали, что это имя подобрал ему брат Игнасио. Мальчик, которого на самом деле звали Исмаэль Мейанотте, был сыном португальского еврея, осужденного на смерть инквизицией за совершение нечестивых обрядов.
— Нечестивых обрядов?
— Поклонение дьяволу, ваша светлость, — пробормотал дворецкий, перекрестившись. — Мальчик был доверен брату Игнасио в шести-семилетнем возрасте. И тот рассудил, что подопечному лучше забыть и свой язык, и свою страну.
Казалось, губернатор недоволен тем, что узнал.
— Прекрасное же воспитание он получил! — пробурчал он. — Убийца и вор! Ибо виновный — он! Никакого сомнения!
Дворецкий скривился.
— Разве не таково же и ваше мнение? — спросил губернатор повелительно.
— Ваша светлость, я не настолько мудр, как вы. Но мне кажется, что мальчишка слабоват для такого ужасного заговора.
— Во всяком случае, он исчез вместе с сокровищами. Вы не знаете, полиция Новой Испании уже предприняла розыски?
— Десять дней назад мы получили рапорт. Мальчишка, похоже, буквально испарился. Может, перенял этот талант от своего отца…
Губернатор решил, что с него хватит подобного вздора. Он покачал головой и отпустил дворецкого. Тот удалился, довольный, что его не спросили ни о причинах, по которым брат Игнасио был обнаружен голым, ни о слухах, касающихся отношений духовника с пажом и супругой губернатора. Инквизитор сурово запретил упоминать об этом, что дворецкого вполне устраивало.
Подобные вещи смущали его набожную душу.
В Стейтенвилле собрание состоялось в доме у олдермена, после ужина, который закончился в половине восьмого. Присутствовало шесть человек: приходский викарий, его жена, начальник военного гарнизона (слишком громкое название для двух дюжин человек, вооруженных мушкетами, причем лишь четверо из них в настоящий момент охраняли деревню), городской хирург, миссис Баскомб и супруга олдермена, подавшая на стол португальское вино — портвейн — и орехи.
— Каково ваше впечатление об этом молодом человеке, миссис Баскомб? — спросил олдермен, воздав таким образом честь опыту кумушки, которая некогда содержала постоялый двор в Саванне, а сюда попала вместе с ныне покойным супругом, который предшествовал олдермену на этом посту. Считалось, что миссис Баскомб повидала свет.
— Юноша, несомненно, получил хорошее воспитание, — сказала она. — За столом ведет себя деликатно. К вину даже не прикоснулся, изящно пользовался ножом и вилкой, ел умеренно. Когда я проводила его в комнату, он меня спросил, где можно помыться. Я указала ему место рядом с колодцем. Он явно не из простонародья. Его лицо благородно и приятно, кожа довольно светлая: значит, на тяжелых работах не был.
— Насколько я понял, его мать испанка, — вмешался викарий. — Это означает, что он католик. К тому же он не говорит по-английски.
Досадные недостатки — это признали все.
— Однако молодой человек кажется мне смышленым, — заявил олдермен. — Когда он поймет, кем был его предок, он без усилия воспримет религию, которая ему подобает.
Все повернулись к начальнику гарнизона, который задумчиво потягивал портвейн.
— Необычная история, — заметил тот. — Но мы-то знаем, что сэр Френсис во время своих многочисленных заходов в порты был очень уязвим для чар прекрасного пола. А тот — весьма чувствителен к его собственным.
Мужчины засмеялись и зашушукались. Каждый знал, что перед Дрейком не устояла даже сама покойная королева Елизавета I.
— Во всяком случае, юноша рос не в нужде, — сказала миссис Баскомб. — Я понаблюдала за ним украдкой во время умывания: он пользовался мылом.
— Мылом! — воскликнула супруга викария.
— Ну ладно, — сказал викарий, — этот мальчишка и так уже слишком занимает умы. В самом деле, надо его спровадить в Саванну. Не вижу, что мы выиграем, удерживая его здесь.
Вот так, два дня спустя, на заре, проглотив большую чашку чаю, предложенную миссис Баскомб, Висентино оказался в почтовой карете, каждый четверг отправлявшейся в Саванну.
Между делом он узнал или, скорее, просто запомнил на слух дюжину английских оборотов: «Thank уои», «Bless you», «Would you pass the salt, please», «The soup is a bit hot»[14] и прочие расхожие выражения.
Он бросил взгляд на ларец. Когда же он сможет спрятать его в надежное место?
6. АЛЬКОВНЫЙ ПИРАТ
Саванна насчитывала по крайней мере две гостиницы, достойных этого названия, которые кучер и указал Винсенту Дрейку в ответ на его вопрос:
— Do you know of an inn?[15]
Почтовая станция, где кучер высадил юношу, находилась на площади, у берега реки, давшей название городу. Винсент выбрал ближайшую, чтобы не пришлось нести слишком далеко ларец и узел. Гостиница «Христианская река», опрятная белая постройка незамысловатой архитектуры, находилась неподалеку от набережной, на широкой эспланаде, обсаженной высокими деревьями, и рядом с церковью. Там Винсента Дрейка приняла любезная сорокалетняя женщина, спросившая его имя.
— Джон Таллис, — ответил он, приглядываясь к ней исподтишка и стараясь обнаружить признак какого-нибудь скрытого порока.
Названное им имя несколько раз упоминалось в разговоре попутчиков. «Дрейк», рассудил он, привлекло бы слишком большое внимание. Так что за один месяц он уже в третий раз представлялся другим человеком.
Он заплатил за комнату вперед и спросил, где мог бы заказать более приличную одежду; хозяйка дала адрес: Кинг-Джеймс-стрит, и он сразу же отправился туда, завернув по дороге в банк господ Уотерса и Майклса, чтобы обменять там два эскудо и один райе, остававшиеся в кошельке. Кассир взвесил каждую монету на весах, записал цифры, справился с какой-то ведомостью, покачал головой и самым сокрушенным тоном объявил своему клиенту, что за сто шестьдесят один гран золота он получит, после вычета комиссионных, сто одиннадцать фунтов серебром и пятнадцать пенсов его величества Георга I Английского — сумму, которая явно казалась ему значительной. После чего отсчитал ее мистеру Джону Таллису, звякая каждой монетой с таким прилежанием, что один из его коллег даже поднял голову.
Портного, казалось, удивил возраст заказчика. Хотя тот и отпустил пушок над верхней губой, но все равно выглядел слишком юным.
— Мне нужно одеться, — сказал заказчик.
Портной предоставил ему экземпляр «Пэлл-Мэлл газетт» и показал раскрашенные (очевидно, самим портным или его дочкой) гравюры, изображающие различные наряды для джентльменов, модные сейчас в королевстве. Джон Таллис их тщательно изучил и выбрал синие бархатные штаны до колен, более светлого оттенка шелковый жилет с белой отделкой и синий суконный кафтан в тон к штанам.
Портной весело закивал головой. Потом спросил:
— А чулки? Шелк или хлопок?
На Джоне Таллисе были его единственные хлопчатобумажные чулки, в которых он покинул Мехико. Однажды намокнув, теперь они выглядели серыми. Он не знал, как будет «шелк» по-английски.
— Silk? — повторил он, беспокоясь, что покажется странным.
Портной принял вопрос за утверждение.
— Сколько пар, мой господин?
Джон Таллис догадался, что уже дал ответ, хоть и не знал какой. Но при словах «How many?» понял, что надо уточнить количество пар.
— Five,[16] — ответил он.
Портной устроился за своим прилавком, сделал подсчеты и объявил юному клиенту, что костюм обойдется ему в тринадцать фунтов и десять шиллингов. На сей раз Джон Таллис прекрасно все понял и кивнул.
— Мне нужен задаток, — сказал портной сурово.
Джон скорее догадался, чем уразумел вопрос, открыл кошелек и отсчитал пять фунтов. Портного, похоже, восхитило количество монет, оставшихся внутри.
— Неделя, — сказал Джон Таллис по-английски довольно твердо, сам не зная почему; быть может, потому, что спешил поскорее прилично одеться.
Портной опять удивился.
— Срок весьма короток, мой господин, — заметил он. — Придется добавить еще один фунт.
Джон Таллис снова открыл свой кошелек и добавил один фунт к лежавшим на прилавке.
Портной посмотрел на своего юного заказчика с уважением. Потом стал снимать с него мерку.
— Башмаки? Сапоги? Шляпа? — спросил Джон Таллис, когда с этим было покончено.
Портной указал ему лавку на углу улицы. Там Джон Таллис заплатил три фунта пять шиллингов за пару черных сапог из хорошей кожи и за две пары туфель с пряжками, чтобы носить в городе. Потом купил треуголку из черного фетра, обшитую красным галуном, и ленту, чтобы завязать волосы сзади. Затем прогулялся, по-прежнему держа сумку под мышкой; теперь он имел вид молодого джентльмена, который из-за жары оставил свой кафтан дома. Город был новый, нисколько не похожий ни на Ла-Пас, ни на Мехико, — с улицами, пересекавшимися под прямым углом, и с просторными скверами, где росли какие-то экзотические деревья. Незаметно наступил полдень. Джон Таллис проголодался. Неподалеку оказалась харчевня; он заказал там пиво, кусок говядины и с хорошим аппетитом пообедал.
У него не было ни малейшего представления о том, чем заняться дальше. Шкатулка оттягивала ему руку. Не мог же он бесконечно таскать ее с собой.
И что ему делать со своей жизнью?
Это ему подсказала местная газета «Трейд энд порт меркьюри». Найдя экземпляр на террасе гостиницы, Джон перелистал ее, чтобы освоиться с написанием английских слов и попытаться воспроизвести выговор, произнося их про себя. На первой же странице этого листка ему попались даты прибытия и отправления морских и речных судов, а также цены на товары, торгуя которыми с другими английскими колониями Нового Света и со старым континентом Джорджия сколотила свое богатство: дерево, рис, индиго, скипидар, говядина, кожи…
На последней странице была колонка новостей из остального света и городских слухов. Внимание Джона Таллиса привлекло одно название: Ла-Пас. Потом имя, от которого его сердце подскочило: Миранда. Он отчаянно попытался расшифровать статейку, совсем коротенькую:
«ИСПАНСКИЙ АЛЬКОВНЫЙ ПИРАТ
Некий голландский купец, побывавший в Новой Испании, передает один слух, изрядно развеселивший подданных Его Католического Величества и удручивший испанские колониальные власти: любовник супруги губернатора Ла-Паса, графа Миранды, украл у нее значительное сокровище и бежал. От горя граф скончался».
Несколько слов были ему знакомы, некоторые, такие как «pirate», «lover» или «authorities»,[17] он угадал.
Но ни «tradesman», ни «Dutch», ни «sorrow»[18] он не знал. Конечно, настоящее имя Джона Таллиса не указывалось, очевидно, не был упомянут ни его возраст, ни нынешнее его присутствие в Джорджии. И ни слова о брате Игнасио; так что не было никаких причин слишком уж тревожиться. Но если газета попадет в руки людей из Стейтенвилла, видевших прибытие молодого человека испанского происхождения, заметка может привести их к досадным умозаключениям. Но не мог же Джон Таллис попросить кого бы то ни было растолковать ему эту статью, не вызвав подозрений. Он читал и перечитывал ее до тех пор, пока чуть не выучил наизусть, и догадался, что выражение «альковный пират» было ироничным. Поднявшись в свою комнату, он в конце концов успокоился. Но ему настоятельно требовалось покинуть Новый Свет. Предвосхитив событие, он объявил в Стейтенвилле, что направляется в Лондон; там-то беглец окончательно и заметет свои следы. Тем не менее сначала требовалось переодеться. Он правильно сделал, предупредив, что торопится.
На следующий день Джон сходил в порт и справился о кораблях, отплывающих в Англию; на него посмотрели с удивлением: ни один рейс не связывал Саванну непосредственно с королевством. Следовало сперва доплыть до Норфолка, что можно было сделать на одном из тех судов, которые более или менее регулярно плавали вдоль побережья.
Так что он стал дожидаться своей новой одежды. А примерив ее, уже не захотел снимать. Портной очень нахваливал его представительность, хозяйка гостиницы еще больше. Юноша купил два растяжных кожаных мешка, в один из которых положил ларец, в другой сапоги и свой узел, и через два дня сел на четырехмачтовик «Дева Чарлстона». После четырех дней каботажного плавания, во время которого команда и пассажиры питались почти одной только фасолью и копченым мясом, Джон высадился в Норфолке и отправился на поиски корабля, отплывающего в королевство. Таковых нашлось целых два, и он заплатил за каюту на «Принцессе Виргинии».
Он едва успел купить съестные припасы в дорогу по совету одного лейтенанта: копченый окорок, лимоны и две фляги рома — для того, чтобы делать воду пригодной для питья. В два часа ночи капитан приказал поднять якорь. Корабль распустил паруса и взял курс на Саутгемптон. Джон Таллис стал удаляться от континента, который вырвал его душу и чуть не лишил жизни.
Его каюта была тесной каморкой с натянутым гамаком. Человек среднего роста не мог там выпрямиться во весь рост, но Джону она показалась прелестной.
7. ПРИГЛАШЕНИЕ
Саутгемптон до ужаса потряс Джона Таллиса (поскольку это все еще был он). Все эти корабли, эта суета, тяжело груженные повозки, доставлявшие товары к причалам, эти крики… Он почувствовал себя потерянным.
С двумя тяжелыми мешками в руках он покинул порт и заглянул в первую же увиденную таверну. Август близился к концу, стояла страшная жара, а путешественник забыл попить в последние часы плавания. И не было больше ни лимонов, ни рома. В таверне Джон выпил целую пинту эля и захотел есть. К тому же служанка, хорошенькая рыжеволосая девица неполных восемнадцати лет, с приветливой и кокетливой улыбкой предложила подать подогретую ветчину с мадерой и картофелем. Он согласился.
Едва Джон успел опустошить свою тарелку, как девушка снова выросла перед ним.
— A ruddy good appetite you'ave, m'lord.[19]
Весь ее зазывный вид располагал к галантному ответу. Джон посмотрел на красотку и подумал, что у него уже нет тела. Меньше всего его сейчас привлекали шашни с этой девицей, к тому же трактирной служанкой.
— Мне надо в Лондон, — ответил он.
— Тогда у вас целый час, — сказала девица, и он не совсем понял: может, она намекает, что у него достаточно времени для любовного десерта?
Но его холодность была вполне красноречива.
— Почтовая станция в двух шагах, — продолжила девица настойчиво.
Джон кивнул, расплатился и вышел со своими мешками.
— Fare well, pretty lord,[20] — бросила она ему чуть насмешливо, когда он был на пороге.
Посыпались шуточки захмелевших едоков. Джон их не понял, но смутился. Разве он не такой, как все люди? Девица предложила себя ему. Из корыстных побуждений, конечно, но также повинуясь естественной потребности, столь же естественной, как голод и жажда.
Неужели брат Игнасио лишил его мужского естества, сделал бесполым?
Джон пошел на почтовую станцию и для пущей уверенности, что точно доберется до Лондона, забронировал себе место. Хотя глупо, подумал он. Ведь когда он приедет в столицу, будет уже ночь. И что тогда делать? Куда податься? Пусть даже он уже не такой невежда в английском, как по прибытии в Стейтенвилл, но едва ли знает его достаточно, чтобы найти себе ночлег.
Однако Джон смутно предчувствовал, что именно в Лондоне сыграет первую крупную партию в своей жизни.
В карете, запряженной четверкой лошадей, он пристроил мешок с ларцом у себя в ногах (другой поместили на крышу с остальным багажом) и вооружился терпением против дорожной тряски.
Через час он заметил, что сосед напротив время от времени испытующе смотрит на него. Это был элегантно одетый мужчина лет сорока, сидевший рядом с напудренной и одышливой матроной, которая беспрестанно возводила к небу страдальческие глаза и сокрушенно вздыхала. Тогда сосед обращал к ней ободряющие слова.
Во время перемены лошадей Джон Таллис вышел вместе с остальными размять ноги и удовлетворить естественную нужду в окрестных полях. Затем они пообедали в таверне. Большой стакан эля и яблочный пирог вернули беглецу некоторое присутствие духа.
Карета прибыла в Саутгейт, пригород Лондона, около шести часов вечера. Было еще светло. Джон Таллис растерянно огляделся.
— У вас есть экипаж, сэр?
Джон обернулся — это был незнакомец из кареты. Юноша не знал, что ответить.
— Если соблаговолите указать адрес, где вы намереваетесь остановиться, — продолжил незнакомец, — я вас охотно подвезу.
— Благодарю, — пробормотал Джон в замешательстве.
— Меня зовут Соломон Бриджмен, — представился незнакомец. — Торгую пряностями и ценным деревом. Мой дом на Бромптон-роуд.
«Для меня это все равно что на Луне», — подумал Джон.
Но, сообразив, что молчит в ответ на слова незнакомца, вдруг испугался, что покажется неучтивым, и сказал:
— Меня зовут Джон Таллис.
Но никакого адреса, разумеется, он не смог бы назвать и при желании. Бриджмен бросил на него короткий испытующий взгляд, потом показал рукой на закрытую коляску, запряженную парой лошадей. Он велел кучеру опустить верх, чтобы по дороге можно было любоваться пейзажем. Джон занял место рядом с Бриджменом и опять положил мешок с ларцом у своих ног. Вскоре коляска завернула в маленькую гавань и, к тревоге Джона, въехала на паром.
— Тут нет моста? — удивился он.
— Только один, но его сейчас перестраивают. Вот уже несколько недель сносят стоявшие на нем дома.
«Как можно ездить по мосту, если на нем дома?» — недоумевал Джон, видевший только мосты Перу и Мексики.
Когда они оказались на другом берегу и стал виден собор Святого Петра, по поводу которого Джон не осмелился задавать вопросы, хотя ему и не терпелось узнать, что это за гигантское здание вздымается в небо,[21] Бриджмен спросил у своего попутчика:
— Забыл, какой адрес вы мне назвали?
— У меня его нет, — ответил Джон, решившись на откровенность. — Я никого не знаю в Лондоне. Не подскажете мне приличную гостиницу?
Бриджмен, казалось, задумался.
— Я так и думал, — пробормотал он.
Потом опять посмотрел на Джона Таллиса и заявил:
— Мой дом достаточно велик, чтобы я мог предложить вам гостеприимство без всякого неудобства для нас обоих.
Джон обдумал предложение, одновременно подозрительное и обнадеживающее. Подозрительное, потому что никак не объясняло интерес незнакомца к его особе, а обнадеживающее, потому что наконец-то он повстречал благожелательного человека, у которого можно добыть ценную информацию.
— Благодарю вас, вы очень любезны, — выговорил Джон неловко.
Соломон Бриджмен и вправду располагал средствами для гостеприимства: его дом оказался большой трехэтажной постройкой в незнакомом Джону Таллису стиле; главное здание с двумя прилегающими крыльями располагалось посреди парка. Сама мысль, что он мог бы тут кого-то стеснить, явно отдавала иронией. Когда коляска остановилась перед крыльцом, прибежали двое слуг, помогли пассажирам выйти и взяли багаж, кроме, разумеется, мешка с ларцом. Бриджмен распорядился, чтобы гостю приготовили в правом крыле «синие покои», как он это назвал, и предложил разделить с ним ужин в центральном здании. После чего один из лакеев проводил Джона Таллиса в его новое жилище.
Чуть не заблудившись на обратном пути, юноша все же добрался до главного здания, где слуга проводил его к хозяину. Тот ждал гостя, стоя в величественном, но лишенном помпезности зале, все стены которого были уставлены книгами. Недлинный стол был накрыт на двоих, приборы помещались по обе стороны большого серебряного канделябра. Бриджмен предложил гостю рюмку портвейна, от которого тот не отказался.
— Вы не потомок музыканта Таллиса? — спросил Бриджмен.
Удивление, отразившееся на лице Джона, сказало гораздо больше, чем ему бы хотелось, он и сам это заметил.
— Не знали, что был музыкант с таким именем? — продолжил Бриджмен непринужденно. — Хотя странно: Томас Таллис и Уильям Бёрд были среди немногих музыкантов, приглашенных ко двору.
Он поставил свою рюмку.
— Это завидная должность, и оба стали знамениты. В Лондоне осталось всего двое Таллисов. Оба очень известны, и боюсь, вы сочтете затруднительным носить такое имя.
Он многозначительно посмотрел на своего гостя. Джон выглядел смущенным.
— Я предлагаю вам свое гостеприимство, — продолжил Бриджмен почти ласково. — Не окажете ли вы мне в ответ доверие и не сообщите ли ваше настоящее имя?
— Почему вы предлагаете мне гостеприимство? — вскричал Джон почти грубо, уже проклиная идею выбрать случайно услышанное имя; впредь ему надо быть осмотрительнее.
— По причинам вполне достойным, хоть и грустным. Два года назад я потерял единственного сына и, быть может, все еще разыскиваю его в этом мире.
— Хотите верьте, хотите нет, но я не знаю своего настоящего имени, — пробормотал Джон, поднимая на Бриджмена темные глаза. — Вы все время смотрели на меня в саутгемптонской карете. Почему? Я похож на вашего сына?
— Нет. Сядьте, — сказал Бриджмен, подавая пример. — Я слышал, как вы говорили с кучером, когда расплачивались. Вы явно плохо владеете английским. И одеты не так, как подобает вашему возрасту, хотя элегантно и по-английски. Это не ваша обычная одежда, она сшита по случаю, чтобы придать вам вид англичанина. Вы кажетесь печальным, одиноким и напуганным. Я вывел из этих наблюдений, что вы не из Саутгемптона, а из какой-то далекой страны. Поскольку в порт только что прибыла «Принцесса Виргинии», доставившая мне груз акации, я заключил, что вы тоже были на ее борту. Тем не менее, хоть вы сели в Норфолке, вы не из наших американских колоний, а из других мест, вероятно из Новой Испании…
Джон наклонился к своему гостеприимцу, округлив глаза. Услышанные им слова были сказаны мягко, но от этого их смысл не становился менее ужасающим: он был раздет догола. Как ни старался он натянуть на себя новую кожу, она свалилась с него. Он подумал с испугом, что проницательный хозяин дома, быть может, проник и в тайну его бегства из Мехико, догадавшись об убийстве.
Так что он был целиком отдан на милость Бриджмена. Но что еще знал этот англичанин? И чего ему от него надо, в конце концов?
У Джона мелькнула мысль о бегстве. Домчаться до комнаты, схватить ларец и скрыться в ночи… Но куда бежать? Где скрыться? Он напрягся, приготовившись дослушать остальное.
Бриджмен продолжил тем же тоном:
— Никто не ждал вас на набережной, ваша очевидная растерянность позволила мне предположить, что у вас тут никого нет. А возможно, и в целом свете…
Все это было ужасной правдой.
— Чего вы хотите? — оборвал его Джон хрипло, едва сдерживая слезы.
Он не опроверг ни одно из утверждений Бриджмена, собственным молчанием подтверждая правильность его умозаключений. Тот вскинул брови и ответил с улыбкой:
— Ничего такого, что было бы вам неприятно, Джон, если позволите мне вас так называть, пока не узнаю ваше подлинное имя. И меньше всего я хочу отбить у вас аппетит, что крайне огорчило бы моего повара, приготовившего нам превосходную говядину с корочкой.
— Откуда такая участливость? Вы же не Христос!
— Нет, конечно, вы сами в этом убедитесь, — ответил Бриджмен, опять улыбнувшись. — Видите ли, Джон, мне пятьдесят лет. В этом возрасте мужчина или женщина, если не имеют потомства, начинают сокрушаться о том, что им некому передать свое истинное богатство — жизненный опыт. Случай поставил вас на моем пути, как и меня на вашем.
Он пристально посмотрел на Джона. Взглядом прямым и печальным. Юноша нахмурился. Ему очень хотелось поверить этому объяснению. И он в него почти верил. Он так устал без конца остерегаться всего и всех.
Он вздрогнул, когда Бриджмен позвонил в стоявший у него под рукой колокольчик.
— Бенедикт, — громко объявил англичанин подошедшему слуге, — думаю, мы проголодались.
Поворот был столь неожиданным, что Джон рассмеялся, восхищенный самоуверенностью хозяина дома.
— Вот видите, — сказал тот, — понятливость — лучшее в мире средство для поднятия аппетита.
Впервые за свои семнадцать лет Джон Таллис, бывший Винсент Дрейк, бывший Висентино де ла Феи, почувствовал, что к нему относятся с уважением.
Салат из репы с ветчиной послужил неплохой разминкой перед запеченной говядиной, тающей во рту.
Впервые за долгое время Джон Таллис спал в эту ночь сном праведника. Тем не менее заснул он не сразу. Закрыв дверь на задвижку и задув свечу, он еще не один час перебирал в уме каждый миг, каждое сказанное этим вечером слово, пытаясь обнаружить хоть малейший признак лицемерия. Но тщетно. Потом услышал сквозь стены, как настенные часы отбивают полночь, и в конце концов забылся сном.
8. СМОТРИТЕ, СОЛОМОН, СМОТРИТЕ…
Прошла неделя, приглушив недавние страхи и невзгоды Джона Таллиса, казавшиеся ему теперь совсем далекими. Он видел Соломона Бриджмена каждый день за завтраком и за обедом, но то ли из лукавства, то ли будучи очень мудрым, негоциант не задал своему гостю ни одного вопроса о его прошлом, хоть и явно драматическом, раз оно толкнуло его покинуть Новый Свет. Казалось, он довольствовался собственными умозаключениями, наверняка благодушно полагая, что язык молодого человека развяжется сам собой.
Вопреки своей юношеской беззаботности, Джон и сам догадывался, что в конце концов не устоит перед такой добротой. Правда, он еще не знал, когда и как это произойдет, а пока прогуливался по Лондону и по парку, постепенно овладевал английским и размышлял о своем благодетеле. Поскольку Бриджмен, несомненно, был архангелом, извлекшим его из тьмы. Но Джон даже смутно не представлял себе, как сложатся их дальнейшие отношения. Останется ли он и дальше на Бромптон-роуд, где о нем заботились и чуть ли не баловали? Но Джон так и не узнал подлинных намерений своего гостеприимна, и еще менее — какой опыт тот намеревался ему передать.
На восьмой вечер, за ужином, Джон сказал Бриджмену:
— Сэр, у меня чувство, что я злоупотребляю вашей добротой. Мне было бы не так неловко, если бы я смог быть вам чем-то полезен.
— А вы и можете, — ответил Бриджмен. — Я был бы рад иметь помощника в моих делах. А заодно и обучить вас тому, как делаются дела в этом мире. И коли так, можете звать меня просто Соломоном.
Потом они сошлись на том, что фамилия Таллис не слишком уместна, и Бриджмен предложил Джону назваться Яном Хендриксом, голландцем, что могло бы оправдать его иностранный акцент. И Ян перестал таскать с собой повсюду ларец, найдя в своих покоях надежный тайник — вазу Боргезе на большом каменном постаменте между двумя окнами. Даже самому дотошному слуге не пришло бы в голову заглянуть туда.
— Для начала я буду платить вам жалованье младшего клерка, — сказал Бриджмен, — то есть десять фунтов в месяц.
— Я был бы этим очень польщен, — ответил Ян, но не смог подавить улыбку.
— Почему вы улыбаетесь?
— От удовольствия, Соломон.
Но после ужина, когда они допивали бутылку кларета, начатую за столом, Бриджмен в первый раз спросил у новоявленного Яна Хендрикса:
— А что вы храните в той сумке, которую не выпускали из рук в первые дни?
Вопрос был прямой. Последовало молчание. Ян покраснел. Он предчувствовал, что час откровений пробил.
— Соломон, вы мне сказали как-то вечером, что нет в мире человека, которому я мог бы доверять больше, чем вам.
— В самом деле. Не знаю, правда, должно ли это меня огорчать или радовать.
— Ваши слова по-прежнему в силе?
— Это верно так же, как и то, что они вышли из моих уст.
— Какими бы ни были обстоятельства?
— Не могу представить себе обстоятельства, которые побудили бы меня отречься от них.
— В чем бы я вам ни признался?
Ян Хендрикс вопросительно посмотрел на Соломона Бриджмена. Тот был заинтригован.
— Ян, — сказал он наконец, — со времени нашей встречи я не перестаю думать, что тайна, которую вы носите в себе, слишком тяжела для вас. Может быть, вы согласитесь снять с себя эту ношу. Но какою бы она ни оказалась, будьте уверены, что мое расположение к вам не изменится. Несмотря на то что меня зовут Соломон, я не сужу. Судить вправе один только Бог.
— Что ж, я подвергну вас испытанию, Соломон, — откликнулся Ян со всем пылом юности. — Но то, что вы увидите, должно остаться между нами.
Он встал и направился в свои покои. Через некоторое время вернулся. Слуги ушли. Ян Хендрикс положил мешок на пол, достал оттуда ларец, поставил его на стол и открыл ключом, с которым не расставался.
Вынул оттуда сначала изумруды, самый большой из которых, еще необработанный, был величиной с кулак. Затем рубины. Фигурки из варварского золота, украшенные каменьями. Другие камни, поменьше, но столь же удивительные, среди которых имелись большой звездчатый сапфир и опаловое яйцо.
— Смотрите, Соломон, — воскликнул юноша, показывая пальцем на груду золотых монет на дне. — Смотрите!
Бриджмену хватило одного взгляда, чтобы оценить непомерность сокровища. Разумеется, он разволновался, одним духом осушил свой бокал и вновь наполнил его. Взял в руки большой изумруд, повертел в руках и положил обратно. Потом рассмотрел другие камни, извлек золотой португальский райе, поднес поближе к глазам, прикинул вес, чтобы удостовериться в его подлинности, и бросил обратно в ларец. Затем наполнил бокал Яна Хендрикса.
Драгоценности переливались в свете свечей.
Ян сел и посмотрел на Бриджмена, пытаясь определить, какое впечатление они произвели на человека, который столь великодушно принял его.
— Положите все эти вещи обратно, Ян, — сказал наконец Бриджмен. — Расскажете об их происхождении, когда вам будет угодно. Такую добычу привозили в эту страну только завоеватели былых времен. Вы гораздо богаче меня. На глазок я оцениваю ваше добро в полмиллиона фунтов с лишним. Это вы могли бы платить мне жалованье, — с усмешкой заметил он. — Я благодарю вас за ваше доверие.
Прошло бесконечное время. Ян подумал: а сколько это — полмиллиона фунтов? Отпил глоток вина, чтобы придать себе самообладания, надеясь, что алкоголь поможет, но напрасно.
— А теперь я скажу вам, откуда все это взялось, — объявил он решительно.
И рассказал о годах своего рабства в Перу, о злоключениях в Мехико, о гнусных сценах, которым не мог противиться. О настое из дурмана. О том, как оставил бесчувственную графиню Миранду на постели и голого, агонизирующего брата Игнасио на полу. О бегстве в Майами, об убийстве трактирщицы. О спасении ребенка и об индейцах. О новом бегстве вместе с Кетмоо через всю Флориду. Его голос дрожал от нахлынувших воспоминаний. Бриджмен выслушал — серьезно, почти ошеломленно.
— Это была война, Ян. Необъявленная война, которую ведут друг с другом человеческие существа. И вы отвоевали в ней свою свободу. Вы опасались, что я буду судить вас. Вы завоевали мое уважение.
— Меня зовут Исмаэль, Соломон. Исмаэль Мейанотте. Меня крестили, но я еврей.
Бриджмен кивнул:
— Я так и думал.
— Мой отец умер на костре.
— Вы искупили его смерть, Исмаэль.
Ян разрыдался. Они смотрели друг на друга, оба подавленные — один воспоминаниями, другой откровениями.
— And you have forfeited love.
— Что?
Ян Хендрикс еще не слишком хорошо понимал английский.
— Я сказал: «И вы поплатились любовью».
Ян по-прежнему не понял. Бриджмена вдруг охватила внутренняя усталость.
— Ян, — сказал он, — думаю, вы довольно исповедовались, не сознавая всей тяжести этого. Я предлагаю сделать перерыв. Отложим продолжение беседы на потом. Желаю вам доброй ночи. And flights of angels sing thee to the rest.[22]
9. ВСЕМИРНОЕ ТЯГОТЕНИЕ
На следующий день после откровений Яна Хендрикса выдался погожий вечер. Они только что закончили холодный ужин из вареных яиц, чеддера и орехов. Пили портвейн, на десерт были груши.
— Мой мальчик, — сказал наконец Бриджмен, — думаю, род ваших занятий теперь совершенно ясен. Банкир.
— Банкир?
— На проценты с того, что вы в состоянии ссудить, вы за год удвоите ваш капитал.
Ян Хендрикс посмотрел на него, ожидая дальнейших объяснений.
— Достаточно обратить некоторую часть целого в английские фунты.
— А затем?
Вопрос вызвал у Бриджмена взрыв неудержимого смеха. Когда же приступ веселости прошел, он сказал серьезно:
— В самом деле затем… Тут-то все и начинается. И вот тут я мог бы вам оказаться полезен.
Ян Хендрикс по-прежнему не понимал.
— Богатство, Ян, это цена, которую вы назначаете за вашу душу. Скажите мне: надеюсь, вы считаете, что она стоит дороже всего этого?
Вопрос пронзил Яна, словно тонкая шпага. Да, он знал, что украл сокровище как плату за собственную душу. Слезы брызнули из его глаз. Бриджмен кивнул.
— Таково было мое ощущение в саутгемптонской карете. Спасибо, что подтвердили его.
Весь в слезах, Ян Хендрикс бросился к ногам Бриджмена. Он долго плакал. Англичанин гладил юношу по голове.
— Мудрость сурова, я знаю. Но, благодарение Богу, у вас есть способности.
Ян Хендрикс поднял на Бриджмена блуждающие глаза. Схватил его руки и стал целовать.
— Сядьте, — сказал Бриджмен.
Казалось, он и сам был взволнован и озабочен, хотя старался не показать этого.
— Сколько вам лет?
— Я… я не знаю. Брат Игнасио говорил, что мне было около семи, когда он… занялся моим воспитанием. Я пробыл с ним десять лет.
— Значит, семнадцать. Если вы, такой молодой и уже такой богатый, испросите королевский патент на открытие банка, это возбудит подозрения. Но если сделать то же самое с партнером, известным в деловых кругах Лондона, все предположат, что у вас есть кое-какие средства и я беру вас компаньоном, чтобы поднатаскать в делах. И послушайте меня, Ян: на католиков в этой стране смотрят довольно косо, если не сказать больше. Так что лучше всем говорить, что вы лютеранин. Вы не против?
— Нет, — ответил Ян, улыбаясь.
— Хорошо. К тому же жизнь в любом обществе требует, чтобы люди рядились в нравственные одежды. Подобно тому как они прикрывают тело, им надо чем-то прикрывать и душу, понимаете? Люди прикрывают свои недостатки и пороки всякими выдумками, точно так же, как прячут толстое брюхо под просторным жилетом или искореженные подагрой ноги в больших сапогах. Сыновья мужланов рассказывают, что в детстве у них были гувернеры; те, кто попирает религиозные заповеди, не упускают случая покрасоваться в храме; неверные жены тайком наведываются к своим любовникам.
Ян задумчиво улыбнулся, удивленный этим уроком лицемерия.
— Лишь убогие, отчаявшиеся и неосторожные говорят правду. Если только вы не философ или врач, остерегайтесь открывать другим то, во что верите, ибо у каждого свой свет в окошке и ваша правда ценна только для вас.
Ошеломленный, Ян широко раскрыл глаза. Да кто же он такой, Соломон Бриджмен? Было понятно, что эти наставления — ради его же блага, но все же проповедь была полной противоположностью тому, чему учил его брат Игнасио, разглагольствовавший о добродетели, а сам подчинявшийся только пороку, не говоря уж об ужасной донье Консепсьон де Лос Артабасес.
Юноша огляделся вокруг. Дом вдруг показался ему пещерой, полной тайн. Поскрипывала деревянная обшивка стен, трещали дрова в камине; какая-то скрытая жизнь оживляла это место. Он не знал какая, но предчувствовал, что ее душой был Соломон Бриджмен. В первый раз за долгое время Ян перестал бояться.
Но о чем же думал его благодетель, погруженный в свои непроницаемые мысли? Через какое-то время Соломон взял бутылку с портвейном и наполнил бокал Яна, потом свой.
— Не так давно, — сказал он наконец словно через силу, — я потерял друга, которого ценил превыше всего. Это был знаменитый человек. Настолько знаменитый, что нация удостоила его высшей чести, выставив его останки в Иерусалимском приделе Вестминстерского аббатства. А ведь в этом было отказано многим вельможам. Даже последовавшая вскоре смерть короля Георга Первого и то меньше взволновала умы, за исключением двора и политических партий, разумеется.
Он обратил к Яну Хендриксу опечаленный взгляд.
— Его звали Исаак Ньютон, — сказал Соломон Бриджмен. — Сэр Исаак Ньютон.[23]
Ян никогда не слышал этого имени.
— Этот человек раскрыл некоторые из тайн Вселенной, — продолжил Бриджмен. — Вам надо знать его имя. Что же касается его трудов, то всей вашей жизни, будь она даже долгой, едва ли хватит, чтобы изучить их все. И вам понадобится еще одна, чтобы углубить это знание.
В растерянности Ян не знал, что сказать.
— Какие же тайны он раскрыл? — спросил он робко, опасаясь натолкнуться на сарказм.
— Для начала, законы всемирного тяготения. Вы когда-нибудь задавались вопросом, Ян, почему Луна не падает на Землю и почему яблоко падает с дерева?
Тайна была настолько очевидной, что молодой человек лишился дара речи. В самом деле, почему?
— Потому что притяжение большой Земли слишком сильно для маленького яблока, падающего на нее. Тогда как Луна, лишь уловленная земным притяжением, находится слишком далеко и у Земли ее оспаривает притяжение Солнца.
Яну вдруг захотелось съесть половинку груши, лежавшей на тарелке, но он сдержался из опасения, что это покажется вызывающим.
— Ибо этот мир, Ян, управляется законом — законом притяжения.
— Тогда выходит, что сильнейшие опять в выигрыше, — заметил Ян желчно, ссутулившись над столом.
В его лице опять появилось ожесточение, как в первый вечер.
Бриджмен наблюдал за юношей с легкой улыбкой.
— Это вы думаете о себе, Ян. Закон же, о котором я говорю, это закон всемирного притяжения. Но существует также закон отталкивания. Если какой-то предмет противен вам, то, даже если он гораздо сильнее вас, вы не подвергнетесь его притяжению.
Ян снова выпрямился.
— Этот господин Ньютон публиковал книги?
— По-английски. И боюсь, что их язык пока слишком труден для ваших нынешних знаний. Но я не сомневаюсь, что ваши способности позволят вам быстро получить доступ к мыслям этого гения.
— А пока вы расскажете мне о его открытиях?
— Охотно.
— Что он еще открыл?
Бриджмен задумался.
— Я не знаю всего, что смог открыть Исаак Ньютон. Но знаю, что он работал над двумя тайнами. Первая — эликсир вечной молодости, но у меня есть очевидные причины сомневаться, что он его нашел. Вторая — тайна трансмутации, то есть превращения свинца в золото.
— Свинца в золото? — воскликнул Ян, вытаращив глаза.
— Это не тот секрет, в котором вы сейчас сильно нуждаетесь, друг мой, — ответил Бриджмен со смехом. — Но думаю, нам обоим необходим отдых. У нас впереди хлопотливые дни. Надо будет найти способ оценить ваши сокровища, не привлекая излишнего внимания. Потом испросить патент на ремесло банкира. Найти подходящее место для банка и честных помощников. Для всего этого понадобится немало душевных сил.
Ян кивнул и пожелал доброй ночи хозяину дома. Потом взял свечу и направился в свои покои. Ему было трудно уснуть. Он слушал поскрипывания дома и уханье сов, звучавшие словно послания на неведомом языке. Да из головы не шли мысли о том, что же такое эликсир вечной молодости и как можно превращать свинец в золото.
10. КТО ЭТОТ ЧЕЛОВЕК?
За завтраком Бриджмен объяснил Яну, что самым благоразумным было бы предварительно составить опись содержимого ларца, которую они вместе подпишут на всякий случай. Потом он запер двери, отдал своему дворецкому приказ не беспокоить его, принес несколько листков бумаги, перо и чернильницу. Ян достал из ларца драгоценные камни.
Бриджмен был явно поражен богатствами пригретого им молодого человека, еще недавно олицетворявшего собой одиночество и растерянность. Помимо гигантского необработанного изумруда внимание Соломона привлекли рубин исключительной прозрачности и величины, размером с голубиное яйцо чуть неправильной формы, несколько звездчатых сапфиров, а также камни других цветов, некоторые темно-янтарные, другие белые, похожие на алмазы, поскольку были профессионально огранены.
— Происхождение у всех очень разное, — заметил Бриджмен. — Некоторые прошли через руки гранильщиков, другие едва обтесаны.
Но Ян не мог предоставить никакого объяснения. Тогда они перешли к испанскому и португальскому золоту.
— Ян, — сказал Бриджмен, — начнем с самого простого, то есть с золотых монет. Они вполне известны нашим менялам, и у вас их даже больше, чем надо для обоснования нашего ходатайства о патенте. Что касается крупных камней, то, думаю, благоразумнее будет отвезти их в Амстердам, чтобы оценить и огранить.
Ян согласился.
Они взяли с собой чуть больше половины золотых монет и поехали в меняльную контору «Эш и Бромлей» на Эрмайн-стрит. Поскольку Бриджмена там знали, их принял один из компаньонов, Эбрахам Эш. Соломон представил Яна Хендрикса как сына одного амстердамского купца, который хотел бы обосноваться в Лондоне. Был вызван клерк-оценщик, явившийся с толстым справочником и весами.
Ян Хендрикс открыл свою сумку и начал вынимать оттуда монеты, ставя их столбиками по десять штук.
— Испанское золото? — удивился Эш. — Или португальское?
— Наши капитаны вели транзитную торговлю через Новую Испанию, — не растерялся Ян.
Он опередил ответ Бриджмена. Тот промолчал, но про себя восхитился сметливостью молодого человека.
— Золото ведь остается золотом, не правда ли? — добавил Ян.
Эш кивнул.
Через полтора часа старый Эбрахам Эш бросил долгий взгляд на Яна Хендрикса, потом на Соломона Бриджмена и голосом, дрогнувшим от волнения, объявил:
— Джентльмены, вы только что слышали общую цифру, объявленную моим верным Джошуа: сто восемьдесят тысяч фунтов.
Бриджмен остался невозмутим.
— Мистер Эш, я бы не осмелился побеспокоить вас ради заурядных сумм.
Эш кивнул.
— Понимаю, Соломон. Но, как вы сами догадываетесь, я не располагаю равнозначной наличностью в звонкой монете. Мои три процента комиссионных за эту сделку уже сделают меня богачом, а этот день — самым удачным в моей долгой карьере. Могу ли я спросить, кому из вас принадлежит это богатство?
— Родителям моего превосходного друга Яна Хендрикса, которые сколотили состояние в нидерландской Вест-Индской компании и решили пристроить своего старшего сына в Лондоне.
Эш опять кивнул.
— Я могу лишь поместить это золото на депозит и предложить вам эквивалент, которым располагаю в настоящее время, — около пятидесяти тысяч фунтов. А на остальное выписать векселя.
Яну был совершенно непонятен этот язык. Он вопросительно посмотрел на Бриджмена. Тот кивнул.
— Само собой, мистер Эш. Но в обмен попрошу вас о некоторой сдержанности касательно этой операции. Она совершенно законна, но вы сами знаете, что такое деньги. Стоит им появиться, как они вызывают невольное вожделение. Завтра же наши двери будет осаждать толпа желающих попросить в долг. Отказать им было бы знаком душевной черствости и вызвало бы озлобленность.
Не меньше сотни виднейших представителей знати маялись хронической нехваткой денег, вызванной потугами держать надлежащий уровень, а некоторые даже заложили доходы со своих земель и за этот, и за следующий год. Одни страдали от жен, не умевших считать, особенно когда речь шла о нарядах, другие — от вечно праздных сыновей, шатавшихся по игорным и увеселительным заведениям, истощая и мошну, и мошонку.
Эш кивнул с понимающим видом.
— Очень хорошо вас понимаю. Что касается Джошуа, то, насколько мне известно, всякий раз, когда речь заходит о деньгах, его сражает немота.
Упомянутый Джошуа тоже кивнул, беззубо осклабившись.
Через два часа, получив подписанные векселя, Бриджмен и Ян распрощались с мистером Эшем и оказались перед своей коляской.
— Прогуляемся. Поезжайте не спеша, — приказал Бриджмен кучеру, — чтобы мы могли осмотреть дома по дороге.
— Ищете место, где мы могли бы обосноваться? — спросил Ян.
— Да, — ответил Бриджмен, еще раз удивленный живостью его интуиции. — Хочу, чтобы банк был подальше от моей торговли ценным деревом.
— Мы хорошо сделали, взяв только половину золота, — продолжил Ян Хендрикс через какое-то время. — Вашего друга Эша даже она, похоже, сильно взволновала. А вся сумма его бы наверняка встревожила.
— Вы меня удивили, — признался Бриджмен, сдерживая улыбку.
— А что бы вы ответили на моем месте?
— Право, что-то в этом же роде, но, быть может, не так хорошо и быстро, как вы.
Коляска ехала по Бонд-стрит, когда Бриджмен, внезапно велев кучеру остановиться, стал рассматривать какое-то мрачное здание всего в два этажа, считая антресольный, которое выглядело довольно запущенным, если не заброшенным.
— Что вы об этом думаете, Ян?
— Что тут все нужно перестроить.
— Да, но дом кажется нежилым, а сзади я заметил сад. Пойдемте взглянем.
Они постучали в дверь — никто не ответил. В заросшем бурьяном саду дрались кошки. Соломон и Ян обратились в соседнюю лавку, книжную, и узнали, что дом принадлежал семье, пострадавшей от Большой чумы, неким Партриджам, единственная наследница которых, племянница и старая дева, удалилась в Хэмпстедский монастырь. Они опять сели в коляску.
— Я поручу нашему поверенному разыскать мисс Партридж, — сказал Бриджмен.
— Вам так понравился дом?
— Мой дорогой Ян, квартал по большей части принадлежит вигам, а это партия будущего, даже если она сейчас и не в фаворе во Дворце. Думаю, что такое соседство нам не повредит.
Ян обдумывал услышанное до тех пор, пока Бриджмен не объяснил ему, что имел в виду.[24]
За ужином, состоящим из фаршированной куропатки, Бриджмен погладил подбородок и объявил Яну:
— В ближайшем будущем у нас намечается одна поездка. Думаю, будет осмотрительнее сбыть самые крупные из ваших камней в Амстердаме.
— У вас в Лондоне нет ювелиров?
— Есть, но слухи разносятся по этому городу быстро, как миазмы чумы. Если тут прознают, что господа Бриджмен и Хендрикс сперва депонировали у Эша и Бромлея эскудо и райсы на сто восемьдесят тысяч фунтов, а потом продавали камни, достойные короны, мы станем объектом нежелательного внимания. Все попытаются узнать, откуда взялось это неожиданное богатство. И я отнюдь не исключаю, что кто-то свяжет его с исчезновением сокровищ графа Миранды.
Ян кивнул.
— Куда вы собираетесь поехать?
— В Париж или Амстердам.
— Амстердам? — переспросил Ян с сомнением. — Там же сразу заметят, что я не голландец.
Бриджмен рассмеялся.
— Пусть вас это не беспокоит. Мы поедем в Париж. Или вы еще раз смените имя. Я и так уже восхищен, с какой быстротой вы овладеваете английским.
— Благодарю.
— Даже ваше произношение улучшается. Вы теперь говорите с валлийским акцентом. Еще несколько усилий, и вы приобретете шотландский. Не сомневаюсь, что еще до конца года вы будете говорить как уроженец Уэст-Энда.
И он стал тщательно срезать мясо с ножки куропатки, время от времени поднимая на Яна испытующий взгляд.
— Что вы хотите сказать? — спросил тот, понимая, что этот взгляд говорил больше слов.
— Вы меня удивляете, Ян. Никогда бы не подумал, что удача так щедро одарит меня. Прежде мне от нее доставались лишь холодные блюда меланхолии. Не притязая ни на что другое, кроме как на честную и достойную жизнь, я никогда не мечтал о почестях, да и возраст уже отбивает аппетит к ним. И я уже готовился к безотрадной старости, когда вы привлекли мой взгляд в Саутгемптоне. Может, небо вознаградило меня за сочувствие к растерянному существу? Ваш ум подвижен, как ласка. Вы догадываетесь о еще не высказанном, стоит только об этом подумать. Но я все время задаюсь вопросом, что же из вас выйдет. Такие способности могут предвещать как лучшее, так и худшее.
Ян Хендрикс выслушал теплые слова с явным волнением.
— Вы мне так и не дали почитать труды мистера Ньютона, — ответил он с напускным простодушием.
Бриджмен встал, подошел к книжным полкам, снял оттуда два толстых тома и положил на стол.
— Это, — сказал он, — всего лишь два труда из опубликованных моим другом. Они подготовят вас к более эзотеричным его писаниям.
Ян кивнул головой и посмотрел на заглавия: «Заметки о пророчествах» и «De motu corporum in gyrum».[25]
Весьма загадочные названия.
Мисс Элспет Партридж не торопилась покинуть Хэмпстедскую обитель Дочерей милосердия, чтобы встретиться с тремя пришельцами из нечестивого века удовольствий и наживы. Третьим был стряпчий, нанятый Бриджменом для составления необходимых документов, мистер Уильям Стрегуайт. Мисс Элспет оказалась бледной немочью, явно в состоянии естественной мумификации. Возраста у нее не было, как у духа, с кислой миной взирающего на людские дела. Ее сопровождала монашка, наверняка для того, чтобы проследить, как бы трое посетителей не злоупотребили ее невинностью и не завлекли в когти дьявола.
Войдя в приемную, мисс Элспет стрельнула в визитеров взглядом, при этом буквально впившись глазами в Яна Хендрикса, потом села — прямой бесплотный силуэт, облаченный в серое с белым. Стрегуайт сообщил ей о цели их визита. Она выслушала с недовольным видом.
— Сколько стоит эта постройка? — спросила она.
— В ее нынешнем состоянии, боюсь, немного, даже включая стоимость земли, — ответил Стрегуайт. — Мои клиенты предлагают вам тысячу пятьсот фунтов. По мнению торговцев недвижимостью, цена более чем приличная.
Монашка аж подпрыгнула, видимо восхищенная суммой. Мисс Элспет опять вонзила свой лишенный человечности взгляд в Яна Хендрикса, потом в Бридж-мена.
— Что вы собираетесь там устроить? — спросила она его. — Небось какой-нибудь притон?
— Отнюдь нет, — ответил Бриджмен, подавив улыбку. — Банк.
— Банк?
— Знаете, это такие конторы, которые ссужают деньги для разных предприятий.
— Наверняка с лихвой. Вы евреи?
— Нет, мисс. Мы принадлежим к реформатской церкви.
— Только евреи дают деньги в рост. Кто этот молодой человек?
— Ян Хендрикс, гражданин Голландской Республики, мой компаньон.
Она опять уставилась на Яна хмурым взглядом, и тот встревожился: уж не встречались ли они в Лиме или Мехико?
— Банк, — повторила мисс Элспет с презрением.
— Сестрица Элспет… — вмешалась монашка, склонившись к ней.
И она что-то энергично зашептала в ухо своей подопечной. Содержание было очевидно: мисс Элспет обязалась передать все свое имущество Дочерям милосердия, и монашка не могла упустить подобный куш. В комнате воцарилось молчание. Мисс Элспет смотрела прямо перед собой.
По выражению «сестрица» Бриджмен понял, что мисс Элспет пока всего лишь послушница и в этом качестве должна была, вероятно, платить ордену за ночлег и стол в течение нескольких лет.
— Полторы тысячи фунтов? — переспросила она. И после кивка всех троих посетителей добавила: — Вся сумма сразу?
Опять три кивка. Бриджмен положил кошель на стол. Глаза монашки впились в него, взгляд мисс Элспет обратился к Яну, вконец заинтригованному.
— Кто этот человек, что прячется у вас за спиной? — спросила она сурово.
Все взгляды обратились к Яну. Тот смешался.
— Неужели вы не видите, сестра Мерионет? — вскричала мисс Элспет возмущенно. — Темная личность — голова втянута в плечи, угрюмый вид…
Мисс Элспет спятила?
— Вы убили Божьего человека? — вдруг воскликнула она, обращаясь к Яну Хендриксу. — Он же одет как священник…
Ян побледнел, вытаращив глаза, и чуть не икнул под обеспокоенным взглядом Бриджмена.
— Я никого не вижу, — спокойно возразила сестра Мерионет.
Мисс Элспет пожала плечами.
— Не видите веревку, которой он перепоясан? У них глаза, чтобы ничего не видеть! — пробормотала она. — Ладно, покончим с этим, присутствие этого человека мне неприятно. Пересчитайте деньги, пожалуйста, — приказала она Бриджмену.
Тот, сбитый с толку, развязал кошель и высыпал его содержимое на стол. Тем временем Стрегуайт достал из сумки два экземпляра акта о продаже, чернильницу и гусиное перо. Мисс Элспет посмотрела на груду золота и повернулась к сестре Мерионет.
— Вы не будете настолько добры, чтобы проверить, верна ли сумма?
Монашка уселась за стол и тщательно сосчитала монеты, складывая их столбиками, потом объявила послушнице:
— Все точно, сестрица.
— Не угодно ли подписать вот здесь? — попросил Стрегуайт, протянув оба экземпляра странной старой деве.
Она внимательно прочитала договор о продаже, время от времени поднимая глаза на стряпчего. Тот открыл чернильницу, окунул перо и протянул ей. Мисс Элспет подписала — крупным, четким, почти военным почерком. По лицу Стрегуайта пробежала легкая тень.
— Не соблаговолите ли и вы, сестра Мерионет, поставить вашу подпись в качестве свидетеля, подтверждая, что мисс Элспет подписала этот документ, целиком располагая своей душой и свободой?
Быстрый взгляд подтвердил посетителям, что монашка поняла предосторожность поверенного.
— За свою-то душу я отвечаю, но не за те, что блуждают по этой комнате! — возразила мисс Элспет.
Но монашка была сообразительна: схватив перо, проворно подписала требуемое свидетельство. Потом, ко всеобщему удивлению, достала из своего кармана кошелек и ссыпала монеты туда. Мисс Элспет встала и вышла первой. Монашка, с кошельком в руке, повернулась к мужчинам.
— Я догадываюсь, что вы подумали, — быстро сказала она вполголоса. — Но сестрица Элспет не сумасшедшая. Просто она видит то, чего не видят другие, вот и все. Доброго вам дня, джентльмены. И да пребудет с вами Господь, — добавила она, взглянув на Яна Хендрикса.
Первая часть обратного пути в карете Бриджмена прошла в удрученном молчании.
— Эта женщина — сумасшедшая! — заявил Стрегуайт.
— Мы получили здание, — заметил Бриджмен.
— Надеюсь, что сделка не будет опротестована, — вздохнул стряпчий.
— Вы поступили благоразумно, удостоверив ее подписью свидетеля.
Ян Хендрикс не проронил ни слова, что в конце концов заинтриговало стряпчего, и он с любопытством посмотрел на юношу.
— В любом случае эта сестрица Элспет — неприятная особа, — согласился тот как можно непринужденнее.
Когда они проводили Стрегуайта и Бриджмен остался с Яном наедине, юноша разрыдался. Соломон дал ему выплакаться, потом склонился к нему и положил руку на плечо.
— Успокойтесь, Ян.
— Это ужасно… Этот дух… Я не знал… Неужели он вечно будет меня преследовать?..
— Мы найдем средство от него избавиться, если только он и вправду существует.
— Но как?
— Кучер! — крикнул Бриджмен. — Заверните к церкви Святого Фомы.
Ян бросил на него испуганный взгляд.
— Ничего не бойтесь, — сказал Бриджмен.
Войдя в церковь, прихожанином которой он состоял, Бриджмен попросил позвать преподобного отца Конвея. Тот оказался невысоким кряжистым мужчиной в куртке, похожим больше на грузчика, нежели на человека, посвятившего себя духовной жизни. Бриджмен представил ему Яна Хендрикса как сына друзей и собратьев по ремеслу из Амстердама, затем, не упоминая, разумеется, о брате Игнасио, рассказал о видении Элспет Партридж и спросил, какое средство можно применить в этих обстоятельствах.
— Я знаю сестрицу Элспет, — сказал преподобный Конвей. — Некоторые подозревают, что она помешана. Но я так не думаю после того, что викарий прихода Святого Исидора рассказал мне о своей встрече с ней. Она ему сказала: «Немедленно возвращайтесь к себе домой, ваша супруга в вас нуждается». Тот, хоть и был озадачен, все-таки последовал ее совету, и действительно оказалось, что его жена только что сломала ногу на лестнице.
Этот случай еще больше встревожил Яна Хендрикса.
— Есть ли у вас какие-нибудь предположения, кем бы мог быть этот призрак? — спросил его Конвей. — Вы говорите, что Элспет Партридж сказала, будто он показался ей священником. Не были ли вы знакомы с каким-нибудь покойным ныне священником?
Ян энергично замотал головой.
— Вы когда-нибудь замечали присутствие этого духа до встречи с Элспет Партридж?
— Нет.
— Причиняет ли он вам беспокойство? Говорит с вами?
— Нет.
— Значит, это не демон, — заключил Конвей с невозмутимой улыбкой, словно определяя прочность какой-нибудь балки. — Англиканская церковь не занимается изгнанием духов, но в любом случае мне бы на это понадобилось разрешение епископа.
Он поразмыслил какое-то время, потом продолжил:
— Сестра Элспет не уточнила, как он был одет?
Вопрос поразил Бриджмена, но он предоставил ответить Яну.
— Она сказала, что он подпоясан веревкой…
— Подпоясан веревкой! — воскликнул Конвей. — Шнуром с узлами, вы хотите сказать? Я узнаю это одеяние. В таком случае это католический монах. Господа, вам надо посоветоваться кое с кем другим.
— С католическим священником?
— С серым братом.[26] С братом Хауингом! — заявил Конвей. — В церкви Святого Франциска, это через две улицы отсюда. Видите ли, границы наших приходов почти совпадают.
Ян встал. Бриджмен поблагодарил преподобного Конвея и тоже поднялся. Через мгновение они были в карете.
— Я больше ни одной ночи не проведу рядом с этой тенью! — прорычал Ян.
Тем не менее, завидев брата Хауинга в ризнице, он смутился: это был первый францисканец, которого он видел после брата Игнасио, с той только разницей, что брат Улисс Хауинг был гораздо толще и с седой бородой. Он сглотнул застрявший в горле комок и позволил Бриджмену изложить суть дела. Хауинг долго смотрел на своего юного посетителя, потом задал почти те же вопросы, что и Конвей, и извлек из его ответов то же заключение: об одержимости бесом речь не идет.
— Похоже, это заблудшая душа, — сказал он мягко. — Она не достигла областей, куда мы попадаем после смерти по воле Господа. Она ни в чистилище, ни на небе. Если она следует за вами, то потому, что привязана к вам земной любовью. Слишком земной.
Бриджмен встревожился: на лбу у Яна выступил пот.
— Не было ли у вас брата-монаха?
— Нет, — еле выговорил Ян.
— Мы принадлежим к реформатской церкви, — поспешил объяснить Бриджмен.
— Понимаю, — сказал Хауинг, — но два вероисповедания в одной семье — такое порой встречается.
Его взгляд буравил Яна. Серый брат встал и исчез на мгновение. Потом вернулся с какой-то чашей в руках. Окунув туда пальцы, окропил Яна и воздух вокруг него.
— In nomine Patris et Filii et Spiriti Sancti, te mittimus ad regnum Domini et…[27]
Брат Хауинг прервался. Вполне различимый стон пронесся через ризницу. Ян вскрикнул, волосы Бриджмена встали дыбом. Монах закончил молитву неразборчивым бормотаньем. Ян был в слезах. Ошеломленный Бриджмен застыл с разинутым ртом.
Хауинг поставил чашу на ближайший стол.
— Кто был этот монах? — вдруг прогрохотал он.
Ян, рыдая, затряс головой.
— Кто? — рявкнул Хауинг.
— Он не знает, святой отец, — вмешался Бриджмен, его голос дрожал.
Хауинг воззрился на него властным взглядом.
— И вот доказательство, брат: он не знал о существовании этой тени до встречи с сестрой Элспет Партридж. Согласитесь, все это чересчур для молодого человека.
— Это любящая тень, — отрезал монах.
— Любовь или попечение? Что мы об этом знаем, брат мой? Знаем ли мы что-нибудь о тайнах того света?
Монах вздохнул.
— Нет, — согласился он хрипло. — Мы ничего об этом не знаем.
Ян едва слышал их, безучастно сидя на своем стуле.
— Отслужите заупокойные мессы, — сказал Бриджмен, взявшись за свой кошелек. — Я знаю цену. Полагаю, этого хватит на несколько служб.
Он протянул Хауингу пять гиней.
— Пусть ваши молитвы даруют упокоение заблудшим душам.
Им пришлось поддержать Яна, чтобы тот смог дойти до коляски.
11. EL AMOR BRUJO
На следующий день Бриджмен вызвал врача, поскольку у Яна начался жар; он обливался потом и порой бредил. Лекарь прописал микстуру на основе индийской конопли, обильное питье, компрессы, пропитанные водой с уксусом, и покой.
Юноша выздоровел на четвертый день. Умылся с помощью слуги — в первый раз после своего возвращения из церкви Святого Франциска, когда свалился в постель без ужина. Бриджмен велел приготовить легкий завтрак — поджаренную ветчину, сыр, какао со сдобой, и, к его облегчению, Ян всему воздал должное. Юноша очень осунулся за эти дни.
Время от времени несчастный поднимал страдальческое лицо к Бриджмену и встречал улыбающийся взгляд своего благодетеля.
— Я доставил вам столько хлопот, — сказал Ян.
— Конечно, и я благодарен вам за это. Уже давно мне не приходилось заботиться о ком бы то ни было, — возразил Бриджмен. — Это доказывает мне самому, что мое сердце еще не остыло.
Ответом ему был слабый смех.
— Но я недаром потратил наше время. Зданием, которое мы купили у Элспет Партридж, уже занялся архитектор, и у него появились блестящие идеи, вы сами скоро сможете их оценить. Работы начнутся через несколько дней.
— Банк.
— В самом деле, банк. А как только вы поправитесь — Париж.
Некоторое время Ян не говорил ни слова. Потом спросил:
— Что вы думаете о случившемся?
Бриджмен встал.
— Не рановато ли говорить об этом?
— Нет, ведь я в смятении. Возможно, ваш совет поможет мне поправиться. Потому что сейчас, признаюсь вам, я еще не знаю, как вновь обрести равновесие. Не знаю, смогу ли опять взяться за наши планы, начав с того места, где мы их оставили. Объясните мне, если знаете.
Бриджмен налил ему еще чашку какао.
— Я думаю, что вы обнаружили самым жестоким для себя способом ту природную силу, о которой я упомянул во время нашей последней беседы перед вашим… недомоганием. Силу, вдохновлявшую поиски и труды моего друга Исаака Ньютона.
Ян изумленно спросил:
— Какая тут связь?
— Эта сила, как я вам уже говорил, — вселенский закон притяжения.
— Не улавливаю, — покачал головой Ян.
— Понимайте притяжение в смысле любви.
Лицо Яна покраснело.
— Но вы же мне говорили, что существует и закон отталкивания и что если какой-то предмет мне отвратителен, то, даже если он сильнее меня, я не испытаю его притяжения.
— Мне неизвестна суть ваших отношений с монахом, которого вы отравили, и еще меньше, каковы были его чувства к вам. Но факт в том, что его дух преследовал вас до тех пор, пока брат Хауинг не отправил его куда надо.
Ян опять покраснел.
— Он наверняка вас любил, Ян. По-своему.
— Любил? Таким скотским образом? — вскричал Ян.
— Не горячитесь. Возможно, он не знал другого. Каждый любит как может.
Яна стала бить дрожь, и Бриджмен забеспокоился.
— Не надо допускать, чтобы эта мысль изводила вас до такой степени. Вас полюбят и другие, тоже по-своему. Вы красивый малый. Даже очень красивый. Сам я к этому склонности не имею, но ведь природа гораздо шире того, что я способен понять.
Ян глубоко вздохнул и отпил глоток какао, потом взялся за четвертинку груши. Вдруг перестал жевать, словно пораженный какой-то неожиданной мыслью. Ошеломленно выпрямился.
— Что с вами? — встревожился Бриджмен.
На лице Яна застыло выражение крайней растерянности.
— Графиня… — пробормотал он. — Она говорила почти то же самое, что вы мне только что объяснили… Как эта старая дура…
Его слова стали почти бессвязными. Он прервался.
— Что же она говорила?
— О колдовской любви… El amor brujo.
— El amor brujo, — повторил Бриджмен задумчиво.
На какое-то время воцарилось молчание.
— Думаю, вам лучше отвлечься от этих мыслей. Они только приводят вас в расстройство, — сказал наконец Бриджмен. — Наш друг Стрегуайт составил ходатайство о патенте премьер-министру. Я дам его вам, чтобы вы с ним ознакомились, потому что вы подпишете его вместе со мной. Потом мы вместе отправимся к сэру Роберту Уолполу. Было бы желательно, чтобы вы по этому случаю обновили ваш гардероб.
— Мы должны представить ходатайство самому премьер-министру?
— Да, поскольку вы иностранец. Но этот пункт меня не заботит. Нас без прочих формальностей направят к министру финансов. Впрочем, самого Уолпола мы и не увидим, он пришлет к нам своего секретаря. Ему-то мы и вручим ходатайство.
В передней Уолпола, в доме № 10 по Даунинг-стрит, уже ожидала приема некая внушительного вида дама в сопровождении камеристки. Она смерила взглядом обоих визитеров, потом отвела глаза и, поскольку подоспела ее очередь, прошла первой.
Через полчаса секретарь Уолпола, взяв письмо с прошением, к удивлению Бриджмена, объявил посетителям, что его превосходительство расположен их принять. Реакция Бриджмена насторожила Яна, и он последовал за своим наставником с колотящимся сердцем.
Так они совершенно неожиданно оказались перед премьер-министром. Массивное лицо, величественная осанка, румяные щеки — все в Уолполе дышало довольством и властностью. Приветливая полуулыбка, блуждавшая на его губах, успокоила Бриджмена, но пристальный взгляд, задержавшийся на Яне, вызвал в душе юноши сильную тревогу. Его прежние отношения с властью были отнюдь не безоблачными.
— Входите, джентльмены.
Секретарь представил их, потом положил прошение на письменный стол своего начальника. Лакеи пододвинули кресла. Уолпол вскрыл конверт и пробежал глазами первую страницу, потом вторую, наконец третью. Визитеры в беспокойстве ожидали его вердикта.
— Сто восемьдесят тысяч фунтов, однако! — сказал наконецУолпол. — Вы весьма богаты, мистер Хендрикс. Гораздо богаче, чем ваш компаньон, мистер Бриджмен.
— В первую очередь это относится к моим родителям, милорд, — ответил Ян, сразу смекнув, в чем дело, по крайней мере частично.
— И на чем они сделали состояние?
— Товары из Нидерландской Индии, милорд. Дерево, пряности…
— А! — сказал Уолпол. — Так вы не английский подданный?
— Нет, милорд.
— Надеетесь стать им?
— Это было бы честью для меня.
— Не сомневаюсь, что мы сможем рассмотреть эту возможность. А вы, мистер Бриджмен, как вы надумали объединиться с мистером Хендриксом?
— Родители моего превосходного компаньона, с которыми я вел некоторые совместные дела, обратились ко мне, решив направить его по банковской части, милорд.
— В Лондоне?
— Я не смог бы отвергнуть честь, которую они оказали нашим талантам в области финансов.
— Разумеется, разумеется! — воскликнул Уолпол. — Вы правильно поступили. И я не сомневаюсь, что ваши таланты послужат процветанию капиталов мистера Хендрикса — к выгоде наших финансов, — продолжил он с коротким смешком. — А вы, мистер Хендрикс, собираетесь проживать в Лондоне?
— Город великолепен, милорд.
— Отлично, отлично! Где вы остановились?
— Мистер Бриджмен был настолько добр, что приютил меня…
— Что ж, понимаю, понимаю, — сказал Уолпол. — Господа, я сообщу канцлеру казначейства мое благоприятное мнение. Прошение перейдет через улицу вместе с вами, — заключил он, поглядев на своего секретаря.
Затем встал. Посетители торопливо последовали его примеру.
Они и в самом деле перешли улицу вместе с секретарем. Через мгновение, в обход людей, ожидавших своей очереди в передней, они были приняты канцлером, а через три четверти часа опять сели в свою карету.
— И как все это понимать? — спросил Ян. — Ведь вы же мне сказали…
Бриджмен склонил голову набок, явно забавляясь.
— Ян, помните даму, которая ожидала в прихожей сэра Роберта?
— Эту дуэнью?..
— Она вас прилежно рассматривала. И наверняка нашла привлекательным. Потом, очевидно, поделилась своими наблюдениями с премьер-министром, чтобы выведать, кто вы такой. И сегодня вечером уже весь Лондон будет знать, что некий молодой человек приятной наружности с капиталом в сто восемьдесят тысяч фунтов открывает банк под названием «Бриджмен и Хендрикс». Понимаете?
— Боюсь, что нет, — ответил Ян под стук колес по мостовой.
— Эта дуэнья, как вы ее назвали, наверняка придворная дама. И она увидела в вас возможную партию. Ведь у всех этих женщин есть дочки на выданье. Вопросы сэра Роберта о ваших намерениях в отношении английского подданства были весьма показательны.
— Боже!
Бриджмен расхохотался.
— К счастью, вы не выложили все ваше богатство, — продолжил он. — Не то бы вас возвели во дворянство еще до конца недели.
И он захохотал пуще прежнего, но один.
Через две недели, когда каменщики и плотники уже взялись за здание на Бонд-стрит, придавая ему лоск, которого оно никогда, без сомнения, не знало, на адрес Бриджмена были доставлены два приглашения в конвертах с гербами: одно для мистера Яна Хендрикса, а другое для самого мистера Соломона Бриджмена. Их звали на празднование серебряной свадьбы маркиза и маркизы Эберкорн, через три недели.
— Вы знаете этих Эберкорнов? — спросил Ян.
— Нет, но я не сомневаюсь, что маркиза и есть та самая дама, которая видела вас в передней Уолпола.
— О небо! Это же ловушка!
— На что вы жалуетесь? Вы сведете знакомство с лучшим английским обществом, включая, разумеется, принца Уэльского, встретите девушек из высшего света, будете танцевать…
— Соломон, я не могу! Они будут спрашивать о моей юности, о моей семье…
— Я тоже приглашен, так что помогу вам выпутаться из затруднения. Не собираетесь же вы провести всю вашу жизнь в бегах?
— Нет-нет, убегу сейчас же.
— Вы лондонский банкир, Ян.
— Соломон, я вас умоляю, найдите средство…
Выражение его лица было таким умоляющим, что Бриджмен в конце концов уступил.
— Ладно, — сказал он, — напишем маркизу, что, к нашему огромному сожалению, мы не сможем присутствовать на праздновании его серебряной свадьбы, поскольку в это время будем на континенте.
Он посмотрел на своего протеже с упреком.
— Ян, однажды вы должны будете решиться на встречу с миром.
Наступило молчание.
— А ваш друг Исаак Ньютон ходил танцевать с маркизами? — спросил Ян вызывающе.
— Нет.
— Я прочел одну из его книг, которые вы мне дали, «De motu corporum in gyrum». У меня нет необходимых познаний, чтобы судить о ней, но кое-что я понял. Ньютон полагал, что движением тела в пространстве управляет сложный закон. Этот закон — проявление определенной силы. Вы не думаете, что на этой земле я следую некоей орбите?
Озадаченный Бриджмен не нашел слов для ответа.
— Во всяком случае, — продолжил Ян, — никакой закон не требует от меня танцевать с маркизами.
Что-то новое появилось в тоне молодого человека.
— Едем в Париж, — заключил он.
После чего вернулся в свои покои, оставив Бриджмена в недоумении. Тот ли это юноша, которого пришлось почти нести в коляску после освобождения от влюбленного в него призрака?
12. БУРНОЕ ОКОНЧАНИЕ ОДНОГО УЖИНА
Через два дня Бриджмен и Ян довольно поздно засиделись за ужином после долгого дня в банке. Бриджмен не только уладил проблемы управления, посадив тут одного клерка, там другого, обсудил с архитектором установку сейфа за кабинетом президентов, то есть самих Бриджмена и Хендрикса, но и решил вопрос с садом, который Ян предполагал перепланировать, а так же с облюбовавшими его кошками.
— Предпочитаю видеть кошек, а не крыс, — заявил юноша.
И Бриджмен, сдерживая улыбку, с ним согласился.
Отныне именно в сейфовой комнате предстояло хранить вторую половину золотых монет и прочие драгоценности, вывезенные из Мехико после многих приключений, не обошедшихся без пота и крови.
Оба покинули Бонд-стрит, бросив долгий умиленный взгляд на вывеску, где золотыми буквами на темно-красном фоне было выведено: «Bridgeman and Hendricks, Bankers».[28]
Оба надеялись хорошенько отдохнуть ночью, ради чего велели подать себе гораздо лучший, чем обычно, кларет. После этого Бриджмен отпустил слуг. Речи компаньонов уже стали несколько бессвязными, когда из соседней галереи вдруг донесся подозрительный шум. Кто-то взламывал выходящее в сад окно, вероятнее всего, снаружи.
Бриджмен нахмурился и встал. Паркет галереи заскрипел под тяжестью шагов. Ян тоже поднялся. Несколько человек направлялись в их сторону. Когда они вошли в комнату, оказалось, что их трое. Главарь держал в руке пистолет. На нем, как и на остальных, был черный плащ. Квадратное курносое лицо, обрамленное рыжей окладистой бородой, глаза еле видны из-под широкополой шляпы.
— Сядьте, — приказал он Бриджмену и Яну.
Движением подбородка вожак велел своим сообщникам встать у банкиров за спиной.
— Камень, — сказал он властным тоном.
— Какой камень? — спросил сбитый с толку Бриджмен.
Главарь грабителей язвительно проворчал:
— Вы отлично знаете какой, Бриджмен. Философский камень. Или то, что его заменяет.
Бриджмен вытаращил глаза. Ян не понимал.
— Не принимайте меня за дурачка, Бриджмен, — сказал бородач. — Вы унаследовали бумаги вашего друга Ньютона, который был близок к своей цели, когда смерть ему помешала. И вдруг вы становитесь богачом, привозите к Эшу и Бромлею кучу золота и, считая себя хитрецом, зачисляете ее на счет этого юнца.
— Вы заблуждаетесь, — возразил Бриджмен. — Философский камень не имеет к этому никакого отношения. Но, как бы там ни было, я не владею ничем, что отвечало бы его описанию.
— Ха! — вскричал разбойник. — Мой хозяин так не думает.
— Ваш хозяин? Кто же это?
— Вы не знаете его имени. Хватит уверток. Камень! Или мы подпортим личико вашему смазливому дружку, — сказал главарь, приближаясь к Яну.
Тот обжег незнакомца огненным взглядом. В камине громко стрельнуло полено. Человек вздрогнул.
— А потом настанет ваш черед, Бриджмен. Если выживете, будете безобразнее трупа, — добавил негодяй, повернувшись к Соломону. — Никакое золото не поможет вам вернуть ни уши, ни нос…
С молниеносной быстротой Ян схватил стоявший на столе серебряный кубок с перцем и швырнул его содержимое в лицо бородачу. Тот взревел и, хоть и ослепленный, попытался взвести курок своего пистолета. Но раньше, чем другой бандит, стоявший за спиной у Яна, успел вмешаться, юноша нырнул вперед, вцепился главарю в ногу, дернул и опрокинул его на пол. Раздался выстрел. Но пуля попала в потолок, а бородач, растянувшийся на полу, больше ничего не видел: он исходил слезами, кашлял, задыхался. Его сообщник чуть не поймал Яна, но юноша снова ускользнул, прыгнул к камину, завладел кочергой и как раз в тот момент, когда преследователь уже хотел схватить его, отвесил ему удар по животу. У того из глотки вырвался ужасный вопль. Когда он рухнул, осмелевший Бриджмен сцепился с последним головорезом. Ян, не выпустивший из рук своего оружия, изо всех сил ударил непрошеного гостя по ногам. Жуткий вой разорвал ночь.
— Что, переломаны? — крикнул Ян в бешенстве.
Он подбежал к столу и, схватив бутылку кларета, обрушил ее на голову главаря, катавшегося по полу. Тот затих. Третий бандит в панике попытался бежать, но теперь он остался один против двоих. Ян загородил ему дверь, а Бриджмен сграбастал за шкирку. И когда мерзавец обернулся, влепил ему мощный удар по печени. Тот сложился пополам. Прямой в челюсть отправил его на пол.
— Веревки! — крикнул Ян двоим слугам, прибежавшим на шум.
Те исчезли и через несколько мгновений вернулись с веревками. Ян подскочил к главарю, по-прежнему валявшемуся без движения, и начал его энергично скручивать. Куда подевалась сонливость, обуявшая его перед вторжением разбойников! Бриджмен со слугами связал и остальных.
Покончив с этим делом, Ян рухнул в кресло и посмотрел на троих опутанных веревками злоумышленников, один из которых, со сломанной ногой, испускал душераздирающие вопли.
— Умолкни, не то оглушу! — прикрикнул он на него.
Бриджмен ошеломленно воззрился на Яна, не узнавая мягкого и чувствительного юношу, которого знал, потом сел.
— Остался еще кларет? — спросил Ян уже спокойнее.
Слуга побежал за вином.
— Что вы намереваетесь делать? — спросил Бриджмен, поскольку руководство операцией явно перешло к молодому человеку.
— Дождаться, пока главарь придет в себя. И допросить. А пока посадите его на стул, вон там, — приказал он слугам, когда кларет был поставлен на стол.
Слуги взгромоздили главаря на стул. Ян подошел к нему и отвесил оплеуху. Потом другую. Бандит приоткрыл глаза; слюна и слезы смешались с кровью, запекшейся на его лице и бороде. Ян вытащил из-за пояса кинжал — свой верный старый клинок.
— Послушайте меня, — сказал Ян главарю. — Я не сразу сдам вас полиции. Сначала вы мне скажете, кто вас послал.
Тот оторопел.
— И чем скорее, тем лучше, — продолжил Ян, уколов его в грудь кинжалом. — Ибо, видите ли, я вас подвергну тому, что вы обещали мне. А потом скажу, что мы с вами дрались и я вас ранил в драке.
Он схватил человека за ухо и приложил к нему лезвие, словно готовясь отрезать. Главарь заорал. Пораженные ужасом слуги не знали, как им быть. Бриджмен объяснил, в чем дело, и они умолкли, наблюдая сцену как зачарованные.
— Так кто? — спросил Ян, надавив сильнее.
— Косгуд! — крикнул бандит. Его голос дрогнул, перейдя в рыдание; из носа потекло. — Джеймс Косгуд! Будь ты проклят, демон!
Бриджмен вытаращил глаза и подошел к нему вплотную.
— Так это Джеймс Косгуд поручил пытать нас?
Главарь захрипел и кивнул. Слуги изумленно вскрикнули — названный человек бывал тут в гостях.
— Кто он такой? — спросил Ян.
— Был другом, — ответил Бриджмен замогильным голосом.
Очевидно, он пока не желал говорить об этом. Или не хотел, чтобы его слышали разбойники.
— Пусть позовут цирюльника, — сказал Ян. — Надо наложить шину на ногу этого негодяя, прежде чем его отправят в тюрьму.
Цирюльник прибыл через два часа и застыл при виде зрелища, представшего его глазам. Он уже заканчивал перевязку, когда явилась полиция и оторопела еще больше.
— Мистер Бриджмен, вы были слишком добры, позволив лечить этого преступника, — сказал лейтенант.
— Нет-нет, — запротестовал Бриджмен. — Это чтобы он не смог утверждать, будто оговорил себя в бреду, из-за раны.
— Но как вам удалось одолеть трех вооруженных человек? — спросил полицейский, взяв пистолет главаря.
— Мистер Хендрикс дрался как лев, — объяснил Бриджмен.
Когда они с Яном закончили свой рассказ, уже занималась заря. Полицейские увезли бандитов в тюремном фургоне.
Ян вернулся к себе, чтобы умыться.
Он вновь встретился с Бриджменом за тем же столом, уже убранным и накрытым к завтраку. Комнату тоже привели в порядок. Англичанин выглядел утомленным. Он поднял на Яна озадаченный взгляд: то же чистое, свежее лицо, те же изящные черты. Только усталость во взоре да легкая горечь в уголках губ. Соломон недоверчиво покачал головой.
— Вы спасли нам жизнь, — сказал он. — Если бы вы не вспомнили о перце, я и подумать боюсь, что бы с нами стало.
Ян кивнул.
— Но какая в вас ярость! Какая энергия! И какая быстрота решений! Вы меня потрясли. Никогда бы о вас не подумал…
— С чего бы мне щадить того, кто хотел нас изувечить? — отрезал Ян, пожав плечами.
Он окунул ломтик хлеба в яичный желток.
— Кто такой Косгуд?
— Граф Джеймс Косгуд, сын одного придворного сановника. Довольно красивый мужчина лет двадцати восьми — тридцати. Он обхаживал Ньютона, когда тот достиг славы. Как-то при мне Исаак заговорил с ним о философском камне.
— Что это такое?
— Собственно, это не камень, а некий минерал, природы которого я не знаю, но он якобы позволяет превращать свинец в золото. Кажется, я вам говорил.
— Вы говорили о трансмутации свинца в золото, но не о философском камне. Он существует?
— Никогда его не видел. Но предполагаю, что да, в самом деле существует.
— А наследники Ньютона?
— Я не знаю, разобрали ли они все бумаги и вещи, которые Ньютон оставил после себя. Не уверен, что они способны уразуметь их значение.
Бриджмен допил кофе и поставил чашку.
— Мы столкнемся с грандиозным скандалом, — сказал он мрачно. — Обвинение против Косгуда вызовет потрясение при дворе. Он рискует угодить на виселицу. Газеты наплодят больше сплетен, чем крыс в сточных канавах. Все захотят узнать, зачем Косгуд устроил этот налет, и, если правда всплывет наружу, от этого пострадает репутация банка. Нас могут обвинить в оккультных занятиях, еретических и, быть может, даже демонических. Вмешается англиканская церковь… А если проговорится кто-то из тех священнослужителей, к кому мы обращались, на нас будут смотреть как на чумных.
— Стало быть, у нас есть гораздо более серьезные причины покинуть Лондон, чем приглашение маркиза Эберкорна, — заметил Ян. — И настоятельнее, чем когда-либо, требуется ехать в Париж.
— Конечно, но сперва надо замять это дело. В наших же интересах.
— Как это «замять»?
— Поверьте мне, вскоре от Косгуда явится кто-нибудь, чтобы нас прощупать. Как только он узнает, что главарь бандитов указал на него как на заказчика, он предложит нам мировую.
Ян опешил.
— И вы согласитесь?
— Я же вам сказал: это в наших же интересах. Мы и так вызвали немало любопытства, открыв банк. Договоримся с этим Косгудом, что причина нападения — исключительно алчность разбойников. Их вздернут, и никто больше не будет говорить об этом деле. Это в интересах банка. Не только вложенный вами капитал, а также, и даже в первую очередь, ваша репутация, не говоря уж о моей, заслуживают, чтобы мы пожертвовали справедливостью и истиной в пользу чести.
Ян повернулся к нему и какое-то время молчал — невозмутимый, непроницаемый.
— Вы правы, — сказал он наконец.
И опять Бриджмен был в замешательстве. Он готовился долго и пылко убеждать, однако здравый смысл того, кто звался сейчас Яном Хендриксом, представил ситуацию во всей ее отталкивающей наготе. «Странный малый», — подумал Бриджмен. От такой понятливости становилось не по себе.
Через три дня, как и предвидел Бриджмен, в банк явился некий тип, талантливо сочетающий в себе подобострастие и осторожность. Это был мистер Паркинс, поверенный в делах Косгуда. Он завел витиеватые речи, переплетая сожаления графа Косгуда о пережитых джентльменами злоключениях с его же возмущением, вызванным бесстыжими россказнями негодяев, попавших в руки полиции. Мыслимо ли, чтобы граф, друживший с Исааком Ньютоном и Соломоном Бриджменом, мог устроить нападение на своего друга в его же собственном доме! В общем, стряпчему поручено сообщить джентльменам, что его клиент не имеет ни малейшего касательства к этому неслыханному преступлению и надеется из их собственных уст услышать подтверждение своей невиновности.
Наилучшим ответом этому велеречивому лицемерию (и Ян, к восхищению Бриджмена, еще раз это сразу же понял) было молчание. Когда поверенный закончил, Бриджмен и Ян воззрились на него, не говоря ни слова. Их безмолвие стало гнетущим, и стряпчий начал терять уверенность. Бриджмен изобразил на лице скуку, а Ян смерил визитера недобрым взглядом. Он, не шелохнувшись, выслушал речь Паркинса, обращавшегося в основном к Бриджмену, очевидно принимая молодого человека за простого статиста. Наконец Ян спросил безразлично:
— Сколько?
— Простите? — переспросил, повернувшись к нему, сбитый с толку стряпчий.
— Вы меня слышали.
— Я не понимаю… — продолжал упорствовать Паркинс, обращаясь к Бриджмену, чтобы тот прекратил эти неподобающие вопросы. Но Бриджмен и бровью не повел.
— Сколько ваш клиент дает, чтобы обелить свою честь? — четко выговорил Ян без всякого снисхождения.
— Но… честь бесценна, сэр, не вам ли…
— Жизнь тоже бесценна, стряпчий. У вас с собой вексель, так что покончим с кривлянием.
Властный тон Яна выбил у Паркинса почву из-под ног. Бриджмен с трудом скрывал свое веселье.
Стряпчий возвел глаза к небу, словно призывая Бога в свидетели.
— Джентльмены, в самом деле, достойно ли примешивать денежные расчеты к защите чести и…
— Ничуть не менее достойно, — оборвал его Ян, — чем прикарманить вексель, если мы его не потребуем.
Намек был оскорбительным, но стряпчий угодил в ловушку: задание надлежало выполнить любой ценой, чтобы избежать громкого скандала.
— Если уж речь зашла об этом… то что бы сказали джентльмены о трехстах гинеях?
Ян покачал головой.
— Вы же не хотите уйти несолоно хлебавши? Кончайте.
Паркинс посмотрел на Яна, явно пораженный холодностью этого Адониса. Потом тяжело вздохнул, достал из своего кармана свернутую в трубку бумагу и вручил ее Яну. Вексель был на пятьсот гиней.
— Не слишком высокая цена за две человеческие жизни и за каплю воды, чтобы отмыть подлость, — сказал Ян.
Паркинс покраснел, встревожившись.
— Но презрение, которое внушает это дело, — продолжил Ян, — запрещает нам продолжать торг. Мы берем вексель, мистер Паркинс. Всего хорошего.
Ян приготовился встать, но поверенный поднял руку.
— Сэр, не угодно ли взамен подписать вот это заявление, — сказал он, извлекая из своего кармана другой документ.
Ян развернул его: это было обязательство признать, что бесстыдные и нелепые измышления злоумышленников, покушавшихся на жизнь Соломона Бриджмена и Яна Хендрикса, были, по их глубокому убеждению и чести, совершенно безосновательны. Бриджмен велел слуге принести чернильницу и перо, и они с Яном подписали документ, потом присыпали его песком, чтобы высушить чернила, и вернули поверенному.
Уходя, мистер Паркинс бросил на Яна долгий взгляд. Когда он вышел, Бриджмен хлопнул себя по ляжкам и дал волю своему веселью.
— Черт побери, Ян, это мне надо у вас поучиться!
— Кстати, об учении. Что стало с рукописями вашего друга Ньютона?
— Наследники поделили их между собой, вконец перессорившись, и, думаю, почти все продали.
— А у вас самого что-нибудь осталось?
— Да, — кивнул Бриджмен. — Я вам покажу.
— Как он работал?
— Не знаю, поскольку видел только один его инструмент — атанор.
— Атанор?
— Это такая особая печь, в которой он проводил опыты, — ответил Бриджмен, жестом показав примерный размер аппарата.
— Где он?
— Кажется, достался племяннице и ее мужу Джону Кондуиту. Учитывая славу Ньютона, на все его вещи нашлись охотники.
— Есть у вас адрес этого Джона Кондуита?
— Да, — ответил заинтригованный Бриджмен.
— Не окажете ли любезность съездить со мной к нему?
На следующий день после визита Ян с Бриджменом привезли домой странную чугунную печь высотой фута в два, пузатую и тяжелую, — атанор. Кондуиты были даже рады избавиться с выгодой от предмета, назначения которого не понимали.
Ян Хендрикс заплатил сто пятьдесят гиней. Сказочный барыш для Джона Кондуита.
— Таким образом, неудавшееся нападение принесло мне сто гиней, — заключил Ян, прежде чем они уселись за стол.
— Сто гиней?
— Моя доля в векселе Косгуда составляет двести пятьдесят гиней. После этой покупки остается сто.
— Ян, среди сюрпризов, которыми вы меня то и дело балуете, есть один, который я ценю особо, — сказал Бриджмен, поднимая свой бокал, — потому что долго был этого лишен: вы умеете меня рассмешить.
— Ну и слава богу! — сказал Ян, тоже поднимая бокал.
Через две недели трое негодяев были повешены.
В который раз рука заплатила за голову. Вечная несправедливость.
Соломон Бриджмен и Ян Хендрикс смотрели в этот момент, как дуврские утесы растворяются в ноябрьском тумане. Ла-Манш был серым, как жидкая сталь.
13. ЯЙЦО ДРАКОНА
Корабль держал курс на Кале. Бриджмен, стоявший на палубе, облокотившись о борт, поскольку предпочитал свежий воздух открытого моря тошнотворной затхлости кают, обратился к Яну, опять сжимавшему между сапог свою сумку с драгоценностями:
— Простите, что заговорил о предметах, которые касаются только вас. Вы сбежали от приглашения маркизы Эберкорн, чтобы не пришлось танцевать гавот с ее дочками на выданье. Но вы весьма пригожий малый и не век же будете прятаться от женского вожделения, которое ничуть не менее настоятельно, чем мужское. Неужели у вас нет никакой склонности к прекрасному полу? Или вы избрали жизнь монаха?
Упрямый ветер, хлеставший Яна по лицу, окрасил его щеки румянцем. Юноша улыбнулся.
— Соломон, то, что я узнал о любовном пыле, было не слишком поучительно. Тела разогреваются под воздействием похоти, а нередко и вина. Каждый использует другого как вещь, чтобы достичь двух-трехминутного животного удовлетворения, во время которого тела выделяют жидкости, предназначенные для воспроизведения себе подобных. После чего приходит усталость, отупение и удивление, что столько трудов было потрачено ради такой малости при полном безразличии к настроению партнера. Предполагаю, что именно это обычно и называют любовью. Однако я не думаю обзаводиться потомством и больше не хочу, чтобы кто-то относился ко мне как к вещи.
Сперва озадаченный, Бриджмен вдруг затрясся от приступа безудержного смеха, и Ян, заразившись, тоже засмеялся.
— Не думаю, что это имеет отношение к тому, что ваш друг Исаак Ньютон называл всемирным притяжением, — добавил Ян.
Бриджмен захохотал еще пуще; англичанин почти выл от смеха, захлебываясь им так, что привлек внимание моряков.
— Счастлив опять развлечь вас, — сказал Ян.
Бриджмен достал из кармана большой носовой платок, на которые тогда была мода, и, прежде чем высморкаться, промокнул себе глаза.
— Но неужели вы никогда не испытываете потребности в присутствии друга, сообщника, который утешил бы вас в моменты одиночества?
— Я терпел присутствие брата Игнасио около десяти лет. Уверяю вас, я ни разу не заскучал по нему с тех пор, как оставил его в Мехико в плачевном состоянии.
Бриджмен, качая головой, подумал почти невольно: «Тело этого малого глухо. Быть может, это благословение для него». Но тем не менее он был озадачен и продолжал настаивать:
— Однако когда вы видите красивую девушку, розу, наделенную всеми природными прелестями, неужели вы не испытываете влечения к ней?
— Соломон, — ответил Ян, — такое создание — один из шедевров природы, как те же самые розы, как бабочки и соловьи, не говоря о попугаях Южной Америки, яркие цвета которых меня восхищают. Но неужели вы думаете, что я испытываю потребность блудить с розами, бабочками, соловьями и попугаями?
Тут Бриджмен не нашелся что возразить. Речь этого юноши была совершенно логична. Правда, она не слишком согласовывалась с тем, что называют здравым смыслом, и англичанин был этим настолько смущен, что больше не задавал вопросов.
Неужели Ян Хендрикс увечен сердцем?
Через два дня почтовая карета доставила их из Кале в Париж, после остановки в Перонне, где они поужинали тушеной капустой и паштетом из кабана, запив белым шампанским вином, которое выбрали, потому что оно стоило дорого и приятно щекотало в носу.
Бриджмен уже два раза бывал в Париже; он нанял плохонькую карету и на почти правильном французском назвал кучеру адрес гостиницы «Лебедь» в квартале Сен-Медар, неподалеку от Потрошиного моста. Там он спросил две самые большие комнаты, и к вечеру измученные, но уже умывшиеся и посвежевшие путешественники были склонны смотреть на жизнь более спокойным взглядом.
— У меня тут есть друзья, которые нас охотно приняли бы, — сказал Бриджмен Яну, — но я предпочитаю, чтобы эта поездка прошла незамеченной.
На следующий день Соломон попросил юного спутника взять свою сумку, и они отправились в карете на набережную Ювелиров, где Бриджмен стал отыскивать вывеску некоего Шаленшона, гранильщика и золотых дел мастера. Она нашлась между вывесками его коллег Бёмера и Деме. Бриджмен сослался на общего знакомого, видимо важного клиента, что произвело на мастера должное впечатление. Шаленшон проводил посетителей в большое подсобное помещение, подальше от визга пилы, которой ученик распиливал глыбу порфира, и ударов молотка, которые два других наносили по мрамору. За соседним верстаком еще один ученик выколачивал выпуклость на какой-то золотой посудине с помощью маленького молоточка с фетровой накладкой.
Шаленшон запер дверь и занял место за большим столом. За его спиной возвышался внушительный сейф. Посетители уселись напротив.
— Я бы хотел, чтобы вы обязались хранить полнейшее молчание о том, что последует, — объявил Бриджмен в качестве предисловия.
— Такие обязательства — часть моего ремесла, — ответил ювелир, кивнув.
Бриджмен сделал знак Яну, тот открыл сумку, достал оттуда самый большой изумруд и протянул ювелиру. Собственно, это была жеода — кусок породы с заключенными в ней кристаллами. Шаленшон прикинул вес на руке и заглянул в проделанное отверстие.
— Благие небеса! — воскликнул он потрясенно, покачав головой.
Потом схватил ручной подсвечник, чтобы рассмотреть внутренность при свете пламени.
— Я жил, чтобы увидеть это, — заговорил он снова. — Должно быть, этот камень вырван из чрева дракона! В оболочке заключено столько богатства, что и у короля закружилась бы голова.
Ювелир положил камень на стол.
— Неслыханная вещь! Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из моих коллег видел когда-либо подобное сокровище. Чем могу помочь, господа?
— Мы хотим разрезать на куски содержимое этого камня, чтобы продать, — ответил Бриджмен. — Сами понимаете, мы не можем сделать это в его нынешнем состоянии. Только король мог бы его купить. А мы не хотим привлекать внимания.
Шаленшон кивнул.
— Вам придется раскрыть оболочку и обтесать содержимое. Мы пришли, чтобы посоветоваться на этот счет.
— В самом деле, прежде всего надо разбить это яичко. Там я заметил камни удивительного размера. Тогда и поглядим, сколько их и каково их качество. А уж затем решим насчет огранки.
— Сколько времени понадобится, чтобы его разбить? — спросил Бриджмен.
— Можем сделать это прямо сейчас.
Бриджмен перевел предложение ювелира для Яна, который сразу же согласился.
— Давайте, — сказал он.
Шаленшон встал, взял камень и направился к верстаку в углу комнаты. Он положил жеоду на толстый деревянный круг, прижал винтом, потом взял большое стальное долото и молоток. Нанес первый удар. Полетели осколки. Жеода раскололась на шестом. Ювелир извлек из тисков три больших обломка и положил их на стол.
— Посмотрим, — сказал он, протянув руку к небольшой лупе.
Бриджмен и Ян наклонились к расколотому камню и застыли в восхищении. При свете свечей стали отчетливо видны большие, не совсем правильные кристаллы с природными гранями. Казалось, они прорастали из породы, пылая зеленым огнем. Самый крупный был размером с два больших пальца взрослого мужчины. Другие, поменьше, казались молодыми побегами или горошинами, застрявшими в серой массе.
— Вот этот, — сказал Шаленшон, указывая на самый крупный, — будет стоить по меньшей мере пятьдесят тысяч ливров. Но я бы предпочел судить о его чистоте с большим удобством.
— Что для этого надо сделать? — спросил Бриджмен.
— Отделить его.
— Это трудно?
— В любом случае придется расколоть эти обломки на еще более мелкие, чтобы извлечь все самое ценное. Затем я отпилю камни от их основания, начиная с самых красивых.
— Сколько времени потребуется для самого крупного?
— Один час.
— Можем мы прийти завтра? — спросил Бриджмен.
— Моя лавка всегда открыта для вас.
— А сколько времени вам потребуется, чтобы извлечь все камни?
— Можете смело рассчитывать на месяц, — ответил Шаленшон.
День уже был в самом разгаре, и ювелир попросил господ разделить с ним скромную трапезу. На козлы поставили широкую доску, и все трое уселись за стол. Трапеза была простая, но вкусная: горшочек утиного паштета, картофельный салат, мягкий сыр бри, приятно заменивший недодержанный чеддер. Довершили ужин две бутылки анжуйского. Ян особо оценил хлеб, которого еще не пробовал.
Потом юноша уложил обломки в сумку.
Когда они распрощались с хозяином, произошел некий достопамятный для Бриджмена инцидент. Шел снег, и, ступив ногой на немощеную улицу Сен-Никола, Соломон поскользнулся и чуть не упал в грязную лужу. Ян подхватил компаньона твердой рукой. У англичанина вырвался крик. Бриджмен повернулся к своему спутнику и с изумлением уставился на него, прерывисто дыша.
Со времени встречи в Саутгемптоне это был их первый физический контакт.
— Что с вами? — удивился Ян.
— Вы…вы… — промямлил Бриджмен, растирая себе запястье.
— Ну?
— Вы меня словно обожгли!
Ян удивленно поднял брови.
— Я всего лишь попытался вас удержать, — заметил он безразличным тоном.
— Знаю. Но какой-то мощный флюид поразил меня в запястье… — сказал Бриджмен, сопроводив эти слова вопросительным взглядом.
— Прошу прощения.
— Вы знали, что обладаете этим флюидом?
— Да, — признался Ян неохотно. — Из-за него-то…
Но он не закончил фразу. Впрочем, Бриджмен и не настаивал. Они вернулись в гостиницу, не говоря ни слова.
За ужином Бриджмен, казалось, сперва долго ворочал языком во рту, впрочем занятом смакованием пулярки в соусе, прежде чем заявить:
— Ньютон бы вас очень ценил, Ян. Он верил в существование этого флюида, которым вы обладаете, но с которым сам он никогда не экспериментировал. Он был убежден, что некоторые существа, человеческие существа, связаны теснее, чем обычно, с силами Вселенной.
Ян был заинтригован, но не более того.
— Вы один из них, Ян. Мне неведомо, как сложится ваша жизнь, но верю, что, если вы осознаете свой дар и направите в нужную сторону, ваша судьба станет исключительной. Неслыханное богатство, которое вы похитили у ваших мучителей, уже свидетельствует о том, что вас ведет некая звезда. Но я догадываюсь также, что не это цель вашей жизни. Какова она — я не знаю. Однако предчувствую, что вы долго будете удивлять мир.
Глаза Яна заблестели. Он спросил:
— Все это потому, что вы ощутили ожог, когда я коснулся вашего запястья?
— Не только. Ожог всего лишь помог обнаружить это. Я наблюдаю за вами с тех пор, как повстречал в Саутгемптоне. И я видел вас в деле, когда в Лондоне на нас напали бандиты. Вы казались природной стихией, сорвавшейся с цепи и восставшей против сил зла. На вас был направлен пистолет, их было трое против двоих, к тому же мы были захвачены врасплох. Но вы действовали с такой быстротой, что дух захватывало. Кто бы мог подумать о перце? Не сомневаюсь, что и тех, кто преграждал вам путь, вы отправляли на тот свет с таким же проворством. Драконово яйцо — это вы сами!
Ян расхохотался. Его превосходные зубы блеснули в свете свечей.
— Это вы обо мне?
— Да, о вас! — воскликнул Бриджмен с неожиданным пылом. — Если вы притворяетесь, будто вам плевать на дары, которыми вас наделила природа, то это преступление!
Ян был взволнован. Он даже не замечал раньше за пригревшим его уравновешенным англичанином подобной горячности. Но догадывался, что Бриджмен страстно в него верит.
— Вы невинны, я это знаю, — продолжал Соломон. — Но осознайте вашу невинность и ответственность, которую небо возложило на вас.
— Что же мне делать?
— Я вам сказал. Осознайте.
Бриджмен налил вина своему удивленному и задумчивому сотрапезнику.
14. ТЫ ХОТЕЛА ЧТО-НИБУДЬ НА ПАМЯТЬ?
Поскольку их пребыванию в Париже предстояло затянуться, а погода была слишком холодной, чтобы ходить пешком, Бриджмен решил оставить за собой наемную карету — старую колымагу с облупленной позолотой и потертой обивкой, грязную и скрипучую. Но у кареты имелось одно несомненное достоинство: она пробуждала у других высокомерную снисходительность, а не зависть. Выехав пораньше, они избегали немыслимых заторов на улицах, столкновений с другими каретами, подводами, ручными тележками и всадниками, не говоря, разумеется, о пешеходах, невозмутимо шлепавших по грязи среди проклятий и брани. Возвращение же было совсем другим делом, тут приходилось или запастись терпением, или же смириться с обстоятельствами и возвращаться в гостиницу пешком, продрогнув до мозга костей.
Подкрепившись кофе, хлебом и сыром, компаньоны прибыли к двери Шаленшона как раз к тому моменту, когда тот открывал замки своей мастерской в окружении притопывающих от холода учеников.
Ювелир предложил своим посетителям подождать в кабинете, пока оживляли печки и разводили жаркий огонь в большом камине. Затем попросил обломок с большим изумрудом. Бриджмен и Ян смотрели, как он работает. Через час на фрагменте было сделано девять надпилов. Еще через час с небольшим Шаленшон извлек драгоценный камень и показал владельцам, заставив его сверкать на свету.
Ученики смотрели издали. Одного из них, розового толстяка, открывшееся взору сокровище совершенно загипнотизировало.
— Кардинал Флери, — сказал Шаленшон, любуясь продолговатым изумрудом.
— Что? — не понял Бриджмен.
— Доступ к сердцу сильных мира сего находится в самом чувствительном его месте, господин Бриджмен, разве непонятно?
Оба рассмеялись.
— Но кто такой кардинал Флери? — спросил Бриджмен.
— Первый министр. Неужели вы не знали?
Французы всегда полагали, что об их делах должна знать вся вселенная.
Ян весь обратился в слух, поняв эти простые слова: «кардинал» и «первый министр».
— А почему кардинал купит этот камень ценой в пятьдесят тысяч фунтов? — настаивал Бриджмен.
— Потому, сударь, что он обеспечит себе этим благосклонность королевы.
— Кардинал — любовник королевы?
— Да нет же, сударь. Ему семьдесят пять лет. И влюблен он во власть. А этой любовнице безразличен возраст ее воздыхателей.
— Что он собирается делать с камнем? — спросил Ян Бриджмена.
Должно быть, ювелир понял вопрос, поскольку обратился к молодому человеку.
— Господа, я даю вам за него сорок пять тысяч ливров. Свой барыш я получу, продав его после огранки.
Бриджмену почти не понадобилось переводить.
— А остальные камни? — опять спросил Ян.
— Скоро дойдем и до них, — ответил Шаленшон, очевидно слегка владевший английским. — Дайте мне время.
Через тридцать три дня яйцо дракона, как его окрестил Шаленшон, отдало наконец все заключенные в нем богатства.
Изумрудов на триста тридцать тысяч ливров. Двадцать семь камней исключительного размера и чистоты.
— У меня самого нет таких денег, — заявил Шаленшон. — Большой изумруд купил Флери, одиннадцать других я продал своим собратьям по ремеслу. С вами мы в расчете, вы получили от меня сто девяносто восемь тысяч ливров. Но здесь спрос не настолько велик, чтобы я мог сбыть остальное в требуемые вами сроки.
Нельзя было усомниться в его искренности: ювелир не скупясь заплатил за три средних изумруда, стоивших тем не менее двадцать девять тысяч ливров.
Бриджмен и Ян, уже чуть-чуть усвоивший французский, переглянулись, не говоря ни слова. «Триста тридцать тысяч фунтов. На это можно открыть еще один банк», — подумал Ян.
— У вас остается камней на сто тридцать две тысячи, — добавил ювелир, — но здесь вы их не получите: если я выставлю на продажу оставшиеся шестнадцать штук, за них не дадут настоящую цену.
— И что же тогда? — спросил Ян.
— Продайте их в другом месте, — посоветовал ювелир.
— Где?
— В Амстердаме или Санкт-Петербурге.
— Все это дивно и прекрасно, — заявил Ян, выучивший это выражение за те недели, что они провели в Париже, — но что нам делать с остальным?
Шаленшон посмотрел на него с веселым удивлением: он в первый раз слышал, как молодой человек произносит по-французски целую фразу.
— Вы очень хорошо говорите на нашем языке, господин Хендрикс, правда с пьемонтским акцентом.
Нимало не заботясь о своем акценте, Ян вынул из сумки большой рубин и звездчатые сапфиры и положил их на стол перед ювелиром.
Тот вскрикнул:
— Боже всемогущий! Да откуда вы взялись, господа? Это же камни с престола Господня, как его описывает пророк Иезекииль!
Он вытянул шею, потом недоверчиво взял в руки рубин и рассмотрел камень со всех сторон.
— Невероятно, — пробормотал Шаленшон. — Это прекраснее, чем сокровища Голконды!
Но звездчатые сапфиры оказались, без сомнения, слишком сильным испытанием для его чувств. Ювелир встал и, схватив графинчик мадеры, налил себе полный стакан, потом осушил его почти одним духом.
— Простите меня, но никогда еще ювелиру не доводилось испытывать подобное потрясение. Этот рубин, — сказал он, обращаясь на сей раз к Яну, об истинной роли которого в этом деле начинал догадываться, — это же глаз дракона, которого вы выпотрошили, верно?
— Мне и в самом деле случалось потрошить драконов, господин Шаленшон, — сказал Ян, — но их внутренности зловонны, как и у всех этих тварей, разве вы не знали? Камни, что вы видите перед собой, — истинные плоды земли, ее яблоки, груши и вишни. Прежде вы видели только незрелую зелень. Возьмите себя в руки и скажите нам, на каких рынках огородники продают такие плоды.
Шаленшон какое-то время смотрел на Яна, сбитый с толку его речью, сказанной все с тем же неопределимым акцентом. Неужели этот молодой человек лишился рассудка? Каких драконов он потрошил? Ювелир повернулся к англичанину:
— Ваш друг — человек необычайный, господин Бриджмен. Если бы он не был вашим другом, я бы решил, что мне явился архангел, чтобы загадать загадку. Архангел? Нет, скорее сфинкс.
Шаленшон встал и стал мерить шагами комнату.
— Сейчас вы истощили финансы любителей камней во Франции. Я уже посоветовал вам Амстердам или Санкт-Петербург. Повторюсь, но с небольшой оговоркой: Амстердам и Санкт-Петербург. И еще Берлин. И Вена.
Бриджмен, казалось, погрузился в долгие раздумья. Наконец он кивнул.
— Я понимаю, что вы хотите сказать, господин Шаленшон. Благодарю вас за ваши советы. Мы им последуем.
Ян убрал рубин и сапфиры в сумку, а Шаленшон вручил Бриджмену шестнадцать ограненных его стараниями изумрудов, каждый в пакетике из толстой бумаги.
— Будьте осторожнее, эти камни не так тверды, как алмазы, и портятся, когда трутся друг о друга.
Они подписали бумаги. Бриджмен пригласил Шаленшона на ужин, чтобы отметить заключение сделки. Ювелир выбрал Королевский трактир на улице Планш, рядом с особняком принца Изенгиенского.
В меню был фазан с капустой, паштет из зайчатины и салаты. Запивали шампанским, которое Ян в конце концов оценил. Потом сотрапезники расстались, обменявшись заверениями в дружбе и пожеланиями процветания.
— Итак, вы владеете векселями на сто девяносто тысяч фунтов, — сказал утром Бриджмен. — Что намереваетесь делать?
Они наслаждались кофе в зале гостиницы, на заре своего предпоследнего дня в Париже.
— Поехать в Амстердам, собрать жатву в сто тридцать две тысячи фунтов, если не больше. Ведь во столько Шаленшон оценил оставшиеся изумруды.
— А затем?
— Основать другой банк. Трехсот тридцати тысяч фунтов должно ведь хватить? Не считая прочего золота. И других камней. Этого хватит даже на третий банк.
У Бриджмена чуть не отнялся язык.
— Еще один банк? И третий?
— Филиалы банка Бриджмена и Хендрикса.
— У меня на это больше нет денег.
— Купите акции на свои доходы с лондонского банка. Я вам ссужу. У меня есть деньги, у вас опыт.
— Какова ваша цель в жизни, Ян?
— Соломон, я не умею произносить речи. И не знаю, есть ли у меня цель в жизни. Думаю, скорее у самой жизни есть для меня цель. Люди упиваются деньгами, потому что те позволяют им получать смехотворные удовольствия. Поедать дорогие блюда, одеваться, как короли, которыми они не являются, заводить любовниц, которые льстят их тщеславию больше, чем их чувствам. И еще мучить слабых. Вы даже не представляете, как испанцы помыкают индейцами только потому, что их власть над ними безгранична. Моя судьба едва ли стала бы завидней. Согласитесь, я был бы глупцом, пренебрегая силой, которую мне дают деньги, — на самом деле это моя единственная защита от людского безумия и злобы. В моей сумке полно камней и золота, которые лежат там без малейшего употребления. Ведь не могу же я ни есть два раза подряд, ни спать сразу во всех постелях стокомнатного дворца. Скажите, Амстердам подходящий город для открытия банка?
— Превосходный. Он ссужает деньгами всех государей планеты, не говоря о купцах.
— Тогда почему же вы удивляетесь?
— Я не понимаю, к чему вы стремитесь, — ответил Бриджмен.
— Я же вам сказал: не хочу больше зависеть от развратных монахов и похотливых старух.
— Вы сами хотите повелевать.
— Тоже нет. Если я чем-то ценен, то хочу влиять на равных себе. Я ведь видел, как Уолпол, премьер-министр, принял нас: банкиров уважают не меньше, чем королей.
Бриджмен задумался.
— Если бы Исаак вас знал, — сказал он наконец, — он бы безумно в вас влюбился. Больше, чем в Дюйе.
— Дюйе?
— Фатио де Дюйе, швейцарский математик. Ньютон в него влюбился, а тот его покинул. Исаак от этого заболел.
Ян пожал плечами.
— Опять любовные истории.
— Неужели вы так бесчеловечны?
— Нет, просто осторожен, — ответил с улыбкой Ян, намазывая хлеб маслом, перед тем как посолить.
Бриджмен комически сморщился.
— Вы же сами не хотели ехать в Амстердам, — сказал он. — Как же теперь решились?
— Очень просто. Вы поручитесь честью, что я — Филипп Уэстбрук, директор вашего банка в Лондоне, или Гийом де Бове, ваш агент в Париже.
— Но вы же… черт знает что! — воскликнул Бриджмен со смехом.
— Вы уже засвидетельствовали разок, что я — Ян Хендрикс. Даже сами подыскали мне это имя. Неужели вам теперь не хватит воображения?
— Черт знает что! — повторил Бриджмен. — Я сам высидел дракона из яйца.
— Вы еще и недовольны! — засмеялся Ян.
Это был их единственный свободный день со времени приезда в Париж. Так что они отправились полюбоваться собором Парижской Богоматери, потом прогулялись, поужинали и, поскольку завтра их ожидало новое путешествие, решили лечь спать пораньше.
Они вернулись в гостиницу.
Ян ни на миг не выпускал свою сумку из рук, получив от Шаленшона векселя на сто девяносто восемь тысяч ливров и ограненные камни. Он засунул ее под кровать, рядом с ночным горшком, задернул шторы и оставил свечу зажженной, на случай если захочет пить.
Он уже задремал, когда в дверь постучали. Ян встал и, подойдя на цыпочках к двери, сперва приложил к ней ухо, не торопясь открыть смотровое окошечко. Как ему показалось, там был кто-то не один — многочисленные поскрипывания пола и шумное дыхание явно указывали на это. Ян приоткрыл окошечко и действительно уловил чьи-то торопливые движения. Но перед собой увидел только очаровательное женское личико, освещенное свечой. Золотистое пламя бросало отсветы на грудь, открытую гораздо больше, чем предписывала скромность.
— В чем дело? — спросил он нарочито сонным голосом.
— Мессир, — пролепетала юная особа, — я горничная, занимаюсь комнатами. Говорят, вы нас завтра покидаете. Вот я и подумала, что вы, может, не захотите уехать, не оставив мне что-нибудь на память.
Она прижимала к корсажу бутылку вина.
— Увидимся завтра утром, — сказал Ян недовольно.
Тут он заметил у двери мужскую руку и услышал, на этот раз вполне отчетливо, шумное сопение.
— Завтра я не работаю, мессир, и мне будет жаль, если я вас больше не увижу…
Западня.
Ян прикинул прочность двери. Может, и выдержит напор одного мужчины, а может, и нет. Уж двоих-то вряд ли.
— Ладно, дайте мне время одеться. Это недолго.
Он захлопнул окошечко. Сердце колотилось. Надо предупредить Соломона, спящего в соседней комнате. Перегородки между их номерами тонкие, накануне он отлично слышал, как его компаньон храпел. Ян постучал. Никакого ответа. Плохо дело. Он поспешно натянул штаны и рубашку, опоясался ремнем с кинжалом в ножнах, взял сумку и открыл окно. Осмотрел карниз. Тот был довольно широк, в две мужских ступни шириной, но ближайшая точка опоры — водосточная труба — находилась возле окна Бриджмена. Юноша стал осторожно продвигаться вперед, пока не смог ухватиться за нее и заглянуть в комнату англичанина. Открывшееся зрелище заледенило ему кровь. Бриджмен сидел на стуле, связанный и с кляпом во рту, под надзором бандита в надвинутой на глаза шляпе. Ян отступил. Должно быть, бандиты под каким-то предлогом проникли в комнату его спутника и, увидев, что сумки там нет, взялись за него.
До мостовой футов тридцать. Прыгнув, Ян рисковал сломать ногу. И если тогда у него начнут отбирать сумку, он не сможет ни защищаться, ни тем более погнаться за напавшими. Он глубоко вздохнул. Изо рта вырвалось облачко не чувствуя пальцев ног, Ян повернул к окну своей комнаты, но не остановился, а добрался до следующего. Ему вспомнилось, что утром туда вселился какой-то француз со шпагой. Он попытался заглянуть внутрь сквозь заиндевевшее стекло. Если постоялец не съехал, то наверняка спит. Комнату освещала свечка. Ян сильно постучал в окно. Дорога была каждая секунда, поскольку, не получив желанного ответа, бандиты наверняка взломают дверь в его комнату.
Полог кровати отодвинулся, и появилось удивленное лицо. Потом к окну приблизился белый силуэт в ночном колпаке и длинной рубашке. Окно открылось. Перед ним стоял человек зрелых лет с отвислыми усами.
— Какого черта…
— Сударь, ради бога, бандиты пытаются взломать мою дверь, — зашептал Ян. — Помогите мне. Они связали моего товарища…
— Англичанина? Что за вздор…
— Сударь, заклинаю вас, — взмолился Ян, стуча зубами от холода и почти не чуя под собой замерзших ног.
— Влезайте, — велел человек. — Если будете так дрожать, свалитесь вниз. Где ваша комната?
— Рядом с вашей…
В этот миг раздался глухой удар. Услышав его, француз выпучил глаза.
— Вот видите… — сказал Ян.
— Сюда! — приказал человек в ночной рубашке и вооружился шпагой. Затем торопливо открыл сундук и вытащил оттуда пистолет. — Умеете с этим обращаться? — спросил он Яна.
— Да, — ответил тот, схватив оружие.
Француз с грохотом распахнул дверь. Они с Яном выскочили в коридор как раз в тот момент, когда два человека и в самом деле вламывались в соседний номер. Девица пронзительно взвизгнула.
— Ха, ребятки! — крикнул усач, ткнув в их сторону шпагой. — Попались!
Ближайший к двери бандит попытался удрать. Усач сделал выпад и пропорол ему бок. Тот заорал.
— Еще один шаг — и насажу как на вертел!
Ян с пистолетом в правой руке и сумкой в левой бросился к комнате Бриджмена. Дверь открылась, и на пороге появился бандит, приставленный сторожить англичанина.
— Да что тут у вас? — пробормотал он.
Тут он заметил Яна, нацелившего на него пистолет, человека со шпагой, девицу и своего сообщника, со стонами истекающего кровью. Бандит отпрянул и кинулся бежать по коридору. Ян прицелился и выстрелил ему в ноги. Вор рухнул, заорав от боли. Ян перепрыгнул через него и ворвался в комнату Бриджмена. Освободил другу запястья и сунул ему в руки сумку, потом опять выскочил в коридор. Девица тем временем попыталась улизнуть. Ян нагнал ее в два прыжка.
— Сюда, красотка! — сказал он, схватив ее за руку, и, не обращая внимания на всхлипывания, грубо втолкнул в свою комнату.
Из трех разбойников невредимым остался один-единственный, тот, кто первым проник в комнату Яна.
Появился растерянный Бриджмен. Переполошенные криками и грохотом, сбежались и слуги, и хозяева гостиницы. За ними, бормоча проклятия, притащился еще какой-то постоялец.
— Господа, — торжественно объявил человек со шпагой, приняв воинственный вид и явно не сознавая, что, несмотря на шпагу в руке, оставался в ночной рубашке и колпаке, — я королевский офицер, возглавляю сбор налогов в Аквитании, а этих негодяев ждет виселица или галеры. Мадам, — обратился он к хозяйке, — прошу принести веревки.
— Этот человек ранен, — сказал Ян, указывая на вора с простреленной ногой. — Христианское милосердие требует оказать ему помощь, прежде чем судить.
— Вы правы, мой мальчик, — сказал сборщик налогов. — Он будет повешен, когда выздоровеет. Пусть позовут цирюльника.
«Опять та же сцена, что тогда у Бриджмена, — подумал Ян, пораженный сходством, — с той только разницей, что теперь на одно действующее лицо больше».
— Господа, я Обер дез Эньян, состою на королевской службе, — представился офицер.
— Соломон Бриджмен, лондонский банкир.
— Ян Хендрикс, торговец драгоценными камнями.
Они пожали друг другу руки. От прикосновения Яна дез Эньян вздрогнул.
— Черт побери, господин Хендрикс, вы носите в себе молнию!
Ян сделал вид, будто смеется. Хозяева гостиницы принесли веревки. Злоумышленников связали.
— Этот малый, — объявил дез Эньян Бриджмену, показав на Яна, — достоин быть королевским мушкетером.
Прибыл цирюльник со своими инструментами и попросил, чтобы раненого спустили на первый этаж и положили на стол.
— Пойду передохну, — сказал Ян.
— Я тоже, — кивнул Бриджмен, совершенно разбитый.
Ян, держа сумку в руке, закрыл за собой дверь и тут заметил за пологом кровати какое-то шевеление. Девица! Он и забыл о ней. Среди всеобщей суеты никто ее не хватился. Она, должно быть, спряталась, когда хозяева принесли веревки, чтобы вязать воров. Ян подошел к кровати и бесцеремонно вытащил ее из убежища.
— Пощадите… — взмолилась девушка.
Он иронично рассмотрел ее. Рыжая, смазливая, с пышным и тяжелым узлом волос, с молочно-белой кожей.
— Ты хотела что-нибудь на память, — сказал он насмешливо.
Девушка смотрела на него со страхом, по-прежнему прижимая к груди бутылку. Ян взял вино из ее рук.
— Это в придачу к нашим удовольствиям, верно?
Откупорив бутылку, Ян налил вина в стакан и протянул ей.
— Сперва ты, принцесса.
Казалось, это испугало ее еще больше.
— Что такое? Разве тебя не мучает жажда после стольких волнений? — спросил он, поднося стакан к ее губам.
— Нет, — пролепетала она, объятая ужасом.
— Ты права, отравленное вино жажду не утоляет. А оно ведь отравлено, верно?
Девица задрожала.
— И поутру нашли бы только мой труп, не так ли, красавица? — спросил Ян, вплотную приблизив к ней лицо.
— Это они… Они меня заставили… Они…
Это было похоже на правду. Возможно, девица даже не знала, ради чего мерзавцы затеяли покушение. Она была чуть жива от страха. Ян поставил бутылку на одноногий столик, вытащил из-за пояса кинжал, попробовал остроту лезвия пальцем и посмотрел на девушку.
— Нет… я вас умоляю…
Ян направил острие в ее сторону.
— Нет! — крикнула она.
Резким движением он вспорол корсаж ее платья снизу вверх и обнажил грудь.
— Приятное зрелище, — сказал Ян, кивая.
Затем опустил лезвие к юбке и разрезал пояс. Юбка упала. Девица осталась нагой.
— Сними чулки, — приказал он.
Она подчинилась. Ян опять кивнул и положил руку ей на грудь. Девушка сдержала крик. Он толкнул ее к постели. Красавица не сводила с него глаз, даже не моргала.
— Да, смотри хорошенько, ты ведь сама хотела что-нибудь на память.
Его ласки сделались нескромными. Она начала коротко вскрикивать. Он повалил ее на постель и стал гладить груди; соски немедленно отвердели, и девица тяжело задышала, вытаращив глаза. Когда Ян скользнул рукой по ее лобку, эффект удивил его самого.
— Кто вы? — вскричала она, совсем потеряв голову. — Колдун?
Тем не менее Ян не прекращал свои ласки. При каждом его прикосновении девицу сотрясала дрожь. Ян овладел ею. Она замерла, потом стала неистово извиваться, словно большая змея. Он по-прежнему был в ней. Наконец девушка обняла его за шею и прошептала:
— Я знаю, что вы мне не поверите. Но я вас люблю. Вы колдун… Я вас люблю больше, чем самого Господа…
С последним толчком он излил в нее семя. Она расплакалась.
— Почему ты плачешь?
— Потому что я никого не буду любить так, как вас… Никогда.
Ян не торопился выходить из нее, смакуя это странное пребывание в чужом теле, потом, наконец отстранившись, посмотрел, как девушка лежит на постели, словно принесенная в жертву.
— Теперь уходи, — сказал он, протянув ей пять ливров. — Немедленно покинь квартал и даже Париж, чтобы стража тебя не нашла.
Вернувшись к действительности, девушка села, бросила на него жалобный и растерянный взгляд, потом попыталась закутаться в то, что осталось от ее одежды. Ян стоял нагой, напустив на себя суровость.
— Вы меня даже не поцеловали ни разу, — сказала она у двери с упреком.
— Я ведь не первый из твоих любовников. У них и проси поцелуев. Ты мне готовила смерть, я тебе подарил две жизни. Если это будет девочка, назови ее Севериной.
— А если мальчик?
— Исмаэлем.
— Никогда не забывайте, что я вас люблю.
Ян пожал плечами и надел халат.
Потом открыл дверь, вытолкнул девицу наружу и опять лег в постель. Спать оставалось мало. Скоро рассвет.
В самом деле, странно, что все любившие его вели себя как враги.
15. ДУХИ, БАНКИ И ЛЮБОВЬ
Лейтенант дез Эньян не любил проволочек. Когда Бриджмен и Ян, умывшиеся и одетые, хоть и разбитые, спустились вниз выпить кофе, там уже присутствовали четверо полицейских с их лейтенантом. Они слушали рассказ офицера налоговой службы, второго по рангу после главного откупщика. Его авторитета и корпоративной солидарности вполне хватило для протокола.
Признания воров, лежавших в углу зала со скрученными за спиной руками, среди которых был еще и раненый с перевязанной ногой, довершили дело. Злоумышленники были молоды, но даже если это и внушало кому-то наивное сочувствие, приходилось всерьез опасаться, что их жизни вскоре будут изрядно укорочены виселицей.
Лейтенант полиции записал имена и адреса иностранцев. Бриджмен взял слово:
— Мы хотим знать, кто был зачинщиком этого заговора.
Злоумышленников допросили. Терять им было уже нечего, и они признались: первый подмастерье Шаленшона.
— Арестуйте его, — сказал Бриджмен, бросив взгляд на свои нюрнбергские часы-луковицу. — Шаленшон открывает мастерскую через несколько минут.
Двое полицейских ускакали верхом.
— Значит, план отравления принадлежал подмастерью? — спросил Ян грабителей.
Те закивали.
— Мы зашли к вашему другу в поисках сумки, а когда ее там не оказалось, отправились к вам.
— Девице было поручено соблазнить моего друга?
— Нет, она хотела вас.
— Когда в дверь постучали, — объяснил Бриджмен, — девица сказала, что принесла мне кувшин с водой. Я поверил, потому что мой и в самом деле был почти пуст. Тут они набросились на меня втроем, я даже крикнуть не успел. Потом сразу же связали и обыскали комнату.
— Где эта девица? — спросил дез Эньян.
— Я думал, вы ее схватили, — удивленно поднял брови Ян.
— Проклятье! Сбежала!
— Мы и без нее знаем достаточно, — вмешался лейтенант полиции. — Отыщем потом.
— Подождите! — воскликнул Ян.
Он поднялся в свою комнату за бутылкой с отравленным вином и вручил ее полицейским.
— Вы ведь называете это «кладбищенской росой», лейтенант?
Тот расхохотался, вслед за ним и остальные.
— Девица хотела опоить меня этим вином, чтобы отметить нашу встречу.
Хозяева гостиницы слушали с испугом.
— Никому больше нельзя доверять, — пробормотала жена.
Ян воздержался от замечания, что, если бы она увидела содержимое сумки, он бы и за ее честность не поручился. Потом велел подать служивым кофе и вина. Через час вернулись двое полицейских с подмастерьем. Им оказался тот самый толстяк, все такой же розовый, несмотря на свой растерянный вид. Он шел понурив голову.
— Узнаете вы этого человека? — спросил лейтенант, предъявив его бандитам.
— Это он!
— Как вы нашли наш адрес? — спросил Ян у подмастерья.
— Как-то вечером, когда вы ушли, я проследил за каретой.
— А яд — ваша затея?
Подмастерье пробормотал что-то неразборчивое.
— Говорите громче, чтобы вас слышали!
— Такому хлыщу еще и такое богатство! — зло крикнул подмастерье.
— Заберите всех четверых, — приказал лейтенант, раздраженный его наглостью. — Господин главный сборщик, господа, мое почтение.
Он надел шляпу. Четырех злоумышленников вытолкали в двери, потом запихали в поджидавший на улице фургон.
Разумеется, почтовую карету на Брюссель Ян с Бриджменом упустили. Выехать теперь они могли только на следующий день. Так что они устроились в зале гостиницы, попивая кофе и грызя орехи. Хозяин, который не знал, как заслужить прощение за ночной скандал, окружил их особым вниманием.
— На нас нападают уже пару раз, — заметил Ян по-французски.
— Нет, всего лишь во второй раз, — поправил его Бриджмен.
— Какая разница?
Англичанин, достаточно знавший французский язык, объяснил, что «пара» ограничивается только двумя, а после «второго» могут быть и другие.
— На нас будут нападать всякий раз, как только увидят богатства в наших руках. И я не уверен, сможете ли вы опять спасти нас. Да и сейчас ума не приложу, как бы вы обошлись без вмешательства господина дез Эньяна, — сказал Бриджмен.
— Каково же решение?
— Перевозить только то, что не обидно потерять. Ведь банк — это и есть средство сохранить богатство, не подвергая себя опасности. По этому поводу возвращаюсь к вашему замыслу основать банк в Амстердаме. Во-первых, вы испытаете там гораздо больше трудностей, чем в Лондоне, где я был в некотором роде вашим ходатаем в закрытых кругах. А система голландских гильдий еще более неприступна, чем банкирское сообщество Лондона. Далее, вам вовсе незачем основывать банки повсюду. Это потребует служащих, которым вы бы доверяли, ведь я не могу быть в двух городах одновременно. К тому же придется платить им жалованье, что сократит ваш доход.
Ян кивнул.
— Ваши деньги вполне могут приносить плоды, — продолжил Бриджмен, — если поместить их в уже существующий надежный банк. Ведь я не вечен, Ян, и, когда меня не станет, вам придется руководить не только лондонским банком, но и амстердамским, если предположить, что удастся открыть его.
Ян обдумал эти советы.
— Что вы называете надежным банком за пределами Лондона?
— Например, Прусский и Шведский банки. Париж я вам не советую. Французы еще не оправились от последствий инфляции, устроенной Джоном Лоу.
Он объяснил своему собеседнику, как образовался огромный мыльный пузырь из необеспеченных ассигнаций и как он лопнул, когда они обесценились. Ян был поражен.
— Неужели власти не могли положить этому конец?
— Мой дорогой Ян, власти, как вы говорите, были первыми зачинщиками. Услышав ваши вчерашние слова, я подумал, что вы уже знаете об этом. Легкие деньги — все равно что излишек вина: те, кто в них больше всего нуждается, государи и прочие власть имущие, опьяняются ими гораздо сильнее, чем мелкий люд, привыкший к умеренности. Эта слабость встречается повсеместно, и даже голландцы, у которых, однако, репутация людей осторожных, несколько десятилетий назад разоряли себя, помешавшись на тюльпанах. Дошли до того, что покупали луковицы этих цветов на вес золота и даже дороже.
Ян засмеялся.
— Луковицы тюльпанов?
— А куда подевалась девица? — спросил вдруг Бриджмен чуть насмешливо.
Вместо ответа Ян невозмутимо посмотрел на него.
— Не притворяйтесь, будто не знаете, Ян. Я слышал, как она плакала в коридоре сегодня ночью, незадолго до рассвета.
— Вот как? Тогда вы уже обо всем догадались. Она хотела от меня что-нибудь на память, — признался наконец Ян как можно небрежнее. — Думаю, она получила то, чего ей надолго хватит.
— Насколько я понял, она хотела также отравить вас, — напомнил Бриджмен.
— Я оставил ей жизнь и подарил еще одну. Взамен взял слово покинуть Париж.
— Ваш хладнокровный аскетизм отнюдь не предвещал подобного поворота, — заметил Бриджмен, явно забавляясь.
— Захотелось попробовать, каково это, когда никто не навязывает.
— И что вы об этом думаете?
— При условии, что все происходит само собой, это даже приятно.
В течение всей поездки Бриджмен раздумывал о поведении своего компаньона. Избыток сострадания, которое он со времени их первой встречи изливал на юношу, принятого им за бедную, заблудшую душу, иссякал. Изменение его отношения к этому малому удивило его самого.
«Дикая кошка, которая может превратиться в тигра, если ей угрожают, — думал Соломон. — Убийство его не пугает. И это сравнение применимо не только в духовном плане, но и в физическом. Его ловкость и выносливость удивительны. Идти полуголым в разгар зимы по карнизу в тридцати футах над землей — это же надо!»
Они были в почтовой карете одни, поскольку погода и близость Рождества не побуждали людей к путешествиям. Временами лошади, надежно укрытые попонами, скользили на обледенелой дороге и карету опасно заносило, так что кучер замедлял ход. Пар, оседавший инеем на внутренней стороне стекол, затуманивал черно-белый пейзаж за окошками. Пассажиры кутались в шубы.
— На чем ваш друг Ньютон основывал свои поиски эликсира бессмертия? — спросил Ян между двумя толчками.
— Затрудняюсь вам сказать: перед смертью он сжег те свои бумаги, секрет которых не пожелал раскрыть. Они хранились в большом сундуке. Я знаю это, потому что сам их видел, когда он открывал этот сундук несколько раз в моем присутствии. Там было много, очень много рукописей, посвященных магии и алхимии.
Бриджмен наклонился, чтобы вытащить из своей дорожной сумки бутылку коньяку, и отхлебнул глоток. В самом деле, холод в почтовой карете был пронизывающий. Ян же достал из своей сумки бутылку виски. Он оценил этот шотландский напиток с тех пор, как узнал его, и у него еще оставались две бутылки из запаса, взятого с собой из Лондона месяц назад.
— Почему он сжег свои рукописи? — спросил молодой человек. — Раз он их написал, значит, придавал им какую-то ценность.
— Он мне сказал однажды: «Не будет большего бедствия, чем высшая тайна, ставшая достоянием низкой души».
— Что вы понимаете под «магией»? Что такое магия?
— Занятие ею внушает опасение духовным властям и может навлечь позор, а то и привести в тюрьму, — ответил Бриджмен. — Исаак накупил на континенте, и особенно в Амстердаме, куда мы направляемся, немало редких произведений о магии и оккультизме.
— Что он оттуда извлек?
— Не знаю, — ответил Бриджмен со смехом, запахнув поплотнее полы своей шубы, — потому что проникнуть в тайны его мозга я не мог, а сам он неохотно говорил на эти темы. Но я присутствовал у него на сеансе спиритизма. Это было волнующе.
— Что это такое? — заинтересовался Ян.
— Вызов духов.
Юноша был поражен.
— Душ мертвых, вы хотите сказать? Значит, их можно вызывать?
— Исаак мне говорил, что они окружают нас и что, если соблюдать некоторые определенные правила, они проявляют себя. В тот раз над столом появился какой-то белый силуэт и остановился перед Дюйе.
— Эти духи говорят?
— Нет, они ощутимы только для зрения. Или же они входят в тело некоторых присутствующих людей и выражаются при их посредстве. Что и случилось с Дюйе. Он тогда объявил Ньютону совершенно неузнаваемым голосом, что тот потеряет рассудок, если тайна, которую он ищет, будет ему открыта. После того сеанса Дюйе, который был человеком искренне верующим, покинул Ньютона.
— Известно, кому принадлежал вызванный дух?
— Не знаю.
— Зачем ваш друг вызывал духов? — продолжал Ян.
— Среди прочего, чтобы узнать от них секрет эликсира.
— Но существует ли в самом деле этот секрет? Или же вы считаете меня низкой душой, недостойной его узнать?
— Я считаю вас необычайным молодым человеком, я вам уже говорил, Ян. Мое скромное знание в вашем распоряжении. Но я без всякого притворства считаю его скромным. Думаю, я знаю, что искал Исаак Ньютон, и я вам это уже сказал. Но не знаю, что он нашел. По моему мнению, эликсир вечной жизни — это некая бессмертная субстанция, благодаря которой, например, мертвый пепел способен породить живой цветок.
— Вы видели в его руках что-нибудь подобное?
— Знаю только, что видел однажды в атаноре, который вы купили, какую-то удивительную красную жидкость, пламеневшую в стеклянном сосуде. «Красная ртуть», — сказал мне Ньютон. Но я весьма сомневаюсь, что такое можно пить. Ртуть — это яд.
Карета замедлила ход и вдруг остановилась. Они прибыли на почтовую станцию в Сен-Кантене. Пассажиры вышли выпить горячего вина и подсчитали, что встретят Рождество в Амстердаме. Бриджмен, войдя в гостиницу при станции, подумал, что говорил о духах, банках и о любви — о трех неуловимых силах мира сего, и это заставило его улыбнуться. Но Ян Хендрикс, по крайней мере тот, кто назывался тогда Яном Хендрик-сом, не заметил этого.
Мелкий пушистый снежок шаловливо порхал в воз-Духе.
— Мне вспомнилось, — сказал Бриджмен за ужином, — что голландцы не слишком жалуют французов, после того как Людовик Четырнадцатый напал на их страну. Идея назваться де Бове, как вы предполагали, не кажется мне удачной. Фамилия же Хендрикс здесь довольно распространена. Поскольку недоразумения нам ни к чему, какое имя вы себе выберете?
— А какие у них отношения с англичанами?
— Коммерческие.
— Тогда вернемся к Филиппу Уэстбруку, идет?
Бриджмен кивнул. В конце концов, его компаньон сам был сродни духам, которых вызывал Ньютон: можно быть уверенным только в том, что они существуют, но кто они на самом деле, окутывалось все более плотным покровом тайны. Хотя он-то, Соломон Бриджмен, точно знал имя того, кто был некогда Исмаэлем Мейанотте. Но все же он подумал: уж не послал ли ему этого малого сам Ньютон, чтобы тот продолжил начатое им дело?
Они прибыли в Амстердам 23 декабря в первый час пополудни. Когда компаньоны ступили на землю перед гостиницей, которую кто-то порекомендовал Бриджмену, хрустальный и напоенный запахами воздух залива Зёйдер-Зе вдруг наполнился звуками небесного хора. Момент достиг наивысшей точки.
На самом деле это репетировал церковный хор ближайшей к ним церкви Ньювекерк, готовясь к завтрашней вечерней службе.
Филипп Уэстбрук, застыв в неподвижности, послушал его мгновение, потом сказал Бриджмену:
— Человек, написавший эту музыку, тоже знал секреты вселенской гармонии.
16. НЕУЖЕЛИ ТЫ МОЖЕШЬ СМИРИТЬСЯ СО СМЕРТЬЮ?
Весной 1729 года графиня фон Ротенбург писала письмо своей сестре госпоже фон Камкен, фрейлине королевы Софии-Доротеи, супруги Фридриха Вильгельма, короля Пруссии. Послание, где говорилось о делах семейных, завершали следующие строки:
«…Я бы не смогла поставить точку, не рассказав о самом неожиданном и очаровательном вечере из тех, что мы провели в Нойенкирхене. Франц-Георг с несколькими друзьями поехал поохотиться близ старого замка, когда увидел там группу из трех всадников, которые осматривали руины Ротенбурга. Удивленный их интересом к этим местам, Франц-Георг завязал с ними беседу и выяснил, что трио на самом деле состояло из французского аристократа и двух его слуг, нанятых в Бреме. Он осведомился о причинах интереса, который этот иностранец питал к его родовому гнезду. Француз ответил, что желает ознакомиться с местом, где, согласно местной легенде, покоится Фридрих Барбаросса.
Мой муж был приятно удивлен, что какому-то французу известна эта легенда, и беседа стала достаточно дружеской, чтобы Франц-Георг предложил незнакомцу поохотиться вместе с ним, на что тот охотно согласился. К тому же иностранец оказался превосходным стрелком, и Франц-Георг, довольный их встречей, пригласил француза остановиться в нашем замке вместо гостиницы в Нойенкирхене, которая, как ты знаешь, довольно непритязательна. Тот отправил своих слуг в гостиницу за вещами, и они втроем расположились в покоях, которые раньше занимал твой сын.
Ах, дорогая Лотта, не могу описать тебе свое удивление! Этот француз, которого зовут маркиз де Сен-Фарго и которому никак не больше двадцати лет, прекрасен, как Адонис, любезен, как принц, и явно очень богат. За ужином поверх его жабо красовался на цепочке сапфир, при взгляде на который можно лишиться чувств. Впечатление такое, будто внутри его заключена звезда. Размером с небольшую сливу, представь себе его стоимость! Одного такого камня хватило бы, чтобы купить замок вместе со всеми землями.
К нашему счастью, маркиз де Сен-Фарго бегло говорил по-немецки, и беседа текла совершенно непринужденно. Не могу описать тебе восхищение моих дочерей Гвинферы и Мельсенды, которые тут же в него обе влюбились. Маркиз также весьма образован: когда Франц-Георг рассказал анекдот об их встрече, он, ко всеобщему изумлению, заявил, что, по его мнению, внутри горы покоится не Фридрих Барбаросса, но скорее Фридрих П. Франц-Георг даже рот раскрыл от восхищения, ты ведь его знаешь.
Тут мы стали просить маркиза остаться еще на несколько дней, пока не устроим бал, чтобы познакомить его со здешним обществом. Франц-Георг нанял маленький оркестр, и мы пригласили дюжину человек из наших друзей. Маркиз предварительно переговорил с оркестром и, за отсутствием партитуры, напел несколько мелодий, которые хотел услышать. Музыканты были восхищены его познаниями в их искусстве и веселились не меньше нас.
Вот так, дорогая Лотта, мы танцевали гавот, менуэт, своего рода польку и уж не знаю что еще. Маркиз танцует изумительно, и не было дамы, которую бы он не пригласил, даже старую графиню фон Археншлотц, которая была этим сильно растрогана. Неужели все французы так очаровательны? Скажи мне, ты ведь их видишь в Берлине. Я полагаю также, что Франц-Георг немного ревновал, это ему напомнило молодость, что ж, тем лучше. Наши гости поклялись, что это самый прелестный вечер за долгие годы, и единственная неприятность состоит в том, что мои дочери просто опьянены любовью, но маркиз де Сен-Фарго уехал. Он сказал, что в Россию, потом в Индию, через Персию. Персия, Индия, только представь себе! Я все еще не могу опомниться…»
Маркиз де Сен-Фарго в самом деле отправился в Индию, но одиннадцать недель спустя. Его дела процветали. Он продал в Амстердаме четырнадцать из шестнадцати ограненных Шаленшоном изумрудов, один подарил Бриджмену и последний оставил себе. Средства от продажи были помещены в Амстердамский банк вместе с остатком эскудо и райсов. Голландцы не задавали нескромных вопросов. Они с Бриджменом вернулись в Лондон в начале февраля.
Прибыль банка Бриджмена и Хендрикса превзошла все ожидания англичанина. Вложения, сделанные при посредстве Амстердамского банка, были не менее удачны.
— Вы один из богатейших людей королевства, — объявил Бриджмен своему компаньону.
— Этим я обязан вам, Соломон.
— Я вознагражден за свои усилия, поскольку банк, который я бы никогда не подумал открыть в одиночку, обогатил и меня. Но у вас по-прежнему нет своего очага, Ян. — Бриджмен продолжал называть молодого человека этим именем. — Не хотите ли купить дом, земли или что там еще, пустить корни?..
— Быть может, когда-нибудь я об этом подумаю, но не сейчас, — ответил тот, стоя перед пылающим камином. — Видите ли, у меня всегда было чувство, что эти материальные блага обременяют человека. За покупкой дома неизбежно последуют предложения брака, а я, как вы сами когда-то заметили, не смогу уклоняться от этого до бесконечности. К тому же, если я пущу корни, как вы мне того желаете, понадобится объяснять как происхождение моего состояния, так и отсутствие у меня родственников. Это невозможно, как вы знаете. К тому же евреев повсюду считают вечными скитальцами, и вся святая вода в церквях ничего тут не изменит. Стоит всплыть малейшей крупице правды, как это вызовет бесконечные вынюхивания и рой сплетен. Все домогавшиеся брака в ужасе разбегутся. А от этого пострадает и банк, и ваша репутация.
Бриджмен печально кивнул. Все, что говорил молодой человек, было правдой. Из-за безысходности ситуации он вдруг испытал приступ такого уныния, словно Ян открыл ему, что неизлечимо болен. В течение двадцати месяцев, пока молодой человек был при нем, Соломон отдал ему то, что посвятил бы своему утраченному сыну. И даже больше, поскольку природные дарования Яна, его жизнь, хоть и юная, но уже необычайная, его острый ум, таящийся под оболочкой ангельской наивности, внушали Бриджмену чувство по меньшей мере столь же странное, как и сам юноша: будто он зачал этого мальчика с самой госпожой Удачей, как-то вечерком, когда та была в великодушном настроении.
Но Соломон сознавал также, что его творение обречено остаться незавершенным: он не мог ввести Яна в английское общество.
Впрочем, Ян и сам почувствовал, как его слова подействовали на друга.
— Вы не должны огорчаться из-за этого, Соломон. Став хорошим мужем, я покорился бы судьбе. В конце концов моя участь стала бы внушать вам жалость. Впрочем, у меня предчувствие, что я едва начал свое путешествие.
— Ваше путешествие?
— А разве жизнь — не путешествие? — ответил Ян с загадочной улыбкой. — Я намерен искать ответ на вопросы, которые задавал себе ваш друг Исаак Ньютон.
Ошеломленный Бриджмен бросил на своего собеседника вопросительный взгляд. Чтобы придать себе мужества, налил портвейна и стал потягивать его.
— Эликсир вечной молодости? — спросил он многозначительно. — Или философский камень?
— И то и другое. Не знаю, существуют ли они на самом деле, но отныне я не могу поступить иначе, кроме как заняться их поисками. Вечная жизнь может быть только вечной молодостью, а иначе… плачевно было бы веками влачить отнявшиеся члены. Что касается философского камня, то сами подумайте, какую необыкновенную власть он мог бы дать.
— И как вы распорядитесь этой властью?
— Наилучшим образом, Соломон, — ответил Ян, рассмеявшись.
Он сел рядом со своим компаньоном и тоже налил себе портвейна.
— Я употреблю ее для поддержки людей, которые этого достойны, и придам больше блеска добродетелям, которым вы меня обучили.
— Я обучил вас добродетелям? — переспросил Бриджмен недоверчиво.
— Великодушию, благородству и широте взглядов.
— Покорнейше благодарю, — воскликнул Бриджмен, смеясь. — Выходит, ученик чествует учителя!
Оба засмеялись. Потом Бриджмен велел подавать ужин, пытаясь казаться веселым, хотя уже предвидел длинную череду одиноких вечеров.
Ян Хендрикс объявил, но в довольно туманных выражениях, о своем намерении отправиться на Восток, на поиски древней мудрости.
— Я буду вам писать, — пообещал он Бриджмену.
Оставалось уладить материальные вопросы. По возвращении в Лондон Ян Хендрикс, то есть маркиз де Сен-Фарго, прежний Филипп Уэстбрук и Джон Таллис, а также Винсент Дрейк и, еще раньше, Висентино де ла Феи, заказал себе печать, которая по договоренности с собственным и другими банками предназначалась исключительно для удостоверения выписанных им векселей. Он велел вырезать на ней инициалы I. и М. по обе стороны трех языков пламени, откуда вылетал феникс. Тем не менее после взволнованного прощания со своим благодетелем он взял с собой достаточно золота на путь до Мономотапы и обратно, дабы избежать надобности подписывать векселя. И чем дольше он будет отсутствовать, тем большую прибыль принесут его деньги.
Он также получил от добрейшего доктора Джеремайи Хатчинса, врача Бриджмена, рецепт некоего душистого порошка, способного отгонять блох и клопов, поскольку, пожив в парижской гостинице, сохранил самые кошмарные воспоминания об этой кусачей мерзости. Теперь достаточно было слегка присыпать постель, чтобы обеспечить себе спокойную ночь. А поскольку средство еще и отдавало цедрой, розой и камфарой, то ничуть не оскорбляло обоняние.
Наконец, за кругленькую сумму в тридцать фунтов стерлингов Ян приобрел в фирме «Томас Темпион и сыновья» часы, внимательно выслушав советы часовщика, самого господина Темпиона: не встряхивать, хранить в специальном футляре, дабы уберечь от сильного холода или жары, способных повредить хрупкий механизм, ни в коем случае не открывать во влажном воздухе, избегать попадания воды и заводить каждый день, строго в одно и то же время. По крайней мере раз в год часы надлежало доверять опытному часовщику, чтобы прочистить и заново смазать, восстановить гармонию между колесиками и устранить любую причину замедления или ускорения хода. Вещь и в самом деле великолепная, в серебряном корпусе, уже украшенном гравировкой, где недоставало лишь монограммы владельца.
Ян сел на корабль, отплывавший на континент, и высадился в Роттердаме. Так он и приобрел чарующие нойенкирхенские воспоминания.
Одиннадцать недель, прошедших после его пребывания у Ротенбургов, были использованы, чтобы добраться через множество немецких государств до Австрийской империи и посетить различные исторические места. Всегда элегантный, удивлявший исключительной роскошью, сопровождаемый все теми же слугами, маркиз де Сен-Фарго, разумеется, завязал немало дружеских знакомств, отдавая предпочтение особам могущественным или титулованным.
Так, в Праге он не пренебрег вниманием, которое засвидетельствовал ему молодой граф Роберт фон Чернин. Они встретились в Императорской академии фехтования, расположенной рядом с Тинским кафедральным собором. Поскольку маркиз, по его собственным словам, решил приобщиться к тонкостям искусства этой знаменитой школы, его взял под свое крыло сам первый профессор, очарованный любезной самоуверенностью и обаянием француза. Граф Роберт удивился твердости руки чужестранца, и оба молодых человека решили помериться мастерством. Прочие ученики, все из аристократических семейств, прервали свои упражнения, чтобы наблюдать поединок. В итоге Сен-Фарго дважды задел своего противника. Грянули аплодисменты, профессор поздравил его, а граф Роберт, восхищенный, несмотря на свое поражение, пригласил победителя отужинать в его дворце.
Там француз опять восхитил всех своей непринужденностью (не считая алмазных пуговиц на жилете и уже известного сапфира).
— Я узнал от моего сына, что вы собираетесь в Индию. Чем же так привлекает вас эта страна? — спросил за столом старый граф Франц, отец Роберта.
— Я изучаю философию, граф. А многие умнейшие люди полагают, что индусы в этой области непревзойденные учителя.
— Философия? — удивился граф Франц. — Мой сын уверяет меня, что вы блистаете в физических упражнениях.
— Физические упражнения, граф, это также способ развивать свой ум. Неустанно следить за малейшим движением противника, оценивать его силу и в долю секунды решить, как отразить удар, — для меня это значит проникнуть в самую суть предмета и избежать ошибки.
Гости засмеялись.
— Отлично сказано! — воскликнул один из них, старый офицер, хоть и парализованный немного, но еще вполне проворный поднимать бокал.
Дамы и благородные девицы пожирали глазами маркиза де Сен-Фарго.
— Но неужели вам недостаточно нашей христианской мудрости, если вы собираетесь искать какую-то другую в Индии? — продолжил хозяин дома.
— Граф, наша христианская мудрость сравнима с великолепным драгоценным камнем, который обрамляют более мелкими, чтобы еще больше подчеркнуть его красоту.
— У этого юноши ум так же быстр, как и рука, — заключил с улыбкой старый святоша, поначалу отнесшийся к французу довольно сдержанно.
После молитвы, предшествующей трапезе, граф Роберт предложил тост за маркиза де Сен-Фарго, и все с воодушевлением подняли свои бокалы. Прежде чем распрощаться, старый граф Франц даже пригласил маркиза погостить в замке до его отъезда в Вену, предусмотренного на понедельник. Графиня же объявила своему гостю:
— Если вы останетесь в Праге, маркиз, я не сомневаюсь, что город сделает вас своим почетным гражданином. Вы столь же мудры, как и приятны.
Сен-Фарго поклонился и взял протянутую ему для поцелуя руку. Но тут графиня вскрикнула и ошеломленно уставилась сперва на свои пальцы, потом на молодого человека.
— Что это? — пролепетала она. — У меня впечатление, будто я коснулась раскаленной кочерги.
Прежде он тщательно избегал прикасаться к кому бы то ни было, а тут забылся.
— Простите, — сказал маркиз, — такое случается иногда, когда дотрагиваешься до шелка.
И он откланялся с загадочной улыбкой.
Отныне граф Роберт фон Чернин, проникшись убеждением, что повстречал исключительное существо, расставался с Филиппом (поскольку таково было теперь его новое имя) де Сен-Фарго только на ночь. Они стали обращаться друг к другу по имени на следующее же утро и за завтраком перешли на «ты».
Тут Сен-Фарго поджидала ловушка, и только присутствие духа помогло ему выпутаться из нее.
— Почему ты не носишь шпагу? — вдруг спросил его Чернин.
Маркиз почувствовал опасность: у него не только не было шпаги, но и сама мысль носить ее никогда не приходила ему в голову. Вот так промах! Надеясь, что Чернин не заметил кинжала, спрятанного под жилетом, за поясом, он с самым непринужденным видом заявил, что не знал, допускают ли австрийцы ношение оружия иностранными дворянами.
— Ну конечно!
— Тогда досадно, что я оставил свою во Франции. Теперь она мне понадобится. Что будем делать?
— Я отведу тебя к нашему оружейнику, — предложил Роберт. — Но должен предупредить, шпага — вещь дорогая.
— Там видно будет, — ответил Сен-Фарго небрежно.
Но у него уже появилась одна мысль. Он тайком достал из своей сумки крупный бриллиант. В оружейной мастерской, когда они стали обсуждать с присутствовавшим там золотых дел мастером, как украсить эфес, Филипп достал камень и попросил вставить в навершие рукояти.
Алмаз поразил и оружейника, и золотых дел мастера, и Чернина.
— Господин граф… — начал ювелир.
— Маркиз, — поправил его Сен-Фарго.
— Господин маркиз, это исключительный камень… Но… неужели у вас нет для него другого употребления?..
— Может ли быть для него более благородное употребление, милейший, чем увенчать собой орудие чести? — возразил Сен-Фарго надменно. — Что же до камней, то у меня найдутся и другие. Ну что ж, дело решено. Я собираюсь отбыть из Праги через неделю, так что шпага должна быть готова до моего отъезда.
Изумленный оружейник согласился со сроком, и оба молодых человека покинули мастерскую. Чернин был смущен богатством своего спутника и той непринужденностью, с которой Филипп распоряжался своими сокровищами. Сен-Фарго заметил это и не сомневался, что эпизод вскоре будет известен всему городу.
Так он учился широким жестам, прекрасно сознавая, что подобные сумасбродства — любимое лакомство аристократии.
На следующий день Роберт предложил проехаться верхом через лес до одного из хозяйств, принадлежавших его семье. Как только молодые люди оказались вне города, Чернин сразу же попытался обогнать своего спутника под тем предлогом, будто показывает ему дорогу. Но Сен-Фарго догадался о намерении молодого графа доказать, что он лучший наездник, поэтому при появлении первой же изгороди пришпорил своего коня, мигом обогнал Чернина, перемахнул через препятствие и остановился, поджидая своего спутника. Роберт догнал француза, хохоча, и хлопнул по спине.
— А ты малый не промах! Обскакал меня! Каков удалец!
Немного позже он заявил:
— О таком товарище я всегда мечтал. Я бы последовал за тобой хоть в Индию, но не думаю, что мой отец посмотрит на это одобрительно. Слушай, как же твоя жена отпустила тебя на такой долгий срок?
— Я не женат.
— Еще нет? Наверняка затрудняешься с выбором, — сказал Чернин, улыбаясь.
— Ничуть.
Лицо молодого графа сделалось серьезным.
— В таком случае неразделенная страсть?
— Честно говоря, нет, — ответил Сен-Фарго. — Единственная страсть, которую я знаю и считаю достойной себя, — это свободная и духовно возвышенная жизнь. И я хочу посвятить ее совершенствованию тех, кто может стать таким же.
Роберт Чернин казался сбитым с толку.
— Но любовь, семья, неужели тебе этого мало?
— Любовь — это ловушка, которую природа расставила нам, чтобы принудить к продолжению рода.
Когда они добрались до места, Роберт фон Чернин выглядел еще более озадаченным. Спешившись, он спросил с некоторой досадой:
— Но тогда выходит, что ты считаешь мою жизнь, жизнь женатого человека, служащего своей семье, своему роду, своей стране, лишенной смысла?
— Вовсе нет, дорогой Роберт. Ты спросил меня о моем будущем, и я сказал тебе, каким оно мне видится. Я был бы тираном, навязывая его тебе или не уважая твой выбор. Человеческая природа так же разнообразна, как и Божье творение: есть великолепные животные, кони например, знающие только землю, но есть и другие, ничуть не менее восхитительные, ласточки или орлы, которые касаются земли, только чтобы передохнуть.
Они прошли на двор. Прибежал хозяин дома, приветствуя их многочисленными поклонами и комплиментами. Предложив им перекусить, велел подать свежего молока, ветчины, огурцов, черного хлеба, уже один только запах которого казался восхитительным, «пьяные» сливы, бутылку душистого, чуть терпкого вина… Последовали и другие проявления гостеприимства вместе с пожеланиями благополучия графу и его семье.
Потом Роберт и Филипп возобновили свою беседу, воздав должное закуске. Сен-Фарго раздирался между затруднением и даже раздражением, которое вызывали у него собственные потуги казаться правдоподобным, и симпатией, которую он испытывал к своему спутнику. Но он решил поскорее свернуть с этой темы: сколь мало он ни сказал, граф уже явно был обеспокоен.
— Быть может, — сказал Филипп, чтобы смягчить тревогу Роберта Чернина, — я поддамся чарам какой-нибудь индусской красавицы и она будет потчевать меня по пробуждении медом своих губ вместе с пчелиным.
Чернин расхохотался.
Сен-Фарго же решил про себя усовершенствовать свою социальную маску и больше не уступать порывам симпатии. А также воздерживаться от философских разглагольствований.
— Вот домашний тиран и выдал себя! — продолжал смеяться Роберт фон Чернин.
— А быть может, я найду там секрет вечной молодости, — добавил Сен-Фарго с притворной напыщенностью.
— Вечной молодости? Так ты это ищешь?
— Конечно. А ты, неужели ты можешь смириться со смертью?
От этого неожиданного вопроса лицо Роберта Чернина словно осунулось. Молодой, красивый, полный жизни, он, очевидно, никогда не думал о смерти. А значит, она и не существовала.
17. КАРЛОВИЦКИЕ СЮРПРИЗЫ
В Вене, рассчитав обоих своих слуг, маркиз Филипп де Сен-Фарго исчез, уступив место графу Готлибу фон Ренненкампфу, уроженцу Ливонии.
Ему требовалась передышка. Он избегал академий фехтования и верховой езды, где мог лишь повторить свой пражский опыт, приятный, но бесполезный. На первый взгляд люди из высшего общества пользовались широчайшей свободой, но в действительности как в Праге, так и в Лондоне и, без сомнения, во всех остальных местах они жили в окружении незримых крепостных стен. И разглядывали чужестранца из-за зубцов и бойниц — со сдержанной, но от этого не менее пристальной нескромностью. Заверения в дружбе и привязанности тут были всего лишь кличем завоевателей. К подобным победам он испытывал безразличие.
К тому же постоянное общение с этими людьми ничему бы его не научило, и он в конце концов приобрел бы их дурные светские манеры. Они говорили только о делах того или иного двора, о войне, о лошадях, об охоте, собаках и браках. Те же заботы, что и у людей их класса в Лиме или Мексике. И, без сомнения, то же бессердечие.
Смотрели ли они еще на звезды? Или на цветы?
Он подумал о друге Бриджмена, об этом Ньютоне, который установил причину, по которой звезды не падают на Землю, а Земля на них.
И написал Бриджмену письмо:
«Дражайший Соломон!
Вдали от Лондона мне стало ясно, что с вами я за один день узнавал больше, чем со всей знатью Европы за неделю. У меня впечатление, что я попал в логово болтливых волков. Они приветливы со мной лишь потому, что принимают меня за своего. Как можно, чтобы голова была так пуста и при этом так переполнена "шумом и яростью", как вы говорите, цитируя вашего Шекспира.
Путешествие пока шло хорошо, по крайней мере если забыть о дорогах Европы, которые ужасны, и о каретах, которые вызывают дурноту. Мы уже три раза теряли колесо и чуть не оказались в канаве. Порошки доброго доктора Джеремайи успешно отгоняли клопов, а мои книги — скуку.
Я по-прежнему намереваюсь отправиться к туркам, поскольку это единственное средство добраться до Индии. Буду писать вам всякий раз, как представится надежный случай доставить письмо.
Адресую вам мои самые теплые воспоминания.
В Вене, 18 мая в год Господень 1729.
Готлиб фон Ренненкампф
P. S. Как видите, теперь я ливонец».
Он заплатил большую серебряную монету, чтобы послание было доставлено по назначению почтовой каретой фирмы «Турн унд Таксис»; поскольку требовалось пересечь Ла-Манш, это стоило дороже.
Граф фон Ренненкампф провел неделю в гостинице близ собора Святого Стефана, ожидая, пока прояснится в голове. В сумерках, в сопровождении нового слуги, крепкого парня по имени Альбрехт, он пешком спускался к Дунаю и ужинал в таверне колбасой с картошкой или же заказывал рагу в вине, которое, похоже, было тут непременным блюдом.
Жизнь в Австрийской империи была спокойной: отбившись меньше века назад от турок, да и от европейцев, ничуть не менее хищных, чем считались османы, подданные Карла VI вновь обрели вкус к свободе.
К свободе, то есть к отсутствию страдания, причиненного рабством и необходимостью подчиняться чужим вкусам — даже если это просто навязанная компания и беседа.
К вечеру, особенно в конце недели, старые и молодые австрийцы устраивали гулянья: танцевали и пели хором под оркестрики из трех-четырех музыкантов; мелодии были заразительные, чаще всего веселые, порой грустные, напоминающие мечтательное покачивание. Готлиб фон Ренненкампф не раз давал монету, чтобы ему повторили понравившийся отрывок. Погода становилась все теплее, увеселения вызывали жажду, так что люди пили чуть отдававшее дымком вино токай.
С разрешения своего хозяина Альбрехт танцевал, а в конце концов и сам граф уступил, особо не церемонясь, приглашению какой-то молодой прачки.
Новый слуга отличался одним несомненным достоинством — говорил, только когда хозяин обращался к нему, и, поскольку обладал житейским складом ума, никогда не изрекал глупостей и чаще всего воздерживался от пустых рассуждений, придающих людям вид педантов или дураков.
— Куда собираемся, хозяин? — спросил он как-то вечером.
— К туркам.
— Я так и думал, хозяин. Тогда, наверное, лучше бы не болтать об этом, пока не окажемся у них. Здешние считают турок прямо чертями из пекла. Я слыхал от местных старожилов, что турки за любой пустяк человека на кол сажают. Кол входит через естественное отверстие, а выходит через неестественное. Прямо через темечко, говорят.
Альбрехт ожидал увидеть на лице графа фон Реннен-кампфа реакцию на эти ужасы, но просчитался. Готлиб давно заметил, что Альбрехт поладил с первой служанкой гостиницы, миловидной вдовой, чей муж погиб как раз в бесчисленных войнах с турками; видимо, от нее и исходили сведения.
— Речь идет о войне, Альбрехт, — ответил он. — В некоторых обстоятельствах христиане поступали не лучше. А мы воевать с турками не собираемся. Так что я не опасаюсь. Ни тебя, ни меня не ждет участь, которую ты описываешь.
— Очень хорошо, хозяин. В таком случае могу я предложить, чтобы мы спустились к Черному морю на корабле? Как я понял, по суше через австрийские земли к туркам добираться неудобно, лучше по Дунаю.
Готлиб обдумал предложение: оно было заманчиво еще и тем, что избавляло от дорожной тряски, пыли и ночевок в сомнительных гостиницах, кишевших клопами и мышами, не говоря о прочем. Альбрехт опередил вопрос своего хозяина:
— Тут есть довольно вместительные посудины, с одной или двумя каютами, а то и больше. В них и спать можно, по крайней мере коротать там ночь. Мы могли бы прямо завтра выбрать себе что-нибудь такое во Фрейденау.
На следующее утро они наняли двух лошадей и отправились во Фрейденау, одну из трех городских гаваней. Сначала осмотрели суда. В большинстве своем это были тяжелые барки с мелкой осадкой и незатейливыми парусами, больше похожие на баржи. Делали их с расчетом скорее на силу течения, чем ветра. Паруса же служили главным образом для подъема вверх по реке. Почти у всех на корме имелись закрытые надстройки, наверняка то, что Альбрехт принимал за каюты. После разговора с десятником, руководившим погрузкой и разгрузкой, зычно выкрикивая приказы, их выбор пал на посудину, окрещенную «Dufte Madchen von Vasvar», то есть «Нежная дева Вашвара». Готлиб договорился о цене с капитаном — дюжим молодцом с саблевидными усами и бледным, водянистым взглядом. Он отплывал завтра утром.
— Через четыре дня будете в Карловице, — пообещал капитан.
— А после Карловица? — неосторожно спросил Альбрехт.
Заинтригованный капитан смерил его вызывающим взглядом.
— Что вы собираетесь делать за Карловицем? Грехи искупить спешите?
Готлиб расхохотался, сообразив, что дальше этого города Дунаем владели уже турки. И пригласил капитана выпить по стаканчику в ближайшем трактире, где капитан угостил его сливовой водкой. После второй стопки этого напитка, способного вышибить мозги, они стали гораздо раскованнее. Капитана звали Ласло из Темешвара, он был мадьяр по отцу и серб по матери. Заметив, что служанка трактира проявляет к Готлибу явное расположение, он заявил своему будущему пассажиру, блестя глазами от зависти:
— Уверен, граф, что девицы на вас виснут.
— Капитан, охотник не стреляет дичь на птичьем дворе.
Темешварец и Альбрехт расхохотались, а граф Готлиб был поощрен крепким хлопком по спине.
Никакой другой способ передвижения, решил граф Готлиб, не сравнится с путешествием по реке, да еще такой, как Дунай в хорошее время года. Вместо бортовой и килевой качки морских кораблей, взамен дорожной тряски в карете, теряющей колесо в первой же рытвине, — плавное покачивание, легкий ветерок и приятные пейзажи.
Готлиб нашел также время пофилософствовать, если не помечтать. Главный предмет его размышлений был прост: людские игрушки ему неинтересны. Богатство себе он уже добыл. Власть казалась ему вещью ненадежной: завладев ею, требуется не меньше усилий, чтобы ее удержать. Любовь, сводившаяся в действительности к плотским утехам, казалась ему протухшим мясом, отравляющим тех, кто его вкушает. Люди внешне здравомыслящие расточали безумные суммы, лишь бы щегольнуть рядом с созданиями, которые потом разорят их еще больше. Неужели все это только ради того, чтобы плодить детей? Сам он пока не испытывал никакого желания размножаться.
Готлиб не знал точную дату своего рождения, но предполагал, что приближается к девятнадцати годам. «Старею», — подумал он с удивлением.
Он стремился к чему-то другому. К чему именно? Он догадывался об этом, хотя и смутно. Ему хотелось продолжить изыскания выдающегося человека, к которому Бриджмен испытывал безграничное восхищение, — Ньютона.
Но напрасно Готлиб читал и перечитывал труды ученого, он не нашел в них никаких секретов, даже упоминания о них. Ни слова о способе делать золото. Он там обнаружил только страстное желание проникнуть в тайны Вселенной. С какой целью?
Готлиб не знал.
Ньютон наверняка не был единственным на свете, кто исследовал эти вопросы; без сомнения, были и другие, как ему подсказал Бриджмен. Быть может, на Востоке. Да, на Востоке.
Как-то утром Альбрехт заметил своему хозяину, что заканчивается четвертый день путешествия. И в самом деле час спустя капитан из Темешвара объявил, что они подплывают к Карловичу.
— Ваша милость, — сказал он, — во имя уважения и дружбы, которые я питаю к вам, прошу вас не следовать дальше. Не Знаю, что влечет вас к басурманам, но тревожусь, что такой любезный дворянин, как вы, сам лезет на рожон к этим дикарям.
— Не бойтесь, — ответил граф Готлиб с улыбкой. — Я услышал ваши советы и благодарю за них.
Он и Альбрехт распрощались с мадьяром и сошли на берег вместе со своим багажом.
— Подождем в гостинице, пока капитан не отплывет обратно, — сказал Готлиб. — Не хочу, чтобы он распускал слухи о европейце, который рискнул сунуться к туркам.
Гостиница была построена на склоне и возвышалась над гаванью. Здание опоясывали аркады с расставленными там столами и скамьями, часть из которых достигала даже проезжей части; оттуда путешественники вполне могли следить за разгрузкой «Нежной девы Вашвара». Доверив свой багаж попечению трактирщика, они выбрали отдаленный стол под аркадами и заказали кофе; им его подали в медном длинноносом кувшинчике, на подносе с чашками голубого фарфора, какими-то медовыми сластями, фисташками и ликером из роз.
Странный люд сновал по набережным и их окрестностям вперемешку с местными жителями — очевидно, турки. Их можно было узнать по одежде: широкие шаровары, простая рубашка и безрукавка ярких цветов; почти у всех на головах тюрбаны. Несколько более важных особ кутались в длинные плащи, несмотря на теплую погоду.
— И на каком языке мы будем говорить с этими людьми? — недоумевал Альбрехт, державшийся начеку.
Несмотря на заметную враждебность австрийцев к туркам, Карловиц явно служил центром коммерческого обмена между ними и Западом. Но что у них покупали и что им продавали?
Какой-то величественного вида турок в темно-фиолетовом плаще с золотой отделкой и в белом узорчатом тюрбане остановился у одного из наружных столов. Когда он подбоченился, Готлиб заметил кривую саблю с блестящей рукоятью. Вельможу окружали три человека, все явно у него в подчинении; один из них был негр в тюрбане голубого шелка. Негр положил на облюбованное его хозяином место большую подушку, и тот уселся. Трактирные слуги засуетились. Человек оглядел дуги аркады и остановил свой взор на Готлибе и его спутнике. Кустистые брови придавали светлым глазам турка, то ли серым, то ли голубым, довольно свирепое выражение, которое подчеркивали рыжеватые усы, загнутые кверху в виде клыков. На самом деле турок был белокурым, и это удивило Готлиба.
Трое других тоже посмотрели на европейцев и сели. Вскоре им подали кофе и сласти. Готлиб и Альбрехт продолжили наблюдать издали за «Нежной девой Вашвара», готовившейся к отплытию. Слуга заметил своему хозяину, что утро уже на исходе и что благоразумнее было бы, конечно, провести ночь в Карловице, чтобы без спешки разузнать о дальнейшем пути. Тут внимание Готлиба привлекло кое-что подозрительное: слева, шагах в двадцати от него, каких-то два человека, видимые только ему, прятались за колонной аркады со стороны пустынной в этот момент улицы. Один из них прижимал обеими руками к животу круглый, напоминающий тыкву предмет, а другой пытался поджечь торчавший из «тыквы» фитиль.
Готлиб похолодел. Хоть он никогда раньше и не видел ручных гранат, но сообразил, чем был этот снаряд и кому предназначался: тем самым четырем туркам, сидевшим перед ним. Фитиль загорелся, и заговорщики исчезли, решив, видимо, метнуть гранату со стороны мостовой. Готлиб пронзительно крикнул, бросился вперед, схватил за руки вельможу и сидящего рядом слугу и, несмотря на их ошеломление, если не возмущение, оттащил в укрытие под стены аркады. Альбрехт, тоже смекнувший, что происходит, хоть и долей секунды позже, проделал то же самое с остальными двумя.
Те было сердито заголосили, но быстро поняли по выражению лиц Готлиба и Альбрехта, что им угрожает какая-то опасность.
Они вшестером прижались к колоннам, когда раздался глухой взрыв. Во все стороны полетели обломки столов, скамей, осколки камней и штукатурки. Вдребезги разбился и стеклянный шар, подвешенный под сводом аркады.
Если бы Готлиб с Альбрехтом не затащили турок за колонны, тех наверняка разнесло бы на куски.
Со всех сторон закричали. Светловолосый турок схватил Готлиба за руку и ошалело уставился на него: он только что понял, что молодой человек спас ему жизнь.
Послышались и другие крики — это негр с товарищами бросились в погоню за заговорщиками. Альбрехт побежал вместе с ними. Преследователи сыпали проклятьями на непонятном Готлибу языке. Вскоре беглецы были схвачены и доставлены в кафе.
Турецкий вельможа взялся за рукоять своей сабли, и Готлиб испугался, что станет свидетелем публичной казни.
Но охрана порта была уже предупреждена, и пленниками, которых негр с товарищами успели изрядно помять, завладели таможенники. Собралась толпа зевак, глазеющих на следы взрыва. Среди них оказался и встревоженный капитан из Темешвара: он ведь помнил, что его пассажир направился именно в это кафе. Но, увидев, как графа Готлиба прижимает к своему сердцу какой-то турок, он остановился и удивленно нахмурился. Потом бросил долгий многозначительный взгляд на молодого человека, повернулся и ушел.
Немалая часть населения Карловица собралась вокруг кафе. Такое ужасное столпотворение становилось даже опасным, поскольку если кто-то еще питал недобрые намерения в отношении османского вельможи, то осуществить их теперь было даже легче, чем недавно.
К четырем уцелевшим туркам присоединилось еще полдюжины; они явно принадлежали к свите самого важного из них, белокурого, которого все называли пашой.
— Идемте, — сказал белокурый турок Готлибу, сопроводив свое приглашение движением головы. — Вы говорите по-французски?
Пораженный Готлиб кивнул.
— Я никогда не смогу в полной мере отблагодарить вас! — воскликнул турок с горячностью.
— Куда вы направляетесь?
— На мой каик, — ответил турок, показав на пришвартованное у причала судно, выделявшееся среди прочих изукрашенной носовой частью с двумя надписями, на турецком и французском: «Ангельский бриз».
Тут к ним подошел офицер в сопровождении четырех человек в мундирах. Сняв шляпу и церемонно поклонившись, он объявил турку по-немецки:
— Паша, мы задержали тех, кто покушался на вас.
— Вы хотите сказать, что мои люди передали их вам? — высокомерно уточнил турок на каркающем немецком.
— Так точно, — согласился офицер невозмутимо. — Похоже, это босняки. Мы допросим их. Надо выяснить, каковы были их намерения.
— Наверняка самые благожелательные. Если бы не вмешательство этого дворянина, вы обращались бы сейчас вон к той яме, — язвительно сказал турок, показав на воронку от взрыва. — Вздерните их побыстрей и повыше, когда убедитесь в этом. А я пока ухожу. И прошу вас получше следить за общественным порядком в Карловице.
Свита проложила дорогу в толпе, и они спустились к набережной.
— Я — Ахмет Байрак-паша, правитель Ниша, — представился турок.
— А я — граф Готлиб фон Ренненкампф, ливонец, к вашим услугам.
Байрак-паша вступил на сходни, ведущие к его судну, Готлиб и Альбрехт последовали за ним. Палуба была устлана ковром, по которому паша повел своего гостя в кормовую надстройку с роскошным убранством — диванами, мехами, низенькими столиками, жаровнями. В вазе, подвешенной к потолку, раскачивались розы. Паша отдал несколько коротких приказов, и вскоре негр принес хрустальный сосуд рубинового цвета, украшенный позолотой, и два стаканчика. Готлиб попробовал налитое ему питье; оно оказалось крепким и душистым. Паша выпил свою стопку одним духом и уточнил, что это апельсиновая водка.
— Считайте это лекарством, — сказал он.
— Где вы научились так хорошо говорить по-французски, паша?
— Мой отец был послом при дворе регента, в Париже. Он и сам увлекся этим языком, и нам с младшим братом нанял учителя. Что вы делаете в Карловице?
— Собираюсь отправиться в Стамбул, паша.
— В Стамбул? — переспросил тот с удивлением. — Зачем?
— Я занят поисками мудрости, паша, — ответил Готлиб с улыбкой. — Меня уверили, что Восток обладает гораздо более глубоким знанием, нежели Запад. Предполагаю добраться до Индии и даже дальше, насколько возможно.
Байрак-паша какое-то время молча смотрел на своего гостя.
— Граф, — сказал он наконец, — вы спасли мне жизнь, так что я обязан вам самым ценным, чем располагаю. Если судить по вашему виду, вы в летах моего сына, и, если бы я имел хоть малейшее представление о том, что вы ищете, я бы целого состояния не пожалел, чтобы одарить вас этим. Но простите меня, я никак не возьму в толк, что вы собираетесь делать в Стамбуле. Если вы и там будете вести такие же речи, то окажетесь в опасности. Вас примут за шпиона или безумца.
Он говорил быстро, но Готлиб фон Ренненкампф все же успел уловить в этих словах дружелюбие и обеспокоенность за его судьбу.
— Неужели у вас нет семьи, жены, друзей, которые предостерегли бы вас от такой рискованной затеи?
— Меня предостерегали, — ответил Готлиб, изображая непринужденность. — Капитан судна, на котором я приплыл сюда.
Тем не менее он опасался, что уронил себя в глазах турка, и теперь мучительно раздумывал, как ему сгладить свою оплошность. В самом деле, услышав его ответ, паша пожал плечами.
— Что вы ищете? — спросил он властно.
— Один выдающийся человек, англичанин, раскрыл, как меня уверяли, два самых ценных секрета в мире: нашел эликсир вечной молодости и научился превращать свинец в золото.
Байрак-паша ошеломленно уставился на Готлиба.
— И что стало с этим человеком?
— Он умер.
— Вот видите, значит, эликсира он не нашел. Он был богат?
— Не знаю.
— Если бы он был богат, вы бы это знали, граф, потому что он был бы сказочно богат, — сказал паша, вновь наливая себе водки.
Готлиба застало врасплох это хлесткое, но совершенно здравое рассуждение.
— Кто вам сказал, что он раскрыл эти два секрета? — продолжил паша.
— Один мой друг, который хорошо его знал.
— Как звали того англичанина?
— Ньютон.
— Это не тот, что объяснил закон всемирного тяготения?
— Тот самый, — ответил пораженный Готлиб.
— Не удивляйтесь, граф, — усмехнулся паша, заметив это. — Турки живут не на Луне и умеют читать.
Он встал, направляясь к выходу из каюты. Остановился в дверях.
— Граф, мне пришло на ум, что вы выиграете, познакомившись с одной замечательной женщиной. Во всяком случае до того, как поедете в Стамбул. Она живет в Констанце,[29] это порт на Черном море, мы как раз туда и поплывем. Я предлагаю вам перейти на мой корабль. А если решите двинуться дальше, дам вам охранную грамоту до Высокой Порты.
— Вы меня очень обяжете, — сказал Готлиб.
— Вы сделали для меня гораздо больше, граф, и я в ответ просто обязан стать вашим покровителем, — ответил паша с улыбкой. — У вас есть багаж?
Готлиб кивнул. Паша продолжил:
— Пока ваш слуга сходит за ним, мы разделим легкую трапезу, если вы не против.
Он вышел и отдал распоряжения. Внезапно появился негр, явно ожидавший у дверей каюты. Через мгновение он и еще один человек из свиты паши ушли вместе с Альбрехтом за багажом в таверну.
Оставшись один, Готлиб подумал, что впервые после отъезда из Лондона выставил себя в нелепом виде. Турок сразу освистал комедию, которую он сочинил, попавшись на крючок с этими дурацкими историями об эликсире молодости и философском камне! Уж лучше бы он не мешал боснякам взорвать этого излишне проницательного турка. У него вдруг возникло искушение улизнуть украдкой, и только страх опорочить себя, еще больше удержал его. Впрочем, паша был на палубе, а Альбрехт отправился за вещами.
Из этой неудачи Готлиб извлек урок: никогда открыто не объявлять о своих намерениях.
Что же касается эликсира молодости и философского камня, если таковые вообще имеются, то надо тщательнее скрывать эти тайны.
Но кто такая эта женщина, с которой Байрак-паша хочет его познакомить? И для чего?
Он бросил взгляд на свои карманные часы и с досадой увидел, что те показывают три часа, хотя еще даже полдень не звонили. Потом сообразил, что двигался на восток, отсюда и взялась разница во времени. Он перевел стрелки на глазок.
Выходит, даже часам нельзя доверять.
18. ФАНАРСКАЯ ЧАЙКА
Констанца не была ни городом, ни деревней, а лишь портом у подножия возвышавшейся над гаванью крепости. Располагалась она в той завоеванной османами части Европы, что называлась Бессарабией и лежала к северу от Болгарии.
Во время плавания, которое длилось одиннадцать дней, Байрак-паша много рассказывал своему молодому пассажиру о том, что такое Оттоманская империя и ислам. И графу Готлибу фон Ренненкампфу не раз пришлось подавлять свое удивление: он совершенно ничего не знал ни о стране, где находился, ни о ее истории. Соломон Бриджмен никогда не говорил ему, что по пути на Восток находятся турецкие владения. Да и знал ли он сам об этом?
К тому же этот франкоязычный паша был решительно слишком умен. Как-то вечером, за ужином, который всегда подавали после захода солнца, Готлиб решил восстановить свой пошатнувшийся престиж, нацепив одну из драгоценностей, большой выпуклый сапфир на золотой цепочке, который он надел поверх жабо. Паша посмотрел на драгоценность нахмурившись.
— Что это? — спросил он, показав на сапфир пальцем.
— Камень, паша, — ответил Готлиб в замешательстве.
Он научился уважать турка, но догадывался, что сам он не только гость на его корабле, но и в некотором смысле пленник.
Паша вскинул брови.
— Если он настоящий, то подобных ему я не видел нигде, кроме как на тюрбане султана. Послушайте, граф, я не против вашей причуды надеть его сегодня вечером, хотя и не понимаю зачем. Но если вы захотите вырядиться так в наших краях, весьма опасаюсь, как бы кто-нибудь не похитил вас ради выкупа. Это семейная драгоценность?
— Да, паша.
— Должно быть, ваша семья очень богата. Но в любом случае поверьте мне: подобные украшения носят, только когда располагают силой, то есть небольшим войском. Сделайте одолжение, спрячьте этот камень в ваши сундуки и показывайте только на важных церемониях. Он не подобает ни вашему возрасту, ни положению.
Готлиб проглотил этот урок хороших манер и подумал: а что бы сказал паша об остальных драгоценностях, которые он сохранил для удовольствия, а быть может, и как напоминание о преступлениях, совершенных им ради своей свободы. Он опасался также, что паша начнет расспрашивать его о Ренненкампфах, а это имя, как и столько других, он выбрал случайно, услышав его в Вене.
Тем не менее Божий суд свершился.
Как-то днем, когда паша и Готлиб потягивали свой кофе на палубе, умиротворенно рассматривая правый берег Дуная, Болгарию, Байрак-паша вдруг объявил:
— Ваше имя показалось мне смутно знакомым. Потом я вспомнил, что оно попадалось мне в книгах об истории Великой Ливонии. Ваш род знаменит.
— Конечно, — ответил Готлиб, насторожившись.
— Один из ваших предков в начале пятнадцатого века стал героем при Танненберге, в битве против поляков.
У Готлиба пересохло в горле: черт побери, сам-то он даже не подозревал о существовании этого прославленного лжепредка.
— Как же его звали? — спросил паша.
— Готлиб, — ответил Готлиб уверенно, хотя и понятия об этом не имел.
— Ну разумеется, разумеется. Потом другой Ренненкампф безуспешно сражался против нас при Козмине, в Молдавии, вы знали?
— Давние дела, — ответил Готлиб небрежно.
— Действительно, это было в тысяча четыреста девяносто втором году. И вот потомки извечных врагов вместе попивают кофе на Дунае, — сказал паша со смехом. — И один из них спас другому жизнь!
Готлиб сделал вид, будто тоже находит ситуацию пикантной, и заметил, что 1492 год был также годом открытия Америки. Беседа отклонилась в сторону, к его большому облегчению.
Он решил, что в будущем надо тщательнее разузнавать историю имен, которые собираешься позаимствовать.
Но наконец они приплыли.
При виде вымпела «Ангельского бриза» на набережной воцарилась немалая суета. Встречать пашу и его свиту явились военные, все с кривыми саблями на боку, подозрительно разглядывая двоих франгисов, следовавших за ним: заложники? Готлиб даже подумал, уж не бросят ли его с Альбрехтом в темные застенки, где они и закончат свои дни? Он вспомнил взгляд темешварского капитана и пожалел о своей неосторожности. Ощупал кинжал, потом шпагу. Но что толку от его жалкого оружия против толпы этих усачей? Все же через несколько мгновений, когда его с Альбрехтом пригласили занять место в носилках, он успокоился. Их багаж погрузили на мулов. Гости раскинулись на подушках и последовали за караваном, который двигался вдоль моря под охраной всадников. Потом, все так же в носилках, покачивание которых нагоняло легкую тошноту, вступили в сады, благоухавшие розами, резедой, жасмином, гардениями и бог знает чем еще. Над их головами источали сладкий аромат кисточки ложных акаций. Носильщики доставили их к большому двухэтажному дому, на крыльце которого Байрак-паша объявил своему гостю:
— Граф, мои слуги проводят вас в ваши покои. Когда вы отдохнете и освежитесь, мы встретимся, если вам угодно, на большой центральной террасе.
В голосе паши вновь послышались повелительные нотки, которые смутили Готлиба. Он уже отвык от подобного обращения, но приходилось покоряться обстоятельствам. Он вошел в дом — первый дом на Востоке, который ему довелось посетить. Жилище было совершенно не похоже на те, что были ему знакомы. Казалось, что вся обстановка состоит лишь из диванов, подушек, низких столиков, ширм, а еще шкафов, и все это словно плыло по морю ковров с островками жаровен; но ни один предмет мебели, ни одна дверь не запиралась на ключ. Тут наверняка жили в доверии. Но в первую очередь это жилище напоминало лагерную стоянку, где ткань шатра заменили стенами. Похоже, турки лишь ненадолго заглядывали к себе домой. Покои были восхитительно просторны, с прекрасным видом на море, столь хорошо продуманным, что казалось, будто помещение естественно перетекает в эти жидкие пространства.
Альбрехт затащил сундуки в угол. Поскольку слуга не мог следить за вещами постоянно, Готлиб приказал запереть их на ключ, а наиболее ценные из своих сокровищ переложил в маленький кошелек, который предусмотрительно взял с собой в путешествие.
В дверь постучал негр, бывший, видимо, доверенным лицом паши.
— Меня зовут Осман, — произнес он по-французски, но с акцентом, придававшим этому языку оттенок какого-то экзотичного диалекта. — Вас ждет баня и массаж. Рабы проводят вас.
В течение последующего часа Готлиба с Альбрехтом распаривали, скоблили сверху донизу, от мочек ушей до пальцев на ногах, жесткой мочалкой из лыка, затем месили и разминали до потери дыхания, растирая какими-то терпкими маслами и эссенциями, в которых Готлиб уловил запах сандала и камфары, наконец облили свежей водой и насухо вытерли.
— С меня всю кожу содрали, — со стоном пожаловался Альбрехт.
— С меня тоже. Но та, что была под ней, оказалась гораздо белее, чем я предполагал, — откликнулся его хозяин. — Да и ты теперь благоухаешь добродетелью.
Осман повел их на террасу, где уже ждал паша.
Это была почти эспланада, возвышавшаяся над морем. Перила украшали вазы с благоухающими гардениями. Угасающий свет неба окрашивал море пурпуром.
— Добро пожаловать, граф, — сказал паша, поднимаясь навстречу Готлибу. — Вот вы и на варварском Востоке.
— Это бесспорно преддверие самого рая, — шутливо отозвался Готлиб.
Слуга подал ему кубок с вином цвета закатного моря и с такими же золотыми блестками внутри. Готлиб прищурился и поднес чашу поближе к глазам.
— Да, граф, — сказал паша медоточиво, заметив его жест, — это действительно золотые чешуйки. Наши врачи уверяют, что этот металл обеспечивает не только благополучие, но и здоровье. Несколько золотых крупинок в питье не только побуждают к умеренности, но и поддерживают равновесие разных жидкостей в организме. Что же касается самого напитка, то как раз принятым в раю правоверным и обещает его Пророк. Так что, думаю, сегодня нам оно тоже позволено.
Он поднял свой кубок за здоровье гостя, и очарованный Готлиб отпил свой первый глоток золота.
Посреди террасы поставили накрытый стол, затем два сиденья и три высоких светильника. Паша пригласил Готлиба к столу. Когда они расселись, слуги подали сначала множество салатов, про которые Готлиб даже не смог бы сказать, из чего они приготовлены. Затем последовало блюдо из маленьких жареных рыбок, ягненок, рис, тоже казавшийся золотым…
Альбрехт, сидевший в полусотне шагов от них, ел в одиночестве, совершенно изумленный.
— Вы возбудили мое любопытство, граф, — заявил паша. — Вы первый человек в мире, которому я обязан своей жизнью, потому что прежде сам был единственным ее хранителем. Я склонен видеть в этом знак небес. К тому же вы необычайно молоды — и для роли моего спасителя, и чтобы пуститься одному в путешествие, о котором упоминали. Но еще больше меня озадачила сама цель этого путешествия, если она действительно такова, как вы говорите. Я сразу же подверг ее сомнению — не думаю, что упомянутые вами секреты существуют. Сами-то вы это знаете?
— Как можно знать, что некий предмет не существует, пока не удостоверишься в этом?
— Чтобы удостовериться в этом, понадобится целая жизнь и даже больше, — возразил паша. — Неблагодарность и любопытство побудили меня препоручить вас заботам одной замечательной женщины, о которой я уже упоминал.
Раздраженный тем, что к нему относятся как к несмышленому ребенку, Готлиб положил свою вилку.
— Я утомил ваше терпение?
— Ничуть, граф. Но благоразумие советует доверяться людям опытным и знающим. Княгиня Полиболос обладает и тем и другим. Поверьте мне. В отношении вас мною движет лишь благородство.
— А иначе я стал бы для вас проблемой?
Турок смотрел на своего гостя некоторое время, не отвечая, с чуть ироничным блеском в глазах.
— Проблемой? Ни в коем случае, граф. Но, видите ли, спасая мне жизнь, вы соткали между нами некие узы, над которыми не властны ни вы, ни я. Я ответствен за ваше благополучие так же, как вы за мое. Вы этого не знали? У нас говорят, что спасающий утопающего удваивает свою жизнь.
Готлиб не слишком понимал, к чему клонится эта речь, но нашел ее довольно коварной.
— Впрочем, вы сами увидите, княгиня — женщина незаурядного характера и большой культуры. Соверши вы свое путешествие ради одной только встречи с ней, вы бы уже были щедро вознаграждены. Покои, которые она вам предоставит, будут, по крайней мере, ничуть не хуже тех, что вы занимаете в этом доме. А что касается меня, то завтра утром я должен отправиться в поездку.
— Хочу надеяться, что это не последний наш ужин, — учтиво сказал Готлиб.
— Это будет зависеть только от вас, граф. Если вы сообщите мне о ваших передвижениях, я постараюсь, чтобы наши пути пересеклись.
Тут им подали разнообразные десерты — фисташковый шербет, миндальное желе, неизвестный красный напиток с изюмом…
Из-за всей этой роскоши — и убранства, и стола — у Готлиба возникло чувство, что ему преподнесли великолепный ларчик, полный, однако, тревожных тайн.
Стемнело. Вечерний бриз колыхал пламя факелов и разносил аромат гардений.
Впервые после своей высадки в Саутгемптоне под именем Джона Таллиса Висентино де ла Феи почувствовал себя обезоруженным. Он существовал в мире сил по меньшей мере столь же грозных, как и те два секрета, которые ему приоткрыл Соломон Бриджмен.
Байрак-паша распрощался со своим гостем, еще раз возблагодарив судьбу за то, что поставила на его пути столь великодушного дворянина, и пожелал ему доброй ночи. Они обменялись рукопожатием, и паша покинул террасу.
Поджидавший за дверью Осман и личная стража паши ушли за ним следом. Готлиб остался на террасе один. Тут Альбрехт из своего угла бросил на него умоляющий взгляд. Готлиб сделал ему знак приблизиться.
— Хозяин, — сказал подошедший австриец, — все это как волшебная сказка. Но пусть хозяин меня простит, слишком уж она прекрасная.
Готлиб кивнул и долго смотрел на огоньки судов, мерцавшие в Черном море.
На следующее утро, когда Готлиб открыто продемонстрировал, что проснулся, дворецкий велел слугам подать ему широкий поднос с обычным турецким завтраком: кофе, простокваша, выпечка. На подносе оказался также продолговатый футляр. Готлиб открыл его и обнаружил свернутый в трубочку документ, написанный по-турецки и представляющий собой, как он надеялся, обещанный пропуск, а не приказ обезглавить его при первом же чихании.
Закончив свой туалет, он задумался: как, черт побери, ему быть дальше в этой стране, если единственный человек, знающий французский, уехал, а ему предстоит визит к княгине… но как же ее зовут? Его охватила тревога: он напрочь забыл имя своей новой покровительницы.
Перед своим отъездом паша все уладил. Как только Готлиб выразил желание отправиться в путь, дворецкий проводил его и Альбрехта к носилкам, ожидавшим в саду, и меньше чем за полчаса они добрались до другого дома, весьма похожего на первый и тоже расположенного на берегу Черного моря.
Гостей уже ждали, поскольку дворецкий, столь же пышный и внушительный, что и предыдущий, встретил их на крыльце. Когда Готлиб сошел на землю, тот выступил вперед, церемонно поклонился и важно объявил на ломаном французском:
— Добро пожаловать, господин граф.
Действительно ли он владеет французским или знает всего одну фразу? Готлиб решил не уточнять.
После своей короткой речи дворецкий сделал широкий жест, указывая на дом. Он пошел впереди, гости за ним, а замыкала шествие цепочка слуг, несущих багаж. Они пересекли какие-то широкие пространства, украшенные фонтанами и вазами с цветами, потом дворецкий ввел их в отдельный покой, ничем не уступавший тому, который Байрак-паша предоставил своим гостям накануне. Когда багаж был сложен в углу, Готлиб заметил, что франт дворецкий все еще ждет возле дверей, наверняка чтобы проводить его к княгине. И тут самым чудесным образом всплыло в памяти ее имя: Полиболос. Согласно скудным познаниям в греческом, которые он приобрел еще в Перу под строгим надзором брата Игнасио, это должно было означать «Многие дары».
Княгиня ждала гостя в беседке с видом на море, восседая на диване со множеством парчовых подушек. Ее окружали несколько женщин, все наряженные по восточной моде: шелковые халаты, стянутые в талии поясом; под ними сорочки, воротник и рукава которых позволяли видеть только голову и руки; волосы убраны под шапочки светлого шелка.
Готлиб увидел сначала только угольно-черные глаза на бледном лице без возраста. Словно мраморная голова на подставке, за которую сошел бы высокий воротник.
Чайка. Большая чайка.
Он приблизился и церемонно поклонился.
— Здравствуйте, граф, — сказала княгиня на хорошем французском, — добро пожаловать к Полиболосам.
— Здравствуйте, княгиня, для меня большая честь быть принятым в вашем обществе.
Сколько же ей лет? Невозможно определить. Она не отводила глаз от визитера, и тот решил, что будет неуместным отвечать ей столь же прямым и пристальным взглядом.
Княгиня сделала незаметный жест, и одна из женщин, без сомнения ее первая фрейлина, повторила его. Две служанки тут же пододвинули сиденье к княжескому дивану.
— Присаживайтесь, граф, мы велим подать что-нибудь прохладительное.
Тут только он сообразил, что диван находился на возвышении в три ступеньки и что ему приходится смотреть на хозяйку дома снизу вверх.
— Ваш должник Байрак-паша предупредил о вашем прибытии весьма хвалебным письмом, — сказала она со своим певучим выговором. — Он не хотел оставлять вас без попечения даже во время своего вынужденного отсутствия и поэтому поручил мне быть вам полезной.
«Где же эти люди выучили французский?» — недоумевал Готлиб.
— Паша слишком добр, — ответил он, вдруг осознав, что оказался в ситуации, подоплека которой ему непонятна.
— Граф очень хорошо говорит по-французски для уроженца Ливонии, — заметила княгиня.
— Да позволит мне княгиня вернуть ей этот комплимент.
— У нас в Фанаре хорошие учителя.
Фанар? Он не знал, что это такое, и почуял ловушку, поскольку ему не замедлят задать встречный вопрос: с каких это пор в Ливонии болтают по-французски? Срочно требовалось какое-то объяснение. Он посмотрел на рубинового цвета напиток, который ему только что поднесли. Вино? Или то, что он пил у паши?
— Фанар, граф, — это греческий квартал города, который называется Стамбул, а прежнее его имя было Константинополь, — уточнила княгиня. — Нас там учат и Лафонтену, и Расину, а мальчики еще сильно увлечены Корнелем. «Нас уплыло пятьсот, а прибыло в порт до трех тысяч…» — продекламировала она с шутливой воинственностью. — Что касается напитка, который вам подали, то это каркаде.
Значит, она не здешняя. Что же привело ее сюда? И какие узы связывают ее с Байрак-пашой?
— А что такое каркаде? — спросил Готлиб, опять напуская на себя небрежность.
— Отвар из лепестков алтеи, граф. Это освежает кровь и разжижает желчь.
«В чем же здесь подвох?» — подумал Готлиб, а вслух сказал:
— Я не сообщу ничего нового княгине, сказав ей, что французский язык — излюбленное баловство и для северян.
Она кивнула и посмотрела на него взглядом насмешливой чайки. Ладно, значит, поняла, что он обнаружил ловушку. Очевидно, она и не считала его ливонским графом. У него возникло острое ощущение, что они с княгиней играют в кошки-мышки.
— А теперь, — сказала княгиня, — позволим нашему путешественнику обустроиться в его покоях, и, если ему будет угодно, мы вместе перекусим в полдень.
Он встал, фрейлина сделала то же самое и проводила его к двери, ведущей внутрь дома. Там некий человек с хмурым лицом попытался изобразить улыбку и повел его с Альбрехтом в их покои.
19. БАБАДАГСКАЯ ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦА
Вскоре после захода солнца, когда рабы княгини Полиболос вытирали его, распаренного в бане, граф Готлиб фон Ренненкампф все еще с отсутствующим видом обдумывал неоднозначные события прошедшего дня. Его заинтриговали уже недомолвки и намеки их первой беседы с княгиней. Обед добавил вопросов. Кроме Готлиба и хозяйки дома присутствовала еще одна сотрапезница, молодая девушка поразительной красоты по имени Даная, не сводившая глаз с чужестранца и оказывавшая ему многочисленные знаки внимания. Она то подливала вина, то предлагала салаты и прочие кушанья и готова была улыбаться, стоило ему открыть рот. Княгиня же, казалось, находила все это вполне естественным.
В конце трапезы Готлиб спросил княгиню, как узнают время в Констанце, поскольку хотел поточнее подвести стрелки на своем хронометре.
— Ночью определяем время по большой клепсидре в прихожей. А днем пользуемся солнечными часами. Погода сейчас прекрасная, так что до захода солнца вам это не составит никакого труда.
— А где эти солнечные часы?
— В апельсиновом саду. После кофе Даная проводит вас туда.
Когда настал момент, девушка повела Готлиба через пространные сады, отделявшие город от моря. По дороге она взяла его за руку. Он предположил, что этот жест продиктован детской ласковостью ее непосредственной натуры. Дойдя до солнечных часов, представлявших собой большой мраморный стол с бронзовой иглой, Готлиб достал свой хронометр и постарался поставить стрелки как можно точнее. Но тут юная Даная подошла к нему еще ближе и, обвив за талию, потянулась к нему губами. Только отшатнувшись от удивления, он избежал поцелуя. Совершенно сбитый с толку, Готлиб отступил на шаг и уставился на девушку, но прочел в ее глазах лишь невинность и любовный порыв — старая уловка обольстительниц. Все бы ничего, но сейчас он был совершенно не расположен к любовным забавам, а тем более в этом саду, где на тропинке в любой момент мог появиться какой-нибудь докучливый свидетель. Так что он улыбнулся как можно любезнее и отодвинулся. Даная коснулась его руки, чтобы привлечь его взгляд.
— Вы играете в опасные игры, мадемуазель Даная, — сказал он ей.
— Это вы меня к ним побуждаете! — воскликнула она.
— Я польщен, но я всего лишь проезжий чужестранец, — сказал он, удивляясь про себя, все ли местные девушки вулканически пылки и безрассудны.
— Нет, вы должны остаться!
Он насторожился, не переставая улыбаться.
— А сейчас, если не возражаете, мы вернемся на виллу, — отрезал Готлиб.
И двинулся по тропинке в обратную сторону.
— Я вам не нравлюсь, — сказала сокрушенно Даная.
— Вовсе нет, мадемуазель, вы прекрасны, как Божий день.
— Но тогда почему вы меня отвергаете? — простонала она.
Вдруг все эти трепыханья влюбленной перепелки распалили Готлиба, и в голову ему закралась мысль схватить девицу за бедра, повалить и овладеть ею с налету. Долгое воздержание вполне его к этому подготовило: на соитие хватило бы нескольких минут, а потом он оттолкнул бы Данаю в кусты и ушел. Но как раз это и означало бы угодить в ловушку, и он сразу вообразил себе ее отчаянные вопли. Кто-нибудь тут же прибежит, быть может, их даже много прячется в зарослях, и одно небо знает, что за этим последует. Так что Готлиб ускорил шаг.
— Я не отвергаю вас, мадемуазель, просто спешу. Я ведь уже сказал, что я здесь только проездом и не собираюсь задерживаться в Констанце.
— Я поеду за вами! — с пылом воскликнула Даная.
По счастью, они подошли к ступеням крыльца. На террасе было пусто.
— Не кажется ли вам, Даная, что эти речи необдуманны? А теперь я собираюсь отдохнуть, если позволите.
Он решительно отстранил ее и направился в свои покои.
Не застав там Альбрехта, стал его искать, а не найдя, обеспокоился. Но никто, кроме княгини и бесстыдной Данаи, наверняка не говорил по-французски в этом доме, а стало быть, не мог ничего сообщить о его слуге.
Около четырех часов он услышал шаги в передней и вскочил: это был Альбрехт, явившийся в непривычно веселом и даже игривом настроении.
— Где ты был?
— Хозяин, я видел, как вы пошли через сад в очаровательном обществе, и предположил, что в ближайший час вам мои услуги не понадобятся. Простите меня, потому что я уступил домогательствам одной служанки, которая показалась мне довольно настырной. Нельзя же вечно обуздывать природу, хозяин.
Готлиб не удержался от смеха. Неужели женщины этой страны так падки на мужчин? Или же они оба оказались скорее игрушками в какой-то махинации, которую им выдавали за фривольное приключение?
— Вы тут возбудили всеобщее любопытство, — продолжил Альбрехт, чей язык развязался, когда он увидел, что хозяин не сердится. — Эта дуреха мне все уши прожужжала, расписывая вашу пригожесть. Сотни вопросов задала…
— Каких? — спросил Готлиб.
— Откуда вы, да сколько вам лет, да откуда ваше богатство…
— И на каком же языке она тебя спрашивала? — воскликнул изумленный Готлиб.
— На немецком, хозяин, на хорошем немецком. Похоже, ради такого случая они нашли создание, которое может владеть моим языком. И не только им одним, уж простите за нескромную шутку, хозяин.
Готлиб не мог опомниться: выходит, паша с княгиней сплели ради него целый заговор.
— И что ты ей ответил?
— А что я о вас знаю, хозяин? Почти ничего. Но я ей наплел, что был вашим слугой с самого детства в великолепном замке на Балтике, где ваш род владеет бескрайними землями…
Слыша это крестьянское краснобайство, Готлиб расхохотался.
— Вы меня принимаете за простачка, хозяин? Я же видел, что она просто хочет выведать у меня побольше. И я в конце концов подумал: а так ли уж безосновательны были предостережения того темешварского капитана?
— Что ты хочешь сказать?
— Хозяин, ведь мы, слуги, вроде как дети, которые могут запросто заглядывать под юбки, о чем взрослые и не догадываются. С тех пор, как мы здесь, у меня ощущение, что с нами не очень-то честны. Вам-то самому не казалось, что паша как-то уж чересчур заботлив? Чуть не усыновить вас готов. Ладно, вы ему жизнь спасли, но ведь это улаживается в два счета. Такой важный вельможа предложил бы свой кошелек, угостил ужином, вот и все. Но он, познакомившись с вами, не хочет вас отпускать. И что же он делает, прежде чем уехать, раз не может отменить свою поездку? Он вас передает с рук на руки этой княгине, своей сообщнице, а у той, по моему разумению, не один подвох в мешке припасен. Она-то и велела служанкам своим разузнать о вас как можно больше, и начали, разумеется, с меня.
Готлиб не упоминал ему ни об эликсире молодости, ни о философском камне, рассудив, что сообщничеству, которое установилось между ним и слугой, довольно оставаться таким, какое есть. Альбрехту лучше знать поменьше — на тот случай, если все-таки проболтается.
— И чего они хотят, как ты думаешь?
— Не знаю, хозяин. Но они с вами обходятся как с отборной куропаткой, которую откармливают для стола.
— Из-за денег?
— Нет, не думаю. Похоже, они достаточно богаты, чтобы не думать о грабеже. Хотя, ума не приложу, что они собираются делать с такой добычей, как вы. Однако что-то собираются.
Готлиб поздравил себя с тем, что приобрел такого смышленого слугу: наблюдения Альбрехта подтвердили ему, что он не ошибся.
Но чего же хотели от него паша и княгиня?
Обед состоялся на террасе. Стол был раза в три больше, чем за трапезой у паши, хотя и накрыт всего на три персоны. Даная отсутствовала, видимо, переживала свое унижение, настоящее или притворное. Ее место занял какой-то молодой человек, которого княгиня представила как своего племянника Алексиса. Юноша был смазлив. Готлиб даже заподозрил румяна на его щеках и помаду на слишком алой нижней губе. Да и бархатистые длинные ресницы, которыми Алексис хлопал, томно взирая на чужестранца, явно не обошлись без сурьмы. Что тут делал этот юнец? Играл роль Данаи?
Держась начеку, полный решимости разгадать намерения княгини, Готлиб решил обмануть ее. Изобразил непринужденность и благодушие, будто только что встал с Данаиного ложа. А сам украдкой наблюдал за лицом княгини, пытаясь для начала определить ее возраст. Но был разочарован: сквозь белую маску, чуть позолоченную светом масляных ламп, проглядывали лишь тончайшие морщинки. И так же, как и утром, высокий, перехваченный лентой муслиновый воротник скрывал шею, которая гораздо меньше, чем лицо, поддается косметическим ухищрениям. Но вдруг, когда княгиня протянула руку к своему бокалу, Готлиб все же заметил следы времени: этой иссохшей руке, хоть и принадлежавшей женщине праздной, было не меньше семидесяти лет. Она больше напоминала когтистую лапу хищной птицы, чем былую расточительницу ласк.
— Надеюсь, вы приятно провели день, — сказала княгиня таким тоном, будто была убеждена в обратном.
Что ясно означало: надеюсь, вы уже сожалеете, что не уступили Данае.
— Превосходно, княгиня. Ничто так не способствует размышлениям, как созерцание морского горизонта. Понимаю теперь: именно возможность всю жизнь любоваться этими перламутровыми небесами подарила умам Востока высшую мудрость.
Она бросила на него угольно-черный взгляд, смысл которого не оставлял места для сомнений: хватит принимать меня за дурочку.
— Вы полагаете, что пейзаж влияет на души? — томно пролепетал юный Алексис.
В первый раз с начала трапезы он подал голос и, конечно же, тоже говорил по-французски. Скольких же французов занесло сюда, чтобы они смогли обучить своему языку всех этих фанариотов?
— Вы в этом сомневались? — откликнулся Готлиб. — Незапятнанная лазурь Греции породила самую светлую философию в истории цивилизаций, тогда как грозовые небеса Севера — самый мрачный взгляд на человеческий удел.
Пока слуги меняли блюда, виночерпий вновь наполнил кубки. Готлиб едва пригубил свой; сейчас был не лучший момент, чтобы пьянеть. Украдкой бросив взгляд в сторону двери, он удостоверился, что Альбрехт все еще там.
— Восхищаюсь тонкостью ваших суждений, — важно молвил Алексис. — Они производят на меня впечатление остро отточенного кинжала, способного рассечь на лету муху.
«Где его научили всей этой трескотне?» — недоумевал Готлиб.
Вмешалась княгиня:
— Граф Готлиб убежден, что Восток таит какие-то необычайные секреты.
— Неужели? — прокудахтал Алексис, глядя на гостя с еще большей нежностью. — Какие же?
Княгиня не дала Готлибу ответить, заявив:
— Наш единственный секрет — близкое общение с потусторонним миром. Мы достаточно долго жили, чтобы понять: жизнь всего лишь чередование видимостей и настоящие призраки — среди нас.
«Ишь ведь, — подумал Готлиб. — Что она затевает?» Он уже заметил, что княгиня отбросила утреннюю шутливость, и поздравил себя с этим: так он скорее поймет, в какую игру с ним играют.
— Сегодня вечером мы продемонстрируем это графу Готлибу.
— Каким же образом? — спросил Готлиб, смакуя цыплячью грудку в чем-то, напоминающем миндальный крем.
Княгиня загадочно улыбнулась.
— О подлинных тайнах не говорят, — изрекла она тоном пифии. — Их зрят, в них вникают, но держат уста на замке.
«Что за галиматья», — подумал Готлиб, бросив взгляд на Альбрехта, который появился под аркадой террасы, очевидно закончив свой ужин.
Алексис поддакнул, добавив, что первая четверть Луны благотворно воздействует на дух.
— Графу не понравилось трансильванское вино? — спросил он затем, показывая на почти полный кубок своего соседа.
— Я не слишком большой любитель вин, — ответил Готлиб.
Ему подали салат, потом белый сыр и кофе со сластями. Княгиня встала.
— Идемте, — повелительно сказала она своим сотрапезникам. — Бабадагская прорицательница, должно быть, уже здесь.
Готлиб и Алексис последовали за ней. Они пришли в какой-то зал без окон, пол и стены которого покрывали ковры, а единственным предметом обстановки была низкая тахта и большие кожаные подушки. Освещали комнату лишь два высоких треножника с масляными лампами. На одной из кожаных подушек сидела, подобрав под себя ноги, немолодая женщина с изможденным лицом. Перед ней на медном подносе стояла кофеварка с чашкой. Княгиня подошла к женщине и заговорила с ней на каком-то неизвестном Готлибу языке, не похожем на турецкий. Бабадагская прорицательница допила свою чашку и смерила взглядом обоих молодых людей. Готлиб приветствовал женщину кивком и тоже постарался рассмотреть ее, насколько это было возможно при столь скудном освещении.
Показывает ли хоть кто-нибудь в этом доме свое подлинное лицо? Черты Бабадагской прорицательницы были так же густо покрыты белилами, как и у княгини, а глаза так насурьмлены, что она сама казалась привидением. Только карминно-красные губы свидетельствовали о том, что она не мертва. Да и женщина ли это? Такие широкие скулы и острый нос больше подошли бы мужчине. И босые ноги, угадывавшиеся под складками платья, тоже были скорее мужскими. Но поди знай в этих краях…
Княгиня расположилась на тахте, а молодые люди на подушках. Альбрехт, старшая фрейлина и прочие слуги остались у дверей. Слуга принес поднос с кофе, другой — жаровню, которую поставил рядом. Бабадагская прорицательница достала из складок своего платья мешочек, запустила туда руку и вдруг бросила на угли полную пригоршню какого-то порошка. В следующее мгновение над жаровней поднялся голубоватый дым и стал медленно расползаться по комнате. Запахло чем-то сладковатым.
Бабадагская прорицательница закрыла глаза и начала медленно раскачиваться вперед и назад, что-то напевая. Больше всего это напоминало хныканье ребенка. Она подняла одну руку, словно моля о чем-то, потом другую. Постепенно ее подвывания становились громче.
Алексис положил ладонь на запястье Готлиба; тот притворился, будто ничего не заметил.
Заклинания (если это были они) длились бесконечно долго, Готлибу показалось, что не меньше часа. Заскучав, он усомнился, есть ли во всем этом хоть какой-то смысл. Его клонило в сон.
Не вызывал ли этот дым галлюцинации? Цепенея, Готлиб вдруг заморгал глазами: голубые завитки дыма начали словно сгущаться перед прорицательницей в двух-трех футах над землей.
Алексис прерывисто задышал. Готлиб напрягся. В неясной дымной массе стало вырисовываться лицо. Смутно: три черных провала вместо глаз и носа. Лицо было странно неподвижным, несмотря на колебание дыма.
Готлиб украдкой бросил взгляд на княгиню. Та застыла на диване, сдвинув брови.
Крик вырвался из горла прорицательницы. Она заговорила.
— Что она говорит? — шепнул Готлиб Алексису.
— Не понимаю, — ответил тот, опять вцепившись в его запястье.
Прорицательница подняла левую руку и протянула ее в сторону Готлиба. Ее голос стал хриплым. Потом пронзительным. Она откинулась назад, невнятно выкрикивая какие-то обрывки фраз.
Наконец застыла в неподвижности. Может, умерла?
Княгиня подала голос. Подбежала служанка, засуетились рабы, поднимая недвижное тело Бабадагской прорицательницы.
— Мне нужен чистый воздух, — сказал Готлиб, поднимаясь.
Он стоял на пороге, полной грудью вдыхая аромат свежести, льющийся с террасы. Рядом прозвучал голос княгини:
— Граф.
Он отодвинулся, чтобы пропустить рабов, принесших поднос с прохладительными напитками, и вернулся в комнату.
— Граф, — повторила княгиня, — она говорила о вас.
— Кажется, я и сам догадался, — ответил Готлиб холодно, — но, разумеется, ничего не понял.
— Она сказала, что ее дух-покровитель увидел вдали мертвого человека у ваших ног на груде драгоценностей.
Готлиб чуть не вздрогнул. Это было почти правдой. Но он дошел до такой степени подозрительности, что и бровью бы не повел, даже услышав от княгини: «Вас зовут Висентино де ла Феи, вы украли драгоценности губернатора Лимы и отравили брата Игнасио».
Граф бесстрастно посмотрел на княгиню.
— Мадам, я не понял, в чем смысл этого спектакля, и нахожу бредни этой вещуньи неприятными.
— Вы хотели приобщиться к великим тайнам, — сказала княгиня сурово.
— Никакой тайны я не увидел, и только благодарность за ваше гостеприимство удерживает меня от того, чтобы не высказать все, что я думаю об этих пророчествах.
Их взгляды скрестились в безмолвном поединке.
— А теперь, если позволите, я пойду глотнуть чистого воздуха, — объявил он.
И направился к выходу.
Чьи-то поспешные шаги за спиной заставили Готлиба обернуться.
— Сударь… Сударь…
Это был запыхавшийся Алексис, искренне потрясенный недавним зрелищем. Готлиб остановился.
— Сударь, ради человеколюбия… Я так напуган… Смилуйтесь, позвольте мне остаться в вашем обществе.
Если юный Алексис изображал столь неподдельный испуг, то был очень хорошим актером. Однако нельзя исключить, что он продолжал затею с соблазнением, начатую Данаей. Его присутствие за ужином было подозрительным. Наверняка княгиня решила, что если граф не полакомился курочкой, то лишь потому, что предпочитает каплунов.
— Сударь, — ответил Готлиб, все же сочувствуя молодому человеку, заплутавшему в этом колдовском мире, — единственное, что я могу вам предложить, — это софу в прихожей, где спит мой слуга Альбрехт.
— Охотно соглашаюсь, сударь. Это… это было так ужасно!
Когда юный Алексис был устроен на софе в комнате Альбрехта, Готлиб подмигнул своему слуге и поманил его за собой на террасу.
И сразу же был поражен насмешливым видом австрийца.
— Надеюсь, хозяин хорошо развлекся, — заявил тот без предисловий.
— Что ты хочешь сказать?
— Оттуда, где вас усадили, вы не могли видеть. Но зато я видел.
— Что ты видел?
— Хозяин, этот белый силуэт в дыму был сделан с помощью «волшебного фонаря».
— Да что ты говоришь!
— Я видел направленный луч. Он-то и нарисовал картинку. Неужели вы не заметили, что лицо было неподвижным?
Готлиб ошеломленно уставился на смеющегося Альбрехта.
— Там, где вы сидели с мальчишкой, у вас над головами, сзади в стене была дырка, через нее-то и пускали луч. Вы-то этого не могли видеть, но зато я сразу себе сказал, что этот вызванный призрак — просто розыгрыш. Завтра, если угодно, можете сами удостовериться.
Готлибу понадобилось некоторое время, чтобы переварить услышанное. Значит, представление Бабадагской прорицательницы было ловким фокусом. И ее пророчество шито белыми нитками: к любым драгоценностям можно приплести какую-нибудь историю про убийство. Но зачем? Произвести на него впечатление знанием сверхъестественных тайн?
Готлиб вернулся в свою комнату, но заснул не сразу.
20. ИСКУШЕНИЯ
Первой мыслью Готлиба по пробуждении была та, что пришла ему в голову перед сном: немедленно бежать из Констанцы.
Вторая мысль — выяснить все же, зачем его хотели одурачить.
Впрочем, одна не исключала другую.
Ему подали завтрак в комнату; княгиня, разумеется, завтракала в собственных покоях. Он надел халат и открыл дверь в прихожую, ставшую жилищем Альбрехта. Слуга был уже на ногах, одетый и бодрый. Алексис спал, свернувшись калачиком на софе, укрытый одолженным халатом. Распахнув глаза, он испуганно уставился на Готлиба и сел. За ночь его румяна размазались, вид был жалкий.
— Доброе утро, господин Алексис. Если угодно разделить со мной завтрак, то милости прошу.
Юноша встал и, бросив на Готлиба несчастный взгляд, потащился за ним на террасу.
— Хорошо спали, сударь? — спросил Готлиб, наливая кофе.
Алексис покачал головой.
— Нет. Долго не мог заснуть. А вы словно забыли вчерашний вечер.
— Нет, сударь. Не забыл. Неужели это он нагнал на вас бессонницу?
— Это было так ужасно! — содрогнулся юноша.
— Меня это ничуть не ужаснуло.
Алексис недоверчиво посмотрел на него.
— У вас закаленная душа.
— Вы впервые видели эту Бабадагскую даму? — спросил Готлиб, намазывая свежие сливки на своего рода бриошь с изюмом.
— Слышал о ней раньше. Но никогда не видел. И больше не желаю видеть.
Он казался искренним.
— А вы… видите призрак, изрекающий невероятные откровения, и засыпаете как ни в чем не бывало? — продолжил Алексис. — Неужели у вас нет никакого почтения к тому свету?
— Не знаю, какие чувства я испытываю к тому свету, сударь. Но это и не важно, поскольку вчера мы видели только этот, — ответил Готлиб насмешливо.
— Как это?
— Вы видели лишь проекцию из «волшебного фонаря». Никаким призраком там и не пахло. Бабадагская провидица простая обманщица.
— Что вы говорите! — воскликнул Алексис, которого передернуло. — Вы хотите сказать, что тетушка устроила нам розыгрыш? Но зачем? Это ведь вздор, граф!
— Ничуть. Что же касается побуждений вашей тетушки, то я намереваюсь выяснить их немедленно, — сказал Готлиб, вставая.
Он оделся и направился к покоям княгини. Там он потребовал у слуг, чтобы те известили свою госпожу. Слуги ни слова не говорили по-французски, но догадались, что чужестранец обращается к ним с каким-то требованием. Они позвали фрейлину, та поняла и попросила графа подождать. Через несколько минут его провели в гостиную. Княгиня приняла его в желтом платье с вышивкой и белом шелковом халате. На ее ногах красовались белые шлепанцы с перламутровыми блестками.
— Здравствуйте, граф. Хорошо ли вам спалось? — спросила она, оглядев его цепким взглядом.
— Очень хорошо, княгиня.
— Тайны потустороннего мира вас не смутили?
— Фокусы с «волшебным фонарем» годятся для детей, мадам, — бросил Готлиб довольно колким тоном.
В комнате воцарилось молчание. Княгиня Полиболос смотрела на посетителя пристальным недовольным взглядом.
— Скептицизм северян, — пробормотала она наконец.
Выходит, несмотря на его опасения, она все-таки поверила в ливонское происхождение Готлиба фон Ренненкампфа и этим дала ему еще один козырь.
— Я пришел попрощаться с вами, княгиня, но, прежде чем поблагодарить за гостеприимство, хотел бы узнать, чего, собственно, вы с пашой ожидали от меня.
Она была явно озадачена.
Готлиб многозначительно глядел на нее целых несколько минут, чтобы дать ей как следует прочувствовать серьезность своих намерений.
— Хорошо, — сказала наконец княгиня, опомнившись.
Она набросила на ноги полу своего халата и продолжила:
— Вы смелы. Это хорошо. Еще одна причина, чтобы вам ответить. Присядьте, пожалуйста.
Он огляделся, но, увидев лишь неизменные низкие табуреты и подушки, остался стоять, с вызовом, явно желая показать этим, что не собирается садиться у ног женщины, которая злоупотребила его доверием. Она поняла; ее губы дрогнули, словно с них уже готовы были сорваться нетерпеливые слова, но потом позвала свою фрейлину и отдала ей какой-то приказ. Через несколько мгновений двое слуг принесли такое же кресло, в каком он сидел накануне. Он соблаговолил сесть и выжидающе посмотрел на княгиню. Та, казалось, подыскивала слова.
— Ваши разговоры об эликсире молодости и философском камне позволили паше думать, что вы наивный простачок, ищущий себе какую-нибудь роль в жизни. Он придумал ее для вас. И поручил мне предложить ее вам…
— Стать агентом Высокой Порты в Европе, — оборвал он ее.
— Вы не так наивны, как ему показалось, — с улыбкой признала княгиня. — Оттоманская держава необорима, граф. Она досягнула до самых врат Вены. Завтра она туда войдет. Германия — ворох разрозненных княжеств. Пруссия не сможет удержать их вместе. У нас только два врага: Австрия и Россия. Но единственное, чего они смогут добиться, — задержать нас на какое-то время. Или пролить лишнюю кровь. С помощью нескольких человек, способных внушить доверие властителям Запада, можно было бы избежать этого досадного расточительства.
— И по-вашему, я мог бы стать одним из них?
Она кивнула.
— Вы молоды, но привлекаете к себе и взгляды, и интерес. Вы балтийский немец, стало быть, русские вам отнюдь не друзья. С малой толикой опыта и советов вы стали бы одним из самых влиятельных наших адвокатов. Похоже, вы не стеснены в деньгах, но Высокая Порта не поскупилась бы, чтобы с лихвой покрыть издержки вашей миссии.
Он задумался над этими словами.
— Столь возвышенным целям, как мне кажется, не слишком соответствуют ловушки, которые вы мне расставили.
— Какие ловушки? — удивилась княгиня.
— Попытки обольщения.
Она рассмеялась.
— Вы говорите о Данае? Это не ловушка, граф. Она искренне в вас влюбилась. Со всем пылом юности. К тому же ей не терпится покинуть Констанцу. Если кто и загнал вас в ловушку, так это ваша собственная подозрительность, поскольку вы напрасно отвергли ее любовь. У бедной девушки теперь разбито сердце.
— А Алексис?
— Вы и его приняли за приманку? Едва увидев вас в окно, когда вы прибыли сюда, он сразу же загорелся желанием стать вашим другом. И сам напросился поужинать с вами. Видите ли, не так уж много чужестранцев бывает в Констанце, особенно таких, как вы. Отсюда и брожение в сердцах и умах. Он по-прежнему прячется в ваших покоях? Я его сегодня еще не видела.
Значит, он и тут ошибся.
— Алексис спал в прихожей. Похоже, ему вчера изрядно досталось. Но какой был смысл устраивать этот зловещий спектакль? — спросил Готлиб, немного смягчившись.
— Бабадагская прорицательница в самом деле ясновидящая, — ответила княгиня задумчиво. — Она мне столько раз убедительно это доказывала, что я и вас смело могу в этом уверить. Фокус, секрет которого вы разгадали, был предназначен лишь для того, чтобы подстегнуть ее талант, а заодно и ваше воображение. Но неужели и в самом деле не было никакого человека, заплатившего жизнью за ваши сокровища?
— Какие сокровища? — спросил Готлиб. — Если вы о сапфире, который я надел на ужин с пашой, то вы из мухи делаете слона.
Она испытующе впилась в него взглядом черных глаз. Готлиб стойко его выдержал. Княгиня вздохнула.
— В любом случае, — продолжила она через какое-то время, — подлинный секрет этого мира, граф, это власть. Я не знаю, верите ли вы по-настоящему в истории об эликсире вечной молодости и философском камне, но позвольте мне в этом усомниться. Вы мне кажетесь слишком рассудительным. Единственное, в чем мы можем быть уверены, — это в том, что наш мир существует. О потустороннем же мы не знаем ничего и не имеем над ним никакой власти. Паша предлагает вам действовать в реальном мире. Если вы присоединитесь к нашему делу, то станете одним из его творцов и разделите нашу победу.
Готлиб невозмутимо слушал. Быть может, княгиня не ошибается. Но она защищает некое дело, и поэтому ее стоит остерегаться. Он прикоснулся пальцем к губам.
— Вы ведь гречанка, княгиня. Как получилось, что вы служите тем, кто поработил вашу страну? И Констанца не ваш родной город. Неужели вы тут лишь для того, чтобы подстерегать проезжих прибалтийских немцев и вербовать их на службу Высокой Порте?
Вопрос был дерзким, но Готлиб решил прояснить ситуацию.
— Полиболосы живут в Константинополе испокон веку, — ответила она. — Как и Ипсиланти, Маврокордато, Кантакузены, Комнины и многие другие. Обязательно ли накладывать на себя руки, если побежден? Тогда бы не слишком много народу осталось на земле. Римляне-победители научились говорить по-гречески, на языке побежденных. Османы тоже оценили наш опыт и наше терпение. Они доверяют нам управление землями Восточной Европы, которые мы знаем лучше, чем они. Мой супруг был наместником Бессарабии. Год назад его унесла лихорадка. Я жду его преемника. И пока выполняю его обязанности.
Фрейлина сделала знак слуге, и тот подал поднос с кувшином из голубого хрусталя, украшенного золотом, два таких же кубка и блюдо засахаренных абрикосов. Напиток напоминал оршад. Готлиб попробовал его и поднял брови.
— Миндальное молоко, — пояснила княгиня.
— А если я отклоню ваше предложение? — спросил он.
— Я буду огорчена. Из-за сожалений, которые будут мучить вас всю оставшуюся жизнь, — ответила она, поднося к губам засахаренный абрикос.
Из приличия он удержался от смеха.
— И кто же будет руководить моими дальнейшими действиями?
— Вы сами. Ситуация ведь проста: надо изолировать Австрию и Россию, помешав им заключить союзы, которые вовлекли бы Францию, Англию или Пруссию в вероятный конфликт с Высокой Портой.
— Но как я этого добьюсь?
— Приобретя доверие французов, англичан и пруссаков. Для этого и нужен ваш талант. Чем выше будет ваш престиж, тем большего успеха вы достигнете. Не сомневайтесь: женщины будут на вашей стороне. Однако никогда не позволяйте им властвовать над вами. Впрочем, мой совет кажется излишним, — добавила княгиня, усмехнувшись.
Готлиб чуть улыбнулся в ответ.
— Не похоже, что вы женаты, — сказала княгиня. — Есть у вас любовница?
— Это было бы то же самое, но не так удобно.
— Неужели женщины вам безразличны?
— Если не хотят покоряться мне.
Услышав такой ответ, княгиня задумчиво, если не скептично, посмотрела на него.
— Женщинам надо что-нибудь обещать.
— Дарить удовольствие и вдобавок связывать себя обещаниями?
— Это что, новые представления балтийских немцев о чувстве? — усмехнулась княгиня.
— Я бы хотел быть уверен, что чувство, о котором вы говорите, княгиня, не окажется блюдом, которое готовят горячим, а подают холодным.
Она обдумала ответ, явно неожиданный для нее, потом улыбнулась.
— Сколько же вам лет?
— Девятнадцать и несколько месяцев.
— Как вы, такой молодой, стали таким черствым?
— Неужели я черств? Или вы хотите сказать, что у меня холодная голова?
— Неужели вы не мечтаете? Неужели ни одна любовница не вызвала у вас желания увидеть ее вновь?..
Мог ли он признаться, что у него никогда не было ни любовницы, ни даже плотской связи после тех гнусных вечеров в Лиме и Мехико? Нет, это была его тайна.
— Если бы я и испытал подобное желание, то, скорее всего, к образу, который, быть может, не существует. Вы ведь гречанка и наверняка знаете изречение одного из ваших древних философов, Гераклита: нельзя дважды войти в одну и ту же реку.
Княгиня посмотрела на него, чуть приоткрыв рот:
— Вы пугаете. Известно вам это?
— Я был бы огорчен, если бы испугал вас, княгиня, — ответил Готлиб, улыбаясь. — Вы бы решили, чего доброго, что я беру реванш за тот ужас, который вы пытались мне внушить вчера вечером.
Она шевельнулась, подогнула ногу, отпила глоток миндального молока, потом посмотрела на своего собеседника.
— Интуиция не обманула пашу. Вы незаурядное создание.
Готлиб удивился перемене, произошедшей в этой женщине, еще накануне казавшейся такой непререкаемо властной благодаря своему опыту и высокому положению, обеспеченному вдовством. Она вдруг почувствовала себя безоружной, cтолкнувшись с характером, который представляла себе совсем иным.
Наступило долгое, напряженное молчание.
— Так что вы думаете о моем предложении? — наконец спросила княгиня.
— Оно лестно.
— Оно вас соблазняет?
— Я бы проявил легкомыслие, ответив сразу. Дайте мне время подумать.
— Завтра, — объявила княгиня, вдруг снова став властной, — от паши прибудет посланец, чтобы узнать о вашем решении.
Готлиб не торопился с ответом.
— А потом?
— Потом вас внесут в списки оттоманского правительства как доверенного человека и во все посольства империи будут разосланы письма, чтобы там это знали и оказывали вам всяческое содействие, где бы вы ни оказались.
— Какое содействие?
— Вам придется встречаться с людьми, о которых вы ничего не знаете; чтобы лучше их использовать, нужны сведения о них. Вам также понадобятся деньги для некоторых прочих нужд. Неплохо, если вы будете знать, что о вас говорят. Наши агенты это устроят.
Перед ним вдруг промелькнули события последних месяцев. Бегство из Мехико. Прибытие в Саутгемптон. Соломон Бриджмен. Симпатия, которую он внушил компаньону, заменив потерянного сына. И теперь вот перспектива сыграть некую политическую роль.
Он встал.
— Я отвечу вам за ужином, княгиня.
Она кивнула.
Готлиб решил прогуляться в садах на берегу моря. Политика. Он никогда об этом не помышлял. Все, кто олицетворял собой власть, казались ему гнусными чудовищами. Но, поднявшись на их высоту, он смог бы взять реванш. От такой перспективы кружилась голова.
Власть. Неужели это возможно? Не безумна ли эта женщина? Но тогда, выходит, и паша тоже?
Может, все из-за морского воздуха? Это внезапное осознание того, кем бы он мог стать? Он чувствовал себя полным жизни, почти ликования, это он-то, ни разу не испытывавший радости с тех пор как… С каких же пор?
Он засмеялся. Потом заскрежетал зубами. Однажды он найдет вице-короля Перу. Влепит ему пощечину. Велит его высечь. А потом предать смерти, чтобы тот сполна заплатил за гнусности, которые покрывал, пользуясь своей властью.
Возбуждение улеглось. Готлиб медленным шагом вернулся к вилле, глядя на паруса рыбачьих лодок, похожие на чаек, клюющих море.
Он обнаружил Альбрехта перед своей дверью, за игрой в шахматы с турецким слугой, и, используя язык жестов, попросил у турка что-нибудь поесть. Готлибу принесли половину цыпленка и бутылку светлого вина. Подкрепившись, он лег, чтобы поразмыслить. И через мгновение заснул. Проснулся незадолго до бани, и внезапная перемена в собственном настроении и планах на будущее заставила его заподозрить, уж не галлюцинация ли все это.
За ужином он вновь увидел княгиню. Они были наедине. Алексис куда-то подевался.
— Княгиня, — сказал Готлиб, — ваше предложение мне подходит.
Она кивнула и пригубила чашу вина.
— Тогда возвращайтесь в Вену.
Достав из кармана платья запечатанный конверт, протянула ему.
— Вручите эту записку графу Банати. Он вам скажет, что делать. Это мудрый человек.
Княгиня сопроводила свои слова долгим взглядом, от которого Готлибу стало не по себе. Потом он не раз вспоминал о нем.
— Граф, — заявила княгиня, прежде чем удалиться в свою опочивальню, — я хочу, чтобы вы подумали вот о чем: подлинная сила тайн лишь в том, что они завладевают нашими умами.
— А как же сами тайны?..
Она покачала головой.
— Сами по себе они невинны. Кошки, например, недоумевают, как это людям удается говорить.
Готлиб рассмеялся.
Вернувшись в свою комнату, он заметил по тяжелой поступи и неловким движениям Альбрехта, что тот злоупотребил токаем, и незамедлительно отправил его проспаться, поскольку они уезжали рано утром. С другой стороны, дневной сон притупил его собственную потребность в отдыхе. К чтению он не был расположен и потому вышел на террасу в одной сорочке и штанах, чтобы насладиться тишиной и ночным ветерком. В голове по-прежнему бурлили мысли, которые ему не удавалось ни успокоить, ни расставить по местам.
Вдруг Готлиб уловил какой-то шорох в кустах под балюстрадой и наклонился, чтобы обнаружить источник звука. Наверняка одна из кошек, недоумевавших, как это людям удается говорить. Но кошечка оказалась довольно крупной, со слишком человеческим личиком, — Даная. Может, узнала, что он уезжает завтра? Пришла в последний раз украдкой взглянуть на чужестранца?
Какое-то время они молча смотрели друг на друга, потом он спустился в сад, ожидая, что девушка бросится бежать, и был готов устремиться за ней вдогонку. Но Даная осталась, застыв в неподвижности.
Лишь запахнула на груди темную накидку, в которую куталась, надеясь остаться незамеченной, и прижалась спиной к опоре террасы.
— Чего вы хотите? — спросил он приглушенным голосом и схватил ее за руку, укрытую плащом.
Ответом ему был стон. Выпустив руку девушки, Готлиб нащупал под плащом ночную рубашку. Наверняка Даная покинула постель, повинуясь внезапному порыву. Левой рукой он провел по маленькой груди, исторгнув новый стон. И внезапно сорвал с девушки плащ и бросил на землю. В самом деле, на Данае была только просторная ночная рубашка из вышитого льна. Девушка попыталась бежать, он удержал ее. Насколько позволяла видеть темнота, она пристально смотрела на него своими черными глазами, но он не смог различить в них ни страха, ни другого чувства.
— Может, хотите что-нибудь на память? — спросил он, удерживая запястье княгининой племянницы одной рукой и задирая подол ее рубашки другой.
Собственные слова что-то смутно ему напомнили. Не произносил ли он их уже?..
— Не так… — задыхалась она. — Нет…
Даная билась, словно рыба в сети, когда он попытался снять рубашку через голову девушки, не выпуская ее запястье.
Наконец рубашка скользнула по девичьему плечу и повисла сбоку, словно тряпка, удерживаясь только проймой.
Теперь Даная осталась совершенно нагой.
Готлиб властно притянул свою добычу к себе и склонился к лицу девушки. Втянул в себя ее дыхание. Она ела на десерт что-то из розовых лепестков.
— Нет… — прохрипела Даная, но слишком поздно, потому что он заставил ее умолкнуть, прижавшись губами к ее губам.
При этом завел ей за спину руку с болтавшейся на ней ночной рубашкой и прижал девушку к стене. А свободной рукой стал ласкать тело, которое она больше не могла защищать. Долго гладил грудь, несмотря на ее неловкие попытки помешать ему. Вскоре силы покинули жертву. Он долго ласкал ее живот, потом его пальцы спустились ниже, к самой промежности, где он ожидал найти заветное рунцо. Но в этой стране женщины удаляли волосы с тела. Так что он беспрепятственно достиг цели, и его рука стала откровенно нескромной.
Он уловил на ее устах совсем иное дыхание и откинул ее торс назад. Даная выгнулась, устремив груди в небо.
Заметив, что она девственница, он воспламенился.
У него была свободна только одна рука. Как бы там ни было, приноровиться можно. Ему удалось расстегнуть верх своих штанов.
Девушка извивалась, как змея, быть может, от страха, может, от желания. Его член зажало меж ними. Она схватила его рукой, видимо желая отвести.
Но в самом ли деле она хотела этого?
Когда Готлиб попробовал войти в нее, рот девушки приоткрылся.
Нет, она не отстраняла его член, понял он с удивлением, а лишь направляла.
После первого толчка у нее вырвался вскрик. Готлиб заглушил его своими губами. Свободная рука Данаи скользнула к нему под рубашку. Теперь и она ласкала его. Но при этом была в слезах.
Готлиб сделал вид, будто выходит из нее, вернулся… и так далее.
Даная задергала плененной рукой, чтобы избавиться от своей рубахи. Он позволил ей это, и она ухватилась за его плечо, чтобы опереться обо что-нибудь.
Прошло совсем немного времени, и сильнейшая судорога сотрясла все ее тело. Она закричала — прямо в рот своему насильнику. Однако он еще не достиг своего.
Он продолжал трудиться над ней и не хотел, чтобы это когда-нибудь кончилось.
Даная закричала во второй раз. Готлиб опять заткнул ей рот поцелуем. И наконец излил семя. Она прижалась к нему с силой, которой он в ней и не подозревал.
По лбу Готлиба струился пот.
Он вышел из нее, оглядел долгим взглядом, провел пальцами по ее губам. И вдруг вспомнил, к кому были обращены слова «хотите что-нибудь на память?» — к служанке, пытавшейся отравить его в Париже. Он застегнул штаны и ушел в свою комнату. Не обернувшись. Нет, он не должен оборачиваться.
Запер застекленную дверь на засов и рухнул на кровать.
Последней его мыслью было, что он вел себя как дикий зверь.
21. ОПАСНЫЙ ПРЫЖОК
Граф Банати, человек лет под пятьдесят, с любезным лицом, сидел за письменным столом спиной к окну, положив перед собой распечатанную записку от княгини Полиболос. Он смотрел на графа Готлиба фон Ренненкампфа так, что тому стало слегка не по себе.
Что же написала княгиня этому Банати?
— Какие у вас связи с Высокой Портой, граф? — спросил наконец Банати по-французски.
— Никаких.
— И тем не менее вы собираетесь ей служить.
— А разве не этого от меня ждут? — спросил Готлиб, чуя ловушку.
Банати промолчал и сощурился, играя ножом для разрезания бумаг. Молчание явно предвещало некое важное заявление.
— Неужели вас не удивило, что христианка, чья страна порабощена турками, побуждала вас способствовать усилению их могущества?
— Удивило, — ответил Готлиб, вспомнив вопрос, который сам задал по этому поводу княгине во время их последнего ужина в Констанце. — Я даже спрашивал ее об этом. Она ответила, что османы высоко ценят опыт греков.
Банати кивнул.
— Но верите ли вы, что греки столь же высоко ценят свою неволю?
— Объяснитесь, граф, — сказал Готлиб, все больше раздражаясь при мысли, что опять дал себя провести. — Вы хотите сказать, что в предложении княгини не было никакого смысла?
— Нет, был. Но не тот, какой вы думали. Греки — все греки — желают только одного: освобождения своей родины, понимаете? Но Европе и дела нет, что отчизной Гомера и Еврипида правят мусульмане. Франция и Англия боятся задеть Высокую Порту. Греция для них принадлежит прошлому. Единственная страна, которая желает освобождения Греции, правда не из любви к Праксителю и Сократу, но чтобы отогнать турок подальше от своих границ, — это Россия. Она бы хотела также предотвратить рост австрийского влияния в Греции, на тот случай если Вена ее опередит.
Готлиб открыл рот от изумления.
Он вспомнил долгий взгляд, которым удостоила его княгиня во время их последнего разговора. До него дошло: прикрываясь вербовкой агентов для Порты, фанарская чайка служила делу своей страны.
Банати позвонил в колокольчик, и в дверях появился лакей.
— Принесите нам, пожалуйста, вина и каких-нибудь бисквитов, — попросил Банати. Потом опять повернулся к своему гостю. — Хочу надеяться, что не слишком вас разочаровал.
— Я ошеломлен. Ведь политические высказывания княгини были совершенно противоположны тому, что я услышал от вас, — ответил Готлиб, подумав, а не дурачит ли его и Банати.
Но тот возразил, словно забавляясь:
— Судите сами. — Он ткнул пальцем в письмо и прочитал вслух: — «Он из Ливонии, стало быть, привычнее к русским, чем кто-либо другой».
Пренебрегая вежливостью ради того, чтобы собственными глазами удостовериться в этих словах, Готлиб встал и склонился над бумагой. Потом медленно сел, потрясенный. Именно так княгиня и написала.
— Выходит, я должен поступить на службу к России, — пробормотал он.
— Я знавал и менее завидные судьбы, — заметил Банати.
Тем временем вернулся лакей, неся поднос с блюдом бисквитов, полным графином и бокалами.
Слуга налил Готлибу бледно-золотистого вина, потом наполнил бокал своего хозяина.
— И вы наверняка будете не единственный. — Банати поднял свой бокал с улыбкой и осушил его почти одним духом. — Княгиня имела в виду, что ливонцы граничат с русскими. Неужели же те будут к ним враждебны?
— Враждебнее всего относятся как раз к соседям, — ответил Готлиб, усмехнувшись. — Ливония сполна испытала тяготы зависимости от сильных стран. Но мы слишком маленькая страна, чтобы восстать.
Он неплохо выпутался: накануне, сразу по прибытии, наведался в книжную лавку, чтобы подкрепить свои знания о Ливонии и северных странах. И теперь вознаградил себя глотком вина.
— Это благоразумно, — заключил Банати.
— И что я теперь должен делать?
— То же самое, что делали бы для Высокой Порты.
Готлиб попытался определить по какому-нибудь признаку, кому служит сам этот человек: грекам или русским?
— И добавлю вот что, — продолжил Банати. — Вам придется встречаться с особами, чьи вкусы, конечно, не так изощренны, как у турок, но наверняка менее экзотичны. Я предлагаю вам освоиться с этим миром, и желательно, чтобы вы приобрели кое-какие из талантов, которые весьма ценят при дворах и в светских кругах, а именно: знание языков, истории и музыки. Вас ждут Эвтерпа, которой вполне можно доверить царство языков, Клио и Каллиопа.
Эта цветистая речь, да еще и сдобренная певучим акцентом, показывала, что и сам Банати обладал, по крайней мере, наружным лоском культурного человека. Готлиб пригубил вино: если бы оно не было холодным, то показалось бы резковатым, но его безыскусная терпкость, смягченная прохладой, приятно щекотала нёбо и располагала к разговорам. Вино философов и ораторов. Греческое вино.
— Стало быть, вы российский посланник? — спросил Готлиб.
— Ничуть, граф. Я венский советник его величества Виктора Амедея Второго, короля Сардинского.
— Сардиния — союзница России?
— Неофициально. Фактически она под протекторатом Австрии. Была бы сейчас под протекторатом Франции, если бы в начале века французы не проявили излишней подозрительности и не велели разоружить ее войска. Но на самом деле наша покровительница — всех нас, обитателей Средиземноморья, — это Россия, поскольку лишь она располагает необходимой силой, чтобы сдерживать турок. К тому же в моих жилах течет греческая кровь, которую я унаследовал от матери. Вы удовлетворены, граф? Я прошел испытание? — заключил Банати, коротко усмехнувшись.
— Простите меня, — поспешил оправдаться Готлиб. — Моим намерением было, конечно, не подвергнуть вас испытанию, но прояснить причины вашего предложения. Поймите мое удивление…
Сначала гречанка склоняла его к тому, чтобы он стал агентом Высокой Порты, но это оказалось лишь притворством, и вот теперь сардинец предлагает ему стать агентом России!
— Я понимаю его, граф, понимаю, — согласился Банати. — Вы еще не знакомы с политикой южан. Но княгиня дала мне понять, что у вас достаточно гибкий ум, чтобы разобраться в ее лабиринтах.
Банати покрутил свой бокал в пухлых пальцах, поглядывая на своего гостя с видом, который можно было определить как хитрый и продувной: словно старый кот, привычный к уловкам собак и мышей, учит кота-новичка уму-разуму.
— Значит, мне придется поехать и в Санкт-Петербург, — сказал Готлиб наполовину вопросительно, наполовину покорно.
Банати надкусил бисквит и покачал головой.
— Нет, не сейчас. Ситуация пока неясная. Императрица Анна, наследовавшая царю Петру Второму, который умер в этом году, только что взошла на трон и оказалась в довольно сложных обстоятельствах, поскольку является заложницей знати. Сомнительно, что она и ее фаворит Бирон смирятся с диктатом аристократии. Вы бы оказались между крайне враждебными группировками и рисковали бы совершить промах. Но будет полезно, если в ожидании поездки в Россию вы и в самом деле выучите русский язык.
Он встал, чтобы наполнить бокалы. При этом выглядел задумчивым.
— Княгиня дала мне понять, что вы не слишком много путешествовали? — спросил Банати.
— Побывал в Лондоне, в Париже, в Праге.
— Очень хорошо. Если позволите мне дать вам совет, потратьте год, чтобы поухаживать за тремя музами, которых я назвал. Мы не торопимся. И добавлю, что в наших странах женщинам принадлежит большая власть. Надо уметь их очаровывать, — сказал Банати, пристально глядя на Готлиба.
Готлибу вспомнился комментарий княгини насчет графа Банати: «Это мудрый человек». Но почему же он так на него смотрит? Неужели княгиня сообщила ему и о том, что считает ливонца холодным? Хотя, если Даная ей призналась, она по меньшей мере должна была изменить свое мнение.
— Вы женаты? — спросил Банати.
— Нет.
— Что ж, для соблазнения мужчине лучше быть холостым, в отличие от женщин, — заметил Банати. Потом вдруг сменил тему: — Каковы же оккультные науки, которыми вы занимаетесь, граф?
— Княгиня вам и об этом сказала? Паша в них не верит. Она тоже.
— Эти занятия поглощают гораздо больше времени, нежели приносят плодов, — заметил Банати. — Так что я в них ничего не смыслю. Но если у вас есть познания в этой области, не отвергайте их только потому, что не верите в них. Они очаровывают даже самых просвещенных людей. Это добавит вам влияния на тех, кто к вам расположен.
Банати вернулся к своему месту и сел.
— Я знаю только одну оккультную науку, граф, которая приносит настоящие плоды, — объявил он, — это наука власти. Ею я и призываю вас заняться.
Готлиб все еще был под впечатлением рискованного прыжка, который мысленно совершил, — сперва под влиянием княгини Полиболос, а теперь вот и графа Банати.
— Княгиня уверяет меня, что вы не стеснены в деньгах, — заключил Банати, открывая ящик своего стола. — Но ваше ученичество потребует расходов. Так что вручаю вам этот кошелек, но рекомендую умеренность.
Он встал, передавая Готлибу новехонький, внушительного веса кошель из черной телячьей кожи.
— Мы люди чести, так что расписку с вас не требую, — сказал Банати.
Готлиб кивнул и тоже встал.
— Вена — идеальный город, чтобы обучиться музыке и танцам. Советую побыть здесь несколько месяцев. Мой дом открыт для вас. Сообщите мне ваш адрес, когда будете его знать.
Банати проводил своего посетителя до двери и протянул ему руку. Готлиб ее пожал. Банати вздрогнул и бросил на него удивленный взгляд.
Когда замешательство рассеялось, Готлиб улыбнулся:
— Простите меня, я…
Банати по-прежнему пристально смотрел на молодого человека, потирая себе ладонь.
— Это странная особенность, которой я не могу управлять, — объяснил Готлиб.
На самом деле он уже мог управлять флюидом, если долго поглаживал рукой по дереву, но в своем смущении забыл об этом.
— Замечательная особенность, граф. Только подумайте, как она поспособствует вашей репутации, — заметил Банати.
Готлиб кивнул и поспешил уйти.
На улице его поджидал Альбрехт, едва сдерживавший свою радость со времени их возвращения в земли, которые называл «христианскими».
Приятный запах горящих дров разносился по улице, где проживал граф Банати; Готлиб остановился, вспомнив о кострах, которые они жгли вместе с индейцем Кетмоо в лесах Новой Испании. Сделал машинальный жест, словно отгоняя москитов от своего лица.
Потом вдруг снова увидел перед собой тело брата Игнасио. Прерывисто задышал.
Увидел мысленным взором и труп доньи Аны, трактирщицы из Майами.
Готлиб отдал бы целое состояние, чтобы увидеть, по-настоящему увидеть сейчас рядом с собой Соломона Бриджмена.
Он не писал ему уже много недель и твердо решил сделать это сегодня же.
Готлиб почувствовал себя одиноким и вспомнил слова из одного алхимического трактата, который купил во время своего предыдущего пребывания в Вене: начальную из двенадцати ступеней трансмутации символизирует первый знак зодиака — Овен. Это знак очищения огнем стремления.
Висентино де ла Феи обратился в пепел.
Следующая ступень — конденсация через соединение частей, то есть определение цели. Символ — Телец.
Ее он также миновал: теперь он стремился к власти. Он знал об этом. Он был целиком проникнут этим стремлением.
Альбрехт озабоченно наблюдал за ним.
— Хозяин? — пробормотал он.
— Я размышляю, Альбрехт, размышляю.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ БЛИЗНЕЦЫ И РАК (1743–1748)
22. КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ
Трепетная тишина повисла в зале Венской академии музыки на Пратере, словно застыл, не решаясь упасть, величественный занавес.
Стоя на возвышении перед полудюжиной профессоров и примерно двумя десятками учеников, граф Себастьян фон Вельдона опустил скрипку, достал батистовый платок из рукава и изящно промокнул себе подбородок. Потом положил скрипку на стол у себя за спиной.
Лежавшие на пюпитре ноты, страницы которых переворачивал ему один из студентов, остались открыты на финальных тактах партиты ре минор Иоганна Себастьяна Баха, хоть и написанной для виолончели, но только что блестяще исполненной на скрипке.
Грянули аплодисменты. Лица сияли.
Преподаватель графа Себастьяна профессор Генрих Бёрцма, похожий на кузнечика, маленький человечек с седой гривой, вскочил и подбежал к возвышению.
— Граф, ваша игра — самая прекрасная награда, на которую может надеяться преподаватель! — заявил он громогласно. Потом обратился к присутствующим: — Господа, вы сами могли оценить разумность фразировки, мягкое изящество легато и совершеннейшее чувство такта, обладание которым граф Себастьян только что продемонстрировал.
Новые аплодисменты, на сей раз разрозненные.
— Отметьте, что скрипка непостижимым образом передала всю чувственную полноту виолончели, — продолжил профессор Бёрцма.
— Полагаю, граф обязан этим своему имени, — заметил другой профессор, по фамилии Гроцманн, — ведь он тезка самого композитора.
Остроту приветствовали сдержанные смешки, разрядив атмосферу, становившуюся слишком уж торжественной.
— Быть может, граф Себастьян исполнит нам три вариации, сочиненные им на тему этой партиты? — предложил профессор Бёрцма, подняв голубые глаза на своего ученика.
— Охотно, — ответил граф Себастьян. — Тем не менее, маэстро, я бы хотел, если вы позволите, предложить вашему вниманию чакону и фугу на ту же тему, которые вы еще не слышали.
Бёрцма опешил.
— Вы сочинили чакону и фугу?
— Да, поскольку мне показалось, что вариациям в форме сонаты не хватает выразительности.
Бёрцма жестом пригласил его исполнять и уселся на свое место.
Себастьян взял скрипку, подтянул струну, положил подушечку на плечо и начал.
Зазвучал бассо остинато, навязывая свой танцующий ритм, и почти одновременно, словно играя сразу на двух инструментах, скрипач обозначил тему, потом дал вариацию, подхваченную бассо остинато, потом вторую вариацию, третью и так далее, вплоть до пятой. Тут, сочтя, что чакона послужила экспозицией, он начал развитие, потом стретту, которую повел вплоть до заключения первоначальной темы.
Он играл с такой сосредоточенностью, что пот выступил у него на лбу.
Последовавшая тишина была еще величественнее, чем в предыдущий раз, она почти оглушала. Потом все услышали, как Бёрцма вскричал прерывающимся голосом:
— Gott im Himmel! Wir haben… Ja, es erscheint, als wenn wir haben den Meister selbe gehort![30]
Первыми взорвались аплодисментами ученики. Они уже давно полюбили графа Себастьяна за его приятную наружность, щедрость, импровизированные вечеринки в таверне «Фиалки», но сейчас они рукоплескали ему за то, что он отомстил их учителям за пресыщенную и высокомерную снисходительность. Он был их героем.
Повскакав с мест, они устроили настоящую овацию.
Но преподаватели не попались на эту удочку. Граф Себастьян был всецело творением их гения.
Директор Академии, старый Вильгельм Вальдбах, друг Георга Фридриха Генделя, уважаемый и в Праге, и в Мюнхене, и в Берлине, встал и потребовал тишины.
— Граф Себастьян, — объявил он величаво, — я хочу вас поблагодарить.
Ничего подобного тут никто и никогда не слышал. Вальдбах благодарит ученика?
— Я выражаю вам благодарность за то, что вы публично доказали превосходство нашей системы преподавания.
И, повернувшись к залу:
— Пусть ваш пример вдохновит ваших однокашников.
Учителя зааплодировали.
— А теперь, господа, — продолжил Вальдбах, доставая из своего кармана старинные нюрнбергские часы в форме луковицы и бросив взгляд на циферблат, — поскольку полдень миновал, предлагаю отметить удовлетворение ваших учителей в «Фиалках».
Восторженные крики приветствовали это предложение. Себастьян сошел с помоста. Однокашники обнимали его и дружески хлопали по спине. Он радостно, но ничуть не самодовольно улыбался — изящно и без малейшей заносчивости.
— Если маэстро Бёрцма позволит мне пойти рядом с ним, я был бы весьма польщен.
Бёрцма стиснул его в объятиях изо всех сил. Ученики высыпали на крыльцо в веселом беспорядке и тут же грянули хором простонародный вальс: «Dufter Brisen die Walden, dufter Kiissen die Madchen».[31] Обычно он раздражал профессоров, потому что второй его куплет был довольно игривым, но сегодня они стерпели выходку, отнесясь к ней вполне благодушно.
Это и в самом деле был один из дней, которые бывают только в Вене. 11 апреля 1743 года, если быть точным.
На улице граф Себастьян заметил какого-то лакея, чья ливрея была ему знакома; они обменялись беглым взглядом, слуга незаметно приблизился к графу и украдкой сунул ему записку, которую тот спрятал в карман.
В таверне уже было немало выпито. Молодой граф Себастьян фон Вельдона встал из-за стола и направился к сарайчику во дворе. У двери постройки слуга протянул ему ночной горшок, полагая, что тот пришел облегчиться. Но молодой граф покачал головой, вытащил из кармана записку, прочел ее, сложил и снова сунул в карман. Затем дал слуге монету и попросил сходить за своей шляпой, указав, где та находится. В самом деле, Альбрехт сегодня не сопровождал своего хозяина, оставшись в нанятом доме неподалеку от испанской Академии верховой езды.
Надев шляпу, Себастьян покинул таверну и направился к жилищу графа Банати. А по дороге размышлял о тринадцати годах, прошедших со времени его первой встречи с сардинским дипломатом. За эти годы он учился сольфеджио, гармонии, скрипке и живописи. Изучил также русский язык и усовершенствовал свой немецкий. Наконец (и это главное), овладел искусством писать сжатые отчеты о том, что слышал и видел, как, например, во время двух заданий, порученных ему царским правительством при посредстве Банати — одно в Будапеште, другое в Копенгагене.
Себастьяну нравилось наблюдать, изучать характеры людей, которые, имея титулы, богатство, чаще всего жаждут еще и власти.
Человеческое существо, заключил он во время этих двух миссий, стремится только к власти и боится только скуки. Власть доказывает человеку, что он существует и является исключительной личностью, поскольку возвышается над другими. Скука же — эта могила чувств — напоминает о смерти.
Себастьян предполагал приобрести первое, изобретая лекарства против второго — то есть развлекая людей.
То, что он работал на русских, мало его заботило. Он вполне был готов делать то же самое для турок. На самом деле он работал только на самого себя. Несчастья его отрочества и преступление, избавившее от них, навсегда лишили его имени, родины, какой-либо постоянной привязанности, то есть дома и очага. Ну и что?
«Люди — пленники своего ничтожного Я, которым так гордятся, — часто думал Себастьян. — Им неизвестно, какую свободу мне дает моя вечная Безымянность. Сегодня ласточка, завтра олень, послезавтра рыба, почему бы и нет?»
Тем не менее одна назойливая мысль вертелась в его голове: в глубоких подвалах этого безымянного персонажа был заключен Исмаэль Мейанотте. Выйдет ли он оттуда когда-нибудь?
Но какого черта Банати вызывает его так скоро? Какие подземные толчки колеблют политику России?
Еще в прихожей Себастьян фон Вельдона услышал звуки голосов в библиотеке. Как только открылась дверь, он стал искать глазами того, кто, по всей видимости, и был причиной его срочного вызова. И увидел маленького, тощего человека с угловатой и властной физиономией, сидящего за столом. Судя по всему, он только что отобедал с хозяином дома. Слуги заканчивали убирать посуду.
— Добро пожаловать, граф Себастьян, — воскликнул Банати, вставая. — Представляю вам барона Засыпкина, который только что прибыл в Вену и желает с вами познакомиться. Он посланник вице-канцлера Бестужева-Рюмина.
Себастьяну было вполне знакомо названное имя: это был новый «сильный человек» в России.
Засыпкин слегка поклонился и протянул руку, бросив на Себастьяна пронзительный, испытующий взгляд. Тот выдержал его — без рисовки, учтиво, но уверенно. Ему было тридцать три года, уже давно не тот возраст, в котором ему приходилось смиренно выслушивать замечания Байрак-паши насчет слишком дорогих украшений или поучения самого графа Банати, отнесшегося к нему как к наивному юнцу, открывающему реальный мир.
Банати пригласил Себастьяна садиться. Им подали кофе.
— Мне кажется, — добавил Банати, — что граф Себастьян заметно улучшил свое знание русского, хотя и не могу судить об этом.
Засыпкин вскинул брови.
— Вас ведь зовут Готлиб фон Ренненкампф, верно? — спросил он по-русски. — Вы понимаете?
— На самом деле я…
— Почему вы сменили имя?
— Поскольку турки испытывали ко мне некоторый интерес, как вам, должно быть, объяснил господин граф, я предпочел года два назад стать другим человеком. Наверняка они решили, что я умер, — ответил Себастьян.
Он повторил вопрос Засыпкина и свой ответ по-французски, специально для Банати. Тут Засыпкин сообразил, что невежливо продолжать разговор на языке, который непонятен хозяину дома. Он повернулся к Банати, и тот кивнул.
— Хорошо, — продолжил барон по-французски, бросив на Себастьяна пронзительный взгляд. — Вы ведь наверняка наслышаны о событиях, которые произошли в нашей с вами стране за последние годы?
— Я знаю только то, что сообщают газеты и, разумеется, граф Банати, — ответил Себастьян, не оспаривая слова «в нашей с вами стране», поскольку Ливония отныне была частью России.
Целых четыре года череда конвульсий сотрясала Россию. После короткого и бесцветного, как и он сам, правления царь Петр II (сын царевича Алексея и внук Петра Великого) отдал Богу душу в 1730 году. В том самом году, когда Банати завербовал Себастьяна, тогда еще Готлиба фон Ренненкампфа. Трон перешел к Анне, герцогине Курляндской. Во время дворцового переворота она освободилась от опеки аристократии и разорвала грамоту, которую та ей навязала. Ибо Анна оказалась сильной женщиной. Она царила десять лет, управляя железной рукой, и перед смертью назначила наследником престола младенца Иоанна VI, сына своей племянницы Анны Леопольдовны, герцогини Брауншвейгской, а регентом — своего фаворита, курляндца Эрнста Иоганна Бирона. Потом Анна Леопольдовна сама стала регентшей вместо Бирона.
Казалось, что при русском дворе отныне полное засилье немцев, и Банати сообщил Себастьяну, что старая гвардия, все еще сохранявшая свое влияние, была этим очень недовольна. Потом вдруг произошел еще один дворцовый переворот, руководимый другой сильной женщиной, Елизаветой Петровной, дочерью Петра Великого. В ночь с 24 на 25 ноября 1741 года она собрала своих верных сторонников и отправилась в казармы гвардейского Преображенского полка. Там она обратилась к солдатам с речью, призывая защитить дело своего отца и Россию от чужеземного засилья (поскольку регентша Анна была немкой, то считалась противницей русских). Три сотни гвардейцев, возбужденные речью и давно недовольные правлением Анны, приветствовали дочь своего героя Петра Великого ликующими криками и тут же последовали за нею в Зимний дворец. Там регентшу Анну вместе с семейством взяли под арест. Ее министры тоже были арестованы. Второй переворот осуществился без единой капли крови.
Таким образом новой правительницей стала Елизавета и ее правая рука Бестужев-Рюмин. А кроме этого что нового?
Себастьян выслушал эмиссара из России, задаваясь вопросом: не готовится ли третий переворот?
— Новая политика вице-канцлера Бестужева-Рюмина состоит в том, чтобы заключить союз с англичанами и австрийцами, — объявил Засыпкин.
Еще один крутой поворот, подумал Себастьян. Однако ведь именно посол Франции в России Ла Шетарди побудил Елизавету взять власть, желая воспрепятствовать австрийскому влиянию при российском дворе.
— Вы поедете в Лондон, — объявил Засыпкин. — Будете информировать нас о тех, кто нам друг и кто враг. Особенно следите за французами. Пробудете там до тех пор, пока вам не поручат другую миссию.
Сердце Себастьяна подскочило в груди: он снова увидит Соломона Бриджмена, уже начавшего стареть. Единственного человека, который проявлял к нему бескорыстный интерес. Он кивнул.
— Чтобы не вызвать подозрений, возьмите французское имя. «Фон Ренненкампф» сразу же заставит насторожиться. У вас есть что-нибудь на примете?
Себастьян задумался; в памяти всплыли Париж и предместье Сен-Жермен, где селилась знать.
— Сен-Жермен?
— Почему бы и нет? — ответил Засыпкин. — Если вы должны здесь с кем-нибудь попрощаться, скажите просто, что отправляетесь на несколько дней повидать родных. Не открывайте подлинную цель этой поездки никому. Вашего слугу с собой не берите. Редкий слуга в конце концов не становится шпионом, надеясь на прибавку к жалованью. Нового найдете на месте.
Обычные рекомендации.
— Не привлекайте внимания к вашему отъезду, забирая с собой много вещей. Граф Банати позаботится о том, чтобы переслать вам все необходимое и продать ваш дом.
Себастьян опять кивнул. В любом случае Альбрехт не захочет еще раз последовать за своим хозяином слишком далеко.
На следующий день он отправился в Академию, чтобы попрощаться с маэстро Бёрцмой под тем предлогом, что едет на несколько дней повидать свою семью, по которой соскучился.
— Понимаю, понимаю, — сказал профессор. — Но, как бы там ни было, граф, никогда не забывайте, что обладаете небесным даром. Вы не только исполнитель, но также композитор. Никогда не позволяйте зачахнуть вашему таланту. Обещайте мне.
Профессор говорил так пылко, что Себастьян даже смутился. Потерев ладонь о деревянный стол, на который опирался, он взял своего учителя за руку и поднес ее к своему сердцу.
— Обещаю, маэстро Бёрцма.
Себастьян вернулся к себе домой и отпустил Альбрехта, щедро его вознаградив. Слуга рассыпался в нескончаемых благодарностях. Покончив с этим, Себастьян отправился на рынок и нанял другого слугу, итальянца, который показался ему довольно крепким малым, и купил ему по случаю серую с красными отворотами ливрею. На следующий день он отправил нового слугу Джулио к графу Банати, чтобы отнести ключ от дома и записку с перечнем вещей, которые хотел бы получить в Лондоне.
В десять часов утра они с Джулио сели в почтовую карету до Линца. Оттуда Себастьян намеревался добраться до Нюрнберга, потом до Гамбурга или Роттердама, чтобы сесть на отправляющийся в Лондон корабль.
23. СТРАННАЯ ИОАХИМШТАЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ
«Преимущество летних путешествий, — думал граф Себастьян де Сен-Жермен и Вельдона, — состоит в том, что можно читать, несмотря на скупой свет из маленьких окошек кареты, и тем самым отвлечься от неудобств дороги».
Он читал и перечитывал Ньютона, но не находил ни одного ключа к словам Соломона Бриджмена, уму которого, однако, доверял.
Читал также трактат по химии и написанный на плохом немецком труд о каббале, который купил в еврейском квартале Вены.
— Все здесь! — вопил старый книгопродавец с взъерошенной гривой. — Все! Современные люди так гордятся новой наукой, но они слишком самонадеянны. Древние знали все, а мы еще не расшифровали даже половину их знаний. На Земле нет ничего, что не согласовывалось бы с естественными законами. И древние, которые не занимались пустяками, как наши современники, поняли это.
Себастьян приобрел труд по непомерной цене и, читая его, думал, что Ньютон тем не менее открыл естественные законы тяготения, неведомые древним. Но открыл ли он только их? Или же сохранил про себя гораздо более глубокие откровения? Себастьян вспомнил слова Ньютона, которые ему передал Бриджмен: «Не будет страшнее бедствия, чем высшая тайна, ставшая достоянием низкого ума».
Может, и он сам — низкий ум, который еще ничего не открыл?
Себастьян оторвал глаза от книги и подумал о Лондоне. О сестрице Элспет, видевшей призрак за его спиной. И об изгнавшем его брате Хауинге.
Граф не знал, что ему делать с этими воспоминаниями, похожими на кошачий приплод, копошащийся в корзине. Он спросит об этом у Бриджмена.
Через два дня Себастьян добрался до Линца, где ему предстояло сменить экипаж. К счастью, перегон предстоял короткий, а другая почтовая карета была уже запряжена и стояла наготове. Граф вышел размять ноги и выпить стакан разбавленного вина в трактире «Коронованный олень». Там ждали отправления два новых пассажира до Нюрнберга; он уделил бы им лишь мимолетный взгляд, если бы один из них не привлек его внимание своей внешностью. Он был мертвенно-бледен. Несмотря на теплую погоду, на нем был застегнутый до подбородка плащ и митенки; казалось, его шатает малейшим ветерком. А когда стали грузить багаж, странный пассажир совершенно потерял равновесие, подавая свою большую дорожную сумку носильщику. Себастьян вовремя его подхватил и сам подал сумку, удивившись ее тяжести. Незнакомец пылко поблагодарил графа по-немецки, и Себастьяну снова пришлось поддержать его, когда тот залезал в карету. Так он обнаружил его плачевную худобу: плащ, можно сказать, не содержал почти ничего.
Но, усевшись напротив Себастьяна, бедняга вдруг посмотрел на попутчика заинтригованным и даже слегка оживившимся взглядом.
— Простите меня, сударь, — заявил он, — и позвольте представиться: меня зовут Ладислас Войцек. Вы были очень любезны со мной, и я вас благодарю. Но позвольте мне вам сказать, что, когда вы меня поддержали, мне оба раза словно обожгло руку, и я почувствовал себя лучше. Значит, вы обладаете особой силой?
Себастьян улыбнулся.
— Нет, конечно. Просто вас ободрила чужая доброжелательность. Я рад этому.
Казалось, это не убедило Войцека. Себастьян вновь открыл книгу о каббале, чтобы возобновить чтение, но вскоре должен был от этого отказаться, поскольку после Линца тряска стала откровенно ужасной. «При такой езде карета скоро потеряет колесо, если не свалится в одну из пропастей, окаймляющих дорогу», — подумал он. В тусклом освещении кареты Войцек казался еще бледнее, чем прежде. Себастьян вытащил из-под сиденья пакет с провизией, состоявшей из маленьких пирожков, купленных в Вене, и бутылки сливовой водки. Видя, что его визави в довольно жалком состоянии, Себастьян предложил ему угоститься, на что тот с удовольствием согласился.
Когда Войцек снял одну из своих митенок, Себастьян увидел, что рука бедняги покрыта красной сухой кожей. Его взгляд невольно задержался на этом удручающем зрелище.
— Иоахимштальская земля, — пояснил Войцек со вздохом.
Себастьян не знал, что это за земля, но заподозрил, что именно ею набита сумка пассажира.
— Не слыхали про нее? — удивился Войцек. — Хотя вы ведь, похоже, в отменном здравии. Ее применяют в лечебных целях. Средство просто чудодейственное, но, увы, для других, не для меня.
— Чем же она чудесна?
— Припарки из нее излечивают чахоточных. Порой даже совершенно безнадежных.
Себастьян удивился:
— Может, она содержит серу?
— Не знаю. Но, похоже, она идет во благо только больным, потому что мне она сожгла руки и тело. Я уже не первый год с ней вожусь.
— В самом деле, — заметил Себастьян, — злоупотребление лекарством может оказаться губительным для здорового человека. Но зачем вам постоянно с ней соприкасаться?
— Я добываю ее на своем участке, а потом продаю аптекарям, которые мне ее заказывают. И местным, и в Баварии. Я ее продавал по всем немецким княжествам, вплоть до Дании и Ломбардии. А сейчас собираюсь сделать значительную поставку в Нюрнберг. Но явно взял с собой больше, чем позволяют мои силы.
— Она дорогая? — поинтересовался Себастьян.
— В последние годы цена значительно возросла. Достигает сотни талеров за фунт, то есть девятьсот каратанисов.
Себастьян вскинул брови: это был доход средней буржуазной семьи за полгода.
— Но надобно сказать, — добавил Войцек, — что одного фунта хватает на тридцать припарок.
— Вы единственный разработчик месторождения?
— Пока да. Но предполагаю, что после моей смерти, которая наверняка уже не за горами, все мои залежи захватят родственники или воры.
— Но раз вы, если не ошибаюсь, богаты, то зачем самому перевозить эту землю?
Войцек печально улыбнулся.
— Три поставки, которые я доверил своим приказчикам, по назначению так и не прибыли, а люди исчезли. Две другие прибыли куда надо, я это знаю точно, но эти мошенники, которые только именуются аптекарями, утверждают, что ничего не получили. Я на этом потерял пятнадцать тысяч талеров. Это много.
— Наверное, эту землю вы и везете в дорожной сумке, которую я помог вам донести?
— Да. Там ее тридцать пять фунтов, плюс свинцовый ящик.
— Свинцовый ящик?
— Чтобы она не сжигала руки перевозчикам, не говоря уж о других частях тела. Мы испробовали и более легкие металлы, но по-настоящему защищает только свинец.
Себастьян заявил, что ему любопытно взглянуть на эту таинственную землю.
Всю оставшуюся дорогу Войцек подробно рассказывал о том, как аптекари и врачи применяют иоахимштальскую землю: смешивают ее один к пятидесяти с белой глиной, хорошенько разминают, чтобы получить однородную массу, и делают из нее своего рода корсет, который прикладывают к телу человека, пораженного чахоткой. Через два часа снимают, и чаще всего уже через несколько дней наступает заметное улучшение. Можно из нее делать также пластырь для излечения опухолей. Прикладывают трижды за два часа с интервалом в три дня. И опухоль порой уменьшается наполовину, а то и совершенно исчезает.
На следующей остановке, в Пассау, Войцек попросил грузчика снять сумку и перенести ее в трактир при станции. Когда он открыл ее, Себастьян увидел внутри большой еловый ящик. Войцек с трудом поднял крышку — она тоже была обита свинцом. Ящик заполняла темно-серая, с металлическим отливом земля.
— Смотрите, — сказал Войцек, наполовину откинув крышку.
В полутьме казалось, что земля светится. И при этом излучает какую-то неведомую энергию.
Себастьян задумался. Посмотрел на Войцека, закрывавшего ящик.
— Сударь, — сказал он, — неужели вы и впрямь рассчитываете, при вашей-то изможденности, в одиночку доставить эти тридцать пять фунтов до Нюрнберга?
— Да, а что? — спросил тот, несколько озадаченный.
— А потом еще предпринять нелегкое возвращение?
Войцек захлопал глазами.
— Что бы вы сказали, если бы я купил у вас весь ваш груз, а вы налегке пустились бы в обратный путь?
— Весь груз? Но здесь тридцать пять фунтов!
— Что представляет собой три тысячи пятьсот талеров. Половину я вам оплачиваю звонкой монетой, а другую — векселем, выписанным на один венский банк.
— Но что вы собираетесь с ней делать?
— Я химик. Хочу изучить эту странную землю.
Войцек был в растерянности.
— Вы довольно богаты, — сказал он в конце концов, — если удовлетворяете свое любопытство по такой высокой цене.
— Для моего любопытства средства у меня найдутся. Я — граф фон Вельдона.
— Вы живете в Вене?
— Жил. Мои дела ведут меня дальше.
— Но как же ваш счет в Вене?
Себастьян улыбнулся.
— Сударь, вы получите деньги по этому векселю сразу же по предъявлении. У господ Видерманна и Майера.
— Я знаю этот банк, — пробормотал Войцек, явно колеблясь между относительным риском сделки и немедленным избавлением от своей тяжкой ноши. — Ладно, идет, — решился он наконец.
Сделку заключили тут же, прямо в трактире. Себастьян достал из своего чемодана гербовую бумагу и палочку сургуча, попросил у трактирщика перо и чернила, выписал вексель на предъявителя и запечатал его собственной печатью с инициалами I. М. Удовлетворенный Войцек объявил, что подождет почтовую карету, идущую обратно в Линц, а оттуда доберется до Пильзена. Себастьян же с Джулио продолжили путь, увеличив свой багаж на одно место.
В Нюрнберге граф де Сен-Жермен и Вельдона остановился на несколько дней, пока ему не изготовили менее громоздкую, но тоже обитую свинцом деревянную шкатулку. В нее он поместил около фунта иоахимштальской земли, пересыпая ее черпаком с очень длинной рукояткой, чтобы уберечь себя от испарений этого решительно слишком опасного лекарства. Потом велел навесить замок на большой ящик и оставил его на хранение в подвалах банка, поддерживавшего дела с его собственным.
Наконец он продолжил свое путешествие в Лондон.
24. МЫШИНЫЙ ИСХОД
В английскую столицу граф де Сен-Жермен и Вельдона прибыл морозным днем 15 ноября 1743 года. Нанял экипаж, чтобы его вместе с продрогшим Джулио доставили по адресу Соломона Бриджмена. Место показалось ему незнакомым, и он решил было, что кучер ошибся, но, приглядевшись получше, узнал подросшие деревья парка, а за ними и сам дом. Больше тринадцати лет прошло с тех пор, как Ян Хендрикс, тогда еще юноша восемнадцати-девятнадцати лет, расстался с Соломоном Бриджменом, отправляясь на Восток. Путешественник с волнением ждал этой встречи, поскольку не раз опасался, что уже никогда не увидит человека, который заменил ему отца и которому он был обязан по меньшей мере своим материальным благополучием.
Бриджмен выглядел чуть бледнее и слабее, чем прежде. Схватив своего гостя за руки, он долго смотрел на него с восхищением и нежностью. И не мог сдержать слез.
— Ян, — прошептал он, — вы как благословение небес перед моим последним путешествием.
— Вы мне кажетесь еще вполне крепким, Соломон, — запротестовал Себастьян. — Так что гоните прочь эти грустные мысли, от них и впрямь недолго заболеть.
— Вы правы, — согласился Бриджмен. — Едва увидев вас, я сразу же почувствовал себя лучше. И горю нетерпением услышать ваши рассказы.
Рассказы заняли три дня.
Услышав о последних событиях в жизни Себастьяна, и в частности о поступлении на российскую службу, Бриджмен сделался задумчив.
— Мой дорогой Ян, — сказал он, по-прежнему называя его этим именем, — вы ставите передо мной немалую проблему. Я с детства знал, что надобно хранить верность стране, которая вас вскормила, даже если об этом и не говорят в таких выражениях. Виселица — наглядный пример тому, что изменников не одобряют. Тем не менее не понимаю, какой стране вы должны быть верны, так что должен сдержать свою первую реакцию. Однако вы мне объявили, что собираетесь шпионить на английской земле в пользу иностранной державы — ведь именно этим вы собираетесь тут заниматься, если уж говорить начистоту. И я опять же должен бы вас разубедить, поскольку вы делаете меня сообщником предприятия, затеянного в интересах чужого государства.
В этом месте своей речи Бриджмен прервался. Себастьян обеспокоенно слушал его, не говоря ни слова. Оба вопросительно переглянулись.
Вдруг Бриджмен расхохотался.
— Тем не менее, как выяснилось, это государство желает установить дружеские отношения с Англией… и я как добрый англичанин могу лишь поздравить себя с этим.
Успокоенный Себастьян тоже рассмеялся.
— У вас, мой дорогой Ян, есть странный талант размывать нравственные границы. Вы совершили два убийства, а я вас одобрил во имя высшей справедливости. Вы взяли себе титулы, которые вам не принадлежат, и я опять должен был согласиться. Вы шпионите в моей собственной стране, и я снова приемлю это, вполне убежденный в вашей правоте. Я хотел бы предостеречь вас от этого постоянного нарушения человеческих законов, которое рискует погубить вас, но умолкаю, как только вспомню о том, что вы удвоили мое состояние лишь потому, что я отнесся к вам с симпатией. Что же за судьба у вас!
— Я и сам часто думал об этом, Соломон, — ответил Себастьян со смехом, — вспоминая вас в моменты одиночества.
Бриджмен покачал головой.
— Ума не приложу: как вы его выносите, ваше одиночество?
— Если я откажусь от него, то уничтожу себя.
Бриджмен опять печально покачал головой. Потом распорядился приготовить графу покои, те же самые, что и прежде, — синие. Он даже не спросил Себастьяна о его ближайших планах.
— Значит, я вас не стесню? — спросил тот.
— Наоборот, заполните пустоту, — ответил хозяин дома, посмотрев на Себастьяна проникновенным взглядом. — А теперь, если угодно, перейдем к столу. Я вам представлю состояние дел банка Бриджмена и Хендрикса. Он процветает.
Как только Себастьян вновь обосновался на старом месте, его первой заботой стало изучение свойств загадочной иоахимштальской земли. Если бы он сам не видел свечение, исходившее от нее в полутьме, он бы счел речи Войцека выдумками.
Но Себастьян не знал, с чего начать. После некоторых размышлений он решил поместить в нее какой-нибудь самый безобидный предмет. Он сорвал в парке веточку тиса и положил в шкатулку.
На следующий день Себастьян достал ветку. Та преждевременно засохла, но это все, что с ней случилось. Он перестал думать о ней. Ветка лежала на одноногом столике, рядом со шкатулкой. Ночью Себастьян проснулся в полной темноте: сквозняком задуло свечу на ночном столике. Он, ворча, пошел зажечь свечу от ночника в коридоре. Но, направляясь к двери, вдруг заметил крохотный, совсем слабый огонек на столе рядом со шкатулкой. Это было почти ничто, тусклая искорка, не ярче светлячка. Себастьян вышел, зажег свечу и, вернувшись, решил поближе рассмотреть источник света, думая, что это какая-то оптическая иллюзия. Оказалось, что светилась тисовая веточка. Себастьян был поражен.
Выходит, веточка дерева восприняла люминесцентную силу земли. За один день?
Себастьян поставил свечу в соседнем со спальней кабинете и вернулся к столу. Дал глазам привыкнуть к темноте. И ясно различил три светящиеся точки. Он не ошибся.
Озадаченный, Себастьян снова лег, но заснул не сразу.
На следующий день он снова задумался над свойствами иоахимштальской земли. Если при соприкосновении с ней предметы начинают светиться, то неплохо бы и алмазам придать добавочный блеск. Однако осторожность побудила испытателя выбрать для опыта наименее ценный из камней. Это был некрупный алмаз со многими изъянами в виде маленьких черных включений.
Вспомнив еще раз состояние рук Войцека, Себастьян взял алмаз каминными щипцами и положил в шкатулку. Потом засунул ее под шкаф, подальше от нескромных взглядов, чтобы кто-нибудь из лакеев или горничных не попытался ее открыть.
Себастьян попросил у несколько удивленного Бриджмена дать ему адрес лучшего торговца красками в городе и в сопровождении Джулио отправился купить все необходимое для масляной живописи и акварели — холсты, бумагу, краски, кисти, скипидар, масло, лак и палитру.
Он задумал подарить своему другу его портрет, написанный собственной рукой.
Бриджмен был ошеломлен и восхищен этой идеей и охотно согласился позировать, хотя, разумеется, не без доли скепсиса. Первый сеанс Себастьян посвятил подмалевку, сделанному разбавленной в скипидаре сиеной, — широкими, прозрачными мазками. Когда сеанс, длившийся добрый час, был закончен, оригинал поспешил взглянуть на свое изображение.
— Великие небеса, Ян! И вы скрывали от меня этот дар!
— Себастьян, с вашего позволения.
— Да, да, я забыл. Но это же… вылитый я! И всего за какой-то час!
— Я ничего от вас не скрывал. А ваши похвалы вы должны переадресовать тому венскому художнику, который обучил меня начаткам этого ремесла.
— Начатки! Нет, в самом деле, я изумлен! — воскликнул Бриджмен, повернувшись к своему протеже.
Во время следующего сеанса художник сперва положил густым слоем свинцовые белила там, где предполагались самые яркие цвета, — на вишневом бархатном жилете модели; свет, пройдя через киноварь и неаполитанскую красную, должен отразиться от белого фона и придать им большую яркость.
Через шесть сеансов, то есть дней через десять, портрет был закончен. Бриджмен не переставал восхищаться. Его доброжелательность, ум и завуалированная грусть были переданы столь красноречиво, что казалось, будто он ведет со зрителем задушевный разговор.
— Надо вставить портрет в раму! — решительно заявил Соломон.
— Подождите, пока он высохнет, потом я покрою его лаком…
— Нет, я сам позабочусь о раме, — запротестовал Бриджмен. — Сам ее закажу. Этот бархатный жилет… он же более настоящий, чем настоящий! Давайте съездим в город.
В карете Себастьян обратился к своему покровителю:
— Быть может, это повод устроить небольшой праздник? Что вы об этом думаете?
— Отметить окончание портрета? Охотно.
— Мне ведь надо делать свое дело, — пояснил Себастьян, усмехнувшись. — Вы могли бы пригласить кого-нибудь из тех, кто вращается в свете и не может обуздать свою словоохотливость.
Бриджмен засмеялся.
— Считайте, что они уже все приглашены!
— Видите ли, Соломон, вам лучше сказать, что вы оказали гостеприимство одному французу, который вернулся из путешествия по Востоку и желает познакомиться с обществом страны, которой восхищается.
— Понимаю, — кивнул Бриджмен.
Работая над портретом, потом готовясь к первому приему в Блю-Хедж-Холле, как отныне называлось жилище Бриджмена, Себастьян совершенно забыл про алмаз. И вдруг как-то после обеда вспомнил о нем.
Он поставил шкатулку на стол, взял щипцы и поворошил землю. Не найдя алмаз сразу, Себастьян уже испугался, что потерял его. Быть может, эта фантастическая земля поглотила камень, кто знает! Наконец, заметив, что щипцы что-то задели, выудил сильно запачканный алмаз; Себастьян протер его. И нахмурился. Камень изменил цвет, приняв светло-желтый оттенок. Он присмотрелся к пятнышкам и удивился еще больше. Самые крупные побледнели, став из черных серыми; теперь изъяны гораздо меньше бросались в глаза. А мелкие и вовсе исчезли: вместо них остались лишь едва различимые матовые пятнышки. Не приснилось ли ему это? Или он и сейчас спит?
Что же она такое, эта иоахимштальская земля?
Себастьян все еще стоял в задумчивости, когда в дверь постучали. Себастьян пошел открыть: оказалось, Бриджмен. Он редко заглядывал к своему молодому другу. По-видимому, хозяина дома, которого сопровождал слуга, что-то очень развеселило.
— Дорогой друг, — сказал Соломон, — должен вам сообщить кое-что необычайное и приятное: как утверждает Уильям, — он кивнул на слугу, — со времени вашего приезда в доме повсюду находят дохлых мышей. А что касается живых, то они, похоже, исчезли. Я подумал, что, быть может, вы знаете разгадку этой замечательной тайны?
Себастьян бросил взгляд на шкатулку, на пол и обнаружил, что кое-где просыпал ничтожное количество земли. Поморгав, он ответил не сразу:
— Послушайте, Соломон, мне надо рассказать вам об одном открытии…
И пошел притворить дверь.
25. СКАНДАЛ
Не прошло и трех месяцев, как граф де Сен-Жермен и Вельдона стал любимчиком лондонского света.
Хоть он и считался французом, а английская аристократия тогда отнюдь не благоволила к Людовику XV, его пригласили на майский бал к маркизу Вустеру, герцогу Бьюфорту. Там Сен-Жермен блеснул, танцуя с дочерью маркиза менуэт, который сам же и сочинил для маленького оркестра за полчаса до того. Этот подвиг вызвал в высшем свете такой восторг, какой способны стяжать лишь подвиги военные. Все восхищавшиеся портретом Соломона Бриджмена стали еще выше превозносить достоинства французского дворянина.
Всех поражали алмазы, украшавшие пуговицы, часы и башмаки графа де Сен-Жермена; знаменитый сапфировый кулон, некогда вызвавший неодобрение Байрак-паши, заблистал еще ярче в ореоле преувеличенных похвал. Однако это были всего лишь дополнительные штрихи к его многочисленным талантам, среди которых больше всего ценилось искусство графа вести беседу.
Уже одни его драгоценности успокаивающе действовали на гостей: этот человек богат, даже очень богат; он вовсе не из тех двуличных, вечно клянчащих в долг иностранцев. К тому же совсем не прожорлив — ест мало и едва касается своего бокала с кларетом. Матери девушек на выданье всерьез задумывались о возможности приобрести титулованного зятя, хоть и француза.
Но главное — графу удавалось одним своим присутствием оживлять даже самый тягостный вечер.
Его ценили тем больше, что он бегло говорил по-английски, а чуть уловимый иностранный акцент лишь добавлял пикантности и экзотики его обаянию — вполне хорошего тона. Речи графа украшала какая-то прелесть. Он бывал на Востоке и описывал пышность Высокой Порты и невыразимую печаль, которая охватывает в Иерусалиме верующего, когда он проходит по Крестному пути. Себастьян польстил склонности аудитории к роскоши и неге описанием скромных трапез — кофе со сластями и ликер из лепестков роз…
— Ликер из лепестков роз! — неизбежно восклицала та или иная дама.
— Дыхание от него остается благоуханным долгие часы, — уверял рассказчик.
Он исторгал слезы даже у мужчин, описывая грусть, с которой сам прошел, шаг за шагом, путем окровавленного бичами Христа к Голгофе.
— Но там ничего не видно, — говорил он, — кроме торговцев с равнодушным взглядом, которые погоняют своих ослов, навьюченных дынями и салатом. Какая же бесконечная грусть вас охватывает тогда! Наша всеобщая история началась именно в этих местах, простота которых сравнима лишь с их величием. И вот сегодня они в запустении под властью людей, которым дела нет ни до Бога, ни до Креста!
Обычно за этими проникновенными словами следовала глубокая тишина.
Графа приглашали раз десять, чтобы послушать этот рассказ. Хотя история, разумеется, была лишь вариацией на тему других рассказов, которые он внимательно прочел.
Но все это еще пустяки. После ужина у виконта Каслри некая певица из театра «Ковент-Гарден», Кларисса Пердью, должна была дать сольный концерт, исполняя под аккомпанемент клавесина произведения Пёрселла. Однако — вот сюрприз! — граф де Сен-Жермен и Вельдона предложил обогатить аккомпанемент скрипкой.
— Но кто же будет на ней играть? — вопросила виконтесса.
— Ваш покорный слуга, мадам.
Всеобщее удивление. Певица встревожилась, что кто-то будет пиликать, портя ее арпеджио, тем более что самозваный скрипач даже не видел партитуры. Но все же, хоть и неохотно, смирилась. Сен-Жермен встал позади клавесиниста, чтобы видеть ноты. На третьем такте пленительная сладостность звуков, которые он извлек из своего инструмента, и талант, с каким смягчал аккорды, оттеняя легато оперной дивы, вызвали почти благоговейную тишину. Конец первой арии был встречен бурными рукоплесканиями, а певица, великодушно признавая, что их удостоилось не только ее сопрано, но и скрипка, обернулась к музыканту и расцеловала его. Аплодисменты удвоились, приветствуя идиллию, рожденную под знаком Муз. Но когда Кларисса Пердью приступила ко второму отрывку, прощанию карфагенской царицы из оперы «Дидона и Эней», вечер вознесся на уровень главных событий столицы и его отголоски докатились даже до двора короля Георга П.
Граф Банати тоже уловил некоторые из них благодаря восторженному письму австрийского посла, адресованному друзьям в Вену; и он поздравил себя с тем, что его агент так верно последовал совету. От самого же Себастьяна вместе с голландской почтой пришло гораздо более трезвое послание:
«Вустер занимается политикой только для того, чтобы поносить Пруссию, а заодно и Францию, чьи территориальные притязания кажутся ему представляющими угрозу для английской безопасности. Когда я танцевал менуэт у него в доме, он мне заявил, что, если бы Франция ограничилась поисками славы только в изящных искусствах, англичане были бы ее лучшими в мире друзьями. Тем не менее его влияние велико, поскольку он стал близок к королю, поддержав его против принца Уэльского Фредерика, который мне кажется сумасбродом.
Каслри, которого рассматривают как следующего военного министра, благосклонен к сближению с Россией, при условии что порты на Балтике будут открыты для английского флота. Он считает, что только союз с Россией мог бы сдержать амбиции Франции и Пруссии.
В целом же, как я вам уже сообщал в своем первом послании, англичане отличаются неизменной подозрительностью ко всем странам, и эта подозрительность становится особенно яростной в отношении тех, кто мог бы им помешать или стеснить передвижения их военного и торгового флота.
Вы правы, музыка и живопись открывают немало дверей в этой стране.
Прошу вас верить в мою безупречную верность и благодарность».
Однажды вечером, когда Сен-Жермен был приглашен сэром Робертом и леди Кру в театр «Друри-лейн», чтобы оценить игру восходящей звезды английской сцены Дэвида Гаррика в комической пьесе «Лета», которая тогда наделала шуму, Себастьян во время антракта набросал на обратной стороне программки карандашный портрет леди Кру. Та и в самом деле была пикантной красоткой, за которой увивался не один волокита, и Себастьян подозревал, что она отнюдь не всегда была недоступна, поскольку во время спектакля то и дело толкала его ногой. Сэр Роберт, который своей супруге в отцы годился, полюбопытствовал, что он такое рисует, и, взглянув, воскликнул:
— Но, право, сударь!.. Вы же сделали это на моих глазах… Потрясающе!
Тут и леди Кру попросила Себастьяна показать ей набросок и, со многими ахами и охами, упросила подарить его ей.
Сэр Роберт предложил Себастьяну написать маслом портрет своей супруги. Леди Кру пришла в восторг.
— Я вам заплачу сколько запросите.
— Сэр, я бы не хотел отбивать хлеб у тех, кто зарабатывает этим ремеслом себе на жизнь. Клянусь вам, что не возьму за портрет ни пенни.
— Но, насколько я понимаю, вы за него беретесь?
— Сэр, учитывая удовольствие, которое я получу, откликнувшись на вашу просьбу, и то, которое рассчитываете получить вы, мой ответ — да.
Сэр Роберт был на седьмом небе. Леди Кру восторженно пищала. Они даже театр готовы были покинуть, лишь бы немедленно начать портрет.
Себастьян уже понял, с кем имеет дело, а потому настоял, чтобы позирование происходило в большом салоне четы Кру при открытых дверях, поскольку, как он сказал, ему необходим свежий воздух, чтобы сосредоточиться.
Первый сеанс состоялся через три дня. Себастьян знал, что сэр Роберт по всему Лондону расточает громогласные похвалы таланту француза, который способен передать сходство, три раза черкнув карандашом.
Леди Кру очень жеманилась. Опустила пониже декольте своего платья, чтобы как можно больше обнажить грудь. Себастьян наблюдал за этими ухищрениями совершенно безучастно, делая беглый набросок усевшейся в кресле модели. А та не спускала с него глаз, словно кошка, поджидающая мышь.
Потом леди потребовала, чтобы закрыли дверь салона: дескать, ей мешает сквозняк. Граф напомнил ей условие уговора.
— Тогда откроем окна, — сказала дама.
— При условии, что двери тоже останутся открыты, чтобы поддерживать движение воздуха, — возразил художник.
Леди Кру с досадой объявила, что на сегодня позировала достаточно. Позвонив в колокольчик, она потребовала, чтобы ей принесли рюмку портвейна, но даже не удосужилась предложить вина живописцу. Однако в любом случае подмалевок был готов, и явившийся тем временем сэр Роберт пришел в восторг. Леди Кру надула губки.
— Я нахожу, что похожа тут на монашку, — поморщилась модель.
— Дай-то бог, чтобы и другие монашки были столь же обольстительны, — возразил ее супруг. — Мы бы все ушли в монастырь.
Второй сеанс, три дня спустя, когда высох подмалевок, художник посвятил приданию цвета изображенной натуре. По правде сказать, леди была немного краснолица, но Себастьян наделил ее бледностью оттенка слоновой кости, чтобы подчеркнуть румянец щек и губ. Оттенил золотистыми отблесками темные волосы; наметил бирюзовую тафту платья и белое кружево на груди, потом выписал руку, придерживающую складки платья; эта последняя деталь придавала портрету удивительную жизненность: казалось, модель вот-вот скрестит ноги или встанет.
Леди Кру опять позвонила в колокольчик, на сей раз, чтобы ей подали чаю. С художником она не заговорила ни разу. Слуга оказался любезнее хозяйки: на подносе стояли две чашки. Тут явился и сэр Роберт; Себастьян понял, что ему было велено держаться подальше, пока не зазвенит колокольчик.
Комплименты старика вдвое превзошли предыдущие. Себастьян пил чай, посмеиваясь в душе и при этом испытывая чувство безнадежности. Но был полон решимости избежать любой сцены.
На третьем сеансе Себастьян понял, в чем дело.
По прошествии получаса леди Кру вскричала:
— Не понимаю, как вы можете писать портрет с модели, которая вас не волнует!
— Что позволяет вам думать, мадам, что модель меня не волнует?
— Вы холодны, как собачий нос. Я не слышала от вас ни единого комплимента.
— За меня, мадам, говорит моя работа, — сказал Себастьян, уточняя рисунок носа этой титулованной потаскухи и чуть-чуть затеняя ей глазные орбиты, чтобы придать некоторую таинственность той, в ком ее решительно не было.
— Боже, сударь, мне жаль женщин, которыми вы увлечены, если такое вообще возможно.
Себастьяну вдруг захотелось подойти к этой леди, по-гусарски задрать ей юбки и угостить таким комплиментом, который она смогла бы оценить. Но портрет был еще не закончен. В прошлом Себастьян уже дважды уступал подобным искушениям, а если предположить, что поддастся и на этот раз, то рискует обременить себя тайной связью, которая, если не повезет, может затянуться на все время его пребывания в Лондоне. Однако у него не было ни малейшего желания слушать в постели визгливое кудахтанье леди Кру.
— Мадам, — ответил он любезно, — я приглашен сюда как живописец, а не жеребец.
Она пробуравила его взглядом, схватила колокольчик и в бешенстве зазвонила.
Тут опять явился сэр Роберт в сопровождении лакея, остановился перед мольбертом и пришел в экстаз.
— Какой цвет лица, какой взгляд… А эта тафта! Но какой блеск! Какие краски! Ах, сударь, вашей кистью наверняка водил сам ангел красоты!
— Рад, что портрет вам нравится. Я думал назвать его «Весна в салоне», — ответил Себастьян, бросив взгляд на недовольную леди Кру.
— Чудесная мысль! Когда этот великолепный портрет будет закончен, я дам ужин, чтобы представить его своим друзьям.
Красотка скривилась с досады. На следующем сеансе она беспрестанно ерзала, и Себастьян решил закончить портрет немедленно, чтобы избавиться от дальнейших выходок леди Кру.
За ужином, состоявшимся неделю спустя, Себастьян обнаружил присутствие некоего высокорослого мужчины, который неприязненно его рассматривал. Он догадался, что это воздыхатель леди Кру, и больше не обращал на него внимания.
Поскольку в последние недели только и говорили, что о попытке Молодого Претендента Карла-Эдуарда Стюарта отвоевать английский престол с помощью шотландцев, беседа за столом тоже вертелась почти исключительно вокруг этой темы. Два дня назад, 7 декабря, армия герцога Камберленда вынудила слабые войска принца-якобита, поредевшие от усталости, голода и дезертирства, повернуть на север.[32]
Было общеизвестно, что французы поддерживают Стюартов, впрочем, Карл-Эдуард еще в прошлом году пытался добраться до Шотландии на борту вышедшего из Нанта французского корабля «Ла Дутель» в сопровождении военного фрегата «Элизабет», но им обоим преградил путь английский «Лев», и они были вынуждены вернуться во Францию.
Себастьян выдавал себя за француза, так что его популярность несколько поблекла, и светскими успехами он был обязан исключительно своим талантам рассказчика, музыканта и художника.
Как раз о поддержке французами Молодого Претендента и спросил Себастьяна за столом воздыхатель леди Кру, которого звали Патриган:
— Как вы полагаете, сударь, удастся ли Франции заменить Ганноверов Стюартами?
— Не берусь судить, таковы ли действительно намерения короля Франции, потому что не принадлежу к его близкому окружению.
— Но очевидно же, что французы ведут себя как враги английской короны, — настаивал Патриган.
— Боюсь, сударь, — ответил Себастьян, — что ваши выводы несколько поспешны. Французы не получали приказа проявлять враждебность к англичанам, как вы сами можете судить по моему присутствию здесь.
Разговоры прервались, и все ловили каждый звук этого словесного поединка, ожидая, что он получит и другое продолжение.
— Но что вы делаете здесь, сударь? — спросил Патриган еще более надменно.
— То же самое, что и вы: воздаю честь гостеприимству сэра Роберта, которого мы рискуем смутить своей перепалкой.
— Правда, — вмешался наконец хозяин дома. — Я счастлив видеть вас обоих за моим столом, но мне кажется, вы забыли, Патриган, саму причину нашей сегодняшней встречи — окончание великолепного портрета, который граф де Сен-Жермен написал с моей супруги.
— И который отнюдь не враждебен английской красоте, — поддакнула соседка Себастьяна.
Всеобщий смех развеял неприятное впечатление от недавних колкостей, но глаза Патригана сверкнули гневом. Себастьян решил, что будет разумнее уйти сразу же после ужина, как только позволит учтивость, чтобы избежать стычки с надоедливым нахалом.
Но все вышло не так. В тот самый момент, когда он прощался с сэром Робертом, у дверей произошла некоторая заминка и в зал вошли два королевских офицера с приказом арестовать графа де Сен-Жермена и Вельдона как сообщника Карла-Эдуарда Стюарта в его попытке поднять мятеж в Англии.
Себастьян опешил и при этом встревожился. Он мельком заметил восторг на лице леди Кру и спросил себя, какую махинацию та могла измыслить.
— По приказу короля, сударь, соблаговолите отдать мне вашу шпагу, — объявил первый офицер. — Обыщите этого человека, — приказал он младшему по званию.
Лейтенант приблизился к Себастьяну, не обращая внимания на протесты сэра Роберта Кру. Ощупал его карманы, засунул руку в один из них и, к еще более возросшему недоумению Себастьяна, вытащил оттуда запечатанное письмо. Лейтенант изучил печать, потом сломал ее. Нахмурившись, прочитал письмо. И бросил на Себастьяна презрительный взгляд.
— Сударь, — заявил он, — ваше предательство не в том, о чем мне сообщили, но оно еще более гнусно.
И он начал отцеплять шпагу от пояса француза.
— Но, в конце концов, офицер, не угодно ли объяснить нам, что происходит у меня в доме? — воскликнул сэр Роберт.
— Вот, сэр, судите сами, — ответил королевский посланец, протянув ему письмо.
Сэр Роберт прочел его и ошеломленно воззрился на Себастьяна.
— Да что в этом письме, наконец? — воскликнул тот.
При этом он заметил сардоническую ухмылку на довольной физиономии Патригана, стоявшего за спиной хозяина дома.
— Это послание Молодого Претендента, который благодарит вас за посредничество, поскольку вы добились для него благосклонности миссис Фицкраун, и просит вас и дальше поддерживать ее в том же расположении, — ответил удрученный сэр Роберт.
— Но это же дурацкая выдумка! — воскликнул Себастьян. — Я не знаю никакой миссис Фицкраун и никакого претендента, ни молодого, ни старого.
— Сударь, — ответил королевский офицер, — ступайте за мной. Я должен препроводить вас в Тауэр.
— В Тауэр!
Неодобрительный ропот поднялся среди гостей. Но приходилось следовать за офицерами в мрачную тюрьму.
Высокие зарешеченные окна, прорубленные для того, чтобы освещать зал, в который около девяти часов вечера офицеры ввели Себастьяна, едва пропускали тусклый декабрьский свет. А факелы в железных подхватах на стене окрашивали сцену в кровавые тона, делая обстановку еще более зловещей. Багровая полумгла словно сочилась низостью, ненавистью и местью. Можно было подумать, что это застенок инквизиции.
Голодный Себастьян провел ночь в ледяной камере, без всякой возможности общаться с внешним миром, и, следовательно, не мог предупредить Соломона Бриджмена, чтобы тот нанял адвоката. Один из офицеров сообщил ему, что придется ждать завтрашнего утра, когда он предстанет перед следственным судьей, и только тогда станет ясно, позволено ли ему отправить послание в город или нет.
Себастьян опасался худшего. Против него была сплетена интрига, и если арестовывать его пришли офицеры короны, это наверняка означало, что у врагов есть сообщники во дворце; а что можно поделать против королевской власти? Он приготовился к пародии на правосудие, где ему предъявят и другие ложные доказательства его вины.
Ему почему-то вспомнились видения Элспет Партридж и Бабадагской прорицательницы. Он решил, что его ждет ужасная кара. И даже опасался увидеть в этот миг призрак брата Игнасио.
Себастьян попытался определить момент, когда кто-то мог подсунуть ему в карман письмо, и вспомнил, что, направляясь к столу, беседовал с дамой неопределенного возраста и по пути столкнулся с гнусным Патриганом. Быть может, это случилось именно тогда. В любом случае торжествующие физиономии Патригана и леди Кру ясно доказывали, что они были в сговоре.
Эта потаскуха мстила за пренебрежение.
В зал вошел какой-то бритый, сутулый человек в белом парике, какие носят судейские чиновники короны, и направился к большому готическому столу. Смерил взглядом стоящего перед ним арестанта и сел. Его тонкие губы, казалось, были способны изрекать только зловещие приговоры. Стоя с пером в руке перед толстой, открытой на чистой странице тетрадью, ждал судебный секретарь. По кивку судьи писарь снова сел и стал слушать.
— Задержанный, ваша честь, — сказал первый офицер, сделав Себастьяну знак подойти поближе.
Судья опять посмотрел на него. В свете факелов блестели алмазы.
— Вы граф де Сен-Жермен и Вельдона? — спросил человек в черном.
— Да.
— Это ваше настоящее имя?
— Сэр, в силу своего очень высокого происхождения я не вправе открыть мое настоящее имя прежде, чем будет доказана моя виновность. А она не может быть доказана. Пока граф де Сен-Жермен и Вельдона и именно под этим именем проживаю в Лондоне.
Перо заскрипело по бумаге. Судья состроил недовольную мину.
— Где остановились?
— У мистера Соломона Бриджмена, в Блю-Хедж-Холле.
— Каким ремеслом занимаетесь?
— Живу на ренту.
— Когда вы познакомились с Молодым Претендентом?
— Я никогда не был с ним знаком и даже не знаю, как он выглядит.
— Однако он написал вам письмо?
— Ваша честь, кто-то подсунул эту гнусную фальшивку в мой карман, когда я на минуту отвлекся. Я даже не знал содержания этого послания, пока офицер, присутствующий здесь, не вскрыл его и не дал прочесть хозяину дома, сэру Роберту. Неужели ваша честь допускает, что если бы я и в самом деле получил письмо от Молодого Претендента, то оставил бы его нераспечатанным в кармане?
— Письмо было запечатано, когда вы его нашли? — спросил судья у офицеров.
— Да, — ответил один из них смущенно.
— Кто его распечатал?
— Я, ваша честь.
Казалось, судья задумался.
— Вы готовы поклясться честью, — спросил он Себастьяна, — что не знакомы с Молодым Претендентом и никогда не имели с ним дела, пусть даже через третьих лиц?
— Безусловно. Клянусь в этом честью. Я не нуждаюсь ни в деньгах, ни в милостях Стюартов, и ничто на свете не вынудит меня исполнять презренное ремесло сводника.
— Знакомы ли вы с миссис Фицкраун?
— Никогда не слышал этого имени.
— Эта дама проживает в Эдинбурге, как мне сказали.
— Никогда не был в этом городе. А откуда эти господа узнали, что при мне письмо?
Судья нахмурился.
— Кто вам сообщил, что при графе де Сен-Жермене находится это письмо? — спросил он офицера.
— Сэр, к нам в королевскую полицию пришло анонимное послание, согласно которому некий француз, сообщник Молодого Претендента по имени Сен-Жермен, получил от Молодого Претендента письмо, содержание которого может заинтересовать службу безопасности короны. И что означенного француза можно найти на ужине у сэра Роберта Кру.
— Вы хотите сказать, — спросил судья ледяным тоном, — что явились на вечер в почтенный дом по простому анонимному доносу, изъяли запечатанное письмо у одного из гостей и вскрыли его?
— Могли ли мы поступить иначе?
Судья поморщился. Он долго изучал письмо, потом его взгляд задержался на печати. Он обернулся к писцу:
— Флавиан, вы не могли бы попросить хранителя архивов, чтобы он разыскал оттиск печати Стюартов и дал мне для сравнения? Если он может спуститься сам, скажите ему, что я был бы ему очень признателен. Ах да, прежде чем уйти, пододвиньте сюда, пожалуйста, какое-нибудь сиденье.
Писец по имени Флавиан принес табурет и поставил его перед письменным столом.
— Присаживайтесь, сударь, — сказал судья Себастьяну.
Оба офицера приуныли. В течение некоторого времени, которое показалось арестанту бесконечным, слышно было только потрескивание факелов.
Наконец снова появился Флавиан, а за ним следом человек в черной мантии с большой плоской коробкой в руках.
— А, доктор Калпеппер, — оживился судья, — вы очень любезны, что побеспокоились. Хочу обратиться к вашей компетентности. Не могли бы вы взглянуть вот на эту печать и сказать мне, может ли она принадлежать Стюартам, Старому или Молодому Претендентам? Флавиан, придвиньте кресло доктору Калпепперу и принесите нам свечей, чтобы лучше было видно.
Когда все это было сделано, доктор Калпеппер взял в руку послание, приписываемое Молодому Претенденту, бросил на него быстрый взгляд и, пожав плечами, заявил:
— Печать — грубая подделка, господин судья, это сразу бросается в глаза.
— Вы едва на нее посмотрели.
Калпеппер открыл коробку и достал оттуда два оттиска.
— Сравните сами. Красная — печать Молодого Претендента, приложенная к письму, которое мы перехватили в июне, а большая синяя — печать Стюартов.
Судья наклонился и кивнул.
— Секретарь, запишите: согласно экспертизе, проведенной доктором Исааком Калпеппером, директором архивов лондонского Тауэра, нарочно призванным по этому делу, печать, приложенная к посланию, найденному при графе Сен-Жермене и Вельдона, является несомненной подделкой.[33]
Оба офицера выглядели еще более растерянными, чем недавно.
— Доктор Калпеппер, благодарю за любезность. Господин граф, вы свободны. Прошу извинить за досадное недоразумение. Королевская полиция проявила излишнее усердие, будучи обманута некой злонамеренной особой.
Он бросил суровый взгляд на обоих офицеров.
— Соблаговолите немедленно вернуть шпагу графу де Сен-Жермену. И проводите его до дверей. Разрешаю выразить ему свои сожаления.
Себастьян снова опоясался шпагой, поклонился судье и покинул мрачное место. В вестибюле он обнаружил своего слугу Джулио, замерзшего и расстроенного. Малый прождал хозяина всю ночь. Через час Себастьян был уже в Блю-Хедж-Холле, где Соломон Бриджмен места себе не находил от беспокойства.
26. НЕИЗБЕЖНАЯ СМЕНА МАСКИ
История с Тауэром разнеслась по всему Лондону.
На следующий же день после своего освобождения Себастьян послал леди Кру драгоценную шкатулку с большущей живой жабой внутри. У твари на шее была ленточка с запиской: «Ваша душа, мадам, просит принять ее обратно».
Соломон Бриджмен хохотал всякий раз, когда вспоминал об этом.
Слуги сэра Роберта рассказывали, что их госпожа лишилась чувств от ужаса, услышав кваканье из открытого ларчика, и потом не выходила из комнаты целый день. Этот анекдот стал широко известен, а его комментаторы сошлись во мнении, что леди Кру столь же злонравна, сколь и распутна.
Три дня спустя среди многочисленных посланий с выражением симпатии и сочувствия, которые Себастьян получил от своих знакомых, оказалось приглашение на ужин от Уильяма Стенхоупа, графа Харрингтона, министра финансов и казначея Палаты.
Себастьян отправился туда с опаской, полагая, что клика, заставившая его провести ночь в тюрьме, так просто от него не отстанет и что приглашение такой важной особы, как лорд Харрингтон, скрывает другую ловушку. Но, согласившись с Бриджменом, который считал, что нельзя выказывать испуга, все-таки принял приглашение.
Стенхоуп прежде всего выразил сожаление о недоразумении, жертвой которого стал Себастьян.
— В дошедших до меня слухах утверждается, что интрига, сплетенная против вас, была одобрена королем, — заявил он. — Позвольте сказать вам, что в этом нет ни слова правды. И вот доказательство: его величество расспрашивал меня сегодня утром об этом инциденте. Он хотел знать подоплеку дела и был весьма удивлен историей с поддельным письмом от Претендента. Король рассмеялся и заявил: «Я знаю, что молодой Чарльз вертопрах, но все же не думаю, что он глуп до такой степени, чтобы прибегнуть к услугам сводника в Лондоне, поскольку, стоит ему сунуть сюда нос, как он тотчас же окажется в Тауэре!»
— Но я, однако, был арестован королевскими офицерами?..
— Это означает лишь, что у заговорщиков есть свой человек при дворе, а такое не редкость. Начато расследование. Будучи французом, вы оказались особенно уязвимы для этой отвратительной махинации.
Себастьян принял к сведению это замечание.
— По моему мнению, — продолжил Стенхоуп, — приближенного к королю сообщника меньше всего заботила месть какой-то дамы. Просто ему хотелось узнать, кто вы на самом деле. Так почему же вы этого не скажете?
— Раскрытие тайны, сэр, имело бы гораздо большие последствия, чем сам инцидент.
Стенхоуп обдумал ответ.
— Значит, вы этого никогда не сделаете?
— В свое время, сэр, в свое время.
— В любом случае позвольте мне дать вам один совет: если вы рассчитываете задержаться в Лондоне, дайте знать по крайней мере, и как можно скорее, принадлежите вы к друзьям или врагам Англии.
Второе замечание, достойное внимания.
Вернувшись в Блю-Хедж-Холл, Себастьян сказал себе, что напрашиваются два полезных вывода: один для него самого, другой для его российских опекунов. Во-первых, к французам в Англии относятся все хуже и хуже, и эпизод с Молодым Претендентом этому лучшее доказательство. Во-вторых, враждебность к французам расчищала поле для русской дипломатии. Себастьян принял решение.
— Соломон, это происшествие привлекло ко мне чрезмерное внимание. Все хотят знать, кто я такой. И вас это тоже может коснуться. Думаю, что мне разумнее всего уехать на какое-то время.
— В прошлый раз вы отсутствовали тринадцать лет, друг мой, — вздохнул Бриджмен. — Боюсь, что в следующий вы меня здесь не застанете.
— Я не знаю, надолго ли покидаю Лондон, дорогой друг, но мне надо уехать.
— Понимаю, — ответил Соломон, снова опечалившись. — В любом случае я заранее сделал необходимые распоряжения, чтобы после моей смерти вы стали единственным владельцем банка Бриджмена и Хендрикса. Вам потребуется только подписать в присутствии адвоката документы, которые сделают вас собственником.
— Под каким именем?
— Имя значения не имеет: главное, что я вам уступаю исключительное право на владение собственностью, которая будет отделена от того, что получат мои наследники. Ведь этот банк не был бы основан без вас, пусть даже я и вложил в него свои деньги. Так что вы выкупите мою долю в банках Лондона и Амстердама. У вас уже сейчас есть на это средства. После моей смерти они возрастут еще больше.
Настал черед Себастьяну загрустить. Он никогда не думал о смерти Соломона, но не мог отрицать, что, вероятнее всего, она наступит раньше его собственной.
— Выпьем по бокалу кларета, чтобы отогнать явно невеселые мысли, — заявил Соломон, открывая буфет и доставая оттуда бутылку и два бокала. — Какую судьбу вы уготовили вашему открытию удивительных свойств иоахимштальской земли?
— Не знаю. Я надеялся, что свинец шкатулки трансмутируется в золото. Но когда тщательно обследовал ее крышку, оказалось, что это по-прежнему только свинец, — сказал Себастьян с легкой улыбкой. — Не из этой земли состоит философский камень. А когда вспоминаю, что стало с руками того несчастного, который мне ее продал, отказываюсь верить также, что она могла или сможет послужить для изготовления эликсира юности.
Ему не хотелось приводить доводы Байрак-паши о бесплодности изысканий Ньютона: дескать, если бы ученый открыл секрет превращения металлов в золото, он был бы сказочно богат. А если бы добыл эликсир молодости, то и не умер бы.
— Замечательно уже то, что она очищает алмазы, — заметил Бриджмен.
Соломон поднял свой бокал, посмотрев на Себастьяна, потом прошелся по комнате взад-вперед.
— Видите ли, Себастьян, я много размышлял эти последние годы. И в конце концов задался вопросом: а все ли поиски Исаака Ньютона имели под собой основание? Он много возился со ртутью и нагревал ее. Но ведь этот металл выделяет пары, помутняющие рассудок. Мы знаем, как они воздействуют на шляпников, которые тоже используют много ртути и нередко повреждаются в уме.
Себастьян вспомнил одну из аксиом княгини Полиболос: «Подлинный секрет нашего мира, граф, это власть». В конце концов, может, он недооценил мудрость Востока…
— Вы хотите сказать, что секрета нет? — спросил Себастьян. — Или что поиск тайны сбил с пути вашего друга Ньютона?
— Одно не исключает другое, друг мой.
Себастьян был потрясен. Если даже Соломон признает, что нет никакого секрета, это значит, что он на протяжении стольких лет преследовал нелепую юношескую мечту. Вдруг ему вспомнилось другое высказывание, на сей раз графа Банати: «Если у вас есть познания в этой области, не отвергайте их только потому, что не верите в них. Они очаровывают даже самых просвещенных людей. Это добавит вам влияния на тех, кто к вам расположен».
— Что с вами? — спросил Бриджмен, заметив его сосредоточенный вид.
— Ничего, Соломон. Я думал.
Себастьян отправил послание Банати:
«Гнусная интрига, целью которой было выставить меня сводником Молодого Претендента Карла-Эдуарда Стюарта, и усугубленная тем фактом, что я французский подданный, стоила мне ночи в тюрьме. Я был быстро оправдан, но мое присутствие в Лондоне становится все более затруднительным.
Жители этого города и большей части Англии испытывают столь большую подозрительность в отношении французов, что это, по моему мнению, может только облегчить осуществление ваших планов.
Соблаговолите сообщить мне, куда я должен отправиться в ближайшее время».
Ответ пришел недели через две и был краток:
«Возвращайтесь. С голландским паспортом».
Приказ его озадачил. Рекомендация насчет паспорта была понятна: с начала войны за Австрийское наследство, то есть вот уже почти пять лет, Голландия и Англия были единственными верными союзниками Австрии и Франции, точно так же, как Испания, Пруссия, Саксония и Бавария — ее ожесточенными противниками. Но он не мог понять, какой прок от него будет в Вене.
Себастьян проанализировал сведения, собранные во время своих выходов в лондонский свет, пытаясь обнаружить смысл своего отзыва в австрийскую столицу. Он знал, что канцлер России Бестужев-Рюмин надежно укрепил свою власть во дворце, несмотря на происки многочисленных врагов, большинство которых, впрочем, были друзьями императрицы Елизаветы, явно завидовавшими влиянию этого человека.
Однако, согласно всем описаниям, канцлер представал этаким сторожевым псом, который бросался на малейшую тень, приближающуюся к дому своих хозяев. И, казалось, менял свои планы с недели на неделю.
Было очевидно, что война за Австрийское наследство скоро подойдет к концу. Пруссия, которая приобрела Силезию и прекрасную военную репутацию, скоро обеспокоит Россию. Собственно, она уже портила кровь российскому канцлеру. Стало быть, отзыв Себастьяна в Вену должен как-то вписываться в планы России на послевоенное время.
Поскольку графа прельщали сами неизвестные величины этого уравнения, он начал собираться в дорогу.
Себастьян решил взять с собой шкатулку с иоахимштальской землей и вспомнил, что алмаз по-прежнему там. Засунув камень туда во второй раз, он и думать о нем забыл. Открыв шкатулку с теми же предосторожностями, Себастьян вынул камень. И был поражен: алмаз теперь стал ярко-желтым, самого прекрасного оттенка. Пятнышки почти исчезли. Себастьян задумался. Он не был ювелиром, так на что же он мог употребить это свойство таинственной земли?
Утром он обнял Соломона и, как всегда, пообещал ему писать.
Он провел в Лондоне больше двух лет. 12 марта 1745 года, переплыв через Северное море, особенно бурное в это время года, по-прежнему в сопровождении своего слуги Джулио, он пустился в обратную дорогу к Вене. По счастью, главная ветвь банка имела свое отделение в Амстердаме, так что он располагал там временным пристанищем. Тем более что ему пришлось задержаться, чтобы выправить голландский паспорт.[34]
Он воспользовался заминкой, чтобы показать желтый камень ювелиру.
— Алмазы такого цвета редки, господин граф, — сказал мастер, — а этот еще и очень чистой воды. Если вы его купили, то не прогадали.
Себастьян задумался.
Прибыв в Вену 5 апреля во второй половине дня, он остановился в лучшей гостинице города и, едва освежившись, на следующий же день явился к Банати.
Оказанный ему прием развеял все опасения насчет немилости или упреков: он был принят немедленно.
— Расскажите-ка мне поподробнее о вашем злоключении, — сказал Банати, явно забавляясь. — Австрийский посол в Лондоне уже написал об этом ко двору.
А когда Себастьян закончил свой рассказ, заметил:
— Я вас предупреждал о влиятельности женщин. В любом случае, как вы сами мне написали, ваше присутствие в Лондоне стало менее необходимым, чем когда вы туда отправлялись. Канцлер сейчас хочет сосредоточить все усилия на изоляции Пруссии, даже если ради этого нам придется приобрести благосклонность Франции. Ваша цель здесь — вызвать интерес к этой стране. Так что вы сохраните имя Сен-Жермен. Вельдона мне кажется излишним.
Он позвонил в колокольчик и, когда появился слуга, приказал принести вина.
— Чего вы ожидаете от меня в Вене? — спросил Себастьян. — Ведь даже при голландском паспорте я ношу французское имя.
— Франция, граф, прекращает военные действия. Хоть она еще и воюет в Пьемонте, но только чтобы сохранить лицо. Король Людовик обладает достаточным здравым смыслом, чтобы признать очевидное: несмотря на потерю Силезии, Мария-Терезия завоевала уважение других наций. Да и на французов или на тех, кто носит французское имя, здесь смотрят уже не так косо, как три года назад. Общим врагом русских, австрийцев и французов в скором времени станет Фридрих Второй.
«Как я и предполагал», — подумал Себастьян.
— Маршала де Бель-Иля, — продолжил Банати, — хоть он и задал трепку австрийским маршалам Кевенхюллеру и Лобковицу, в скором времени ожидают в Вене.
Себастьян выразил удивление.
— Друг мой, не забывайте, что во время всех этих боевых действий Франция и Австрия не были официально в состоянии войны, — пояснил хозяин дома.
«Я все еще учусь», — подумал Себастьян.
— Засыпкин желает, чтобы вы способствовали перемене австрийских настроений в пользу Франции. Это позволит надежнее изолировать Пруссию, понимаете?
Себастьян кивнул.
— Для этого советую привлечь к себе, насколько это возможно, любопытство влиятельных людей. Вам нужен большой дом, где вы могли бы их принимать. Бывшая резиденция Виндишгрецев на Херренгассе сейчас закрыта, поскольку князь Карл-Август желает обосноваться на более широкую ногу. Но такая, какая есть, она, на мой взгляд, вполне представительна и подойдет вашему будущему положению. К тому же вы будете всего в нескольких шагах от Хоффбургского дворца, — добавил Банати с хитроватой улыбкой.
Себастьяна удивила уверенность, с какой Банати ставил на него. Но следующий вопрос наставника застал его врасплох:
— Похоже, вы очень состоятельны. Могу я спросить вас о происхождении вашего богатства?
— Помимо прочего я владею банком, — осторожно ответил Себастьян. — Простите, что опускаю его название.
Банати кивнул.
— А землями?
— Нет.
Банати выглядел удивленным.
— Засыпкин, — сказал он, — навел справки о Ренненкампфах. Их доходы не очень-то оправдывают ваше богатство. Он, следовательно, сомневается, что вы в самом деле принадлежите к этому роду, и спрашивает меня о вашем подлинном происхождении.
Опять этот вопрос! Обложили со всех сторон. Почувствовав жар на щеках, Себастьян понял, что покраснел.
— Я вам скоро отвечу.
Он отпил глоток вина. Ему надо как можно скорее найти приемлемое объяснение. Очевидно, одних денег недостаточно, чтобы обеспечить себе надежное место в обществе. И если маска слишком возбуждает любопытство, следует ее снять и подыскать другую, которая больше похожа на настоящее лицо.
— Когда я познакомился с вами, граф, вы были расположены работать на турок. Я убедил вас в вашей ошибке. Могу ли я спросить, почему вы верны России столько лет? Ведь вы, полагаю, ни разу не ступали туда ногой, и не знаю даже, есть ли в вас русская кровь, или здесь замешана женщина из этой страны. Вы отнюдь не нуждаетесь в деньгах, поэтому, не желая вас обидеть, замечу, что мы с Засыпкиным недоумеваем о причинах вашего постоянства.
Последовало молчание. Вопрос был оправдан. И он поразил Себастьяна: ему надо было давно спросить об этом самого себя. Он задумался.
— Быть может, вы отчасти знаете ответ, граф, — сказал он наконец. — В самом деле, я обеспечен. Веду легкую жизнь. И дело не слишком меня сковывает. А ведь человеку нужно какое-то дело в жизни.
Некоторое время Банати обдумывал ответ. Себастьян догадался, что тот оценивает его, как корову на скотном рынке.
— Вы посвящены? — спросил Банати.
— Во что? — не понял Себастьян.
— В масоны, — уточнил тот, улыбаясь.
Наступило долгое молчание. Себастьян интуитивно почувствовал, что в чем-то прогадал. Надо было ответить сразу. Был ли Засыпкин масоном? А Бестужев-Рюмин?
— Вам наверняка это предложат, правда, не могу сказать когда. Подумайте об этом.
И, поскольку Себастьян казался сбитым с толку, пояснил:
— Это братство просвещенных умов. Я считаю его благотворным. Солидарность умных людей может поддержать самые смелые замыслы.
— На масонство косо смотрят и в Хоффбургском дворце, и в Ватикане, — спокойно отозвался Себастьян. — Католическая церковь его осуждает. Принадлежность к нему была бы самым надежным средством погубить мою репутацию. Конечно, эта принадлежность тайная, но мы оба знаем, что такое тайны: самая расхожая вещь на свете. К тому же, если бы я захотел стать масоном, мне бы пришлось вступить в немецкую ложу. Считаете ли вы, что это соответствует обстоятельствам и планам Бестужева-Рюмина?
Настал черед Банати удивиться.
— Так вы осведомлены? — спросил он наконец.
— Меня прощупывали на этот счет в Лондоне, еще до моего злоключения.
Банати посмотрел на своего собеседника долгим взглядом, значение которого было ясным: сардинец начал понимать, что недооценил Себастьяна. Наверняка принимал его за авантюриста или пустого человека.
Но вопрос был полезен. Впервые со времени своего бегства из Мехико Себастьян осознал, что не имеет никакого плана. Он жил практически одним днем, двигаясь от неожиданности к прозрению. Между тем реальная власть находилась где-то в другом месте.
По ту сторону таинственных преград, на которые он беспрестанно натыкался.
— Я срочно выясню, что там с дворцом Виндишгрецев, — заключил Банати.
27. НА ДЕРЕВО НЕ ПЛЮЮТ
Сидя в халате, Себастьян потягивал утренний шоколад в своем кабинете на втором этаже дворца Виндишгрецев. Он обосновался там всего неделю назад, после двух месяцев переустройства, затеянного архитекторами и художниками.
— Господин граф, какая-то дама хочет вас видеть.
— Дама?
— С ней еще молодой человек.
— Молодой человек? — удивился Себастьян.
— Лет четырнадцати-пятнадцати, как мне показалось.
Себастьян заметил странный блеск в глазах Джулио.
— Она назвала свое имя?
— Я спросил, сударь. Но она не захотела отвечать.
Как, черт побери, эта посетительница разыскала его адрес? И кто она, черт побери? И почему отказывается назвать свое имя? Спровадить ее? Нет, это было бы трусостью. К тому же предчувствие подсказывало, что тут попахивает скандалом.
Себастьян встал и приказал:
— Проводите ее в музыкальную гостиную. Я сейчас спущусь.
Гостиная была одним из первых отремонтированных и заново обставленных помещений бывшего княжеского жилища. Себастьян завязал пояс шелкового узорчатого халата, поправил парик и стал спускаться, чувствуя, как колотится сердце.
В особняке повсюду пахло краской, еще не просохшим гипсом, опилками, воском, мастикой для пола, уксусом.
У двери музыкальной гостиной он узнал ее силуэт, хотя гостья и стояла к нему спиной. Даная!
Себастьян остановился, чтобы взять себя в руки. Слышала ли она, как он подошел? Женщина обернулась. Они смотрели друг на друга с расстояния в двадцать шагов. Он изобразил на лице приветливое выражение и направился к ней.
Но тут заметил молодого человека и вдруг почувствовал, как силы покидают его. Висентино! Нет, Висентино умер. Нет, Висентино воскрес. Нет…
Даная пристально смотрела на него. Ее хрупкая когда-то фигурка стала плотнее, бутон превратился в плод. Она показалась ему невыразимо прекрасной. Как все безвозвратно утраченное.
— Добро пожаловать, сударыня, — сказал Себастьян, ожидая, что она протянет ему руку.
Но Даная не шевельнулась. Похоже, встрече предстояло стать бурной, может быть, даже роковой. Даная благоухала жасмином и липовым цветом.
— Здравствуйте, — сказала она холодно. — Представляю вам вашего сына, князя Александра Полиболоса.
Князь Александр Полиболос! Титул, без сомнения, получен по милости старой княгини. Но от этого все равно кружилась голова: его сын, его собственный сын носит законный титул… Себастьян протянул молодому человеку руку. Тот пожал ее и, не отводя взгляда от лица графа, долго держал в своей, словно не веря. Отец и сын не могли оторвать глаз друг от друга.
У Себастьяна возникло ощущение, будто он пожимает руку призраку.
— Присаживайтесь, — сказал он им. — Что я могу вам предложить?
— Воды, — ответила Даная.
— Кофе, если можно, — сказал Александр.
— Я не ожидал, — сказал Себастьян Данае, — вновь увидеть вас…
— А вы, наверное, думали, что такой случай уже никогда не представится? — ответила она быстро.
— Я долго жил в далекой стране. Как вы меня разыскали?
— Через графа Банати.
Ну конечно. Не мог же Банати отказать племяннице княгини!
— Перейдем к делу, — заявила Даная, взяв стакан воды, который слуга подал ей на подносе. — Я приехала сюда не ради удовольствия и не из желания ворошить прошлое. И не для того, чтобы выпрашивать у вас что бы то ни было. Единственная причина моего присутствия в Вене — упрямое желание моего сына видеть своего отца.
Себастьян повернулся к молодому человеку. Попытался разгадать выражение его лица, уловить там признаки гнева или нежности, любопытства или грусти, но подвижные черты Александра не поддавались никакому анализу.
— Как я мог догадаться?.. — начал было он.
— А разве вам пришло в голову догадаться о чем бы то ни было? — отрезала Даная. — Александр знает все. Я не стала навязывать ему никаких чувств по отношению к вам. И продолжаю придерживаться этого решения. Ему самому судить.
Себастьян вопросительно посмотрел на Александра и, не получив ответа, сказал:
— Я еще не слышал вашего голоса, Александр.
Понимает ли мальчик по-французски?
— Вы меня пока ни о чем не спрашивали, отец.
Отец! Одно это слово повергло Себастьяна в трепет.
Отныне никакая маска не защитит его от этого юноши.
— Только не подумайте, будто я не разделяю боль, которую вы причинили моей матери, — ответил Александр. — Другое дело ее желание держаться от вас вдалеке. Я не судья, но с тех пор, как узнал о вашей встрече, меня беспрестанно мучает вопрос, почему вы были к ней так несправедливы.
Очевидно, у него тоже был учитель французского языка.
Вдруг Себастьян с ужасом осознал, что эти два человека, его собственный сын и мать мальчика, могли сорвать его миссию в Вене. Боже всемогущий! Неужели Банати потерял голову, сообщив им его новое имя и адрес? Ведь Даная-то должна знать, что граф де Сен-Жермен — русский агент! И она вполне могла разболтать это. Или же Банати невдомек, что связывает этих двоих и былого Готлиба фон Ренненкампфа? Требовалось срочно спасать положение.
— Человек, которого вы видите перед собой, уже не тот, что был когда-то, — начал Себастьян задумчиво и серьезно. — Тот был одержим воспоминанием о некоей драме, которая чуть не погубила его физически и духовно, превратив в затравленного зверя.
В лице Данаи что-то дрогнуло. По крайней мере, так показалось Себастьяну.
— По этой причине вы и собирались поехать в Индию? — спросила она.
Он кивнул.
— Да. Как можно дальше.
— Вы бежали от убийства, которое видела Бабадагская прорицательница? — спросил Александр.
Себастьян посмотрел на него с испугом.
— Значит, мать рассказала вам и о том ужасном вечере?
Юноша кивнул.
— Бабадагская прорицательница все еще жива. Это она мне сказала, что я должен разыскать своего отца, потому что он нуждается во мне.
Себастьяном снова овладела тревога.
— Моя мать и двоюродная бабушка уверили меня, что Бабадагская провидица никогда не ошибается.
— Кстати, как чувствует себя ваша тетушка? — спросил Себастьян у Данаи, чтобы сменить тему и дать себе время подумать.
— Никак, — ответила та. — Она умерла три года назад.
— Сожалею. И вы по-прежнему живете в Констанце?
— Александр проводит там большую часть года, поскольку воспитан моим кузеном князем Маврокордато, которого Высокая Порта назначила управлять Бессарабией. Правда, он скоро уступит свою должность преемнику и вернется в Стамбул.
Себастьян заметил, что тон Данаи несколько смягчился. И он был готов на что угодно, только бы отвратить угрозу, которой подверг его этот неожиданный визит. Она добавила:
— Чтобы вы знали: князь Маврокордато — мой супруг.
Себастьян принял информацию к сведению, не слишком понимая, на что ее употребить. Главное, что фанариоты по-прежнему на службе у турок.
— Где вы остановились в Вене? — спросил он.
— Граф Банати любезно предоставил нам свои гостевые покои, — ответила Даная.
— Не окажете ли вы и мне честь, приняв гостеприимство этого дома? Все-таки он не так убог, как гостиница, к тому же вы тут будете избавлены от общества клопов.
Александр засмеялся. Мать посмотрела на сына.
— Это наименьшее, что я могу сделать, — добавил Себастьян. — Ведь княгиня Полиболос предоставила мне когда-то столь щедрое гостеприимство…
Фраза была расчетливо холодна: выходило, что его приглашение мотивировано этим былым гостеприимством, а вовсе не долгом по отношению к девушке, которую он почти изнасиловал, и к сыну, который был от этого зачат.
— Я очень хочу принять ваше приглашение, отец, — сказал Александр, явно уступая желанию получше узнать своего доселе незнакомого родителя. — Конечно, если матушка тоже его примет.
Доброжелательность юноши обезоружила Себастьяна. Даная проявила меньше непосредственности.
— Я бы не хотела злоупотреблять вашим терпением, — обронила она.
Себастьяну представлялся случай развеять остатки враждебности, которую Даная принесла с собой.
— Мною движет не просто учтивость, княгиня Даная. В первую очередь это желание присоединиться к вашему созвездию, покуда вы здесь. Ведь оно было бы тройным, если бы я в свое время не поддался страху.
Даная посмотрела на него долгим взглядом. Что она передумала и перечувствовала за эти четырнадцать лет? Что была довольно легкомысленна, влюбившись в человека, на краткий миг заброшенного случаем к берегам Черного моря и столь же стремительно унесенного ветром в другие края? Что сама повинна в постигшем ее разочаровании? Что она никогда по-настоящему не знала отца своего ребенка? Что именно этому человеку обязана таким замечательным сыном? И о чем говорила ей покойная княгиня, ее тетка? Он догадывался: «Быть может, ты должна радоваться, что не связала себя с судьбой этого вечного странника». Да, он это чувствовал: только восточная мудрость старой княгини смягчила гнев и горе племянницы.
Внезапно он почувствовал себя усталым, как никогда. Что же за непрошеный гость преследует незнакомца в маске всякий раз, когда тот убегает от ответственности, напоминая ему о непостижимой реальности мира?
Себастьян позвонил в колокольчик.
— Княгиня, я велю приготовить покои вам и Александру.
Он встал. Даная протянула руку. Он поклонился и поцеловал ее долгим поцелуем.
— Мы увидимся за обедом, если хотите, — сказал Себастьян.
Александр встал.
— Значит, до скорого свидания, отец.
Отец. Опять это слово. Себастьян заметил, что ось его жизни пошатнулась.
На лестнице ему на глаза навернулись слезы. Поднявшись к себе, он отдал множество распоряжений: немедленно купить мебель, белье и все-все остальное, чтобы как следует разместить княгиню Маврокордато и ее сына.
По счастью, росписи стен и потолков были закончены и высохли, портьеры повешены, оконные стекла и хрусталь люстр промыты водой с уксусом, канделябры снабжены свечами, ковры выбиты и расстелены на полу. Не хватало только кресел, белья и прочих необходимых мелочей, таких, как кувшины для умывания и ночные горшки, вазы с цветами, дрова в каминах…
К полудню все было готово; Данаю с Александром проводили в новые покои, а слуги отправились к графу Банати за их багажом. Заодно доставили Банати записку, в которой помимо благодарности за гостеприимство Даная и ее сын сообщали, что поселились у графа де Сен-Жермена.
Стол для ужина был накрыт в библиотеке, полки которой уже частично заполнились книгами и всякими диковинами. Александр внимательно их рассматривал: куски породы с заключенными в них драгоценными камнями, природные кристаллы, раковины, чучела странных животных, китайские вещицы из слоновой кости…
Данаю же привлекло убранство комнаты, в частности полотно итальянского мастера в позолоченной раме, аллегорически изображавшее Астрономию: молодая женщина в синих одеждах возлагала руку на глобус в виде небесной сферы, обратив лицо к звездам. Потом взгляд гостьи изучил блюда, серебряные приборы и стоящий посреди стола высокий канделябр с восемью ветвями — свечи в нем горели над головами сотрапезников, чтобы свет не слепил глаза.
Но Александр все равно был ослеплен.
— Вы живете как принц, — сказала наконец Даная.
— Просто стараюсь как можно лучше вас принять, — ответил Себастьян, улыбаясь.
— Позвольте усомниться в этом. Сегодня утром вы не ждали ни меня, ни Александра. Нашли золотую жилу?
Он рассмеялся.
— Быть может, быть может.
— И она где-то неподалеку? — спросил Александр.
— Возможно, — ответил Себастьян, пригубив вино.
— Я знала вас как Ренненкампфа, а теперь вы Сен-Жермен, — продолжила Даная. — Какое же из этих имен настоящее?
— Ни то ни другое, быть может.
— Я могу понять, что вы окружаете себя тайной перед посторонними, — заметила она, — но сейчас рядом с вами мать вашего сына и он сам. Не кажется ли вам, что мы заслуживаем большего доверия?
— Я всецело доверяю вам обоим, княгиня, причем с нежностью, какую не испытывал ни к кому другому. Но я познакомился с Александром всего несколько часов назад, а вас не видел четырнадцать лет. И потому не знаю, каковы ваши чувства ко мне. Ведь вы сразу же объявили, что причина вашего визита — лишь любопытство Александра. Вы великодушно сдержали ваши упреки, но они от этого стали лишь очевиднее. Какой бы ни была моя вина перед вами, неужели вы полагаете, что это наилучшие обстоятельства для откровений, которых требуете от меня?
После этой защитной речи наступило молчание. Тем временем слуги переменили блюда, подав десерт с апельсиновым мороженым.
— Я понимаю, что вы имеете в виду, — заговорила наконец Даная. — Но хочу, чтобы вы знали: эти несколько часов, о которых вы говорите, изменили мое отношение к вам и, думаю, отношение Александра. Хотя это он вам сам объяснит.
Она пристально посмотрела на Себастьяна.
— Да, правда, я приехала только по настояниям сына. Они вполне законны. Но подумайте, какие чувства могут быть у женщины, влюбившейся совсем юной девушкой в мужчину, явно к ней безразличного, который овладел ею на краткий миг и оставил беременной. Они горьки, — сказала она, пробуя первую ложечку десерта.
Себастьян вновь вспомнил тот миг безумия в садах княгини, там, в Констанце. Он вел себя как лис, укравший и задушивший курицу.
— Мы оба были неблагоразумны. Разумеется, я не знала про этот неотступно преследовавший вас ужас, который вы так ловко скрывали под напускной непринужденностью. Я приблизилась к вашему пламени и, хотя образ неверен, обожглась. Моим утешением стал этот ребенок. Князь был достаточно великодушен, чтобы не отнестись сурово к моей неосторожности, и женился на мне через два года. Ради соблюдения приличий Фанара Александр был представлен как его внучатый племянник, сын одной из сестер княгини, умершей за границей. Поскольку муж моей тетушки был последним из Полиболосов, княгиня, не желая угасания рода, постаралась, чтобы фамилия и титул перешли к Александру. Налейте мне вина, пожалуйста.
Себастьян был поражен: положение Александра оказалось ненамного законнее, чем его собственное.
— Я спросила о вашем настоящем имени, — сказала Даная, — потому что сочла бы справедливым, если бы когда-нибудь Александр взял его.
Себастьян кивнул и подумал про себя: «Только вот какое?» — а вслух спросил:
— Вы сказали, что ваше отношение ко мне изменилось за эти несколько часов?
— Когда я увидела вас обоих рядом, ваше сходство меня потрясло, — призналась Даная. — Вы созданы друг для друга. Мое злопамятство было бы недостойно сына. На дерево не плюют.
— Значит, вы меня простили.
— Это не совсем то слово, — возразила Даная задумчиво. — Нет. Я поступила как птица, которая не борется с волнами, а перелетает через них.
Вслед за этими словами опять последовало молчание.
Слуга спросил, подавать ли кофе. Никто из троих сотрапезников не отказался: вечер, похоже, обещал быть долгим.
Себастьян перевел взгляд на Александра, тот улыбнулся.
— Мои слова гораздо проще, отец. Если вас это не стеснит, я хочу остаться с вами.
Глаза Себастьяна вдруг увлажнились. Он не мог сдерживаться долее и, закрыв лицо ладонями, разрыдался. «Хочу остаться с вами». Как же он мечтал сказать когда-то эти слова собственному отцу, сожженному на костре!
— Отец! — воскликнул Александр встревоженно.
Юноша встал, подошел к Себастьяну. Тот стиснул сына в объятиях.
— Отец, я вас огорчил?
Руки молодого человека обняли его за плечи. Себастьян покачал головой и погладил Александра по волосам.
Никогда мальчишка, сбежавший переодетым из дворца вице-короля в Мехико, не думал, что переживет подобные мгновения.
Себастьян достал платок из кармана, вытер глаза, высморкался и посмотрел в пустоту перед собой. Пустота перестала быть пустой.
Даная растроганно смотрела на них.
Себастьян прочистил горло и велел подать кофе в музыкальную гостиную.
28. ПАМЯТНЫЙ ВЕЧЕР
Прибытие Александра в его дом снова подхлестнуло в Себастьяне воодушевление, прежде не раз угасавшее.
Он был богат и не имел таких потребностей, которые не мог бы удовлетворить. Те деньги, что велел выплачивать ему канцлер Бестужев-Рюмин, лишь в очень скромной степени способствовали поддержанию его образа жизни.
Служба неведомой державе, России, управлявшейся женщиной, о которой он тоже почти ничего не знал, сначала потакала его жажде власти, но затем расставила силки, о которых он раньше не подозревал: эти люди хотели знать его настоящее имя, происхождение его богатства, причины, по которым он не женат… Несмотря на любезную участливость Банати, заметно повлиявшего на определение его роли в обществе, годы ученичества оставили у него чувство, что он всего лишь винтик в каком-то грандиозном механизме. Стало быть, в перемене политики Бестужева-Рюмина он совершенно ни при чем.
Он согласился на последнюю игру, предложенную Банати — склонять австрийцев в пользу Франции, — только потому, что Вена его и самого прельщала, а также из осторожности: ведь если граф де Сен-Жермен внезапно ее покинет, могут заподозрить, что он перешел на службу к другой державе.
Присутствие Александра в его доме укрепило стремление Себастьяна к власти.
Даная уехала в Стамбул через месяц после того, как привезла сына. Их прощание было почти нежным.
— Я уверена, что не смогла бы оставить Александра в лучших руках, — сказала она. — Сожалею только, что время помешало нашему с вами союзу. Впрочем, не знаю, как долго я смогла бы выносить ваши тайны.
Даная поцеловала Себастьяна в щеку, вызвав у него головокружение.
Он вдруг осознал, что нельзя вечно жить только для себя.
За одну неделю было нанято пять преподавателей: греческого и латыни, итальянского, французского, естественных наук, философии. Александра записали также в лучшую фехтовальную школу города, в гимнастический зал и испанскую Академию верховой езды.
Для встреч с отцом у него оставалось только время за ужином. Но зато каждый вечер, даже когда Себастьян устраивал большие приемы в своем дворце. И порой, просыпаясь внезапно ночью, он думал о сыне и не мог снова заснуть, пока не подходил на цыпочках к его спальне, чтобы посмотреть, как он спит.
Он одаривал его всем тем, чего не получал сам, — старая история. Но и сам заново обрел в сыне смысл существования, уже начинавший блекнуть незадолго до его появления. И амбиции, и замыслы Себастьяна обрели новую силу.
— Вы щедро удовлетворяете даже те желания, которых у меня нет, — признался однажды вечером Александр. — Кроме одного.
— Какого же?
— Чтобы моя мать была с нами. Не протестуйте. Я знаю, как судьба разбила это кольцо. Но я хочу знать: сожалеете ли вы об этом?
— Теперь, когда я вас узнал, да. Я и представить не мог, какие чувства вы во мне пробудите. Я бы хотел носить вас на руках, видеть, как вы растете. И поддержка, которую я оказывал бы вашей матери, была бы для меня столь же важна, как и та, что она оказывала бы мне.
Александр бросил на отца вопрошающий взгляд.
— Знайте же, — продолжил Себастьян, — если вы этого еще не знали: искреннее всего отдают самого себя. Но умерьте ваши сожаления: ваша мать сказала мне перед отъездом, что не знает, смогла ли бы она вынести то, что называет моей тайной.
Александр некоторое время молчал, задумавшись.
— Порой я задаюсь вопросом, выносите ли вы эту тайну сами.
Мысль удивила Себастьяна: выходит, он забыл о проницательности юности.
— Неужели вы не испытываете потребности в спутнице, подруге? — спросил юноша.
— Если и испытываю, то утешаюсь, думая, что не знал женщины, которая бы мне ответила так же, как ваша мать.
— Забота о сохранении вашей тайны значит для вас больше, чем любовь?
Вопрос жестокий, как и сама юность.
— То, что вы называете тайной, Александр, это моя жизнь. Если она рассеется, я исчезну вместе с ней. Когда-нибудь я вам объясню.
Но после этого разговора Себастьян упрекнул себя за то, что оказал сыну меньше доверия, чем Соломону Бриджмену.
Чтобы осуществить один из своих честолюбивых планов, Себастьян замыслил небывалое представление. Большой торжественный ужин. Событие отметило бы его переход к другой роли, в которой он способен привлечь к себе гораздо больше внимания, причем не только высших кругов Вены, но и соседних дворов, благодаря присутствию иностранных послов, которые разнесут слухи о нем.
Об этом ужине он думал давно и положил себе три недели, чтобы его организовать. Он пригласил князя Фердинанда фон Лобковица, князя Фердинанда фон Хоэнберга, князя Максимилиана фон Виндишгреца (разумеется, поскольку тот уступил ему дворец на выгодных условиях), далее: послов России, Англии, Голландии, Пруссии и Франции, а также чрезвычайного посланника короля Людовика XV маршала де Бель-Иля, с которым Себастьяна познакомил князь фон Лобковиц, и еще вдовствующую графиню фон Хильдебрандт, про которую говорили, что к ней прислушиваются при дворе…
11 марта 1746 года двадцать шесть гостей, мужчин и женщин, расселись за столом в большом бальном зале, пышно подновленном при ремонте и сверкающем всем тем, от чего Вена, да и другие города, была без ума, — позолотой, серебром и хрусталем. Прислуживало пятнадцать лакеев, по одному на двух гостей, плюс дворецкий и распорядитель винного погреба.
К удивлению своего повара и двоих его поварят, Себастьян неоднократно вторгался на кухню, чтобы лично проследить за приготовлением блюд. Еще немного, он бы и сам вооружился разделочным ножом и вилкой. Во всяком случае, перепробовал все блюда.
Гости сразу же были восхищены четырьмя бульонами, поданными в серебряных чашках, крышки которых украшали драгоценные камни — для каждого бульона свой: огненный опал, аквамарин, топаз и изумруд. Восхищение было так велико, что некоторые даже забывали о содержимом — консоме из птицы с морковью.
Заливное из форели с густым соусом из сельдерея порадовало их, тем более что у многих приглашенных имелись не все зубы.
Тринадцать откормленных перепелов тоже не разочаровали гостей, поскольку оказались нежнейшими.
Салат из вареных яиц и картофеля с трюфелями заставил всех потерять голову, ибо многие из высоких гостей никогда прежде не пробовали трюфелей.
Рагу из телятины, тушенное с токайским вином, исторгло возгласы удивления, его непривычный вкус чем-то напоминал о деревне.
— Простенькое крестьянское кушанье, — пояснил Себастьян с лукавым видом.
Князь фон Лобковиц расхохотался. Посол Франции и маршал де Бель-Иль тоже. Последние следы чопорности исчезли.
Соответственно разнообразны были и вина: шампанское к форели, бордо к куропатке и салату с трюфелями, токай к рагу из телятины и опять шампанское к десертам — фруктовому мороженому с сиропом из розовых лепестков, компоту из абрикосов с гвоздикой, бисквиту и кофе фламбе со шнапсом.
— Если крестьяне этой страны так ужинают, — объявил посол Пруссии, — я бы не прочь завтра же обзавестись плугом.
Новый взрыв смеха.
Александр, сидя между графиней фон Хильдебрандт и супругой российского посла графиней Чебышевой, жадно слушал и смотрел во все глаза. Обычно они с отцом ужинали каким-нибудь супом, омлетом или крылышком цыпленка с салатом. Но он уже немного знал Себастьяна и понял: это пиршество всего лишь прелюдия. Что же последует за таким дивертисментом? И кто, черт побери, этот удивительный человек, сыном которого он был?
Его раздумья прервала графиня фон Хильдебрандт:
— Я узнала, что вы гостите тут, во дворце. Похоже, это немалая привилегия, если судить по сегодняшнему вечеру.
И Александр совершенно непринужденно вступил в игру своего отца:
— Мой покойный родитель и граф были большими друзьями. В память об этой дружбе граф руководит моей учебой.
— Вы каждый вечер ужинаете так роскошно? — спросила графиня Чебышева.
— Боже упаси, конечно нет. Ведь не каждый же вечер у нас такое блестящее общество, — ответил Александр с улыбкой.
С десертами было покончено, кофе выпит, возобновились застольные беседы, уже не прерываемые звяканьем ножей и вилок. Граф де Сен-Жермен встал. Наступила тишина.
— Ваши светлости, дамы, господа, прошу минуту вашего внимания, — сказал он. — Я бы хотел предложить вам небольшую демонстрацию… отнюдь не моих талантов, но законов, которые правят миром.
Он положил на стол две коричневые палочки и достал из кармана лоскут серой ткани. Потом положил рядом лист бумаги.
Энергично потер палочки лоскутом и подсунул их под лист бумаги.
Тот вспорхнул, словно наделенный самостоятельной жизнью.
Удивленный шепот поднялся среди присутствующих.
Себастьян вытянул руки, и бумажный лист полетел вперед, трепеща меж канделябрами, потом плавно стал опускаться посреди стола. Князь фон Лобковиц торопливо подхватил его, чтобы тот не вспыхнул в пламени свечей, и рассмотрел.
— Но это же магия! — воскликнула графиня фон Хил ьдебрандт.
Голландский посол выпучил глаза.
Граф де Сен-Жермен высыпал перед собой на скатерть какой-то белый, похожий на пудру порошок. Мгновение в воздухе клубилось легкое облачко. Он протянул к нему свои палочки, и те словно втянули порошок в себя. Пудра облепила их тончайшим слоем.
Опять шепот.
— То, что вы видели, господа, есть не что иное, как проявление сил этого мира, которые мы недостаточно знаем, — сказал он. — Сил притяжения и отталкивания.
Александру были неизвестны эти законы; от волнения его рука сжалась в кулак.
— Мы подчинены этим силам, — продолжил Себастьян. — Мы отталкиваем некоторых людей и тянемся к другим, сами не понимая почему. Порой мы даем этим силам имена, называя их любовью или отвращением, не задумываясь о том, что тех, кто нам отвратителен, любят другие, а те, кого любим мы, вызывают чье-то отвращение. Но все, кто не желает узнать природу этих сил, обречены оставаться игрушками судьбы.
Он обвел аудиторию взглядом. Все застыли, обратив к нему глаза.
— Некоторые из сил этого мира, — продолжил Себастьян, — повелевают лишь отдельными людьми, другие — целыми народами. Некоторые благотворны, другие ужасают своей разрушительной мощью. Как пример первых приведу силу, благодаря которой Земля обращается вокруг Солнца, пользуясь его теплом. Как пример других упомяну землетрясения и извержения вулканов, способные похоронить целый город, такой как Помпеи.
Он сделал паузу.
— Я много путешествовал; мудрецы далеких стран Востока открыли мне законы, тайны и рецепты, которые передавались из века в век на благо тем, кто обладает достаточным терпением, чтобы их изучить.
Никто не шелохнулся: торжественный тон хозяина дома разительно отличался от его недавних шутливых речей.
— Так неужели же мы смиримся с невежеством? — воскликнул Себастьян.
Его голос зазвенел, отдаваясь эхом под лепным потолком.
— Здесь передо мной цвет великих наций. Неужели мы позволим этим сокровищам и дальше дремать втуне, что достойно лишь людей косных и нерадивых? Я убежден, что сила, не используемая во благо, становится столь же пагубной, как и та, что служит дурным целям.
Чрезвычайный посол Франции маршал де Бель-Иль заерзал на своем стуле. Посол Англии отпил глоток вина, оставшийся на дне бокала. Посол Пруссии загадочно нахмурил брови.
— Я продемонстрировал вам сейчас лишь самые ничтожные примеры необъятного знания, накопленного за тысячелетия просвещенными умами. Людьми, которых я назвал бы Великими Стражами, ибо они следят за тем, чтобы никогда не угасали светильники в подземельях знания. Есть и другие примеры — и великолепные, и ужасные. Мое гостеприимство было бы неполным, если бы я не упомянул вам об этих тайнах. Я полагаю, что на людях просвещенных и обладающих властью этого мира лежит ответственность: подхватить протянутый им факел и нести его свет дальше.
Он сел.
После некоторого молчания маршал де Бель-Иль поднял свой бокал и, прежде чем осушить его, заявил Себастьяну:
— Благодарю вас, господин граф.
Князь фон Лобковиц кивнул, повернулся к маршалу и сказал:
— Я не думаю, что ошибусь, маршал, если добавлю, что вы высказались за всех нас.
За столом поднялся одобрительный шум. Все гости подняли бокалы за здоровье хозяина.
При этом на нем сошлись два особенно пристальных взгляда — послов России и Пруссии. Себастьян сделал вид, будто не замечает этого, и улыбнулся. Подали кофе и шоколад.
Затем он встал, и сотрапезники разошлись из-за стола кто в библиотеку, кто в соседнюю музыкальную гостиную, где трое музыкантов — две скрипки и клавесин — играли старинную мелодию. Сам граф де Сен-Жермен сегодня вечером играть не собирался. Разговоры возобновились. Да, много чудес в этом мире, заметных только просвещенным умам. Да, граф де Сен-Жермен прав, что напомнил о них. Впрочем, он, похоже, весьма сведущ в этих тайнах. Каждый был доволен, что завтра ему будет что рассказать об этом необычайном вечере.
Английский посол Роберт Клайв, барон Пласси, приблизился к Себастьяну с бокалом токая в руке, улучив момент, когда тот оказался один.
— Позвольте мне, граф, тоже поблагодарить вас за одну из самых замечательных речей, что я когда-либо слышал, не говоря о великолепном ужине.
Себастьян поклонился в ответ на комплимент.
— Быть может, вы позволите мне задать вам один вопрос: наш мир очень невелик, так почему же Франция не вознаградила такой выдающийся ум достойной его должностью? Я в недоумении.
— Я давно покинул Францию, господин посол. Возможно, она меня забыла, — ответил Себастьян с улыбкой.
— Знаете, а ведь многим другим странам было бы лестно сделать это для вас.
— Это вы мне льстите, господин посол. И он добавил по-английски: — Is it your own country that you're thinking of, may I ask in turn?[35]
Пласси вытаращил глаза.
— И вы к тому же говорите на нашем языке, великие небеса! — воскликнул он со смехом.
— Я говорю на многих других. И рад этому. Ибо, как я уже сказал, братство Стражей не признает границ.
Тут их прервали две дамы, подошедшие поболтать с хозяином дома. На этом беседа закончилась. Но Себастьян был уверен, что в ближайшие же дни в Лондон отправится донесение барона Пласси.
Он счел пикантным, что Англия предложила купить его услуги. Надо бы переговорить об этом с Банати.
29. ВОСЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ ОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ
Как он и предвидел, ужин у графа де Сен-Жермена стал предметом разговоров в аристократических кругах Вены на протяжении многих недель.
Последствия его были многочисленны и разнообразны.
Два дня спустя Себастьян получил записку от чрезвычайного посла Франции маршала де Бель-Иля с приглашением отобедать в посольской резиденции.
Бель-Иль, внук знаменитого Фуке, суперинтенданта финансов при Людовике XIV, был невысоким, цветущим и подвижным человеком, всем своим видом излучавшим властность и ум. Обычный посол Франкевиль, тоже присутствовавший на трапезе, изъявлял ему безусловную почтительность.
— Господин граф, — заявил Бель-Иль, — меня глубоко поразила трезвость ваших суждений в тот вечер. Я уже выразил вам свое восхищение и высказываю снова. Но позвольте мне все же спросить: имеет ли это какое-то отношение к франкмасонству?
Опять этот вопрос.
— Нет, сударь, я не масон, но не питаю к ним никакой враждебности.
Казалось, Бель-Иль перевел дух, прежде чем продолжить.
— Мы в католической стране, как вы знаете, и император Франц, равно как и его супруга Мария-Терезия, проявляют большую приверженность Римскому Папе. Однако неприязнь святого отца к масонам общеизвестна.
— Ваша речь в тот вечер неизбежно станет известна при дворе, в частности через графиню фон Хильдебрандт, — добавил Франкевиль. — И в Вене обязательно зададутся вопросом, не движет ли вами дух вольнодумства, восторжествовавший в Париже. Для вас это было бы не совсем благоприятно.
— Это и есть причина, побудившая меня спросить вас о принадлежности к масонству, — заключил Бель-Иль.
— Я знаю о неприязни двора к масонам, — ответил Сен-Жермен. — Неужели у вас создалось впечатление, будто я принадлежу к ним?
— Нет, — ответил Бель-Иль. — Разве что когда вы заговорили о просвещенных умах. Святоши за эти слова готовы предать анафеме. Они полагают, что обладание светом — исключительно их привилегия!
И он расхохотался.
За салатом с говядиной последовала речная рыба с подливой из раков. Сен-Жермен отметил про себя, что повар не знает, как избавиться от тинистого привкуса, который часто портит речную рыбу; а надо всего-то добавить чуть-чуть белого уксуса в самом начале варки.
— Видите ли, господин граф, — продолжил Бель-Иль, — дело в том, что мы с господином послом весьма рады видеть вас в Вене.
Себастьян насторожился.
— Благодарю за комплимент.
— Он небескорыстен, — продолжил Бель-Иль, усмехнувшись. — Миссия, которой я облечен, — говорю вам это по секрету, — имеет целью склонить императрицу и ее супруга к духу мира. С тысяча семьсот сорокового года Австрия ведет беспрестанные войны, из-за которых слабеет и теряет земли — Силезию, например, уступленную Пруссии. Ее попытка захватить Баварию тоже обернулась неудачей.
— Однако вы сами сражались против нее и ее союзников, — заметил Себастьян.
— Конечно, — согласился маршал. — Со времени восшествия на престол императрица вела себя как женщина, которую постоянные нападения врагов вынудили потерять хладнокровие. Правда, ее страна долго не могла избавиться от своего наваждения, турок. А едва те присмирели, как вдруг, откуда ни возьмись, словно Жеводанский зверь,[36] выскочила тень Фридриха Прусского. А тут еще Баварское дело вывело ее из себя.[37] Она решила, что может завладеть Баварией. Хотя это вызов здравому смыслу. Некоторые из ее врагов реальны, другие нет. В общем, она пустилась в бессмысленные военные предприятия.
Он прервался, чтобы оценить впечатление от своих слов. Себастьян внимательно слушал, сознавая, что его собеседник — один из известнейших военачальников своего времени. Удовлетворившись произведенным эффектом, Бель-Иль продолжил:
— Силезия фактически отходит Фридриху, как Фландрия Франции.[38] Невозможно удержать территории, слишком удаленные от центра власти. Теперь императрица должна это понять. Дело с императорским троном сейчас улажено. Однако король Людовик считает, что, несмотря на боевые действия против нее и ее будущего супруга Карла Лотарингского, в которых я сам участвовал, Австрия является естественным союзником Франции. Король даже убедил Россию поддержать Австрию в ее борьбе против завоевательной политики Фридриха Второго, короля Пруссии. Вы вызвали прилив интереса к Франции, тем более что сами не имели в этом никакой политической корысти. Или, по крайней мере, казалось, что не имели.
Себастьян убедился, что сведения и расчеты Банати оказались верны. Потом его мысли приняли другой оборот: выходит, его рассматривают как невольного защитника интересов Франции, тогда как на самом деле он — тайный агент России. Это неожиданно. Но знает ли маршал, что он находится в Австрии как голландский подданный?
— Для поддержки нашего влияния в этой стране, — поддакнул Франкевиль, — такой блестящий человек, как вы, господин граф, — настоящая находка.
Уж не предлагают ли ему таким образом стать агентом Франции?
— Позвольте сказать, что устроенный вами прием отличался таким блеском и изысканностью, какие не часто встретишь не только в Вене, но и при самом дворе, — сказал Бель-Иль. — Не говоря уж о вашем столе! — добавил он, усмехнувшись.
— Вы мне льстите, — ответил Себастьян.
— Я нашел довольно пикантным, что вы пригласили посла Пруссии. Заметили, что он сидел словно на угольях? — спросил Франкевиль. — Не сомневайтесь, он наверняка сообщит в Берлин о вашем вечере. Пруссакам было бы нелегко одержать верх над таким посланником, как вы. Особенно с их колбасой, кашей, черным хлебом и пивом!
— Ваша речь о братстве великих умов была прекрасным предостережением, — заявил Бель-Иль.[39]
Предостережением? Поскольку Себастьян выглядел озадаченным, маршал пояснил:
— Я и в самом деле убежден, что только союз просвещенных умов может сохранить государства в их нынешних границах. Военная удача слишком капризна, уж я-то знаю, что говорю. Холодная зима, задержка с подвозом продовольствия, недомогание полководца — все это может перевернуть исход битвы.[40]
Когда обед был закончен, а кофе выпит, Бель-Иль спросил Себастьяна:
— Вы ведь наверняка родственник Клода-Луи, нашего блестящего офицера?[41]
Себастьян насторожился; разумеется, он незаметно навел справки о настоящих французских Сен-Жерменах, но по-прежнему опасался ловушки, умышленной или случайной.
— Отдаленный.
— Когда князь фон Лобковиц назвал ваше имя, я уж было подумал, что он говорит о Клоде-Луи, ведь тот покинул Францию…
— Из-за дуэли, кажется, — поддакнул Себастьян.
— В самом деле. Поскольку он затем поступил на службу к курфюрсту Пфальцскому, потом к курфюрсту Баварскому, я подумал, что он и до Вены добрался.
«Вот с кем скорая встреча нежелательна. По крайней мере, пока приходится носить фамилию Сен-Жермен», — подумал Себастьян.
— Во всяком случае, вы гораздо богаче.
— Сочту своим долгом быть ему полезным, если он будет нуждаться во мне, — вывернулся Себастьян.
После чего откланялся, радуясь, что ему не предложили тайную миссию.
Он вновь занялся иоахимштальской землей. Это вещество не было субстанцией философского камня, поскольку свинец шкатулки по-прежнему оставался свинцом. Что же это тогда? Необычайный минерал и только? Обладал ли он магнитными свойствами? Себастьян несколько раз пытался это установить, но стрелка компаса сначала вела себя как безумная, потом прибор надолго выходил из строя.
Магнетизм интриговал Себастьяна все больше и больше. Притяжение и отталкивание, характеризующие это явление, казались ему гораздо более пригодными для объяснения открытых Ньютоном законов, нежели философский камень. Он сказал себе, что сам, быть может, обладает исключительной магнетической силой. Раздобыв известнейший труд по этому вопросу, «De magnete» Уильяма Гилберта, написанный полтора века назад, Себастьян был глубоко удивлен одним замечанием автора: «Магнетизм повторяет жизнь». Но не есть ли он сама жизнь?
Обладает ли им также Александр? В первый раз, когда они пожали друг другу руки, юноша даже не моргнул.
Себастьян посмотрел на шкатулку с иоахимштальской землей. В последний раз он положил туда серебряную иголку; через некоторое время обнаружил ее окислившейся, но не более намагниченной, чем прежде.
Вероятно, Войцек был прав: главное применение этого вещества — лечебное, и Себастьян, памятуя о разъедающей способности земли, вновь закрыл шкатулку, полагая, что надолго. Единственное, на что он мог ее употребить, это для очищения алмазов.
Ему опять вспомнился довод Байрак-паши: если бы Ньютон нашел средство превращать в золото обычные металлы, он умер бы невероятно богатым. Сомнения Бриджмена насчет трудов ученого окончательно подтвердили этот пункт: наиважнейшее качество гипотетического философского камня состоит в непреодолимом влечении к нему.
Пылившийся в доме Соломона Бриджмена атанор годился лишь на то, чтобы подогревать любопытство.
Вторым последствием достопамятного ужина был визит князя Фердинанда фон Лобковица. Этот сразу же засвидетельствовал Себастьяну свою благородную симпатию.
— Мой дорогой друг, — заявил он, — с того самого вечера я не переставал думать о последних словах вашей речи: «Я полагаю, что на людях просвещенных и обладающих властью в этом мире лежит ответственность: подхватить протянутый им факел и нести его свет дальше».
Он отпил глоток поданного ему шоколада с гвоздикой и изобразил на лице одобрение.
— Значит, у вас есть какой-нибудь план в этом смысле?
— Да, ваша светлость, — ответил Себастьян. — Думаю, что особы, разделяющие эту мысль, даже если они из разных стран, могут оказать благотворное влияние на судьбы народов. Их союз может стать высшей силой, которая смягчает, если не устраняет, конфликты. Глядя на историю Европы за последние десятилетия, я вижу только войны и беспрестанные разрывы союзнических отношений. Распри, как вы сами могли об этом судить, ваша светлость, не вечны, но, даже когда они заканчиваются, пролитая из-за них кровь порождает стойкое озлобление. Постоянные разрывы одних союзов и заключение других ничуть не благоприятствуют гармонии, поскольку вызывают к жизни множество противоборствующих партий. Не найдется сейчас в Европе такого двора, который не был бы из-за этого расколот.
Себастьян отпил глоток шоколада.
— Это, ваша светлость, называется хаосом. Почему великие державы не могут брать пример с планет, которые мирно двигаются, каждая своим чередом, вокруг Солнца?
— Вы правы. Это необходимо осуществить, — заявил князь энергично. — Вы предусмотрели средства?
— Это станет возможно только в том случае, если все члены такого содружества согласятся следовать основным руководящим принципам. Ибо без согласия, ваша светлость, мы не достигнем ни единства, ни гармонии.
— Что же это за принципы?
— Первый — это почитание высшей силы, которая правит Вселенной. Той, что примиряет противоположности и превращает грубую глину в золото и квинтэссенцию жизни.
Лобковиц подумал и сказал:
— А если возразят, что довольно и христианской религии?
Себастьян покачал головой.
— Чтобы обеспечить мир, одних христианских добродетелей недостаточно, мы все этому свидетели. Разве не приходилось таким замечательным людям, как вы сами и маршал де Бель-Иль, сперва столкнуться на поле брани, прежде чем вместе сесть за один стол, как у меня в тот вечер? Именно подобный хаос и следует предотвратить.
— Вы не доверяете прозорливости государей?
— Она ненадежна, ваша светлость. И пример Карла Седьмого Баварского вполне это доказывает. Честолюбие побудило его требовать трон, который ему не принадлежал и удержать который за своим родом ему было бы нелегко. Два года спустя он умер — как обжора, не сумевший переварить проглоченное.
Лобковиц расхохотался.
— Господин граф, я воздаю честь трезвости вашего взгляда. Все совершенно так, как вы говорите. Карл Седьмой действительно был обжорой.
Он помолчал, потом спросил:
— А монархи? Будут ли они приняты в братство, которое вы описываете?
Себастьян наклонил голову, словно подыскивал слова; потом посмотрел своему гостю в глаза.
— Если им хватит смирения не оспаривать его принципы, то их присутствие даже желательно. Но подобное смирение редко встречается среди коронованных особ.
Лобковиц улыбнулся.
— Короли убеждены в том, — продолжил Себастьян, — что вселенная должна способствовать их славе, а не наоборот. Боюсь, что, если бы императрица Мария-Терезия и Фридрих Прусский вступили в такое общество, они потребовали бы изменить его принципы, едва ознакомившись с ними. И это сразу же свело бы на нет все наши усилия.
Князь задумался и налил себе еще шоколаду.
— Выходит, что это братство должно быть тайным.
— Если только тайна не отдает злоумышленностью или подстрекательством, — заметил Себастьян. — Скрытность вызывает интерес, а тайна — подозрительность.
— Верно, — согласился Лобковиц.
И, помолчав немного, спросил:
— Вы напишете эти положения?
— Пожалуйста, ваша светлость.
Третьим последствием того памятного вечера стало пришедшее три дня спустя приглашение на ужин от князя фон Хоэнберга. Осведомленный маршалом Лобковицем об их беседе с Сен-Жерменом, он с нетерпением ожидал рождения того, что Себастьян уже окрестил Обществом друзей.
За этим последовала еще дюжина событий того же рода. И через неделю Общество друзей действительно было учреждено — без малейшего устава или иного документа, обосновывающего его существование, если не считать декларации принципов, написанной Себастьяном.
«Разум, управляющий миром, несравнимо глубже разума самого глубокомысленного мудреца. Его законы — Порядок и Гармония через примирение противоречий. Возвышенным умам надлежит всегда сознавать это.
Возвышенные умы стараются действовать согласно внушению неизреченного Духа, то есть в согласии с теми его замыслами, которые проявляются в этом мире, а не потакая своим страстям, поскольку страсти преходящи и противны Гармонии.
Просвещенный ум знает, что только долговременная Сила основана на Гармонии и что Сила без любви всего лишь необузданность и в конечном счете слабость.
Всякая вещь в этом мире принадлежит одному из четырех Царств: Воде, Огню, Воздуху и Земле. Только человеческое существо сочетает в себе все четыре, и если оно не руководствуется духом Гармонии, то обречено Хаосу, от которого погибнет.
Ничто живое не может быть свободно от законов Великого разума и великих циклов природы, а непризнание этих высших ритмов или бунт против них также ведут лишь к Хаосу.
Свойство низкого ума — потворство страстям, свойство возвышенного ума — претворение их в божественную энергию.
Братство возвышенных умов подобно гармонии планет. Когда оно совершенно, оно руководит миром.
Тайны природы не следует разглашать, ибо, став достоянием низких умов, они послужили бы низменным целям».
Во время одного исключительного собрания, состоявшегося при закрытых дверях в библиотеке дворца на Херренгассе, Себастьян ее огласил. Пятнадцать членов — пятнадцатым был он сам — поклялись вести себя сообразно с этими восемью положениями, а если не смогут собраться, оповещать друг друга, когда кто-то из них столкнется с проблемой, противоречащей новой философии Общества друзей.
Себастьян рассказал об этом Банати.
— Выходит, вы основали ложу, — заметил сардинец.
— Но у нас нет ритуалов посвящения, как у масонов.
— Тем лучше, это привлекло бы внимание двора.
Как-то вечером за ужином Себастьян сообщил об этом Александру.
— Вы скроили себе королевство по собственному подобию, — сказал молодой человек, сопровождая свои слова лукавой улыбкой.
— Что вы под этим разумеете?
— Вы просто купаетесь в тайне. От вашего рождения до вашего богатства — все тайна. Даже я окружен ее ореолом. Ведь в Вене только вы да я знаем о нашем родстве.
Юноша поднял глаза к портрету маслом, который Себастьян написал с него и велел повесить на стену библиотеки. В полутени нарисованные глаза и голубой жилет казались еще ярче, чем на свету, так что даже становилось не по себе. Этот эффект производила иоахимштальская земля, которую Себастьян подмешивал в краски.[42]
— Даже от того, кто изображен на этом полотне, веет тайной, — сказал Александр с иронией. — Эта веточка остролиста…
Настал черед Себастьяна улыбнуться. Веточка этого растения стояла в горшке на полке библиотеки; он изобразил ее позади Александра, потому что Плиний Старший уверял, будто это панацея от всех болезней. Но разве сам Александр не был его лекарством?
— Даже ваши чувства окутаны этой тайной, — продолжил Александр. — Я почти уверен, что являюсь единственным в мире существом, к которому вы привязаны.
— Возможно, за исключением Соломона Бриджмена.
— Судя по тому, как вы говорите о нем, у меня впечатление, что вы относитесь к нему как к отцу.
Себастьян бросил на своего сына долгий восхищенный взгляд: тонкая интуиция юноши не переставала удивлять его. Он сожалел, что не мог рассказать ему о своей жизни. Но что сказал бы этот сын об отце, который бежал из дворца вице-короля Мексики, переодевшись в женское платье? О насилии, которое толкнуло его на преступление? Что подумал бы он об отце, убившем трактирщицу в Майами, чтобы избежать виселицы? Помимо того, что подобные откровения были бы в его собственных глазах подозрительным призывом к сочувствию, что добавили бы они к их обоюдной привязанности?
— Это правда, — сказал он. — Когда я был в вашем возрасте, Соломон опекал меня как отец.
— Значит, вы нуждались в отце.
— В самом деле.
— Ваш настоящий отец умер?
— Да, — ответил Себастьян, проглотив комок в горле и стараясь подавить волнение, неизбежно охватывавшее его при мысли об отце, погибшем на костре.
Александр докончил свой десерт, не говоря ни слова. Потом посмотрел на Себастьяна, подошел к нему и, опустившись перед ним на колено, взял за руку.
— Отец, не упрекайте меня, но я догадываюсь, что вы скрываете какие-то мучительные, быть может, даже ужасные воспоминания. За это я вас люблю еще больше.
Себастьян был смущен. Подобную доброту он знавал только у Соломона.
И не признавал ее даже в себе самом.
Когда Александр удалился в свои покои, Себастьян написал об этом Соломону.
30. ВЕЛИКАЯ ШАХМАТНАЯ ДОСКА
Неужели Бель-Иль грезил? Или же король Людовик XV передумал? Не похоже, что он по-прежнему рассматривает Австрию как естественную союзницу Франции. Через три месяца после мартовского ужина в Вену пришло известие, что французские войска выступили против австрийцев, правда, на сей раз в Италии. В июне они сражались под Пьяченцей против австрийско-сардинских войск, объединившись с испанцами под командованием генерала де Майбуа и наследника трона Испании.
Себастьян отправился к Банати, чтобы поделиться своим недоумением.
— Не удивляйтесь, — ответил тот. — Если бы императрица не вбила себе в голову компенсировать потерю Силезии куском Северной Италии, включающим Лигурию, французы сейчас уже вернулись бы домой. Но поскольку и они, и испанцы заключили тайный союз с Генуэзской республикой и Неаполитанским королевством, то вынуждены были поспешить на подмогу генуэзцам.
— Неужели императрицу не известили об этом союзе?
Банати снисходительно улыбнулся.
— Я не знаю, догадался ли об этом ее союзник, король моей страны, Сардинии. Не знаю даже, были ли достаточно проворны его шпионы, чтобы обнаружить этот союз.
— Но сами-то вы тем не менее знали о нем? — удивился Себастьян.
— Слава богу, наши покровители предоставляют мне достаточно средств, чтобы мы были сносно осведомлены о том, что творится в министерских канцеляриях. Дворецким, мажордомам и прислуживающим за столом лакеям порой платят гораздо лучше, чем об этом думают, — ответил сардинец с многозначительным видом.
Себастьян вспомнил, что Банати посоветовал ему расстаться с Альбрехтом из опасения, что тот может проболтаться. Выходит, судьбы великих держав зависят от слуг!
— Вы даже не представляете себе количество срочных донесений, которые могли бы изменить лицо мира, если бы дошли по назначению! — заявил Банати, пожимая плечами.
— В том числе и мои, предполагаю? — обронил Себастьян, усмехнувшись.
— Нет, успокойтесь, и я сам, и Засыпкин очень заботимся о том, чтобы не пренебречь ни крупицей информации. Короче, была осведомлена императрица или нет, это в любом случае мало что меняет, — продолжил Банати. — Она обитает в высших сферах власти, а с такой высоты пропорции мира выглядят иначе. Генуэзская республика и Неаполитанское королевство для нее мелочи, не имеющие подлинного значения. Это алчная женщина. Она думает, что проглотит Лигурию, как надеялась проглотить Баварию.
Себастьян пытался переварить услышанное. Выходит, Мария-Терезия поддалась чувству досады и, едва подписав мирный договор с Пруссией, решила возместить свой убыток в другом месте. Неужели у нее нет советников? Лобковиц, Хоэнберг? Неужели никто не дал ей понять, что Австрии нечего делать в Италии? Он и сам уступил своего рода досаде. От Общества друзей никакого проку. О сложившейся ситуации не упоминалось ни на одном собрании. А к чему привели его собственные усилия?
— Итак, я вынужден заключить, что все мои хлопоты оказались напрасными, — сделал вывод Себастьян.
Он отпил глоток кофе. Наверняка его разочарование было написано на лице или же проявилось в молчании, поскольку Банати заявил, вытянув пухлую ногу, затянутую в шелк:
— Не заблуждайтесь. Вы сами видели, какой интерес проявили к вам гости во время того ужина. В сущности, Вена и Париж только того и ждут, чтобы поладить. Стычка при Пьяченце — всего лишь фанфаронство.
Таково было мнение и Бель-Иля.
— Рано или поздно, — продолжил Банати, — Мария-Терезия поймет, что не может править Северной Италией. И военная взбучка, которую она вскоре получит, убедит ее в этом лучше, чем все речи. И она, и король Франции прекрасно знают, что их послы в конце концов сядут за стол и подпишут мирный договор. Между французами и австрийцами нет настоящей вражды, какая существует, например, между русскими и поляками или венецианцами и турками. Вы не Всемогущий Господь, но вы хорошо поработали. Теперь надо внушить французам и австрийцам, что их подлинные враги в другом месте.
Еще раз суждение Банати совпало с мнением Бель-Иля.
— Каковы же их подлинные враги?
— Для Франции — это Англия. Для Австрии и попутно для России — это Пруссия. Не позволяйте обольстить себя шахматной игрой на маленькой европейской доске.
Себастьян проследил глазами за жестом хозяина дома. Тот протянул руку к большой цветной карте мира, висевшей на стене в раме.
— Вот великая шахматная доска, граф, — сказал он. — Окиньте ее взглядом от Америки до Азии.
Он встал и указал на континенты. Себастьян вгляделся в эти далекие земли, усыпанные сказочными животными и крохотными экзотичными человечками — то почти голыми, с перьями на голове, то в длинных одеждах и тюрбанах.
— Вот где настоящий политический театр, — заявил сардинец.
Он посмотрел на часы.
— Если у вас нет других дел, то не угодно ли отобедать со мной? Мой стол наверняка не сравнится с вашим, это лишь простая закуска. Но мы можем с пользой провести время, продолжив эту беседу.
Себастьян согласился. Банати позвонил в колокольчик и велел слуге накрыть стол на двоих.
— Полагаю необходимым, — промолвил сардинец, когда они уселись, — набросать вам более широкую картину, чем та, которую вы видите отсюда. Чтобы при выполнении миссий ситуация не обескураживала и не озадачивала вас.
Дворецкий велел подавать холодную фаршированную куропатку с картофельным салатом. Это и впрямь была лишь закуска, но Себастьян нашел ее очень вкусной.
— Я вам говорил о большой шахматной доске, — продолжил Банати, — отныне это весь мир. Франция крепко сцепилась с Англией в Северной Америке и в Азии, поскольку Англия хочет отнять у Франции Канаду и ее индийские фактории. Этим летом англичане захватили французский форт Луисбург в Канаде, и бьюсь об заклад, что они на этом не остановятся. Они замышляют также отнять у Испании Вест-Индию, то есть ее американские колонии, поскольку считают, что их забрать не труднее, чем пирог из витрины кондитера.
Он задумчиво прожевал большой кусок куропатки, потом запил его полубокалом вина и произнес:
— Канцлер Бестужев-Рюмин обеспокоен. Если Англия достигнет своих целей, то станет крупнейшей мировой державой. Ее союз с Пруссией окончательно приведет Европу к подчинению. Усилившись благодаря этому союзу, Фридрих Второй сможет тогда проглотить те земли, на которые давно зарится. До той поры, пока Англия не сочтет, что он слишком уж растолстел, потому что англичане не любят, когда кто-то набирает чересчур большой вес. Поскольку Фридрих питает безграничную неприязнь к императрице, то нет никаких сомнений, что он опять попытается что-нибудь отхватить у Вены. А с этим не сможет согласиться Россия, — сказал Банати с нажимом. — Понимаете?
Себастьян кивнул. Все наконец становилось в его голове на свои места: теперь он понял усилия России связать союзом Францию и Австрию.
— Императрица Елизавета не хочет также, чтобы Англия приобрела слишком большое влияние в Азии, — заявил Банати. — Она в этом видит начало блокады своей страны. Не забывайте, что она — дочь Петра Великого, царя, открывшего для России окно в мир. И она не хочет, чтобы Англия его закрыла.
Себастьян кивнул.
— Признаюсь, что пока плохо вижу, какой от меня прок на такой большой доске.
Банати не торопился отвечать.
— Ваши донесения будут нам полезны. Вы обладаете острым взглядом. Ваша роль в обществе облегчает вам встречи с людьми, а стало быть, и доступ к их скрытым мыслям. Информация — это такая сила, которую невозможно переоценить. Что вы скажете о том, чтобы отправиться в Индию и на месте понаблюдать за ситуацией? И сообщить нам, как мы могли бы поддержать французов?
У Себастьяна от удивления округлились глаза. Банати всегда приберегал для него какой-нибудь сюрприз.
— В Индию? — переспросил он.
— Насколько я помню, вы когда-то хотели побывать на Востоке. Вам предоставляется случай совместить приятное с полезным.
Себастьян рассмеялся.
— Почему бы и нет, — сказал он. — Но каким маршрутом? У меня нет большой охоты возвращаться к туркам.
— Не думаю, что после стольких лет у турок сохранилось четкое воспоминание о графе Готлибе фон Ренненкампфе, — ответил Банати. — И возвращаться к ним не придется, поскольку ваш путь лежит через Россию. Но дождемся окончания зимы, чтобы не усугублять трудностей путешествия.
Обед закончился чашкой кофе. После нескольких безобидных фраз Банати спросил своего гостя, провожая его к двери:
— Вы довольны, что обрели своего сына?
Себастьян был застигнут врасплох. Банати засмеялся.
— Сходство, дорогой друг! Сходство. По этой причине я и не замедлил дать ваш адрес его матери.
Банати поклонился и протянул руку графу де Сен-Жермену.
Тот в смущении вышел на Шпиттельбергассе. Этот старый сардинский кот играл с ним, словно с мышью.
Осень все больше наливалась золотом, словно долгий закат. Состоялось три собрания Общества друзей: одно у князя фон Хоэнберга, другое у Сен-Жермена и третье в таверне на Пратере. На каждом отсутствовали три-четыре члена, задержанные кто недомоганием, кто придворными или семейными обязанностями. Во время этих бесед пришли к заключению, что вскоре между странами, воевавшими столько лет, будет подписан большой мирный договор и на континенте наконец воцарится гармония.
«Гармония!» — саркастически думал Себастьян. Соотнося собственные наблюдения с рассуждениями Банати, он видел, как Англия на долгие годы ввязывалась в беспощадное соперничество. И казалось, что ни императрица Мария-Терезия, ни Елизавета, ни Фридрих II отнюдь не были расположены наслаждаться кроткими радостями мира; каждый из участников этой адской троицы бдительно следил за другими, словно крестьяне, подстерегающие случай увести соседскую корову.
«Человеческая природа, — говорил он себе. — Если она не ищет новых завоеваний или удовольствий, то сама становится добычей смерти».
Но, возможно, Общество друзей, если уцелеет, все-таки сможет когда-нибудь обуздать звериную жестокость человеческих существ?
31. HIC JACET FILIUS AZOTH MERCURIIQUE
Только два настоящих развлечения остались у Себастьяна в те месяцы, что отделяли его от путешествия на Восток, в Индию.
Первым было посещение некоего книготорговца, заведение которого он обнаружил на узкой улочке неподалеку от Карлплац. Эта похожая на пещеру лавка была буквально забита книгами и документами на всех языках — наверняка остатками развалов из других букинистических лавок или библиотек, на которые не позарились наследники. Хозяин едва удосужился их разобрать. Он был молчаливым вдовцом, которому только частые приходы богатого и весьма ученого клиента развязывали язык, поскольку приносили некоторую прибыль.
Предварительно надев перчатки, чтобы не пачкать руки в вековой пыли, перемешанной с насекомыми и пометом грызунов, Себастьян откапывал в этих залежах древние трактаты по химии, медицине, аптекарскому делу, а порой и совсем курьезные документы, как, например, связка полицейских донесений или чья-то игривая переписка, забавлявшая его не один вечер. Полностью отдавшись этому лихорадочному приобретательству, обходившемуся ему, правда, в совершенно ничтожные суммы, Себастьян натаскал к себе домой целые горы книг и манускриптов, которые громоздились на полу библиотеки, ожидая, пока он их прочтет, почистит и расставит по полкам.
Как-то раз книгопродавец пожаловался на мышей и крыс, портивших его товар, особенно переплеты. Себастьян вспомнил о воздействии иоахимштальской земли на грызунов. В обмен на изрядную скидку, которую букинист отныне обязался предоставлять своему лучшему клиенту, граф принес ему как-то утром щепотку таинственной земли.
— Положите ее вечером в открытую миску посреди лавки.
Когда Себастьян заглянул три дня спустя в лавку, книготорговец чуть не бросился к нему в объятия, впервые проявив какие-то чувства.
— Сударь! — вскричал он в восторге.
И, подбежав к своему столу, вернулся, неся за хвосты трех дохлых мышей.
Это отвратительное зрелище вызвало тем не менее у Себастьяна искренний смех: букинист показался ему этаким комедийным Геркулесом, держащим за хвосты шкуры крошечных Немейских львов.
— Сударь, — продолжил книготорговец, — вы меня спасли! Больше ни одной окаянной твари! Вчера утром насчитал их девять штук. Все дохлые. Остальные наверняка сбежали. Но что же это за волшебное вещество?
— Совершенно природное, — ответил Себастьян.
Книгопродавец воззрился на него как ребенок, увидевший явление святого. Потом упросил принять в знак благодарности толстенную книгу в разлохмаченном переплете. Это был сборник трудов по лекарственной ботанике с пометками на полях чьей-то неизвестной рукой.
Себастьян охотно принял дар, при условии, что заплатит половину цены.
Вскоре к этому первому развлечению добавилось и второе: каждое воскресенье, после мессы в соборе Святого Стефана, отправляться в долгие верховые прогулки с Александром. Это избавляло их обоих от приглашений элегантных прихожанок, чьи обеды Себастьян находил скучными. Он слишком хорошо знал программу: после кофе его обязательно упросят сыграть на скрипке или клавесине, устроив себе таким образом добавочное развлечение в счет скудной трапезы и при этом тешась мыслью, что стали причастны к искусству знаменитого графа де Сен-Жермена. В конечном счете это приравнивало его к бродячим скрипачам, пиликающим за монетку на деревенских свадьбах.
Себастьян обзавелся парой арабских лошадей рыжей масти, уже оценив во время одной охоты гордый, но послушный нрав этих невысоких, крепконогих животных. При особняке на Херренгассе не было конюшен, так что Себастьян нанял два стойла в испанской Академии верховой езды, конюхи которой прекрасно знали, как ухаживать за четвероногими постояльцами. Они с Александром катались по Пратеру, перемежая рысь и галоп, добирались до Зиммеринга или же пересекали реку и ехали вдоль Старого Дуная, завернув пообедать в какой-нибудь кабачок — ветчиной, сыром и пивом. Потом возвращались до наступления сумерек, довольные, что разогрели себе кровь. Кто-нибудь из слуг отводил лошадей в конюшню.
В конце октября, во время одной из таких дальних прогулок всадников застиг ледяной дождь и, прежде чем они смогли найти укрытие, вымочил обоих до нитки. Когда они вернулись в город, Александра бил сильнейший озноб. Себастьян встревожился. Ночью дыхание юноши стало затрудненным и свистящим. Несмотря на теплые одеяла и обильный пот, в понедельник утром его лоб пылал.
Себастьян провел бессонную ночь, мучаясь мыслью, что Александр — драгоценнейшая часть его жизни — в опасности. Его неотступно преследовал образ смерти — и его собственной, и сына, что было одно и то же. Ибо, если Александр умрет, умрет и он сам, в первую очередь его душа.
Себастьян не хотел умирать. Смерть для него была наименее естественным в мире явлением.
Подобного возмущения — всем своим существом — он не испытывал со времени бегства из дворца вице-короля. В тридцать шесть лет смерть казалась ему несправедливым лишением того немногого, чего он достиг благодаря своей энергии и хитрости, подобно узнику, ползущему по темному туннелю, веря, что в конце ждет свет.
Врач, вызванный к юному князю Полиболосу, поставил диагноз: воспаление легких, но уверил, что через неделю здоровье понемногу начнет возвращаться к больному.
Себастьян потерял терпение и, как только лекарь ушел, начал поиски более эффективного снадобья, чем прописанные невежественным коновалом. Роясь в объемистом руководстве по лекарственной ботанике, приобретенном у своего букиниста, он случайно опрокинул стопку книг и, к своему удивлению, заметил, что в толстом томе с двумя железными застежками, раскрывшемся при падении, имеется выемка и в этой выемке помещается какой-то непонятный предмет. Ему было некогда им интересоваться, состояние Александра казалось куда важнее, чем все колдовские книги, вместе взятые. Через час, найдя рецепт, или, скорее, несколько рецептов, Себастьян отправился в соседнюю аптеку, а вернувшись, стал хлопотать на кухне, на глазах у заинтригованного повара. Он насыпал в кастрюлю с кипящей водой измельченные листья остролиста, подорожника и полыни, через десять минут процедил отвар с помощью полотна, налил в большую чашку, добавил туда ложку меда и понес питье своему сыну.
В последующие часы Александр не переставал кашлять, но кашель смягчился, и больной теперь отхаркивал в плошку зеленоватые мокроты.
— Это изматывает, но облегчает, — пробормотал он. — У меня впечатление, будто я очищаю легкие.
После чего юноша заснул. Его дыхание стало уже не таким хриплым и более спокойным. Себастьян узнал из своей лекарственной книги, что жар достигает пика в полдень и на закате. Поэтому в семь часов вечера он отправился пощупать лоб Александра и нашел, что он уже не так горяч, как накануне. Себастьян дал больному еще одну чашку своего снадобья и велел заесть лекарство крылышком цыпленка с бульоном.
Слуги недоумевали. Никто еще не видел, чтобы хозяин так заботился о здоровье своего гостя. Но дворецкий воздерживался от комментариев. Банати был отнюдь не единственным, кто заметил сходство между графом де Сен-Жерменом и юным князем Полиболосом.
Немного успокоившись, Себастьян приказал налить горячей воды в большую медную ванну, которую велел установить в своей туалетной комнате, погрузился туда на час, потом скромно поужинал. Взбодрившись таким образом, он направился в библиотеку, сложил рассыпанные книги стопкой, но перед этим извлек толстый том с тайником. Спрятанный там предмет оказался старинным пергаментом, совершенно пожелтевшим и растрескавшимся, скрученным в трубочку и перевязанным шелковой нитью. Себастьян сел за письменный стол, перерезал нитку и обнаружил внутри свитка какую-то склянку. Выходит, это книга по химии? Ничуть. Само произведение датировалось 1646 годом и было экземпляром «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха. Себастьян взял в руки склянку: флакон размером с палец, запечатанный бурым воском; толстое стекло помутнело от времени, сохранив прозрачность лишь в двух-трех местах, где сквозь него виднелась какая-то рубиново-красная жидкость — густая, почти маслянистая, всего несколько капель.
Себастьян развернул пергамент, испещренный выцветшими чернилами, и попытался разобрать написанное; ему показалось, что он узнал латынь. Буквы так побледнели, что совершенно исчезли там, где свиток прилегал к пузырьку, что было странно, поскольку именно наружная часть должна была больше всего пострадать от воздействия времени. Поскольку надпись была еле видна, он пошел еще за одним подсвечником. А когда вернулся к столу, ему показалось, что склянка словно заискрилась в свете свечей. У Себастьяна возникло подозрение. Отодвинув оба подсвечника подальше, он склонился над пузырьком: жидкость и в самом деле светилась в полумраке, подобно иоахимштальской земле. Обладает ли она такими же свойствами? Из предосторожности Себастьян отнес склянку на книжную полку и снова сел, чтобы продолжить чтение. Когда он попытался разгладить пергамент рукой, тот сломался.
На одном из обломков стало возможным прочитать первые строчки:
«Hic jacet Filius Azoth Mercuriique. Hie atque jacet maxima vis mundi tal nunquam vedit homo. Cave, tu qui id legis, inf erni vel coeli portae rubrata f lamma oculi sui aperit».
Себастьян привлек на помощь все свое знание латыни: «Здесь обретается сын Азота и Меркурия. Здесь обретается также величайшая сила мира, какой человек никогда не видел. Берегись, читающий это, ибо красное пламя его очей отверзает либо врата ада, либо небес, согласно…
Дальше буквы становились почти неразличимыми. Только две-три строчки в самом низу еще можно было кое-как разобрать:
«…Sed aureus verus in anima vera vivit dum se ipsam inducam animum facet…»
«…Но истинное золото живет в истинной душе, ей стоит лишь сделать над собой усилие…»
Истинное золото? А что же тогда является ложным золотом? Может, эта склянка — ключ к трансмутации? Себастьян склонился над подписью и пришел в замешательство: Региомонтанус! Но тот, кто называл себя этим именем, поскольку был родом из Кенигсберга,[43] астроном, математик и алгебраист Иоганн Мюллер, умер два века назад.
Пузырек светился в полутьме.
Формула бросала вызов всякому смыслу: Азот был алхимическим названием ртути, которая по-латыни именовалась mercurius. Как эта красная жидкость могла быть производным от двух одинаковых веществ? Или же Азот обозначал какую-то другую ртуть?
Выходит, Региомонтанус интересовался алхимией? Что такое maxima vis mundi, «величайшая сила мира», вдохновившая Региомонтануса на это ужасное предостережение, если предположить, что это был именно он? Каковы возможности таинственного сына Азота и Меркурия? Как ими воспользоваться?
Себастьян вспомнил о подозрениях Бриджмена касательно умственного равновесия Ньютона: ученый часто вдыхал пары ртути, которые повреждают рассудок. Потом его поразила еще одна параллель: Региомонтанус тоже был астрономом.
Он поднял глаза к окну и откинулся на спинку кресла. В голове теснились вопросы.
Очевидно, Региомонтанус нашел секрет, касающийся трансмутации металлов. Но метод? Метод, великие небеса?
Он склонился над остатками пергамента: больше ничего. Только буроватые следы чернил. Себастьян взял в своем кабинете пробирку с железными опилками и бросил щепоть в стаканчик с винным спиртом. Затем с помощью кисточки помазал им исчезнувшие буквы, надеясь, что они вновь проявятся.
Винный спирт размочил пергамент, сделал его рыхлым и окончательно испортил.
Себастьян разочарованно вздохнул.
Он отправился в комнату Александра послушать дыхание спящего; казалось, оно стало спокойнее. Себастьян взглянул на часы: около двух часов ночи. Наконец отправился спать.
Когда на следующий день Себастьян вернулся в библиотеку, фрагменты пергамента выглядели совсем никуда не годными. Он положил их в одну шкатулку, а пузырек в другую.
Почему нельзя так же поступить и со своими мыслями!
Себастьян еще смотрел на обрывки палимпсеста, когда чьи-то мягкие шаги в комнате заставили его повернуть голову.
Александр. В халате, с трудом передвигающий ноги, но уже улыбающийся, шел навстречу отцу.
— Мне лучше, — объявил юноша, коснувшись руки отца, потом, заметив погубленный пергамент, показал на него пальцем. — Что это?
— Какой-то секрет, избавившийся от материи, — ответил Себастьян, сияя. — Мне тоже лучше, потому что вы поправляетесь.
32. ТРИ КОПЕЙКИ
Как и предсказывал граф Банати, зима 1746 года предоставила тем, кто мог наблюдать за событиями с достаточной высоты, поразительное зрелище.
Генуэзцы возмутились против оккупации и всего за шесть дней, с 5 по 11 декабря 1746 года, выставили австрийцев за дверь. Раздосадованная армия императрицы попыталась было возобновить осаду города, но тщетно. Ее авангард обнаружил движение французских войск под командованием все того же Бель-Иля. О чем Банати, осведомленный из надежных источников, и сообщил Себастьяну.
Дворцовые круги публично выразили сильнейшее раздражение воинственной заносчивостью генуэзцев. Восстать против имперского покровительства — вы только подумайте! Но, как смог заметить Себастьян, в частных разговорах они проявляли гораздо меньше запальчивости. Князь фон Хоэнберг, кичившийся своим знанием французской культуры, даже воскликнул:
— Кой черт понес нас на эти галеры![44]
Себастьян так и не увидел конца этих перипетий, поскольку с легкой руки Банати отправлялся в свое далекое индийское путешествие, к которому готовился с конца марта. Ему предстояло добраться до Галиции, спуститься по Днестру к турецкому порту Одессе[45] на Черном море, где его будет ждать посланный Засыпкиным проводник, какой-то туркмен; далее он на корабле обогнет Крым и высадится в Ростове,[46] на другом берегу; оттуда по реке Маныч спустится до третьего пункта, Кизляра на Каспийском море,[47] и пересечет это море по диагонали. Остаток путешествия пройдет по суше.
Банати рассчитывал, что на это потребуется около трех недель, а на четвертую, пройдя через афганские долины, Себастьян достигнет Индии.
— Я знаю, что вы превосходный наездник, — заметил ему сардинец. — И не сомневаюсь в вашей способности сориентироваться в незнакомой стране, но Засыпкин предпочитает поберечь ваши силы. Поэтому он велел предупредить царя Холькара, который правит государством Индаур, чтобы тот послал проводника к границам Индии, вам навстречу. Этот царь — наш друг. Ему и тем, кого он вам укажет, вы и доверите ваши донесения.
— Но как этот царь сумеет меня узнать?
— Вероятнее всего, вы прибудете через Пешавар. Такой чужестранец, как вы, и часа не останется незамеченным.
Себастьян понял, что Засыпкин считал его поездку в Индию решенным делом; он был уже не союзником, отныне к нему относились как к подчиненному. Но он скрыл свое недовольство, поскольку путешествие его и самого искушало. Правда, ему оставалось непонятным, как Засыпкин предупредил царя Холькара и почему тот проявит столько заботы о каком-то иностранце. Вероятно, Банати угадал его вопрос.
— Россия граничит с Афганистаном, — пояснил он. — Через эту страну, бывшую Бактриану, идет большая торговля: шелк, пряности, меха, порох, слоновая кость. Так что не удивляйтесь, если встретите в Пешаваре русских купцов. Впрочем, со времени падения мусульманской империи Великих Моголов Индия раздроблена не знаю на сколько царств и княжеств, и все эти мелкие государи ищут себе покровителя, но при этом не хотят, чтобы тот их проглотил. Собственных армий в истинном понимании этого слова у них нет, вот они и обратились к России. Но России пока хватает других забот.
Себастьян довольно долго молчал.
— Могу я взять с собой князя Александра? — спросил он наконец.
— Почему бы и нет? Но учтите, что путешествие будет рискованным и утомительным. Вам самому решать, сможет ли юный князь его выдержать.
В последующие дни особняк на Херренгассе был закрыт, слуги рассчитаны, лошади проданы, а банк предупрежден о долгом отсутствии графа де Сен-Жермена. Ларец с иоахимштальской землей и несколько ценных вещей Себастьян запер в тайник, секрет которого знал только он.
Александр не мог сдержать радости при мысли о путешествии. И его воодушевление передалось Себастьяну: он бы не решился оставить сына одного в Вене на такой долгий срок, который оценивал по меньшей мере в год.[48]
Для Себастьяна путешествие по-настоящему началось в Одессе. Сойдя с Александром на набережную и ожидая, когда выгрузят их дорожные сумки, он увидел, как какой-то человек лет двадцати пяти — двадцати шести проталкивается сквозь толпу хмурых янычар и торговцев в долгополых кафтанах и меховых шапках всевозможных форм — круглых, остроконечных, квадратных или просто бесформенных. Человек двигался прямо к нему.
— Граф Санджерманн? — спросил он по-русски довольно приятным, но глуховатым голосом.
— Это я, — ответил Себастьян, поздравив себя с тем, что не пожалел времени на изучение языка.
Широкая улыбка озарила энергичное усатое лицо молодого человека. Одет он был в длинный темно-коричневый халат и невысокую цилиндрическую шапку, украшенную галуном, из-под которой выбивались прямые непослушные пряди. На боку кинжал, на ногах мягкие кожаные сапоги.
— Позвольте представиться, — поклонившись, сказал он. — Я Исмет Солиманов. Барон Засыпкин прислал меня в ваше распоряжение. Я говорю по-русски, по-турецки, по-туркменски и еще на нескольких языках.
Чтобы не привлекать внимания любопытных ушей к имени Полиболос, Себастьян представил Александра как «князя Александра де Возеля».
Солиманов кликнул двух носильщиков и указал им на багаж путешественников.
— Если угодно последовать за мной, то я нанял для вас место в лучшем караван-сарае города. Но это на некотором расстоянии отсюда и, видите, — он показал на раскинувшийся на холме город, — подъем довольно утомительный. Я нанял также лошадей. Багаж повезут на мулах.
Себастьян согласился, и спустя час они прибыли на место. Хозяин караван-сарая едва обратил внимание на путешественников: в Одессе чего только не видали.
Александр пришел в восторг от хаммама — турецкой бани, — где услужливые колоссы смыли с путешественников соль, а потом умело размяли их и натерли мыльными мочалками. Они вышли оттуда посвежевшими и вполне готовыми для ужина из фаршированных голубей с тушеными баклажанами.
— Уходим отсюда на заре, — объявил им проводник, занявший соседнюю комнату.
В самом деле, в девять часов утра они уже были на борту русского парусника «Благословение Таганрога», а на третий день плавания высадились в Ростове-на-Дону. Очевидно, Солиманов не был расположен прохлаждаться, поскольку, едва они сошли с корабля, повел их дальше по берегу Дона, где они сели на что-то вроде гигантской шаланды. Через несколько дней, спустившись по реке Маныч до Каспия, они прибыли в Кизляр и пересели на другое судно, именовавшееся на сей раз «Крылом святого Андрея». Обоим венским жителям опять пришлось смириться с корабельным меню: вареные овощи и отсыревший хлеб. Чай и кофе на судне заменяла водка, но Себастьян использовал ее, только чтобы добавлять во взятую на борт воду.
Тем не менее Солиманову ничто не портило хорошего настроения. Он ел с отменным аппетитом и по-детски обрадовался, когда Себастьян достал дорожные шахматы, фигурки которых были снабжены маленькими штырьками, вставлявшимися в дырочки посреди клеток. Никакая качка не могла сбросить их с доски. Туркмен оказался достойным соперником Себастьяна и научил многим приемам его сына.
Таким образом, плавание обещало быть приятным. Отъесться Себастьян надеялся в Красноводске,[49] не постояв за ценой.
Кроме причала у подножия крепости, построенной при Петре Великом, да нескольких отнюдь не внушавших зависти домов с бойницами вместо окон, Красноводск вместе с его ближайшими окрестностями сводился к татарско-туркменскому стойбищу. И эти пространства, которые только с изрядной благожелательностью можно было бы назвать улицами, патрулировали хмурые солдаты.
Все трое поужинали в караван-сарае жареным барашком, к жирному запаху которого примешивался не менее одуряющий аромат серой амбры, наполнявший и без того пахучий Красноводск. Но подлинное изумление путешественники испытали, обнаружив отведенные им чертоги: обшарпанные каморки, уже населенные мышами и тараканами; постель состояла из верблюжьей шкуры, брошенной на циновку. Поскольку погода была теплая, Себастьян с Александром предпочли лечь одетыми во дворе, на деревянных скамьях под охраной Солиманова.
«Я знаю величайший секрет в мире, — подумал Себастьян, — и вот как бродяга ворочаюсь на лавке в какой-то богом забытой дыре». Мысль вызвала у него смех. А вспомнив, что когда-то он уже пытался отправиться на Восток за другими секретами, засмеялся еще громче, разбудив Александра. Тот поднял голову и спросил отца, что его так развеселило.
Наконец они заснули.
— А теперь? — не без некоторой иронии спросил утром Себастьян у сокрушенного Солиманова, когда они все втроем позавтракали круглой плоской черной лепешкой и чашкой чая, тоже черного, который по крепости вполне сгодился бы для чистки орудий в кузнице Вулкана; впрочем, это питье служило скорее утренним ополаскиванием зубов.
Себастьян и Александр, отлежавшие себе все бока, были совершенно разбиты, довольно растрепаны и в несвежей до неприличия одежде. Рубашки выглядели ничуть не чище чулок. Что касается обуви, то ее смело можно было выбрасывать.
— Боюсь, граф, нам придется вытерпеть еще несколько испытаний, — сказал Солиманов. — Надо добраться до Амударьи, потому что даже думать нечего пересечь пустыню Каракумы. А река донесет нас почти до Мазар-эль-Шарифа, и оттуда, по одной из афганских долин, мы сможем добраться до Пушапура,[50] где вас будут ждать.
Он наклонился и камешком начертил на земле примитивную карту.
Себастьян изучил ее и спросил:
— Как вы рассчитываете добраться до Ходжейли?
— В кибитке, граф. Это единственное средство доставить ваш багаж, — ответил Солиманов, казавшийся все более смущенным. — Разве что нанять верблюдов, но это будет гораздо дольше.
— Сколько времени займет переход?
— Если в кибитке, то не меньше двадцати дней, учитывая остановки на привал.
Двадцать дней трястись в повозке! Не может быть! О чем думали Засыпкин и Банати в своих удобных кабинетах? Ведь он же забрался в самое никуда. Вернуться тем же путем сейчас было бы ничуть не легче, чем двигаться вперед, но намного унизительней. Александр всматривался в его лицо; за все это время юноша не проронил ни одной жалобы, очевидно считая, что негоже показать себя менее стойким, чем отец. Но он тоже был растерян.
— Когда доберемся до места, будем выглядеть как настоящие оборванцы, — заметил Себастьян.
— Граф, — заявил Солиманов, — при караван-сарае есть баня. Она не такая изысканная, как в Одессе, но, в конце концов, там можно помыться. Если позволите, я бы вам еще предложил одеться по-нашему. Будет удобнее в пути.
Себастьян и сам уже об этом подумывал.
— Пока вы будете в бане, — продолжил Солиманов, — я могу купить вам одежду.
Себастьян кивнул и достал из кошелька три золотые монеты. Солиманов рассмеялся. Такой суммы, объяснил он, хватит, чтобы одеть несколько семей. Проводник взял одну монету и ушел.
В напоминающей ад парильне при прачечной, где жар поддерживался пылающим углем, в обществе людей с бледными телами и черными лицами, выскочивших, казалось, из самого чрева земли, Себастьян и Александр, сидя голышом, ждали своего проводника и надеялись, что их доверие не будет обмануто. Взгляды, которых они удостоились, когда вошли сюда, словно Данте и Вергилий в седьмой круг ада, не слишком-то их успокоили, но все же они изобразили непринужденность. Бутылки на лавках, принесенные с собой другими купальщиками, если к ним приложимо это слово, свидетельствовали о том, что трезвость здешней клиентуры была весьма относительной. Себастьян не сводил глаз со своего кинжала, шпаги и кошелька; два первых предмета послужили бы защите его самого и его сына в случае стычки, а что касается третьего, то он позволил бы им выпутаться даже в растерзанной одежде.
Какой-то толстощекий здоровяк с повязанным на пузе полотенцем, обильно потеющий, неуклюже приблизился к ним на медвежьих ногах, смерил взглядом и обратился по-русски:
— Вы откуда?
— Из цивилизованных мест, — ответил насмешливо Себастьян. — А вы?
— Из гарнизона. Я здешний комендант. Капитан Астахов. Мочи уже нет терпеть собственный запах. Куда направляетесь?
— В Индию, — ответил Себастьян, заметив про себя, что хоть у кого-то тут есть некоторый нюх.
— Значит, собираетесь пройти через Афганистан?
Себастьян кивнул. Незнакомец выразил удивление, если не недоверчивость.
— Охрана у вас есть?
— А разве нужна охрана, чтобы пересечь Афганистан? — спросил Себастьян.
Тут военный громогласно расхохотался.
— Да легче через преисподнюю пройти, чем без вооруженной охраны через Афганистан. Там же сплошь разбойничьи шайки!
Александр не понимал по-русски, но по выражению лица Себастьяна понял, что тот услышал что-то досадное.
— Сами-то вы вооружены? — спросил Астахов.
Себастьян показал на свою шпагу. Русский сочувственно вздохнул.
— Я граф де Сен-Жермен, а этот молодой человек — князь Полиболос, — сказал Себастьян. — Как же, по-вашему, можно пересечь Афганистан?
Астахов наморщил лоб, глядя на своего собеседника.
— Где вы откопали того туркмена, которого я видел недавно? Похоже, он у вас проводником?
— Нам его выделило правительство России.
Русский опять наморщил лоб. Глубоко вздохнул, вытер рукой заливавший глаза пот и через какое-то время опять заговорил:
— В какое место направляетесь?
— В Пушапур, через Мазар-эль-Шариф.
Русский изумленно покачал головой. Если бы Себастьян объявил ему о намерении добраться до Луны на спине единорога, вряд ли это удивило бы его больше.
— Вы никогда туда не доберетесь, — сказал капитан убежденно. — Я могу вам дать трех солдат из моего гарнизона. Вооруженных хорошими немецкими ружьями. Они тут со скуки помирают. И от безделья. Так что только рады будут прикончить парочку-другую разбойников. Заплатите им прибавку к жалованью.
«И не только им, — подумал Себастьян, — наверняка придется заплатить и их командиру».
— Сколько им платят? — осведомился он.
— Три копейки в день.
Сумма была столь ничтожна, что Себастьян не удержался от смеха. Три копейки в день, чтобы удержать душу в теле да еще и обороняться! Все речи Общества друзей и восемь его заповедей тихо рассыпались в прах.
Астахов обладал похвальным практическим чутьем.
— Вы должны понять, что вам понадобится добрых двадцать дней, чтобы добраться до Ходжейли, неделя, чтобы подняться по Амударье, и еще одна до Мазар-эль-Шарифа. Итого тридцать четыре дня, а то и все тридцать пять, стало быть, на троих триста пятнадцать копеек туда и столько же обратно. То есть шесть рублей тридцать копеек.
Себастьян кивнул. Вот, значит, к каким экономическим расчетам свелись великие замыслы Бестужева-Рюмина, Засыпкина и Банати. Он с иронией вспомнил разглагольствования этого последнего о великой шахматной доске. В своих оценках длительности путешествия сардинец явно дал маху.
И Себастьян задумался, сможет ли посланец царя Холькара, который должен ждать их в Пушапуре, сообразить, что они не поспеют к назначенному сроку.
— К тому же вы заплатите за порох и пули, — добавил военный. — Десять копеек один заряд. Не говоря о месячном провианте на восьмерых человек. И не забудьте о воде.
Себастьян стряхнул каплю пота с кончика носа.
— Золотой рубль вам, если и нам троим дадите ружья, — сказал он холодно.
Глаза Астахова блеснули, но все же он благоразумно не стал набивать цену.
— По рукам, — сказал капитан.
— По рукам.
Они скрепили сделку рукопожатием, и русский офицер, мокрый с головы до пят, вдруг вздрогнул от разряда, отчасти умышленного. Он выпучил глаза и вскрикнул:
— Святые угодники! Ну вы даете!
Диковатые тени, населявшие баню, обернулись, удивленные этим вскриком. Последовавший за ним смех успокоил их.
Себастьян взглянул на свои часы: Солиманов ушел уже часа два назад. Он сказал Александру, что потрет ему спину мочалкой, а потом сын окажет ту же услугу отцу. Юноша, казалось, смутился: роскошь и расслабленная нега стамбульских бань вовсе не готовила его к подобным упражнениям, достойным солдатни; он даже не обратил внимания, что Астахов тем временем сам любезно растер Себастьяна. Отдуваясь, все трое вышли в соседнее помещение окатить друг друга ледяной водой, текущей из каменной трубы в стене, из невесть какого источника.
Тут появился Солиманов, держа в руках охапку одежды. Присутствие русского, казалось, озадачило его. Мокрый Себастьян объяснил проводнику, кто это, и добавил:
— Принесите, пожалуйста, чем вытереться.
После чего осмотрел одежду: широкие полотняные штаны, длинная и широкая рубаха из более тонкого и вышитого полотна, шерстяная безрукавка, тоже с вышивкой, и еще просторный халат из незнакомой Себастьяну шерсти, верблюжьей,[51] как объяснил Солиманов. Наконец, сапоги с широким низким голенищем, шапку, похожую на ту, что носил сам туркмен, и два кушака — одним подпоясывать рубаху, другим халат. Себастьян оделся. Никакого сомнения, ему стало гораздо удобнее, чем в европейском платье, с той только разницей, что если кинжал без труда носился за поясом, то шпага при таком наряде выглядела нелепой. Александр рассмеялся.
— Отец, вы вырядились, как на карнавал!
Русский с интересом наблюдал за сценой. Себастьян вдруг сообразил, что капитан еще не знает, как они вместе с тремя солдатами собираются добираться до Мазар-эль-Шарифа. Он задал вопрос Солиманову.
— В кибитке, запряженной мулами, — ответил тот.
— Сколько человек может там поместиться?
Вопрос сбил туркмена с толку. Потом до него, очевидно, дошло, что русский каким-то образом изменил их планы, и он бросил на капитана быстрый взгляд.
— Четверо вместе с возницей, — ответил Солиманов.
— Тогда, — сказал Себастьян, — понадобятся две. Нам нужна вооруженная охрана. Комендант Астахов дает нам троих солдат.
Солиманов вытаращил глаза.
— Ты уже проходил через Афганистан? — спросил его Астахов сурово.
— Да…
— Сколько вас было?
— Два каравана…
Военный расхохотался.
— Два каравана! Да небось еще и вооруженных. А втроем без оружия вы там и до конца первого дня не протянете. Все проходы стерегут шайки разбойников. Афганистан — разбойничья страна, вы что, не знали?
Сконфуженный Солиманов воздержался от возражений. Себастьян с удивлением наблюдал, как с его проводника сбили уверенность. Похоже, Астахов знал свое дело.
— Вы что, не знали, что правитель этой страны Ахмад-шах сам преданный слуга разбойника?
— Простите, капитан, — вмешался Себастьян. — Не могли бы вы разъяснить это поподробнее?
— Охотно. Правитель Афганистана подчиняется Надир-шаху, который сам был главарем шайки разбойников, пока не захватил власть над Персией. Неужели вам этого не сказали в столице?
Мало того, Себастьян никогда не бывал в российской столице, он не слышал ничего подобного и из уст Банати.
— Разбойников?.. — переспросил он встревоженно.
— Разбойников. Грабителей с большой дороги. А потом набрал войско, воевал против русских, против турок, выиграл, потому что эти черти знают свою страну лучше, чем мы, и теперь правит не только Персией, но еще и севером Индии. Вам не только трех, а и десяти солдат будет мало, чтобы пройти долиной, ведущей к Пушапуру.
Он повернулся к Солиманову:
— С ружьем обращаться умеешь?
— Да, — ответил тот расстроенно.
— Ладно, с семью ружьями сможете пробиться. Если будете хорошо целиться, — уточнил Астахов.
Он крикнул что-то через дверь, выходившую во двор. Явился солдат, наверняка денщик, неся полотенце, мундир, сапоги и шляпу своего командира. Астахов оделся, не смущаясь посторонних, и вышел. Его внушительная осанка произвела на Солиманова должное впечатление; проводник казался мальчишкой, пойманным с поличным.
Себастьян привязал кошелек к поясу, скатал свою несвежую одежду в комок, взял шпагу и последовал за капитаном. Незаметно сунул Астахову золотую монету. Тот кивнул.
— Простите меня, но вам повезло, что мы встретились. Ваш проводник славный малый, но я бы его своим поручиком не сделал. Кто же вам его посоветовал?
— Барон Засыпкин.
Услышав это имя, Астахов чуть не подскочил. Потом под его усами обрисовалась презрительная ухмылка.
— Граф, как вы сами видите, все эти важные господа в своих раззолоченных кабинетах и понятия не имеют, что значит оказаться в этой дыре!
Слова потрясли Себастьяна: в своей прошлой жизни он слышал от брата Игнасио то же самое.
— Так мы и потеряли наши позиции на Каспии! — рявкнул военный.
Путешествие сулило больше приключений, чем Себастьян себе воображал.
Девять часов утра: Себастьян решил, что ни одной ночи больше не проведет в гнусном караван-сарае. Как только Солиманов нанял две кибитки, они отправились в крепость. Астахов представил им трех солдат: двух молодых парней лет двадцати, Егора и Трофима, и сержанта Василия, чуть постарше. Казалось, все трое были рады сбежать из казармы. Астахов вручил им ружья с пулями и запасом пороха, но при этом потребовал, чтобы каждому из путешественников показали, как с ними обращаться.
Это были кремневые мушкеты: требовалось сперва насыпать в ствол пороху из кожаной пороховницы, забить туда пулю, потом насыпать пороху на полку ружейного замка; когда кремень курка бил о кресало, искры воспламеняли порох и одновременно полка закрывалась. В следующее мгновение воспламенившийся порох выталкивал пулю из ствола. Вся операция длилась пятнадцать секунд.
Себастьян достойно вышел из испытания, но обнаружил, что ненавидит запах пороха.
— Никогда не стреляйте дальше чем на двести пятьдесят шагов, — посоветовал Астахов, отмерив расстояние широкими шагами по двору крепости. — Иначе зря потратите пулю.
Потом добавил пять больших ручных гранат, похожих на черные дыни.
— Отличное средство от засевшего в укрытии врага, — заявил он. — Не хуже пушки!
Александр был очень горд, с первого же выстрела поразив указанную комендантом мишень.
Потом Себастьян распорядился закупить на базаре провизию, помня о последнем совете Астахова.
— Хлеб, сыр, сушеные фрукты — поверьте, это хранится дольше всего. И вода. Много воды. И чтобы было чем ее обеззаразить! — добавил капитан, подмигнув и помахав бутылкой водки. — Не забудьте корм и воду для мулов. Это не верблюды. Они тоже пьют, а вы отправляетесь в сущее пекло.
В одиннадцать часов две кибитки двинулись на восток, в сторону Ходжейли.
33. ОГОНЬ, ДВОЙНИК, СТАДИЯ БЛИЗНЕЦОВ
Две какие-то хищные птицы — орлы, если его не подводили глаза, — парили в небе над безнадежно бесплодным пространством, которое неумолимое солнце выжгло добела. Чем они тут питались? Камнями?
Когда Себастьян позже вспоминал об этом переходе через плато Устюрт, граничащее с пустыней Каракумы, он казался ему окаменевшим сном. Быть может, таким же было последнее видение жены Лота, которая обернулась взглянуть на горящие Содом и Гоморру и превратилась в соляной столп.
Только им приходилось вдобавок терпеть толчки, способные вытрясти душу из человека. Глядя на слепящую глаза караванную тропу и закутав лицо длинным шелковым шарфом, чтобы глотать поменьше пыли, Себастьян размышлял о новом эпизоде своей жизни: на какое-то неопределенное время он стал игрушкой судьбы, обернувшейся миссией в Индию, глубинный смысл которой виделся ему отсюда отнюдь не так ясно, как из мирной обстановки венского салона. Он на собственной шкуре испытывал последствия ошибочных расчетов сардинца, не имевшего никакого представления о российской действительности, о плато Устюрт по крайней мере. И вдобавок приходилось платить собственными физическими страданиями за неосведомленность туркмена-проводника, парня хоть и славного, но неопытного.
Вытягиваясь в кибитке на привалах, Себастьян казался себе рухнувшим деревом.
Александр переносил тяготы с другим настроением: для него неудобства экспедиции возмещались очарованием приключения, окрашенного героизмом. Что касается солдат, то они и не такое видали, главным для них было бегство от гарнизонной рутины. Не выпуская ружья из рук, они высматривали зайцев, поскольку Солиманов уверял, что эта живность тут водится. Солдаты и в самом деле подстрелили с полдюжины каких-то шустрых грызунов и теперь торопились ободрать и зажарить свою добычу. Себастьян тоже отведал жаркое: вкус показался ему резковатым. Потом он всякий раз уступал кому-нибудь свою порцию.
Себастьян подумал, что это путешествие похоже на ступень очищения в алхимических трактатах: растворение личности и выпаривание ее в окружающий мир. Целых три недели он был только песком, камнями, пылью, за исключением прохода через две ужасающие весенние грозы.
Обеим кибиткам пришлось остановиться, поскольку тропа в мгновение ока стала топкой и непроезжей. По примеру Солиманова, возниц и солдат Себастьян с Александром проворно разделись и выскочили из кибиток в чем мать родила, босыми ногами прямо в грязь, подставляя себя под яростные струи. Странная сцена: восемь белых тел, пляшущих под исчерченным молниями стальным небом. Они вымылись с головы до ног — глаза, волосы, тело, ноги, потом вволю напились. Достаточно было сложить ладони по примеру воинов Иосии, чтобы они наполнились водой — чистейшей водой, наконец-то без затхлого привкуса, как в тех запасах, что они везли с собой в бурдюках. Даже водка не могла его отбить.
Настоящая оргия! Оргия воды. Мулы тоже пили — прямо из луж.
Благодаря небесной влаге произошло чудо: на следующий же день после ливней плато Устюрт внезапно зазеленело. Целых три-четыре дня мулы могли лакомиться какими-то побегами, да к тому же цветущими. Это сэкономило фураж, которого оставалось уже совсем немного.
Себастьян даже забыл о цели своего путешествия. Ходжейли остался в его голове лишь смутным воспоминанием.
Когда они прибыли на место назначения и смогли растянуться наконец на тюфяках, поднимаясь вверх по Амударье на борту плоскодонной посудины, ему показалось, что вся предыдущая жизнь была лишь какой-то беспокойной фантазией.
Таково воздействие пустыни. Оно стойко и долговременно. Живая плоть ничего не может с этим поделать, она тут черствеет, делается бесчувственной. Пустыня иссушает все лишнее, сгущает соки и расширяет душу до бесконечности, к которой та всегда подспудно стремится. Впрочем, не случайно ведь пустыня порождает аскетов — отшельники, взыскующие отрешенности, всегда избирали ее жилищем.
Все же Себастьян опять обрел свою заурядную земную природу, причем с неприятной внезапностью.
Когда все шестеро высадились из кибиток в Ходжейли, а возницам было заплачено, предполагавшийся маршрут от селения, в которое они прибыли, до Мазар-эль-Шарифа вдруг обернулся фикцией — еще одной на счету Солиманова. Амударья заслуживала названия реки только с мая по июнь, когда таяли памирские снега; остальное же время она была лишь чередованием вяло текущих вод и отмелей. И проходима для судов только до встречи со своим притоком Кокчей. Подъем вверх по течению был делом трудным, поскольку река порой превращалась в бешеный ледяной поток. По совету лодочников путешественникам пришлось отказаться от удобств плавания и сойти на берег гораздо раньше пункта, указанного Солимановым.
Если войны затевают, основываясь на доверии к таким информаторам, как этот туркмен, то неудивительно, что их проигрывают или выигрывают скорее по воле случая, нежели благодаря доблести солдат, генералов или гению стратегов. Себастьян взял дело в свои руки, dum se ipsam inducam animum facet, как написал Региомонтанус.
Высадившись из лодки в каком-то глухом селении, называемом Керки, и низведя Солиманова к роли переводчика, Себастьян решил купить у местного князька семь лошадей, предназначив одну для поклажи. Почуяв, что Себастьян отнюдь не заурядный путник, этот захолустный владыка проявил немалую услужливость и сам проводил гостей в степь, где паслись его табуны.
Себастьян никогда не видел таких коней: стройные, золотисто-буланые, они всем своим существом излучали ум и гордость. Это были ахалтекинцы. Своего коня Себастьян выбрал сразу же, потому что тот первым посмотрел на него. Себастьян подошел к коню, долго стоял перед ним, чтобы тот привык к его запаху, потом заговорил. Он был уверен, что животное понимает его — через какое-то время конь потянулся к человеку, подрагивая широкими ноздрями. Себастьян погладил жеребца по морде, и тот слегка вскинул голову, чтобы усилить ласковое прикосновение руки. Себастьян засмеялся.
— Как я вижу, вы знаете толк в лошадях, — сказал князек; туркмен перевел.
— Я люблю их. А этот прекрасен, как ангел.
— Всякое знание — любовь. Этот сам выбрал себе хозяина.
Под впечатлением от такого знания лошадей, проявленного чужестранцем, князек, которого звали Факр-эль-Дин, настоял, чтобы граф вместе со своей свитой стал его гостем. Себастьян опасался, что их опять будут потчевать жареным барашком, но на сей раз был подан козленок с гречкой и каким-то таинственным, но довольно приятным хмельным напитком. Солдаты наелись до отвала. Наконец, предоставленное им жилище оказалось вполне сносным, по крайней мере чистым.
— Куда же нас несет, отец? — прежде чем задуть светильник, спросил Александр, лежа на своего рода деревянном ящике, застеленном толстым ковром.
— По течению жизни, — ответил Себастьян шутливо.
— Если бы не вы, я бы тут потерял рассудок.
— И были бы не правы, он лучше любого компаса.
Александр рассмеялся.
На следующее утро пришлось купить также седла, удила, стремена и фураж. Всего сто десять рублей. Князек удивленно рассматривал груду монет, потом объяснил, как добраться до Мазар-эль-Шарифа: первая остановка в Термезе, вторая — в Файзабаде.
Они оказались там два дня спустя. А покинув Мазар-эль-Шариф на заре третьего дня, углубились в горную долину, то и дело сжимавшуюся в узкие ущелья, преодолеть которые помогали только ум и ловкость их коней.
Незадолго до захода солнца Себастьян вдруг заметил, что его конь нервничает, мотая головой из стороны в сторону. А через несколько секунд раздался выстрел и пуля, рикошетом отскочившая от каменной тропы, заставила седока оцепенеть. Лошади заржали, конь Себастьяна взвился на дыбы. Солдаты закричали.
Впереди за скалами, на высоте в сотню футов, мелькнули и исчезли два-три силуэта в тюрбанах. Себастьян обернулся: сзади, с другой стороны ущелья, появились и другие головы.
Путешественники были окружены. Разбойники! С обеих сторон теснины.
— Всем спешиться! — крикнул Себастьян, проворно соскакивая с седла. Он потянул своего коня под каменную стену, слишком отвесную, чтобы с ее гребня можно было прицельно стрелять по ним — пришлось бы свешиваться головой вниз. Его первой заботой было уберечь лошадей.
— Лошадей они не тронут, — шепнул Солиманов. — Для них это добыча. Да еще какая.
Укрывшись под обрывом, путешественники теперь имели дело практически только с теми разбойниками, что были впереди; Себастьян правильно рассчитал: оставшимся на обрыве было гораздо менее сподручно целиться в них. Их редкие пули выбивали каменные брызги на тропе, словно взрывающиеся петарды. Однако у остальных нападавших позиция была хорошей. И мишени были прямо перед ними. Из-за скал торчали нацеленные на путешественников мушкеты. Александр хотел перебежать к отцу.
— Нет! — крикнул Себастьян. — Залечь врассыпную!
Привычные к таким переделкам солдаты уже отвязывали свои завернутые в одеяла мушкеты от седел. Быстро зарядили их, выстрелили. Вражеские стволы сразу же исчезли. Послышались проклятья. Разбойники не заметили, что путешественники тоже вооружены. Наверняка это оказалось для них неприятным сюрпризом. Солиманов, Александр и Себастьян последовали примеру солдат. После этого и полминуты не проходило без выстрела. Осколки камней, отбитые от скал, летели во все стороны, почти такие же опасные, как и пули. Разбойникам было все труднее целиться. Их выстрелы стали реже.
Пуля ударила рикошетом по тропе, потом другая, у самых ног Солиманова: это разбойники с гребня скалы пришли на подмогу своим сообщникам напротив. А один из них воспользовался расселиной в скале как бойницей, просунув туда свой мушкет. Сержант Василий зарядил свое ружье, прицелился и выстрелил. Бойница буквально взорвалась осколками. Пуля попала прямо во вражеский мушкет, разбив его в щепки.
— Лихо! — крикнул Солиманов.
Бандиты завопили, проклиная меткость стрелка. Один из них выстрелил, потом другой; пули прошли мимо.
Солиманов насыпал пороху из своей пороховницы, зарядил, тщательно прицелился в один из тюрбанов, который заметил за скалой, и спустил курок. Опять край скалы взорвался осколками, опять послышались проклятия.
Очевидно, разбойники не ожидали подобного отпора. Но перестрелка грозила затянуться, истощив боеприпасы. Лошади нервничали все больше, и Себастьян опасался, как бы они не сорвались с привязи. А день клонился к закату.
— Гранаты! — вдруг воскликнул он. — Где гранаты?
— Здесь, командир! — отозвался солдат Егор, залегший шагах в десяти от него. — Только отсюда их не добросить.
— Разложите маленький костерок, — приказал Себастьян. — Чтобы можно было сразу же поджечь фитиль, как только представится случай.
Последние его слова заглушили выстрелы и ржание коней. Разбойники напротив определили Василия как лучшего стрелка и, казалось, избрали его своей главной мишенью. Себастьян насчитал впереди пять голов. И примерно столько же было над ними. Внезапно, пока он заряжал свое ружье, совсем рядом прогремел выстрел, заставив его вздрогнуть. Это Александр, опершись спиной о каменный выступ, послал пулю в одного из бандитов, которые свешивались сверху, высматривая путешественников. С края обрыва донеслись крики. Александр изрыгнул ругательство, которое его отец никогда от него раньше не слышал, насыпал пороху, снова зарядил ружье и через несколько секунд опять выстрелил. На сей раз после выстрела раздался вой, и тело разбойника, пораженного прямо в лицо, свалилось с обрыва и разбилось о нижний выступ скалы.
Александр зарычал.
Последовало короткое затишье.
Щелкнул другой выстрел, сухой, как удар по кремню. Себастьян вскрикнул. Ему показалось, что его задело. Пуля ударила в стену на расстоянии вытянутой руки от него, и осколок камня оцарапал ему шею; другой полоснул по халату словно клинком. Трофим тоже вскрикнул, потом выругался: его ранило в руку.
Себастьян присмотрелся к скалам напротив и насчитал шестерых разбойников. Ни один из них пока не упал. Потом окинул взглядом стену, под которой укрывался.
— Егор, дай-ка мне гранату, — приказал он.
— Как вы ее отсюда добросите? — спросил тот.
— Зажги фитиль и подай сюда.
Взяв гранату, Себастьян крикнул Александру:
— Прикрой меня!
И бросился вперед. Оставалось добежать до нагромождения камней, по которым можно было взобраться повыше. Держа гранату с подожженным фитилем в одной руке, Себастьян уцепился за камень, вскарабкался на него, перебрался на следующий и стал взбираться еще выше по более крутой скале. Рука была уже ободрана до крови, но под ногами имелась точка опоры, и он достиг высоты человеческого роста — трети всей высоты обрыва. Недостаточно высоко.
За его спиной затрещали выстрелы.
Фитиль сгорел уже наполовину. Успеет ли он взобраться на третью скалу? Пуля ударила под самыми ногами. Разбойники, похоже, догадались о его намерениях. Себастьян положил гранату в какое-то углубление, одним рывком взлетел на скалу и снова схватил снаряд. Еще одна пуля. Ударила на расстоянии пальца от фитиля. Но Себастьян уже стоял на нужной высоте и, размахнувшись, изо всех оставшихся сил метнул гранату на другую сторону ущелья. Она описала широкую упругую дугу и, крутясь, упала на скалы. Раздались крики. А через несколько секунд полыхнуло красным огнем, и ущелье сотряс оглушительный взрыв. По горам прокатилось эхо. На тропу обрушился каменный дождь.
Послышались вопли и стоны раненых. С другой стороны тоже кричали. С разбойниками напротив было покончено. Оставались только те, что наверху.
Меньше часа до захода солнца.
Пронзительный вой. Егор с Василием последовали примеру Александра: подстерегали, когда кто-нибудь из верхних бандитов высунет голову, и тут же стреляли. Но разбойники заметили опасность и больше не показывались.
Вдруг случилось что-то непонятное, сбившее с толку Себастьяна и всех остальных. Егор неожиданно вскочил на коня и с гранатой в руке помчался вперед во весь опор. Но куда? Себастьян вскоре потерял его из виду. Даже не слышал стука копыт.
— Куда это он с гранатой? — спросил Александр.
— Не знаю, — ответил Себастьян.
Ответ пришел через десять минут. Сначала яростные крики заставили путешественников поднять голову, потом грохнул другой взрыв, и с обрыва хлынул ливень земли и мелких камней. Крики стали реже, да и их заглушило конское ржание наверху и внизу. Потом все стихло.
Путешественники вшестером одержали верх по меньшей мере над дюжиной разбойников.
Оставалось ждать.
Они поняли маневр Егора. Но почему тот не возвращается? Неужели погиб во время своей отчаянной атаки, пав жертвой собственной гранаты?
Себастьян осмотрел рану Трофима. Во время перестрелки Василий наспех перетянул жгутом руку своего товарища. Пуля прошла сквозь мягкую ткань под плечом, не задев кость. Себастьян приблизился к вьючной лошади, погладил ее, чтобы успокоить, потом открыл сумку, в которой держал лекарственные снадобья, и достал оттуда бутылку винного спирта и мазь из подорожника. Очистил и смазал рану, потом стал перевязывать своим шарфом. Жгут был больше не нужен.
А время все шло. Близилась ночь. Куда же запропастился этот чертов Егор?
— Пойду взгляну, пока вы тут с Трофимом возитесь, — сказал Василий.
Но тут раздался нарастающий стук копыт. Себастьян опасался увидеть лошадь без седока, но, услышав топот целого табуна, встревожился еще больше. Путешественники застыли. Солиманов и Александр взялись за свои пороховницы.
Из-за скалы появился Егор, живой и невредимый. А когда солдат подъехал поближе, все увидели, что он сияет.
И было из-за чего — он вел за собой в поводу еще трех лошадей, одна из которых была навьючена невероятной добычей: семь ружей, халаты, кинжалы, мешки с порохом…
Трофим расхохотался. Истерично, почти безумно, срываясь на заливистые повизгивания. Потом и Василий хлопнул себя по ляжкам и тоже зашелся неудержимым смехом. А вслед за ними и Себастьян с Александром.
Егор спешился. Путешественники обступили его. Он красноречиво провел рукой по горлу и пояснил:
— Троих прирезал.
Пока Василий осматривал добычу, Себастьян поспешил закончить до темноты перевязку раненого.
— А ружья-то английские, — заметил Егор.
Трофим хотел сходить и за остальными лошадьми на другую сторону ущелья, но уже спустилась ночь.
Солиманов спросил, собираются ли они хоронить мертвецов.
— Тогда придется проторчать тут до полуночи, — поморщился Василий. — Лучше уберемся отсюда как можно скорее.
— Верно. Стервятники-то на что? — добавил Трофим.
Маленький караван опять пустился в путь, спеша покинуть опасную теснину, но в первом же подходящем месте остановился, чтобы разбить лагерь и подкрепиться.
Егор и Василий задали корму лошадям, включая новоприобретенных, потом расположились вокруг костра и поели сами.
Себастьян был поражен, увидев, как блестят глаза Александра.
Это навело его на неожиданную мысль. Великое алхимическое Деяние предусматривало закалку огнем на стадии Близнецов.
«После этой стычки мальчик стал мужчиной», — подумал Себастьян, испытывая странное чувство, будто у него появился двойник. И вдруг ощетинился, словно испуганная кошка, еще до того, как понял почему: ему вспомнилось лицо Александра, когда тот подстрелил разбойника. И звериное рычание сына. Сходство меж ними было гораздо большим, чем он представлял себе и чем ему хотелось.
Но разве в алхимической цепи превращений он не был сейчас на стадии Близнецов?
34. ПРИНЦ В КОНЦЕ ЛАБИРИНТА
Наконец Пушапур. И неопределенность.
Путешествие из Одессы продлилось около трех месяцев, на целых два больше, чем предполагали Засыпкин и Банати. Посланец царя Холькара, который должен был ждать их в Пушапуре, наверняка отчаялся увидеть когда-либо графа де Сен-Жермена и вернулся в свою страну.
Егор, Трофим и Василий пустились в обратный путь, обогатившись не только своей добычей — оружием и трофейными лошадьми, — но и тремя собственными ахалтекинцами, которых Себастьян им подарил. Четырех оставшихся коней для окончания путешествия было вполне достаточно.
Солиманов не говорил ни на каком из языков Индии, и, если бы не симпатия, родившаяся из совместно пережитых испытаний, Себастьян отправил бы и его восвояси. Знаний туркмена хватило лишь на то, чтобы сказать:
— Вроде тут по-пуштунски говорят.
Это был язык афганских племен, который Солиманов узнавал, но говорить на котором не мог.
Так они втроем оказались в чужой стране без малейшей надежды найти пристанище в этом городе, вполне оправдывающем свое название «Город цветов»: сады тут были повсюду. Между широкими пространствами, засаженными кустами и клумбами, проезжали туда-сюда на мулах, реже на лошадях, люди в тюрбанах, внешне похожие на разбойников, устроивших им засаду. Но попадались и азиаты в более коротких одеяниях.
«Похоже, мы заблудились», — подумал Себастьян.
Десять часов утра. Они добрались до какого-то базара у городских ворот, спешились и стали ждать, стоя рядом со своими лошадьми, словно в клетке гигантской игры «гусек», обозначавшей положение «вне игры».
Светлокожие, несмотря на загар, приобретенный на плато Устюрт, одетые совершенно иначе, чем жители этой страны, они неизбежно привлекали внимание и прохожих, и торговцев. Их кони тоже. Таких тут явно никто не видел, и красота животных бросалась в глаза самым возмутительным образом. Себастьян начал терять терпение.
Однако странность троицы оказалась ее защитой.
Себастьян уже собирался, испив до дна чашу стыда, прибегнуть к языку жестов, чтобы дать понять первому же попавшемуся торговцу зеленью, что они ищут, где бы поесть и поспать.
Но тут их внимание привлекло некое зрелище. Человек верхом на лошади, лет сорока и надменного вида, в сопровождении десятка вооруженных пеших телохранителей двигался прямо к ним. Подъехав поближе, он остановился и рассмотрел сначала самих путешественников, потом их коней, затем его взгляд вновь вернулся к Себастьяну, который, видимо, показался ему главным в этой троице.
— Do you speak English?[52] — спросил всадник с высоты своего бархатного седла, украшенного золочеными узорами.
Себастьян сначала изумился, потом возликовал.
— Да, — ответил он на том же языке. — Кто вы?
— Я Ассад Зафрульдин, — объявил всадник таким тоном, каким во Франции мог бы сказать, что он принц Конде. — Мои люди сообщили мне о заблудившихся чужестранцах. Правда, они не поняли, на каком языке вы говорите. Сказали только, что вы светлокожи и одеты по-туркменски.
Откуда этот вельможа знает английский язык? Себастьян решил приберечь вопрос на потом.
Тем временем вокруг собралась небольшая толпа. Себастьян нашел, что господин Зафрульдин поступил бы учтивее, сойдя с коня для продолжения беседы. Высокомерие всадника уже начинало его раздражать. Но в конце концов, это было единственное человеческое существо, которое могло оказать им содействие, так что Себастьян придержал язык.
— Кто вы? — спросил всадник резко.
— Я граф де Сен-Жермен, а это мои спутники — князь Александр Полиболос и наш проводник Исмет Солиманов.
— Граф — это ведь титул знатного человека, верно? — спросил Зафрульдин.
— Так и есть.
— В какой стране? — продолжал вельможа.
— В данном случае во Франции.
— А юноша — князь?
— Да.
— В какой стране?
— В Греции, — ответил Себастьян, решив в итоге, что его собеседник скорее забавен.
У всадника было энергичное, довольно красивое, хоть и грубо отесанное лицо — столь же грубо, как и его манеры.
— Приехали из Самарканда?
— Нет.
— Значит, из Бухары?
— Тоже нет.
— Так вы не купцы? — удивился Зафрульдин.
— Нет, — ответил Себастьян несколько сухо. Убедившись, что имеет дело не с какими-нибудь людишками низкого звания, Зафрульдин щелкнул пальцами, и двое из его людей бросились к нему, чтобы помочь спуститься с коня.
— Откуда же вы держите путь?
— Из Мазар-эль-Шарифа.
Зафрульдин опешил:
— И вы одни прошли через долину? Да вы же храбрецы! Стерегущие ее племена не слишком-то приветливы.
Себастьян удержался от замечаний об оказанном им гостеприимстве и, повинуясь инстинкту, не стал уточнять, что их сопровождали русские солдаты.
— Могу я вас спросить, что вы собираетесь делать в Пушапуре? — осведомился Зафрульдин.
Чтобы учинить полицейский допрос, этот человек наверняка должен был располагать полномочиями.
— У нас здесь назначена встреча с посланцем царя Холькара, но мы задержались в пути на несколько недель и недоумевали, как ему сообщить о нашем прибытии. Однако тут любезно появились вы, — добавил Себастьян с оттенком иронии.
Услышав про царя Холькара, Зафрульдин оживился. Потом, бросив на своего собеседника испытующий взгляд, заявил:
— Я советник правителя Пушапура Тарик-хана Хаттака. Быть может, я смогу вам помочь найти посланца, с которым вы разминулись. Но если вы окажете мне честь последовать за мной, я бы уже сейчас был спокоен, что вы разместитесь достойным образом.
Себастьян кивнул. В других обстоятельствах он отнес бы это великодушное предложение на счет обычного восточного гостеприимства, но сейчас интуиция подсказывала иное: в сущности, этот человек брал его со спутниками в плен. Такой вельможа не побеспокоился бы лично прибыть с десятью вооруженными стражниками только потому, что ему донесли о каких-то заблудившихся чужестранцах. Подлинный мотив прибытия Зафрульдина — подозрительность. И десять стражников предназначались для их ареста, а может (кто знает?), и немедленной казни на месте в том случае, если бы ответы чужаков ему не понравились.
Похоже, эта страна живет в тревоге. Но почему? Себастьян нахмурился.
Через несколько мгновений он, Александр и Солиманов сели в свои седла, правда без помощи стражников. Этой чести гостеприимец им не оказал. По его отрывистому приказу кортеж тронулся в путь; они ехали шагом, удаляясь от базара и проезжая мимо садов, простиравшихся на запад. Сады казались просторнее, чем те, что путешественники уже видели, и их было больше. Цветущие фруктовые деревья источали благоухание и роняли лепестки под сенью столетних сикомор. Павлины чванливо влачили свои хвосты по лужайкам, не менее горделивые лебеди скользили по глади прудов, заросших водяными лилиями.
Разительный контраст с бесплодными областями, которые путешественники недавно покинули. Они приблизились к комплексу зданий, размерами не уступавшему целому городу. Может, это и есть дворец правителя, имя которого Себастьян не смог запомнить? Доступ в сады охраняли стражники, до зубов вооруженные копьями, кривыми саблями и мушкетами; завидев Зафрульдина, они кланялись ему до земли.
Прибыв к большому зданию, окруженному галереей и стоящему в стороне от роскошной постройки с четырьмя высокими башнями, наверняка дворца правителя, вельможа рявкнул, отдав какой-то приказ. Налетела туча слуг, чтобы помочь ему спешиться; на сей раз такую же честь оказали и его гостям. Другие занялись поклажей, повели лошадей в конюшню.
— Хочу надеяться, что эти покои подойдут вам, — сказал Зафрульдин. — Если угодно, я увижусь с вами через два часа, — добавил он, взглянув на большие карманные часы в золотом корпусе.
Себастьян поклонился со всем возможным изящетвом. Прием вполне мог сравниться с тем, что некогда строил ему Байрак-паша. Наличие стражи подтверждало его догадку: путешественники стали в некотором роде пленниками.
Теперь оставалось устроиться в отведенном им доме. По правде сказать, уважение Себастьяна к Засыпкину и Банати резко пошатнулось. Оба втянули его в плохо задуманную и еще хуже подготовленную экспедицию. Это отразилось и на его верности делу. Но Себастьян решил, что глупо или, по крайней мере, преждевременно выходить из игры сейчас, после стольких злоключений и долгих дней без воды. Прежде всего следовало узнать, каковы ставки.
Он чувствовал, что, сам того не ведая, угодил в ловушку — в некий лабиринт, выхода из которого не знал.
Вдруг из этих тактических рассуждений вынырнула мысль: до сих пор он имел дело только с прислужниками власти, со всеми этими стенхоупами, лобковицами, бель-илями, засыпкиными, банати и прочими. Но никогда с их хозяевами — королями.
Однако впредь Себастьян хотел вести дела именно с королями. Только так он сможет взять реванш. Но какой? — спрашивал он себя, стоя на террасе отведенного ему дома.
Александр молча наблюдал за отцом. О чем догадывался этот юноша?
— Вы заговорите со мной когда-нибудь, отец?
Себастьян смутился.
— Вы считаете, что я слишком неразговорчив?
— Думаю, у вас еще найдется, что мне сказать.
Себастьян улыбнулся.
— Вы проницательны, Александр.
— Быть может, это наследственное, отец. Так о чем вы говорили с этим вельможей?
— Его зовут Зафрульдин, и он министр правителя Пушапура.
— Да, но разговор с ним, похоже, вас озадачил.
— Я ничего от вас не скрою, когда сам разберусь, что к чему.
Пришел слуга и объявил графу и князю, что все приготовлено для их омовения.
Около шести часов вечера явился Зафрульдин, пышно разодетый в вышитые шелка, лен и бархат, и сообщил Себастьяну, что Тарик-хан Хаттак приглашает его со спутниками отужинать. Потом придирчиво осмотрел их наряд.
— Это вся ваша одежда? — спросил он.
По правде сказать, их платье несколько потеряло свежесть и было почти в жалком состоянии. Зафрульдин кликнул слуг, и через несколько минут те принесли новехонькие шаровары, тонкие рубахи, расшитые сапоги, великолепные халаты и переодели чужестранцев. Себастьяну пришлось стерпеть и это унижение. Вместо гордого отказа он открыл одну из своих сумок, достал из кошелька перстень с потрясающим изумрудом, потом алмазное ожерелье и надел все это с нарочито небрежным и даже скучающим видом.
Зафрульдин улыбнулся, прищурив глаза.
— Ваши драгоценности великолепны, — сказал он. — Так и вправду лучше.
Потом пристально посмотрел на Себастьяна:
— Вы шпион?
— Нет. Скорее посол, — ответил Себастьян надменно, решившись пойти ва-банк.
— Чей?
— России.
Зафрульдин некоторое время обдумывал ответ. Опять приказал что-то слугам, и те принесли подносы со всевозможными напитками — миндальным молоком, абрикосовым и апельсиновым соком с гвоздикой и бог знает с чем еще!
— Мне легче будет представить вас моему господину, если я узнаю цель вашей встречи с Холькаром.
Трудно было высказаться откровеннее.
— Цепь проста и ясна: прояснить положение дел в Индии, — ответил Себастьян с апломбом.
— Зачем?
Понятия не имея о ситуации, в которой находились как царь Холькар, так и сам правитель Пушапура, Себастьян решился на импровизацию.
— Игра в шахматы придумана ведь в Индии, не так ли, ваше превосходительство? Так вот, Россия на самом севере этой шахматной доски.
— И она не забыла мат, который поставил ей Надир-шах,[53] — заметил Зафрульдин.
Сен-Жермен слышал о Надир-шахе всего несколько слов от Астахова: для него это был бывший разбойник, ставший царем Персии, вот и все. Так что он не понимал, зачем Зафрульдин приплел его сюда.
А тот внимательно посмотрел на Себастьяна и вытянулся на своем ложе. Отпил глоток миндального сиропа, потом взял длинную курительную трубку, поданную слугой, и раскурил ее от головешки, услужливо протянутой другим. Александр и Солиманов безмолвно наблюдали за этой восточной пантомимой, внешне расслабленной, но, как они догадывались, исполненной важного, хоть и непонятного им смысла.
— Прежде чем вы встретитесь с моим господином, — заявил Зафрульдин, — позвольте мне кое-что рассказать вам о нем.
И Себастьян узнал, что правитель Пушапура Тарик-хан Хаттак был внуком пуштунского героя, поэта и полководца Кушал-хана Хаттака, который три четверти века назад поднял восстание против власти Великих Моголов. Таким образом, этот доблестный предок изгнал войска Могола Ауренгзеба и отвоевал долину Пушапура. Тем не менее, несмотря на дипломатический язык Зафрульдина, Себастьян понял, что этот князек был на самом деле лишь вассалом Надир-шаха, даже вассалом его вассала — Ахмед-шаха, царя Афганистана. В конечном счете чем-то вроде губернатора провинции, чей титул и ограниченную власть обеспечивало лишь его славное происхождение.
Очевидно, рассудил Себастьян, положение правителя Пушапура незавидно. Только вмешательство иностранной державы, такой как Россия, могло бы освободить его от тирании Надир-шаха. Отсюда и интерес его министра к миссии чужестранца.
Себастьян кивнул.
— Граф, — сказал Зафрульдин, вставая с проворством и грацией дикого зверя, — позвольте мне вам сказать, что Россия опоздала. Здесь, на севере, мы на задворках. Настоящая игра идет отныне между двумя другими странами, Францией и Англией. По обе стороны доски.
— Могу ли я вас спросить, где вы выучили английский? — спросил Себастьян.
— В Калькутте. У торговцев слоновой костью и ценным деревом, — ответил Зафрульдин, усмехнувшись. — Идемте, мы должны быть в зале, когда туда войдет Тарик-хан Хаттак. Когда я вас представлю, вы поклонитесь и поцелуете ему руку. Он не говорит ни на одном европейском языке. Я буду переводить. Он укажет вам ваше место. Ваш спутник, юный князь, сядет подле вас. Проводник туркмен займет место сзади. Соблаговолите их об этом уведомить. Я вернусь за вами через четверть часа, — заключил он.
— Что он сказал? — спросил Александр, когда министр вышел.
— Пока ничего определенного. Но у меня чувство, что Пушапур не то место, где можно расслабиться, как могло бы показаться.
Зафрульдин вернулся, как обещал. Они прошли по галереям, усаженным благоухающими цветами, и достигли первого зала, где около десятка вельмож стали их с удивлением рассматривать, особенно алмазное ожерелье Себастьяна.
За толпой царедворцев взгляду открывался другой зал, очень просторный, с красными коврами на полу, отделанный светло-серым мрамором. Там и должен был состояться ужин, но до появления правителя никто не смел туда входить. Тарик-хан вскоре прибыл.
Бледный, худощавый, с тонким лицом, обрамленным иссиня-черной бородой. Взгляд то пронзительный, то мрачный и отсутствующий. Тарик-хан Хаттак вошел медленным шагом в сопровождении двух старцев и двух подростков. Его глаза обежали присутствующих с быстротой ласки. Еще до того, как к нему приблизился Зафрульдин, он сделал шаг навстречу Себастьяну, оглядел его, потом Александра. Церемония представления прошла очень быстро, и когда Себастьян взял руку принца, чтобы ее поцеловать, тот вздрогнул и что-то спросил у Зафрульдина.
— Его лучезарное высочество спрашивает, не маг ли вы? — перевел министр.
— Нет. Пусть его лучезарное высочество соблаговолит простить меня. Просто я обладаю даром, которым не могу управлять.
Принц отдал какие-то короткие приказания.
— Его лучезарное высочество просит вас сесть по правую руку от него. А князя Александра по правую руку от вас.
Присутствующие тоже встали по своим местам, полукругом по обе стороны от правителя. Когда тот сел на ковер, все сделали то же самое, каждый перед своим низким столиком. Никаких приборов, только пиалы из голубого фарфора и кубок. Есть предполагалось прямо руками. Потянулась нескончаемая вереница слуг, подносящих салаты, каких-то жареных с пряностями птичек, рис, шашлык из баранины, другие салаты… Единственными напитками, согласно предписаниям Корана, были чай и вода с добавлением пахучих эссенций. Тарик-хан Хаттак повернулся к Себастьяну и что-то ему сказал. Зафрульдин наклонился, исполняя свою службу переводчика.
— Мой советник сообщил мне, что вы беспрепятственно добрались из Мазар-эль-Шарифа до Пушапура. Вам очень повезло.
— Видимо, небо благоволило к нам.
— Настолько, что наверняка послало к вам своих ангелов с ружьями.
Едва уловимая ирония в тоне и сам образ вызвали улыбку Себастьяна. Значит, правитель осведомлен о стычке, случившейся в начале этого перехода? Вполне вероятно. Но Себастьяну еще меньше захотелось рассказывать, что их сопровождали трое русских солдат. Один Бог знает, к какой партии или племени принадлежали те разбойники, а полный их разгром наверняка произвел впечатление на остальных.
— Русские, отправившие вас послом к Холькару, правителю Индаура, подвергли вас большим опасностям, — продолжил Тарик-хан Хаттак.
— Они переоценили способности нашего проводника, — ответил Себастьян.
— Знаете ли вы, почему вас в первую очередь направили к Холькару?
— Поскольку цель моей миссии — собрать сведения о пожеланиях индийских государей и о том, как Россия могла бы их удовлетворить, мне было указано, что царь Холькар сообщит больше других.
Тарик-хан Хаттак иронично улыбнулся: вероятно, это была его обычная манера вести разговор.
Себастьян заметил, что большинство сотрапезников едва прикасались к яствам, стараясь уловить хоть что-нибудь из этой беседы; вероятно, они были разочарованы, поскольку голос у правителя был негромок и глуховат, к тому же вряд ли можно было предположить, что многие из них понимали английский, на который и с которого Зафрульдин переводил вопросы и ответы.
— Ради этого незачем было отправляться в Индаур. От империи Моголов остались лишь обломки. Прекрасные обломки — впрочем, не одна дюжина пышных княжеств, правда не имеющих войск. Здесь, на северо-востоке, избавившись от владычества Ауренгзеба, мы попали под власть Надир-шаха и находимся под негласным надзором его союзника Ахмед-шаха, правящего Афганистаном… насколько вообще можно править такой страной.
Тарик-хан Хаттак бросил на Себастьяна многозначительный взгляд, чуть ироничный, словно подчеркивая сарказм своих слов, и продолжил:
— Если Россия предполагает играть какую-то роль в нашей стране, ей придется сперва захватить Персию и Афганистан; к тому же она должна располагать мощным флотом, которого у нее нет. А еще ей надо бросить вызов туркам, что было бы для нее откровенной авантюрой. Даже слишком откровенной.
Испытав горечь от этих слов, Себастьян погрузился в молчание.
Отведав лук-порей в масле, правитель ополоснул пальцы в чашке с надушенной водой, которую ему протянул слуга, вытер бороду салфеткой, тоже надушенной, и отпил большой глоток чая.
— Это о севере. На юге, на востоке и западе, — продолжил он, — бренные останки империи Ауренгзеба оспаривают друг у друга французы и англичане. Их торговые компании грызутся за фактории на побережье, а главное, за союзников. Большую часть континента занимают мелкие индусские княжества, которые силятся создать конфедерацию — конфедерацию говорящих на языке маратхи. Юг состоит из остатков мусульманской империи Ауренгзеба. И те и другие будут проглочены Западом. Вот так, — объявил правитель, с хрустом разгрызая редиску.
Себастьян рассмеялся, правитель тоже, обнажив перламутровые зубы.
— А голландцы, шведы, датчане? — спросил Себастьян.
— О, они лишь клюют крошки то тут, то там, главное — это французы и англичане, которые здесь преобладают. И готовятся к беспощадной войне, высадив с этой целью войска. Через несколько лет либо те, либо другие приберут к рукам наибольшую часть земель. Чтобы заниматься Индией, России надо располагать очень большой военной мощью, а главное, большим флотом. Это вам и следует передать вашей царице.
После чего правитель немилосердно разделался с фаршированным голубем.
«Вот человек с ясным умом», — подумал Себастьян, сочтя своим долгом тоже воздать должное птице, ожидавшей его на тарелке лапками кверху. Правитель бросил на него взгляд.
— Предполагаю, что у вас есть вопросы.
— Да, ваше лучезарное высочество, — ответил Себастьян, которого этот напыщенный титул в конце концов начал забавлять. — На чью сторону склоняются предпочтения князей?
— Ха! Про всех я не знаю, как вы понимаете. Очевидно, они предпочтут тех, кто оставит им их владения с титулом вице-короля. Возможно, на это и надеется хлыщ, которого вы собираетесь повидать в Индауре.
Хлыщ? Английское слово «fop», выбранное Зафрульдином, было решительно оскорбительным — Себастьян удивленно поднял брови. Тарик-хан Хаттак ему подмигнул.
— Не знаю, кто вам сказал, что он царь, — пояснил он. — Мальхар Рао — крестьянский сын из касты пастухов. Он отличился в войске и достиг ранга начальника кавалерии в маратхской области пешва. Имя Холькар он взял потому, что родом из селения Холь. А завладев землями, стал называть себя еще и магараджей.
Казалось, и правителя, и его министра изрядно позабавило разочарование, написанное на лице собеседника. Потому что Себастьян еще раз оказался застигнутым врасплох: выходит, Засыпкин отправил его в такую даль через пустыни и горы для встречи с каким-то выскочкой?
— Добавлю к сказанному, — продолжил Тарик-хан Хаттак, — что многие князья уже стары, но имеют честолюбивых сыновей, например Низам-эль-Мулк в Деккане и Анвар-эль-Дин в Карнатаке. Когда эти дети повзрослеют настолько, чтобы править самим, некоторые прислушаются к обещаниям французов, некоторые — англичан. Сами представьте, какая начнется неразбериха.
— Но как же вы, ваше лучезарное высочество? — осмелился спросить Себастьян, хотя Зафрульдин не ожидал, что будут задавать подобные вопросы его господину.
— Я? — переспросил с горечью принц. — Я — хан. Знаете, что это такое?
— Нет.
— Я всего лишь персидский наместник. Приведу вам стихи моего деда.
Глухой голос, начав декламировать, сделался певучим, в нем послышались возвышенные, даже героические интонации. Зафрульдин дождался окончания и только после этого перевел:
Птица Чести — царь над всеми. Когда она поет, соловей умолкает, Ее когти сильнее орлиных, Ее перья — чистое злато, а взгляд Пронзительней, чем взгляд саламандры. Коль мужествен ты, лелей ее и холь. Ибо никто не смеет назваться мужчиной, Коль глухо сердце его К божественной песне Птицы Чести.Среди гостей послышался сперва удивленный шепот, потом возгласы одобрения.
Правитель больше не проронил ни слова до самого конца трапезы, завершившейся изысканными сластями.
Пришли музыканты с длинногрифыми пандурами и ситарами. Поклонившись Тарик-хану Хаттаку, расселись напротив него. К ним присоединилась женщина в тяжелых украшениях. Преклонив колени перед правителем и коснувшись лбом пола, она встала и запела. Под негромкие аккорды музыкантов ее нежный и звучный голос выводил какую-то протяжную и мечтательную мелодию.
Когда она умолкла, правитель Пушапура кивнул и встал. Приглашенные последовали его примеру. Хан пожелал всем звездной ночи и покинул зал.
Обменявшись несколькими словами с Зафрульдином, Себастьян простился с ним и в сопровождении Александра и Солиманова направился в свои покои.
Министр объявил, что завтра к самозваному царю Холькару будет отправлен гонец, чтобы предупредить его о прибытии гостей. Себастьян надеялся, что вестник обернется быстро. Атмосфера дворца казалась ему и впрямь гнетущей.
35. БЛЕСК ЛУНЫ НА КЛИНКЕ
Какой-то легчайший шум прокрался во мрак его сна. Крыса? Кошка?
Себастьян прислушался. Нет, это не маленький грызун и не его враг. В звуке отчетливо различались шелест и скользящие шаги — слишком тяжелые и для того, и для другого. Он приоткрыл глаза и в мерцающем свете ночника, горевшего в прихожей открытых в сад покоев, которые делил с Александром и Солимановым, различил три темные тени, крадущиеся через просторную комнату. Прямо к нему.
Внезапно в саду раздались крики. Себастьян крикнул: «Александр!» — и скатился со своего ложа.
В тот же миг одна из теней бросилась на него. Александр тоже что-то невнятно закричал. Себастьян перехватил руку убийцы с кинжалом и удержал ее всей своей силой фехтовальщика. Снаружи, на террасе, слышались прерывистые вопли Солиманова. В комнате вспыхнул яркий свет.
Себастьян услышал глухой удар, еще не понимая, кто его получил и кто нанес, но тело убийцы вдруг обмякло и обрушилось на него всей своей тяжестью. Он высвободился. На плиты пола упал длинный кинжал.
Потом, на какую-то долю секунды, Себастьян увидел Александра, вступившего в странный поединок с другим убийцей, тоже вооруженным кинжалом. Сын держал нападавшего на почтительном расстоянии с помощью большого медного подсвечника, длинного, как ствол мушкета. Тот сделал внезапный выпад, пытаясь достать юношу своим клинком.
Это было все, что успел заметить Себастьян, потому что в тот самый миг, когда он хотел броситься к сыну на выручку, на него налетел третий убийца с кинжалом в руке.
Себастьян инстинктивно сделал глубокий нырок.
И уголком глаза заметил Солиманова, замахнувшегося другим канделябром, чтобы размозжить череп нападавшему.
Глухой, отвратительный треск проломленной кости. Внезапно вся комната наполнилась орущими стражниками.
Потрясая факелами, они схватили единственного уцелевшего убийцу, того, что затеял пляску смерти с Александром, и грубо его скрутили. Посыпались ругательства и тумаки. Потом стражники выволокли тела убитых злоумышленников и бросили на террасе. Два бородатых лица задрали нос в бесконечность.
Пальцы одного из мертвых убийц все еще сжимали рукоятку кинжала. На клинке блестела луна.
Ошеломленный Себастьян опустился на свое ложе. Машинально взглянул на часы, лежавшие на столике у изголовья: три часа ночи. Он так и не понял толком, что случилось. Посмотрел на растерянного Александра, сидящего на постели напротив. Сын тяжело дышал, не в силах унять дрожь. Себастьян поднял глаза на искаженное гневом лицо Солиманова.
— Что же произошло? — пробормотал он наконец.
— Я был в саду, когда увидел, как эти люди пробрались на террасу. Еле успел предупредить стражу.
А что делал Солиманов в саду в этот поздний час? И что это за девушка прячется за его спиной, вся в слезах?
Через несколько мгновений явился взволнованный Зафрульдин. Впившись взглядом в живого убийцу, хлестнул его по лицу наотмашь тыльной стороной ладони.
Один из его перстней оставил на щеке злоумышленника кровавую ссадину. Зафрульдин начал его допрашивать, тот что-то с ненавистью отвечал. Потом министр вышел на террасу, склонился над двумя телами и покачал головой. У одного негодяя из проломленного черепа вытекал мозг. Другой, как оказалось, был еще жив и тихо хрипел, расставаясь с той малостью жизни, что в нем еще теплилась.
— Прошу великодушно простить это прискорбное происшествие, — заявил наконец Зафрульдин Себастьяну.
— Почему они хотели нас убить? — воскликнул Себастьян.
Министр глубоко вздохнул, прежде чем ответить.
— За ужином правитель прочел вам стихи своего деда. Когда-то они были призывом к восстанию и борьбе за независимость. Некоторые из присутствовавших решили, что вы прибыли побудить его к предательству и предложить поддержку от имени России…
Себастьян повернул голову: в комнату вошел сам Тарик-хан Хаттак; он явно услышал последние слова.
— … а поскольку это шпионы Надир-шаха, — сказал правитель, заканчивая объяснение своего министра, — они сочли за лучшее покарать вашу дерзость.
Себастьян удрученно слушал.
— Теперь вы знаете, что такое ханство, — заключил Тарик-хан. — Простите это оскорбление законов гостеприимства. Оно произошло не по моей вине. Пусть ночь принесет вам сон. Десять стражников будут охранять его.
Он обменялся парой слов с Зафрульдином, и оба покинули комнату, словно куда-то спешили. Себастьян догадался, куда именно: схватить подстрекателей покушения.
Это была месть. И довольно жалкий политический ход.
Наконец бледные лица Себастьяна, Александра и Солиманова осветила утренняя заря. Они так и не заснули в эту ночь; примерно через час после покушения во дворцовом саду послышались гортанные голоса. Выйдя на террасу, Себастьян увидел военный отряд, тащивший нескольких яростно вырывавшихся людей.
— Чем ты занимался в саду? — спросил он туркмена.
— Любовью, — лаконично ответил тот.
Это и объясняло присутствие молодой женщины.
Так что жизнь Себастьяну с сыном, а заодно и самому Солиманову, который наверняка был бы убит, если бы не поднял тревогу, спасла любовь…
Комизм ситуации вызвал у Себастьяна ироничную улыбку.
Туркмен сполна оплатил все свои промахи. Себастьян поблагодарил его и растолковал случившееся Александру, который не говорил ни по-русски, ни по-английски и пребывал в полнейшей растерянности после ночных событий.
Слуги принесли подносы с едой и питьем.
В девять часов трое путешественников с грехом пополам придя в себя, умывшись и одевшись, удостоились еще одного визита Зафрульдина.
— Подстрекатели схвачены, — объявил он. — И во всем сознались. Они будут живьем закопаны в землю.
Себастьян содрогнулся. Потом, взяв себя в руки, сказал министру:
— Думаю, что неразумно затягивать наше пребывание здесь. С вашего позволения, мы продолжим наш путь.
Опять они разминутся с посланцем царя Холькара. Зафрульдин кивнул.
— С моим господином вы тоже должны попрощаться.
Это произошло получасом позже. Тарик-хан Хаттак снял со своего пальца перстень, украшенный большим синим камнем, в котором, казалось, была заключена звезда, и протянул его Себастьяну.
— Примите это в знак прощения, — сказал он.
Себастьян удивленно посмотрел на хана, но увидел в его взгляде лишь все ту же грусть.
В десять часов из конюшен были приведены четыре ахалтекинца, вычищенные, лоснящиеся и уже оседланные. Двое вооруженных провожатых вывели путешественников на дорогу в Индаур.
Себастьян ни разу не обернулся. Эти места не вызывали у него ностальгии. Всем цветочным ароматам Пушапура не дано стереть воспоминание о ночи, когда они с сыном чуть не стали жертвой судорог власти, оказавшись статистами в чужой драме.
Статистами, чьи соки здешние розы выпили бы за одно лето.
36…И ДРУГИЕ СТРАНЫ, ГДЕ НОСЯТ ШЛЯПЫ
В июльском зное, в ласковом дуновении ветерка с реки Сарасвати благоухание ближайшего розария становилось настойчивым, назойливым, нескромным — песнь женского естества, побуждающая самцов к брачным танцам.
И шмели пели и танцевали над цветами.
Индаур стал первой мало-мальски спокойной остановкой в путешествии, конец которого превратился в беспорядочную скачку от пуль афганских разбойников навстречу кинжалам Пушапура.
Представ сразу по прибытии перед Мальхаром Рао, пресловутым царем Холькаром, Себастьян сам смог удостовериться, что отзыв о нем Тарик-хана Хаттака был отнюдь не целиком внушен недоброжелательностью. Холькар оказался человеком важным и тучным, с закрученными кверху усищами и зычным голосом; но под пунцовым шелком его одежд с золотыми пуговицами без труда угадывался недавний крестьянин, выбившийся из грязи в князи. Быть может, основатель династии, которая позже будет морщить нос при виде такой же деревенщины.
Тем не менее Себастьян был принят с радушием, которое впервые без всякой двусмысленности доказывало, что сказанное Засыпкиным и Банати не было вымыслом. Объятия, дары и улыбки — у России в Индии действительно немало приверженцев. Посланец? Ах да, он ждал графа в Пушапуре, но, не дождавшись, вернулся в Индаур. В любом случае граф Сен-Жермен желанный гость в этом государстве.
Но чего стоит подобная приверженность?
Себастьян вспомнил один пикантный, почти забавный, но во всяком случае вполне показательный эпизод. Во время своего первого визита в тронный зал он бросил всего один беглый взгляд на его чрезмерно раззолоченное убранство, выставлявшее напоказ тщеславную роскошь, какую любят все царьки. Попав же туда во второй раз, он заметил географическую карту, занимавшую большую часть стены. Себастьян подошел поближе и стал ее рассматривать.
— Что это? — спросил он у человека, показавшегося ему управляющим дворца.
— Карта мира, — ответил тот по-английски.
Документ, нарисованный на тонком пергаменте больших размеров, с изрядным тщанием воспроизводил все реки и горы Индии, а также ее главные святилища с их названиями на санскрите.
— Мира? — удивился Себастьян.
К востоку от Индии не было ничего. Сверху был изображен Китай в виде небольшого острова. А на запад от Индийского океана виднелась россыпь островков, надпись над которыми управитель с готовностью перевел: «Англия, Франция и другие страны, где носят шляпы».
Себастьян едва удержался от смеха. Но, обернувшись, увидел чуть заметную улыбку на лице домоправителя.
— Это ведь не для мореходов? — спросил он.
— Нет, это политическая карта, — ответил дворецкий.
Эти люди не видели дальше собственного носа. А потому были обречены служить игрушками великим державам. И если Россия когда-нибудь всерьез заинтересуется Индией, она не станет более милосердна, чем Англия и Франция, к их самолюбию, традициям и богатствам.
Магараджа Индаура, наверное, не будет принят в Общество друзей. Если предположить, что ему придет в голову пожелать этого.
После первой же трапезы, еще более роскошной, чем у Тарик-хана Хаттака, оживленной вином, а к десерту еще и выступлением едва созревших танцовщиц, владыка Холькар объявил на ломаном английском, но весьма решительно:
— У нас есть люди. У нас есть порох. Нам нужны пушки и флот, чтобы покорить магометан и изгнать англичан и французов. Это, граф, вы и должны сказать в России.
Жесткая программа.
Себастьян постарался втолковать, что флот не строится в один день и что Россия пока занята сдерживанием турок («Магометан!» — оборвал его царь) и персов («Разбойников!» — опять рявкнули ему).
Владыка Индаура вовсе не был расположен к нюансам, этому прибежищу малодушных.
Себастьян очаровал его рассказом о своих злоключениях по пути из Мазар-эль-Шарифа в Пушапур, присовокупив замечание о легковесности афганских разбойников и расхвалив храбрость русских солдат. Указал также на князя Александра Полиболоса как на меткого стрелка, который с первого же выстрела уложил одного из лиходеев на гребне ущелья. В изложении Себастьяна даже численность шайки немного возросла.
Толмач тем временем переводил его рассказ для прочих гостей, и все сочли посланника императрицы Елизаветы настоящим храбрецом.
Царь поднял свой кубок в честь юного героя. Вот уж кто умеет обращаться с мушкетом! Грянули здравицы. Александр изящно кивнул в ответ и тоже поднял свой кубок.
Себастьян выиграл партию. Он был тут же пожалован официальным титулом «посол России» и получил в пользование настоящий маленький дворец, отдельно стоящий неподалеку от царского, со всей необходимой и даже избыточной челядью.
Просторное беломраморное здание было совсем новым, как и подавляющая часть дворцового комплекса, да и самого города Индаура, впрочем.
Оставалось только дождаться, когда Россия построит свой флот.
Александр наблюдал за триумфом отца насмешливым взглядом.
Себастьян смог наконец устроиться с удобствами, которых ему так отчаянно не хватало в последние месяцы.
Солиманов, поскольку его миссия была завершена, отправился обратно в Россию. А Себастьян смог пополнить свой кошелек у одного голландского купца благодаря векселю на амстердамский банк. Голландец, похоже неплохо нажившийся на слоновой кости и шелках, указал графу де Сен-Жермену также адрес одного торговца драгоценными камнями. И Себастьян не смог устоять перед голкондским рубином величиной с орех и еще перед какими-то незнакомыми ему, но не очень дорогими камнями, одни из которых напоминали алмазы, другие рубины. На самом же деле это были уральские гранаты. Он заказал себе из них пуговицы.
Освежив свое европейское платье, которое они не надевали с самого Красноводска, Себастьян с Александром нарядились на местный лад. Носить западную, слишком облегающую одежду в этом климате было бы невыносимо. По совету дворецкого магараджи Джаймини Айангара были сшиты штаны, рубахи и халаты, по качеству и покрою в точности соответствующие их вельможному рангу: хоть и чужестранцы, они тем не менее были в своих странах равны членам высшей индусской касты, брахманам. Путешественников это вполне устраивало. Единственным отличием индусских шаровар от туркменских оказалось то, что они стягивались на лодыжках; это помогало не цепляться за резную мебель и с несколько большим удобством садиться на лошадь.
Их жилище было маленьким дворцом. Но Себастьян рассудил, что не сможет дожидаться в нем, пока Россия закончит постройку своих химерических кораблей. Через три недели царского гостеприимства он опять нанес визит дворецкому, а на самом деле министру финансов и управляющему царскими имениями Джаймини Айангару. Собственно, он был еще и главным его собеседником, поскольку, по нежданному счастью, говорил по-английски. Его гладкое лицо и вкрадчивые движения одновременно определяли и его личность, и должность: он был словно создан решать проблемы, не обнаруживая при этом ни малейшего усилия. Себастьян объявил ему, что не хотел бы злоупотреблять царским гостеприимством, и попросил его содействия в поисках столь же приятного, но более скромного жилища в окрестностях.
— А это вам не подходит? — спросил Айангар, переминаясь толстыми ногами на синем ковре.
— Оно намного превосходит мои пожелания, но я проявил бы нескромность, задержавшись в нем.
— Государь сказал мне, что вы доставляете ему удовольствие, принимая его гостеприимство. Ведь вы представляете единственную страну, которая не набрасывается на Индию, как коршун на ягненка. Государь рад беседовать с вами, он вас считает героем и много раз превозносил вашу мудрость и ученость. Неужели вы хотите его огорчить?
— Я был бы сокрушен этим.
— Тогда прошу вас отбросить всякие колебания. Только дайте мне знать, чем еще я могу обогатить ваше жилище, чтобы доставить вам удовольствие.
— Вы доставите мне удовольствие, если поможете обогатить мой ум, — ответил Себастьян, поразмыслив.
— И как же?
— Я бы хотел выучить санскрит.
Интендант еле заметно приподнял брови.
— Ваш интерес к языку нашей учености очень лестен. Но известно ли вам, что на нем чаще читают, чем говорят?
— На самом деле я хотел бы научиться читать ваши древние книги. Ваш государь хвалит мою ученость, и я очень ему признателен. Но сам я нахожу ее ничтожной. И уверен, что ваши книги расширят ее.
— Смирение — свойство мудрости, — ответил Айангар. — Позвольте мне подумать, как можно удовлетворить вас наилучшим образом.
На следующий день Айангар представил Себастьяна некоему пурохите, в своем роде царскому духовнику, которому и предстояло стать его учителем. Как того требовала его должность, он был брахманом.
Внешне пурохита был полной противоположностью Айангару. Худощавый и задумчивый. Без усов. Тонкая кость и аристократическая ступня. Его звали Джагдиш Шаудури, и Себастьян сразу же стал величать его учителем Джагдишем.
Оба, и учитель, и ученик, какое-то время изучающе смотрели друг на друга, не говоря ни слова и примечая малейшие признаки, по которым можно догадаться о характере и уме человека: морщинка, невольный жест, отражение мысли на лице. Себастьян оценил внутреннюю сдержанность представителя высшей касты, который вынужден был оказывать услугу человеку, стоящему гораздо ниже его по рождению, да к тому же простому служащему при дворце, что наверняка унижало брахмана еще больше.
Наконец учитель Джагдиш прервал изучение ученика и жестом пригласил Себастьяна сесть. Это означало, что он остался доволен увиденным и берется за то, что подобает его рангу. Говорил он только на обрывках португальского, но ученику этого было достаточно. Сразу же состоялся и первый урок.
— Значит, теперь нашей новой страной станет Индаур? — поинтересовался Александр на третий день, поскольку каждое утро присутствовал на этих уроках, заинтригованный неведомым языком.
— А вам обязательно нужна какая-нибудь страна? — спросил в ответ Себастьян как можно непринужденнее.
Сбитый с толку юноша не знал, что сказать.
— Единственная страна, которую я хотел бы узнать, это мир, — продолжил Себастьян.
— Значит, вы хотите стать путешественником?
— Вовсе нет. Путешественник относится к своим передвижениям как к ремеслу, я же хочу узнать то, что есть наилучшего в других местах. По этой же причине я хочу изучить как можно больше языков. Вы говорите только на трех — на греческом, турецком и французском. Я говорю уже на шести и не предполагаю на этом останавливаться.
— Вы не скучаете по Вене?
— Нет. Я был там всего лишь проездом. Уж если бы я и заскучал по какому-нибудь городу, то по Лондону — потому что там Соломон.
Молодой человек задумался на какое-то время.
— Что дает знание? — спросил он наконец.
— Власть.
— Значит, вы стремитесь к власти.
— Да. Но не к такой власти, которая ограничивается пределами одной страны. Царь Холькар в Вене и князь фон Лобковиц в Индауре были бы всего лишь диковинными персонажами, лишенными подлинной силы. Мы же с вами свою силу сохраняем и здесь.
Сказанное заставило Александра надолго задуматься.
На двадцать первом уроке, предварительно посетив главный храм Индаура, Себастьян попросил учителя Джагдиша:
— Обучи меня своей религии.
Оба сидели на ковре в доме Себастьяна, в большом зале, лицом к розарию. Брахман изобразил на лице учтивую улыбку, выражающую скорее сомнение, нежели удовлетворение. Он поднял глаза и посмотрел вдаль, потом на струйку пара, поднимавшегося из носика медного чайника, стоявшего на подносе.
— Она никогда не станет твоей.
— Почему?
Брахман поднял брови и пожал плечами.
— С этим рождаются. Десять паломничеств в Бенарес или Кедарнат ничего тут не изменят. Ты никогда не познаешь упанаяну, не получишь прасаду.
«Посвящение» и «благодать». Себастьян принял неизбежный отказ.
Наполнил чаем чашку учителя, потом свою.
— Твоя религия держится в тайне?
Брахман покачал головой.
— Нет. Многие чужестранцы думают, что познали ее слово.
— Слово?
— То, что написано. Тексты. Обряды. Но не дух.
— Каков же ее дух?
— Это дыхание. Прана.
Себастьян ждал объяснений. Между прочим, обратил внимание и на собственное дыхание. Оба долго сидели друг напротив друга.
Быть может, жужжание летавших вокруг мух было обсуждением этого диалога.
— Но я могу тебя просветить. Все, что ты делаешь или полагаешь, будто делаешь, есть проявление обитающих в тебе дыханий — смотреть, прикасаться, слышать, пробовать, чувствовать. И хотеть. Высшая ступень моей религии состоит в том, чтобы учить, как пользоваться этими дыханиями.
Джагдиш пристально посмотрел в глаза Себастьяну.
— Видеть внутри, существовать снаружи. Если ты контролируешь свои дыхания, ты сможешь видеть внутри себя.
— Тогда я увижу лишь самого себя.
Джагдиш мягко покачал головой.
— Чтобы ты понял мои слова, тебе надо усвоить, что все боги — в тебе. Sarve devah sarisrasthah. Тогда ты увидишь, что боги сделали из тебя. Ты не ничто, не оскорбляй их творение, но ты и не все. И ты сможешь использовать твои дыхания согласно их воле, а не бестолково, как глупцы. Ты будешь существовать вовне.
Он отпил долгий глоток чаю. Себастьян не смог удержаться от мысли, что учитель утоляет таким образом жажду богов.
— Это и есть дух твоей религии?
— То, о чем я тебе говорю, — труд целой жизни. Иногда многих. Я коснулся твоей руки. Твои дыхания сильны. Быть может, они тебе помогут. Но быть может также, что они похожи на сильные ветры, которые требуют от мореходов большей умелости.
«Мои дыхания сильны, потому что я видел, как мой отец горел на костре, а со мной самим обращались как с рабом для удовлетворения своей похоти безумный монах и распутная дура», — подумал Себастьян и спросил:
— А как же статуя бога, которую я видел в храме?
Джагдиш улыбнулся.
— Боги обитают не только в твоем теле. Они повсюду, порой и в сделанных нами изображениях. Если умеешь смотреть, они могут явить себя.
Себастьян подумал какое-то время.
— Ты научишь меня управлять этими дыханиями?
Взгляд Джагдиша остановился на ученике.
— Всяким человеческим существом руководит какая-то стихия, и я с нашего первого урока пытаюсь определить твою. Порой ты мне кажешься текучим, как вода, а порой плотным, как земля. Но можно подумать также, что тебя жжет какой-то огонь. Неужели ты состоишь сразу из трех стихий? Но тогда тебе не хватает воздуха. Однако, если тебе удастся с этим совладать, ты станешь необорим.
Огонь.
Перед мысленным взором Себастьяна возник образ атанора.
37. ОДИН ДОЛЖЕН СТАТЬ ДРУГИМ
В тот день Александр отправился с одним из сыновей Айангара покататься верхом в соседнем лесу. Оставшись дома, Себастьян облачился в домашний халат из простого тонкого полотна, удобно устроился на ложе и, полузакрыв глаза, продолжил размышления о теориях Ньютона.
Если любовь — сила притяжения, то власть — сила отталкивания: никто не выносит чужой власти. Но не является ли тогда сама любовь стремлением к обладанию, то есть к власти?
Почему игла липнет к одному концу магнита и отстраняется от другого? И почему положительное притягивает отрицательное? Не потому ли, что всякая вещь или существо стремится приобрести то, чего ему недостает?
Значит, любовь и власть — синонимы, и оба движутся инстинктом завоевания. Однако этот инстинкт способен победить только у сильных. Притяжение и отталкивание — неутомимые движители человеческих поступков.
И оба обречены на неудачу: ненависть и любовь одинаково преходящи. Охлаждение ненависти. Охлаждение любви.
В нем самом, несомненно, обитает другой дух.
Прошло уже несколько месяцев, как он покинул Пушапур и стал гостем царя Холькара. А всего пару часов назад царский дворецкий сообщил ему огорченно:
— Простите, ваше сиятельство, что сообщаю вам печальную весть, но мы только что узнали, что умер Тарик-хан Хаттак. Десять дней назад.
— От чего умер? Ведь он был так молод.
Айангар пожал плечами с тем видом, который у умудренных опытом людей любой страны выражает долгое знание грязных тайн судьбы. Себастьян без труда понял: какой-то шпион Надир-шаха, избежавший мести Тарик-хана, предупредил своего персидского владыку о воображаемом заговоре, и тот рассвирепел.
Отравленный или зарезанный, правитель Пушапура умер от недостатка власти.
Себастьян вздохнул, посмотрел на перстень с заключенной в камне звездой и, когда управляющий ушел, решил наконец написать Банати и Соломону Бриджмену. Царь Холькар подтвердил то, в чем его уверял Банати: почта в Европу отправляется более-менее регулярно; сначала мешки с письмами и пакеты доставляются в Бомбей, а там грузятся на борт судна, принадлежащего либо французской Ост-Индской компании, либо английской United Company, либо на голландский, португальский или датский корабль. Все плыли в Европу, огибая Африку. Обычно письмо доставлялось по назначению через два-три месяца.
Он сел за резной столик, на котором стояли курильница и письменный прибор с двумя чернильницами, гусиными перьями и стопкой бумаги. Индусы, благодарение небу, писали много, и бумага тут не была редкостью.
«Дорогой друг!
Маршрут моего путешествия оказался гораздо более длинным и опасным, чем предполагалось. Мы со спутниками дважды чуть не расстались с жизнью. Дорога через Афганистан — вызов благоразумию. Когда настанет пора возвращаться, думаю, что морским путем будет быстрее и надежнее.
Из бесед с правителем Пушапура, а потом и с магараджей Индаура (вашим другом царем Холькаром) я узнал, что индийские царьки и князьки, число коих приближается к сотне, сознают угрозу, тяготеющую над их независимостью, и ищут средства уберечь себя от нее.
Магометанские правители севера уже подчинены власти персидского царя Надир-шаха, правители южных областей окружены с востока и запада англичанами и французами. Индусские князья середины страны, чья религия весьма своеобычна, образуют конфедерацию, довольно рыхлую, да к тому же ослабленную бесконечными распрями из-за престолонаследия. Тем не менее ее сил пока хватает для беспрестанных стычек индусов с магометанами.
Судьба Индии будет зависеть от исхода борьбы между французами и англичанами. В речах, которые я слышал по этому поводу, говорилось, что англичане имеют преимущество над французами, потому что с большей ловкостью пользуются распрями между князьями и заключают союзы с сильнейшими. Французы же мыслят только в рамках войны и торговли. Ничего не могу сказать на этот счет. Победителем будет тот, кто просто проявит больше решимости.
Одно несомненно: самыми яростными противниками иностранного владычества в маратхской конфедерации будут люди из высшей касты, брахманы. За исключением своих гостей, которые, подобно мне самому, защищены законами гостеприимства, они ко всем чужестранцам, и магометанам в том числе, относятся как к отвратительным варварам.
Правители Пушапура и Индаура сходятся в одном пункте: чтобы вмешаться в индийские дела, Россия должна располагать весьма значительной военной мощью, а главное — большим флотом.
Это основное из того, что я пока узнал. Буду извещать вас по мере поступления новых сведений.
Ваш верный граф де Сен-Жермен, писано в год Господень 1746, 24 июля в Индауре».
Он перечитал письмо, сложил и запечатал собственной печатью. Потом взял длинную трубку с подноса, прочистил головку особым лезвием, набил измельченным табаком из горшочка, зажег лучину и закурил. Стал обдумывать второе письмо, которое собирался написать Соломону, но едва выпустил первое облачко дыма, как вернулся сияющий Александр, в широких шароварах и высоких сапогах, раскрасневшийся после прогулки. Увидев отца за рабочим столом, юноша воскликнул:
— Вы позволите сменить вас на этом месте? Я уже больше четырех месяцев не писал матери, она, должно быть, вся извелась от беспокойства…
Образ Данаи возник в памяти Себастьяна внезапно, словно летняя гроза. Она сказала, что любила его. Любила? После одной давней беседы с Соломоном ему никак не удавалось понять смысл этого слова. Брат Игнасио тоже его любил. А почему бы тогда и не графиня Миранда? Оба хотели обладать им.
А он сам? Ведь он тоже хотел обладать Данаей.
Сын наблюдал за отцом, заинтригованный его рассеянным взглядом. Себастьян поднял глаза. Дым сносило в сторону окна, и к терпкому аромату табака примешивалось благоухание роз. Вместе они образовывали некий третий запах, совершенный в своей двуполости.
— Александр, вы меня любите, предполагаю?
— Да, отец, — ответил сын, удивленно засмеявшись и положив свой бамбуковый хлыстик на сундук.
— И вы предполагаете, что я вас тоже люблю?
— Да, отец, — ответил Александр, на этот раз растерянно.
— Вы правы. Ну что ж. Мы больше не должны любить друг друга.
Себастьян посмотрел на своего сына весело, но решительно. Сбитый с толку Александр нахмурился:
— Что вы хотите этим сказать?
— Вы когда-нибудь размышляли об этом чувстве?
— О любви?
— В самом деле, его так называют.
— Да… Но я не понимаю…
— А вам не приходило в голову, что оно выражает стремление к обладанию?
Александр заморгал.
— Хочется обладать тем, что любишь, — пояснил Себастьян.
— Разве это не естественно?
— Вот именно. Ненависть тоже естественна. Людей или вещи любят не за то, чем они являются, но из потребности подчинить их своей воле.
— И дальше?
— Дальше теряют уважение к любимому предмету. Ведь ни любовь, ни ненависть не бескорыстны. И если предмет любви питает другие желания, их хотят подавить. Он сопротивляется. Рождается конфликт. Возникает нелюбовь, а то и ненависть.
Александр рассмеялся.
— Как это у вас выходит! Из-за нескольких разногласий…
— Они были бы не так тягостны, если бы не вмешалась любовь.
— Но почему же мы должны перестать любить друг друга? Я вам мешаю?
— Нисколько. Но я подумал, что, если бы мы отказались от этого чувства и постарались относиться друг к другу как к самим себе, наши узы стали бы гораздо глубже и не так примитивны.
Александр сел, окончательно сбитый с толку.
— Как к самим себе? — переспросил он.
— Если я буду относиться к вам не как к своему любимому сыну, но как к самостоятельному, обособленному существу, которого из уважения требуется понять, а не просто навязывать ему свою волю, значит, я отождествлю себя с вами.
Александр улыбнулся, и Себастьян вдруг почувствовал, как трудно ему будет бороться со своей привязанностью к этому юноше, столь щедро одаренному природой, но при этом начисто лишенному рисовки и бахвальства, свойственных его сверстникам.
— Вам легче это сделать, отец, поскольку из нас двоих именно вы располагаете авторитетом. Не припомню, чтобы я когда-нибудь навязывал вам свою волю.
— Верно, вы подчинялись моей. Но однажды вы взбунтуетесь под предлогом, будто с годами я повредился в рассудке. И тогда вы будете испытывать ко мне только жалость, втайне мечтая, чтобы небо укоротило мою старость.
Александра сотряс беззвучный смех.
— Подобным же образом, — продолжил Себастьян, — полагая, что я — это вы, я не буду пытаться навязывать вам свою волю, когда сочту, будто вы совершаете ошибку. Я просто укажу вам на нее, как это делают с самим собой, или как я сделал бы это для друга.
Александр задумался.
— Вы хотите стать мной? — спросил он недоверчиво.
— И чтобы вы стали мной.
— А как мне это сделать? Я уже больше года живу с вами, но почти ничего о вас не знаю.
— Потому что вы были кем-то другим, — ответил Себастьян с нажимом. — Вы лишь в четырнадцать лет открыли для себя отца, которого никогда не видели. Я был для вас тайной.
— Вы и сейчас тайна.
— Вот видите.
Оба помолчали.
— Я восхищаюсь вами, — заговорил снова Александр. — Неужели теперь надо перестать? Если я — это вы, то мне придется подавить свое восхищение, а это наполнит меня тщеславием.
— Почему вы мной восхищаетесь?
— Ваша непринужденность, ваша таинственная способность разгадывать людей и ситуации, ваша отстраненность от них…
— Я приобрел это ценой страдания.
— Другие нет. И вы продолжаете меня удивлять.
— Отождествив себя со мной, вы тоже приобретете все это.
Молодой человек задумался над явно неожиданными для него словами.
— А вы восхищаетесь мной? — спросил он.
Вопрос был несколько провокационный.
— Да.
— Почему?
— Ваша мать прекрасно вас воспитала. Вы человек прямой, но способный на уловку. Волевой, но интуитивный. Ваша духовная утонченность проявляется в том, как вы держите себя. Все эти качества особенно заметны, когда я вижу вас в седле. Всадник сразу обнаруживает свою натуру: трус он или храбрец, простак или плут.
Похвала вызвала улыбку Александра.
— Воздайте за это честь и моей двоюродной бабушке, княгине, — сказал он. — Она была для меня второй матерью.
Юноша помолчал, потом добавил:
— Старая княгиня часто жалела, что вы уехали. Это она внушила мне желание узнать вас. Она говорила, что вы похожи на дикого коня.
— На дикого коня? — удивился Себастьян.
Александр кивнул головой.
— Она говорила, что вы, должно быть, много страдали, потому и остерегаетесь других людей.
Его взгляд стал настойчивым.
— Вы не хотите рассказать мне об этих страданиях, отец?
— Когда-нибудь. Сейчас скажу только, что их причинило рабство. Когда я был в вашем возрасте, со мной обращались как с домашним животным.
— И при этом наверняка считали, что любят вас?
Себастьян улыбнулся:
— Наверняка.
— Отсюда ваше недоверие к любви.
Себастьян кивнул: интуиция не подвела юношу.
— И вы считаете, что моя мать не сумела бы приручить дикого скакуна? — спросил Александр.
— Вот именно. Но она бы не поняла своей ошибки и однажды испытала бы разочарование.
— И так со всеми женщинами?
— Не могу поручиться за всех женщин, я их знал довольно мало. Но могу сказать, что чем они честнее, тем больше склонны смотреть на любовь как на обмен.
— Обмен?
— Да. Отдают тебе свое тело в обмен на всего тебя. Притворяются, будто считают мужчину своим господином, но на самом деле сами становятся его госпожами. Не случайно по-французски любовница и госпожа обозначаются одним словом — maitresse.
Александр встал.
— Видите ли, отец, прежде чем мы станем друг другом, позвольте мне сказать вам, что вы меня все-таки восхищаете. Я вот думаю, слышал ли когда-нибудь сын от своего отца столь удивительные речи. И столь же лестные.
— Уступаю вам свое рабочее место, — сказал Себастьян, также вставая. — Завтра отдадим наши письма управляющему. Мне осталось написать еще одно, Соломону.
Сказав это, Себастьян застыл от удивления. Кинжал, который он вытащил из ножен, чтобы отполировать и убрать следы влаги, лежал на одном из сундуков. И в блестящем клинке отражалась часть инкрустации на крышке — маленький перламутровый месяц.
Он вспомнил о другом кинжале, стиснутом рукой одного из мертвых убийц там, в Пушапуре, — в нем тоже отражалась луна, только настоящая.
Неужели существует какая-то связь между кинжалами и Луной?
38. ИСПОЛНЕННЫЕ МОЛЬБЫ
Ускользающий взгляд, краснеющие без причины щеки. Александр только что вернулся с прогулки. Себастьян рассмеялся.
Молодой человек обернулся к отцу.
— Что вас рассмешило, отец?
— Вы.
Александр глубоко вздохнул и поднял брови.
— Надеюсь, опыт был приятным, — сказал Себастьян добродушно.
— Это написано у меня на лбу?
— Почти, — ответил Себастьян. — Ваши сапоги запачканы, и от вас исходит незнакомый запах, в котором я, кажется, различаю сандал. Вы отводите свой взгляд и краснеете под моим. Я не Господь Бог. Но думаю, что могу назвать Еву: это маленькая танцовщица Индра, которая уже несколько вечеров бросает на вас томные взоры.
— Вы опасный человек!
— Нет, просто внимательный. Простите, что спрашиваю, но у вас это впервые?
— Да.
— Вам уже больше пятнадцати лет, самое время. Вы влюблены?
— Она тоже опасна, как и вы, но по-другому. Вы возбуждаете ум изощренными пытками. Она делает то же самое с телом. Я на седьмом небе.
— Значит, вы влюблены.
Александр сел и стянул с себя сапоги. Казалось, он чем-то огорчен.
— Хотел бы.
— Значит, не влюблены. Что же вам мешает?
— Я надеялся, что вы мне это скажете.
Себастьян разрезал яблоко и предложил половинку сыну.
— Даже если бы и знал, то не сказал бы. В подобных случаях прок бывает только от тех объяснений, которые дают самому себе. Я их не знаю.
— Вы же сами ратуете за тождественность наших личностей. Раз я — это вы, то и скажите мне.
— А раз вы — это я, то должны понимать, что я не могу догадаться о том, чего вы сами не знаете.
— Тогда помогите мне!
— Я это и делаю, слушая вас. Иначе бы у меня возникло впечатление, будто я диктую вам, что вы должны думать о ваших собственных чувствах.
Александр вздохнул.
— Ладно. Это всегда так бывает? Время течет так быстро, что три часа кажутся всего четвертью. Но от наслаждения остается только чувство пресыщения и запах. А потом, когда приходишь в себя, все уже превратилось в воспоминания.
Себастьян удержался от улыбки.
— То же самое можно сказать и обо всем, что мы переживаем. Когда яблоко съедено, через миг от него остается лишь воспоминание.
— Значит, настоящее не существует?
— Нет. Нет другого настоящего, кроме самой жизни, Александр. Мы сотканы из надежд и воспоминаний. Если не из страхов и сожалений. Или угрызений совести.
— Но вы меня любите, и я вас люблю, а это не надежда, не воспоминание.
— Это потому что между нами не было борьбы за обладание. Но между вами и вашей любовницей дело обстоит иначе. Она вас соблазнила, и вы стали ее добычей. В свою очередь и вы ее соблазнили, и она стала вашей добычей. Впрочем, это идеальный поединок, где бойцы одновременно наносят друг другу одну и ту же рану.
— Значит, победа обречена? — воскликнул Александр тоном, в котором сквозила безнадежность.
Себастьян встал, закурил трубку, затянулся несколько раз и прошелся в одну сторону, потом в другую.
— Одна испанская святая, Тереза Авильская, сказала фразу, которая стоит того, чтобы вы над ней задумались применительно к этим обстоятельствам: «Мы проливаем больше слез над исполненными мольбами, чем над теми, что остались без ответа».
Казалось, эти слова сразили Александра.
— Значит, победа обречена, — повторил он, но на этот раз шепотом.
И вдруг:
— Почему?
— Потому что мы отказываемся от нее.
— Почему?
— Потому что низменная часть нашей души подобна стервятнику. Наши мечты вылеплены из воспоминаний, то есть из трупов прошлого. Наше желание сорвать следующее яблоко создано из воспоминаний о предыдущем. Однако будущее никогда не бывает тождественно прошлому. То, что мы хотим завоевать, не может быть тем, на что мы надеялись. И мы неизбежно разочаровываемся.
Александр выглядел удрученным.
— Значит, не надо желать?
Незнакомая боль пронзила Себастьяна. Он страдал за своего сына.
— Александр, вы могли заметить, что я никогда не говорю «надо» или «не надо». Я не доктор права — никакого права. Вы желали, и я себя с этим поздравляю. Вам остается лишь понять, желали ли вы некое существо или свое собственное желание.
За ответом опять последовало молчание.
— Как вам удается жить, зная все это? — спросил Александр голосом таким глухим, какого отец никогда у него не слышал.
— Я птица на ветке. Смотрю по сторонам. Иногда сгораю, словно феникс, и пытаюсь возродиться из собственного пепла. Иногда клюю червяков. И стараюсь никогда не оказаться в клетке.
— Хочу быть вами! — пылко воскликнул Александр.
— Кажется, мы об этом уже говорили, — ответил Себастьян с улыбкой.
— Что же мне делать с этой любовницей?
— Встречаться с ней, разумеется. Зачем вы обременяете себя сожалениями?
— А когда мы покинем Индаур, я причиню ей горе, как вы моей матери?
Себастьян отметил укол, но остался бесстрастен.
— Это одна из неприятных сторон в любовных отношениях. При некотором опыте можно научиться ставить в вину самим женщинам те горести, которые собираешься им причинить. Чтобы смягчить печаль Индры, вы могли бы откупиться.
— Откупиться?
— Да. Какая-нибудь драгоценность переведет ваши отношения в разряд материального обмена. Только следите, чтобы дар не был чрезмерным, это может внушить ей глубокие чувства. И не слишком скромным, это было бы знаком пренебрежения. Я отведу вас к моему ювелиру, сами что-нибудь выберете.
Александр задумался. На душе у него явно было неспокойно. Себастьян положил руку на плечо сыну:
— Ступайте отдохнуть. Потом мы приготовимся к ужину с нашим гостеприимцем Мальхаром Рао. Разве вам не лестно сидеть за одним столом с сыном козопаса?
Александр залился юношеским, почти детским смехом, встал и, не переставая смеяться, заключил отца в объятия.
Когда он вышел, Себастьян, как и все отцы, поздравил себя с тем, что дал своему сыну то, чего не получал сам. Грубость его собственного посвящения в сексуальные дела сделала его в пятнадцать лет столь же умудренным, каким бывают в шестьдесят, и то в лучшем случае.
Физическое наслаждение — меновая торговля. Все любовники, и мужчины, и женщины, подобны венецианскому купцу, упрямо требовавшему фунт плоти в счет погашения своего займа согласно уговору.
Отдавшись заботам слуги, который тер ему спину в бане, Себастьян процитировал слова Порции:
How little is the cost I have bestow'd In purchasing the semblance of my soul From out the state of hellish cruelty!..[54]Письмо от Банати пришло в феврале 1748 года.
«Англичане нам больше не враги. Возвращайтесь».
В припадке раздражения Себастьян бросил его в огонь. Какое ему дело до того, что вдохновило это послание? Во-первых, он не слуга. Во-вторых, ему совершенно плевать на прихоти политических заправил — европейских, русских, немецких, австрийских, французских и прочих. Несколько дней назад, в городе, он присутствовал на представлении театра теней, очаровавшего обывателей Индаура. Марионетки вовсю поносили друг друга и дрались между собой: вот она, западная дипломатия.
Воспоминание о решениях Общества друзей вызвало у него горечь. Эти люди сходились, расходились, воевали, обнимались и предавали друг друга с недели на неделю и по настоящим, и по воображаемым причинам, под воздействием внезапных страхов, из злопамятства, подогревающего первоначальное подозрение, из бредовых амбиций, выношенных в одиночку сильными мира сего, короче — из сплошной блажи. Поступая подобным образом, они разрушали города и села, приносили в жертву молодежь своих стран с величайшим презрением к человеческой жизни.
Александр, которого отец в течение нескольких недель посвящал в свои секреты, удивился его неожиданному бунту:
— Но в конце концов, почему вы тогда ведете дела с людьми, которых презираете? Вы же их знаете не первый год…
Несколько мгновений Себастьян подыскивал слова.
— Быть может, мне надо отомстить, — сказал он мрачно.
Настал черед Александра умолкнуть. Через какое-то время он спросил:
— Ваша жажда мести так велика?
Но не получил ответа.
— Это и есть ваша тайна?
— Вы угадали. Это часть моей тайны. Но я уже говорил, что открою ее вам, когда придет время. А пока мне надо следовать собственной цели. Я буду дурачить этих людей до тех пор, пока не сделаю их тем, чем они на самом деле являются, — паяцами, чтобы они были вынуждены признать свое поражение и понять, что у них нет другого выбора, кроме как возвысить свой дух или то, что им его заменяет. И у меня есть веский союзник, — сказал он, в упор посмотрев на своего сына. — Это вы. Сами увидите.
Накануне, наверняка узнав, что его гость получил послание из Европы, царь Холькар осведомился, как, по мнению Себастьяна, продвигается постройка русского флота. Себастьян ответил, что через несколько месяцев отправляется выяснить это. Отъезд был ему настоятельно необходим: Индаур становился таким же монотонным, как и Вена.
Беспокоясь о возможном рождении внука, что создало бы для него проблемы, Себастьян все же не хотел резко оборвать связь Александра с Индрой. Однако индусская танцовщица была, без сомнения, вполне опытна в искусстве избегать беременности, поскольку та положила бы конец ее карьере. Когда Себастьян спросил у Александра, не округляется ли его любовница, молодой человек ответил ему с комической гримасой:
— Нисколько. Конгресс отменяется.
— Как это?
— Любовные утехи лишь для разогрева крови, — пояснил Александр в том же тоне. — И наслаждение не ради потомства.
— Вы уже хотели обзавестись потомством?
— Нет. Меня это даже пугало.
— Тогда эта связь вам подходит.
— В ней есть своя приятность. Но Индра сама считает ее временной. Когда я предложил ей углубить наши отношения, то услышал, что мужа из меня не выйдет, поскольку я когда-нибудь вернусь в свою страну. Я ведь здесь всего лишь сын посла.
— Она вам так и сказала?
— Думаю, что нашего сходства мало кто не заметил. Но в любом случае я не предполагаю заводить семью в Индауре.
— Хорошо. Тогда мы сможем уехать, когда нам угодно.
— Вы хотите вернуться в Вену?
— Или в Лондон. Но другим путем. Сядем на корабль. Это займет не больше времени, зато мы не будем рисковать нашей жизнью. По крайней мере, не так, как прежде.
В самом деле, не так, как прежде.
Неподалеку от острова Святого Лаврентия[55] небо почернело и задул бешеный ветер. Капитан трехмачтового «Меча святого Георгия», торгового судна, принадлежавшего United Company of Merchants of England, велел убрать паруса на две трети, начиная с верхних разумеется. Матросы полезли на мачты и стали надрываться, уменьшая парусность — особенно опасную в бурную погоду, когда приходится спускать бом-брамсели на корабле, переваливающемся то на один, то на другой бок, накреняясь до сорока градусов. Короче, маневр прошел как обычно, среди хлещущих снастей и проклятий, сыплющихся на палубу или теряющихся в вое ветра, грохоте и реве волн, не говоря о пронзительном скрипе и скрежете такелажа. Трех нижних парусов — фока, грота и бизани — вполне хватало, чтобы нести судно вместе с его грузом шелка и хлопка.
Всякий раз, когда корабль нырял во впадину меж волнами, Александр бледнел, а Себастьян стискивал зубы. После состоявшейся накануне беседы с капитаном Малестером и его первым помощником он плохо обуздывал свое недовольство. Шторм стал для него разрядкой.
Себастьян сел на английское судно как голландский гражданин, записав Александра греком.
— Раз вы голландец, сэр, а стало быть наш союзник, то настроение у вас, должно быть, неважное, — заявил первый помощник.
— Почему? — спросил Себастьян, объяснив, что много месяцев не получал никаких новостей о мире.
Тогда капитан Малестер рассказал о пропущенных им событиях, заранее попросив извинить за огорчение, которое новости ему наверняка причинят.
Так Себастьян и узнал подробности новой перестановки сил в Европе, о которой Банати вкратце ему намекнул. Нанеся суровые поражения принцу Карлу Лотарингскому в Рокуре, а принцу Оранскому и герцогу Камберленду в Лауффьельде, Франция в военном отношении одержала верх. Она оккупировала земли Соединенных провинций и отогнала союзников за Мезу. Россия отправила войска им на помощь, но они добрались до Мезы слишком поздно.
Таким образом, Россия стала союзницей Англии. Все эти долгие месяцы праздности в Индауре Себастьян ничего не знал. Пока мир менялся, он отправлял свои донесения на Луну, вдыхая аромат роз и приобщаясь к тонкостям санскрита.
Его дурное настроение было отнюдь не притворным.
— Успокойтесь, сэр, — заметил ему Малестер, — партия еще не закончена. Мы отнимем у этих французов Индию, как отняли Канаду.
Это утешало лишь наполовину. Индия — да. Но Россия будет исключена из этой игры, и Себастьян сомневался, сможет ли она вообще когда-нибудь снова вступить в нее.
Через морские валы уже смутно виднелся остров, когда мыс Диего-Суарес внезапно исчез за пеленой дождя. Потоками воды залило всякую поверхность, будь она горизонтальной или вертикальной.
Себастьян с Александром, которым стало уже невмоготу терпеть качку в каюте, надели свои непромокаемые плащи, натянули сапоги и поднялись наверх. И едва не покинули судно, сбитые с ног огромной волной, прокатившейся по палубе с правого борта на левый.
По правде сказать, февральские муссонные дожди преследовали их с тех пор, как они покинули Бомбей. Но при этом ветры дули попутные, и английский корабль почти летел, увлекаемый вперед всеми своими девятью прямыми и косыми парусами, надутыми до предела. Еще одна выгода — запасы воды были обильно пополнены дождем.
Оба пассажира (на самом деле их было трое, но плывший с ними пастор предпочел остаться в каюте, болтаясь в своем гамаке и бормоча молитвы) поднялись на ют и встали возле капитана и рулевого.
— Через час, — сообщил капитан Малестер, — должны будем добраться до Антонгильской бухты.
Он нахмурил мокрые брови и добавил:
— Только бы увидеть землю вовремя.
Перспектива разбиться о скалы не шла у Себастьяна из головы.
Землю заметили в самый последний момент. Рулевой налег на румпель с титанической силой. Через какой-то час корабль вошел в бухту. Порывы ветра ослабели. Кругом зеленели щедро омытые ливнями горы. В полукабельтове от них стояло на якоре другое судно — пятидесятидвухпушечный военный корабль; его промокший флаг висел как старая тряпка, но никаких других цветов, кроме черного, различить на нем было невозможно. Капитан посмотрел в подзорную трубу и сардонически хмыкнул: толпившаяся у борта добрая дюжина матросов тоже рассматривала новоприбывшее судно.
— Пираты, — сказал он.
Себастьян содрогнулся. Если это французы или португальцы, то Антонгильская бухта вскоре станет ареной безнадежной битвы между их жалкими четырьмя пушками и пятьюдесятью двумя неприятельскими жерлами.
— Французы? — спросил он.
— Там видно будет, — ответил Малестер.
Капитан кликнул судового горниста и велел ему трубить. Через несколько мгновений бравый сигнал разнесся по заливу. Почти тотчас же в ответ ему прозвучали, почти иронично, такие же три ноты. На песчаном берегу и на примитивных причалах сгрудились мокрые туземцы и, застыв, словно бронзовые статуи, наблюдали за происходящим.
Весь экипаж был собран на палубе, включая юнг и кока с помощником. Пастор, покинувший наконец каюту, растерянно озирался.
— Что на земле, что на море — всюду разбойники, — пробормотал Александр.
От пиратского корабля отчалила шлюпка. Шесть человек гребли, седьмой стоял на носу. Малестер улыбнулся и велел спустить трап. И через несколько мгновений на палубу ступил мужчина лет тридцати с квадратным приятным лицом, в треуголке и синем кафтане необычного оттенка с золочеными пуговицами. За ним следовал молодец того же пошиба.
— Капитан Уильям Оуэн к вашим услугам, сэр, — объявил гость с легким бахвальством в голосе.
— Капитан Чарльз Малестер из Объединенной Компании, — добродушно ответил хозяин и протянул руку.
Себастьян следил за обменом приветствиями, наполовину успокоившись. Англичане между собой не дрались; флибустьеры охотились только за иностранцами, неофициально работая на английскую корону. Но поди знай…
Оуэн повернулся к своему помощнику, взял у него из рук две пары крупных птиц и протянул их Малестру, пояснив:
— Местная дичь.
Это были красноклювые утки. Малестер кивнул, поблагодарил и передал дичь коку.
— Тут на земле не очень-то поживишься, — продолжил Оуэн. — Мы прибыли утром, на рассвете. Есть португальская гостиница, но почти без спиртного, а комнаты гнусные. Туземцы с англичанами ничуть не любезнее, чем с французами.[56] Возвращаетесь в Англию?
Малестер кивнул.
— Могу я попросить вас об услуге? Кое-кто из наших людей хотел бы отправить письма своим родным.
Еще один кивок.
— Я велю доставить их вам часика через два, когда писарь напишет.
Малестер поклонился с легкой улыбкой: четыре утки, таким образом, были оплатой почтовых издержек. Пираты, конечно, проявили учтивость, но считать тоже умели.
Сценка поразила Александра. Себастьян объяснил сыну ее смысл: законопослушные англичане договорились об услуге со стоящими вне закона соотечественниками, прикрывшись национальным флагом.
— Надолго собираетесь задержаться? — спросил Оуэн.
— Пока не стихнет шторм.
— Хотите, чтобы я вас сопровождал? Вдоль западного побережья Африки шныряет немало французов и португальцев.
— Благодарю, — ответил Малестер. — Я много раз ходил этим путем. И всегда благополучно.
Себастьян догадался, что капитан не расположен платить Оуэну за охрану.
От берега отделились несколько пирог и двинулись к «Мечу святого Георгия»; в утлых скорлупках можно было различить гроздья бананов, груды апельсинов и еще каких-то плодов.
— Будете это покупать? — спросил Себастьян у кока.
— Такого добра в Африке навалом на любой стоянке. Но раз вы хотите…
Кок перебросил через борт линь с крюком и, обменявшись с туземцами парой слов на каком-то совершенно невразумительном жаргоне, поднял гроздь бананов и корзину с апельсинами, вывалил содержимое на палубу, бросил в пустую корзину монетку и спустил обратно. Себастьян, Александр и пастор отведали бананов и взялись за апельсины.
Часа через два небо посветлело. Вернулась пиратская шлюпка с обещанными письмами (все были написаны одной рукой) и бочонком незнакомого местного спиртного, своего рода вина, напоминающего херес. Малестер приказал сниматься с якоря. Парусник бесконечно долго переваливался с бока на бок, пока не поймал ветер и не вышел наконец в открытое море.
Утки были зажарены и поданы на широком блюде с рисом, впитавшим весь сок. Ночь выдалась ясной, с ветром в двенадцать узлов. Бочонок туземного хереса выпили до дна под жареных уток, но каждый признал, что добрая пинта пива лучше бы подошла к этому кушанью.
Пять дней спустя перед ними снова разверзся ад: мыс Доброй Надежды. Вид высокой скальной гряды, на которую ветер грозил снести корабль, и Чертова пика, искрящегося молниями, не слишком-то успокаивал. «Меч святого Георгия» влетел в гавань уже затемно, с тремя сломанными реями.
Себастьян был изнурен и раздражен. На следующее утро они с Александром добрались в шлюпке до поселка, образовавшегося вокруг гавани, и наняли комнату в голландской гостинице.
Только через восемь остановок и тридцать три дня плавания они оказались в Блю-Хедж-Холле у Соломона Бриджмена. Себастьян вздохнул с облегчением.
Было 6 мая 1748 года.
39. СХВАТКА МЕРТВЕЦОВ
Хозяин дома неотрывно смотрел то на отца, то на сына, словно ребенок, следящий восхищенным взглядом за шариками в руках жонглера.
— Господи! — воскликнул он наконец. — Да у меня же в глазах двоится!
Себастьян рассмеялся. Похоже, Александра это тоже позабавило.
Англичанину исполнилось шестьдесят девять лет, но главное изменение, произошедшее в нем за те три года, что они с Себастьяном не виделись, состояло в том, что теперь ему приходилось делать усилие, чтобы встать. Призвав своего все еще бодрого дворецкого Бенедикта, он приказал подать «самый прекрасный ужин, какой только можно вообразить».
Верный слуга расстарался на славу, видимо сам взволнованный теплой встречей. Казалось, что Бриджмен отнесся к Александру собственному внуку. Он был так растроган, глядя на юношу, что его глаза беспрестанно увлажнялись. Себастьян поздравил себя: теперь его планы окончательно определились.
— Соломон, — сказал он, — если Александр согласен, я бы хотел, чтобы вы довершили его образование, как это сделал бы я сам.
Оба повернулись к юному князю: теперь настал черед Александра смахнуть слезу.
— Отец, — ответил он, — мне понятна любовь, которую вы питаете к господину Бриджмену. Слушать его будет для меня честью и радостью.
Себастьян наклонился через стол и положил руку на ладонь сына.
— Лучшего я бы и не желал. Соломон научит вас и самым возвышенным, и вполне обыденным вещам — ничуть не хуже, если не гораздо лучше, чем я. Ибо его опыт бесконечно превосходит мой собственный и за эти последние годы наверняка не обеднел.
Бриджмен улыбнулся. Себастьян сделал паузу и продолжил:
— Александр прожил большую часть своей жизни во чреве, а не в голове мира. Голова — это Запад. Мне придется часто разъезжать. Я хочу, чтобы он воспользовался необходимым покоем, чтобы изучить жизнь этого Запада, овладеть его историей и философией. Александр превосходный фехтовальщик и наездник. Если же он вдобавок овладеет такими искусствами, как живопись и музыка, я буду только рад.
Бриджмен испытующе посмотрел на Себастьяна.
— В некотором смысле вы хотите сделать из него себя самого, но доведенного до совершенства.
Себастьян помолчал немного, потом сказал:
— В свое время один американский индеец предрек мне, что раз я спас жизнь, то их у меня будет две. А не так давно Александр заявил, что хочет стать мной.
— Понимаю, куда вы клоните, — сказал Александр весело.
Это разрядило обстановку, до этого, быть может, слишком уж торжественную.
Три дня спустя Лондон ошеломила весть о падении Маастрихта, осажденного войсками маршалов Сакса и Левендаля. Сдача крепости произошла на следующий день после возвращения Себастьяна; он увидел в этом предзнаменование. Беспорядочная политика и необузданные капризы правителей Австрии, Англии, Соединенных провинций и России привели к катастрофе. Себастьян еще раз убедился, что, оставаясь на службе у Засыпкина при посредничестве Банати, он лишь закрепит за собой подчиненную роль: у него никогда не будет решающего голоса.
Он был обескуражен. Прошло несколько недель, в течение которых он наблюдал за учебой Александра и обсуждал с Соломоном их собственные дела. Ему хотелось возобновить исследование иоахимштальской земли, но главный ее запас находился в подвалах Нюрнбергского банка, а шкатулка с фунтом вещества — в тайнике его особняка на Херренгассе в Вене.
Так что в итоге Себастьян опять вышел в море и через неделю благополучно достиг Нюрнберга. Он заказал еще один обитый свинцом ларец, поместил туда целых три фунта таинственной земли и пустился в обратный путь. Трясясь в почтовой карете, он подумал, что неудобно держать часть своих вещей и книг в Вене, а другую в Лондоне; неплохо бы иметь собственное пристанище, где все это можно было бы объединить. Во Франкфурте Себастьян справился у бургомистра, не продаются ли поблизости какие-нибудь имения. Ведь, в самом деле, Франкфурт находился на разумном расстоянии и от Соединенных провинций, и от Англии, и от Франции с Австрией. Бургомистр сообщил, что герцог Вильгельм Гессен-Кассельский действительно желал бы продать участок земли и леса неподалеку, вместе с расположенными там же маленьким замком и фермой.
Себастьян написал владельцу, и тот, прислав нарочного, любезно попросил навестить его в замке Ганау близ Франкфурта.
— Граф де Сен-Жермен! — воскликнул сердечно герцог, когда дворецкий провел Себастьяна в парадную гостиную замка. — Боже, какая честь, сударь. Мои венские друзья, князь фон Лобковиц и многие другие, говорили мне о вас столько лестного! Будучи в Вене, я надеялся встретить вас, но мне сказали, что вы уехали на Восток.
— Сожалею, что разминулся с вами, — ответил учтиво Себастьян. — Я около двух лет провел в Индии.
— В Индии! С каким удовольствием я бы услышал от вас об этом путешествии!
Герцог пригласил Себастьяна отобедать, а потом и погостить в замке, заявив, что они завтра же могли бы посетить на досуге усадьбу и выставленные для продажи земли.[57] Слугам было приказано доставить багаж графа из франкфуртской гостиницы.
Себастьян принял знаки этого высокого благорасположения с неизменной любезностью и в тот же вечер отужинал в обществе самого герцога, его супруги, детей, родственников и ближайших вассалов. Но когда после ужина по приглашению Вильгельма Гессен-Кассельского мужчины расположились в библиотеке, чтобы выкурить сигару или выпить горячего шоколаду, а если угодно, то насладиться и тем и другим, хозяин дома вдруг завел раздраженную речь о неоднократных неудачах союзников.
— О чем сокрушается ваше высочество, если не о безумии властителей этого мира? — неожиданно спросил Себастьян.
Растерянное молчание воцарилось среди присутствующих.
— Что же происходило за последние годы на наших глазах, ваше высочество? — продолжил Себастьян звучным голосом. — Я прошу вас внимательнее вглядеться в это. Шесть лет назад курфюрст Баварский, одержимый иллюзией столь же грандиозной, сколь и пустой, но поддержанный своими придворными и несколькими соседними государями, решил, что Мария-Терезия Габсбургская — всего лишь вздорная матрона, которой надо бы почаще ходить к вечерне, нежели цепляться за австрийский престол, что превосходит ее возможности и не подобает презренной женской природе. Разумеется, он полагает, что трон должен отойти ему как несомненная собственность Виттельсбахов. Он тотчас же провозглашает себя эрц-герцогом Австрийским, а потом, упиваясь от ужина к ужину отсутствием возражений, королем Богемии.
Опять молчание, на сей раз испуганное, встретило эти провокационные речи. Однако герцог выслушал их совершенно невозмутимо. Себастьян продолжил, держа сигару в руке:
— Двадцать первое января тысяча семьсот сорок второго года — помните? — при молчаливой поддержке других немецких князей, опьяненных или приятно возбужденных этой авантюрой, а также Англией, которая не слишком-то разбирается в делах на континенте, но считает, что обеспечит себе союзника в непрекращающейся войне, которую ведет в Европе, он коронуется в Праге императором под именем Карла Седьмого. Безрассудный шаг: так он требует себе трон Габсбургов.
Все взгляды обратились к герцогу: он был одним из сторонников Карла VII. Но герцог Вильгельм Гессен-Кассельский преспокойно потягивал свой шоколад. Себастьян вопросительно посмотрел на него:
— Должен или могу ли я продолжать, ваше высочество?
— Ваша щепетильность оказывает мне честь, но ваша самоцензура меня бы огорчила, — ответил герцог.
— Покорнейше благодарю. Императрица, какою бы женщиной она ни была, бьет тревогу и приказывает своим войскам вторгнуться в Баварию. Мюнхен, столица курфюрста, пал в самый день его коронации. Карл Седьмой не надолго пережил свои иллюзии: двадцать девятого октября тысяча семьсот сорок четвертого года он умирает. Его преемник, наученный этим горьким примером, отказывается от всяких имперских притязаний. Дело кажется закрытым. Ведь угроза, тяготевшая над троном Габсбургов, исчезла вместе с принцем-сумасбродом. Все должно вернуться к status quo ante. Увы, Австрия отныне ведет себя как держава, с которой надо считаться. А Пруссия ничего и слышать об этом не хочет. Так начинается война за Австрийское наследство.
Присутствующие не проронили ни слова, завороженные дерзкой откровенностью гостя. Не оскорбится ли герцог и не прогонит ли наглеца? Может, даже велит арестовать?
Ничуть не бывало: герцог поставил свою пустую чашку и спокойно сказал:
— Вы правы, граф. Я был из тех, кто поддерживал Карла Седьмого. И раскаиваюсь в этом. Здесь это ни для кого не секрет. Я недооценил Марию-Терезию. Но расскажите нам, что было дальше и что вы об этом думаете.
Это был приказ. Герцог сам налил шоколаду в чашку оратора.
— Образуются партии, подхлестываемые соперничеством. Франция, которая ненавидит Англию, странным образом принявшую сторону императрицы, после того как поддерживала узурпатора, пытается помешать вместе с Испанией гегемонии Марии-Терезии над Австрийской империей. Принц Оранский, который терпеть не может Испанию, принимает сторону императрицы. Фридрих Второй Прусский, всегда готовый ненавидеть кого-нибудь, объявляет себя врагом Марии-Терезии, у которой надеется оттягать Силезию. Россия, которую тревожит усиление как Австрии, так и Пруссии, ищет союзников, чтобы противостоять победам Фридриха и внезапному могуществу Австрии.
Себастьян сделал паузу и обвел присутствующих взглядом.
— Каков же результат всего этого? — заключил он. — Набат гремит по всей Европе. Семь лет сражений. Союзы заключаются и расторгаются по воле и прихоти министерских канцелярий. Это безумие, неуклонно ослабляющее нации. И в конце концов оно станет не менее отвратительным, чем схватка мертвецов, дерущихся на кладбище из-за могилы.
Послышались недовольные восклицания одних. Другие подавленно молчали. Услышанное опрокидывало все их убеждения. А самым худшим было, что герцог — сам герцог! — признавал правоту Сен-Жермена. Гости ерзали в креслах, вытирали лица, поправляли парики.
— Герцог оказал мне честь, спросив меня, есть ли лекарство от этого. Да. Оно столь очевидно, что никто его не замечает. Это мир. Мир любой ценой.
— Но как бы вы поступили, — спросил Карл Гессенский, брат герцога, — когда какой-то монарх вдруг оскорбляет вас, требуя титул и угрожая вам, как Карл Баварский оскорбил Марию-Терезию?
— Этого бы не случилось, — ответил Себастьян, — если бы государи, желающие мира, образовали общество, где советовались бы между собой, прежде чем принимать решения.
— Это дело послов.
— Обычно послы ни о чем не осведомлены, — возразил Себастьян. — Им поручаются миссии, подоплека которых им неизвестна. К тому же они весьма часто заняты собственными склоками.
— Что же это было бы за общество? — спросил герцог. — Мне кажется, я слышал о чем-то в этом роде от нашего друга князя Лобковица.
Себастьян изложил принципы Общества друзей. Герцог на какое-то время задумался.
— Сударь, — сказал он наконец, — это самое мудрое предложение из когда-либо слышанных мною. Да, мир — самое драгоценное благо человечества. Я целиком и полностью присоединяюсь к вашему мнению.
Свечи почти догорели, и герцог решил, что пора спать.
Тем же вечером произошло событие, какие нередко случаются в замках.
Уже раздевшись и собираясь лечь, Себастьян хотел было задернуть полог кровати, когда чье-то приглушенное чихание заставило его вздрогнуть. Звук раздался совсем рядом, и Себастьян обошел кровать кругом, чтобы найти неизвестную чихалыцицу, поскольку голос показался ему женским. Никого. Тогда он подошел к двери, открыл ее и обнаружил на пороге какую-то девушку в домашнем халате, смущенно утирающую нос тыльной стороной ладошки.
— Простите меня, — сказала она без малейшего замешательства, — но в этих коридорах полно сквозняков.
Это была одна из приглашенных к ужину. Но, черт его побери, если он помнил ее имя. Барышня очаровательно взбалмошна, во всяком случае.
Он рассматривал нежданную гостью, забавляясь про себя. Очевидно, девушка подслушивала под дверью. Взгляд, брошенный ею в комнату, подтвердил его догадку.
— Надеетесь выведать какой-нибудь секрет? — спросил Себастьян.
— Мой дядюшка говорит, что вы весьма таинственный господин. Вот я и подумала…
— …кто же делит со мной комнату, — докончил он, отодвигаясь, чтобы освободить ей проход.
— Можно? — спросила гостья, вытянув носик.
Мой дядюшка. Теперь Себастьян понял, кто она такая: племянница герцога. Положение было деликатное, но вполне предсказуемое. Козочка сама напрашивалась в волчье логово.
Из-за долгого воздержания волк стал умеренным, если не аскетичным. Тем не менее он даже сам удивился, вдруг почувствовав аппетит.
Девушка вздрогнула, по-настоящему или притворно. Но все же бросила взгляд на постель, чтобы удостовериться, что та в самом деле пуста.
Всего несколько гаснущих угольков краснело в камине, но Себастьян вовсе не был мерзляком, да и сентябрь выдался теплым.
— Неужели вам не холодно? — спросила она.
— Это пустяки, я вас согрею, мадемуазель…
— Зиглинда, — пробормотала она в тот миг, когда Себастьян заключил ее в объятия.
Девушка подняла к нему свое озябшее, но свежее личико. Он стал целовать ее, сначала осторожно, потом все горячее и наконец жадно, крепче сжимая объятия. Его ласки стали решительны. Она дрожала — то ли от холода, то ли от возбуждения, какая разница? Себастьян увлек ее к постели. Она уже не нуждалась в согревании: его руки разожгли ей кровь. Она облизывала губы и обмирала.
— Чего же вы ждете? — пробормотала она, считая, что ее партнер вполне готов.
Все указывало на то, что барышня была скорее пылкой, чем опытной.
— Речь идет о вашем удовольствии или потомстве? — спросил Себастьян.
Девушка попыталась залезть на него верхом, явно решив поэкспериментировать с его членом, но Себастьян уклонился и, крепко удерживая ее одной рукой, Другой довел до экстаза. Зиглинда тяжело задышала. Ему пришлось закрыть ей рот рукой, чтобы она не перебудила весь замок. А она извивалась, била ногами, выпячивала грудь и наконец испустила глубокий вздох.
— А как же вы? — спросила она, когда он позволил ей упасть на постель.
Но вскоре коротко вскрикнула — сперва от удивления, потом от возмущения. Наконец смирилась.
— Что вы делаете! Так же нельзя! — попробовала она все же протестовать, но слишком поздно.
Однако по некоторым признакам Себастьян заметил, что Зиглинда не осталась целиком безучастной к его выходке.
— Я вам не мальчишка! — бросила она, когда дело было сделано.
— Вы недурно осведомлены, — заметил Себастьян со смехом.
— Я думала, вы найдете лучшее применение вашей снасти, — сказала она, употребив вульгарное немецкое слово Tolpell.
— Есть один способ, о котором вы забыли.
Она выглядела удивленной. Он ей объяснил. Девица опять вскрикнула.
— Попробую в следующий раз, — сказала она жеманно, потом прижалась к нему и заключила, прежде чем заснуть: — Главное, держите его тепленьким.
На следующий день герцог, его управляющий и Себастьян отправились в карете осматривать жилище и земли, которые герцог предполагал продать. Имение принадлежало одному из его дядьев, умершему бездетным и чьим единственным наследником он оказался. Треть этой сотни гектаров занимал лес, все остальное — сельскохозяйственные угодья с фермой и, что больше всего интересовало Себастьяна, с небольшой трехэтажной усадьбой на берегу Майна, неподалеку от Хёхста, в довольно хорошем состоянии, хоть и пустовала несколько лет. Сделка была заключена сразу же, с помощью векселя на Амстердамский банк.
По возвращении в Ганау принц объявил Себастьяну:
— Я долго обдумывал вашу вчерашнюю речь. Собственно говоря, она не идет у меня из головы. Однако общество, подобное описанному вами, уже существует…
— Франкмасоны, — сказал Себастьян.
— В самом деле, — продолжил герцог удивленно. — Вы один из них?
— Нет. Хоть они и существуют, я нахожу, что от них мало проку.
— Но если вы присоединитесь к ним и заразите их своими идеями, проку, без сомнения, станет больше. Я поддержу вас от всего сердца.
— Значит, вы состоите в их обществе? — спросил в свою очередь Себастьян.
— Да, но тайно.
— Я не знаю, как присоединиться к ним. Это означало согласие.
Тогда герцог убедил Себастьяна доехать до Мюнстера, где он сам представит его в великую ложу этого города.[58]
40. ВЕЧНО МЕРЗНУЩАЯ БАРЫШНЯ
По возвращении из Мюнстера Себастьян вместе с управляющим герцога Вильгельма занялся благоустройством усадьбы и сдачей в аренду фермы. Тем временем настала осень. А потом во всех немецких княжествах только и речи было, что о конгрессе в Экс-ла-Шапеле, городе, окончательно утвержденном для мирных переговоров.
Даже слуги и арендаторы говорили об этом.
— Давайте съездим посмотреть. В любом случае что-нибудь там узнаем, — предложил герцог. — Остановимся у моего друга епископа Кёльнского.
Едва успев отъехать от Ганау, они попали в затор — все дороги были забиты экипажами и всадниками.
— Нечего и надеяться попасть в Аахен до вечера! — крикнул один из кучеров кучеру герцога.
Однако было всего три часа пополудни.
Прибыв в Кёльн и остановившись в епископской резиденции, оба путешественника увидели, что могут рассчитывать только на самое спартанское пристанище у местного князя церкви, маленького одышливого человечка, со всех сторон осаждаемого подобными просьбами. Смятение прелата вполне можно было понять: половина просителей были протестанты. Джулио, верный слуга, спал на скамье в домовой часовне, а Себастьян не спал вовсе, донимаемый холодом, храпом герцога и прочих постояльцев, доносившимся сквозь стены, а также писком епископских мышей, собравшихся, видимо, на свой собственный конгресс.
Представители Австрии, Пруссии, Франции, Соединенных провинций, Англии, Испании и России и впрямь устроили настоящее нашествие. Не только в Экс-ла-Шапеле уже невозможно было найти ни постели, ни лошади, но также близкий к нему Кёльн был осажден свитами делегатов, советниками, военными, секретарями, фаворитами, любопытными, лакеями, любовницами и смазливыми любимчиками, не считая шпионов, вербовщиков и шлюх. Улицы обоих городов кишели народом до самой поздней ночи. Факт неслыханный: вино и пиво, похоже, начинали иссякать.
Гораздо позже благопристойного времени сквозь пьяную болтовню и ругань доносились крики экстаза, свидетельствуя, что чей-то прихвостень предался любовным утехам: чтобы возместить себе неудобства, которые причинили им господа, лакеи тискали в подворотнях потаскух, сбежавшихся сюда по случаю в великом множестве.
На следующий день Себастьян встал в весьма дурном расположении духа и уже подумал было вернуться в свое имение — при условии, что найдется экипаж, чтобы доставить его туда. Спас положение Джулио: в одиннадцать часов он прибежал, запыхавшись, и объявил своему хозяину, что нашел какую-то немощную вдову, вполне готовую сдать часть своего просторного дома, расположенного сразу за церковью Святой Урсулы. Себастьян немедленно отправился по указанному адресу: хозяйка, госпожа Гроссвинкель, вдова суконщика, была в ужасе.
— Боже праведный, что творится в городе? — причитала она.
— Семь стран собираются заключить здесь мир, — ответствовал Себастьян любезно.
— Мир? Но они же тут ад кромешный устроили! — возопила она. — Даже хлеба не найти!
— Я вам добуду, — уверил он ее. — Я граф де Сен-Жермен.
Der Graf von Saint-Germain! Сразу очарованная и повеселевшая, хозяйка сдала ему целый этаж своего четырехэтажного дома, а поскольку у нее были кошки, Себастьян надеялся обрести наконец немного отдыха ближайшей ночью. Он по-королевски расплатился с госпожой Гроссвинкель золотой монетой, и Джулио побежал в епископскую резиденцию за вещами.
Вечером Себастьян зашел в ближайший трактир и столкнулся в дверях с каким-то человеком, который схватил его за руку. Из-за широкополой шляпы Себастьян сначала не узнал его: это оказался маршал де Бель-Иль. Они обнялись. Обрадовавшись, что встретил венского знакомого, маршал покинул свою свиту, чтобы сесть за стол вместе с Себастьяном.
— Мир! — проворчал военный. — Мир! Вы уже знаете, что это будет за мир? Все теряют свои приобретения, за исключением Фридриха, который сохраняет за собой Силезию и графство Глотц! А этот простофиля дон Филипп, получивший три герцогства за тридевять земель от собственного дома,[59] которые упорхнут от него при первом же порыве ветра!
Пораженный Себастьян не знал всего этого, поскольку договор еще не был даже подписан. Бель-Иль, изрядно разгорячившись, жадно отхлебнул из своей кружки.
— Франция, — продолжил он, — теряет Мадрас в Индии после Луисбурга в Канаде. И положение становится еще хуже, чем прежде. Вы видели эту катастрофу? Русские войска на Мезе? Это же новое вторжение варваров! Такой мир таит в зародыше не знаю сколько будущих войн!
— А разве мы могли продолжать войну? — спросил Себастьян.
— Нет. Вы попали в самую точку. Мы все истощили свои силы. Это всего лишь перемирие, передышка, чтобы прийти в себя. Для Франции тем не менее партия продолжится — в Индии и Канаде. Ах, друг мой, какое злосчастье! Этот фальшивый мир — настоящая катастрофа. Я трепещу от мысли, как отнесется к этому король.
— Вам теперь придется искать новых союзников, — объявил Себастьян. — Только наличие сильных партнеров сдержит агрессора.
— У вас по-прежнему такой же ясный ум, и я себя с этим поздравляю. Но с кем, по-вашему, мы должны объединиться?
— Во-первых, с Англией, — ответил Себастьян. — Потом с Испанией. Договоры с мелкими государствами, такими как Генуя и Неаполь, не могут никого напугать.
— Ах, друг мой, вам надо приехать в Париж. Чтобы ваши советы были услышаны королем…
— Но у меня нет никакого веса, чтобы давать советы королю.
— Те, у кого он есть, не могут сказать ничего путного. Подумайте над моим предложением.
— Я с грустью вижу, что Общество друзей еще далеко оттого, чтобы стать влиятельным, — заметил Себастьян.
— Оно будет таким, будет! — воскликнул француз с горячностью. — Мы не можем позволить себе упустить этот шанс.
После чего маршал ушел догонять своих. Себастьян вознамерился поужинать жареным утиным бедрышком с яблочным соусом и глотком анжуйского вина, когда в трактир вошли три человека. Один из них был Засыпкин. Оглядев зал в поисках свободных мест, он заметил Себастьяна, в одиночестве сидящего за своим столом, и направился к нему с удивленным видом.
— Вы здесь? — воскликнул Засыпкин, подойдя со своими спутниками. — Позволите присоединиться к вам? Мы с Банати уже опасались, не потерпели ли вы кораблекрушение…
— В самом деле? Утонуть я не утонул, но зарезать меня вполне могли, и не раз, — ответил Себастьян натянуто.
— Да, Солиманов сообщил мне о ваших злоключениях, — согласился Засыпкин. — Искренне сожалею. Я неосмотрительно доверился мнению одного малосведущего чинуши.
«Как и предсказывал Астахов», — подумал Себастьян.
— Надеюсь, вы сочтете уместным повысить в чине капитана Астахова из Красноводского форта, который предоставил мне вооруженную охрану, без которой я, вероятно, не сидел бы сейчас здесь.
Хоть и учтивый, тон Себастьяна был холоден. Засыпкин понял причину: граф де Сен-Жермен больше не желал, чтобы с ним обращались как с безропотным исполнителем, которого посылают к черту на рога, заставляя рисковать собственной шкурой, а потом попросту отзывают обратно без всяких объяснений.
— Я понимаю ваши упреки и вновь приношу свои извинения, — сказал Засыпкин. — Но почему вы не сообщили о вашем возвращении?
Рассудив, что забил первый гвоздь, Себастьян немного смягчил тон:
— Поскольку моя миссия была выполнена, я не видел причины задерживаться дольше в Индии. Последнее послание из Вены утвердило меня в этом решении, и я вернулся в Европу.
— Позвольте сказать вам, — заявил русский, — что канцлер очень высоко оценил ваши наблюдения. Они весьма способствовали его решению не вмешиваться в индийские дела.
Себастьян кивнул.
— Рад, что был полезен.
— Вы по-прежнему полезны, граф. Благоволите не омневаться в нашей признательности. Но скажите, ак я могу доказать ее вам?
Это уже ничуть не походило на того властного Засыпкина, с которым он познакомился в Вене; Себастьян поздравил себя с этим. Это означало, что его репутация в России изрядно укрепилась.
Он сообщил Засыпкину свой новый адрес и оставил троих русских заканчивать ужин без него. Потом вернулся пешком в дом за церковью Святой Урсулы.
Когда они с Джулио подошли к воротам и слуга достал из кармана ключ, за углом соседнего дома шевельнулась какая-то тень. Себастьян взялся за рукоять шпаги, но внезапно заметил, что под широкой накидкой с капюшоном, двигавшейся к нему почти сливаясь с се: рой стеной, семенят маленькие ножки. Дамские ножки. По-прежнему держась начеку, Себастьян уставился на незнакомку. Капюшон приоткрылся, и голосок, не менее женский, чем ножки, капризно произнес:
— Наконец-то! Я уже коченеть начала!
Ошарашенный Себастьян узнал Зиглинду. Спрашивать, что она тут делает, было совершенно незачем, поэтому он удовлетворился тем, что просто смотрел на нее. По-видимому, ей опять было холодно. Джулио, наверняка решивший, что у хозяина назначено свидание, повернул наконец ключ в двери.
— Как вы меня нашли? — спросил Себастьян, пока слуга отцеплял тусклый фонарь, чтобы осветить лестницу.
— Расскажу, когда будем в тепле, — ответила Зиглинда. — Надеюсь, наверху есть чем согреться.
Похоже, она считала приглашение уже полученным, и Себастьян не осмелился ее разочаровать. Войдя в комнату, девушка тут же устроилась в кресле перед камином, куда Джулио поспешил подбросить два полена.
— Ах, — сказала она. — Этот октябрь еще холоднее, чем другие.
Себастьян еле удержался от смеха, подумав, что для такой девушки весь год должен казаться холодным. Когда Джулио ушел, Зиглинда заявила:
— Я скучала в замке, как в могиле. Дядя Карл решил поехать в Аахен и согласился взять меня с собой. Как только мы сюда добрались, его отговорили ехать дальше, и он присоединился к дяде Вильгельму в доме у епископа. Не хватало мне спать с монашками! Дядя Карл спросил про вас у Вильгельма, и тот дал ему ваш адрес. Вот и все.
— А если бы я оказался не один? — предположил Себастьян лукаво.
— О, я думаю, вы бы не поколебались в выборе между мной и какой-нибудь уличной девкой!
— Вы довольно самонадеянны.
— Себастьян, вы меня избавляете от скуки и, как мне кажется, вкладываете в это талант, — сказала Зиглинда с многозначительной улыбкой.
Они отправились в постель, и, к своему удивлению, он обнаружил, что Зиглинда не только не забыла уроков, данных им в прошлый раз, но даже применила полученные знания на практике.
Себастьян с беспокойством заметил, что ему это понравилось. Куда же влекла его мадемуазель Зиглинда? Ведь влюбленная барышня всегда куда-нибудь влечет, чаще всего к алтарю.
Однако на это он пойти не мог, как уже объяснял когда-то Соломону.
Хотя малышка-то об этом не знала. Честно говоря, ей это пошло только на пользу. Прокувыркалась большую часть ночи. Уснула в октябре, а проснулась в июне…
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ЛЕВ И ДЕВА (1748–1760)
41. ЗА НАС ВСЕГДА ВЫБИРАЕТ СЛУЧАЙ
Словно души нимф, застигнутые врасплох нескромным взглядом, туман над Майном рассеялся на утреннем солнце. Из окна своего кабинета Себастьян видел, как от берега отчалили две лодки и заскользили к городу Хёхсту.
Он открыл ящик комода, чтобы достать оттуда бумагу. Его взгляд упал на лежавший там медальон, и он сделался задумчив. Миниатюра в золотом ободке на цепочке — прелестное личико, которому к тому же польстил художник.
Он положил себе на ладонь последний дар Зиглин-ды фон Вутенау и вгляделся в него. И опять его сердце сжалось — Себастьян сам не понимал почему, поскольку не был в нее влюблен. Девушка умерла от чахотки через тринадцать месяцев после их встречи. Перед смертью попросила своего дядюшку Вильгельма передать эту вещицу в собственные руки графа де Сен-Жермена. И опять Себастьян спросил себя: могли бы спасти ее припарки из иоахимштальской земли? Но он в то время был в Лондоне, срочно вызванный туда Александром: Соломон Бриджмен доживал свои последние дни и хотел видеть Себастьяна.
Он вздохнул.
Это было на следующий год после подписания договора в Экс-ла-Шапеле. Уже восемь лет назад!
Соломон Бриджмен сидел перед огнем, когда Себастьян вошел в библиотеку. Даже не обернулся. Сказал только:
— Себастьян, я знаю, что это вы. Мой друг Ньютон был решительно прав. Закон притяжения — самый сильный. Я еще несколько минут назад почувствовал, что вы приехали. Мое сердце опять вздрогнуло.
Себастьян наклонился, чтобы поцеловать его в лоб, и, сев рядом, взял за руку.
— Спасибо, что приехали, — прошептал Бриджмен. — Еще одна большая радость из тех, что вы мне подарили. Увы, быть может, последняя.
Александру едва удавалось сохранять спокойствие на лице. Старый доктор Джеремайя Хатчинс, сам не более свежий, откланялся, обменявшись с Себастьяном долгим взглядом.
Словно удерживая свою душу только для того, чтобы в последний раз увидеть былого Джона Таллиса, который стал для него сыном, старик умер на следующий же день. Себастьян еще спал, когда Бенедикт, старый слуга Бриджмена, постучал к нему, чтобы объявить сквозь слезы:
— Мистер Соломон не проснулся сегодня утром.
Стоявший за ним другой слуга, Уильям, не смог сдержать рыданий.
Похороны были строгие — черные одежды и белые стены церкви. Себастьян с Александром проводили своего друга до самого края могилы. Шел мелкий дождь. Он смыл их слезы.
Следующие три месяца прошли между нотариусами и адвокатами. Хоть и получив причитающуюся им долю наследства без малейшего препятствия, родственники Бриджмена, его племянники и внучатые племянники, едва знавшие старика и совершенно им пренебрегавшие, удивились, что тот завещал Блю-Хедж-Холл какому-то чужестранцу, и без того весьма состоятельному. Но узнав сверх того, что ему же теперь принадлежит целиком банк Бриджмена и Хендрикса, они возмутились и воззвали к правосудию, потом написали министру финансов и в казначейство, жалуясь на незаконное присвоение наследства. Министром был тот самый Уильям Стенхоуп, лорд Харрингтон, который оказал столь хороший прием Себастьяну после его освобождения из Тауэра. Его отношение к Себастьяну не изменилось.
— Похоже, завещание мистера Бриджмена совершенно неуязвимо, — заявил министр Себастьяну, когда тот нанес ему визит, — да и ваш поверенный кажется мне одним из самых опытных. Так что не тревожьтесь.
— Все же меня беспокоит, милорд, шум, поднявшийся вокруг этого спора. Нет ли средства замять его?
Лорд Харрингтон улыбнулся и, сощурившись, слегка наклонился, чтобы изучить золотой треугольник на цепочке, видневшийся из-под жабо посетителя.
— Любопытное украшение, — заметил он. — Вы принадлежите к братству?
Себастьян кивнул. Потом увидел тот же символ на одной из пуговиц своего собеседника.
— Требуется бдительность там, где нам угрожают дух наживы и низость, — заявил Стенхоуп.
Себастьян слышал те же слова при своем посвящении в масоны, в Мюнстерской ложе.
— Похоже, любое ваше появление в Лондоне, граф, обречено раздражать низменные умы. Но ваш поверенный, похоже, предусмотрел эту опасность. Он недвусмысленно посоветовал родственникам мистера Бриджмена придержать язык и пригрозил преследованием за клевету.
У Себастьяна вырвался вздох облегчения. Значит, Александр сможет и дальше возглавлять банк, применяя на практике все, чему обучил его Соломон.
Стенхоуп пригласил Себастьяна к ужину.
На ужине присутствовал еще один гость. К удивлению Себастьяна, это оказался его давний венский знакомец, в ту пору посол Англии — сэр Роберт Клайв, барон Пласси,[60] один из приглашенных на тот достопамятный вечер в особняке на Херренгассе, тот самый, кто дал Себастьяну понять, что его услуги могли бы быть полезны английской короне.
Разумеется, Клайв, прибывший раньше Себастьяна, уже сообщил хозяину дома о том незабвенном ужине и об интересе, который граф де Сен-Жермен мог бы представлять для короны, поскольку Стенхоуп встретил его еще радушнее, чем утром.
Пожимая руку Клайву, Себастьян был поражен его мертвенной бледностью; несмотря на свою относительную молодость, он решительно был похож на извлеченного из земли покойника.
— Да, знаю, — сказал Клайв, — я вам кажусь гораздо менее свежим, чем в Вене. Подхватил лихорадку в Индии.
— Я тоже там побывал, — сказал Себастьян. — Некоторые ее области и в самом деле полны миазмов.
Клайв вскрикнул от удивления.
— Когда же вы там были?
— С тысяча семьсот сорок шестого по тысяча семьсот сорок восьмой.
— Могу я полюбопытствовать, что вы там делали?
— Меня интересовало умение индусов очищать драгоценные камни. Попутно я смог прийти к заключению, что эта страна будет принадлежать тому, кто сумеет проявить достаточно силы и решительности, чтобы навести там порядок. Похоже, все эти князьки только и ждут нового преемника Ауренгзеба.
— Вы слышите, Уильям? — воскликнул Клайв. — Я же вам говорил, что у графа замечательный ум.
Стенхоуп согласился. Себастьян слегка наклонил голову в знак благодарности.
— Сударь, становитесь-ка англичанином, я вас прошу! — с горячностью вскричал Клайв.
Себастьян и Стенхоуп рассмеялись.
— Выведали там какие-нибудь из индусских секретов? — спросил Клайв.
— Один-два, — ответил Себастьян с улыбкой. — Заодно и несколько ценных лекарственных рецептов, в частности от вашей болезни.
На следующий день он послал Клайву коробку сушеных трав, порекомендовав ему изготовить из них отвар и пить три чашки в день в течение двух недель, каким бы неприятным ни показался вкус; он уточнил, что его можно смягчить медом. Этот рецепт Себастьян нашел в одном руководстве по лекарственной ботанике, которое оставил перед своим прошлым отъездом в доме Соломона. Отвар из полыни назывался там наилучшим средством от четырехдневной лихорадки.[61]
Через несколько дней Клайв самолично явился в Блю-Хедж-Холл и при этом выглядел гораздо лучше.
— Господи! — вскричал он, схватив руки Себастьяна. — Да вы же кудесник, сударь! Вы мне жизнь спасли! Отведав первый глоток вашего отвара, я уж подумал было, что вы решили меня отравить, но потом сказал себе, что тогда вы бы мне дали что-нибудь с более приятным вкусом. Целых три дня я мочился чернилами, но теперь у меня нет приступов лихорадки, и я чувствую себя как новенький. Я ваш должник навеки.
И, крепко пожав ему руку, стал упрашивать своего благодетеля отправиться с ним в Индию. Клайв добился своего: Себастьян согласился опять поехать в страну, куда, однако, и не думал возвращаться. В этот раз они направились в восточную часть полуострова, в Бенгалию, область болотистую, покрытую джунглями и враждебную. Там Себастьян обнаружил, что радушное приглашение его должника было в некотором смысле корыстным: по меньшей мере треть английских войск была поражена четырехдневной лихорадкой и почти небоеспособна.
Через три дня после их прибытия Клайв вошел в покои Себастьяна, предоставленные ему в одном из дворцов, принадлежавших прежде низамам и прочим пышным магараджам, которые англичане бесцеремонно реквизировали; его сопровождал один из военных лекарей, с которым Себастьян ужинал накануне:
— Друг мой, вы меня спасли в Лондоне. Неужели же вы теперь позволите христианам гибнуть от миазмов этой языческой страны? Заклинаю вас, дайте им то же лекарство, что прописали мне.
— Того, что у меня с собой, хватит только на одного-двух человек. Вы же говорите о целых сотнях больных. Мне потребуются выносливые добровольцы, чтобы прочесать со мной местность и найти подходящее растение.
— Они у вас будут! — воскликнул Клайв. — Да поможет вам Бог! Да поможет вам Бог!
Десять дней подряд, основываясь только на том, что помнил из одного ботанического трактата, Себастьян мерил ногами равнины Бенгалии вместе с тремя солдатами, столь же пригодными к ботанике, как к чтению Раймунда Луллия,[62] и собирал полынь. По крайней мере то, что считал ее местной разновидностью, — растение трех-четырех футов высотой, с рубчатыми стеблями, с небольшими темно-зелеными, чуть бугорчатыми и мохнатыми листьями в красноватых точках, растущее на полянах по берегам рек и болот…
Но это была точно полынь. Повсюду наварили огромные чаны снадобья, и по приказу военного врача все больные были обязаны пить его по три чашки в день. Меда не было, так что посыпались проклятия. Что за гнусное пойло! Но неделю спустя результаты подтвердили познания графа де Сен-Жермена. Больные вновь становились на ноги.
Что же нового под солнцем? Века назад травоведы уже определили достоинства растений, излечивающих все известные недуги. Быть может, кто-то нашел и философский камень. Но на этот счет Себастьян сохранял сомнения. Он решил возвращаться.
Он ничего не видел в Бенгалии, кроме англичан да местных крестьян, носящих маски на затылке, чтобы обмануть тигров, которые, согласно поверьям, никогда не нападают на человека спереди.
Но все же купил там несколько камней.
До Лондона он добрался через четырнадцать месяцев, 6 апреля 1756 года. Ему вдруг подумалось, что Исмаэлю Мейанотте уже сорок шесть лет. Телесные флюиды двигались медленнее.
Александр радостно его встретил.
— Помните наш разговор в Индауре? — спросил он, когда отец отдохнул с дороги.
Они сидели перед огнем, поскольку апрель выдался прохладный. Себастьян, разумеется, помнил ту беседу, но хотел быть уверенным в памяти сына. Поэтому посмотрел на него так, будто не слишком понимает, о чем речь.
— Вы мне тогда сказали, что, если мы откажемся от своих личностей и попытаемся считать, что являемся друг другом, наши узы станут крепче и при этом возвышеннее.
Себастьян улыбнулся. Его всегда удивляло, как люди меняют формулировки идей.
— Да, именно это я и хотел сказать.
— С тех пор я не переставал думать об этом, — сказал Александр тихо. — Всякий раз, когда я абстрагируюсь от себя, мой ум проясняется. Я становлюсь вами.
— Неужели это настолько завидная участь? — спросил Себастьян с ироничной усмешкой.
— Отец!
— Простите меня.
— Я сам ее выбрал.
Себастьян посмотрел на сына: Александру теперь было двадцать пять лет. Отцу с трудом удавалось принять этот факт. А также то, что молодой человек во многом перенял его привычки, его походку, манеру одеваться и говорить; к тому же часто носил его одежду, поскольку они были одного роста и сложения.
— Я хотел, чтобы вы знали.
Себастьян кивнул.
— Сама очевидность уже указала мне на это.
Себастьян вновь вспомнил о предсказании индейца, сказавшего, что у него будет две жизни.
Александр рассмеялся; его веселость была одним из главных отличий: у Себастьяна никогда не было этого задорного и беззаботного смеха.
— Моя мать приезжала повидаться со мной, — сказал молодой человек. — Войдя в эту комнату и увидев меня, она усомнилась на миг. Лишь на миг, но все ж таки усомнилась!
— Как она?
— Овдовела. Богата. Живет на Кипре.
Александр поколебался немного, потом продолжил:
— Она еще сказала, что только кажется, будто мы кого-то выбираем. За нас всегда выбирает случай.
— У греков всегда было пристрастие к трагическому, — сказал Себастьян.
Но подумал, не было ли другой причины, по которой он избежал женитьбы.
— Полагаете, у меня оно тоже есть? — спросил Александр шутливо.
— Вы не узнаете этого, пока сами не окажетесь в ситуации, от которой будет зависеть ваша жизнь. Либо вы покоритесь судьбе — и она будет трагичной, либо же сможете ее превозмочь — и она будет героической. Как наши дела в банке? — спросил Себастьян, чтобы сменить тему разговора.
— Процветают. Должен поставить вас в известность: я рискнул предоставить заем в десять тысяч фунтов Объединенной Английской торговой компании. Под пятнадцать процентов.
— Вы не могли поступить иначе, ведь банк Бриджмена и Хендрикса — английский.
Ответ удовлетворил Александра. Он вопросительно поглядел на отца:
— Вы по-прежнему хотите отыграться?
Этот малый был решительно очень памятлив.
— Соломон сказал мне, — продолжил молодой человек, — что ваше отрочество было трагичным.
Опять это слово.
— Он вам сообщил еще что-нибудь?
— Нет. Но подтвердил, что вам надо отыграться.
— Я думаю об этом, Александр, думаю.
Себастьян вздохнул и убрал медальон в ящик. Снега в феврале 1757 года выпало много, но дни становились длиннее.
Он вспомнил первую речь, которую произнес перед братьями в Мюнстере, после своего приема в Великую ложу. Гроб. Красный покров на лице — саван с нарисованными кровавыми слезами. Острия восьми шпаг, коснувшихся его груди. Снятие покрова. Возрождение и приглашение встать. Рукопожатие, заставившее вздрогнуть великого магистра. Объятие. Речь магистра.
В качестве исключения, о котором просил великий магистр и с чем согласилось большинство, его возвели в ранг полноправного каменщика всего через три дня после того, как он был принят учеником.
А позже, в соседнем зале, новые братья одобрительно выслушали его речь о союзе возвышенных умов, цель которого — не допустить, чтобы в делах человеческих возобладала звериная жестокость.
Во время своей речи Себастьян думал, что, как это ни парадоксально, жестокость, лишившая его собственной личности и вынудившая восстать, выковала ему другой характер, гораздо более крепкий, чем был бы у Исмаэля Мейанотте. Правильно ли он усвоил масонскую науку? Или же она влечет за собой новые идеи?
— Если необходимо, надо навязывать мир силой, — утверждал он. — Но только в том случае, если дух убеждения и дипломатии потерпит неудачу. Ибо мир и нравственный закон идут рука об руку.
Себастьян посмотрел на лоскут ярко-алой шелковой ткани, лежащий на кресле, — квадрат величиной с половину шали. Ничего подобного никто и никогда не видел. Этот красный цвет буквально сверкал. Словно был вырван у самого солнца. А голубой шелк, сушившийся на веревке? Будто извлечен из самого сердца лазури! Вот еще один эффект иоахимштальской земли, который он открыл.
Атанор.
Несколько дней назад к нему в усадьбу явился какой-то незнакомец. Пешком. В поношенной одежде. Лет сорока, бледный, с глубоко посаженными глазами. Похож на аптекаря или писца нотариуса. Себастьян принял его на крыльце.
— Вы граф де Сен-Жермен?
— Я.
— Мое имя вам ничего не скажет.
— Тогда вам незачем и говорить.
Незнакомец бесстрастно посмотрел на графа.
— Ладно, я Михель Геллер. Слышал, вы интересуетесь философским камнем.
Взгляд Себастьяна стал колючим.
— Кто вам сказал?
— Слышал во Франкфурте.
Геллер, если его и вправду так звали, достал из кармана какую-то коробочку и открыл ее. На дне лежали зеленоватые камешки разных оттенков, от изумрудного до лимонно-желтого.
— Тогда вы узнаете это, — сказал он.
Себастьян заметил его обожженные пальцы: значит, он не ошибся — помощник аптекаря. Он кивнул и улыбнулся.
— Если бы это было философским камнем, сударь, вы бы не пришли пешком.
Тот не дал себя смутить.
— Я не богатство продаю, сударь, а знание, до которого вы большой охотник.
Ловкий довод, но неубедительный. Какой же человек противится богатству?
— Сколько вы хотите за ваше знание?
— Всего десять тысяч серебром.
Себастьян пожал плечами. У него мелькнула одна мысль, но ее надо было проверить. Он захотел узнать, не надул ли великого Гельвеция подобный торговец.[63]
— Моя жажда знания не безмерна, сударь. Так что я даю вам пятьсот за самый крупный из ваших камней.
Геллер, вероятно, был в отчаянном положении: он согласился.
Когда аптекарь ушел, Себастьян обмазал камень воском. На следующий день он разогрел атанор и расплавил десять граммов свинца. Когда металл стал жидким, он опустил в него кристалл. Расплавленный свинец пошел пузырями и окрасился в удивительные радужные цвета, потом стал интенсивно зеленым. Себастьян осторожно вылил его на старую бронзовую медаль и дал остыть.
Вернувшись через несколько часов, он застыл от восхищения: медаль, покрытая таинственным сплавом, казалась золотой.
Он положил ее на подоконник, чтобы подвергнуть воздействию сырости. Через два дня медаль потускнела.
Медь.
Себастьян расхохотался.
Стало быть, нечего надеяться на долгие нагревания и выпаривания в атаноре. Красная ртуть, дитя Азота и Меркурия, которую он некогда нашел в книге с тайником, не превращала свинец в золото.
Он не знал ее силы. Быть может, когда-нибудь откроет ее.
Себастьян вздохнул и снова ощупал ткани.
Он вымачивал их в смеси воды и уксуса с добавлением очень мелко истолченной в ступке иоахимштальской земли. Самое замечательное было в том, что одного и того же раствора хватало на два-три замачивания, причем тканей разных цветов, — результат был тот же! Высохнув, они приобретали необъяснимую яркость.
Себастьян написал новому военному министру Франции (им стал не кто иной, как сам маршал де Бель-Иль), чтобы поделиться с ним своим необычайным изобретением, которое желал ему представить. Маршал ответил, что это прекрасный повод для визита в Версаль. Он переговорит об этом с маркизом де Мариньи, но будет разумнее, если Себастьян сам напишет ему: этот человек возглавляет свиту короля и является братом маркизы де Помпадур, его фаворитки. Ответ пришел накануне:
«Господину графу де Сен-Жермену…»
Наконец-то его приглашали в Версаль.
Позвав Джулио и другого слугу, которого недавно нанял, молодого немца по имени Иоганн-Фелициус, Себастьян распорядился, чтобы приготовили чемоданы. Он сам упаковал шкатулку с иоахимштальской землей.
Это было его секретное оружие.
42. СТРАНА СВЯТЫХ И СВОЛОЧЕЙ
Расположившись за роскошно инкрустированным письменным столом в своем просторном кабинете цвета морской волны с белой лепниной и пухлыми амурами на дверных наличниках, маркиз де Мариньи изучал два лоскута ткани, которые ему представил посетитель.
— Изумительно, — пробормотал он.
Затем взгляд его серых глазок переместился на самого Себастьяна и, хоть и прикрытый веками, задержался на его алмазных пуговицах. Себастьян заметил это и позабавился: можно не сомневаться, что от маркиза не ускользнул также большой звездчатый сапфир, подарок Тарик-хана Хаттака, и изумруд, увенчавший рукоять его шпаги.
— Вы не в родстве с Клодом-Луи, нашим храбрым офицером?
— Нет, сожалею.
Ответ был достаточно кратким, чтобы отбить охоту спрашивать об этом еще раз. Человек по имени Абель-Франсуа Пуассон, свежеиспеченный маркиз де Вандьер, де Менар и де Мариньи (помимо прочих титулов), вполне умел распознавать высоту чужого происхождения: в этом Сен-Жермене не было ничего от мужлана, а если он и пользовался оригинальным псевдонимом, как это делают немало высокопоставленных особ, не желающих быть узнанными во время путешествия, то наверняка потому, что носит гораздо более громкое имя. Впрочем, его рекомендовал сам маршал де Бель-Иль. Тем не менее чуть певучий выговор Сен-Жермена оставлял широкое поле для догадок: этот акцент мог быть и испанским, и североитальянским, но с равным успехом русским или венгерским.
— Так вы обладаете секретом этой яркости? — спросил маркиз, прищурившись.
— Я единственный обладатель, поскольку сам изобрел этот способ. Мне подумалось, что он мог бы заинтересовать его величество и промышленность Франции.
— Несомненно. Тем не менее было бы желательно удостовериться, насколько ваш метод эффективен и для других тканей.
— Горю нетерпением продемонстрировать это. Но мне понадобится мастерская и ученики.
— Могу я спросить, где вы остановились, граф?
— В Париже, у маршала де Бель-Иля.
— Дайте мне несколько дней, чтобы определить наилучшее место, которое я мог бы вам предложить в качестве лаборатории. Вы позволите оставить эти два образчика? Я покажу их его величеству, как только представится случай.
— Разумеется.
Маркиз, казалось, задумался на несколько мгновений, потом пригласил своего посетителя к сегодняшнему ужину в Версальском дворце и попросил его явиться к половине восьмого на второй этаж, уточнив, что это будет «малый» ужин.
Себастьян подумал, что ему придется ждать тут целый день и он рискует потерять свежесть к своему первому визиту во дворец. Так что он опять сел в карету, предоставленную маршалом, и вернулся в Париж.
Один из этих нескольких часов он употребил на то, чтобы нанести непредусмотренный визит некоей баронессе Вестерхоф, которую Засыпкин указал ему как парижскую связную, добавив:
— Общайтесь с ней только устно. Ничего не пишите. Даже о ваших любовных делах.
И, отвечая на удивленный взгляд Себастьяна, пояснил:
— У нас есть некоторые основания думать, что французская полиция перехватывает почту.
Баронесса Вестерхоф занимала небольшой особнячок на улице Малых Конюшен, скорее даже его часть. Когда Себастьян дернул за шнурок звонка, ему открыла, причем не сразу, какая-то женщина в домашнем халате на лисьем меху, лет сорока, почти такая же высокая, как и он сам. Лицо квадратное, энергичное, глаза льдисто-голубые, мраморно-белая кожа, волосы с отливом холодного металла. Никаких румян, никаких украшений. Он был поражен: настоящая Юнона.
— Я бы хотел видеть баронессу Вестерхоф.
— Это я, — ответила женщина низким голосом, в котором он уловил странный акцент. — А вы, должно быть, граф де Сен-Жермен, — добавила баронесса, разглядывая посетителя.
— В самом деле, это я.
— Потрудитесь войти. Моя горничная заболела.
Значит, вот она какая. Себастьян был застигнут врасплох. Баронесса поднялась впереди него по лестнице и ввела в несколько поблекшую гостиную с горящим камином. Он не сомневался, что она сама разожгла огонь.
— Присаживайтесь, — сказала баронесса. — Хотите кофе? Мне сказали, что вы говорите по-русски. Так будет удобнее.
Все еще не отойдя от удивления, Себастьян пробормотал по-русски «спасибо» и уселся в кресло напротив того места, где она наверняка читала, когда он позвонил: на одноногом столике лежала открытая книга. «Цинна» Пьера Корнеля. Подходящее чтение для этой ледяной красоты. По-видимому, баронесса Вестерхоф не была расиновской героиней.
После обмена любезностями и упоминания Засыпкина, чтобы уточнить роли, баронесса объявила:
— Вы ступили на минное поле. Короля Людовика после недавнего покушения гложет черная меланхолия. За вождя теперь его фаворитка, госпожа де Помпадур.
— Короля пытались убить? Кто?
В Хёхсте у Себастьяна было мало шансов узнать об этом.
— Наверняка какой-то сумасшедший. Правда, неизвестно, кто ему заплатил. «Любимый» король любим теперь только госпожой Помпадур. Короче, российская императрица гневается. Вы наслышаны об Уайтхоллском договоре?
Себастьян покачал головой. В будущем ему надо бы ограничить свое пребывание в Хёхстском скиту.
— Англия и Пруссия заключили договор, — объяснила баронесса. — Главная его цель — помешать русским войскам прийти на подмогу западным союзникам.
Себастьян вспомнил тревогу Бель-Иля семь лет назад в Экс-ла-Шапеле: «Русские войска на Мезе? Да это же новое варварское нашествие!»
— Этот договор изолирует Россию. Императрица считает, что ее предали, — продолжила баронесса. — Она хочет теперь союза с Францией. Пруссию надо удержать в ее границах, чтобы устранить угрозу империи.
Сжатость ее речи поразила Себастьяна: эта женщина изъяснялась как генерал.
— Чего ожидают от меня? — спросил он.
— Маршал де Бель-Иль пригласил вас в Париж. Он представит вас ко двору. Насколько нам известно, вы впервые окажетесь в самой цитадели власти. Мы ожидаем, что вы проявите ваш талант убеждения. Вы должны склонить короля, а заодно и Помпадур принять Россию в австрийско-французский союз.
— Еще одна перестановка сил. Это будет нелегко. Бель-Иль и многие другие до сих с ужасом вспоминают русские войска на Мезе.
— Это было давно, — возразила баронесса. — Повторяю вам, теперь надо сдержать Пруссию. У вас будет серьезный противник — кардинал де Берни, министр иностранных дел и сторонник союза с Фридрихом.
Откуда эта женщина столько знает о придворных делах?
— Но кто же тогда управляет страной? Помпадур или Берни?
— У Помпадур есть влияние, но оно меньше, чем думают, и она обязана им не только своей связи с королем, но и почти в той же степени кардиналу Берни. Их мнения насчет Пруссии, например, не совпадают. Маркиза ненавидит Пруссию, а Берни нет. Так что решать придется Людовику. А он человек скрытный и принимает свои решения в одиночку.
Все было довольно запутанно.
— Вы бываете при дворе? — спросил он, поразмыслив.
— Нет. Но я неплохо осведомлена через одну подругу, которая там бывает.
— Может, мне будет полезно знать, кто она? — предположил Себастьян.
— Это принцесса Анхальт-Цербстская.
Бесценный осведомитель: Себастьян знал, что принцесса доводится тещей великому князю Петру, наследнику российского трона, и считается своим человеком при всех европейских дворах. Баронесса опять налила кофе.
— Если пробудете во Франции достаточно долго, получите другое задание.
Он вопросительно посмотрел на нее.
— Сблизить Францию и Англию.
Он удивленно поднял брови.
— Но я полагал, что императрица злится на Англию?
— Императрица не позволяет себе идти на поводу у собственных чувств. Она знает, что война против англичан слишком тяжела для Франции и та заинтересована положить ей конец. Тогда французы вполне смогли бы выступить вместе с Россией против Пруссии.
Уразумев макиавеллиевскую замысловатость этих расчетов, Себастьян возразил:
— Соперничество обеих стран в Индии и Северной Америке не облегчит задачу.
— Об этом мы поговорим в другой раз, — сказала баронесса, вставая.
Она его выпроваживала. Протянула руку. Потерев ладонь о подлокотник кресла, Себастьян наклонился, чтобы поцеловать протянутые ему пальцы, и удержал их в руке. Любезность граничила с дерзостью. Баронесса не высвободила руку. Они стояли лицом к лицу.
— Не находите ли вы, что время в Париже тянется слишком медленно? — улыбнулся он.
Это было предисловием к приглашению отужинать вместе и, разумеется, к прочим удовольствиям. Она поняла. Без резкости высвободила руку и отвела взгляд.
— Рано или поздно вы узнаете об этом, граф. Я тут в ссылке.
— В ссылке?
— Я убила своего мужа.
Повисло молчание.
Внутренне Себастьян отшатнулся: она сказала это, словно предостерегая.
— Покойный барон Вестерхоф спустил мое состояние в карты, — продолжила она. — И на уличных девок. Хотел даже продать руку моей дочери какому-то гнусному мужику, чтобы заплатить неотложный долг. Я убила его из пистолета. Прямо в сердце.
Баронесса бросила на Себастьяна ледяной взгляд. Он почти услышал этот выстрел. Почти воочию увидел, как баронесса наводит пистолет на негодяя, пусть даже собственного супруга. Нет, она не была трагической героиней, поскольку восстала против своей судьбы. Как и он сам.
— Скандал наделал при дворе немало шума, но все меня поняли. Императрица отказалась от суда. Официально барон Вестерхоф случайно застрелился, когда чистил свое оружие. Императрица и канцлер сочли, что за границей от меня будет больше проку. Принцессу об этом расспрашивать незачем.
По-прежнему под впечатлением от ее признания, Себастьян смотрел на баронессу, не говоря ни слова. Это была не Даная: если бы он соблазнил ее и бросил, эта женщина разыскала бы его даже на Луне.
— Вы знаете Россию, граф? Как и во всех северных странах, холод там ожесточает порок, выковывает стойкость и закаляет душу. Это страна святых и сволочей.
Ничуть не будучи сволочью, в отличие от своего покойного мужа, она, видимо, относила себя к святым.
— Значит, вы туда никогда не вернетесь?
Она вздохнула.
— Подождем. Близятся великие события.
За этим должно было последовать объяснение, но оно оказалось кратким:
— Боюсь, как бы здоровье императрицы и власть канцлера Бестужева-Рюмина не пошатнулись одновременно.
Мрачный прогноз. Баронесса больше не собиралась об этом говорить. Во всяком случае не сейчас: она уже взялась за ручку двери.
— В следующий раз поделитесь со мной, пожалуйста, вашими впечатлениями о дворе, — заключила она, провожая гостя.
Себастьян был на лестнице, когда она перегнулась через перила и добавила:
— Последнее слово, граф. Вы вызовете любопытство. Оно не всегда будет дружеским. Не пишите. Никому не посылайте писем, кроме вашей семьи. И даже в этом случае ограничивайтесь самыми невинными словами. Не доверяйте бумаге ни ваши сердечные дела, ни политические соображения.
Он кивнул. Это напомнило ему методы инквизиции в Лиме.
Джулио открыл дверцу кареты.
Себастьян задумчиво слушал перестук окованных колес по камням мостовой: словно крутились гигантские шестерни, приводя в действие какую-то неведомую машину.
43. ИНДИЙСКИЕ РОЗЫ И ПАРА ПУСТЯКОВ
Возвращаясь обратно в Версаль, Себастьян заново пережил каждое мгновение своей встречи с баронессой Вестерхоф.
Впервые в жизни слова «необычайная женщина» крепко засели в его мозгу. Он спросил себя, уж не влюблен ли в нее, но не смог ответить, поскольку раньше с ним этого никогда не случалось. Себастьян решил дать этому чувству отстояться.
Потом перебрал в памяти все, что случилось с ним за те три дня, что он находился в Париже. Как он и предвидел, маршал принял его у себя радушно, если не сказать больше, и предложил покои в своем особняке, а за ужином вкратце обрисовал ситуацию при дворе, который ему предстояло увидеть:
— Времена сейчас смутные. Меньше трех месяцев назад, пятого января, в шесть часов вечера король собирался сесть в карету, чтобы поехать в Трианон повидаться со своей дочерью, госпожой Викторией, которую лихорадило. Во дворе на него напал какой-то сумасшедший по имени Дамьен и нанес ему удар кинжалом. Короля отнесли в его опочивальню. Меня самого там не было, но аббат де Верни описал мне царившую там суматоху и потрясение. Кстати, позвольте вам сказать, что первого января мы с аббатом были назначены в Государственный совет.
Это было то самое происшествие, о котором упоминала баронесса Вестерхоф, но рассказанное гораздо более подробно. Напряженное лицо маршала вполне отражало тревогу, обуявшую и двор, и Париж в те часы. Маршал допил портвейн, вновь наполнил бокалы, потом продолжил свой рассказ:
— Король решил, что обречен. Он заявил королеве: «Мадам, меня убили!» Трижды за вечер исповедался, два раза отцу Сольдини и один отцу Демаре…
— Но ведь он выжил, — удивился Себастьян.
— Не спешите, друг мой. Королевский врач Ла Мартиньер, примчавшийся из Трианона, где ухаживал за госпожой Викторией, заявил, что рана не опасна и что король оправится от нее через два-три дня. Но все опасались, что нож убийцы был отравлен.
Себастьян удивился недостатку стойкости у короля, главы всех войск своей страны, которого совсем не смертельная рана повергла в такое смятение, но все же придержал язык.
— Вы проницательны, граф, я сам тому свидетель. Попытайтесь представить себе картину. В течение пяти дней король не вставал с постели, хотя был не так уж болен, если не совсем здоров. Он даже ходил с помощью трости. За это время во дворце развернулась беспощадная междоусобная война. Между королевской семьей и госпожой де Помпадур. Королева, дофин, дофина и их приверженцы решили вынудить госпожу де Помпадур покинуть дворец. К ней отрядили сперва Машо, который попытался убедить ее, что таково пожелание короля, потом Аржансона, с тем же намерением…
— Она устояла, — прервал его Себастьян.
— Да, в этом пекле интриг и низостей, в которое превратился двор, у нее было только два союзника — аббат де Берни и герцог де Крои.
— Почему такая немилость?
— Это еще слабо сказано. Королева, дети короля и многие придворные считают, что маркиза не имеет никакого права на ту власть, которую приобрела благодаря плотским слабостям короля. Мы ведь в христианском обществе, друг мой, и официальные обязанности фаворитки, «приближенной дамы», согласно принятому определению, рассматриваются как уступка адюльтеру. И поверьте мне, святоши не поколеблются воспользоваться королевским чувством вины.
Себастьяну опять вспомнилась инквизиция.
«Женщина, ненавидимая столькими людьми, — не слишком надежная точка опоры», — подумал он, а вслух спросил:
— Как же все это закончилось?
— Через неделю после удара ножом, — ответил Бель-Иль, откидываясь на спинку кресла с насмешливой улыбкой, — Людовик вдруг выздоровел. Однажды утром дофин, дофина и некоторые дамы двора были в его опочивальне, вне всякого сомнения — с самыми похоронными физиономиями, когда король вдруг встал и приказал всем выйти, кроме госпожи де Бранкас. Он попросил ее одолжить ему накидку и ушел, запретив даже дофину следовать за ним. Вернулся около четырех часов пополудни в чудесном настроении и вернул накидку. Потом приказал, чтобы устроили ужин.
Маршал расхохотался.
— Он ходил повидаться с госпожой де Помпадур? — предположил Себастьян.
— Угадали!
— Значит, ее власть восстановлена?
— Пока да.
Вдруг Бель-Иль нахмурился.
— Однако не верьте, что все теперь в розовом цвете. Тут-то вам и предстоит вмешаться.
Маршал встал и начал расхаживать по гостиной, наполненной военными трофеями — копьями, мушкетами, знаменами и картами.
— После покушения Дамьена, — заявил он озабоченно, — король помрачнел. Думаю, он увидел в этом предупреждение неба. У него часто отсутствующий вид. Когда показывается при дворе, выглядит обеспокоенным, если не испуганным, словно окружен врагами.
А положение в стране ужасно. Париж гудит от дерзких требований. Парламенты проявляют упрямый фрондерский дух. Что касается дел внешних, то мы готовимся затеять с Фридрихом Прусским дорогостоящую войну. Король обещал Марии-Терезии послать десять тысяч солдат и двадцать четыре тысячи вспомогательных войск плюс те сто пять тысяч, которые он обещал по первому Версальскому договору. И должен выплатить ей двенадцать миллионов флоринов!
Себастьян задумался, каким образом совместить эти сведения с миссией, доверенной ему Россией через баронессу Вестерхоф.
— Мир обходится вам дороговато, — заметил он, вспоминая былые речи Бель-Иля в Вене, когда тот горел желанием заключить союз с Австрией.
Себастьян в который раз с горечью убедился в непоследовательности национальных политик. Людовик был обескуражен. Ему пришлось дорогой ценой объединиться с Марией-Терезией, чтобы противостоять орлу, готовому ринуться на Европу. Без сомнения, маршал догадался о мыслях Сен-Жермена.
— Если бы мы заключили мир восемь лет назад, у нас не было бы сейчас этой хворобы! Друг мой, я хочу сказать вам вот что: сегодня вы будете ужинать с госпожой де Помпадур. Не забудьте, что именно она, при нездоровом безразличии короля, руководит сейчас политикой Франции. Я вас заклинаю: защитите политику союзов. Только она спасет нас от катастрофы.
— Я вас понимаю, — сказал Себастьян.
Он нащупал наконец свою тактику. Он выступит в защиту мира с философской точки зрения.
— Будет ли король сегодня вечером? — спросил Себастьян.
— Не знаю. Его настроение изменчивей, чем погода. Но в любом случае это будет малый ужин, то есть приглашенные будут сидеть за столом. Малым ужинам часто предшествует какой-нибудь спектакль, но не знаю, будет ли он сегодня.
На «больших» ужинах, как узнал Себастьян, весь двор держался стоя, пока монарх вкушал.
Но ему и прежде был известен этот обычай: вице-король Испании в Лиме поступал точно так же.
— Господин граф де Сен-Жермен, — объявил церемониймейстер в дверях Часового салона.
Маркиз де Мариньи приблизился к своему гостю со сладкой улыбкой и приветствовал его. Человек пять-шесть уже присутствовавших обернулись, чтобы рассмотреть новоприбывшего, и маркиз стал называть Себастьяну их имена и титулы. Принцесса Анхальт-Цербстская. Барон фон Глейхен. Маркиза д'Юрфе. Герцог де Крои. Аббат Бридар де ла Гард. Госпожа де Лютсельбур. Герцогиня де Лораге. К облегчению Себастьяна, прибыл его главный союзник, маршал де Бель-Иль, и поспешил к нему с сердечностью, замеченной всеми. В половине восьмого среди гостей произошло некое согласованное движение: они раздвинулись, образуя коридор в честь прибытия еще одной особы.
Появилась молодая женщина в просторной накидке серого шелка, удерживаемой на шее бантом из розовой парчи. Все признаки красоты: безупречный овал лица, блестящие глаза, ротик вишенкой, нижняя губка одновременно волевая и капризная, очаровательный прямой носик… Но при этом отнюдь не красавица. Совсем не та, что блистает. Далеко не уверенная в себе, беззаботная, сияющая. И зачем, великие небеса, она накладывает столько румян на свои щеки? Не для того ли, чтобы скрыть тайную муку, которая ее гложет?
Таково было первое впечатление Себастьяна, всего на какую-то долю секунды: эта женщина упустила свою свадьбу и сопутствующие ей ухаживания.
Он не знал, кто она. Может, королева? Гордая осанка и исходившая от нее властность позволили Себастьяну допустить это в другую долю секунды. Она обратила свой взгляд на незнакомца, и Мариньи поторопился представить его, едва слышно пробормотав имя этой женщины, маркизы де Помпадур. Своей собственной сестры. Той, что исполняла службу министра, как предупредила Себастьяна баронесса Вестерхоф.
Склонившись, чтобы поцеловать руку, которую маркиза высунула из-под своей накидки и надменно протянула ему, Себастьян почти ощутил, как вокруг витает интрига, сплетаясь в паутину влияний и власти, в самом центре которой он оказался.
И в которой только что увяз.
— Добро пожаловать, господин граф, — сказала маркиза с некоторой долей искренности.
Себастьян заметил, что ее взгляд тоже задержался на его алмазных пуговицах.
Она повернулась к принцессе Анхальт-Цербстской, и Мариньи представил Себастьяна даме, вошедшей в салон перед маркизой, госпоже дю Оссе, камеристке маркизы.
— Мы ожидаем короля, который соблаговолил присоединиться к нам сегодня вечером, — объявила маркиза.
Послышался восторженный шепот. Вскоре в салон и в самом деле вошел Людовик XV. Себастьян был неприятно удивлен: взгляд монарха выдавал неописуемую усталость и уныние. Даже забывалось, что это довольно красивый мужчина. Какая же забота изводила его? Он был бледен. В самом ли деле это последствия удара ножом?
Маркиз де Мариньи возобновил свои представления, но в этот раз только ради Себастьяна. Тот сообразил, что является единственным незнакомцем на вечере.
— Значит, это и есть ваш знаменитый друг, о котором вы мне говорили? — обратился король к Бель-Илю, стоявшему рядом с Себастьяном.
— Да, ваше величество. Счастлив честью, которую вы ему оказали, пригласив отужинать с вами.
Король решил, что пора перейти к столу, и приглашенные последовали за ним в соседний зал. Каждый был усажен так, чтобы слышать голос монарха. Себастьян оказался между принцессой Анхальт-Цербстской и маркизой д'Юрфе.
— Маршал сообщил мне, — сказал король, обращаясь к Себастьяну, — что видел вас в последний раз в Экс-ла-Шапеле. Выходит, вы интересуетесь делами нашего времени?
— Да, ваше величество. Мне кажется, надо быть весьма легкомысленным, чтобы не следить за ними.
Маркиза де Помпадур обратила свой взгляд на Себастьяна. Это и в самом деле была честь: сам король поинтересовался его мнением о делах этого мира.
— И что вы думаете о том договоре?
— Уважение, которое я питаю к вам, ваше величество, обязывает меня быть откровенным. Я нахожу его достойным всяческих сожалений.
— И почему же, по-вашему?
— Мне показалось, что единственный, кто от него выиграл, это король Пруссии.
— Верно подмечено, — отозвалась маркиза.
— И девять лет спустя Пруссия по-прежнему в выигрыше, — сказал король мрачно. — Что вы об этом думаете, граф?
— Ваше величество, я думаю, что, только окружив короля Фридриха со всех сторон, можно вынудить его к миру.
— Окружив?
— Он уже сдержан на западе и юге, ваше величество. Остаются только восток и север, чтобы замкнуть кольцо.
— Россия и Англия? — воскликнул Людовик. — Но это же наши враги!
— Да простит меня ваше величество, но я не буду удивлен, если страх вскоре толкнет Россию присоединиться к вам. Быть может, она уже постучалась бы в вашу дверь, если бы не опасалась обидного отказа.
Король выглядел удивленным.
— Вы так думаете?
— Да, государь, — ответил Себастьян со спокойной улыбкой. — Но это всего лишь предчувствие.
Остальные прервали свои разговоры, чтобы послушать диалог между монархом и Сен-Жерменом. Бель-Иль, сидевший напротив Себастьяна, сообщнически ему подмигнул.
— Если бы только это подтвердилось, — вздохнула маркиза.
Принцесса Анхальт-Цербстская повернулась, чтобы посмотреть на своего соседа. Баронесса Вестерхоф наверняка предупредила ее о графе де Сен-Жермене.
— Посмотрим, — сказал король.
Разговоры потекли вновь, избрав совсем другой предмет, похоже заинтересовавший короля, — необходимость обновить розарии в оранжереях Трианона. Маркиз де Мариньи напомнил о возможности привезти растения из Болгарии.
— Быть может, вы могли бы также обратиться к крупным купцам, плавающим в Индию, чтобы они привезли растения и оттуда, — предложил Себастьян. — Некоторые тамошние разновидности на удивление благоуханны и прекрасны видом.
— Где же вам довелось видеть их или обонять? — спросила маркиза.
— В самой Индии, мадам.
— Вы были в Индии? — спросил король.
— Да, ваше величество. Я провел там чуть более двух лет.
За этими словами последовало новое порхание удивленных взглядов и восклицаний.
— Ах, вы были правы, Бель-Иль, наш друг граф де Сен-Жермен вполне заслуживает того, чтобы с ним познакомиться, — сказал король. — Что же вы делали в Индии?
— Я много слышал о древней мудрости индусов. И отправился туда, чтобы узнать о ней побольше. А заодно выведал некоторые из их секретов.
— Какие же? — спросила оживившаяся наконец маркиза, явно обрадованная чему-то новенькому в длинной череде вечеров, где кроме театральных представлений было мало увлекательного.
— Например, как очищать драгоценные камни, мадам.
— Ловлю вас на слове, — сказал король, вставая.
Гости вернулись в Часовой салон. Там им подали шоколад, кофе и ликеры. Себастьян стал объектом всеобщего внимания. Принцесса Анхальт-Цербстская уже не отходила от него и, казалось, была просто очарована, когда госпожа де Помпадур пригласила графа де Сен-Жермена на малый ужин в следующий четверг.
— Могу ли я тоже быть в числе приглашенных? — воскликнула она.
Позволение было ей тотчас даровано.
Гости постепенно расходились; выйдя в галерею, Себастьян остался один, дожидаясь маршала, с которым должен был вернуться в Париж. Он удивился его задержке и уже задумался, как ему вернуться в Париж, если Бель-Иль его подведет. Потом вдруг услышал довольно оживленный разговор из-за дверей Часового салона. Он подошел поближе, инстинктивно прислушался и узнал голос Мариньи:
— …Но где вы с ним познакомились?
— В Вене. Он там жил как принц и водил дружбу с самыми влиятельными людьми при дворе. И вы сами видели, он не с Луны свалился.
Это бы голос Бель-Иля.
— Мы ничего о нем не знаем, — возразил Мариньи. — Какого он происхождения? Откуда его богатство? Наконец, не забывайте, что он представился мне красильщиком! Вы себе представляете? Красильщик в Версале!
— Он представился вам по моей рекомендации, маркиз, и если вы еще встретите красильщиков, чьи политические мнения привлекли бы внимание короля, соблаговолите поставить меня в известность.
— Но в конце концов, Сен-Жермен — это же невозможное имя! И он даже не француз! Что мне ему сказать, этому Сен-Жермену?
— Что он снискал милость короля, вы сами это видели. Прошу извинить, но он меня ждет.
В следующее мгновение Бель-Иль вышел в галерею.
— Простите, дорогой друг, надо было наведаться в одно местечко.
В карете, несколько успокоившись, Бель-Иль пришел в превосходное расположение духа.
— Я же вам говорил, вы обязательно должны были приехать в Париж. Поздравляю себя с этим. Вы у короля в фаворе, поверьте мне. Это не пустяки.
Себастьян, разумеется, воздержался от упоминаний о перепалке, которую подслушал ненароком.
44. ЦВЕТ КРОВИ
В течение всего марта и начала апреля Себастьян раз-два в неделю бывал на малых версальских ужинах, где всякий раз присутствовал король. На втором мартовском ужине произошел примечательный эпизод. Пока приглашенные, как обычно, беседовали между собой в Часовом салоне, вошел король, быстро поздоровался с гостями и направился прямо к Себастьяну.
— Граф, ваше предсказание сбылось.
Глаза монарха удивленно и весело поблескивали. Себастьян был поражен.
— Сегодня утром герцога де Шуазеля посетил с визитом посланец императрицы Елизаветы. Россия хочет присоединиться к Версальскому договору. Как вы и предрекли.
— Я рад, сир, что мои предположения подтвердились, к вашему удовлетворению.
Тем не менее некая странность заинтриговала Себастьяна: разве министром был не кардинал де Берни? Разве не к нему должен был обратиться посланец?
Остальные приглашенные наблюдали за сценой на некотором расстоянии и, быть может, слышали диалог. Но никто, даже маркиза, не осмелился приблизиться.
— Это похоже на ясновидение, — заметил король несколько саркастично. — В чем ваш секрет?
— Быть может, никакого секрета нет, сир, кроме умения отстраняться от событий, словно они происходят на далекой планете. Это позволяет замечать то, что главные заинтересованные лица порой не видят.
— И что же предвещают ваши нынешние догадки?
Себастьян улыбнулся, хотя чувствовал на себе град взглядов.
— Сир, ваш вопрос льстит мне. Я пока вижу только одно: мир станет желанным раньше, чем исчерпаются живые силы противоборствующих стран.
— Вы по-прежнему верите в мир с Англией, о котором раньше говорили?
Себастьян театрально изобразил колебание.
— В Европе — да, я убежден. За морем… тут моя уверенность меньше. Англичане хотят Индию и Америку, где их соперничество с Францией очевидно. Для начала они завладеют испанскими колониями.
— Вы хорошо осведомлены.
— Просто я не принадлежу ни к одной из сторон, ваше величество, — ответил Себастьян, глядя королю в глаза.
Он почти не лгал. Наконец-то ему удалось ухватить кончик нити, о которой так долго мечтал, — той, что вела его непосредственно к самой власти.
— А вы не из тех англоманов, что помешаны на хорошем английском тоне?
Тут Себастьян искренне удивился.
— А разве существует хороший английский тон, сир?
Король расхохотался, и на этот раз разговоры прервались совершенно, чтобы лучше было слышно их беседу.
— Вы знаете Англию?
— Я провел там некоторое время, сир, — ответил Себастьян, догадываясь, что король не питал симпатии к англичанам. — Пища там убогая, а манеры довольно грубые. Я говорил об Англии лишь с политической точки зрения.
Казалось, короля это удовлетворило.
— Слушайте его! — заявил он собравшимся. — Надо будет его познакомить с господином Вольтером!
Потом, опять обратившись к Себастьяну:
— Как мы сможем заключить мир со страной, которая воюет с нами в Индии и Америке?
— Быть может, сир, если вы дадите знать о своих мирных намерениях, это уже будет шагом в нужную сторону. Англичане тогда окажутся в затруднении: ведь если они не захотят к вам прислушаться, то будут выглядеть упрямыми агрессорами.
Король не ответил. Казалось, он был в сильном сомнении, но потом его лицо разгладилось.
— Во всяком случае, мы уладим это не сегодня вечером.
Он повернулся к собравшимся, и те поспешили окружить своего монарха. Маркиза подошла к Себастьяну:
— Похоже, король сообщил вам какую-то новость?..
— Да, мадам, императрица России хочет присоединиться к союзу Франции и Австрии.
— Как вы и предвидели.
— В самом деле, мадам.
— Как вы узнали?
— Я этого не знал, мадам. Просто я давно стараюсь отвлекаться от самого себя, пытаясь понять, что думают другие.
Казалось, объяснение удивило ее:
— Как можно отвлечься от самого себя?
— Этому упражнению меня научили индусы, мадам. Оно состоит в том, чтобы изгнать из своего ума все желания и заботы. Ум тогда делается чище. Этого можно достигнуть, управляя дыханием.
Маркиза озадаченно посмотрела на него, потом спросила:
— А вы не полагаете, что благоразумнее заключить мир с Пруссией?
— Это означало бы пойти на большой риск, мадам, вызвав недовольство двух серьезных союзников — Австрии и России.
Ответ успокоил маркизу ничуть не больше, чем предыдущий, даже наоборот. Она отошла, не сказав ни слова, оставив встревоженного Себастьяна, и присоединилась к группе, где выделялся какой-то высокопоставленный церковник. «Должно быть, это и есть Берни», — подумал Себастьян, на которого обратились взгляды: все ожидали, что он подойдет к прелату, чтобы его представили. Это сделала маркиза. Себастьян наклонился, чтобы поцеловать руку, которую тот ему вяло протянул. А выпрямившись, поймал на себе напряженный взгляд принцессы Анхальт-Цербстской, который истолковал как немое предупреждение.
Ситуация в самом деле усложнялась: госпожа де Помпадур терпеть не могла Пруссию, но ее главный союзник пытался заключить с ней мир. Однако русский посланник обратился к герцогу Шуазелю, значит, между Берни и Шуазелем недавно возникло соперничество, и русский посланник был о нем осведомлен. Самого же короля, похоже, русская инициатива обрадовала. Что же возобладает во всем этом?
В галерее, ведущей в столовую, принцесса Анхальт-Цербстская оказалась рядом с графом и шепнула:
— Будьте осторожны. Вы ступили на зыбкую почву.
Она впервые раскрыла перед ним карты. Так что до конца ужина Себастьян ограничился самыми безобидными предметами, более всего распространяясь об искусстве выращивать жемчужины прекраснейшего блеска.
Он не мог рисковать своим выигрышем, идя ва-банк.
Закончив свой отчет, он поставил чашку на блюдце.
Баронесса Вестерхоф кивнула. Видимо, ее горничная поправилась: баронесса была теперь изящно облачена в голубое платье стального оттенка с бантами из серебряного атласа, что еще больше подчеркивало металл. Плечи баронессы укрывала подбитая горностаем накидка.
Итак, она кивнула:
— Берни уйдет. Вы правы. Для Франции было бы неосторожностью отказаться от двух столь ценных союзов, как с Австрией и Россией. Кроме того, это было бы всеобщей катастрофой, потому что тогда уже никто не уберегся бы от когтей Фридриха.
Она посмотрела на золотой треугольник, висящий на груди своего гостя, потом на звездчатый сапфир, украшавший его палец. Ее пристальный взгляд означал сначала, что она обратила на них внимание, но потом приобрел какое-то загадочное выражение, быть может сомнение.
— Сразу два символа?
— Два? — переспросил Себастьян, поскольку знал только об одном.
— Пламенеющая звезда в вашем перстне, — пояснила баронесса.
— Никогда не истолковывал ее таким образом. Это всего лишь тапробанский сапфир, и не я заключил в него звезду, — заметил он, стараясь, чтобы объяснение прозвучало шутливо.
Его старание результата не принесло. Баронесса оставалась озабоченной.
— Да что вас беспокоит? — спросил Себастьян наконец.
— Это только усложняет вашу задачу.
— Каким образом?
— Берни тоже масон. Даже великий магистр.
— Кардинал — масон? — воскликнул Себастьян.
— Мы во Франции, граф, а не в Испании, — ответила баронесса, пожав плечами. — Не сомневайтесь, Бель-Иль тоже один из Братьев. И я недалека от мысли, что внезапная любовь Берни к Пруссии внушена ему тем фактом, что Фридрих Второй — тоже масон и великий магистр.
Себастьян лишился дара речи. Ситуация в самом деле оказалась значительно более сложной, чем он себе представлял.
— И весь кружок друзей госпожи де Помпадур: Вольтер, Дидро, д'Аламбер. Каков ваш ранг в этом обществе?
— Простой каменщик.
— Вам не хватит веса, чтобы тягаться со столь могущественными особами — как по рангу, так и по известности. Вы даже рискуете впасть в немилость, если они шепнут о вас что-нибудь госпоже де Помпадур.
— Но вы же сами мне сказали, что маркиза ненавидит Пруссию?
— Пока портфелем министра иностранных дел владеет Берни, а не она. Принцесса Анхальт-Цербстская правильно поступила, посоветовав вам быть осторожнее.
Себастьян вздохнул с облегчением: он еще дешево отделался. Но потом вспомнил, что маркиза показалась ему весьма озабоченной, когда он наедине отсоветовал ей заигрывать с Пруссией.
— В любом случае, — заявила баронесса Вестерхоф, — решение за королем. Постарайтесь никогда, слышите, никогда не отталкивать его от себя. Вы поняли?
Себастьян кивнул.
Баронесса была его школьной учительницей.
Он достал из своего кармана рубин в виде кулона на цепочке, который купил в Индауре. Поднял его, чтобы он сверкнул на миг в двойном свете — дня и свечей, потом протянул его баронессе.
— Что это?
— Если позволите, мадам, это подарок.
Баронесса взяла драгоценность и рассмотрела, слегка улыбнувшись.
— Он великолепен. Но я не смогу… как бы это выразиться…
Она подыскивала слова.
— …Не смогу заслужить его, — заключила баронесса.
И она хотела вернуть камень Себастьяну.
— Подарки, мадам, это не вознаграждение.
Она опять улыбнулась, на этот раз с оттенком грусти.
— Вы выбрали камень цвета крови, граф. Я принимаю его, чтобы не обидеть вас. Но это вас он делает должником.
— Должен ли я добавить к нему другой, цвета надежды?
— Не будьте чересчур французом, — ответила она почти грубо.
Молчание длилось вплоть до того, как баронесса Вестерхоф проводила своего гостя к двери. Там она взяла его за руки и сказала вдруг потеплевшим голосом:
— Спасибо. Но не заблуждайтесь. Есть столько всего, чего вы не можете понять…
Он собирался ответить, но она покачала головой.
— Не говорите. Не говорите больше. Можно по-разному переносить вдовство. Убив своего мужа, я прежде всего прикончила свои мечты.
— Только одно слово, — настоял Себастьян. — Всего одно: вы не сможете прожить остаток жизни, заживо замуровав себя!
И он вышел на лестницу.
45. РЕВАНШ «КРАСИЛЬЩИКА»
Неужели Мариньи решил отдалить его от двора? Подчинялся ли он указаниям своей сестры? Как бы то ни было, в апреле он сообщил Себастьяну, что предоставляет в его распоряжение замок Шамбор — жилье, мастерские и группу учеников. Вручил также три штуки ткани, пять футов на три, шелк, бархат и ситец.
Предупреждение баронессы Вестерхоф о возможной немилости подтверждалось. Если бы речь шла только о том, чтобы предоставить мастерскую «красильщику», как его именовал Мариньи, то этого добра и в Париже хватало. Однако, когда Себастьян навел справки, выяснилось, что до Шамбора надо добираться два дня в карете, и он понял, что эта щедрость была замаскированным приказом об изгнании. Берни не располагал властью отправить самонадеянного иностранца в ссылку или в Бастилию, но, будучи министром, распорядился удалить его из Версаля.
Себастьян догадался, что королевская благосклонность к нему не пришлась по вкусу некоторым придворным, начиная с самого Мариньи. Случайно подслушанный разговор между маркизом и Бель-Илем это доказывал: глава королевской свиты отнюдь не испытывал восторга от этого возмутителя спокойствия. Потом Себастьян узнал от принцессы Анхальт-Цербстской, что Франсуа Кене, личный лекарь маркизы, охотно говорил о нем гадости; она сама слышала, как врач заявил королю, что Сен-Жермен — шарлатан.
— Но король его раздраженно одернул, — уточнила принцесса. — Так что Кене теперь будет помалкивать.
Тем не менее, подумал Себастьян, королевская милость не уберегла его от полуопалы. Ее причина была ясна: маркиза обмолвилась кардиналу о враждебности Сен-Жермена союзу с Пруссией, и Берни потерял терпение. А каким было чувство к нему самой госпожи де Помпадур? Пока, видимо, неопределенным.
— Вы получите лучшие из малых покоев замка, — уточнил Мариньи.
Наверняка он был удивлен, а потом и раздосадован, когда принцесса Анхальт-Цербстская, маркиза д'Юр-фе, госпожа де Жанлис[64] и барон фон Глейхен решили последовать за Себастьяном в Шамбор вместе со своими слугами. Мариньи, предупрежденному об этом исходе, пришлось отправить туда нарочного курьера, чтобы открыли и другие покои.
— Видели бы вы его физиономию, — сказала маркиза д'Юрфе, хихикая.
В самом деле, в Шамбор отправились целых три кареты.
Но по прибытии путешественникам пришлось битый час ходить вокруг замка: двери оказались закрыты.
— Заметно, что замок переделан в итальянский дворец, — отметил барон фон Глейхен.
По всей видимости, их в этот день не ждали. Наконец Себастьян заметил какого-то слугу, шедшего с ведром к фонтану, и потребовал немедленно известить управляющего. Отнюдь не скоро прибежал некий трясущийся старец в парике, оставшемся у него, без сомнения, еще с прошлого века. Перепугавшись при виде трех карет и всех этих вельможных особ, внезапно свалившихся ему на голову, он никак не мог приложить к чему-нибудь ту малость ума, которая у него еще оставалась.
Назвавшись Кло дю Кене, он только и мог, что лепетать извинения: дескать, он уходит в отставку и вскоре должен быть замещен неким господином Колле, который пока не прибыл.
— Но разве господин де Мариньи не предупредил вас о нашем приезде?
— Сударь, из Версаля точно приезжал гонец, но послание было адресовано господину де Сонри, коменданту замка.
— И где же находится господин де Сонри?
— Он в Туре, сударь, у своей больной дочери, и вернется только через несколько дней.
Господин Кло дю Кене еще что-то пробормотал и достал связку ключей, чтобы открыть малые покои, которые находились на третьем этаже, над террасами.
«Решительно, — подумал Себастьян, — управление королевскими владениями не на той высоте, на какую можно было бы надеяться».
Господин Кло дю Кене был безутешен. Малые покои выглядели совершенно нежилыми.
Вселение оказалось делом нелегким: срочно поднятые по тревоге слуги принялись суетливо выметать давным-давно необитаемые комнаты с низкими потолками и разгонять метлами обосновавшихся там мышей. Мебели оказалось мало, да и та трухлявая, с полопавшейся обивкой. Драпировки были драные, постельное белье попросту отсутствовало, и вдобавок слуги сообщили об отсутствии дров и свечей.
Все эти признаки укрепили компанию в ее подозрениях: удаление в Шамбор было призвано отбить у графа де Сен-Жермена всякую охоту высказывать какие-либо мнения о политике. Мариньи предоставил ему только малые покои, а не те, что обычно предназначались для высоких гостей. Тут же начали перемывать косточки истинному вдохновителю этих унижений — Берни, заштатному попику, совсем недавно возведенному в достоинство кардинала и министра.
Себастьян поручил Джулио и Иоганну-Фелициусу купить одеяла и простыни, а также свечей, вина, хлеба, прочей провизии, дров — бог знает чего еще! Господин Кло дю Кене осознал наконец, сколь мало происходящее сообразуется с приличиями.
— Я умоляю ваши милости, — возопил он, — подождать в другом месте, пока тут наводят чистоту. Предлагаю осмотреть замок, а тем временем и комнаты будут готовы.
Так что Себастьян и его свита отправились полюбоваться более приветливыми помещениями замка. Начали они, разумеется, с парадной лестницы, двухпролетного чуда почти небесной красоты.
— Да это же для подъема Моисея на Синайскую гору! — воскликнул Себастьян. И оглядевшись, сделал круговой жест, объемлющий сказочную роскошь убранства. — Вот в чем ошибка — в головокружительном вызове.
— О каком вызове вы говорите? — спросила принцесса.
— О вызове целому свету. Франциск выступает против монархов, почти столь же могущественных, как и он сам, — против Карла Пятого и Генриха Восьмого. И пытается выглядеть еще могущественнее, чем есть на самом деле. Этот замок — каменное подобие Златопарчового лагеря. А знаете почему? Потому что король не уверен в себе. Он нерешителен, робок. Результат всей этой пышности будет обратным тому, на который он рассчитывал. Прибыв в Булонь, Генрих Восьмой пугается. Он думает, что француз хочет затмить его. И принимает сторону императора.
— Но откуда вы все это знаете? — спросила пораженная принцесса Анхальт-Цербстская. — Можно подумать, что вы лично были с ним знакомы.
— Это было всего два века назад, — ответил Себастьян с улыбкой.
Тут прибыл господин Кло дю Кене и объявил, что их милости могут занять помещения.
— Коли так, соблаговолите послать слуг, чтобы они помогли нашим лакеям с багажом, — распорядился Себастьян.
Потом пошел удостовериться, что каждого гостя устроили с удобствами.
Сидя в затхлой и холодной, как погреб зимой, гостиной, принцесса Анхальт-Цербстская воскликнула, кашляя в облаке пыли, но смеясь:
— Боже, граф, можно подумать, что вы хозяин дома!
Пока лакеи занимались обустройством своих господ, Себастьян справился о гастрономической службе, однако таковой, собственно говоря, тут не было вовсе. Челядь, приставленная сторожить замок, пользовалась уголком кухни, расположенной четырьмя этажами ниже, чтобы сварить себе похлебку с капустой или репой, а по праздникам, если повезет, с какой-нибудь птицей. Но зима еще не окончилась: огород был пуст, птичник тоже.
Благодарение небу, Джулио, добросовестный слуга, также почуял бедствие и три часа спустя вернулся из Шоле с корзинами, набитыми треской, форелью, каплунами, хлебом, вином, лавровым листом и гвоздикой, салом, сливками, маслом, сыром и прочими необходимыми покупками.
— Ну что ж, — весело объявил Себастьян, — я принимаюсь за стряпню!
Его спутники, охваченные любопытством, последовали за ним и, приняв участие в игре, тоже повязали передники. Себастьян взял на себя обязанности шеф-повара, барон фон Глейхен объявил себя поваренком, а маркиза д'Юрфе горе-кухаркой. Принцесса Анхальт-Цербстская, веселившаяся, словно сбежавшая с уроков школьница, представилась принцессой де Крути-Вертел. Кухонная обслуга оторопело глазела на них. Наконец на огонь были поставлены три нафаршированных хлебом и салом каплуна, и граф де Сен-Жермен торжественно объявил составленное им меню: филе форели на гренках с белым соусом, фаршированный каплун в собственном соку с картофелем и салатом из бланшированной капусты. Себастьян долго ломал себе голову насчет десерта и в конце концов сумел предложить только слегка поперченные и подслащенные медом ломтики моркови, которые карамелизировал в печи.
Тем временем госпожа де Жанлис велела вставить свечи в подсвечники, почистить стулья, установить стол в наименее холодном зале малых покоев и набрать посуды для трапезы; впрочем, понадобилось сперва вымыть ее в воде с уксусом, поскольку вся она была пыльной и жирной. Поскольку хрусталь так и не нашли, то пили из своих дорожных стаканчиков.
Наконец все расселись за столом в веселом беспорядке.
— Никогда так не развлекалась в королевском замке, — заявила маркиза д'Юрфе.
— Это потому, что король — не граф де Сен-Жермен, — сострила принцесса Анхальт-Цербстская.
— Я был философом и вот стал трактирщиком, — сказал Себастьян.
— А я кручу вертел! — засмеялась принцесса.
Языки развязались.
— Думаю, что новость о нашем переселении вскоре достигнет Версаля и нас обязательно навестят.
— Кто же? — спросил барон фон Глейхен.
— Давайте поспорим, — предложила госпожа де Жанлис.
— Диана де Лораге, — сказала маркиза д'Юрфе.
— Нет, она ни за что на свете не расстанется с королем, — заметила госпожа де Жанлис. — Уж скорее сюда явится Берье:[65] он же ухо маркизы. А она должна забеспокоиться из-за нашего внезапного отъезда.
Барон фон Глейхен фыркнул. Себастьян слушал, все больше удивляясь этим отголоскам придворной жизни, похожей на осиный рой. Ему вспомнился совет, данный сперва Бель-Илем, потом баронессой Вестерхоф: любой ценой сохранять расположение короля. В этой адской неразберихе монарх был единственной незыблемой точкой и подлинным средоточием власти.
Вдруг Себастьян почувствовал, что ему стало не хватать баронессы. Вот было бы хорошо, если бы она появилась здесь благодаря какому-нибудь волшебству и ее свет — свет северной звезды — наполнил бы его комнату сегодня вечером.
Сотрапезники продолжали заключать пари и сошлись на том, что, возможно, и Анна де Роман[66] в конце концов приедет в Шамбор.
— Кто она? — осведомился Себастьян.
Госпожа де Жанлис объяснила ему, что эта дама — одна из любовниц короля. Себастьян не смог скрыть удивления. Она улыбнулась.
— А вы думали, он хранит верность маркизе?
— Разве не он сам возвел ее в ранг «приближенной дамы»?
— Король верен только самому себе, — ответила она. — Вы не слышали про Олений парк?
— Нет.
— Вы ведь были на Востоке, не так ли?
— Да.
— Разве тамошние князьки не содержат гаремы для своих любовных утех? Ну так у нас это называется Оленьим парком.
Себастьян побоялся показаться простаком и удовлетворился тем, что удивленно вскинул брови.
— И что бывает, когда рождается ребенок?
— Король либо признает его, либо нет, а барышню чаще всего выдают замуж за какого-нибудь придворного холостяка.
— А ее родители?
— Соглашаются. Они уверены, что для их дочери это гораздо более выгодная партия, нежели с ровней.
В итоге спорщики определили, что ставкой будет дюжина бутылок хорошего анжуйского вина, и на этом ударили по рукам.
Но вечером, лежа один в своей постели, Себастьян не смог отогнать от себя мысль об Оленьем парке. Сходство между девушками, ожидавшими прихоти короля, и Исмаэлем Мейанотте было неизбежным и нестерпимым.
Для всех этих королей юность была лишь лакомой плотью — «постельным мясом».
И вот теперь он перешел в другой лагерь. Но в самом ли деле перешел?
На следующий день Себастьян решил наглядно засвидетельствовать, что способен придать заурядным тканям необычайный блеск, отличавший образцы, показанные Мариньи. Встав рано поутру и приведя себя в порядок, он понес выданные ему три куска материи и шкатулку с иоахимштальской землей в предполагаемую мастерскую, которая на самом деле оказалась бывшим сараем для конской упряжи рядом с конюшнями. Имелся там только старый чан, служивший для замачивания кож. И ни одного из обещанных учеников. Но это было даже к лучшему, поскольку Себастьян вовсе не собирался приобщать их к секрету; он решил, что покажет им только второстепенные детали процесса.
Однако ему не хватало ступки, нескольких литров уксуса и палок для вытаскивания намокшей ткани из чана, чтобы не прикасаться к ней руками.
Первый ученик явился около девяти часов; на самом деле это был молодой конюх. Себастьян поручил ему тщательно промыть чан, проконопатить и залить водой наполовину, а потом раздобыть ступку и пестик. Когда прибыл второй ученик, выяснилось, что это подручный замкового пекаря; Себастьян велел принести ему пять литров уксуса и крепкие палки пяти футов длиной, а потом натянуть в сарае веревку.
Все это заняло безумно долгое время. Вскоре после полудня Себастьян отослал учеников и замочил наконец первую штуку ткани — ситцевой — в чане, добавив уксуса для протравы и большую порцию мелко истолченной иоахимштальской земли. Около часа он энергично помешивал все это, потом достал ткань из чана, остерегаясь к ней прикасаться, дал стечь жидкости и растянул на веревке.
Оставив все как есть, взял шкатулку с землей и закрыл сарай на ключ. Обоих учеников он нашел снаружи.
— Как же мы научимся нашему ремеслу, если господин не показывает нам, что он делает? — спросил один.
Себастьян заподозрил, что Мариньи поручил им шпионить за ним.
— Пока я всего лишь совершенствую метод и не хочу обучать вас собственным ошибкам, — ответил он. — Вот когда удостоверюсь в успехе, тогда и научу вас всему, что нужно.
Этот чертов Мариньи никогда не узнает его секрет!
Слава богу, принцесса Анхальт-Цербстская с помощью Джулио и при участии других гостей позаботилась о пропитании. Себастьян смог наконец посвятить некоторое время своему туалету в импровизированной ванной комнате: уселся в большую лохань, которую велел установить посреди пустого и холодного зала. Джулио полил его теплой водой, поскреб спину, потом вытер.
Ужин состоял из круглого пирога с птицей и трюфелями, слоеного паштета, изготовленного под наблюдением маркизы д'Юрфе, и картофельного салата. Барон фон Глейхен приготовил десерт: бисквитные лепешки с орехами и сливками.
— Мы скучали без вас, — сказала ему принцесса Анхальт-Цербстская. — Чем же вы занимались весь день?
— Пытался подтвердить свою репутацию красильщика перед господином де Мариньи, — ответил он.
Красильщика? Все воскликнули — кто от удивления, кто от возмущения. Ведь самому-то господину Абелю-Франсуа Пуассону хватило быть братом Антуанетты, чтобы заделаться маркизом де Мариньи.
— Дай-то бог, чтобы он сам научился красить! — воскликнула принцесса Анхальт-Цербстская. — Пока он умеет только марать репутации!
46. ОБЕЗЬЯНЫ, ДЕРУЩИЕСЯ ИЗ-ЗА АЛМАЗА
Себастьян занимался своим утренним туалетом с помощью Джулио, когда из-за двери донеслись звуки незнакомого голоса; он послал слугу узнать, в чем дело. Через несколько мгновений тот вернулся и доложил:
— Прибыл лейтенант Берье и просит видеть господина графа.
— Попросите его подождать несколько минут, пока я оденусь, — ответил удивленный Себастьян.
Сделав это, Джулио ввел посетителя в маленькую гостиную, смежную со спальней. Берье оказался молодым человеком с прекрасной осанкой и мелкими чертами лица, выражавшими учтивость. Себастьян велел подать кофе.
— Маркиза де Помпадур послала меня проверить, верен ли слух и как такое могло случиться.
— Какой слух?
— Что с вашим появлением Шамбор стал притягательнее, чем Версаль, раз часть двора последовала за вами, — ответил Берье насмешливо.
— Не дай бог! — откликнулся Себастьян обеспокоенно. — Я приехал сюда ставить опыты, о которых просил господин де Мариньи, и несколько придворных особ были так любезны, что заинтересовались ими.
Он покинул Париж всего-то неделю назад, но она уже казалась ему тремя. Напоминание о версальских нравах внезапно вернуло его к действительности.
— Король дважды справлялся о вас, удивляясь, что господин де Мариньи услал вас так далеко.
Себастьян уклонился от ответа на вторую часть фразы, ограничившись замечанием, что король слишком добр, чтобы беспокоиться о нем.
— Это к вам я должен обратиться, граф, чтобы мне тут предоставили помещение? — осведомился Берье тем же насмешливым тоном и огляделся. — Управляющий дал мне это понять. Так не угодно ли указать доставшиеся мне покои?
— Надеюсь, вы изволите шутить, — возразил Себастьян. — Просто нам пришлось импровизировать и самим о себе позаботиться. Комендант и управляющий наверняка скорее послушаются вас, чем меня.
Он попросил Джулио сказать господину Кло дю Кене, что его вызывает лейтенант Берье, а про себя задался вопросом: неужели в Версале ходит слух, будто он захватил Шамборский замок? Это его встревожило.
Поскольку слуги есть слуги, новость о прибытии Берье уже распространилась в малых покоях. Первой, кто пришел поговорить об этом с Себастьяном, была госпожа де Жанлис.
— Не знаю, кто выиграл пари, — сказала она шутливо. — Но мы все были уверены: маркиза наверняка пошлет кого-нибудь посмотреть, что мы делаем. Однако вы уже знаете, что думать о нашем визитере.
После обычных любезностей и вина в честь прибытия гостя, которое тот, к своему удивлению, должен был пить из собственного дорожного стаканчика, Берье окинул присутствовавших взглядом.
— Какие новости привезли вы нам из Версаля? — спросила маркиза д'Юрфе.
— Король в превосходном настроении. В день вашего отъезда он узнал от курьера из России, что потерял одного своего старого недруга, российского канцлера.
Лицо принцессы Анхальт-Цербстской застыло. Берье повернулся к ней.
— Бестужев-Рюмин умер?[67] — спросила она хрипло.
— Нет, впал в немилость. Собственно, он приговорен к смерти. Но его брат по-прежнему на своей должности в Париже.
У Себастьяна екнуло в груди. Неужели его связи с Россией рассыпались в прах? И все ли еще в силе данные ему инструкции? Он удержался от того, чтобы спросить взглядом принцессу Анхальт-Цербстскую. Его сердце устремилось к баронессе Вестерхоф.
Сознавая, что Берье ловит любую реакцию сотрапезников на эту новость, Себастьян изобразил безразличие и поднял свой стакан:
— Ну что ж, выпьем за хорошее настроение короля.
Принцесса Анхальт-Цербстская тоже выпила, но для того, чтобы придать себе храбрости. Себастьян решил переговорить с ней, как только они окажутся подальше от Берье.
— Сколько еще времени займут ваши опыты? — спросил Берье Себастьяна.
— Два-три дня.
— Значит, я пробуду с вами это время и провожу вас в Версаль.
Хотя Берье и был привычен к придворным манерам, но тем не менее вел себя как полицейский — подкрадывался к тем, кто пытался вести уединенные беседы, следил за выражением лиц и слушал в три уха. Так что Себастьян с облегчением отправился обратно в Париж.
Он взял с собой три образца ткани, самым удивительным из которых оказался бархат: переливчатый еще до обработки, теперь, когда его вертели в руках, он просто искрился.
Едва вернувшись, Себастьян обнаружил у себя, в особняке маршала де Бель-Иля, записку от госпожи де Помпадур, приглашавшей его на малый ужин в тот же вечер. Он помчался к баронессе Вестерхоф. И нашел ее спокойной, почти по-лунному безмятежной.
— Падение Бестужева-Рюмина не слишком много изменит, — сказала баронесса. — И что бы оно ни повлекло за собой, это не продлится долго. Императрица доживает свои последние месяцы.
— Но и вы, и я, и другие будем скомпрометированы. Станет известно, что мы были его эмиссарами…
Баронесса посмотрела на него свысока и словно забавляясь.
— Успокойтесь. Мы на службе у Засыпкина, а ведь именно Засыпкин способствовал опале Бестужева-Рюмина.
— Почему?
— Потому что власть канцлера слишком ослабела.
От такой гнусности у Себастьяна перехватило дух. Баронесса заметила это.
— Я иногда задаюсь вопросом, в каких благословенных сферах вы жили, граф. Неужели вам неизвестно, что такое власть на самом деле? Это добыча, за которую грызутся между собой дикие звери. Как только вы ее лишаетесь, на вас начинается охота. Вас сразу объявляют неудачником, преступником, тайным врагом. Те, кто вам льстил накануне, теперь готовы подсыпать вам яду в бокал.
Себастьян положил ложечку меда в свой кофе.
— Вы увидите короля сегодня вечером, — продолжила баронесса. — Судя по тому, что вы мне сообщили, он в вас нуждается. Он привычен к тайной дипломатии и не доверяет своим послам, подозревая, что они заботятся о собственном благе, а вовсе не о его. Впрочем, тут он не ошибается. Личный же посланец ждет милости только от короля и будет всецело ему предан. Так, по крайней мере, можно быть уверенным в его надежности.
— Чего он ждет от меня?
— Не знаю. Возможно, хочет поручить вам какую-то дипломатическую миссию.
Людовик действительно почтил ужин своим присутствием и был весьма любезен. Тем не менее какое-то непонятное недовольство не сходило с лица госпожи де Помпадур. Берни же и Берье, тоже присутствовавшие за столом, напоминали двух котов, подстерегающих мышь.
Себастьян ждал.
После ужина король велел позвать смотрителя своего гардероба и приказал ему принести некий алмаз, находившийся в такой-то шкатулке, и ювелирные весы, стоящие на такой-то полке. Когда ему принесли камень и инструмент, король положил одно на чашку другого и объявил:
— Четыре грана с мелочью.[68]
Затем обратился к Себастьяну:
— Такой, каков он есть, этот алмаз стоит шесть тысяч ливров. Избавленный от изъяна, он стоил бы по меньшей мере десять тысяч. Раз вы умеете очищать камни благодаря секретам, которые, по вашим словам, узнали в Индии, то не согласитесь ли помочь мне выиграть четыре тысячи ливров?[69]
Все внимательно следили за происходящим.
Себастьян педантично обследовал камень: ближе к его вершинке имелось довольно заметное пятно. Он ответил:
— Это возможно, сир. Я принесу вам камень через месяц.
Тень насмешливой улыбки зазмеилась по губам Берни. Берье саркастически ухмыльнулся. Кардинал наполовину прикрыл глаза веками, а Берье раскрыл свои как можно шире.
Это было 6 апреля 1758 года.
Никакую миссию Себастьяну не предложили. Очевидно, его враги, пока он был в Шамборе, беспрестанно донимали монарха хулой на «красильщика» и «шарлатана». В конце концов им удалось поколебать симпатию короля к графу Сен-Жермену, так что предложение очистить алмаз можно было истолковать как испытание.
Себастьян поместил алмаз в иоахимштальскую землю. Никакого приглашения на малые ужины не было вплоть до 4 мая. Его пригласили на 6-е. Нельзя было высказаться красноречивее.
Он достал алмаз из шкатулки, протер его, потом рассмотрел через ювелирную лупу. И даже сам поразился: он ожидал увидеть вместо изъяна матовое пятнышко, но оно было столь незаметно, что с первого взгляда ускользало от глаз.
Перед ужином он обнаружил, что собралось гораздо больше народу, чем обычно, — добрых два десятка человек, среди которых дофин Людовик, Бель-Иль, герцог де Шуазель и прочие, которых Себастьян не знал.
Такое сборище означало, что если Сен-Жермен не пройдет испытание, то будет опорочен в глазах всего света, но если выиграет, то его врагам придется помалкивать.
— Ну что же, граф, — сказал король любезно, — вы принесли мне алмаз?
— Да, сир, я не смог бы пренебречь своим обещанием, — ответил Себастьян, доставая из кармана асбестовую тряпицу и разворачивая ее, чтобы показать камень.
Король взял алмаз в руки и рассмотрел.
— Поразительно, — сказал он. — Совершенно поразительно, — повторил король, обводя присутствующих взглядом.
Берни и Берье казались озадаченными. Госпожа де Помпадур спросила громко и отчетливо, наверняка намеренно:
— Алмаз очищен, сир?
— Судите сами, — сказал король.
— Но это же потрясающе! Не заметно никакого изъяна! — объявила маркиза, поднимая зеленые глаза на приглашенных.
— Быть может, он заново огранен? — предположил кардинал Берни.
— Сейчас увидим, — сказал король и велел принести весы.
Принцесса Анхальт-Цербстская наблюдала за сценой с озабоченным видом. Она бросила на Себастьяна тревожный взгляд, но он остался невозмутим. Принесли весы, и Берни подошел поближе. За ним следом Бель-Иль и Берье.
— Четыре грана, — объявил король. — Как и прежде.
— А разве было не чуточку больше, сир? — спросил Берни.
— Если вы хотите сказать, что пятно удалено с помощью переогранки алмаза, — возразил король недовольно, — то пришлось бы убрать гораздо больше одного грана, а вовсе не чуточку. Впрочем, мы дадим его проверить господину де Гонто.
Это был ювелир короля.
Себастьян обвел присутствующих взглядом, и у него возникло мимолетное впечатление, будто он видит переодетых обезьян, которых история с алмазом привела в невероятное возбуждение. Ужин прошел без других происшествий.
Вызванный на следующий день маркизом де Мариньи, Себастьян увидел, что ему предоставляют на рассмотрение документ, которым по воле короля в замке Шамбор учреждалась красильная мануфактура, управлять которой поручалось графу де Сен-Жермену за вознаграждение в две тысячи ливров годовых. Сумма была скромная, но документ, составленный, похоже, в спешке, представлял собой некое признание его талантов, а стало быть, и подтверждение королевской милости.
— Его величество восхитился блеском ваших тканей, — объявил Мариньи. — Он желает, чтобы вы обработали один из его бархатных жилетов.
Себастьян заявил, что весьма польщен королевским доверием, и подписал грамоту.
47. ПАЯЦ
Себастьян собирался войти в Часовой салон, когда услышал слова:
— Эта история с алмазом еще не закончена…
Он придержал за рукав дворецкого, который собирался объявить о его прибытии, и приложил палец к губам. Тот улыбнулся и кивнул. Себастьян сунул ему монету. Голос в салоне продолжал разглагольствовать:
— Вполне вероятно, что этот немыслимый «граф-камнеправ» подсунул королю всего лишь ограненную стекляшку. Господин де Гонто наверняка раскроет подлог, и мы еще увидим, как господина де Сен-Жермена поведут в Бастилию с кандалами на ногах!
Предсказание довершил короткий смешок.
Себастьян узнал голос; он сделал знак дворецкому, и тот объявил его имя. Предсказателем оказался не кто иной, как Берни, болтавший в обществе герцогини де Шуазель и маркизы д'Юрфе. Госпожа де Помпадур пока не явилась. Себастьян подошел к клеветнику, чтобы поклониться и поцеловать ему руку, одарил его сияющей улыбкой, потом поклонился обеим дамам, которых это явно позабавило.
Король вошел через дверь, сообщавшуюся с его покоями, а госпожа де Помпадур — через галерею. После обычных приветствий король велел подать шампанского и объявил Себастьяну:
— Знаете, сударь, господин де Гонто предлагает мне за очищенный вами алмаз девять тысяч шестьсот ливров.[70]
На лице Берни было написано потрясение. Герцогиня де Шуазель, слышавшая его недавние пророчества, залилась смехом, госпожа де Помпадур свой сдержала.
— Я сожалею, сир, — ответил Себастьян, изображая разочарование.
— Как это, сожалеете? — удивился король.
— Ваше величество хотели выиграть четыре тысячи ливров, и я дал слово. А выходит, что вы выиграли всего три тысячи шестьсот.
Настал черед короля расхохотаться. Из всех присутствующих только Берни сохранил постную мину.
— Что вы на это скажете, кардинал? — спросил его король.
— Что я не удивлюсь, если граф де Сен-Жермен пройдется по Сене аки посуху.
Наверняка король и госпожа де Помпадур ждали только этого последнего подтверждения талантов своего гостя, чтобы оказать ему полное доверие. После ужина король увлек Себастьяна в сторону.
— Сударь, несколько дней назад вы заявили, что приветствовали бы открытие мирных переговоров с Англией. Вы по-прежнему придерживаетесь этого мнения?
— Да, сир.
— У министра иностранных дел, кардинала де Берни, мнение иное. Он полагает, что мир может быть достигнут только через договор с Пруссией. Мне сообщили, что вы находите этот план неосторожным, потому что он рассердит Австрию и Россию. Вы все еще в этом убеждены?
— Это не мое убеждение, сир, это сама очевидность.
— Хорошо, — сказал король, допив свой бокал, — согласитесь ли вы сделать первые шаги в этом направлении?
Значит, вот она, долгожданная миссия. Себастьян был взволнован.
— Я в вашем полном распоряжении, сир.
Он задумался на миг и добавил:
— Однако я не смогу встречаться с влиятельными людьми без письма, подтверждающего мои полномочия.
Король с задумчивым видом сделал два шага в одну сторону, потом в другую.
— Вы мой личный эмиссар, и я не могу указать вас как официального посланца. Тем более что миссия противоречит замыслам Берни. Но все же я могу снабдить вас через того же Берни документом, который придаст вам достаточный вес. Это подойдет?
— Вполне, сир.
— Хорошо. Подумайте о вашем маневре. Наведите справки о людях, с которыми будете встречаться. Мы еще переговорим об этом.
Когда они вернулись к гостям, сразу несколько взглядов скрестились на Себастьяне. О каком же тайном предмете говорил с ним король?
На следующее утро Себастьян поспешил к баронессе Вестерхоф. И нашел у нее принцессу Анхальт-Цербстскую. Он сообщил обеим о предложении Людовика XV.
— Это как раз то, чего мы ожидали, — сказала баронесса. — Но предложенная Людовиком миссия — упражнение для канатоходца. Вам придется просить мира без верительной грамоты.
— И не ездите в Англию, — посоветовала принцесса Анхальт-Цербстская категоричным тоном.
— Почему?
— Англичане будут слишком рады опорочить французов, сославшись на то, что они им прислали эмиссара без полномочий. В лучшем случае отправят вас обратно во Францию, выставив в смешном виде, в худшем — посадят в тюрьму. И то и другое не пойдет на пользу ни вашей миссии, ни вашему банку.
— Моему банку? — переспросил Себастьян ошеломленно.
— Разве у вас нет банка в Лондоне? — улыбнулась принцесса.
Себастьян чуть было не спросил: «Откуда вы знаете?» — но удержался. Иначе бы вышло, что он скрывал это. Оставалось выяснить, как принцесса с баронессой проведали о банке.
Обе женщины молча смотрели на него — так, будто знали больше, чем сказали.
— Где же я, по-вашему, должен начать переговоры?
— Мне на ум приходит только Голландия, — ответила принцесса. — Возможно, там будут меньше осведомлены о вас.
Она сказала это с многозначительным видом; Себастьян ждал продолжения.
— Вы все больше и больше интригуете и двор, и Париж, — объяснила принцесса. — В Версале, например, а стало быть, и в Париже ходят слухи, будто король подарил вам Шамбор.
Себастьян вытаращил глаза. Баронесса рассмеялась:
— Российский посол Бестужев-Рюмин даже навестил меня, чтобы спросить, известна ли мне причина этой неслыханной щедрости. Поскольку принцесса рассказала мне об условиях вашего пребывания там, я ответила, что сильно сомневаюсь в подлинности этого дара.
— Но это же глупо! — воскликнул Себастьян.
— Надо полагать, слухи породил тот факт, что кое-кто из придворных последовал за вами в Шамбор. Потому и решили, что раз вы располагаете замком по своему усмотрению, значит, король вам его подарил.
— Это еще не все, — подхватила принцесса. — Несколько недель назад вы сказали в присутствии кардинала Берни, что некие духовные упражнения, которым вы научились в Индии, позволяют вам выявлять настоятельные требования времени.
Себастьян кивнул.
— Затем вы заявили, что, отвлекаясь от себя самого посредством не знаю какого дыхательного упражнения, можете оживить прошлое.
Он опять кивнул.
— Ну так вот, Берни теперь трубит повсюду, что вы утверждаете, будто жили при дворе Карла Великого. От него эти басни услышал Вольтер, поскольку они оба масоны, и стал разносить дальше. Он рассказывает, например, что, по вашим словам, вы будто бы сидели за одним столом с отцами Трентского собора.
Принцессу, казалось, веселили все эти глупости. Себастьян широко раскрыл глаза.
— Хуже того, — продолжила она, — в Париже сейчас находится один англичанин, некий лорд Гауэр, который видел вас не знаю где, у герцогини де Лораге, кажется. Однако он одевается как вы, утверждает, что является графом де Сен-Жерменом, что живет больше тысячи лет и вообще бессмертен, что знавал самого Иисуса Христа, которого называет превосходным малым, и прочий вздор. Разумеется, все покатываются со смеху, и этого Гауэра приглашают повсюду, потому что он дает людям повод развлечься.
— К тому же, — прибавила баронесса, — развлечься на счет двора, который зазывает на малые ужины в Версале всяких сумасбродов.
Себастьян подумал, что ему пришел конец: обе женщины, которых он считал своими друзьями, тоже присоединились к судилищу.
— Производители карнавальных масок, — продолжила принцесса, — уже начали делать их с вашим лицом.
Она наклонилась и достала из-под своего кресла карикатурную маску из папье-маше: вылитый он!
— Паяц! — стенал Себастьян. — Я стал паяцем!
— Вот, держите, шоколад успокаивает удрученные сердца, — сказала принцесса, подавая ему чашку. — Чего вы ждали? Вы интригуете людей. Никто не знает, откуда вы взялись, куда направляетесь, как вас зовут на самом деле и каково происхождение вашего богатства. Вы творите чудеса, очищаете алмазы, например. Одного этого уже довольно, чтобы поползли всякие сплетни. И вы, похоже, недооцениваете скорость, с какой они передаются из уст в уста, а также естественную склонность скучающих людей верить всему и чему угодно.
— Потому-то Голландия и кажется нам подходящей для вашей миссии.
Себастьян покинул особняк баронессы Вестерхоф раздосадованный и расстроенный.
Когда-то он верил в секрет Ньютона. Не было у него больше никакого секрета.
Он стремился к власти. Дорога оказалась перегорожена могучими врагами.
Он увлекся баронессой Вестерхоф. И нашел в ней лишь судью, что расследует его дело.
Себастьян остался таким же одиноким, как и во дворце вице-короля Перу.
Три дня спустя он получил письмо от Александра и, изучив печать, удостоверился, что она сломана — как его и предупреждала баронесса Вестерхоф. В письме, очень сдержанном, не говорилось ни о чем другом, кроме как о сожалениях, которые испытывает сын в разлуке с отцом.
«Неужели со всеми отцами то же самое?» — спросил себя Себастьян, размышляя о странности своих отношений с Александром. Порой у него возникало чувство, что он существует только через сына.
«В конце концов он сам станет моим отцом», — подумал он. Эта мысль его позабавила.
48. ЦЕНА ДУШИ
Себастьян медлил с отъездом. Даже чуть не отказался от своей миссии.
Мрачное настроение длилось неделями, изредка сменяясь приступами язвительности. Обеды, где ему надлежало блистать, казались ему похожими на маскарады.
Себастьян был готов купить услуги лорда Гауэра, которого на самом деле звали Гоув, чтобы тот подменил его собой.
Ему казалось, что он попал в фантастическую сказку, где лев царствует в окружении каких-то гнусных животных, обезьяноподобных крыс, вопящих и раздирающих друг друга.
Себастьяну вдруг стало еще гаже, когдау ворот особняка Бель-Иля к нему приблизился, ковыляя, какой-то нищий, чтобы попросить милостыню. Это был молодой человек без одной ноги.
— Где вас изувечило? — спросил Себастьян.
— При Берг-оп-Зоме, господин. Ядром.
Ядро. Пролетает ядро, и вся жизнь идет под откос.
— У вас нет семьи?
— Я теперь всего только лишний рот, господин.
Этот человек потерял ногу ради своего короля. И ядро сделало его бобылем.
Себастьян дал несчастному монету. Тот осыпал его благословениями, наверняка теми же самыми, что и брат Игнасио графиню Миранду.
Король уехал в Компьень. Малые ужины прервались.
Себастьян решил было, что поток глупостей на его счет иссяк, но его второй слуга Иоганн-Фелициус невольно развеял эту иллюзию, спросив, верен ли слух, согласно которому господин граф фабрикует алмазы чистейшей воды.
— Откуда ты это взял?
— От кузнеца, сударь. Мы с кучером ходили к нему сегодня утром.
— Ну конечно! — воскликнул Себастьян с сарказмом.
Фабриковать алмазы — только этого ему еще не хватало!
Себастьян решил сбежать из Парижа и снова наведаться в Шамбор, на сей раз в одиночку, чтобы поразмыслить о своей судьбе, а заодно выполнить заказ короля и госпожи де Помпадур, окрасив кое-что из их гардероба: штаны, жилеты, кафтаны, плащи, юбки, кружевные воротники, набор лент, что там еще.
«Красильщик и паяц», — с горечью подумал он.
В пути Себастьяна застиг дождь, один из тех преждевременных осенних ливней, что обрушиваются на землю с какой-то мстительной силой. Сквозь запотевшее стекло кареты он заметил на дороге силуэт одинокого путника, согнувшегося под яростью небес и насквозь промокшего. Но отнюдь не простолюдина, поскольку был при шпаге. Себастьян крикнул кучеру остановиться и открыл дверцу. Незнакомец понял это как приглашение: подбежал к карете и обратил к Себастьяну сморщенное и растроганное лицо.
— Вы остановились ради меня, сударь?
— Да. Залезайте же.
Тот не заставил себя ждать. Затем, истекая водой, прерывисто дыша и стуча зубами, уселся напротив Себастьяна.
— Позвольте представиться. Шевалье Эймерик де Барбере.
— Я граф де Сен-Жермен.
— Наслышан, сударь. О вас легенды ходят.
«Опять услышу этот вздор», — подумал Себастьян.
— Откуда путь держите? — спросил он, чтобы сменить тему.
— Из Орлеана. Направляюсь в Тур.
— Пешком? — удивился Себастьян, открывая сундучок с провизией, чтобы налить арманьяка этой заблудшей душе.
Шевалье бросил на него взгляд, исполненный спокойного вызова:
— Я разорен, сударь. Иду в монастырь к своему брату в надежде на пристанище. Вы по-христиански спасли меня от воспаления легких.
Себастьян протянул бедняге стопку арманьяка и попросил рассказать свою историю. Эймерику де Барбере недавно исполнилось двадцать четыре года, и он был худ, как щепка. Вернувшись из Италии без единого гроша, он узнал, что его родитель умер и похоронен, что все имущество унаследовал старший брат, но наследством сразу же завладели кредиторы.
— Что вы умеете делать, кроме как воевать и молиться? — спросил Себастьян.
— Ничего, сударь. Но это означает также, что я готов научиться всему.
Себастьян задумался над ответом. Он нуждался в спутнике по жизненным странствиям, но обладавшим большим достоинством, положением и воспитанностью, нежели просто слуга.
— Значит, вам не на что надеяться от вашего брата, кроме как стать монахом под его началом?
— Верно.
— Если вам угодно сопровождать меня туда, куда я направляюсь, быть может, я смогу предложить вам не столь унылое будущее.
— Сударь, я весь к вашим услугам. Но правда ли, что вы умеете делать алмазы и что вам тысяча лет?
— Откуда эти нелепицы?
— Из газетки, на которую наткнулся в каком-то орлеанском трактире.
— Воспользуйтесь вашим здравым смыслом, шевалье. Если бы я делал алмазы и жил тысячу лет, мне бы не было нужды разъезжать по дорогам. Уж скорее бы я летал по воздуху.
Барбере разразился юношеским и даже заразительным смехом, поскольку он передался и Себастьяну.
«О небо, — подумал Себастьян, — как же давно я не слышал, чтобы смеялись так от души!»
— Но такая репутация, сударь, — продолжил шевалье, — может сослужить вам неплохую службу. Ведь если все думают, что вы обладаете магической силой, этим можно изрядно припугнуть ваших врагов.
«А малый-то поленился стать глупцом!» — подумал Себастьян.
Когда они добрались до Шамбора, он потребовал от нового управляющего Шамборским и Блуаским замками, господина Колле, чтобы его спутнику предоставили приличные покои, на что господин Колле пошел крайне неохотно: смерив Барбере взглядом, ответил, что такому вполне сгодится и одно из подсобных помещений. Себастьян продолжал настаивать и в конце концов добился своего.[71]
Когда с этим было покончено, Себастьян поручил Джулио помочь гостю привести себя в порядок и принести ему запасную дорожную одежду — все, включая чулки, поскольку у Барбере имелось только то мокрое платье, что было на нем. Сапоги шевалье оставил свои.
Замок теперь был снабжен достаточным количеством свечей и дров для освещения и обогрева, но с питанием дело обстояло не лучше, чем в предыдущий раз, несмотря на присутствие господина Колле, который, видимо, обходился без ужина, поскольку даже не пригласил к нему путников. Так что Себастьян поздравил себя с тем, что запасся провизией для первой и даже второй трапезы в замке.
Пока он хлопотал на кухне, готовя разрезанную на части утку в вине, к нему присоединился Барбере. Теперь молодой человек выглядел гораздо лучше, чем по приезде.
— Сударь, — заявил он, — ваша любезность меня смущает! Вы меня спасли от потопа, потом предоставили сухое платье, да еще какое… Но чем это вы занимаетесь? Стряпней?
Себастьян улыбнулся.
— У меня нет другого средства не умереть тут с голоду. Если угодно, шевалье, вы тоже можете повязать передник и помочь мне приготовить наш ужин.
Барбере опять разразился своим мальчишеским смехом и поспешил исполнить просьбу.
— Последите, пожалуйста, за уткой, пока я приготовлю картофельный салат.
Наконец они смогли усесться за ужин, поданный Джулио и Иоганном-Фелициусом.
— Я знаю, что вы не летаете по воздуху, но все равно вы само Провидение, — заявил Барбере. — Я продрог насквозь, был голоден и один в целом свете, и вот — проезжаете вы, подбираете меня, отогреваете и кормите.
Вдруг Себастьян подумал, что ядро могло бы оторвать ногу и шевалье, и спросил себя, отнесся ли бы он тогда к нему так же.
— Все это, — ответил он шутливо, — делалось для того, чтобы вы размякли и тем охотнее выслушали мое предложение.
— Какое?
— Мне нужен преданный душой и телом человек. Хотите быть им?
— Сударь, — воскликнул Барбере с таким воодушевлением, что опрокинул свой стакан, — это буду я, и никто другой!
— Вы слишком порывисты, — заметил Себастьян удивленно.
— Порывистость естественна и благородна. Неужели вы принимаете меня за глупца? Когда вы подобрали меня под проливным дождем, вами двигал вовсе не расчет. Я не знаю, делаете ли вы алмазы, и мне на это плевать. У вас есть сердце. А тот, кто благороден и тоже обладает сердцем, может ответить лишь так, как я.
«Он слишком честен, — подумал Себастьян, — и знал только армию, которая была его единственной семьей. Почему я не встретил под дождем баронессу Вестерхоф!» Но все же его смутила реакция Барбере. Шевалье, похоже, был из тех людей, кого испытания избавили от всего второстепенного: они признавали только храбрость и сердце и стали слишком горды, чтобы притворяться.
В этом Барбере превосходил его: ведь сам он избрал своим оружием лукавство.
— Шевалье, я не знаю цену вашей души, но предлагаю вам полторы тысячи ливров за службу у меня. Стол и кров в придачу.
Барбере молчал какое-то время. Потом поднял глаза на Себастьяна.
— Сударь, это в дюжину крат больше жалованья, которое мне платили, чтобы я рисковал своей жизнью. Так что честь велит мне принять только пятнадцатую часть этой суммы. Однако деликатность требует, чтобы я согласился на ваше предложение без оговорок, иначе бы вы сами стали моим должником.
— Благословенный ливень, — сказал Себастьян.
— Воистину благословенный, сударь.
На следующий день, 10 ноября 1758 года, Себастьяну в его импровизированной мастерской на конюшне нанесла визит некая величественная особа, представившись господином де Сонри, комендантом Шамборского замка.
Себастьян как раз замачивал королевские штаны и жилет с помощью одного из своих помощников. Он попытался разгадать выражение лица посетителя: такое бывает у человека, который хочет сообщить нечто важное, но выжидает, желая завладеть вниманием своего собеседника, чтобы произвести наибольший эффект.
— Хочу надеяться, сударь, — сказал ему Себастьян учтиво, — что ваше присутствие означает выздоровление вашей досточтимой дочери.
— В самом деле, сударь, благодарю за участие, — ответствовал комендант.
Он продолжал глазеть на Себастьяна как на диковинного зверя. Быть может, он тоже читал газетенку и верил, что шамборский гость может вдруг превратиться в фантастическое создание, грифона или единорога, или пустить искры из всех своих пор.
Барбере наблюдал сцену издали. Сонри начал действовать Себастьяну на нервы.
— Наверное, вы хотите сообщить мне какую-то новость, — сказал он коменданту довольно властно.
— В самом деле, сударь.
— Так слушаю вас.
— Кардинал де Берни больше не министр.
— Новость свежая.
— В самом деле, я только что узнал.
Наверняка думал напугать Себастьяна. Но тот был далек от этого. К черту зловредину Берни!
— Такую меру, несомненно, вдохновила королевская мудрость, — ответил Себастьян небрежно. — Известен ли преемник кардинала?
— Герцог де Шуазель, — вымолвил Сонри, явно удивленный беззаботностью своего собеседника.
— Не замедлю поздравить его, — объявил Себастьян, поворачиваясь к чану, где плавали королевские одежки.
Сонри выглядел озадаченным.
— Разве кардинал был не из ваших друзей?
— Конечно, сударь, но интересы короля превыше любой дружбы.
Берни из его друзей? Решительно, Шамбор далеко от Версаля.
А сам Себастьян еще дальше — и от того, и от другого.
Он написал Александру. Письмо нежное, но сдержанное, на случай если его перехватят королевские шпионы.
49. СПАСТИ КОРОЛЯ ФРАНЦИИ?
Через два дня примчался Бель-Иль. Маршала только что назначили военным министром. Себастьян поздравил его.
— А ваш друг Берье, — объявил тот, немного поддразнивая Себастьяна, — стал министром военного флота.
Вдруг лицо маршала стало серьезным.
— Друг мой, король беспокоится: неужели вы отказались от вашего плана?
— Ничуть. Но почва слишком уж неровная. Берни хотел союза с Пруссией, и вот я узнаю, что его заменил Шуазель. Однако он враждебен Англии. Да вы и сами, впрочем, благосклонны к союзу с Фридрихом, если я вас правильно понял. Я уже ничего не понимаю: король назначает заведовать иностранными делами человека, который хочет продолжать войну с Англией, и при этом просит меня начать переговоры о мире?
— Англия теперь в союзе с Пруссией. Заключить мир с одной не противоречит миру с другой. Главное — это мир! — воскликнул маршал с волнением. — Это ваш козырь и ставка в игре: пусть восторжествует королевское желание мира!
— Даже с риском вызвать недовольство нового министра Шуазеля?
— Шуазель сделает то, что ему прикажет король. Мир, вы представляете себе, что это такое?
Странно было слушать, как этот вояка, да к тому же военный министр, восхваляет мир. Но Себастьян понимал, что это значит: тысячи молодых людей, которых государи обрекают на смерть или увечье, чтобы удовлетворить свою жажду славы или гложущие им сердце подозрения. После постельного мяса теперь вот пушечное. Христианские короли стоят не больше, чем Молох карфагенян и прочие языческие боги, которым каждый год с большой помпой приносили в жертву мальчиков и девственниц.
— И страна беднеет, — продолжил Бель-Иль с той же горячностью, если не с гневом. — Народ возмущается. Где мы найдем двенадцать миллионов флоринов, которые король должен выплатить Марии-Терезии? А тем временем такие людишки, как Жозеф Пари-Дювернье, обогащаются за наш счет!
— За ваш счет?
— Он поставщик для армии. Вы даже не представляете, какие барыши приносит ему это снабжение. Он богаче, чем сам король! Знаете, какое у него состояние? Двадцать пять миллионов ливров!
Сумма удивила Себастьяна.
— Братья Дювернье уже не первый год наживаются, кормя будущие трупы! Граф, я вас заклинаю, не медлите долее. Король надеется на вас, у меня есть доказательство.
— Объясните мне, почему король назначил Шуазеля?
Бель-Иль вздохнул.
— Герцога поддерживают сторонники Пари-Дювернье, понимаете? Мир — это их кошмар, потому что означает конец доходам. Нет армий, значит, нет и поставок. Шуазель замышляет построить целый флот в Тулоне, чтобы противостоять англичанам по всему свету. Не сомневайтесь, что Пари-Дювернье наложит лапу на все корабельные верфи благодаря своему дружку Берье.
— Выходит, всем заправляют деньги? Неужели король этого не видит? А госпожа де Помпадур? — спросил Себастьян.
— Даже если они и видят, то сами их не имеют.
— Значит, если я верно понял, подлинный король Франции — Пари-Дювернье?
Себастьян подумал немного и продолжил:
— Вы хотите сказать, что моя миссия — спасти короля Франции?
— Она равнозначна этому.
— И тогда король сможет противостоять Шуазелю?
— Мир будет для него величайшей победой.
— Но вы сознаете, что у меня нет никаких полномочий, чтобы успешно справиться с подобной миссией?
— Ваши полномочия ждут вас в Версале, — ответил Бель-Иль. — Король передаст вам соответствующее предписание. Я лично составил условия по его просьбе.[72] Вам поручается подготовить почву для мира с Англией.
— Хорошо, — сказал Себастьян. — Я заканчиваю здесь свои работы и через день-два выезжаю.
Он понимал, что его затянуло в гигантскую машину. Но целью был мир. Себастьян желал мира. Всегда желал. Императрица Елизавета была права. Она будет довольна.
Собственно, ему было бы лучше уехать сразу, поручив остаток работы ученикам.
На следующий день произошла стычка между Барбере и управляющим Колле. Этот последний прибежал жаловаться к Себастьяну, поскольку шевалье обнажил против него шпагу.
— По какому же поводу, сударь? — спросил Себастьян.
— Из-за садов.
— Что с ними?
— Этот господин хотел повесить там на просушку какие-то тряпки, которые красили ваши подручные…
— Эти тряпки — платье короля, — отрезал Себастьян.
Колле был ошарашен.
— Но… но сады не в вашем распоряжении, сударь…
— Они в распоряжении короля. А вы всего лишь их хранитель. Желаю вам доброго дня.
Объяснение Барбере было несколько иным: господин Колле потребовал избавить сад от тряпья, которое там развесил его хозяин-шарлатан. Барбере потребовал от интенданта взять свои наглые слова назад, но тот разошелся еще пуще. Тогда Барбере вытащил свою шпагу.[73] Себастьян расхохотался, хотя был тронут поступком молодого человека.
— Воздаю честь вашей дружбе, шевалье. Но не выхватывайте вашу шпагу всякий раз, как услышите, что меня поносят. Иначе она все время будет наголо.
50. ТАЙНЫЕ ПРЕГРАДЫ
Первое впечатление, оставшееся у Себастьяна от графа Луи-Огюстена д'Афри, французского посла в Гааге, было совершенно неубедительным: чопорный и надутый человечек лет пятидесяти, малого роста и ума, хоть и считающий себя выше других, посол Франции, хоть и голландский гражданин, дипломат, хоть и с военными замашками.
Шел февраль 1760 года. Прилетевший с Северного моря и набравшийся сил на равнинах ветер выворачивал крылья мельниц и устраивал настоящую вьюгу на улицах и площадях города, равно как и над остальной Республикой. Лошади скользили по мостовой, экипажи заносило. Тем не менее кое-кто из настоящих конькобежцев предавался на замерзших каналах неслыханной забаве — растянув свои плащи на ветру, они скользили без всяких усилий, словно маленькие черные парусники.
Пейзажи в целом походили больше на гравюры, чем на живопись: даже красный кирпич домов посерел от инея.
Сидя в карете, везущей его в посольскую резиденцию Франции на Принцерграхт, Себастьян промерз насквозь, несмотря на беличью шубу, и открыл свой дорожный сундук, чтобы налить себе и Барбере по стаканчику шнапса.
Недели через две после своего прибытия в Гаагу Себастьян счел полезным и даже дипломатичным заручиться поддержкой д'Афри. Он последовал в этом совету Бентинка — брата-каменщика и одного из наиболее высокопоставленных лиц в Соединенных провинциях, советника самого штатгальтера Вильгельма IV Оранского. За три дня Бентинк, с которым он познакомился через другого брата, ван Соеле, стал его гаагским Бель-Илем: Бентинк, Соеле и еще один его неожиданный почитатель, мэр Гааги Хасселаар, облегчили ему проблемы обустройства, подыскав частный особняк в богатом квартале Турноойвельд. На самом деле половина этого особняка была занята братьями Хоопами, Томасом и Адрианом.
Тот факт, что Бентинку стало известно, кто является подлинным владельцем амстердамского филиала банка Бриджмена и Хендрикса, пошел Себастьяну только на пользу: этот банк был одним из самых процветающих в Соединенных провинциях.
Д'Афри принял графа де Сен-Жермена незамедлительно: город уже гудел от новостей о пребывании в нем таинственного француза, который жил на широкую ногу и вел возвышенные речи. Местная газета поведала о великолепном ужине, данном в его честь одним из самых богатых граждан Gravenhaag — так называлась Гаага по-фламандски. «Граф де Сен-Жермен, — сообщала газета, — ослеплял блеском своих алмазов, ума и суждений о самых могущественных особах планеты». Разумеется, советник Бентинк не мог взять под свое покровительство какую-нибудь мелкую сошку.
Стряхнув снег с одежды и согласившись на чашку кофе, Себастьян начал с того, что представил господину д'Афри финансовые затруднения Франции, в частности обязательство выплатить императрице Австрии двенадцать миллионов флоринов. Д'Афри поднял брови в знак удивления.
Тогда Себастьян попутно упомянул о возмутительных действиях тех, кто подобно Жозефу Пари-Дювернье обогащается на тяготах войск и истреблении молодежи. Д'Афри негодующе выпучил глаза, но не проронил ни слова.
Себастьян объяснил необходимость мира со всеми воинственными державами, которые угрожают Франции и заботятся лишь о территориальных приобретениях. Только мир, утверждал он, обеспечит процветание Франции, и король и госпожа де Помпадур в этом глубоко убеждены. У него возникло ощущение, что он говорит на санскрите.
«Или же господин д'Афри совершенно непроходимый тупица, — подумал Себастьян, — или же ему самому не хватает красноречия». Он удвоил усилия.
Описал интриги, опутавшие двор, и трудности, которые возникают из-за этого, мешая определению четкой политической линии. Господин д'Афри заерзал в своем кресле.
Напомнил о дружбе, связующей его с нынешним военным министром, маршалом Бель-Илем, и о его поддержке. Даже показал, чтобы подтвердить свои слова, два письма, которые получил от маршала со времени своего прибытия в Гаагу, от 4 и 26 февраля; к одному Бель-Иль приложил чистый паспорт, а во втором выражал нетерпение по поводу новостей от де Сен-Жермена и надежду на успех миссии, которой он облечен. Ознакомившись с ними, господин д'Афри, казалось, стал жертвой желудочной колики.
Себастьян все-таки удержался и не раскрыл все свои карты, в частности не показал предписание короля — из опасения, как бы этот документ не поверг посла в судороги.
Но зато уверил его, что Франция вполне может рассчитывать на помощь графа Бентинка ван Рооне в осуществлении сближения с посланником Англии в Гааге, генерал-майором Джозефом Йорком, поскольку дело мира не терпит отлагательства. При упоминании такого высокопоставленного лица, как Бентинк, цвет лица у господина д'Афри из мертвенно-бледного сделался пунцовым.
Наконец Себастьян объявил о своем ближайшем намерении воспользоваться скорой свадьбой принцессы Каролины, дочери Георга V Английского, с принцем Нассау-Дилленбургом, чтобы похлопотать среди банкиров Объединенных провинций о большом займе для пополнения французской казны.
Тут он прервался: господин д'Афри, у которого лицо вытянулось на целый аршин, объявил своему визитеру, что не понимает, куда тот клонит. Себастьян, вконец выведенный из себя, поблагодарил за аудиенцию и откланялся, недовольный результатом.
Только две недели спустя он узнал от Бель-Иля о катастрофических последствиях своего визита: д'Афри впал в сильнейший гнев и горько упрекал герцога де Шуазеля за то, что тот «пожертвовал старым другом своего отца и его достоинством посла ради сомнительного мирного договора, который собираются заключить у него под носом, но о котором он сам узнает лишь от какого-то подозрительного иностранца».[74]
Барбере, ожидавший его в передней, показал себя более прозорливым. Он заявил Себастьяну в карете:
— Сударь, я не знаю, что там было на этой встрече, которой вы, похоже, придаете большое значение. Но, судя по вашему лицу и лицу этого посла, я осмеливаюсь думать, что она прошла плохо. Этот человек испуган и раздосадован. Вы ведь и сами недовольны, верно?
— Вы правы, — ответил Себастьян. — Д'Афри ничего не понял, и к тому же я его наверняка унизил.
Но в итоге его решение успешно довести до конца свою миссию окрепло еще больше. Вернувшись к себе, он отправил графу Бентинку послание с просьбой устроить ему встречу с графом Каудербахом, послом Саксонии в Гааге.
Следующим вечером он отужинал с ним у Бентинка. Поведение саксонца было совершенно противоположно поведению д'Афри. Посол внимательно выслушал высказывания Себастьяна о причинах бурь, беспрестанно свирепствующих во французской политике, — нерешительности короля Людовика XV и интригах его министров, которые почти все находятся на содержании у Дювернье.
— Я слышал, — заметил Каудербах, — что госпожа де Помпадур располагает определенной властью. Почему же она ею не воспользуется?
— Власть финансистов пересиливает власть трона.
Каким бы реалистичным ни было это суждение, оно от этого не становилось менее скандальным. Гаага была небольшим городом, и эти слова быстро облетели ее. То на одном, то на другом ужине Себастьяна спрашивали об этих сказанных накануне словах. Он поздравил себя с этим.
Уверившись в своей известности в этом городе, Себастьян решил распространить ее и на крупнейший коммерческий центр Соединенных провинций, Амстердам. Газеты подготовили его приезд, и банкиры могли только гордиться, что один из их круга удостоился таких почестей; в самом деле, здесь его принимали еще радушнее, чем в Гааге. Вся страна теперь знала о миссии Сен-Жермена: подготовить мир между Францией и Англией. Банкиры заранее радовались, что именно в их стране осуществится большой французский заем. Называли даже сумму, на основе цифры, невзначай оброненной Себастьяном: пятьдесят миллионов флоринов.
— Я уверен, что посол Англии услышит вас еще до того, как увидит, — объявил ему Бентинк, когда он вернулся в Гаагу.
Что означало: плод созрел.
14 марта 1760 года[75] генерал Джозеф Йорк принял графа де Сен-Жермена в английской дипломатической резиденции.
Они познакомились семнадцать лет назад у принцессы де Монтобан; встретились с улыбкой. Себастьян действовал согласно уже обкатанной схеме. Начал с того, что набросал картину злосчастного состояния Франции, которое и побудило ее искать мира — блага, подчеркнул он, желанного для всего человечества.
Здесь тем не менее он ввел вариант: признание в собственных дружеских чувствах к Англии и Пруссии, благодаря которым может быть полезен Франции.
Внимательно выслушав его, Йорк ответил, что предмет слишком важен, чтобы обсуждать его с особами, не имеющими официальных верительных грамот, сколь бы почтенны они ни были, но что он хотел бы знать, какую именно цель преследует граф де Сен-Жермен.
Себастьян стал терять терпение: неужели все дипломаты так ограниченны? Он попросил его превосходительство соблаговолить ознакомиться с двумя письмами, которые адресовал ему военный министр Франции маршал де Бель-Иль, — это были те же самые, которые он показывал д'Афри и которые произвели на него столь досадный эффект.
Документы смягчили Йорка, он попросил своего посетителя рассказать подробнее о своей миссии.
— Дело простое, ваше превосходительство: король, дофин, госпожа де Помпадур, двор и вся Франция жаждут мира с Англией, за исключением господина де Шуазеля и господина Берье. Господин де Шуазель настолько проавстрийски настроен, что слышит только то, что хочет. Госпожа де Помпадур не привержена к Австрии, но она нерешительна, поскольку не осмеливается надеяться на мир, и поверит в него, только когда он будет заключен. Лишь король и маршал де Бель-Иль страстно желают его достигнуть.
— Ваш посол знает об этом проекте?
— Уже да, от меня.
Тогда Йорк объявил, что его величество Георг II тоже глубоко и искренне желает мира, ведь именно Англия сделала первые шаги в этом направлении, причем во время своих наибольших военных успехов. Но король должен быть осведомлен о подробностях, которые сам он, Йорк, еще не знает. Впрочем, он напомнил о зависимости Франции от двух императриц, российской и австрийской, и о досаде, которую им доставит перспектива ее мирного договора с Англией. Хотя он и уверен в желании короля Франции, но пока не может углубить эту дискуссию.
Беседа длилась три часа. Себастьян ушел со смутным чувством, что писем Бель-Иля хватило, чтобы заявить о нем как о серьезном собеседнике, но их оказалось явно недостаточно, чтобы побудить Англию к открытию переговоров.[76]
За недостатком мужества, необходимого, чтобы открыто продиктовать свою волю Шуазелю, Людовик XV отправил своего личного посланца в одиночку штурмовать тайные преграды, и только чудо могло спасти его миссию.
В тот вечер Себастьян ужинал вместе с Барбере, весьма приуныв духом.
На следующий день написал маркизе де Помпадур, намекая на лучик надежды. А заодно, поскольку узнал, что французы задержали для досмотра голландское судно «Аккерманн», в которое его Амстердамский банк вложил пятьдесят тысяч крон, просил вмешаться, чтобы уладить это «возмутительное дело».[77]
Граф де Сен-Жермен еще не подозревал о грозе, которая его ожидала.
51. БРОДЯГА
Сперва нужно было взломать первое препятствие — д'Афри.
Себастьян поручил Бентинку смягчить посла, а Бентинк в свою очередь поручил другим чиновникам Соединенных провинций устроить с ним встречу. Тщетно: посол возразил в намеренно дерзких и двусмысленных выражениях, что слишком хорошо знает Бентинка как человека, способного пойти на попятный, и что его уверения в дружбе к Франции слишком свежи.
Бентинк узнал об этом от своих эмиссаров и передал Себастьяну.
Их встреча была унылой. Оба потягивали портвейн в обществе шевалье де Барбере в гостиной гаагского дома. Мартовское небо оттенка светлого серебра позволяло надеяться на весну, но настроение было зимним. Бентинк сохранял свою природную невозмутимость, но Себастьян уже начинал терять терпение из-за постоянных препон. Барбере довольно метко сострил:
— Сударь, Дон Кихот сражался с ветряными мельницами. Голландия для этого в самый раз подходит. Вы ведь тоже сражаетесь с призраками.
Попытка сближения с д'Афри обернулась даже против самого советника. Два дня спустя Бентинк пришел сообщить Себастьяну:
— Д'Афри заявил Главному Пенсионеру — так в Соединенных провинциях называют премьер-министра — и двум чиновникам Министерства иностранных дел, господину Зелингуланде и графу Хомпешу, что я пытался обмануть его, чтобы втянуть в безумную затею — мирные переговоры с Англией.
— Они сами вам это сказали?
— Нет, но я был извещен. Они ответили, что я таким образом пытался поднять свой престиж, пошатнувшийся в Соединенных провинциях и в Англии. Поверьте мне, мы столкнулись с яростной контратакой Шуазеля.
— Вот лихие ребята! — воскликнул Барбере.
Бентинк, сперва сбитый с толку, расхохотался.
Через три дня прибывший из Парижа нарочный привез Себастьяну запечатанное письмо; он узнал на печати, нетронутой на сей раз, герб Бель-Иля.
«Дорогой друг, покиньте Соединенные провинции, как только сможете. Шуазель дал приказ арестовать вас и доставить сюда в кандалах. Король не воспротивится. Большего сделать не могу.
Ваш огорченный друг Бель-Иль».
Когда Себастьян прочитал послание, Барбере был рядом. Он сразу все понял по лицу своего покровителя. Их взгляды встретились. Барбере налил рюмку портвейна и принес ее Себастьяну. Тот сел, подавленный известием.
— Сударь, — сказал Барбере, — не знаю, что вы сейчас прочли, но вас это явно не обрадовало. Позвольте сказать: в этой стране что-то запахло тухлой рыбой.
— Вы правы, — ответил Себастьян. — Но я все же вытряхну из бочки эту тухлятину.
Был понедельник, 26 марта. Себастьян встал, бледный от гнева, надел свою шубу, потом направился в посольскую резиденцию Франции и попросил встречи с д'Афри. Тот, удивленный дерзостью поступка, принял графа. И сразу же повел себя свысока.
— Сударь, — заявил д'Афри резко, — вы влипли в дрянную историю, скажу — даже очень дрянную, осмелившись написать госпоже де Помпадур и уверить ее в том, что господин Бентинк ван Рооне поддерживает ваш бредовый прожект! Я уполномочен сказать вам, что вы вмешиваетесь в дела, которые вас не касаются, слышите? И я вам приказываю именем короля заниматься вашими собственными делами. Я был слишком добр, принимая вас, но это в последний раз!
Себастьян смерил его взглядом, пропитанным холодным бешенством.
— Если кто и влип в историю, д'Афри, то это не я, а вы! Не знаю, что приказал вам король, но позвольте заметить, что я не его подданный и не обязан получать от него приказы. Слышите меня?
Д'Афри побледнел.
— В любом случае, — повысил тон Себастьян, — мне известно, что вы в подчинении у господина де Шуазеля и что король не знает ни о чем из того, что вы делаете и рассказываете. Желаю приятно провести день!
Все это время двери оставались открытыми. Весь штат посольства, включая Барбере, ожидавшего в прихожей, слышал перепалку.
— Он наверняка попытается отомстить, — сказал Барбере.
— Это не так-то легко. Не он хозяин здешней Республики.
Вернувшись к себе, Себастьян написал записку Йорку, прося о встрече на завтра; ему надо было опередить маневр д'Афри.
Их вторая беседа длилась четыре часа. Посол показал Себастьяну ответы премьер-министра Уильяма Питта, лорда Холдернесса, и военного министра, герцога Ньюкасла. Таким образом, Йорк проявил гораздо больше доверия и открытости, чем его французский коллега. Но три человека, возглавлявшие британское правительство, требовали официальных доказательств обоснованности демарша, предпринятого графом де Сен-Жерменом. Они хотели его «официальной аккредитации», чтобы он потом не был опровергнут и чтобы Йорк мог начать с ним переговоры.
Так что еще не вся надежда была потеряна.
— Вам теперь нужно найти способ обойти Шуазеля, — заявил ему Бентинк вечером. — Отправьте нарочного к госпоже де Помпадур, если не к самому королю.
Себастьян медлил: кому лучше направить письмо, госпоже де Помпадур или королю? А может, самому вернуться в Версаль, чтобы лично обрисовать ситуацию? Но это было бы слишком рискованно, Шуазель мог запретить ему въезд в страну. Значит, отправить Барбере?
Себастьян принял свою миссию так близко к сердцу, что совершенно забыл про ту, кому она приносила наибольшую выгоду, про императрицу Елизавету, желавшую обратить против Пруссии военную силу, собранную Францией для войны с Англией.
Он пришел в раздражение: ачто, собственно, он должен России? То же самое, что и Франции, — ничего. К тысяче чертей эти коронованные головы! Слабовольные и бессильные!
Следующим утром кавалер Брюль, посол Дании, и граф Каудербах, посол Саксонии, явились сообщить графу де Сен-Жермену, что желали бы его присутствия в качестве чрезвычайного посланца военного министра Франции на конференции, которая собирается в Рисвике при участии посла России графа Головкина.
— Кто еще будет присутствовать? — спросил Себастьян.
— Господин д'Афри, — ответил Каудербах.
Себастьян не сомневался, что конференция будет оживленной, поскольку д'Афри не вынес бы его присутствия там на равных. И не ошибся, через несколько часов от д'Афри пришла угрожающая записка: графа вызывали в посольскую резиденцию к десяти часам утра. Себастьян пожал плечами. С каких пор этот тупица смеет ему приказывать? Как бы там ни было, он не видел пользы от поездки в Рисвик: ему надо начать в Гааге переговоры с англичанами, а не болтать с послами, которые, очевидно, будут враждебны любой идее франко-английского мира. Даже если Головкин в курсе секретных намерений своей государыни императрицы, он не сможет раскрыть их перед другими послами без невероятного скандала.
От всех этих двойных игр кружилась голова.
Д'Афри тем временем не переставал пылать злобой против Сен-Жермена, за глаза осыпая его оскорблениями, которые затем распространялись в канцеляриях, салонах и газетах.
— Остерегайтесь, — предупредил Себастьяна Бентинк, когда послы уехали в Рисвик. — Советник Пенсионера Стейн показал мне жалобу на вас, которую ему направил д'Афри. Француз требует, чтобы это обвинение было официально зарегистрировано, чтобы вас арестовали и препроводили под охраной в Лилль. Там, по его словам, вы будете брошены в тюрьму. Он заявил, что вы всего лишь бродяга…
— Он так и сказал?
— Так мне передал Стейн, а его словам можно верить.
Именно этого Себастьян и опасался: что Шуазель велит арестовать его по возвращении во Францию.
— Только не говорите мне, что правительство Республики уступит этим приказам.
— Стейн ответил ему, что вы иностранец и гость этой страны, что, пока вы не совершили никакого преступления, находитесь под защитой наших законов и что право убежища свято почитается у нас. Тем не менее он обеспокоен реакцией французского правительства…
— Да существует ли такая вещь, как французское правительство? — взорвался Себастьян.
— Друг мой, во всяком случае, существует один министр, Шуазель, которому, похоже, подчиняются все остальные, включая вашего друга Бель-Иля. Ибо этот маршал, как мне кажется, не оказывает вам никакой поддержки.
Последовало молчание.
— Не относитесь к этим угрозам легкомысленно, — продолжил Бентинк. — Д'Афри в таком бешенстве, что вполне может подослать убийц с кинжалом или с ядом. Мое мнение таково: чтобы мы могли обеспечить вашу безопасность, вы должны обладать каким-то правом проживать здесь, например владеть землями.
— Стало быть, мне в ближайшие дни надо обзавестись землей?
— Есть одна прелестная усадебка в Уббингене, неподалеку от Нимега, которую наш друг Хасселаар расположен продать. Она стоит недорого. Как только вы подпишете документ о покупке, я вам выхлопочу паспорт Соединенных провинций, который обеспечит вашу безопасность и защитит вас от козней д'Афри.
«Раз Бентинк думает о таких предосторожностях, — сказал себе Себастьян, — значит, риск серьезен».
Он принял предложение, даже не посетив усадьбу.
На следующий день он, Хасселаар и Бентинк уже были у нотариуса, чтобы заключить сделку о купле-продаже усадьбы.
Вернувшись, Себастьян нашел новый вызов от д'Афри; он его проигнорировал.
Бродяга — это ж надо!
52. ИНДЮК ИЛИ ЯГНЕНОК, КОМУ КАК НРАВИТСЯ
В 9 часов 30 минут перед Себастьяном предстал курьер из французской резиденции, чтобы объявить ему, что посол удивлен, не получив ответа на свой вызов.
— Ни у кого нет права меня вызывать, — ответил Себастьян презрительно. — Скажите вашему начальнику, что я повидаюсь с ним, когда захочу.
Чего опять хочет этот урод?
— Вообще-то, сударь, неплохо было бы узнать, что замышляет враг, — заметил Барбере.
Обдумав это мнение, Себастьян отправился в резиденцию. А на тот случай, если дойдет до рукопашной, прихватил с собой Барбере.
Первые тюльпаны и гиацинты уже задирали свои носики на клумбах.
— Сударь, — начал д'Афри, даже не предложив Себастьяну сесть, — я вас вызывал дважды, и вы мне не ответили.
— Сударь, у вас нет права меня вызывать. Я не ваш подчиненный.
— Я вам приказываю именем короля прекратить видеться с господином советником Бентинком ван Рооне и с господином послом Йорком…
— А я, — оборвал его Себастьян, — имею все основания думать, что вы скрываете правду от короля и служите лишь господину де Шуазелю.
— Ваша дерзость, сударь…
— Вы меня повсюду называете бродягой. Так что я не обязан вам никакой вежливостью. Ваши приказы мне безразличны, и я продолжу видеться с теми, с кем мне угодно, чтобы выполнить миссию, доверенную королем.
— Его величество не поручал вам никакой миссии!
— Ваши слова доказывают лишь вашу неосведомленность, — ответил Себастьян, доставая из кармана грамоту, самолично подписанную монархом.
Королевская печать не оставляла никаких сомнений. Д'Афри наклонился и хотел схватить бумагу, чтобы рассмотреть поближе, но Себастьян не позволил ему этого. Д'Афри выпрямился, побледнев еще сильнее. Но взял себя в руки.
— Ваша миссия касается наших войск?
— Ничуть.
— Нашего флота?
— Тоже нет.
— Тогда она может быть только политической.
Себастьян не ответил и напустил на себя скучающий и удивленный вид. Смерил посла взглядом с ног до головы.
— Сударь, — заявил д'Афри, — мне поручено сказать вам, что если вы пересечете границу Франции, то будете немедленно закованы в кандалы. Если вы продолжите вмешиваться в дела, которые вас не касаются, как уже пытались это делать, вы будете официально изобличены и опровергнуты его величеством и его министром. Прощайте.
Себастьян посмотрел на него с легкой улыбкой и направился к двери. Там он остановился на миг, посмотрел на д'Афри с сочувствием, покачал головой и сказал:
— Могильщик.
Инстинктивно Себастьян знал: на стороне д'Афри забили в набат.
Отныне ему на это плевать.
Король Франции был всего лишь заложником. Сначала парламентов, а теперь и собственного министра.
Миссия никогда не будет выполнена. Тем хуже для российской императрицы.
На поверку оказалось, что американские индейцы были гораздо более цивилизованными людьми.
Четыре дня спустя, 16 апреля, в семь часов вечера Себастьяну де Сен-Жермену нанес визит Бентинк.
Они расстались всего час назад, на балу в честь дня рождения принца Оранского, где Себастьян был тепло принят лучшим обществом Гааги: не только Хасселаарами, но также госпожой Геельвинк, госпожой Биланд и многими другими.
Бентинк сел, закурил свою трубку и заявил, что из-за жалобы, поданной д'Афри правительству, и из-за шума, вызванного этим вокруг имени графа де Сен-Жермена, Себастьяну будет лучше покинуть город на какое-то время. Республика могла бы защитить его от необоснованных преследований, но не от грозящего скандала. Братья Хооп, сдающие ему половину дома на Турноойвельд, уже объявили, что ждут не дождутся, когда он съедет.
— Значит, мне надо забиться в нору в Уббингене? — воскликнул Себастьян.
Бентинк покачал головой.
— Я виделся с Йорком, — сказал он. — Он понимает ваше положение. Говорит, что его опасения оправдались, вы стали жертвой слабоволия короля. Он питает к вам симпатию и передал мне для вас чистый паспорт. Впишите туда любое имя, какое вам угодно.
— Это вы его об этом попросили?
— Нет. Он подготовил его по собственной инициативе.
— Значит, Йорк тоже хочет, чтобы я поскорее покинул Гаагу?
Бентинк кивнул.
— Друг мой, вы же были на службе у короля Франции. Если останетесь здесь, подвергнете себя опасности.
— Каким образом?
— О вашей ссоре с д'Афри теперь официально известно правительству и даже штатгальтеру, не говоря об остальных влиятельных людях. Рано или поздно вам придется публично доказывать, что вы не самозванец, в чем вас обвиняет д'Афри. Ваше единственное доказательство — это грамота с предписаниями Людовика Пятнадцатого. Если вы ее предъявите, то покажете всему свету, что король Франции строит козни против собственного министра. Сами догадайтесь, как отреагирует на это Шуазель. Насколько я представляю себе Людовика Пятнадцатого, он человек слабый, более того, слаба его власть в стране. Вы сами видели это в последние дни: ни он, ни его министр Бель-Иль и пальцем не шевельнули, чтобы прийти вам на помощь и унять Шуазеля. Он пойдет на попятный. Заявит даже, что ваш мандат — фальшивка.
Бентинк попыхтел своей трубкой.
— И тогда Республике будет гораздо труднее защитить вас.
По мере этих рассуждений Себастьяном овладевало уныние.
— Англия не извлечет из этого никакой выгоды, даже наоборот. Шуазель и его люди обвинят ее, что она начала переговоры с заведомым обманщиком. Это выставит Йорка дураком, а министра Холдернесса пособником темной махинации. Так что великодушие Йорка не бескорыстно.
Себастьян провел рукой по лицу: из него сделали ощипанного индюка. Или жертвенного агнца — кому как нравится.
— И это еще не конец, — продолжил Бентинк. — Далеко не конец!
Себастьян вопросительно на него посмотрел.
— Не сомневайтесь, что послы Пруссии, Австрии и России в Гааге внимательно следят за этим делом и уже написали своим хозяевам. Пруссия заключила союз с Англией. Однако, если всплывет, что Англия начала тайные переговоры с Францией или, по крайней мере, расположена начать их, не предупредив союзницу, это изобличит ее двуличие. Ваша настойчивость продолжать поединок с д'Афри может только подкрепить подозрения посла Пруссии. Он с полным основанием заключит, что нет дыма без огня. Оставаясь в Гааге, вы рискуете спровоцировать кризис в отношениях между этими двумя странами.
Себастьян был поражен. Ему и в голову не приходило, какой огромный резонанс может вызвать это дело.
— То же самое с Австрией и Россией, — заключил Бентинк. — Простите меня, но на месте д'Афри я действовал бы точно так же: сделал бы все возможное, только бы помешать вам поехать на Рисвикскую конференцию. Одно ваше присутствие там стало бы провокацией, равнозначной объявлению войны! Гранатой, взорвавшейся в гостиной!
Бентинк встал, чтобы выколотить пепел из трубки в камин, потом достал кисет из кармана и начал снова набивать ее.
Себастьян все еще пытался переварить сказанное советником. Как он мог не почуять опасность? Вел себя как наивный простак! Он! В свои-то пятьдесят лет!
Как же он увяз в этой трясине?
— Но тогда почему Брюль и Каудербах пригласили меня в Рисвик? — воскликнул он.
Бентинк подавил короткий саркастический смешок.
— Сначала я этого не понял, иначе отсоветовал бы вам отвечать на их предложение. Теперь вижу яснее: они пригласили вас из двуличия, мой друг, из двуличия. Обоим выгодно досадить Пруссии.
Небо потемнело. Разразилась гроза. Ливень обрушился на город. Двум зажженным свечам едва удавалось осветить гостиную.
— Вообразите, — продолжил Бентинк, — граф де Сен-Жермен, чрезвычайный посланец короля Франции, которому поручено начать переговоры о мире с Англией, участвует в конференции наравне с послами России, Саксонии и Дании! И в присутствии посла Франции, что уже само по себе могло бы придать веса вашей миссии. Да с Фридрихом Вторым Прусским от этого припадок бы случился! Нет, поверьте мне, если вы хотите трудиться на благо мира, вам будет благоразумнее покинуть страну.
— Куда же мне ехать?
— В Англию, например.
Снова увидеться с Александром. Единственная искорка, согревшая сердце Себастьяна.
— А моя честь?
— Ей больше пойдет на пользу ваше исчезновение, нежели присутствие. Д'Афри твердо решил растоптать вас.
Тут в гостиную вошел Джулио.
— Доставили посылку для господина графа. От посла Франции.
— Посылку?
В ней оказалось шесть бутылок вина. С запиской от д'Афри: «Счастливого пути».
Бентинк и Себастьян обменялись многозначительным взглядом, заинтриговав присутствующего Барбере.
— Завтра утром я отправлю к вам слугу с каретой, запряженной четверкой лошадей, — заявил советник. — Сядете на судно в Хеллеветслуисе. Не забудьте паспорт, иначе не сможете попасть в Англию.[78]
Потом пожелал счастливого пути. Укладывая вещи, Себастьян не смог отогнать от себя мысль, что Бентинк тоже испытывает облегчение, видя, что он уезжает, поскольку это дело явно повредило его репутации. Очевидно, советник знал, что не сможет долго оказывать ему свое покровительство.
Короче, вся Гаага кричала Сен-Жермену вдогонку: «Скатертью дорога!»
53. НЕСКОЛЬКО КРУПИНОК ЗОЛОТА
Северные ветры развеяли первый летний зной. Может, причина всегда кроется на севере?
Недолговечные краски весны — яблоневый цвет, гиацинты и лютики — давно исчезли из лесов и лугов в окрестностях Хёхста. Нежные пастели не продержались и месяца. Отныне пейзажем завладел багрянец маков и пьянящий аромат лилий.
Вдруг Себастьяну вспомнилась их лондонская встреча с Александром. Молодой человек еще был взволнован недавним посещением матери. Даная приезжала к нему всего две недели назад.
Неспешно бродя по лугам вокруг своего дома, Себастьян старался вспомнить черты юной гречанки и бурю, некогда пробужденную в двух телах на берегу Черного моря. Он подумал: сколько же людей прошло перед ним после Мехико? Сотни лиц, и каждое оставило свой хрупкий отпечаток в его памяти, словно бабочка чешуйку своих крыльев на стене.
Взгляд Александра в тот раз был иным. Больше блеска в глазах, больше восхищения. Отец и сын сидели за ужином в доме, унаследованном от Соломона Бриджмена. Лицом друг к другу.
— Мать сказала, что вы трудитесь ради освобождения Греции. Я горжусь этим.
Себастьян онемел. Потом сумел выговорить:
— Не угодно ли объясниться?..
— Не притворяйтесь, отец, — сказал молодой человек со смехом. — Вы служите России еще со времен Констанцы, потому что ваша единственная надежда — избавить нас от турецкого ига. Вот она, ваша тайна, по крайней мере ее часть.
Себастьян испытал что-то вроде головокружения: а ведь правда. Он поступил на службу к графу Банати ради освобождения Греции. Он и забыл об этом.
Но русские больше не подавали признаков жизни. Граф Банати растворился во времени. После поездки Себастьяна в Гаагу испарилась и баронесса Вестерхоф. О Засыпкине в газетах вообще не упоминалось. Но этот-то вполне должен был понять из сообщений послов, что миссия графа де Сен-Жермена провалилась.
Себастьян оставил сыну его иллюзию: то, о чем говорил Александр, все-таки не было неправдой. Но достаточное для полицейского донесения, оно было так же далеко от истины, как утверждение, что Луна сделана из белого сыра.
Перед посадкой на корабль в Хеллеветслуисе Себастьян распрощался с шевалье де Барбере, оставив ему щедро набитый кошелек и записку.
— Соблаговолите лично доставить это письмо получателю и спрячьте, пересекая границу, чтобы его не перехватила полиция Шуазеля.
Записка была сложена таким образом, чтобы ее можно было засунуть в сапог.
— Сударь, — ответил молодой человек, — мы здесь расстанемся, но я с вами не прощаюсь. Дайте мне адрес, куда вам писать. А вот по этому можете писать мне. Я ведь вам понадоблюсь рано или поздно.
Себастьян улыбнулся, тронутый этой упрямой собачьей верностью, и расцеловал его.
— Пишите князю Александру Полиболосу в Лондон, Блю-Хедж-Холл на Темзе. Запомните.
Барбере бросил на него долгий взгляд. Себастьян ощутил разницу в их возрасте: он уже не умел бросать такие. После ухода Бентинка он не сомкнул глаз и чувствовал себя совершенно разбитым.
Письмо было написано в полночь — этой убившей своего мужа баронессе, чьего имени он даже не знал, но образ которой витал в его памяти, словно призрак.
«Сударыня!
Все потеряно, и на сей раз даже вместе с ошметками моей чести. Еду в Лондон, но через несколько недель буду в своем имении в Хёхсте, близ Франкфурта-на-Майне, в герцогстве Гессен-Кассель. Если захотите прокатиться, попросите от моего имени паспорт у маршала де Бель-Иля.
Граф де Сен-Жермен».
Это было больше трех недель назад. Никаких известий из Парижа и Версаля так и не поступило.
Солнце превратило поверхность Майна в серебро. Себастьян перевел взгляд на свой замок: над двумя трубами поднимались струйки дыма. Герберт, слуга-фриз, которого он нанял по возвращении на континент, вышел из дома с топором в руке — колоть дрова.
Пребывание Себастьяна в Лондоне было внезапно сокращено. Через шесть дней после прибытия в Блю-Хедж-Холл к нему явился некий молодой и вежливый человек, объявив:
— Сударь, похоже, газеты осведомлены о вашем приезде. Мой начальник, лорд Холдернесс, обеспокоен этим. Он говорит — передаю вам его слова, — что это умножит отголоски интриги, начавшейся в Соединенных провинциях и взбудоражившей не только эту страну, но также Австрию, Францию и Россию. Прошу вас именем его величества короля проявить любезность и покинуть Англию, пока это дело не будет забыто.
Себастьян некоторое время молчал. Его изгоняли отовсюду.
— Хорошо. Передайте лорду Холдернессу, что я уеду завтра же.
Посланец покачал головой, усмехнувшись.
— Скорее послезавтра. Завтрашнее судно направляется в Соединенные провинции, а я не думаю, что вы захотите туда возвращаться.
Они предусмотрели все.
Александр присутствовал при сцене — сперва опешивший, потом удрученный. Себастьяну пришлось вкратце объяснить ему суть дела.
Объезжая окрестности, лесничий герцога Вильгельма Гессен-Кассельского тоже увидел дым из труб бывшего замка своего господина, о чем и сообщил ему. Себастьян как раз вспоминал о великолепных скакунах, купленных некогда в Пушапуре и оставленных в Индии, и подумывал, не стоит ли ему снова обзавестись лошадью, когда пришла записка от герцога: «Sehr lieber Graf…».[79] Графа де Сен-Жермена приглашали на воскресный ужин, через три дня.
Настала пора возобновить связи с родом человеческим.
Только воспоминание об индейцах, вынесенное из Америки, помешало ему скатиться к мизантропии. И еще последний взгляд Барбере на причале. В той свинцовой массе, какую представляют собой люди, всегда — ну, почти всегда — находилось несколько крупинок золота. Что же касается трансмутации остального…
Себастьян с грустью подумал об Обществе друзей: прекрасная мечта. Масоны? Они ему помогли, конечно, но по мере своих средств: Бентинк, попросив его покинуть Гаагу, не мог поступить иначе.
Себастьян посмотрел на атанор, отныне навечно холодный, и взял со стола медаль, которую когда-то покрыл фальшивым золотом. Улыбнулся.
Перечитал таинственный текст, якобы принадлежавший Региомонтанусу: «Hic jacet Filius Azoth Mercuriique. Hie atque jacet maxima vis mundi…» — как вдруг донесшийся стук копыт и колес заставил его поднять голову. Кто-то с визитом? Он подошел к окну. В самом деле, по окаймленной деревьями дороге к замку подъехала почтовая карета, запряженная парой лошадей. Он был заинтригован. Высунулся из окна. Слуга Герберт уже сбегал с крыльца, чтобы открыть дверцу. Женщина! В широком синем плаще. Ступив ногой на землю, она подняла голову.
Баронесса Вестерхоф!
54. ПЛАМЯ, НЕСТЕРПИМОЕ ПЛАМЯ!
Она приехала, аромат ее духов наполнил замок, и все же она не принадлежала ему.
— Я здесь исключительно по своей воле. Так что не торопитесь завладеть трофеем.
Улыбка была вполне под стать словам и не смягчила их содержание.
Это был единственный намек на любовные отношения, которые Себастьян пытался установить меж ними; однако рубиновый кулон баронесса носила. Остальное в ее речах касалось политики.
— Настала пора объединить наши силы.
— Наши силы?
Засыпкин, объяснила она, нисколько не упрекает его за провал миссии, которую ему доверил, собственно, король Франции. Всему русскому правительству известно о слабости характера Людовика XV. Король, разумеется, хотел мира, но не имел силы навязать свою волю министрам. Императрица Елизавета направила королю секретное письмо с предложением союза, но не получила ответа.
— А почему вы говорите, что именно теперь надо объединить наши силы?
— Пришло время. Здоровье императрицы пошатнулось. Наследование престола будет опасным.
Баронесса не захотела сказать больше. После ее прибытия Себастьян послал записку герцогу Вильгельму, что прибудет к ужину не один.
В герцогском замке их поджидал сюрприз: принцесса Анхальт-Цербстская. Совпадение тотчас же пробудило подозрение в душе Себастьяна: выходит, баронесса приехала в Хёхст, зная, что принцесса неподалеку? Если это так, то что замыслили обе эти женщины?
Тем не менее встреча была искренне теплой. Присутствовал также кузен принцессы герцог Гольштейн-Готторпский. Ужин, за которым собралось всего человек пятнадцать гостей, быстро стал похож на семейную трапезу. Герцоги говорили о финансах и политике; присутствие Себастьяна, о чьих голландских злоключениях были теперь наслышаны все сидящие за столом, вскоре повернуло беседу в другое русло. Его попросили рассказать о своем дипломатическом опыте, что Себастьян и сделал, представив себя жертвой пагубного могущества братьев Дювернье и Шуазеля, а также их презренного подручного, каковым оказался посол д'Афри. Ему сочувствовали, порицая Людовика XV и Шуазеля. Вспомнив о зловещей роли, которую сыграл маркиз де Ла Шетарди, посол Франции в России, строивший козни против братьев Бестужевых-Рюминых, принцесса Анхальт-Цербстская заявила, что надо остерегаться французских послов.
— Это исполнители грязных делишек для своих хозяев, — утверждала она. — Что касается самого короля, то он дорого заплатит за свою слепоту. Он не видит ни своих истинных союзников, ни пределов собственных сил. Войну против Англии он не выиграет, зато Фридрих Второй тем временем усилится. Франция ревнует к силе России на востоке и при этом боится задеть Высокую Порту, разлагающуюся империю. Однажды Фридрих окажется на берегах Рейна, но Людовик этого уже не увидит.
— После меня хоть потоп! — воскликнул по-французски герцог Гессен-Кассельский.
Все рассмеялись.
— Досадно то, — продолжил герцог, — что тогда Фридрих и нас проглотит.
После ужина принцесса Анхальт-Цербстская спросила Себастьяна о его изысканиях.
— Как-то вечером в Версале, — сказала она, — вы раскрыли госпоже де Помпадур в присутствии кардинала де Берни, что можете абстрагироваться от собственного тела.
Себастьян насторожился: как раз за это она и баронесса Вестерхоф упрекали его во время их последней парижской встречи. Зачем же она ворошит старое? Да еще и на публике? Он попытался угадать это по выражению лица принцессы, потом перевел взгляд на баронессу.
Все прислушались к их разговору.
— Совершенно верно, мадам.
— Значит, вы думаете, что душа может освободиться от тела?
— Я так полагаю, мадам.
— И вы полагаете, что души умерших также незримо витают меж нами?
Он вспомнил видение сестрицы Элспет Партридж в Лондоне и Бабадагской прорицательницы в Констанце.
— Я в этом убежден.
— Считаете ли вы, что это можно доказать и тем, кто в это не верит?
Они обе бросают ему вызов?
— Можно, мадам.
— Но как?
Досада подхлестнула Себастьяна, но он сдержался.
— Если мы все сядем вокруг стола, держась за руки, и призовем одну из этих душ, она появится.
— Прямо здесь? — настаивала принцесса.
На сей раз он понял: вызов брошен публично.
— Где угодно, сударыня.
Принцесса повернулась к герцогу Вильгельму:
— Ваше высочество согласны?
Тот, явно в замешательстве, ответил:
— Мне это кажется рискованным, поскольку мы не знаем, что за душа появится. Хотя, вообще-то, мне любопытно присутствовать при таком опыте.
Были сделаны соответствующие распоряжения: слуги принесли круглый стол и расставили вокруг него стулья, потом, по просьбе Себастьяна, убрали все канделябры, кроме одного, расположенного на отдалении. Гости расселись в полумраке.
— Положим ладони на стол, — сказал Себастьян. — Молча. Потом кто-нибудь из нас попросит одну из душ усопших проявить себя.
Пробило одиннадцать часов.
— Я прошу одну из душ, которую мы знали, проявить себя, — сказала принцесса не слишком уверенным голосом.
Прошло несколько минут. Из-за невыносимого напряжения Себастьян почти задыхался. Он знал, что увидит призрак брата Игнасио.
Но это оказался не он.
Какая-то прозрачная поначалу дымка возникла посреди стола.
Герцог Вильгельм чуть не вскрикнул.
Напряжение жгло Себастьяна.
Дымка уплотнялась. Очертания становились четче. Появилось немолодое женское лицо, обозначилась фигура. Видение двинулось к принцессе. Мертвая обвиняющим жестом простерла свой перст к живой. Все видели капающую с него кровь.
Принцесса взвизгнула.
Потом, опустив палец, привидение обернулось к Себастьяну. Он застыл.
— Что? — крикнул он. — Что?
Пламя, нестерпимое пламя взметнулось посреди стола и ослепило присутствующих.
Все закричали. Даже слуги у дверей переполошились.
— Свечей! — приказал герцог Вильгельм.
В гостиную вернулся яркий свет. Призрак исчез. Потрясенные гости не находили себе места, бесцельно блуждая по комнате, бессильно опустив руки, не в состоянии говорить.
— Смотрите! — воскликнул вдруг герцог Гольштейн-Готторпский, показывая что-то на столе, прямо перед тем местом, где сидела принцесса.
Красное пятно.
— Кровь, — сказал герцог Гольштейн-Тотторпский.
Принцесса потеряла сознание. Баронесса Вестерхоф бросилась к ней на помощь. Прибежал дворецкий с мокрой салфеткой и нюхательной солью.
— И посмотрите еще на это, — сказал Себастьян, показывая на середину стола.
Все склонились над этим местом. Серая краска растрескалась и почернела. Обгорела.
Герцог приказал подать вина и шнапса, чтобы приободрить своих гостей.
— Зачем она бросила мне вызов? — спросил Себастьян у растерянной баронессы.
— Это был не вызов, а проверка, — еле смогла выговорить она.
Баронесса оперлась о руку Себастьяна, впервые прикоснувшись к нему. В ее глазах стояли слезы.
— Но что это было за пламя? О… это пламя! — простонала она.
— Не знаю.
— Будущее… — пробормотала она, — будущее Святой Руси… О Боже!
Комментарии
1
Колокольный звон, призывающий к богородичной молитве. (Прим. перев.)
(обратно)2
Метиска (исп.).
(обратно)3
Дорога (исп.).
(обратно)4
Матерь Божья! Помоги! (исп.).
(обратно)5
«Благодатный дух» (исп.).
(обратно)6
«Южная звезда» (исп.).
(обратно)7
Таверна, харчевня (исп.).
(обратно)8
Малыш, паренек (исп.).
(обратно)9
Прощай, жестокий мир! (исп.).
(обратно)10
Еще разок… Жареных потрошков! (исп.)
(обратно)11
Пойдем со мной. Я знаю кое-кого, кто говорит на твоем языке (англ.).
(обратно)12
Не верю своим ушам (англ.).
(обратно)13
Деньги есть? (англ.).
(обратно)14
«Спасибо», «Неужели», «Передайте, пожалуйста, соль», «Суп слишком горячий» (англ.).
(обратно)15
Вы знаете, где тут гостиница? (англ.).
(обратно)16
Пять (англ.).
(обратно)17
Пират, любовник, власти (англ.).
(обратно)18
Купец, голландский, горе (англ.).
(обратно)19
Ну и аппетит же у вас, мой господин (англ.).
(обратно)20
Доброго пути, господин красавчик (англ.).
(обратно)21
В 1710 г. собор Св. Петра, сгоревший во время Большого пожара в 1666 г., был заново построен по чертежам Кристофера Рена. Имея 157 метров до верхней точки купола, он был самым высоким храмом в мире. (Прим. автора.).
(обратно)22
И пусть крылья ангелов навевают вам сон (англ.).
(обратно)23
Ньютон скончался в возрасте восьмидесяти трех лет 20 марта 1727 г. (Прим. автора.)
(обратно)24
Хотя и меньшая по числу, чем тори, и не слишком ценимая королем Георгом I, партия вигов, состоящая из аристократии и богатой буржуазии, поддерживала политику, проводимую премьер-министром сэром Робертом Уолполом. (Прим. автора.)
(обратно)25
«О движении тел в пространстве» (лат.).
(обратно)26
Так в Англии называют францисканцев. (Прим. автора.)
(обратно)27
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа отсылаю тебя в царство Божие… (лат.).
(обратно)28
«Бриджмен и Хендрикс, банкиры» (англ.).
(обратно)29
В пору турецкого владычества этот румынский город назывался Кюстенджи. (Прим. перев.)
(обратно)30
Господь небесный! Мы… Да, в самом деле, может показаться, что мы слышали самого Мастера! (нем.).
(обратно)31
«Нежный лесной ветерок, нежные девичьи поцелуи» (нем.).
(обратно)32
Претендент на трон, подстрекаемый своим отцом-изгнанником, находившимся тогда в Риме, и ободренный тайным договором с Францией, надеялся отвоевать потерянный престол, подняв восстание в Шотландии и вынудив Францию послать войска за Ла-Манш. Он был побежден в апреле 1746 г. и после нескольких месяцев ожидания в подполье достиг наконец Роскоффа в сентябре 1746 г., переодевшись женщиной. Тем не менее он дважды тайно наведывался в Лондон, в 1750 и 1754 гг., устраивая безнадежные заговоры. (Прим. автора.)
(обратно)33
Эпизод с арестом Сен-Жермена приведен у эссеиста и мастера эпистолярного жанра Горация Уолпола, графа Оксфорда, в письме, адресованном сэру Горацию Манну, британскому посланнику во Флоренции (от 9 декабря 1745 г.). Уолпол писал, что Сен-Жермен «замечательно играет на скрипке, безумен и не слишком понятлив». (Letters of Horace Walpole, earl of Oxford, to sir Horace Mann. L. 1833). (Прим. автора.)
(обратно)34
Известно, что Сен-Жермен прибыл в Вену в 1745 г.; однако за несколько месяцев до этого французская армия с одной стороны и австро-сардинская с другой вели яростные бои в Пьемонте; таким образом, очевидно, что Сен-Жермен не мог прибыть в Австрию с французским паспортом, который, впрочем, ему было бы трудно получить. (Прим. автора.)
(обратно)35
Позвольте и мне спросить: вы имеете в виду вашу страну? (англ.).
(обратно)36
Легендарный оборотень, миф о котором появился в 1776 г., когда в провинции Жеводан на юге Франции в лесах погибло более 100 человек. Неведомый зверь якобы напоминал громадного волка. (Прим. перев.)
(обратно)37
Зимой 1741–1742 гг. курфюрст Баварский принял титул эрцгерцога Австрийского, потом короля Богемского, а 21 января 1742 г., при молчаливой поддержке других немецких государств и Англии, короновался в Праге императором под именем Карла VII, заявив таким образом притязания на трон Габсбургов. Это и стало отправной точкой войны за Австрийское наследство. Императрица Мария-Терезия встревожилась, и австрийские войска вторглись в Баварию; Мюнхен, столица курфюрста, пал в день его коронации. Только смерть Карла VII (29 декабря 1744 г.) положила конец угрозе, тяготевшей над троном Габсбургов, поскольку его преемник отказался от всяких имперских амбиций. (Прим. автора.)
(обратно)38
Обе области принадлежали тогда Габсбургам. (Прим. автора.)
(обратно)39
Благосклонность Бель-Иля к Сен-Жермену — установленный факт: именно маршал пригласил его в Париж и представил ко двору Людовика XV. (Прим. автора.)
(обратно)40
Внезапное недомогание Людовика XV при Меце в 1744 г. позволило Карлу Лотарингскому ускользнуть от французских войск. (Прим. автора.)
(обратно)41
Клод-Луи, граф де Сен-Жермен (1707–1778), будущий военный министр Людовика XVI, покинул Францию вследствие дуэли и служил последовательно курфюрсту Пфальцскому, курфюрсту Баварскому, Фридриху Великому и наконец присоединился к маршалу Саксонии во Фландрской кампании. (Прим. автора.)
(обратно)42
Современники удивлялись необычной яркости красок на его полотнах. Когда живописец Карл Ван Лоо увидел их в Версале, он попросил Сен-Жермена раскрыть секрет, но тот отказался. (Прим. автора.)
(обратно)43
Regiomontanus — «Кенигсбергский» в переводе на латынь. Кенигсберг по-немецки — «королевская гора». (Прим. перев.)
(обратно)44
Известная цитата из мольеровского «Дон-Жуана». (Прим. перев.)
(обратно)45
С XVI в. — турецкий город Хаджибей, в 1764 г. турки построили здесь крепость Ени-Дунья, взятую русскими в 1789 г. Новый военно-торговый порт переименован в Одессу лишь в 1794 г. (Прим. перев.)
(обратно)46
Ростов (крепость Ростовская) основан в 1761 г.: прежнее название поселения, существовавшего на этом месте, — Богатый Колодезь. (Прим. перев.)
(обратно)47
Маныч — левый приток Дона (Западный Маныч). Восточный Маныч — пересыхающая река, в верхнем течении носит название Калаус. У Брокгауза и Ефрона сказано: «Весною Маныч Восточный иногда достигает моря (Каспийского) и в верховьях соединяется с Манычем Западным — притоком Дона». (Прим. перев.)
(обратно)48
Согласно Зипштейну, Сен-Жермен отсутствовал в Вене после 1746 г. Этот же автор утверждает, что в 1755 г. он отправился в Индию «во второй раз». Но дату первого путешествия не уточняет. Поскольку нет никаких сведений о деятельности Сен-Жермена между 1746 и 1755 гг., приходится заключить, что в первое индийское путешествие он отправился из Вены в начале 1747 г. (Прим. автора.)
(обратно)49
В то время территория тюркских племен. До 1881 г. никаких русских крепостей там не было. Красноводск основан в 1869 г. (Прим. ред.)
(обратно)50
Прежнее название Пешавара. (Прим. автора.)
(обратно)51
Наверняка тот самый «армянский халат», который Казанова видел на Сен-Жермене, когда посетил его в Турнэ. (Прим. автора.)
(обратно)52
Вы говорите по-английски? (англ.).
(обратно)53
Родившийся в конце XVII века и убитый своей собственной стражей в 1747 г., Надир Кулибек (1688–1747), главарь шайки разбойников, но при этом дальновидный политик и выдающийся, если не гениальный военачальник, был уроженцем Хорасана, области на востоке Персии, пограничной с Афганистаном и Россией, в ту пору оккупированной Турцией. Во главе пятитысячного войска из людей своего племени афшар он противостоял и туркам, и России, потом восстановил независимость Персии и в 1736 г. был объявлен шахом под именем Надир. В 1738 г. он вторгся в Афганистан и Индию, дойдя до Дели, где завладел знаменитым «Павлиньим престолом», находящимся теперь в Тегеране. Во время путешествия Сен-Жермена в Индию осуществлял ревнивый контроль за западным берегом Инда. (Прим. автора.)
(обратно)54
Как мало я истратила на то, Чтобы спасти души моей подобье От дьявольской жестокости!.. Шекспир. Венецианский купец. (Прим. автора.) (обратно)55
Остров Святого Лаврентия — старое название Мадагаскара (остров был открыт в день Святого Лаврентия), служившего логовом для английских и французских пиратов. (Прим. автора.)
(обратно)56
В 1642 г. половина французского гарнизона в Фор-Дофене была перебита туземцами, а местное население долго оставалось враждебным к попыткам колонизации. (Прим. автора.)
(обратно)57
Доказано, что около 1750 г. Сен-Жермен действительно купил земли и дом в Германии, правда, неизвестно где. Мемуарист Й. Й. Бьорншталь сообщает в своем «Путешествии по Европе в 1774 г.» («Reise in Europa in 1774»), что гостил в замке герцога Гессен-Кассельского в обществе лорда Кавендиша и Сен-Жермена. Согласно «Мемуарам моего времени» (Копенгаген, 1861), Карл Гессенский, брат герцога, тоже принимал у себя Сен-Жермена четыре года спустя. Таким образом, он явно пользовался дружбой Гессен-Касселей, а значит, вполне можно предположить, что именно благодаря им и приобрел свое немецкое имение. (Прим. автора.)
(обратно)58
Именно в Мюнстере в 1717 г. была основана первая великая немецкая ложа, старейшая в стране. (Прим. автора.)
(обратно)59
Парма, Пьяченца и Гвастала. (Прим. автора.)
(обратно)60
Роберт Клайв (1725–1774) единодушно считается основателем Индийской Британской империи благодаря своему военному и административному гению. Он пригласил Сен-Жермена сопровождать его в Индию, и в 1755 г. граф побывал там во второй раз, вместе с лордом Кавендишем. В 1755 г. Клайв лечился в Лондоне от малярии. (Прим. автора.)
(обратно)61
Фигурировавшая в руководствах католических миссионеров XVIII века и в традиционных фармакопеях как средство против малярии и глистов, полынь была заново открыта в XX веке фармацевтическими фирмами. (Прим. автора.)
(обратно)62
Раймунд Луллий (1235–1315) — средневековый алхимик, философ, поэт, писатель и миссионер; его труд «Великое искусство» («Arsmagna») — одно из самых любопытных и замысловатых схоластических сочинений; придумал особую логическую машину, состоящую из концентрических кругов, для выведения всяческих, в первую очередь христианских, истин. Писал на каталонском, латинском и арабском языках. (Прим. перев.)
(обратно)63
Произведя свой известный опыт, Гельвеций, которому подобный же торговец продал «философский камень», решил, что изготовил золото. Однако все драгоценные металлы, добытые подобным методом, оказались на самом деле всего лишь покрытыми медной пленкой, как это подтверждают образцы, выставленные в Дрезденском музее, а пресловутый «философский камень» был в действительности природным кристаллом нитрата меди. (Прим. автора.)
(обратно)64
Этот странный эпизод из жизни Сен-Жермена, а также имена тех, кто последовал за ним в Шамборский замок, извлечены из ее «Неизданных мемуаров, касающихся истории XVIII и XIX веков» (Париж, 1825). (Прим. автора.)
(обратно)65
Никола-Рене Берье, сначала интендант Пуату, в 1747 г. стал лейтенантом полиции и личным шпионом г-жи де Помпадур. В 1758 г., когда к власти пришел Шуазель, он был назначен министром военно-морского флота. Был отцом Антуана Пьера, известного адвоката-легитимиста. (Прим. автора.)
(обратно)66
Анна Гуфье де Роман (1737–1808), маркиза де Каванак, мать Луи-Эме, незаконнорожденного сына Людовика XV, опеку над которым он у нее отнял в августе 1765 г., чтобы наказать за участие в заговоре против Шуазеля. Оставила «Мемуары о Людовике XV и г-же де Помпадур», изданные в 1985 г. (Меркюр де Франс). (Прим. автора.)
(обратно)67
Алексей Петрович Бестужев-Рюмин (1693–1766) был обвинен тремя годами раньше в сговоре с главнокомандующим русскими войсками Степаном Апраксиным — он якобы подстрекал его не драться во время русского наступления на Пруссию (которое закончилось русской победой при Гросс-Егерсдорфе). Обвинение было явно абсурдным. В действительности же императрица Елизавета и ее придворные ставили ему в вину слишком активную подготовку к восшествию на престол великой княгини Екатерины, дочери принцессы Анхальт-Цербстской, которая была в дружеских отношениях с Сен-Жерменом. Старший брат канцлера, Михаил Петрович (1688–1760), стал жертвой интриг посла Франции маркиза де Ла Шетарди, желавшего дискредитировать Бестужевых-Рюминых: его жена была несправедливо обвинена в заговоре против короны, публично бита кнутом и сослана по урезании языка. Но карьера самого Михаила Петровича блестяще устояла в этом испытании. (Прим. автора.)
(обратно)68
Гран — единица веса для ювелиров и золотых дел мастеров; он равнялся 0,053 г; таким образом, четыре грана составляют 0,212 г, то есть чуть больше одного карата (0,2 г). (Прим. автора.)
(обратно)69
Этот анекдот приводит г-жа де Жанлис в своих «Мемуарах». (Прим. автора.)
(обратно)70
Эту цифру приводит в своих «Мемуарах» г-жа де Жанлис. (Прим. автора.)
(обратно)71
Настоящее положение Сен-Жермена в Шамборском замке весьма отличается от фантастических измышлений по этому поводу; доказательства можно отыскать во многих документах Национальных архивов, касающихся замков Шамбор и Блуа (шифр О 1326), в частности в переписке между г-ном Колле, главным управляющим названных замков, г-ном де Сонри, комендантом замка Шамбор, графом де Сен-Флорантеном (позже маркиз де ла Врийер), суперинтендантом де Денье и маркизом де Мариньи, главой королевской свиты. Из них явствует, что было немало споров по поводу использования покоев и даже садов замка (см. послесловие, т. II). (Прим. автора.)
(обратно)72
«Маршал написал инструкции, король лично вручил их Сен-Жермену вместе с шифром». (Барон фон Глейхен. Мемуары). (Прим. автора.)
(обратно)73
Инцидент стал предметом письма Мариньи Сен-Флорантену; в другом Флорантен спрашивал у Мариньи, почему Барбере проживает в замке вместе с Сен-Жерменом; наконец, в третьем, от Колле Мариньи, сообщалось, что история со стычкой попала в газету. Неизвестно, какую службу выполнял Барбере при Сен-Жермене. Но это дело подтверждает, что отнюдь не весь Шамборский замок был в его распоряжении, как считал Фридрих II и как до сих пор утверждают некоторые. (Прим. автора.)
(обратно)74
Детали этой встречи вполне согласуются с полным горьких сетований письмом д'Афри герцогу де Шуазелю, датированным 10 марта 1760 г. (f 212–214, № 563 Архивов Министерства иностранных дел Франции), и с сообщением об этом событии барона фон Глейхена в своих «Мемуарах». Инициатива Сен-Жермена, предпринятая им среди голландских банкиров, свидетельствует о том, что он знал эти круги и обладал в них определенным весом. (Прим. автора.)
(обратно)75
Дата точно указана в письме Йорка графу Холдернессу, английскому министру иностранных дел, откуда взят и пересказ беседы Сен-Жермена с английским послом; это письмо, равно как и переписка между Холдернессом и Йорком относительно мирных предложений Сен-Жермена, находится в фонде Митчела в Британском музее, в Лондоне (6818, P.L. CLXVIII. I. 12). (Прим. автора.)
(обратно)76
Ответ Холдернесса Йорку, датируемый 21 марта, ясно резюмирует позицию англичан: предложения Сен-Жермена могут быть дезавуированы Версалем без особых церемоний, если воля Шуазеля возобладает над королевской. (Прим. автора.)
(обратно)77
Это письмо (№ 567, f 245, Архивы Министерства иностранных дел Франции) одно из тех, что наглядно свидетельствуют о подлинной финансовой деятельности Сен-Жермена. Он там просит г-жу де Помпадур повлиять на Королевский совет, чтобы защитить его интересы, которые представляет «Эмери & К», английская фирма, зарегистрированная в Дюнкерке. (Прим. автора.)
(обратно)78
Эти детали, равно как и факты предыдущей главы, извлечены из «Дневника» Бентинка ван Рооне, хранящегося в Королевских архивах Нидерландов. Автор сообщает, что при этой последней встрече он уклонился от многих вопросов, которые задавал ему Сен-Жермен, сочтя их неважными. Впрочем, он не уточняет, какие именно. (Прим. автора.)
(обратно)79
Дражайший граф… (нем.).
(обратно)
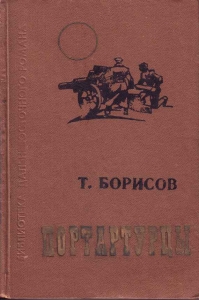





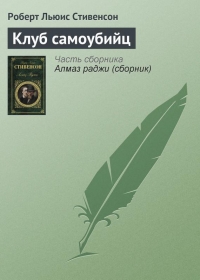

Комментарии к книге «Сен-Жермен: Человек, не желавший умирать. Том 1. Маска из ниоткуда», Жеральд Мессадье
Всего 0 комментариев