Фрэнк Йерби Изгнанник из Спарты
Глава I
Он бежал очень долго, и его затошнило. Тошнота волнами подкатывалась к горлу, во рту ощущался какой-то гадкий привкус. Аристон сначала хотел засунуть два пальца в рот, надеясь, что его вывернет наизнанку и станет полегче, но тогда пришлось бы держать украденного козленка только одной рукой… Да и в желудке вообще-то давно было пусто.
У подножия Парнона, куда его сейчас занесло, воздух был легким и бодрящим. Высившиеся позади горы казались абсолютно голыми; это лишало Аристона последней надежды. Слева возвышался другой горный хребет, Тайгет, еще более неприступный и также лишенный растительности. Его вершины, покрытые снегом, ослепительно белели в лучах утреннего солнца, хотя в Лаконику уже много дней назад пришла весна. Аристон видел внизу реку, которую его соотечественники-лакедемоняне звали Эвротом; она серебристо сверкала, напоминая щит воина. Если бы ему удалось добежать до реки и переплыть ее, он мог бы спастись. Однако Аристон трезво оценивал свои шансы. А они были невелики. Или даже равны нулю.
Он обернулся. У него мелькнула мысль: а вдруг жители селения прекратили погоню? Но они по-прежнему неслись за ним – одетые в козлиные шкуры, бородатые, грязные, похожие на скопище мелких бесов, вырвавшихся из Тартара; такие чудища по приказу владыки Аида терзали в Царстве Мертвых тени злодеев. И внезапно у Аристона прервалось дыхание. И оборвалось сердце. Он осознал, что преследователи не отступят. Ни теперь, ни потом. Никогда.
Для этих бедных людей козленок представлял собой немалую ценность. Но это было не главное. Главное то, что Аристону в поисках пропитания не следовало взбираться так высоко в горы, зря он пошел безоружным, в одиночку. Здесь его могли убить, и никто из гомойои, свободных граждан Спарты, никогда бы не узнал об этом. А негодяи постараются его прикончить! Любой раб или периэк, на которого распространяются безжалостные законы города-государства Спарты, где даже монеты куются не из золота, а из железа, с превеликой радостью вознесет жертвы всем загробным божествам за одну только возможность убить спартанца. Тем более, если это убийство сойдет ему с рук.
Аристон бежал вперед без остановки. Его легкие, стремительные движения были преисполнены изящества. Если бы не козленок, Аристон давно бы оторвался от селян. Сын спартанца, меллиран, он с семи лет привык подвергать свое тело суровым испытаниям. Но теперь Аристон начал задыхаться: ведь он бежал уже целых два часа, да к тому же с упитанным козленком в руках. Он подумал, что, может быть, стоит бросить свою ношу: вдруг селяне успокоятся, когда он вернет им пропажу? Но в глубине души Аристон сознавал, что они не оставят его в покое. На их месте он сделал бы то же самое. Хотя периэки, жившие в тех краях, были рождены свободными, спартанцы, чувствовавшие себя господами, обращались с ними немногим лучше, чем с рабами-илотами. В результате и периэки, и илоты, рискуя умереть под пыткой, почти ежегодно восставали против спартанского ига. Правда, тщетно. И опять-таки Аристон не мог их в этом винить. Он понимал, что поступил бы на их месте точно так же. Рассуждал он так, конечно, неспроста: здесь – что греха таить! – сказывалось пагубное влияние его дяди Ипполита.
Однако теперь, когда сердце бешено колотилось в груди и вот-вот грозило разорваться, с Аристоном стало твориться что-то странное. Какой-то новый запах начал пробиваться сквозь привычную вонь прогорклого масла, смешанного с потом, – а именно так обычно «благоухало» его тело. (Как и все спартанцы, Аристон почти никогда не мылся, считая, что это ослабляет организм, а протирался для чистоты растительным маслом, которое потом какой-нибудь его товарищ соскабливал с кожи скребком в виде полумесяца.) Этот новый запах, заглушавший все – и запах его утомленного тела, и вонь, исходившую от козленка, – был вызван страхом.
Ощущение оказалось не из приятных; Аристон сразу как-то обессилел, ноги у него подкосились. Он был юным спартанцем, которому не полагалось знать, что такое страх. Но теперь Аристон перепугался не на шутку. И тут же, едва он понял, что боится, его захлестнул стыд, а это было еще хуже страха. Ведь Аристон принадлежал к роду, чьи воины сражались при Фермопилах, он прекрасно помнил, как мать одного из них сказала, прощаясь с сыном: «Со щитом или на щите». И еще он помнил, как спартанский мальчик, укравший лисенка и спрятавший его под одеждой, умер, ни разу не вскрикнув от боли, когда зверек выгрызал ему живот.
Но Аристону было всего семнадцать, и он не хотел умирать. Во всяком случае, сейчас, не успев снискать славы, которая маячила где-то впереди, в будущем. И уже тем более он не желал погибать такой глупой, позорной смертью – от руки горцев, разъяренных тем, что он стащил их козла! Впрочем, эти наивные софизмы не могли скрыть неприглядную правду: на самом деле Аристон не хотел расставаться с жизнью, потому что боялся смерти. Он не мог примириться с мыслью, что его не будет, что он исчезнет и его гибкое, прекрасное тело станет пищей для червей, а все высокие, светлые помыслы обратятся в ничто.
Тут Аристон наконец положил козленка на землю и припустил еще быстрее. Может, ему повезет и он добежит до какого-нибудь поля на окраине Спарты? В это время года владельцы обычно бывают там – принимают работу. Если так, то он спасен. Периэки не осмелятся убить его в присутствии другого спартанца. Но вдруг хозяина на участке не окажется? Вдруг там будут только илоты? Они же грубее скотины, за которой им приходится ухаживать, и втайне ненавидят своих господ!
Аристон боялся об этом даже подумать. Он вообще сейчас старался не думать. Все его мысли и ощущения свелись к одному – к ударам загнанного сердца. И тут над головой Аристона просвистел сначала один камень, потом второй… Ему стало дурно, он споткнулся. Периэки вытащили из-за пояса пращи и размахивали ими над головами, посылая вдогонку Аристону целый шквал камней. А надо сказать, периэки мастерски владели пращой, чуть ли не лучше всех на свете, так как спартанцы, наложившие на них разные повинности требовали в том числе, чтобы периэки служили спартанскому полису, и в военное время создавали из них легко вооруженное войско. Не позволяя периэкам носить тяжелое оружие, спартанцы обучили их метать дротики, стрелять из лука и, главное, из пращи.
От страха Аристон почти летел вниз по склону горы. На ногах его словно оказались сандалии Гермеса. Он начисто позабыл про боль, терзавшую грудь, и бежал быстрее, чем когда-либо в своей жизни. Но все напрасно! Мчавшийся вслед за ним косматый тупица периэк неожиданно остановился, взмахнул над головой кожаной пращой и – раз, два, три! – отпустил одну из двух веревок. Белый камень, вылетевший из пращи, на мгновение перекрыл периэку видимость. Затем траектория его полета неумолимо совпала с движением спартанского юноши. В голове у Аристона полыхнул красный пожар. Бессмертный Зевс принялся метать громы и молнии на далеком Олимпе. А потом у ног Аристона разверзся Тартар. Из его груди вырвалось что-то похожее на вздох, и он провалился глубже в темноту, в пустоту, в кромешную ночь.
Он пришел в себя от толчка. Голова ужасно болела. Впрочем, запястья, колени и лодыжки болели не меньше. Аристон открыл глаза. Лучи полуденного солнца вонзились в них, словно добела раскаленные копья. Он зажмурился, но свет пробивался сквозь веки, глаза жгло, перед ними плясали красные круги. Толчки и тряска продолжались. Казалось, Аристон раскачивался всем телом. Потом тень от скалы упала на его лицо, и повеяло блаженной прохладой.
Аристон опять открыл глаза. И мгновенно понял, почему ему так больно. Периэки привязали его, точно убитого кабана, к жерди, сделанной из ствола молодого деревца. Двое самых рослых мужчин несли жердь на плечах. Они тащили Аристона вверх по козьей тропе. И внезапно юноша почувствовал, что больше не в силах вынести всего этого: зверской боли в голове, мучения, которое причиняли ему кожаные путы, впивавшиеся в тело, толчков и тряски, пустоты в желудке, смертельного спазма измученных легких и, главное, запаха, исходившего от селян. Он повернул голову набок, и его вытошнило прямо на каменистую землю.
– Ха! – хмыкнул один из периэков. – Даже богов рвет желчью! Лучше побереги эту мерзость внутри, спартанец. Она тебе еще пригодится.
Аристон ничего не ответил. Во-первых, он с трудом понимал речь горца, поскольку периэки говорили на ахей-ском диалекте, который был древнее языка Гомера. По сравнению с периэками дорийцы были чужаками, пришлыми, они захватили долины Лаконики; отчасти поэтому покоренные племена так ненавидели все спартанское. А во-вторых, Аристон судорожно соображал, как бы удрать от горцев. Он их по-прежнему боялся, однако страх перестал владеть всем его существом. В этом сказывалось преимущество спартанского воспитания. Оно вообще имело много преимуществ: и в физическом плане, ибо гомойои, или равные, как себя называли граждане Спарты (имея в виду, что они равны между собой, поскольку их превосходство над другими народами – и эллинами, и варварами – считалось само собой разумеющимся), были значительно сильнее любого врага, который мог встретиться на их пути, и в плане духовном, ведь спартанцы всегда оказывались гораздо умнее, хитрее…
– Или безжалостней, ибо вообще-то они глупы, как ослы, и страшно твердолобы, – насмешливый голос дяди Ипполита врезался Аристону в память. – Мы прекрасно обучены искусству лицемерия, коварства и предательства. Попомни мои слова, мальчик: я лучше буду рабом в Афинах, чем одним из соправителей Спарты.
Аристон с усилием отогнал это воспоминание. Сейчас не время поддаваться едкой иронии, которой славился толстый, вечно паясничавший дядя Ипполит, которого Аристон тем не менее любил. Он подозревал, что дядя во многом прав. В частности, в том, что за привилегию быть спартанцем надо платить добровольным отказом от цивилизации. Аристон собственноручно переписал поэмы, которые дядя Ипполит привез из Аттики и Лесбоса, но буагор, старший группы, нашел их – они были спрятаны в немногочисленных пожитках юноши – и донес педоному, наставнику молодых спартанцев. С трудом одолев одно из стихотворений (в чтении спартанцы были не очень-то сильны) и поняв, что перед ним не военные оды, а эротические гимны, любовные песни, педоном велел высечь Аристона и, что самое печальное, сжечь стихи.
Однако сейчас, когда его связали, как борова, и подвесили к палке, словно дикого кабана, от беспредельной утонченности дяди Ипполита не было никакого проку, хотя обычно она находила отклик в душе Аристона. Нет, теперь он должен быть как кремень, не зря же он получил спартанское воспитание – то самое, которое его дядя так презирал (вероятно, потому, что ему оно совершенно не пошло на пользу). Нужно придумать какую-нибудь уловку, хитрый маневр, проявить несравненное спартанское коварство и добиться, чтобы периэки его развязали, освободили и отпустили на берега Эврота, где он и его товарищи для закалки спали голыми и зимой и летом. Вот что теперь ему требовалось позарез! Но в голову не лезло ни одной дельной мысли. Она слишком сильно болела, ведь с размаху брошенный камень пробил череп; кровь, правда, запеклась в светлых, цвета темного золота, волосах Аристона, но мухи назойливо жужжали, роясь возле раны, и это тоже не способствовало размышлениям. Аристон снова закрыл глаза и шепотом помолился Зевсу, Великому Истребителю Мух. Тряска не прекращалась. Аристону было так плохо, что впору умереть.
Он почти три дня ничего не ел. Аристон и не подозревал, насколько диким это показалось бы любому другому эллину, не уроженцу Спарты. Какой полис в Элладе ни возьми: Афины, Фивы, Коринф или Сиракузы, – его граждане в жизни бы не поверили, что сына богача, мальчика аристократических кровей можно забрать семи лет от роду из отчего дома, заставить ежедневно упражняться в искусстве убивать людей, носить одну и ту же одежду и летом и зимой, спать голым в камышах на берегу реки в любое, даже самое суровое, время года, драться с приятелями чуть ли не до смерти, доказывая им свою отвагу, подвергать беднягу порке за малейшее нарушение общепринятых правил, а иногда и без оного – и все это лишь для того, чтобы просто научить его сносить боль без единого стона; и самое ужасное – что его можно держать впроголодь, а порой, как сейчас, вообще не кормить, вынуждая красть еду – есть-то хочется!
Однако именно так воспитывался юный спартанец Аристон, отец которого входил в совет старейшин, называвшийся герусией. Точно так же воспитывались и все его товарищи. И теперь Аристону предстояло поплатиться жизнью за то, что в поисках прокорма он покинул родные края. («Хм!.. Самое обыкновенное воровство!» – фыркнул бы дядя Ипполит.) Однако острый ум подсказывал Аристону, что кража козленка – всего лишь предлог. На самом деле его убьют за то, что он спартанец. Ибо он принадлежит к племени господ, которое, насчитывая от силы тридцать тысяч человек (в том числе женщин и детей), тем не менее правило – и правило безжалостно! – ста тридцатью тысячами пери-эков и угрюмыми, сердито огрызавшимися илотами, которых было вдвое больше периэков.
Ну а если рассуждать конкретнее, то Аристон погибнет из-за своей неудачи, из-за совершенных промахов. Если бы он не побоялся вторично пережить унижение порки, то стащил бы козленка у более культурных равнинных периэков, живших по соседству со спартанским полисом. Они, конечно, тоже погнались бы за ним, но его жизнь не зависела бы от исхода погони. Жители равнины не стали бы убивать его (точнее, никогда бы не осмелились). В худшем случае, не сумей он оторваться от преследователей, они вошли бы в гимнасий (периэки имели на это право, так как считались свободнорожденными) и обвинили бы Аристона в присутствии наставника. В результате педоном вернул бы им козленка, а Аристона стегали бы кнутом до крови. Так полагалось. Если же Аристону удалось бы скрыться от погони в лощине, тот же самый педоном поставил бы Аристона на пьедестал и до небес превозносил бы его отвагу и хитрость. Ибо, как справедливо заметил дядя Ипполит, не пойман – не вор."Дурак! – мысленно ругал себя Аристон. – Набитый дурак! Рисковать собственной шкурой из-за любви к тому, кто тебя презирает?! Лизандр даже не заплачет, узнав, что эти волки разорвали тебя в клочки. И – можешь не сомневаться! – пальцем не пошевелит, чтобы за тебя отомстить!»
Аристону не хотелось теперь думать о Лизандре, потому что и эти воспоминания терзали душу. Однако он ничего не мог с собой поделать. Он был влюблен в Лизандра с двенадцати лет, с тех пор, как подрос и узнал, что такое томление плоти и тоска желания. Причем не один Аристон сох по Лизандру. Тот отличался сказочной красотой, и три четверти мальчиков в гимнасии были в него влюблены. Слава о прекрасном юноше распространилась и за пределами гим-насия: всякий раз, когда Лизандр скинув, по спартанскому обычаю одежду и сверкая своей ослепительной наготой, участвовал в спортивных состязаниях – метал диск или копье, боролся, дрался на кулаках или бегал на длинные дистанции, – толпы взрослых мужчин и даже женщин стекались, чтобы полюбоваться на него. До чего ж омерзительно было слышать, как плешивые, тощие дядьки рассуждают о своей страсти к мальчику и умоляют его подарить им всего одну ночь. Особенно противно потому, что Аристон и сам лелеял подобные мечты.
Он вспомнил, как жаждал смерти, узнав, что Лизандр, в конце концов, взял себе в любовники взрослого мужчину. Но уже на следующий день – юность не в силах отказаться от надежды! – Аристон вновь, словно бесхребетный холуй, словно жалкая собачонка, плелся за прекрасным мальчиком. Из-за этой безмерной, безнадежной любви он, в сущности, и попал в переплет. Принеси он жирного козленка в гимнасии к общей трапезе, друзья сочли бы его героем. Может, и Лизандр соизволил бы тогда взглянуть на него и даже одарил бы улыбкой. А главное, Аристон стремился избежать новой порки в присутствии Лизандра, ибо не мог видеть, как это томное, капризное и прелестное лицо приобретает – что слишком часто случалось в последнее время – равнодушное или даже насмешливое выражение. Именно поэтому Аристон забрел так далеко в поисках добычи: он жаждал снискать благосклонность обожаемого красавца. И теперь из-за своей романтической глупости ока– зался у врат Аида и мог с минуты на минуту превратиться в тень, обреченную вечно стенать в унылом мраке.
Путь вверх по горе Парной, в селение периэков, занял целый день. Расстояние, которое Аристон, несясь сломя голову, пробежал за каких-нибудь два часа, теперь приходилось упорно преодолевать дюйм за дюймом, карабкаясь вверх по уступам. Вдобавок периэки были обременены увесистой ношей. При всей своей стройности Аристон оказался не из легких, ведь мышцы у него были каменные. Так что уже начало смеркаться, когда в воздухе запахло дымом очагов, и Аристон понял, что деревня недалеко. Вскоре он услышал женский гомон. А еще через мгновение женщины окружили Аристона и его преследователей.
Он сделал непроницаемое лицо, стараясь не выказывать страха, а женщины подошли поближе и глядели на него во все глаза. Аристон впервые позавидовал афинянам, ведь, если верить рассказам дяди, они не позволяли своим женщинам таскаться куда им вздумается, а держали их дома, под замком. В отличие от афинянок все лакедемонянки независимо от социального положения были самыми свободными женщинами в мире. Спартанки шокировали своей дерзостью чужеземцев, однако потом жители других городов Эллады понимали, что подобное поведение еще ничего не значит, ибо они имеют дело с самыми целомудренными и верными женами на всем белом свете.
Аристон поглядел на неопрятных периэкских женщин. Вообще-то он испытывал по отношению к женскому полу двойственные чувства. Аристон обожал свою мать Алкмену, но, кроме нее и рабынь, ни с какими женщинами не общался, даже не разговаривал с тех пор, как ему исполнилось семь лет и его забрали из дому, чтобы он там не изнежился. Аристон знал, что мальчики постарше путаются с девчонками, спят с ними и даже похваляются этим, расписывая свои восторги. Но у него не укладывалось в голове, как можно ПОЛЮБИТЬ женщину. Да и юношам, спавшим с ними, мысль о любви казалась примерно такой же непостижимой. Женщина была наседкой, и, когда мужчине исполнялось тридцать лет, герусия обязывала его жениться, поскольку полис нуждался в воинах. Аристон не сомневался, что спать с женщинами приятно; он подозревал, что плотская любовь вообще приятное занятие, неважно, с кем или с чем ты совершаешь любовный акт. Но как можно любить безмозглое существо? И потом женщины такие безобразные! Эти узкие плечи, широкие бедра, громадные шары грудей… фу! Он пока ни с кем не спал, но мечтал когда-нибудь разделить восторг любви с Лизандром.
Да, из-за этой великой любви он и сохранил до сих пор целомудрие. Ведь, по правде говоря, Аристон был тоже красив, почти как Лизандр, и на него заглядывались мальчики, мужчины и даже девушки.
Аристон этого не знал, но в его облике было нечто, предопределившее ход дальнейших событий: из всех мальчиков гимнасия только у него и у Лизандра были светлые волосы. Его предки-дорийцы пришли с севера, может быть, даже из краев, где обитали балто-тевтонские племена. Но, прожив несколько веков в Элладе, они растворились среди темноволосых людей, хотя чрезвычайно кичились чистотой своей крови. И действительно, спартанцы смешивались с чужаками гораздо реже, чем остальные народы. Среди спартанских мальчиков нередко попадались голубоглазые и сероглазые с каштановыми волосами, они резко отличались от черноголовых коренных эллинов. А порой из-за причудливого смешения кровей в облике юных дорийцев и до-риек и вовсе проступали черты их северных предков. Лизан-дру и Аристону крупно повезло. Блондинов в Элладе так любили, что продавцы средств, осветляющих волосы, стали в греческих городах-государствах очень богатыми людьми.
У Аристона от женского гомона разболелась голова. Он закрыл глаза и лежал в грязи, куда его, так и не отвязав от жерди, бросили враги. Периэки страшно воняли, и его затошнило еще сильнее, тем более что теперь пахло немытым женским телом. Внезапно Аристон ощутил на своей щеке горячее чесночное дыхание. Он открыл глаза и увидел перед собой девичье лицо.
Она была не чище остальных. И пахла ничуть не лучше, но почему-то ее запах подействовал на Аристона возбуждающе. Рядом с ее всклокоченными волосами воды Стикса показались бы белее снега, а глаза чернели, словно самые глубокие колодцы Тартара. Она облизала губы, и вокруг рта – там, где счистились грязь и сажа, – образовался беленький ободок. И Аристон увидел, что губы у нее темно-вишневые, пухлые, чувственные. Грязные тряпки не очень-то скрывали очертания ее тела, и Аристону внезапно пришло в голову, что если девушку этак с недельку почистить скребницей, то вполне можно будет проверить, насколько справедливы рассуждения приятелей о женщинах.
Она опустилась возле него на колени и запрокинула маленькую головку. И, хотя на шее у нее виднелись полосы глубоко въевшейся грязи, девушка показалась Аристону верхом изящества. Она двигалась не менее грациозно, чем Лизандр. И даже еще грациозней. Эта мысль удивительно взволновала Аристона.
– Отец, – сказала девушка низким, бархатным голосом. – Кто он? Человек или бог?
Аристон услышал тяжелый раскат басистого смеха. Но женщины не засмеялись в ответ. Они – все без исключения – смотрели на него такими же глазами, как и та девушка. Одна из них особенно привлекла внимание Аристона. Она была слишком высокой для женщины, худой и вообще чем-то отличалась от остальных. В следующий миг Аристон понял, в чем дело (или, по крайней мере. ему показалось, что понял): эта женщина была намного чище остальных. Но затем он заметил еще кое-что, гораздо более существенное, чем ее внешняя привлекательность и даже красота. Главное – в ней было напряжение, она вся была как натянутая струна. Аристон чуть ли не слышал, как трепещут у нее под кожей нервы. Она пристально глядела на него, и он вдруг заметил жилку, пульсировавшую у нее на шее. Аристон попытался отвести взгляд, но не смог – так и лежал, впившись глазами в шею женщины, где набухала и билась большая вена. Казалось, еще мгновение – и Аристон услышит стук сердца незнакомки. А ведь то стучалась его судьба.
– Отец, – с благоговейным трепетом прошептала молоденькая девушка, – зачем вы связали бога? Чтобы привязать его к себе и заставить выполнять желания, да? У людей ведь не бывает глаз цвета неба и волос, похожих на…
– Да самый он обыкновенный человек, дуреха! – пробурчал косматый старый козел-периэк. – Человек и вор. Так что поднимайся с колен!
– Отец, – еле слышно выдохнула она. – Ты уверен?
– О бессмертные боги! Избавьте меня от женщин! – прорычал старый периэк. – Говорю тебе, Фрина, он человек. Не вынуждай меня раньше времени предъявлять тебе доказательства этого.
– Нет, Деймус, – возразил другой периэк, – он еще не человек, а человечек. Мальчишка. Хорошенький мальчик, из тех, кого наши благородные господа любят использовать вместо женщин. Ха! Пожалуй, именно так стоило бы его прикончить. Будем насиловать паршивца по очереди, пока он не утонет в нашем семени. Прекрасный вид спорта, не правда ли?
– Эй, Эпидавр! – воскликнул дородный мужчина разбойничьего вида. – Неужто у тебя столь изысканные вкусы? Эге! А ведь и правда, ты женат на Ликотее целых семь лет и ни разу ее не обрюхатил. Ты совсем не возделываешь свой сад. Ликотея, скажи нам чистосердечно; твой косматый муженек пренебрегает тобой? Готов поставить моего лучшего барана и двух овец против одного вонючего козла, что он проводит время с изящными, женственными мальчиками. Такими, как этот белокурый красавец, что лежит сейчас перед нами. Скажи нам, дорогая, наш Эпидавр страдает теми же пороками, что и господа спартанцы, да?
Высокая стройная женщина передернула плечами, но не проронила ни слова.
«Ликотея, – подумал Аристон, – волчица. Как подходит ей это имя!»
– Иди домой, женщина! – прорычал Эпидавр, и Аристон уловил в его голосе яростную дрожь. – А ты, Панкрат… Не думай, что тебе все позволено, раз твоя мать наставила рога дураку отцу, переспав с быком, медведем или еще с какой-нибудь зверюгой. Несмотря на твои мускулы, найдется управа и на тебя, верзила! Клянусь Зевсом, я…
– Боишься, что Ликотея заговорит, о Косматый? – расхохотался здоровяк.
– Ты же выдаешь себя! Давай-давай, Лико, девочка моя, выкладывай всю правду, а я тебя защищу! Мужчина наш Эпидавр или нет?
Ликотея медленно, не спеша перевела взгляд с лица великана Панкрата на физиономию мужа. Она поглядела на него холодно, задумчиво, и этот миг странным образом растянулся на целую вечность. Аристон увидел, что Косматый – так переводится имя Эпидавр – побледнел. Это было заметно, даже несмотря на его бороду и нечесаные волосы, закрывавшие лицо. Когда женщина наконец заговорила, ее голос источал яд.
– Мужчина ли он? – спокойно и рассудительно произнесла она. – Нет. Пожалуй, нет. Во всяком случае, не совсем.
Эпидавр рванулся вперед и повалил жену на землю. Едва он принялся бить ее ногами, площадь огласилась громким мужским гоготом, затем послышался и резкий, пронзительный визг женщин.
«Так, должно быть, смеются Эринии», – подумал Аристон. И тут же замер, чуть дыша, в полном ужасе от своих слов.
«Простите меня, грозные сестры, – взмолился он. – Я хотел сказать Эвмениды».
Но – поздно. Он назвал Эринии их настоящим именем и, следовательно, навлек на себя их страшный гнев. Это знали все эллины. В столь страшную минуту, когда ему нужна поддержка всех богов, всех сверхъестественных существ, он взял и употребил запрещенное слово «Эринии», злые, вместо того чтобы назвать их Эвменидами, то есть благомыслящими, добрыми, и тем самым умилостивить злобных сестер.
«Дурак! – чуть не зарыдал он. – Достукался! Сам себе вырыл могилу».
Но тут опять в памяти всплыл насмешливый голос дяди Ипполита.
– Сам посуди, племянник: неужели Эринии такие тупые, что не распознают обмана? Ты сколько угодно можешь величать их Эвменидами, но красивое имя не изменит их истинной сущности. В конце концов, они все равно затравят тебя, ибо так они поступают со всеми людьми на земле. На исходе своих дней ничто живое не избегнет встречи с ними, мой мальчик. Так что танцуй под Песнь Козлов, пока можешь, слушай напевы свирели на холмах. Увивай голову виноградными листьями и напивайся до беспамятства, стис– кивай в жарких объятиях прекрасных юношей и девушек! Ибо никто не избегнет Эриний, ни один человек.
Эпидавр все еще бил Ликотею. Аристон слышал, как его нога, обутая в сандалий, с глухим звуком врезалась в прикрытое хитоном женское тело.
«Почему его не остановят? – подумал Аристон. – Неужели им не понятно, что он ее убьет?»
Словно прочитав его мысли, девушка, стоявшая возле него на коленях, прошептала:
– Отец говорит, Лико – чужеземка, из Аттики. Поэтому ее здесь так ненавидят. Я… я пыталась с ней подружиться, но она не захотела. Она… она меня презирает. Сама не знаю почему…
– Потому что ты очень хорошенькая, Меланиппа, – сказал Аристон.
Девушка удивленно округлила глаза.
– Меня зовут по-другому, – возразила она.
– Теперь уже нет, – ответил Аристон. – Я прозвал тебя так. Меланиппа, маленькая черная кобылка, самое очаровательное существо, созданное богами.
«Свинья! – мысленно обругал он сам себя. – Свинья, козел и еще кто-нибудь похуже! Прибегать к таким подлым, низким средствам – и все ради того, чтобы убежать?! Но ведь тут дело такое: либо ее невинность, либо моя жизнь! Что, по-вашему, важнее, о бессмертные боги?»
– Меня зовут Фрина, – чопорно заявила она. – И мне не нравится имя, которое ты мне дал, пленник. На кобылицах ездят мужчины. А я посвящена Артемиде, и ни один мужчина не дерзнет…
Девушка вдруг хлопнула себя по щекам, да так сильно, что это было слышно даже несмотря на звериный рев, которым периэки приветствовали Эпидавра, безжалостно лупцевавшего жену.
– О прости меня, божественный пленник! – прошептала она. – Я не знаю, что на меня нашло. Я никогда прежде не думала о таких пакостах. А теперь…
Аристон улыбнулся фрине. Он сделал это осторожно, не спеша. И улыбался долго-долго, пока не заболели губы. Впервые в жизни он намеренно воспользовался своей кра– сотой. Обычно Аристон о ней совсем не задумывался. Не далее как неделю назад Ипполит сокрушался о своем уродстве – кажется, над ним насмеялся какой-то юноша, вообще-то, и женщины, и мальчики всегда издевались над толстопузым Ипполитом, которому не везло в любви, – и Аристона тогда порядком позабавили дядюшкины завистливые причитания: Ипполит молил богов даровать ему красоту Аристона хотя бы на одну ночь. Но дядя мигом заставил его умолкнуть.
– Не смейся, щенок, зачатый в лощине! – воскликнул он. – В этом щекотливом виде спорта ты дашь мне сто очков вперед. Красота твоя столь необычайна, что ее можно назвать божественной. И действительно, никто не в состоянии доказать, что божественный Дионис не твой отец. Так ведь утверждает моя сестрица…
Аристон тогда улыбнулся дяде.
– А боги существуют? – спросил он.
– Нет. Но не болтай об этом каждому встречному и поперечному. Боги – серьезное подспорье в тонком искусстве морочить голову дуракам!
«Таким, как вот это нежное создание, – подумал Аристон. – Она вроде бы добрая девушка… и милая. Жалко, что приходится…»
Но он все равно продолжал ей улыбаться, продолжал, хотя в душе вдруг устыдился своего обмана.
– Отец не прав, – прошептала она. – Ты все-таки бог. Да, пленник? Ты, должно быть, златокудрый Аполлон, ведь твои волосы…
Слегка раздосадованный Аристон тряхнул головой. Да она так глупа – никакого терпения не хватит!
– Разве боги истекают кровью, – сердито фыркнул он, – или их могут связать веревкой обыкновенные люди? Не мели чепухи, Фрина. Я такой же человек, как и ты. И даже мог бы, наверно, в тебя влюбиться… если б мне удалось разглядеть твое лицо под слоем жуткой грязи.
– О! – воскликнула она. – Я мылась всего две недели назад и…
– В моем краю женщины моются каждый день, но дело не в этом. Послушай, Фрина, твои друзья не отличаются благородством. Если люди спокойно глядят, как мужчина избивает женщину до полусмерти, и даже пальцем не пошевелят…
– Он ее уже не бьет, – возразила Фрина. И оказалась права. Эпидавр перестал колотить супругу, а вместо этого наступил ей пяткой на лицо, к превеликому восторгу окружающих женщин. «Вероятно, потому, что она гораздо привлекательней остальных», – подумал Аристон.
– Как бы там ни было, вряд ли они отнесутся ко мне по-доброму, – сказал он, – когда сия олимпиада завершится и они займутся мной. Раз здесь забивают женщину до смерти за то, что она посмеялась над мужем, то можно себе представить, как обойдутся с вором, укравшим у них козленка.
– Думаю, они тебя убьют, – сказала Фрина. И тут же воскликнула: – О нет! Я им не позволю! Надо их как-то остановить, я…
Теперь Аристон улыбнулся ей довольно искренне. Ему вдруг пришла в голову ужасная, даже чудовищная мысль… Но ведь смерть еще чудовищней!
– Они могут меня убить, – спокойно произнес он, – но им не под силу удержать меня в Аиде. Владыка подземного царства тут же меня выпустит. Видишь ли, моя мать, конечно, смертная женщина, поэтому я истекаю кровью и не могу разорвать путы… Но мой отец – Дионис, и я унаследовал его способность возрождаться из мертвых. Ну а когда я воскресну, то сотру этих свиней с лица земли. Если только…
– Если что, мой господин? – выдохнула она.
– Если ты не спасешь меня, Меланиппа-Фрина, – сказал он. – Пойди принеси нож. Разрежь путы и…
– Но они… они убьют меня! – захныкала она.
– Я тебя защищу. Я… я тебя щедро вознагражу! Поверь, я сделаю тебя счастливейшей из женщин… Она посмотрела ему в глаза:
– Ты меня осчастливишь? Но как?
Он криво усмехнулся, издеваясь сам над собой. Совершенно неожиданно он почувствовал, что больше не может продолжать эту игру. Аристон явственно себе представил, на что будет похожа его жизнь, когда он никуда не сможет деться от воспоминаний о сегодняшней подлости. Поэтому он по-идиотски безрассудно отверг возможность оскорбить ее невинность (ибо она, разумеется, была девственницей). Однако, когда Аристон вновь заговорил, его голос зазвучал еще вкрадчивей. Он был подобен медленной, торжественной музыке, в которой тем не менее мелькали игривые, нежные нотки.
– Я подарю тебе дитя, моя любимая черная кобылка Меланиппа, – сказал Аристон. – А он будет бессмертен, он будет богом!
Девушка опять поднесла руки к щекам, словно желая остановить растекавшийся по ним румянец. Но услышать ее ответ и понять, какое впечатление произвел его жестокий замысел, Аристону не удалось, поскольку у Эпидавра внезапно иссяк то ли гнев, то ли силы – а может, и то и другое вместе, – и он оставил попытки забить до смерти свою удивительно выносливую Ликотею. И когда Фрина хлопнула себя по щекам – Аристон понял, что для нее это привычный жест, – хлопок привлек внимание ее отца. Деймус отвлекся от зрелища, которое быстро утрачивало привлекательность, ибо стало ясно, что Косматый не только не убьет жену, но даже не покалечит, и воззрился на дочь. Затем вцепился узловатой рукой в густые черные волосы Фрины и рывком заставил ее подняться с колен. А потом, по-прежнему не выпуская волос негодяйки, ударил ее по лицу.
– Клянусь Кипридой! – прорычал он. – Вы что, бесстыжие твари, совсем взбесились?
И бросил быстрый взгляд на толпу.
Гигант Панкрат выступил вперед и схватил Эпидавра за руки.
– Довольно, Косматый, – добродушно усмехнулся он. – Ты достаточно наказал свою жену. Не такая уж это страшная обида, чтобы забивать ее до смерти. Да и где ты найдешь вторую такую красотку? Отнеси ее домой, но возвращайся побыстрее. Нам еще нужно решить, что делать с этим светловолосым ублюдком.
Деймус в сердцах пихнул Фрину локтем. Он страшно боялся, что соплеменники заметят, как долго и доверительно его дочь беседовала с пленником. «Странно, – подумал юноша, – даже у таких козлов и обезьян существуют понятия чести и достоинства…»
– Убирайся отсюда, девка! – прошипел старик. – Клянусь самим Зевсом, ты меня позоришь!
Фрина повернулась и пошла прочь, горделиво выпрямив спину. Такой поступью, должно быть, ходили древние царицы Елена и Гекуба и…
На пороге убогой хижины, сложенной из камней и глины, она обернулась и взглянула на юношу. И в ее глазах светилось что-то такое огромное и чистое, что, пока она смотрела на него, он боялся вздохнуть и пошевелиться.
И тогда он наконец понял, понял наверняка: может быть, мужчины его полиса правы, и женщины действительно лишь племенные кобылы, созданные для того, чтобы с ними безрадостно зачинать сыновей… но эта девушка была способна полюбить… если уже не полюбила.
Глава II
Он лежал в пещере очень долго. Пока солнце окончательно не зашло, до него доносились мужские голоса, обсуждавшие его дальнейшую судьбу. Но Аристон не смог понять, на чем они порешили. Теперь настала ночь, уже целый час было совсем темно. От жерди его отцепили, но взамен привязали к стволу дерева, установленному посреди пещеры и обложенному со всех сторон большими валунами. У входа поставили стражу:
Эпидавра и еще одного мужчину, Аргуса. Очевидно, он получил свое прозвание из-за острого зрения. Насколько понял Аристон, у этого племени было принято давать человеку имя, отражающее какие-то его особенности или черты характера.
Мужчины немного поболтали и, очевидно, уснули. Наверно, они изрядно выпили, и их потянуло в сон. Самое удивительное, что вино им принесла Ликотея. «Вероятно, в знак примирения, чтобы умилостивить мужа», – решил Аристон.
Он откинулся назад, прислонился к столбу и закрыл глаза. Голод его больше не мучил. Перед наступлением темноты Эпидавр с Аргусом принесли еду, развязали ему руки и, пока он ел, стояли над ним, вытащив ножи. Пища оказалась на удивление вкусной: горячая чечевичная похлебка с козлятиной. К Аристону тут же вернулись силы.
– Благодарю вас, о периэки, – вежливо сказал он. Эпидавр ухмыльнулся и проворчал:
– Завтра тебе будет не до благодарности, юный красавчик! Ешь как следует. Голодные умирают слишком быстро.
Но это не отбило у Аристона аппетита. Ведь у сытого человека, считал он, больше сил для побега.
Прислонившись к стволу, он попытался ослабить путы. Если это удастся, то он спокойно переступит через храпящих, пьяных болванов у выхода из пещеры и еще до рассвета окажется в полной безопасности. Аристон дергал за кожаные веревки, но узлы были завязаны мастерски, и у него ничего не получилось. Ему предоставлялась возможность выжить, но из-за нескольких полосок сыромятной кожи он не мог ею воспользоваться! Тут Аристон припомнил, что назвал богинь мести их настоящим именем, и сердце застыло у него в груди. Аристон попытался себя ободрить: в конце концов, Эринии ведь не олимпийские боги, олимпийских богов он не обижал, так что…
Аристон широко открыл голубые глаза. А затем понурил голову и заплакал. Его раздирал стыд, жгучий и страшный. Морочить бедную малышку фрину, пытаясь спасти свою жизнь, было, по представлениям спартанцев, еще допустимо. Но если человек приплетал богов… За такое святотатство божественный Дионис, наверно, отнимет завтра у него жизнь, и она угаснет под зверскими пытками, которые изобретут для него эти волки-периэки.
Если только – тут его светловолосая голова поднялась, а глаза ярко вспыхнули – он действительно совершил святотатство! А вдруг его мать Алкмена говорила правду? Вполне может статься, и нечего слушать всяких циников типа Ипполита. Разве великий Зевс, оборотившись лебедем, не сотворил ребенка прекрасной Леде? А в другой раз отец богов принял облик быка, похитил прелестную Европу и…
– Хо-хо! – услышал Аристон гогот Ипполита. – Значит, быка, племянничек? И не разорвал бедняжку пополам?
Но таких рационалистов, как его дядя, лучше не слушать. Ведь другую версию нельзя даже в мыслях допустить! Аристон когда-то слышал ту, другую историю от болтливой юной рабыни Иодамы, которая дорого заплатила за свой длинный язык. Когда Аристон спросил у благородного Те-ламона, правду ли говорит рабыня, Теламон, воин, государственный муж, член герусии, впал в неистовую ярость и устроил Иодаме такую порку, что на ее спине навечно остались отвратительные шрамы, да и вообще она чуть было не испустила дух.
А через две недели, когда Иодама немного поправилась и ползала по дому, словно покалеченная собака, Теламон позвал работорговцев и продал ее. Теперь она служила в доме некоего Симоея, неотесанного болвана, который учился вместе с Аристоном и постоянно приставал к нему с гнусными предложениями. За это Аристон его ненавидел. Но поскольку оба они состояли в одной буа, или стаде, и более того, в одной и той же иле, то есть загоне, – такова была полувоенная классификация, по которой подразделялись все ученики, – Аристону приходилось отвергать ухаживания Симоея буквально каждый день. То, что подобное внимание со стороны Лизандра привело бы его в восторг, ровным счетом ничего не меняло. Все дело в том, что любая нравственность, как ни странно, основывается на инстинктивном отвращении, поэтому, как правило, целомудрие бывает случайным, просто потому, что человеку не встретился тот, кто сумел бы его покорить своим взглядом или улыбкой.
Аристону пришлось принять ту версию своего рождения, которую предлагала мать. И прежде всего потому, что славившаяся своей набожностью Алкмена сама в нее истово верила. Мать была непорочна! Да-да! В ней не было ничего от порны, флейтистки-алевтриды или гетеры! Она не шлюха, не публичная девка! Алкмена, его прекрасная, обожаемая матушка, это небесное создание, ее целомудрие внушает окружающим благоговейный трепет. И все же…
Все же Аристон родился через две недели после возвращения Теламона, уезжавшего с дипломатической миссией в Эвбею и Мегару; эта миссия отчасти и послужила причиной жестокой распри, возникшей между Спартой и Афинами, когда Аристону исполнилось двенадцать лет. Все старые сплетники в городе с восторгом судачили (пока Теламон не заткнул им рты) о том, что пальцев на их сморщенных руках не хватит, чтобы сосчитать месяцы, которые Аристон находился в материнской утробе. Ибо Теламон целых два года провел вдали от семейного очага, занимаясь важными государственными делами. И даже если бы сплетники пересчитали свои грязные пальцы на ногах, их бы все равно не хватило. Нет, все было ясно как день: воин, государственный муж, член герусии, человек, чьи заслуги чтила вся Спарта, суровый, величественный Теламон получил еще одну награду – ветвистые рога, которые ему наставила любящая жена.
Аристон уже знал печальное продолжение сей истории. Теламон подождал рождения младенца, а потом этот благородный господин, которого Аристон с пеленок уважал и боялся, если не сказать, любил, велел бросить его с вершины Тайгета: так обычно поступали с новорожденными заморышами, уродцами или – по воле отцов – с девочками. Но дядя Ипполит спас Аристона. Не дожидаясь, пока приговор Теламона будет приведен в исполнение, толстый кривляка, раз в жизни посерьезнев, привел с собой членов Евгенического Совета. Увидев чудесного младенца, они защитили его от гнева ревнивца. «Столь прекрасное дитя следует сохранить во имя процветания Спарты», – заявили они. И сурово отчитали Теламона, сославшись на мнение великого Ликурга о том, что человек не должен пытаться единолично владеть предметом своей любви.
«Разве это не абсурд? – писал знаменитый спартанский законодатель. – Люди проявляют столь великую заботу о собаках и лошадях, что даже платят деньги за породистых производителей, а своих жен они держат взаперти, дабы те рожали детей лишь от них, хотя они вполне могут быть дураками, увечными или хворыми».
В довершение члены Евгенического Совета указали Те-ламону на его преклонный возраст и напомнили, что он женился на Алкмене, когда ей исполнилось тринадцать лет, но до сих пор – а Алкмене уже стукнуло двадцать три – Теламон не подарил ей ребенка. Так что лучше понурить голову и смиренно принять сей дар; по крайней мере, теперь душа Теламона не будет скитаться без приюта и стенать, вторя ветру: теперь у него есть сын, который похоронит его честь по чести.
И Теламон уступил. Правда, он связал Алкмене руки в запястьях, вздернул бедняжку на дыбу и хлестал, пока весь пол не обагрился ее кровью: он пытался вырвать у жены имя любовника, чтобы убить его. Но даже теряя сознание, а потом приходя в себя и корчась от боли под новыми ударами, Алкмена упорно шептала, всхлипывала, кричала:
– Бог! Это был великий Дионис!
Говорят, Теламон избивал ее целых полгода, но так и не сумел добиться иного ответа. Увидев, что все старания тщетны, он подослал к Алкмене жрицу Артемиды, богини целомудрия: Теламон знал, что ей жена не солжет. И услышал, притаившись за дверью, звенящий от гордости голос Алкмены:
– Клянусь белорукой богиней, которой ты служишь, о священная жрица! Я впала в экстаз и полетела, словно на крыльях, чтобы встретить бога в зеленых таинственных кущах. Я чувствовала в себе божественную мудрость. Играла какая-то необыкновенная музыка: свирели, флейты Пана, лиры и цитры! Меня озарял свет, который был ярче лучей Гелиоса. Свет бога! А потом… потом я ничего не помню. Но, пробудившись, я знала, что бог обладал мной и я умирала от восторга в его могучих объятиях. А посему муж может забить меня до смерти, но я не отступлюсь. Мой сын, любезный Аристон, полубог!
После этого Теламон, скрепя сердце, смирился и терпел Аристона в своем доме, пока мальчику не исполнилось семь лет и его не отправили в гимнасий, где он и обучался, и жил.
«Тебе не придется больше выносить мое общество, благородный Теламон! – подумал Аристон. – И хотя ты накажешь моих убийц по всей строгости, как и подобает, известие о том, что эти горные волки растерзали меня, вызовет в твоей душе только радость».
При мысли об этом ему стало очень горько. Он потратил довольно много времени на своем коротком веку, пытаясь завоевать любовь человека, которого считал своим отцом. И даже когда Иодама объяснила, почему это невозможно, он продолжал упорствовать, «Но теперь все, хватит! – потребовало его мятежное молодое сердце. – Теперь нужно думать о том, как спастись».
Аристон задрал голову и посмотрел на каменный свод пещеры.
– Отец мой Дионис! – взмолился он. – Если ты и вправду мой родитель, спаси меня. Если же нет, все равно прошу тебя, смилостивись, ведь матушка искренне верит, что ты мой отец. Коли ее обманул человек или сатир, наславший на нее помрачение, то ни ее, ни моей вины в том нет. Почему я должен из-за этого умирать? А ежели я по недомыслию обидел Эвменид, будь добр, вступись за меня перед великой Афиной, которая спасла от них моего предка Ореста и тем самым претворила в жизнь новый закон. Я не смею обратиться к ней, ибо мой полис воюет с ее любимым городом. Но я слишком молод, чтобы умирать! Прошу тебя, дивный Дионис, спаси меня, если на то будет твоя воля!
Аристон замолчал и прислушался. Стояла давящая тишина. Где боги? Внемлют ли они молитвам? Или дядя Ипполит прав, считая, что боги – это выдумки трусов, которые боятся смерти?
«Я не должен размышлять о таких ужасных вещах, – подумал Аристон. – Это кощунство и…»
И тут он услышал приглушенный хлюпающий звук. Потом еще один. Под сводами пещеры гулко разнесся стон. Затем послышалось слабое, как бы задушенное бульканье. Судя по всему, кто-то пытался вскрикнуть, но его резко заставили умолкнуть. Затем снова раздалось хлюпанье… еще… еще… десять, двенадцать, двадцать раз… Тишина, которая воцарилась вслед за этим, казалась оглушительней, чем гром великого Зевса.
Аристон увидел дрожащий огонек, который приближал– ся к нему. В глиняном сосуде, наполненном маслом, тлел шнур. Опухшее, побитое лицо женщины выглядело просто ужасно. Ее глаза впились в юношу диким, пронзительным взором.
– Ликотея?! – воскликнул Аристон.
– Да, это я, – усмехнулась Ликотея. – А кого ты ожидал, божественный ублюдок? Фрину? Ха! Эта вечно жрущая молодая кобылка не настоящая женщина, или, если хочешь, не такая сука, как я. Она не способна сделать то, что я сделала ради тебя. Впрочем, и ради себя тоже. Зачем лгать? Кощунствовать так кощунствовать! Да, да, я убила ради тебя, любезный Аристон! Я заколола свинью. Нет, двух свиней! Я принесла двойную жертву на алтарь твоей красоты. Первая – этот волосатый извращенец, которому я была отдана в жены против моей воли… он оставлял мою жаркую, манящую постель и, притаившись за скалами, часами высматривал какого-нибудь беззащитного маленького мальчика: вдруг тому придет в голову отправиться по этой тропинке? А заодно я прикончила и болвана, который похвалялся своим острым зрением. Надеюсь, сейчас он пялится на голые тени в Преисподней. Сперва я их опоила. Подсыпала им в вино маковых зерен. И добавила сок макового цветка, чтобы было наверняка. Поэтому все прошло очень гладко. Почти безболезненно. Правда, я поступила милосердно? И теперь ты меня либо вознаградишь, сын Диониса, либо…
– Сын Диониса? – перебил Аристон. – Тебе что, Фринна…
– Сказала? Нет, о божественный, дивный красавец! Я подслушала ее рассказ. Вернее, ее вопли, ведь она разоралась на своего трусливого отца, узнав, какую участь готовят тебе эти вонючие выродки, родившиеся от козлов. Как будто можно убить вечно воскресающего бога!
«Сумасшедшая, – подумал Аристон. – Лучше ей не перечить».
– И что меня ждет, Ликотея? – спросил он.
– Только трусливые псы-периэки смогли додуматься до такого, – презрительно изрекла Ликотея.
Аристон осознал, что она не считает себя одной из них.
«Впрочем, неудивительно, – подумал он. – Фрина же говорила, что Ликотея родом не отсюда. И потом она во многих отношениях превосходит периэков».
– Что же они мне готовят? – еще раз спросил он.
– Тебя побьют камнями. Они ведь не доверяют друг другу, вот и решили предать тебя такой казни. Они прекрасно знают, что иначе какая-нибудь подлая свинья непременно выдаст всех остальных твоим соплеменникам за горсть ржавых железных монет. А так никто не посмеет, потому что твоя кровь будет у всех на руках. Но довольно о глупостях! Ты вознаградишь меня, сын бога?
– Но я не… – начал Аристон.
– Ха! С такой красотой, что свела с ума всех женщин этого селения? Говорю тебе, сын Диониса, каждая из них схлопотала из-за тебя сегодня вечером пару новых синяков на своем немытом теле. Ибо из-за тебя у них так раззуделись чресла, что они все приставали к мужьям, умоляя отпустить тебя, приводя множество доводов… Бедная глупенькая Фрина… Говорят, ее часы сочтены. Старый Деймус так избил ее!
– Нет! – вскричал Аристон. – Замолчи! Бессмертные боги! Я…
– Ты упустишь свое счастье, если заставишь меня ревновать, – усмехнулась Ликотея. – Я всегда недолюбливала эту черногривую кобылку. Она слишком похожа на человека. Наверно, мать прижила ее с каким-нибудь спартанцем за спиной у старого труса. Забудь фрину, она не будет твоей. Вспомни лучше, что ты все еще связан, как хряк, и только я могу развязать твои путы. Ну как, обещаешь? Аристон не ответил. Искушение было огромным, но… Она подняла руки и дотронулась до его лица. Он повел носом и, поняв, что руки ее густо измазаны кровью, в ужасе отшатнулся. Среди эллинов – неважно, в каком полисе они жили, – убийство считалось не просто преступлением, а настоящим святотатством, ибо оно оскорбляло обоняние богов, которые даруют людям жизнь. Аристон отверг Ликотею не только из-за ее жестокости, но и потому, что был твердо уверен: ее помощь не пойдет впрок, наоборот, она станет для него вечным проклятием.
– Отойди от меня, волчица! – прорычал Аристон. – Не прикасайся ко мне кровавыми руками.
Ликотея уставилась на свои руки, словно видела их впервые. Затем совершенно невозмутимо повернулась и, словно лунатик, вышла из пещеры, переступив через трупы зарезанных мужчин. Когда через пять минут она появилась снова, ее руки были чистыми. Ликотея наклонилась, ища губами губы Аристона. Он вертел головой, пытаясь уклониться, но она зажала его лицо ладонями – ледяными, ведь Ликотея их мыла в горной речке, – и прильнула к его рту. На Аристона пахнуло зловонием. Воняло гнилыми зубами, чесноком, луком и даже кровью. Вместо того чтобы взволновать юношу, поцелуи Ликотеи его чуть не доконали.
Оторвавшись от его губ, Ликотея провела холодными руками по телу Аристона и совершила кощунство, за которое, насколько ему было известно, в старину женщин осуждали на смерть: она погладила священные атрибуты его мужского достоинства, пытаясь возбудить похоть. Но Аристон не мог, не желал отвечать ей. Ликотея отпрянула и посмотрела на него побелевшими от ярости глазами.
– Ну и подыхай, собака, если хочешь! – прошипела она. – Хорошо, что я тебя сразу не развязала. Спасибо Зевсу!
Сказав это, Ликотея вышла из пещеры, осторожно переступив через трупы, и оставила Аристона одного.
А спартанец Аристон – то ли сын бога, то ли нет – понурил голову и горько заплакал.
Он плакал долго, пока совсем не обессилел. Его тело, опутанное веревками, обмякло, и он заснул. Но потом проснулся от странного ощущения свободы. Веревки, больно вгрызавшиеся в его запястья и локти, куда-то подевались. Аристон попробовал поднять руки и убедился, что они не связаны.
– Тихо, мой господин, – прошелестел над ухом ласковый, нежный голос. – Ни звука, пока я не развяжу твои ноги, чтобы ты смог убежать.
– Фрина! – воскликнул он. – Но она мне сказала, что ты при смерти!
– тсс, – прошептала Фрина. – Твои сторожа услышат!
– Они уже ничего не слышат, – пробормотал Аристон. – Скажи мне, Меланиппа, правда ли, что твой отец избил тебя, поскольку…
– Это неважно, – откликнулась девушка. – Я нарочно притворилась, что мне дурно. Отец решил, что я не могу пошевелиться из-за побоев, и перестал за мной следить. Он очень старый, в его кулаках совсем не осталось силы. Но твои сторожа…
Изворотливый спартанский ум подсказал Аристону, что надо солгать.
– Они пьянее знатных афинян, – сказал он. – Даже Зевс Громовержец не смог бы их разбудить, они выпили слишком много медовой браги. Пошли, моя смуглая малютка.
Аристон взял Фрину за руку и повел к выходу из пещеры.
– Нет, не туда, – покачала головой девушка.
– А что, есть другой выход?
– Да. Я обнаружила его в прошлом году, когда от стада моего отца отбился козленок. Сперва я решила, что его задрали волки, но потом услышала блеяние. Козленок упал в расщелину. Я полезла за ним и заблудилась. Эта пещера больше, чем можно предположить. Я вышла с другой стороны горы, там, где пролегают страшные дальние тропы. Ты знаешь, мой господин, их посещают…
– Не называй меня господином. Я для тебя Аристон. Так кто же их посещает?
– Демоны! И тени тех, кто погиб, погребенный лавиной. Она смела с лица земли три селения. Теперь никто там не ходит, даже Панкрат, хотя он большой и сильный. Но ты сможешь, ты ведь полубог. Пойдем…
Когда они отошли на приличное расстояние от столба, к которому был привязан Аристон, Фрина вынула из складок одежды маленькую коробочку. В ней хранилось все необходимое для того, чтобы развести огонь: кусок железа, кремень, сухие полуобугленные лоскутки. Фрина деловито стукнула железкой о кремень, высекла искру и раздула пламя. Затем сунула руку в расщелину меж скал и достала лампу, которую, судя по всему, оставила там перед тем, как освободить Аристона.
Фрина зажгла лампаду, и в ее тусклом, мерцающем свете юноша увидел чудо. Они находились в очаровательном гроте со сталактитами и сталагмитами. Казалось, он намеренно создан для поклонения богам-олимпийцам. Сама Фрина была удивительно чистой, без единого грязного пятнышка. На ней была белая домотканая туника до середины икр, а на плечи накинут такой же белоснежный пеплос.
И ни следа сажи, пепла или пыли!
Аристон уставился на нее, разинув рот. Лицо Фрины показалось ему прелестным. Она была так же красива, как Лизандр, но иной красотой… А потом Фрина как-то удивительно просто протянула ему свои губы. Они целовались долго, страстно. Когда Аристон наконец оторвался от нее, кровь его кипела, а в душе звучал заоблачный, дикий напев флейты Пана, раздавались песни нимф, вакхические гимны.
Но Фрина легонько оттолкнула его.
– Пойдем, господин мой Аристон, – сказала она. – У нас нет времени.
Он шел рядом с ней, пошатываясь, будто пьяный. Право же, ни Лизандр, ни другой какой-нибудь красавец никогда не приводили его в такой восторг. Аристон внезапно понял, почему по постановлению старейшин изнасилование женщины-спартанки каралось смертью. В женщине была какая-то магия, волшебство, от которого кровь закипала в жилах и человек терял голову…
Но выяснилось, что его страдания не кончились. Неожиданно Аристон услышал впереди журчание ручья. Фрина остановилась и поднесла руки к лицу.
– О Аристон! – простонала она.
– Что такое? – чуть дыша, спросил он.
– Река! Река! Я совсем о ней позабыла!
Аристон недоуменно воззрился на девушку. Ипполит говорил, что среди женщин нет ни одной толковой, и Аристон начал понимать, что дядя прав.
– Разве ты не ходила этим путем? – спросил он.
– Нет! Я пролезла в расщелину, в которую когда-то свалился мой козленок. Но мы идти этой дорогой не можем:
она ведет к дальнему концу селения, и нам тогда придется пересекать площадь, чтобы выбраться хоть на какую-то горную тропку. Вот почему я подумала о запретной тропе. Ведь, как я тебе говорила, она переходит в тропу демонов, гдедуши людей, не имеющих родственников, которые могли бы похоронить их по-человечески, стонут и что-то бормочут, обращаясь к тебе из-за каждой скалы. Только…
– Что только, Фрина?
– Я… Я так расстроилась из-за тебя, что даже забыла про реку. Я целый вечер приводила себя в порядок: мне не хотелось, чтобы ты опять назвал меня грязнулей. И все это время я думала о тебе. Какой… какой же ты красивый! Кожа и волосы у тебя золотистые, а глаза как небеса в октябре, перед началом дождей. Конечно, мне было не до реки. О Аристон, до чего же я глупа!
– Я помогу тебе перебраться через реку, – пообещал Аристон. – Нас учат переплывать Эврот в полном боевом снаряжении, Фрина. По сравнению с этим ты ничего не весишь.
– Я умею плавать, – сказала она. – Если бы пришлось, я перевезла бы тебя на другой берег вместе с твоими доспехами. Дело не в этом…
– Я в чем, во имя всех хтонических божеств? – воскликнул Аристон.
– Нам не нужно переплывать через реку, господин мой Аристон. Мы должны плыть вниз по течению, далеко-далеко. Наверно, нам придется проплыть больше гиппекона[1].
– Ну и что? – не понял Аристон. Она топнула ногой.
–До чего же вы, мужчины, непонятливы! Разве не ясно, что если я поплыву в этом длиннющем одеянии, то меня утащит на дно и я утону? А без меня тебе никогда отсюда не выбраться. У этой реки великое множество притоков.
– Тогда сними одежду и оставь ее здесь, – вполне разумно предложил Аристон.
Фрина посмотрела на него, округлив глаза от ужаса.
– О Аристон, я не могу…
– Но почему, во имя Тучегонителя Зевса? – возмутился Аристон.
– Потому что… потому что тогда мне придется раздеться, – пролепетала Фрина.
– Ну и что? – изумился он. Подобная стыдливость была совершенно непонятна спартанцу. – Чего особенного? Я столько раз видел голых девчонок! Во время дионисийских празднеств устраиваются процессии, где танцуют обнаженными все девственницы и юноши. И никто не думает ничего дурного. Ликург, наш законодатель, постановил, что все спартанцы, и мужчины и женщины, должны стремиться иметь красивое тело. Поэтому наши девушки прекраснее всех в Элладе, они часто постятся и каждый день делают упражнения, чтобы не стыдиться своего тела, когда им придется принимать участие в священных обрядах. Ты не уродка и не калека. Может, у тебя на теле шрамы или родимые пятна? Дай взглянуть! Мой дядя знает лекаря, он может вывести любое пятно, и на коже не останется даже следа, так что…
– Аристон! – вскричала она. – Не трогай меня! Не смей!
Он поглядел на нее, и его голубые глаза вдруг потемнели от обиды. Фрина заметила это и тут же приблизилась к нему. Обвив руками его шею, она посмотрела на Аристона, но ее взгляд был омрачен тоской, причины которой юноша не мог понять.
– Я… я люблю тебя, Аристон, – сказала она. – Только… среди людей моего племени нагота считается неприличной. Я… я слышала, что спартанские юноши участвуют в спортивных состязаниях совершенно голыми и что девушки танцуют на праздниках без одежд. Но я этому не верила. Я не понимала и сейчас не понимаю, как девушка может плясать и вертеться перед мужчинами, когда на ней ничего нет. Я… я бы умерла. Скажи… ты меня любишь?
– Всем сердцем! – воскликнул Аристон. И это было почти правдой.
– Ну, хорошо, – вздохнула она. – Ведь я твоя жена…
или стану ей, когда ты придешь за мной снова. Я покажу тебе дорогу. Мы выберемся уже на рассвете, ведь это по другую сторону горы, и солнце к тому времени уже взойдет. Поэтому ты сможешь меня увидеть, не дожидаясь, пока мы принесем брачные обеты и совершим жертвоприношения перед высоким алтарем. Это ужасно? Но ты обещаешь хотя бы не смотреть на меня?
Аристон понял, что ему будет нелегко сдержать обещание. И предложил вполне приемлемую, как ему показалось, альтернативу.
– А ты бы смогла плыть в моем хитоне? – спросил он.
– Ах, ну конечно? Он короткий и легкий. Но как же ты?
– Вот возьми! – сказал он и сбросил с себя одежду. Фрина попятилась и с размаху хлопнула себя по щекам.
– Аристон? – ахнула она и повернулась к нему спиной.
– Бессмертные боги! – возмутился Аристон. – Избавьте меня от женщин! Что я такого сделал? Я потакаю твоей периэкской скромности, а ты…
– Но Аристон… дорогой… мне на тебя тоже нельзя смотреть?
Аристон весело рассмеялся. Потом вытянул руки, положил их Фрине на плечи и повернул лицом к себе.
– Вот ты и посмотрела, – сказал он. – Ну как, я отвратителен? Может, я калека? Весь в родимых пятнах? Урод?
– Нет! – всхлипнула Фрина. – Ты… ты прекрасен.' Я никогда не видела обнаженных мужчин, но, наверно, только у бога бывают такие формы. Однако женщина не может, господин мой Аристон, смотреть на мужчину, если он не муж ей. Это страшный грех. Теперь со мной случится что-то ужасное. Я знаю? Я это чувствую всеми фибрами моей души?
– Чепуха! – передернул плечами Аристон. – Дай мне твой пеплос.
Она отвернулась, сняла с плеч накидку и, не поворачивая головы, протянула ему. Аристон взял пеплос и, наклонившись, поднял с земли шнурок, служивший ему поясом. В мгновение ока он соорудил себе набедренную повязку.
– Теперь лучше?
– Да, – прошептала она. – А сейчас отвернись, пожалуйста… О Аристон!..
В его хитоне она выглядела великолепно. Аккуратно сложив свое длинное одеяние, Фрина спрятала его в расщелине скалы. Затем загасила лампу и сунула ее туда же, куда и одежду.
Аристон увидел на воде тусклое белое пятно и услышал всплеск. Он тут же кинулся вслед за Фриной. Вода была ледяной. Она казалась чернее вод Стикса, чернее Леты. И все же Фрина, похоже, знала, куда плыть. Аристон не хвастался: он плавал отлично, но Фрина легко его обогнала. Они плыли долго, так долго, что он начал ощущать боль в руках. Потом наконец впереди забрезжил свет. Аристон видел белые руки Фрины, с силой рассекавшие воду, смотрел, как она быстро бьет по воде ногами. Они приплыли. Фрина выбралась на берег и подала Аристону руку. Но он застыл в воде, словно парализованный. Дело в том, что промокший хитон обтягивал тело Фрины, словно кожа. А столь прекрасного женского тела Аристону еще не доводилось видеть. Ни на процессиях в честь Диониса, ни на спортивных состязаниях.
– Великая Киприда, помоги мне? – взмолился юноша, выходя на берег. Но огонь желания пылал в нем, и Аристон привлек Фрину к себе. Его пальцы мгновенно нащупали на ее плечах рубцы. Он повернул Фрину спиной и стянул вниз хитон. Посмотрел на ее спину и ужаснулся: она вся была исполосована. Как ни старался, Аристон не смог сдержать слез.
– Из-за меня, – прошептал он, – ты претерпела… это?'
Фрина, не поворачиваясь, натянула хитон на плечи. Затем обняла его и погладила по подбородку, на котором пробивался золотистый пушок первой бороды.
– За тебя, сын Диониса, я готова умереть, – сказала она.
– Фрина? – простонал Аристон.
– Нет, Аристон, – покачала головой девушка. – У нас нет времени. Я не хочу, чтобы, получив мое тело, ты потерял жизнь. Может, ты и способен восставать из мертвых и воз– вращаться из мрачного Тартара, но лучше не рисковать. Я желаю, чтобы ты остался жив и мы жили бы вместе с тобой. И… я, конечно, дочь другого племени и не ровня тебе, но мне хочется быть для тебя больше, чем наложницей. Я хочу, чтобы мы принесли брачные обеты и жертвы. Хочу услышать гимны Гименею и знать, что боги нас одобряют… Фрина вдруг озорно рассмеялась.
– И потом папаша содрал с меня три шкуры, – добавила она. – Так что я все равно не могу лечь на спину. Поцелуй меня и иди… Я надеюсь…
– На что, моя маленькая Фрина? – спросил Аристон.
– Что ты не забудешь меня. А то я зачахну, как бедняжка Эхо, и от меня ничего не останется, кроме голоса. О сын бога Аристон, неужели ты действительно…
– Вернусь? Нет. Я пошлю отца сватать тебя, как у нас положено. Раз ты бедная, он не будет просить приданого. Ты сама сокровище, моя милая.
Произнеся эти слова, Аристон изумленно осознал, что действительно вправду хочет на ней жениться, хочет всем сердцем!
– О Аристон! – выдохнула она и припала к нему. Их мокрые тела посинели от холода.
– Но как же он придет к нам? – спросила затем Фрина. – Разве его сияние не затмит наши взоры? Разве мы сможем его увидеть? Я слышала, что когда боги являются смертным…
– Я имел в виду своего отчима, геронта, стратега, полководца, – сказал Аристон. – Он ведь смертный. А теперь, малютка Меланиппа…
Фрина топнула ногой:
– Не называй меня так!
– Меланиппа, Аганиппа, Аниппа, Архиппа, Левкиппа, будущая мать всех моих Левсипедов, Левсипоев, Малени-педов и Меланипоев!
Фрина радостно рассмеялась: он не переводя дух назвал ее черной кобылицей, милосердно убивающей кобылицей, царственной кобылицей, лучшей из кобылиц, белой кобылицей и матерью всех его отпрысков, жеребцов и кобылок, черных и белых… Только поразительно богатый и гиб– кий язык, на котором говорил Аристон, был способен на это. А затем юноша наклонился и поцеловал ее долгим поцелуем. Очень долгим. Он целовал ее, пока они оба не согрелись.
Отстранившись, Фрина подбежала к берегу и ловко нырнула в черную ледяную воду. Аристон глядел, как она стрелой несется по течению. В последний миг Фрина высунулась из воды и послала ему воздушный поцелуй. А затем нырнула опять и исчезла. Аристон знал, что она вынырнет за поворотом, но от страха за нее у него прервалось дыхание. Ибо он уже не мог без нее жить. Сама мысль об этом была равносильна смерти. Тяжело вздохнув, Аристон повернулся и вышел из пещеры на свет.
Он спускался с горы примерно полчаса, и вдруг ему пришла в голову одна мысль… Если он вернется в гимнасий с пустыми руками, так ничего и не украв, педоном прикажет его снова высечь. Даже простое напоминание об этом привело Аристона в ярость. Его тело перестало быть лишь орудием убийства, а превратилось в храм, в котором горел священный, яркий и чистый огонь любви. Аристон не желал, чтобы томный, капризный Лизандр глазел, как он будет молча корчиться от боли. И не хотел, чтобы грубый невежда Си-моей, которого Аристон не мог одолеть в единоборстве, гоготал, слушая пение бича. За одну ночь Аристон полностью изменился. Теперь его страшила не сама порка, а невыносимое унижение, которому его подвергнут.
Аристон замер, размышляя. За то, что с ним вытворяли периэки, у них вполне можно еще раз стащить козленка. Преимущество на его стороне, и грех им не воспользоваться. Спускаясь по темной запретной тропе, Аристон подберется к хижинам своих недавних мучителей сзади. Он увидит их задолго до того, как они заметят его. Тем более – при мысли об этом Аристон пришел в неописуемый восторг – что они наверняка сейчас не дома, наверняка они устремились за ним в погоню по другой дороге!
Аристон повернул назад и принялся карабкаться на гору. Заодно он обдумывал, какие доводы нужно будет привести отчиму. Как уговорить этого сурового, вечно запрещающего старика, чтобы он позволил ему жениться на периэкской девушке, которая гораздо ниже его по происхождению? Чем больше размышлял Аристон, тем яснее ему становилось, насколько это маловероятно. Геронт и полководец Теламон наверняка не позволит, чтобы юноша, которого все, кроме прекрасной Алкмены, ее брата Ипполита и членов Евгенического Совета – разумеется, державших язык за зубами, – считали его родным сыном, так опорочил его дом. Но затем Аристон отогнал мрачные мысли. Какая разница, женится он на Фрине или нет? Главное, чтобы она принадлежала ему! А этому ничто не помешает. Ему нужно только будет вооружиться до зубов, прийти ночью в селение и увести ее силой. В Спарте он присмотрит для нее маленький домик. Теламон, которого возмущало все более терпимое отношение общества к гомосексуальной любви, не только одобрит мужественное поведение сына, но даже причмокнет от удовольствия и выделит средства на содержание Фрины. Естественно, в тридцать лет Аристон будет вынужден жениться на спартанке, но она не сможет заставить его разлюбить Фрину. И вообще, до тридцати еще жить да жить! Когда случится беда, тогда и надо горевать!
Внизу показалось селение, белевшее в лучах солнца. Оно выглядело безлюдным. Никого не было видно. Но самое странное: из-под притолок домов не выбивался дымок. Глава III
Оттуда, где он сидел, почти во главе стола, – он удостоился такой чести в награду за богатую добычу, – Аристон видел лица всех своих товарищей. Юноши покатывались со смеху. Педоном в приливе неожиданной, столь несвойственной ему снисходительности разрешат им устроить пир из награбленных продуктов. Но, как всегда, добавил в бочку меда ложку дегтя:
перед мальчиками расхаживали пьяной походкой, шатались, падали и ползали на животах четыре илота; они валялись на полу, точно свиньи, болтали заплетающимися языками какие-то глупости, пачкали и без того грязные лохмотья мочой и рвотой.
Педоном явно вознамерился преподать подопечным наглядный урок, показать, насколько дуреет человек от пьянства. Спартанец должен всегда иметь ясную голову и незамутненное зрение. Безмозглые пьяницы не выигрывают войны.
Аристон смотрел на отвратительное зрелище, но не мог понять, что гаже: выходки пьяных илотов или поведение человека, который готов смешать людей с грязью, лишь бы доказать свою правоту.
Ведь даже илоты, – сказал однажды дядя Ипполит, – были когда-то людьми. Это потом они из-за нас оскотинились. Мы превратили их во вьючных животных и заставили носить нелепые атрибуты рабства: накидку из овечьей шкуры и шапку из собачьей. Они и периэки принадлежат к одному племени, просто периэки убежали в горы и таким образом сохранили определенную независимость. Хотя из-за смешанных браков в жилах некоторых периэков течет наша кровь и многие из них хорошие люди, даже вполне цивилизованные.
Хорошие… Цивилизованные… Их женщины оторвали Фрине ноги. А потом бросили ее истерзанное, расчлененное тело, потерявшее человеческий облик и превратившееся в груду мяса и переломанных костей, на землю, на поживу псам. А он, Аристон… Сидит за пиршественным столом и ест. Медленно, борясь с подкатывающей тошнотой. Никто бы не сказал по его бесстрастному лицу, что он вынес себе смертный приговор и намеревался привести его в исполнение, не дожидаясь рассвета.
Ибо он, спартанец, проявил трусость. А в Спарте людей за трусость приговаривали к смерти. Какая разница, что никто не знал о буре, которая бушевала сейчас в его душе, не ведал, что он заходится в молчаливом крике, что кровь его бурлит, а в груди становится то жарко, то холодно?! Аристон, казалось, смотрел на пьяных илотов, но на самом деле слушал, что ему нашептывает на ухо демон-даймони-он, нашептывает тихо, сурово и непреклонно:
– Ты бросил ее. Ты стоял и смотрел на весь этот кошмар. Глядел, как ее выпотрошили и бросили внутренности…
– Я был один! – мысленно возразил он. – И без оружия. Они меня тоже могли убить… как менады, которые убивают любого, кто попытается встать на их пути! Я все равно не мог ее спасти! Они и меня разорвали бы на части!
– Ну и что? – сказал даймонион.
И этим было все сказано. Вот где собака зарыта! В сложившихся обстоятельствах долгом Аристона, его неотъемлемой обязанностью было умереть вместе с фриной. Только сражаясь голыми руками со стаей волчиц, только почувствовав, как на него обрушивается град камней, как серпы и ножи полосуют его обнаженное тело, только встав на защиту той, которая почтила его своей любовью и доверием, он мог считаться мужчиной, мог сохранить то, без чего мужчина не в состоянии жить дальше, – честь и достоинство.
А что теперь? Аристон глядел на пьяных илотов, совершенно не разделяя игривого настроения сотоварищей. Он даже не заметил, что красавец Лизандр наконец-то разглядывает его с оттенком нежности. Аристону предстояло умереть. Он пойдет в храм Артемиды, богини целомудрия, и упадет на меч пред ее алтарем в наказание за то, что не сумел защитить целомудрие посвященной ей девственницы. Да-да, ведь расправа над Фриной была не только убийством, это было еще и насилие.
Хотя нет!.. Он не может сейчас принести себя в жертву Артемиде. Богиня с презрением отвергнет Аристона, ибо он заставил бедняжку Фрину нарушить клятву, он вполне мог лишить ее девственности, если бы не торопился спасти свою драгоценную шкуру. Лживыми, кощунственными обещаниями он накликал гнев богов на черноволосую голову Фри-ны. Разве не понятно, что Дионис поразил ее за гордыню, за тщеславие, за веру в то, что она способна стать матерью бога?
Как она в это верила! Но что уж такого тут странного? Любой эллин не задумываясь может назвать множество женщин, которые возлегли с тем или иным сластолюбивым богом и родили потом славных полубогов. Разве многие из этих божественных ублюдков не получили впоследствии дар бессмертия? Больше того, десяткам полубогов было разрешено после окончания их земной жизни восстать из мертвых и вознестись на заоблачный Олимп, то есть превратиться в богов!
То, что Фрина ему поверила, доказывало лишь ее набожность. В худшем случае она грешила – если это вообще можно считать грехом – излишней доверчивостью, тем, что поверила лживому спартанцу. Юная деревенская простушка. Только и всего! Всего-то!
Голубые глаза Аристона потемнели.
– Великий Дионис, неважно, отец ты мне или нет, – гневно прошептал он, – если ты… если все боги так сурово карают за малейшие прегрешения, то я проклинаю вас. Нашлите на меня Эриний… нет, лучше я назову каждую своим именем. Кощунствовать так кощунствовать! Натравите на меня Тизифону и Мегеру, в которых нет ни капли доброты. Но я все равно буду вас проклинать. Однако к одному из вас я все же должен до рассвета сохранить почтительность: к тому, кому я отдам свою жизнь. Скажи, отец Дионис, кто это должен быть? Арес, бог войны, презирающий трусов? Гермес, бог лжецов, воров и мошенников? Или мрачный Аид, повелитель Тартара, бог, которого люди лицемерно зовут Плутоном, владыкой мертвых?
– Никто, – спокойно ответил даймонион, личный демон Аристона. – И ты не должен накладывать на себя руки.
– Но тогда, – прошептал Аристон, – как же…
– Ты должен вернуться и воздать Фрине последние почести. Или ты думаешь, Деймус, которого даже зовут Трусливый, отважится собрать разбросанные кости дочери и похоронить их, как положено по обряду? Неужели ты проявишь трусость, достойную лишь жалкой дворняги? Неужели обречешь тень той, которую по праву можно назвать твоей невестой, на вечные скитания и жарким, пыльным летом, и дождливой зимой, ибо нет у нее родственника, возлюбленного или друга, который умилостивил бы мстительных богов соблюдением похоронных обрядов? Неужто ты позволишь лживой Ликотее навеки опорочить память о Фрине? И не отомстишь за нее? Неужто ты не сделаешь этого, Аристон? Нет, ты должен, даже если тебе грозит гибель, ведь такая смерть вернет тебе возможность называться мужчиной и смоет с тебя позор бесчестья. Или ты думаешь добиться этого легкой, мгновенной смертью, трусливо упав на клинок?
Аристон отодвинул сиденье и встал: спартанцы не возлежали за трапезой, словно изнеженные афиняне. И тут его внимание привлек илот, рыжебородый великан… Так, наверное, выглядел Одиссей, подумал Аристон. Илот смотрел на него спокойно, внимательно, в его голубых глазах не было пьяной мути. Аристон замер. У него мелькнули сразу две мысли. Во-первых, этот человек, очевидно, дориец, фракиец или даже македонец, ибо ни один лакедемонянин, если только он не был выходцем из какого-нибудь племени на юге Эллады, не имел таких светлых волос и румяной кожи.
И, во-вторых, илот был абсолютно трезв. Он лишь прикидывался пьяным.
Как мог человек, в лице которого сквозил ум и было даже некоторое благообразие, родиться среди илотов? Наверно, он из периэков, живших в редких городах, которые основали несколько поколений тому назад дорийские поселенцы (они проникли в Пелопоннес и смешались с более смуглыми местными жителями). Такого человека могли обратить в рабство за долги или какое-нибудь не очень тяжкое преступление. Что ж, тогда понятно.
Однако Аристон все равно не понимал, почему илот смотрит на него со смешанным выражением мучительной тоски и явной гордости. Эти неподдельные чувства, возникшие в душе илота при виде мальчика, заставили его позабыть свою роль и обнаружить, что он каким-то чудом умудрился остаться трезвым.
Однако от взоров посторонних не укрылось то, что Аристон внезапно замер и долго, пристально смотрел на илота. Симоей, считавший себя великим музыкантом и певцом, сделал паузу в грубой и непристойной застольной песне собственного сочинения и тоже уставился на илота.
– Этот паршивец не пьян! – завопил Симоей. – Правда, Аристон?
Аристон пожал плечами. Он ни в чем не желал соглашаться с Симоеем.
– Откуда мне знать? – сказал он. – Я же не сижу у него в животе и не могу измерить, сколько там вина!
Симоей осклабился. Ему вдруг представилась прекрасная возможность поиздеваться над Аристоном. И он не преминул ею воспользоваться. Дело в том, что всего неделю назад, возлежа на пышной, приятной на ощупь груди Иода-мы и чувствуя, как ее стройные ноги, сжимавшие его мускулистую задницу, постепенно слабеют, он вырвал у рабыни признание, способное навеки уничтожить Аристона, смешать с грязью этого красивого золотоволосого юнца, который столько лет подряд пренебрегал любовью, горевшей в большом, неуклюжем теле Симоея. И даже не хотел подарить ему мимолетного поцелуя или случайной ласки, которых Симоею удавалось добиться от более красивого, но не столь волнующего Лизандра.
– Да, Аристон, ты прав! – захохотал он. – Ты не сидишь у него в животе. Сейчас не сидишь. Но вполне может статься, ты все же имеешь отношение к этому илоту. Вернее, к семени, что дало тебе жизнь!
Застольная болтовня тут же стихла. Певцы умолкли на полуслове. Даже самые несдержанные подумали, что Симоей зашел слишком далеко. За такое оскорбление Аристон имел полное право его убить. Если сможет. В этом-то вся и загвоздка!
А Симоей не успокаивался. Он громоздил оскорбление на оскорбление, не оставляя никаких недомолвок.
– Эй! Илот! – воскликнул он. – Ты ведь бог Дионис в человеческом обличье, не так ли? Ты явился навестить сына, которого прижил с красивейшей из своих прислужниц? Ибо, друзья и возлюбленные, нам следует благочестиво пасть ниц перед златокудрым Аристоном! Он, скромник, конечно, будет отрицать, но всему миру известно, что он сын бога!
– Симоей! – прошептал Аристон.
– А как еще ты это объяснишь, Аристон? У тебя неземная красота. Разве ты не родился на тридцать седьмой год после битвы при Фермопилах? А где был в тот год великий Теламон, о мои друзья и возлюбленные? А спустя тридцать шесть лет после той же битвы? Вы не помните, откуда он вернулся всего за две недели до того, как прекрасный Аристон появился на свет?
– Симоей, – голоса Аристона было почти не слышно.
– Два года не видел домашнего очага великий Теламон. Неосмотрительно, не правда ли, возлюбленные мои? Или, напротив, очень даже мудро. Как еще мог пожилой, уже тогда пожилой человек, иссиня-черные волосы и борода которого покрылись инеем, стать отцом такого славного, златокудрого красавца? Прелестная Алкмена… Дионис свидетель, она и сейчас привлекательна, и будь я ее сыном, то вполне мог бы впасть в грех Эдипа… прелестная Алкмена вдруг потеряла покой. Да, о сын вечно воскресающего бога? А посему она, твоя прелестная, покинутая мужем мать, устремилась в горы, чтобы присоединиться к менадам, и там…
Аристон рывком сдернул с себя хитон, порвав его на левом плече фибулой, специальной булавкой. Веревочный пояс, которым он обвязывал талию, был затянут слабо и тут же упал к его ногам. Белый хитон соскользнул на пол. Совершенно голый, как полагалось при рукопашном бое, Аристон двинулся на Симоея.
Тот ухмыльнулся и тоже скинул короткую тунику. Задира стал в борцовскую стойку, его могучие руки напоминали теперь медвежьи лапы, они готовы были разорвать, растерзать Аристона.
– Ну, иди сюда, златокудрый красавчик! Иди, мой любимый! – пробасил Симоей. – Я тебя обихожу, как бог, пастух или даже этот вонючий раб – обратите внимание, волосы у него рыжие, а глаза голубые! – обиходил твою матушку. Иди, я решу, куда тебе воткнуть мой могучий клинок: в рот или еще куда-нибудь. Позволь доставить тебе удовольствие, златокудрый Аристон, сын бога или бог знает кого!
Гнев Аристона был ужасен, но ужаснее всего оказалось то, что юноша сохранял полнейшее хладнокровие. Он к тому времени пережил столько страшного… сцены, прошедшие перед его глазами, звуки и даже запахи уже утратили свое название, стали неизъяснимыми, и, если бы кто-нибудь попросил его рассказать, что случилось с Фриной, описать, как женщины Парнона лишили ее жизни, у Аристона перехватило бы горло, его дыхание прервалось бы и кровь вперемешку с желчью хлынула бы из желудка, раздираемого тоской и ужасом, подступила бы к горлу и не дала бы юноше произнести ни слова. Оскорбления были ему теперь нипочем. Разум, чувства и душа Аристона то ли онемели, то ли покрылись защитной броней и стали неуязвимыми для отчаяния, ярости или боли.
«Если схлестнуться с этим быком, он меня покалечит, – подумал Аристон. Рассудок его был ясен, как ледяные воды горного ручья. – Однако я гораздо проворней Симоея, и если…»
– Помоги мне, Арес! – взмолился он во всеуслышание. – Тебе, о могучий бог войны, я посвящаю сию кровавую жертву. Мы сражаемся насмерть, Симоей! Ты слышишь меня? Насмерть!
Огромный Симоей слегка побледнел, услышав это. А когда ответил, его низкий голос заметно дрожал:
– Да будет так, божественный или человеческий ублюдок! Бьемся насмерть!
Он ринулся вперед, этакий бычище, груда смуглых потных мышц, несущаяся… в пустоту. Ибо Аристона там уже не было. С какой-то удивительной грацией, словно танцуя, он отпрыгнул в сторону. А когда Симоей пролетел мимо него, Аристон встал на цыпочки, сцепил руки в один кулак и со всей силы обрушил его на бычий загривок противника. Симоей рухнул на стол, превратив его в кучу дров. Лежа на полу, он тупо уставился в одну точку. Когда же встал, его огромный живот был заляпан остатками яств, а изо рта и носа текла кровь.
Мальчики издали оглушительный вопль. Ведь почти все они побывали в лапах Симоея. Они терпели его только потому, что до сих пор никто не мог победить огромного, сильного наглеца. Но, увидев его окровавленным, поверженным, заметив, что колени врага дрожат, они уподобились стае волков, воющих от радости при одной лишь мысли об убийстве.
Аристон улыбнулся, его лицо приняло жестокое выражение. Жестокое, как сама смерть. Он попятился, отскакивая от Симоея. С такой скоростью большинство его товарищей были способны бежать вперед, но не назад. Ударившись, наконец, спиной о стену, Аристон отпрыгнул и полетел вперед, словно камень, выпущенный из пращи. Но даже в полете, когда его золотистое тело мчалось вперед, он видел краем глаза, как умеет опытный боец, который может поплатиться за свою оплошность жизнью, если не будет обозревать все поле боя… так вот, краем глаза Аристон видел, что трое илотов валяются, словно скоты, на полу, а рыжеволосый раб встал в полный рост и с интересом и тревогой следит за развязкой. А потом Аристон вдруг оторвался от пола и взлетел, будто на крыльях. Он летел горизонтально, вперед ногами, и со страшной силой ударил Симоея в лицо жесткими пятками. Послышался неприятный хруст лицевых костей, и богатырское тело Симоея с влажным всхлипом ударилось о дальнюю стену. На мгновение он застыл, точно пригвожденный к стене, а затем медленно осел, растопырив ноги и осоловело глядя перед собой.
– Клянусь Гераклом! – рассмеялся Лизандр. – Ты неверно назвал его отца, о Симоей! Это явно Титан или даже сам великий Зевс в шкуре льва! Что это ты ослабел, невежа? Поднимайся скорее и – в бой!
Симоей оперся руками о пол и попытался встать. Аристон замер в середине зала и наблюдал за ним. Когда наконец жирный грубиян с огромным трудом поднялся, еле держась на ногах, Аристон снова взмыл в воздух, и его прекрасное юное тело, словно снаряд, помчалось на Симоея. На сей раз вперед головой. Точно разъяренный баран, он боднул Симоея в толстое брюхо. Затем отскочил и увидел, что Симоей согнулся и принес в жертву мрачным хтоническим богам все, что успел съесть и выпить за целый день.
Однако бодался Аристон напрасно. Он позабыл про камень периэков, рассекший ему череп. Рана открылась, и из нее хлынула кровь, которая залила медно-золотистые волосы Аристона и ручьями потекла на пол. Аристон зашатался, в глазах у него потемнело. Но он тряхнул головой, чтобы рассеять мглу, и снова ринулся на обидчика.
Он знал, что должен прикончить Симоея, пока тот не пришел в себя, а он, Аристон, окончательно не обессилел. И юноша молотил врага руками и ногами. Наконец Симоей снова свалился на пол под градом ударов, хлюпающие звуки которых заглушались звериным ревом зрителей.
Аристон высоко подпрыгнул и всем весом обрушился на широкую грудь Симоея. Даже несмотря на оглушительный рев, отчетливо послышался хруст ломающихся могучих ребер. Аристон снова подпрыгнул… Милосердие, жалость, гуманность, даже здравый смысл покинули его в этот момент. Когда снова раздался глухой, как бы деревянный, треск, соученики Аристона умолкли. Он отошел назад, измерил взглядом расстояние и с размаху ударил Симоея ногой в подбородок. Большая голова противника откинулась назад, но не так далеко, как хотелось Аристону. Толстая шея Симоея была еще цела. Аристон снова занес ногу, но чьи-то могучие руки вдруг цепко обхватили его. Он попытался вырваться из богатырских объятий, но не смог. Повернувшись в безмолвной ярости, он увидел рыжебородого илота.
Тот смотрел на него, нахмурив брови. Смотрел сурово. Словно имел над Аристоном какую-то власть.
– Во имя Ареса, довольно! – сказал он, и Аристону почудилось, будто Зевс метнул одну из своих молний. – Настоящий мужчина не опускается до убийства. Это ничем нельзя оправдать, даже оскорблением, нанесенным твоей благородной матери. А коли так, то остановись. Перестань бить копытом, точно дикий осел, и поработай головой. Если, конечно, в ней что-то есть, в чем я вообще-то сомневаюсь. Прекрати! Ты меня слышишь, Аристон? Прекрати!
– Отпусти меня! – прохрипел, задыхаясь от гнева, Аристон. – Убери свои вонючие руки, илот.
– Какие это руки, не тебе судить, меллиран, – мрачно произнес рыжебородый. – Но будь уверен, они не отпустят дикого осла, пока он не пообещает оставить в покое этого великовозрастного болвана. Ну, что скажешь?
Аристон посмотрел илоту в глаза. В нем было что-то необычное. Какая-то… властность. Царственность. Глубоко скрытая, сдерживаемая сила, которая тем не менее была способна потрясти целый город, если бы илот счел нужным раскрепостить ее.
– Ладно, – угрюмо пробурчал юноша. – Я обещаю.
Илот отпустил его и отступил назад.
А потом сказал звучным, по-южному мягким голосом:
– Ступай с миром, сын мой, ибо я боюсь, эта история причинит всем нам еще много хлопот…
И, словно подтверждая его слова, в зал ворвался педо-ном.
– Что здесь происходит? – завопил он. – Бессмертные боги! Кто это сделал? Кто убил…
– Беги, юноша, – сказал рыжебородый илот. Дом Теламона находился в четырех с половиной гиппи-конах от гимнасия, но Аристон знал, что туда сейчас лучше не соваться. Когда он выбежал в палестру, сторонний наблюдатель – окажись он в тот момент неподалеку – даже не заметил бы, что Аристон приостановился: настолько быстро он принял решение. Почти наверняка на него повлиял опыт, приобретенный в пещере, когда Аристон совершал побег из периэкского плена. Он так быстро взвесил в уме все «за» и «против», что это вполне можно было назвать озарением. Аристон сразу понял, что, как бы стремительно он ни бежал, ему не удастся моментально скрыться из виду, так как земля Лаконики плоская, словно блюдце. И не успеет он добраться до гор, как конная стража догонит его и свалит с ног. Нет, нужно было либо растаять в воздухе, либо провалиться сквозь землю. А поскольку ни то ни другое не представлялось возможным, Аристон выбрал более приемлемый вариант: слегка изменил маршрут и стремглав помчался влево, пока не добежал до берега Эврота, который находился от силы в десяти родах от палестры, и нырнул в тихие воды реки. Вода была по-прежнему ледяная, но это Аристона не тревожило. Главное, что пловец не оставляет следов, запаха на воде тоже не сохраняется, так что даже с собаками его не найти ион действительно может исчезнуть… Разумеется, при соблюдении некоторых условий.
Конечно, Аристон шел на риск, ведьбегун всегда обгонит пловца. Но он справедливо рассчитывал на то, что погоня начнется не сразу. Он надеялся, что сперва педоном учинит мальчикам допрос, а они, не привыкшие свидетельствовать по делу об убийстве, от потрясения онемеют. А самое важное, он знал, что рыжебородый илот, скорее всего, встанет на пути преследователей, загородив им проход. Аристон понятия не имел, откуда взялась эта уверенность, но не сомневался, что так оно и будет. А следовательно, нужно успеть отплыть на почтительное расстояние от школы, пока ребята не выбежали в палестру и не принялись озираться по сторонам, высматривая, куда он побежал.
«В эту сторону, – с мрачной радостью подумал Аристон, – им, правда, не придет в голову взглянуть. Но чтобы действовать наверняка…»
Он набрал в легкие воздуха и нырнул. А когда открыл глаза, то очутился в мрачной глубине вод. Аристон проворно поплыл, оставляя после себя полосу радужных пузырьков. Он плыл под водой, пока не почувствовал, что легкие вот-вот лопнут. Но даже потом терпел еще некоторое время. Вынырнув наконец на поверхность, он очутился возле противоположного берега, и высокие камыши скрыли его голову.
Погони все еще не было. Аристон проплыл под водой примерно четверть гиппикона. Он полежал на спине, пока его дыхание не восстановилось, а затем снова нырнул, поплыл под водой, вынырнул и повторил это еще и еще раз, пока не добрался до большой излучины и школа не скрылась из виду.
Однако он успел услышать, как мальчики выскочили на палестры, выкрикивая его имя. Но понимая, что они его все равно не увидят, не стал нырять. Вместо этого он решительно поплыл вперед, рассекая воду плавно, с силой и без единого звука, почти без единого всплеска. Аристон быстро перебирал ногами и стремительно удалялся от гимнасия. Юный спартанец был так прекрасно натренирован, что, выбравшись на берег в шести гиппиконах от школы, он даже не запыхался.
Но Аристон знал, что беды его не кончились. Он считал, что убил Симоея, в чем почти не раскаивался… так, чуть-чуть. А коли он убил врага, то его жизнь теперь под угрозой. Отец и братья Симоея обязаны будут во имя чести семьи отомстить за его смерть, хотя вообще-то большинство современных спартанцев уже оставляют подобное на усмотрение властей. А впрочем, все едино! Отчим наверняка должен будет проголосовать за смертный приговор тому, кого окружающие считают его сыном: ведь Теламону нужно продемонстрировать свою беспристрастность и справедливость суда старейшин. Это ясно как божий день.
Аристон улыбнулся своим мыслям.
– Вот она, вторая возможность убить меня. Не так ли, отец? – пробормотал он. – И на сей раз дядя Толстопуз тебя не остановит. Какая прекрасная возможность, да? Ты навеки избавишься от ненавистного лица, при виде которого у тебя начинает ныть лоб… Хотя, сколько бы мужчины ни возмущались, такие вещи, по словам дяди Ипполита, всегда бывают неслучайно. Всегда заслуженно. Ладно, чему быть – того не миновать. Я человек конченый. А пока… пока я еще не переплыл Стикс, мне нужно сделать кое-какие дела, геронт Теламон, военачальник Теламон… даже можно сказать, земледелец Теламон, ибо ты растишь урожай, посеянный другим! Так-так… погоди, дай подумать…
Ферма. Там есть амбары и стога сена, где можно спрятаться. Хотя бы до ночи. А затем…
Аристон отошел от берега и храбро устремился вперед.
Через десять минут впереди показались низкие каменные строения фермы.
Когда Аристон покинул свое убежище, было уже темно. Он шел, не боясь встречи с преследователями. За долгие годы юноша здорово поднаторел в искусстве воровства. Сейчас он уже был одет. Его крепкое юное тело было прикрыто шерстяным, великолепно расшитым хитоном, а на плечах красовалась хламида, накидка, в которой ему будет не страшен ночной холод. Свинцовые грузики, пришитые к четырем углам короткой всаднической накидки, дабы ее не сдувало ветром, ласково постукивали Аристона по груди и спине. Но самой главной деталью краденого костюма, благодаря которой соученики Аристона или городская стража прошли бы мимо, даже не взглянув во второй раз на юношу, была шляпа, широкополый петасос, любимый головной убор земледельцев и путешественников. Шляпа служила Аристону прекрасной маскировкой, ибо он всегда ходил с непокрытой головой; даже в младенчестве его волосы цвета меда ничем не прикрывались, несмотря на солнце, ветер или дождь.
Не забыл Аристон и про свой желудок. В мешке, перекинутом через плечо, лежал большой круглый хлеб, увесистая головка сыра и две-три пригоршни маслин. С такими запасами Аристон мог бы отправиться на край света. Но шел он сейчас гораздо ближе: к дому своего ненастоящего отца. Шел, чтобы совершить еще одну кражу (или, если выражаться помягче, позаимствовать без разрешения кое-какие вещи, ведь вообще-то любое оружие или доспехи, которые он выкрадет из арсенала Теламона, когда-нибудь перейдут по наследству к нему).
Предаваясь подобным размышлениям. Аристон подошел к своему бывшему дому. Он знал, что красть надо быстро, поскольку воин и государственный муж Теламон скоро явится домой ночевать. Будучи стратегом, Теламон целыми днями обсуждал с другими полководцами планы ежегодного летнего нападения на земли и селения Аттики. Спартанцы совершали эти походы уже шесть лет и, как казалось Аристону, могли бы с тем же успехом делать это еще сто лет подряд. Кретины! Разве не понятно, что единственный способ победить афинян – это уничтожить их флот? Пока крепкие стены соединяют Афины с портом Пи-рей, моряки будут прекрасно оборонять город и даже сытно кормить жителей. Что им до сожженных ферм, до срубленных оливковых и фиговых деревьев, до вытоптанного проса, ячменя, пшеницы и кончившихся съестных припасов? Это все детские забавы! Но, как всегда уверял Ипполит, сложнее всего заронить в голову спартанцев новую идею. Даже Геракл проиграл бы сию битву.
Хотя у Аристона не было времени, но он не мог уйти, не взглянув в последний раз на мать. Он считал, что после того как он осуществит задуманное, у него нет ни малейшего шанса остаться в живых. Разумеется, он матушке не покажется, ибо, если она его увидит, ему не уйти. Он прекрасно понимал, каким горем будет для матери его смерть, но не мог ничего поделать. Он был спартанцем и отчетливо осознавал свой долг: похоронить честь по чести останки той, что стала бы, если бы позволили Эринии и рок, его подругой жизни. Он должен сделать это, чтобы тень любимой обрела покой. Тем самым он за нее отомстит. Мать, конечно, будет долго и горько плакать, но таков удел женщин, а удел мужчин – сражаться и умирать. Клото уже спряла тонкую нить его жизни, Лахесис отмерила ее, а ужасная Атропос стояла с ножницами наготове, чтобы в любую минуту перерезать эту нить. Да будет так! Но сперва…
Аристон обогнул дом, который, как и все спартанские дома, был маленьким, простым и довольно грязным, и добрался до окна гинекеи, женской половины. И тут же услышал голос Ипполита. Как брат Алкмены, он имел право приходить к ней в комнату для приема гостей. Если бы то же самое сделал человек, не связанный с ней кровными узами, он бы немедленно расстался с жизнью.
– Так что когда он явится домой, – озабоченно говорил Ипполит, – вели ему прийти с повинной. В худшем случае его ждет порка и несколько месяцев тюрьмы. Этот бык-переросток не умрет, хотя, должен заметить, сестрица, заслуги Аристона тут нет. Зевс свидетель, твой драгоценный сынок изо всех сил старался его убить. Между прочим, он защищал тебя, Алкмена… да простит тебе Афина отсутствие мозгов!
– Меня? – услышал Аристон тихий, ясный голос матери. Как всегда он был удивительно спокойным.
– Да! – отрезал Ипполит. – Похоже, юный балбес решил преподать всей школе урок элементарной арифметики: сложения и вычитания, доказывая, что два года – это двадцать четыре месяца, а с момента зачатия младенца до его рождения проходит всего девять и что если мужчина, даже великий стратег, отлученный в связи с важными государственными делами от ложа жены на два долгих года, возвращается и видит жену на сносях, готовую разродиться младенцем мужского пола, это означает одно: ему, так сказать, помогли в исполнении супружеских обязанностей, а по-простому, украсили его многодумный лоб парой рогов.
– Ох! – грустно вздохнула Алкмена. – Но почему Аристон не объяснил им, кто его отец? Ведь моя честь осталась незапятнанной.
– Козлы и сатиры! – рявкнул Ипполит. – Послушай, о самая тупая из ослиц! Ты отправилась в горы, хотя в любом полисе Эллады оргиастические ритуалы давно запрещены и на всей нашей земле не найдется города-государства, где уже сто лет или больше не чествовали бы Диониса, устраивая торжественные процессии, во время которых танцуют, поют, показывают представления – короче, ведут себя разумно и культурно. А ты, моя непорочная, прекрасная сестрица, отданная в жены зануде, который, однако же, вполне достойный человек, ты, повторяю, удрала из дома, потащилась в горы, связалась с менадами, участвовала в пьяных вакхических оргиях, которые способны вогнать в краску самую распоследнюю шлюху из порта Пирей, любую из тех бедных оборванных потаскух, чьи ласки можно купить на всю ночь за один-единственный обол… И, весело проведя время, ты вернулась с улыбкой святоши на глупом лице, твердо вознамерившись сообщить несчастному Тела-мону, что рога, увенчивающие его лоб, появились стараниями и милостью бога! Что ублюдок, которого ты носишь в животе…
– Ипполит! – воскликнула Алкмена.
– Я думаю, это отпрыск какого-нибудь пастуха с фаллосом побольше, чем у самого Приапа. Когда он увидел, что ты, мертвецки пьяная, лежишь на спине, он не преминул задрать твой хитон до пупка, раздвинуть тебе ноги и приняться за дело. Не корю его. Кто бы на его месте поступил иначе? Пойми, глупышка Алкмена, никто еще не представил доказательств существования богов! Во всяком случае, доказательств, которые могли бы убедить людей с мозгами, способных, отправляя свои естественные нужды, не упасть в выгребную яму. Я уж не говорю, что у богов, похоже, нет иных занятий, кроме как ежесекундно брюхатить всяких дурочек! Так что, может, хватит издеваться над моим разумом, сестра? Нам надо поговорить о гораздо более важных вещах. Аристон в беде! В страшной беде. Этот жирный бездельник мог помереть, и тогда…
– Он не умрет, – спокойно возразила Алкмена, – потому что никакое зло не может коснуться моего золотого мальчика. Его жизнь всегда в безопасности. Мне это обещал его отец, божественный Дионис…
– Эрос и Афродита! – Ипполит задрал вверх свое круглое, точно полная луна, лицо, поросшее редкой бороден-кой. – Теперь она заявит, что ВИДЕЛА бога! В том, что ты его чувствовала, я не сомневаюсь, он сладострастно на тебя накинулся, но видеть?! Ну, говори!
– Я его видела, но смутно, – прошептала Алкмена. – Я, как ты верно сказал, брат, была не в себе из-за выпитого вина. Но я помню, что он был могучим, с головой, точно лес, горящий в засуху, и с глазами, подобными летнему небу. Он был очень ласков со мной, хотя я мало что помню.
– Ему повезло, и он ушел домой целым и невредимым. Я бы никогда не потащился в горы! Я этого не могу понять, хоть убей! Клянусь Плутоном-Аидом, владыкой Тартара, и трехглавым Цербером, воющим перед входом! Почему тебе взбрело в голову так нализаться и скакать по горам с дикими бабами, которые ходят в чем мать родила? И еще вопить и танцевать, увив волосы виноградными лозами? Если бы какой-нибудь бедолага попался на пути этой безумной стаи гарпий, они разорвали бы его в клочки и ты бы наверняка к ним присоединилась. А потом – о какой милый, очаровательный обычай! – вы бы вкусили его плоть и выпили бы кровь! Бр-р… Я не люблю каннибализма, сестрица, даже если он принимает форму самого что ни на есть священного ритуала. А ты… Постой-ка, я понял! Вот как все было. Ты выпила больше остальных и решила спасти горемыку от своих диких сестриц… А потом нашла, что парень хорош собой. Да, Алкмена? И…
– У тебя, Ипполит, – резко оборвала его мать Аристона, – на уме всегда только дурное. Ты что, никогда не видел моего сыночка?
– О да, и Аполлон – свидетель, он прекрасен. Временами я должен напоминать себе, что он мой племянник.
– Любитель мальчиков! – презрительно фыркнула Алкмена.
– А что плохого в мальчиках? – довольно разумно возразил Ипполит. – Они никогда не явятся домой с огромным пузом, словно они проглотили подросшего поросенка, и не «осчастливят» человека, вынудив его растить плод чужих наслаждений. Но хватит об ерунде! Если у тебя недостает ума, чтобы побеспокоиться об Аристоне, я…
– Бедный Ипполит! – ласково сказала Алкмена. – Ты не понимаешь. Мой ум не мал, просто вера моя велика. Не спорь, поверь мне на слово! Никакое горе не коснется Аристона. Его отец, бог…
Аристон отпрянул от окна.
Никакое горе не коснется меня, матушка? Душа его возрыдала. Всего дважды взойдет солнце, и мы увидим, что станется с твоей безумной верой. Где был мой отец-бог, когда Ликотея, словно волчица, грызла горло Фрины? Где он был, когда они полосовали ножами эту нежную плоть, разрезали ее на куски?.. О мама, мама, ты ребенок! А я смотрел, как мою собственную плоть – ибо Фрина была со мной единым целым – разрезали, словно тушу козла, и бросили псам… А сейчас…
Он повернулся и пошел туда, где хранилось военное снаряжение его ненастоящего отца.
Глава IV
Аристон глядел на оружие стратега. И не мог решить, что лучше взять: обычное, обильно смазанное оружие, которое Теламон брал, отправляясь на войну с афинянами, или праздничные доспехи, те, что он приберегал для военных парадов и прочих церемоний. Доспехи манили его больше, потому что были покрыты искусными узорами. Шлем, щит и панцирь были с двух сторон богато инкрустированы золотом. На орнаменте изображались сцены сражений и портреты богов. На поле брани стратег никогда не надевал эти доспехи. Мало того, что они привлекали внимание всех вражеских лучников и пращников, они имели еще один ужасный недостаток: по обычной, гладкой поверхности простого щита копья и стрелы скользили, не причиняя воину никакого вреда, а в такой узорчатый щит непременно вонзались.
Но Аристон все же подумал, что в тех необычайных обстоятельствах, в которых он оказался, роскошное снаряжение может очень даже пригодиться. Юноша представил себе, как он будет выглядеть в ослепительно сверкающем золоте и полированном серебре, с гребнем из крашеного конского волоса, покачивающимся на шлеме, со щитом на плече и копьем в руке, с коротким обоюдоострым клинком, какие спартанцы носили на правом боку, и с небольшим кинжалом на левом. Он появится, как один из героев, воспетых слепым поэтом в его великих творениях. Да нет, какой герой?! В доспехах Теламона он вполне может показаться доверчивым селянам величественным юным богом. Да-да, это как раз то, что ему нужно: он должен выполнить свою миссию один, но все равно имеет смысл заручиться хоть какой-нибудь поддержкой, и в данном случае его невидимыми союзниками окажутся суеверия и страхи периэ– ков.
Размышляя таким образом, Аристон нагнулся, чтобы поднять доспехи… и замер потрясенный. Они были чудовищно тяжелы. Он оценил их вес по меньшей мере в два таланта. Можно представить, в каком состоянии он прибудет в селение Парной, если ему придется тащить на себе в горы такую груду ненужного, разукрашенного железа…
Значит, взять обычное оружие? Но это сразу вернуло Аристона с небес на землю. Его богатый опыт обращения с боевым оружием тут же напомнил ему, как ныли его ноги после суточного марш-броска… И мало-помалу время начало милосердно затягивать патиной невыразимо жуткие подробности смерти Фрины – рассудок всегда так старается защититься, – ив душе Аристона исподволь, тихо и упрямо зарождалась надежда. Он хотел похоронить кости Фрины, как положено, хотел отомстить за нее, но при этом остаться в живых. Под железной броней он будет неповоротлив, словно черепаха в своем панцире. Периэки окружат его и забьют камнями.
Поэтому Аристон отказался от божественного обличья и приготовился сражаться и бежать, как простой смертный. Он взял меч, кинжал, связку дротиков, длинный плащ и ничего больше. И в таком вооружении отправился сражаться с полчищами врагов, надеясь, во-первых, перехитрить их, во-вторых, обогнать и, уж в самом крайнем случае, умереть. Ибо Фрина пробудила в его душе бурю неистовых любовных чувств. Вернее, они уже к тому времени пробудились, но благодаря ей направились в естественное русло. Аристон понял, что хотя мужчины без конца злословят о женщинах, те могут быть обворожительными. Разумеется, конченого человека, уже распростившегося с жизнью, не тянет к девушкам. А Аристон уже подумывал о том, что он, конечно, воздаст Фрине последние почести и будет всегда скорбеть о ней, храня память о бедняжке в самом сокровенном уголке своего сердца, но, похоже, он недолго останется ей верен. Он молод и жив, хотя и очень горюет. И имеет право на радость… когда-нибудь потом, в будущем.
Обуреваемый смутными, противоречивыми юношескими мечтаниями. Аристон замешкался. Покидая дом, он поспешил юркнуть в проулок, чтобы не столкнуться со взрослыми мужчинами, стратегами и простыми гоплитами, которые освещали Теламону путь домой. Аристон вжался в стену и стоял, трепеща, пока они не прошли мимо. Затем он кинулся бежать, и расстояние между ним и целью стремительно сокращалось.
Аристон пересек в темноте долину Лаконики, добрался до подножия Парнона и начал карабкаться вверх. Однако драка, плавание и бег порядком утомили его. Аристон понимал, что глупо являться в селение совершенно обессиленным. Ему не пришло в голову, что еще глупее явиться туда средь бела дня – а именно так должно было случиться, заночуй он на полпути. Он остановился, хорошенько закутался в украденный длиннополый плащ, чтобы укрыться от холодного горного ветра, и улегся в маленькой расщелине. Лежа там, Аристон окропил землю вином, воздав жертву богам, съел маленький кусочек козьего сыра и хлеба, закусил парой маслин и, закрыв глаза, попытался заснуть.
Но сон не шел. Мысли и воспоминания терзали Аристона , он мучился бессонницей. Задремал он почти перед самым появлением розовоперстой Эос, богини зари, когда колесница Фаэтона уже была готова появиться на восточном небосклоне, пролагая путь Гелиосу, их славному брату-солнцу. Но через час юноша проснулся: пробуждающееся солнце било ему прямо в глаза. Он решил, что это доброе предзнаменование: неизлечимая страсть Эос к юношам была общеизвестна. Может, она будет благосклонна к нему?
Через несколько часов, стоя на высокой горной тропе – тропе теней и демонов, по которой за последние двадцать с лишним лет прошел только он один, – Аристон снова глядел на лежавшее внизу селение. Из-под притолок всех домишек курился дымок, но никого не было видно, кроме мальчика, который пас нескольких коз на краю лужайки, поросшей травой.
Аристон заметил белые кости Фрины, наполовину скрытые травой. Но ее черепа не обнаружил. Ни следа хрупкого маленького шарика, в котором при жизни таились мечты, надежды и нежные мысли. Только длинные берцовые кости, переломанные ребра, полукружья тазовых костей, под защитой которых, если бы деревенские гарпии не убили Фри-ну, могла бы начаться жизнь нерожденного бога. Да-да, божественная жизнь зародилась бы в этом нежном лоне. И мечтать, думать об этом вовсе не было кощунством, ибо какое другое существо могло родиться от столь великой любви, которую питала к нему Фрина?
Прежде чем повернуть назад. Аристон хорошенько запомнил, где лежит каждая кость. Наконец-то он осознал, что попытаться осуществить задуманное днем равносильно самоубийству, и намеревался собрать кости Фрины после наступления темноты. Однако отсутствие черепа его тревожило. Плоть человека в любом случае превращается в ничто, но какой прок от обряда, совершаемого над костями, ежели не хватает такой жизненно важной детали?
И еще. За свое преступление Ликотея должна умереть. Аристон очень сожалел, что остальные злобные гарпии избегнут наказания, но понимал, что ничего поделать нельзя. Да и потом, если рассуждать хладнокровно, они были лишь орудиями в руках преступницы, она же их ввела в заблуждение, обманула. А по обычаям периэков двойное убийство каралось именно такой смертью, если не хуже. А вот волчица прекрасно сознавала, что делает. И для этого не существовало никаких объяснений или оправданий. Бессмертные боги, как же она хорошо все продумала! Она явно кралась за ними по извилистому подземному лабиринту, шла по их следу, словно настоящая волчица. Только река остановила ее, без сомнения, она боялась воды, поскольку не умела плавать. А на берегу…
Она нашла одежду Фрины. Взяла ее и вернулась обратно, ко входу в пещеру. Там она нагнулась и обмакнула белую, тонкую ткань, прикрывавшую невинную, целомуд– ренную, нежную Фрину, в загустевавшую, кошмарную лу жу мужниной и Аргусовой крови. А затем использовала это как доказательство, чтобы убедить приемных дочерей Эри-ний, женщин Парнона, что Фрина…
– Готовь свою лодку, Харон! – тихо дал зарок Аристон. – Клянусь твоим повелителем, мрачным Аидом, тебе будет кого переправить сегодня через Стикс!
Но, сидя у костра возле дальнего входа в пещеру, Аристон осознал, что выполнить обещание нелегко. Он ведь понятия не имел, где, в какой хижине жил Эпидавр. Мало того, что нужно отыскать череп бедняжки Фрины, так еще придется красться от окошка к окошку, высматривая среди спящих Ликотею… Это было маловероятно. А попросту говоря, невозможно.
Погруженный в тягостные раздумья Аристон сидел у костра. Ему не без оснований казалось, что боги задали ему столько работы, сколько не задавали даже великому Гераклу. Если бы только найти способ… способ…
Внезапно он вскочил на ноги: его осенило! Он понял, что нужный способ не только существует, но и что он относительно прост. Сейчас примерно полдень. Мужчины придут пообедать со своих каменистых полей и пастбищ, где они пасут коз. Насколько было известно Аристону, все мужчины в селении были женаты. Значит, одна из хижин, в которую – поскольку Аргус мертв – не войдет мужчина, будет хижиной Востроглазого, а другая – никем не оплаканного Эпидавра. Его дом тоже еще явно пустует, ибо, во-первых, в селении больше нет мужчин брачного возраста, а, во-вторых, Ликотея еще не кончила носить траур.
Аристон вышел из пещеры и снова поднялся по тропинке. Оттуда, с высоты, он взглянул на селение. Эос, Артемида и Афина благоволили к нему: Аристон увидел саму Ликотею, которая величественно шла через площадь. Покраснев от стыда, Аристон неожиданно осознал, что волчица демонически притягательна. Разглядев при дневном свете ее лицо, уже не опухшее и без синяков, Аристон подумал, что, наверно, возлечь с ней – огромное блаженство, тем более что она, как всегда, была чистой.
И тут же стыд, подобно когтистому грифу, начал разди– рать Аристона. Думать такое о женщине, растерзавшей Фрину! О той, что вонзила свои зубы в…
Однако кое-кто тоже разделял его восторги. Ибо когда Ликотея проходила по улице, великан Панкрат поспешно выскочил из своего дома и подбежал к ней. Конечно, с такой высоты Аристон не мог слышать, о чем они говорили, но по выражению лица и жестам Ликотеи было понятно, что она ругает Панкрата за дерзость. Панкрат только рассмеялся в ответ на ее слова, привлек ее к себе и шлепнул по заду. Сверкнуло лезвие ножа. Великан отшатнулся и поднес руку к лицу. Потом отдернул – рука оказалась вся в крови. Ликотея располосовала ему лицо от уха до подбородка. Длинная косматая борода Панкрата тут же стала красной.
Аристон увидел, как Ликотея улыбнулась и ее сладострастные губы произнесли какие-то слова. Аристон догадался, что она сказала:
– В следующий раз это будет твоя мерзкая глотка, похотливый козел!
Ликотея отвернулась от богатыря, еле стоявшего на ногах, и пошла через площадь к дому. Аристон хорошенько заприметил ее хижину.
День тянулся целую вечность. А первые несколько часов после наступления темноты – и того дольше. Но юноша запасся терпением. Он был уверен, что периэки, как все деревенские жители, ложатся спать рано, но ждал, пока они заснут покрепче и можно будет спокойно выйти на площадь, чтобы собрать кости бедняжки Фрины.
Наконец юноша понял, что пора. Он не знал, благодарить ли ему богов за то, что на небе серебрилась полная луна– Конечно, это существенно облегчит поиски. Но, с другой стороны, он окажется в более уязвимом положении, если ему придется сражаться с врагами.
«Но поделать все равно ничего нельзя, – подумал Аристон. – Великая Афина, я молю тебя о помощи, ибо Фрина целомудренна и прекрасна. И тебя, о божественная Афро-дита, тоже умоляю, ведь клянусь душой, я любил Фрину. Тебя же, мой отец Дионис, вечно воскресающий бог, я прошу, чтобы ты разрешил мне с честью окончить мой жизненный путь. А тебя, бессмертный Арес, молю о храб– рости, дабы я мог отважно биться и, если будет нужно, пасть смертью храбрых».
Молясь, Аристон принес в жертву богам оставшееся вино. А затем взял оружие и двинулся в путь.
Началось все удачно. Даже слишком, и это могло бы послужить Аристону предупреждением. Все так прекрасно складывалось, что странным образом напоминало трюк, широко использовавшийся в плохих пьесах, которые горе-драматурги выставляли на суд зрителей во время дионисийских празднеств. Чтобы помочь актерам-гиппокритам – и, к слову сказать, самим себе – выпутаться из закрученной драматической интриги, они ставили за сценой скрипучую машину, она изображала то храм, то дворец, то хижину пастуха. Иногда машину водружали и на более видном месте, за орхестой, на площадке, где танцевал хор, и оттуда на вполне зримых веревках появлялся бог, дабы сотворить чудо и устранить все неприятности.
Луна высвечивала кости Фрины, они мягко поблескивали, словно жемчуг. Аристон собрал их, борясь с тошнотой, ибо ни голодным, вечно недоедавшим псам, ни воронам, ни целому рою насекомых не удалось очистить кости полностью. Там и тут Аристону попадались на глаза затвердевшие куски красно-черного мяса. Плоть от плоти его – ив таком виде! Вдобавок от костей исходил слабый запах гниения, сладковатый и тошнотворный; ни один человек не в силах его вынести. Но Аристон упорно терпел мучительную пытку. Он нежно обернул кости возлюбленной своим плащом, собрав все или почти все.
Кроме черепа. Аристон отошел в сторону и поискал там. Ни следа, ни малейшего следа! А ведь череп должен был бы первым броситься ему в глаза! Однако…
И тут Аристону неожиданно показалось, будто актер, играющий бога в какой-нибудь драме, съехал к нему вниз на веревках. Ибо, оглянувшись, он увидел свет, струившийся из окна какого-то дома. У Аристона перехватило дыхание. Но он очень хорошо запомнил местоположение этой хижины и не мог ошибиться. Свет горел в доме Ликотеи!
Аристон осторожно подкрался к двери. Положил у порога свою жуткую ношу. Выбрал один из дротиков, а остальные положил рядом с костями Фрины. Затем Аристон слегка вытянул из ножен меч и, приготовившись к нападению, начал подкрадываться к окну. Но не успел добраться до него, как услышал голос Ликотеи.
– Значит, ты так решил мне отомстить, Панкрат? – спрашивала Ликотея легким, игривым, насмешливым тоном. – Ты считаешь, что за эту царапину я должна тебе отдаться? А что говорит по этому поводу твоя драгоценная Стеропа?
Затем до Аристона донесся бас Панкрата, похожий на рев быка. Он сказал нечто такое, что невозможно привести дословно, но смысл его высказывания сводился к тому, что с его женой Стеропой следовало бы проделать нечто не очень приличное или, в крайнем случае, она может сделать это сама.
Ликотея звонко, весело рассмеялась.
– Но, дорогой Панкрат, – промурлыкала она, – именно это ты и обещал проделывать с ней каждую ночь, когда приносил брачные жертвы богам. А коли так, то иди к ней! И не говори, что вспахивать и боронить поле упрямой Сте-ропы – скучное занятие! Зевс свидетель, у тебя полно детей! Зачем тебе я?
– Зачем? – прогрохотал в ответ Панкрат. – Я же говорил тебе, что весь горю! И не потому, что ты слегка поцарапала мне щеку, а потому, что ты самый лакомый кусочек, который только может перепасть мужчине. Так что будь умницей, Лико. Кто об этом узнает? Я не хочу быть с тобой грубым, но…
– А если ты надуешь мне брюхо своим приапическим инструментом? – сказала Ликотея.
– Да ладно тебе, Лико, ты семь лет была замужем за Косматым и…
– Но ты ведь не Эпидавр, могучий Панкрат. Он был тайным любителем мальчиков. И почти не прикасался ко мне, а ты…
Теперь Аристон видел их обоих. Ликотея стояла спиной к окну. Она была совершенно голой – вероятно, она всегда спала без одежды. Пряча от Панкрата обнаженное тело, Ликотея прижимала к груди длинное одеяло. Но Аристон отлично видел ее со спины. И нашел, что у нее великолепная фигура.
Внезапно Ликотея расхохоталась. Хрипло и визгливо.
– Ладно, – сказала она. – Не стоит из-за этого драться, да? И вообще, что мне защищать? Память о том, что я потеряла в двенадцать лет с рабом в лавке моего отца? Мне это запомнилось только потому, что болван разодрал мне внутри все и у меня потом кровь шла целый месяц. Но у тебя, безобразное чудовище, пожалуй, хватит здоровья, чтобы… чтобы удовлетворить мой аппетит. Хотя я в этом сомневаюсь. Такое никому не под силу. Тут нужно целое войско. Хочешь сперва выпить вина? Я сама его приготовила. Вакх свидетель, оно очень крепкое и придаст крепость твоему клинку. Не улыбайся! Ты скоро поймешь, сколько сил нужно, чтобы оседлать и объездить волчицу Ликотею!
– Возвращайся побыстрее, девочка, – счастливо пробасил Панкрат и сел у порога. Ликотея ловко завернулась в одеяло и подошла к шкафу.
Аристон услышал тихое бульканье вина, но, что она делает, не видел. Когда Ликотея повернулась, одеяло соскользнуло на пол и она предстала во всей своей наготе. Ужасная стигийская нимфа с чашей в руках…
– Пей, Панкрат, – прошептала она, и ее голос за-змеился, словно гадюка.
– Пей, о могучий и похотливый великан! Пей до дна… если посмеешь!
Аристон услышал, как Панкрат тяжело, прерывисто задышал. А потом издал долгий, душераздирающий вопль, будто человек, за которым гонятся тени умерших и демоны. Он вскочил и кинулся бежать, земля тряслась под его ногами. А вдогонку несся визгливый, хриплый смех Ликотеи. Казалось, кто-то с силой царапает щит мечом.
Аристон замер, глядя на Ликотею. Юноша сказал Фрине правду: он не раз видел обнаженных девушек. Живя в Спарте, нельзя было этого избежать. Во время религиозных празднеств девушки танцевали обнаженными, распевая девичьи песни, а затем выходили танцевать юноши, тоже без одежды. Они кружились под звуки флейт и лир. Но, глядя на Ликотею, Аристон осознал, что он никогда еще не видел такого… такого непристойного женского тела. Прежде чем появиться обнаженными на людях, спартанские девушки тщательно сбривали все волосы на теле или выводили их смесью мышьяка и извести. И белые фигуры, двигающиеся, танцующие и раскачивающиеся из стороны в сторону под торжественную музыку, удивительно напоминали статуи и не возбуждали желания.
Но Ликотея – о Афродита и Эрос! – Ликотея была иной. Хотя на самом деле разница была крохотной: всего три курчавых иссиня-черных пятна волос, резко оттенявших белизну ее тела и превращавших его из нагого в голое. Козлоногий бог нарочно сохранил это, чтобы напомнить Аристону: женщина то же животное! Ее кровь тоже распаляется от желания. Она не ожившая статуя, покрытая перламутровой пылью. У статуи нет этих двух совершенно одинаковых темных кустиков, открывшихся взору Аристона, когда Ликотея подняла руки и начала пить из чаши…
Что? Вино, нектар или… кровь? Что могла она пить из этой чаши? Из ЭТОЙ чаши?
Аристону показалось, что внутри него кто-то вскрикнул. Пронзительно и визгливо, как менады, обезумевшие от напитка богов. Похоть разрывала его внутренности, сердце, не давала вздохнуть. Глаза застилала пелена.
Но затем взор Аристона прояснился. Он взмахнул дротиком и со всей силы метнул его. Но то ли Ликотея пошевелилась, то ли он поторопился, то ли какой-то насмешливый, ехидный бог отвел его руку. Вместо того чтобы пронзить Ликотее глотку, дротик проткнул ее плечо и пригвоздил к стене.
Она не вскрикнула и даже не застонала. Она просто стояла и смотрела, как он входит в дом, вытащив из ножен короткий спартанский меч.
Он приставил ей лезвие к горлу. Но вдруг почувствовал, что не может. Руки его ослабели. Аристон никогда еще никого не убивал. А уж о том, чтобы убить женщину, и помыслить не мог. И вот теперь…
Запах, исходивший от Ликотеи, защекотал его ноздри. Все внутри мучительно содрогнулось, в душе завязалась беспощадная борьба между стыдом и желанием. Ликотея не проронила ни слова, даже пальцем не пошевелила, чтобы вымолить жизнь. Наоборот, она плюнула на его дротик и в упор поглядела на Аристона, поглядела насмешливо, презрительно… Она знала, что он пощадит ее, понимала, какой ценой будет куплена эта пощада, и презирала Аристона. Ее глаза, чернее, чем смертный грех, смотрели хладнокровно и уверенно, в них сквозило усталое знание человеческой слабости, и мужской и женской. Ликотея умело нащупывала слабое место каждого и относилась с ледяным, безграничным презрением к людям, проявлявшим хоть какую-то слабость. А следовательно, вообще ко всему человечеству. Затем она медленно растянула губы в улыбке.
И это оказалось каплей, переполнившей чашу… именно это устало-циничное выражение… Ослепленный внезапной яростью Аристон вонзил в Ликотею свой меч. И тут же его вытащил. Из раны хлынула темно-красная кровь, которая моментально залила грудь волчицы. Она впилась взглядом в лицо Аристона, и он понял, что будет помнить ее глаза до гробовой доски. Сам не зная почему, Аристон вынул из ее плеча дротик, и женщина упала. Она корчилась, дрыгала ногами, конвульсивно дергалась, словно курица, которой перерезали горло. Наконец Ликотея затихла. Она повернула к нему лицо, и ее губы зашевелились. Однако изо рта не вылетело ни звука. Воздух выходил из раны и не долетал до рта, так что слов не было слышно. Но Аристон прочел то, что она хотела сказать, по губам, кривившимся от боли и ненависти.
– Я проклинаю тебя! Отныне ты никогда… И тут Ликотея умерла.
Аристон стоял над ней, мысленно заканчивая недоговоренное проклятие.
– Ты никогда отныне не будешь знать покоя. Ты, зарезавший беззащитную женщину. Да, она была виновна, но ты мог бы проявить милосердие. Мог бы возвыситься над варварскими обычаями Лаконики, над дикими спартанскими нравами. Воззвать к единому истинному богу, которого заслонили многочисленные лицедействующие божества…
Но теперь все это было впустую. Аристон медленно нагнулся и подобрал с полу череп бедной фрины. Он стоял, держа его в руках, и отчетливо, убийственно-отчетливо видел, как тщательно Ликотея его выскребла, вычистила и отполировала -до блеска, так что получился чудовищный сосуд для питья. Аристон вышел со своей находкой на улицу, в кромешную тьму, ибо даже луна скрылась и вокруг не видно было ни зги.
Аристон похоронил останки Фрины на запретной тропе. Чтобы защитить ик от волков, он навалил сверху груду камней. У него не было вина, чтобы принести жертву богам, поэтому он разрезал себе запястье и окропил могилу своей кровью. Затем преклонил колена и помолился всем олимпийцам, чтобы они приютили и благословили тень нежной девушки.
Поднявшись на ноги. Аристон долго стоял над могилой, его голубые глаза были полны слез. Потом Аристон слегка шевельнулся… совсем чуть-чуть, но этого хватило, чтобы уцелеть.
Все мысли мигом вылетели у него из головы. Дыхание прервалось. От страшного удара Панкрата Аристон закачался, клинок разъяренного великана вошел в его тело. Благодаря тому что Аристон неожиданно повернулся, нож не задел жизненно важных органов и лезвие вонзилось не полностью. Однако рана оказалась достаточно глубокой, и если бы Панкрат вытащил из нее клинок, вместе с лезвием из тела Аристона ушла бы и жизнь. Но Аристон повернулся, чтобы встретиться с врагом лицом к лицу. От этого неожиданного движения плохо закаленный, ломкий кинжал хрустнул у рукоятки, и лезвие осталось в спине Аристона. Юноша обнажил меч. Панкрат взревел, как бык, когда оружие пронзило его толстый живот и вышло наружу возле позвоночника. Аристон потянул на себя рукоятку, и вслед за бурлящим потоком алой крови душа Панкрата покинула тело.
Аристон стоял над трупом великана и глядел вниз. Панкрата он, правда, не видел. Было слишком темно, да и перед глазами Аристона висел красный туман. Зрение никак не фокусировалось. Аристон повернулся и пошел прочь, медленно, шаг за шагом продвигаясь вперед. Он шел очень прямо, горделиво, высоко подняв голову, и был удивительно похож на бога.
Дойдя до поворота, он успел сделать несколько шагов и упал. Но все же благодаря неимоверному усилию воли под– нялся и двинулся дальше. Через пару ярдов упал опять. И опять поднялся. Один, два, три, дюжину раз. Когда оказался не в силах встать – пополз. Он полз вперед сквозь красный туман, сквозь кромешную тьму, а в его спине полыхало ослепительное пламя, готовое поглотить его душу, дыхание, жизнь. Он все еще полз, когда его подхватили могучие руки. К тому времени Эос уже летела по небу и ее конь прогонял ночь белыми, широкими крылами.
Аристон вглядывался сквозь утреннюю дымку в исказившееся от горя, отечески заботливое лицо, обрамленное густой огненно-рыжей бородой и волосами, в ярко-голубые глаза, которые сейчас влажно блестели и моргали.
– Не плачь, великий Дионис, – невнятно пробормотал Аристон, и из его рта хлынула кровь. – Не плачь обо мне, отец. Боги не плачут, и я…
Солнце внезапно померкло. Стало очень темно, и Аристон начал коченеть от холода.
– Держись, сынок! Стисни покрепче зубы, иначе твоя душа вылетит изо рта, словно пташка. Вот так! Вот так! Сейчас я отнесу тебя домой, – сказал рыжеволосый илот.
Глава V
Илот Тал давно знал – ему ведь исполнилось уже сорок семь лет, – что самое тяжкое жизненное бремя – это необходимость принимать решения. И, поскольку его собственная жизнь была тяжела, он крепко усвоил, что человеку приходится выбирать не между плохим и хорошим, а, как правило, меж двух зол. Иными словами, боги никак не влияют на его выбор, а сидят на своих бессмертных задах на вершине Олимпа и даже намекнуть не желают, какое из двух зол наименьшее. Если, конечно, не получается так, что куда ни кинь – везде клин.
Именно так получалось и теперь. Может, Талу следовало опрометью бежать по скользкой, извилистой тропинке, словно святотатцу, за которым гонятся Эринии? На этот вопрос существовало по меньшей мере три ответа. И все отрицательные. Во-первых, нет, потому что от тряски лезвие могло еще глубже вонзиться в спину юноши и он испустил бы дух. Во-вторых, нет, потому что при беге значительно возрастала возможность поскользнуться и упасть. Даже если бы Талу повезло и он не свалился бы с горной кручи прямо в Тартар (даже не переправившись через Стикс), все равно для мальчика падение грозило немедленной смертью. Ну и, в третьих, бежать было нельзя, потому что, таща на руках Аристона, Тал умер бы от усталости, не достигнув города.
Количество «нет» впечатляло. А что можно было предложить взамен? Может, нужно идти медленно и осторожно? Нет, потому что, промешкай Тал хоть немного – и славный златокудрый юноша умрет. А что, если попытаться вытащить из его спины клинок? Нет, потому что Тал не способен остановить кровотечение, которое неизбежно начнется после этого. А если оставить мальчика здесь, устроить его поудобнее и побежать за лекарем и носильщиками? Опять-таки нет! Когда Тал наконец убедит городскую стражу, что говорит правду – если это вообще удастся, – и вернется к Аристону, юноша будет уже мертв.
Тал откинул назад огненно-рыжую голову и громко расхохотался. Гулкие раскаты дикого, горького смеха были подобны грому Зевса. От шума сверху, со скал, посыпалась груда камней. Тал закрыл рот. Он вырос в горах и прекрасно знал, что от крика может моментально начаться горный обвал.
– Словно у меня мало неприятностей, не хватало только погибнуть под лавиной, вызванной моим идиотским смехом, – пробормотал он и двинулся вниз. И почти тут же перешел на ритмичный бег трусцой, не очень медленный и не очень быстрый. Чтобы уменьшить толчки, илот при каждом шаге слегка приподнимал тело мальчика. Так продолжалось несколько часов. Когда в легких Тала больше не осталось воздуха, а руки совсем устали и заболели так, что он не мог идти дальше, илот устроил привал. Но очень короткий, чтобы только слегка восстановить силы.
К счастью для Тала, путь все время лежал под гору. Но все равно лишь такой волевой человек, как он, смог добраться до города и вдобавок сохранить еще немного сил – ровно столько, чтобы хватило для завершения его добровольной миссии. Теперь, когда Спарта отчетливо вырисовывалась на горизонте, Талу предстояло принять последнее решение: либо обогнуть полгорода и войти известным ему потайным ходом, уменьшив шансы показать мальчика врачу, либо идти прямо, полностью полагаясь на волю стражи, которая могла выслушать его объяснения, пытаясь понять, почему он, собака-илот, несет раненого спартанского юношу, а мог– ла и прикончить его на месте и только потом разбираться что к чему.
Но тут Аристон застонал, и выбор был сделан. Тал ускорил шаг, направляясь прямо к городу без крепостных стен.
Через двадцать минут он уже входил в Спарту. Потерявший сознание Аристон лежал у него на руках, оба были в пыли. К Талу моментально подступили с обнаженными мечами стражники, расставленные с равными промежутками вокруг полиса – на случай внезапного нападения афинян (в это, правда, никто не верил, поскольку в долгой, изматывающей войне афиняне царили на море, а спартанцы побеждали на суше, и даже на шестом году летних боевых действий прямой и решительный удар по-прежнему оставался неосуществимой мечтой для стратегов обеих враждующих сторон).
– Собака! – прорычал начальник стражи. – Грязный илот! Ты осмеливаешься входить в город с…
Тут он осекся, потому что даже такому тугодуму, как этот илиарх (а спартанцы вообще не отличались гибким умом), стало ясно, что он знает ответ на свой вопрос. Ни один илот, даже сумасшедший, не осмелился бы на такое. Любой, самый тупой раб, ранив или убив меллирана, со всех ногм-чался бы сейчас в горы. Илиарху пришло в голову, что, наверно, рыжебородое животное хочет получить награду или даже – тут глаза начальника стражи сузились, ведь подозрительность была у спартанцев в крови, – пытается ублажить родственников раненого, тоже надеясь на вознаграждение. Это означало, что илот храбрее и умнее, чем ему положено. Илиарх хорошо запомнил его лицо и подумал, что надо натравить на эту косматую собаку криптею, тайную полицию. Пусть следует за ним по пятам!
– Уберите мечи! – скомандовал он. – А ты, илот, говори.
–~– Я прошу прощения, илиарх, – сказал Тал. – Я, конечно, все расскажу, но сперва надо отнести юного господина к ближайшему лекарю. Сейчас я не могу даже вздохнуть. А если не отнести его поскорее к врачу, то вообще лишусь языка. Как и ты, добрый илиарх, – еще раз покор-нейще прошу у тебя прощения. Тебе тоже отрежут язык, если сын благородного Теламона умрет из-за твоей медлительности. Великий стратег позаботится об этом.
Илиарх занес было волосатую руку, намереваясь выбить из илота дерзость вместе с зубами, но рука зависла в воздухе. Илиарх быстро придвинулся поближе и вгляделся в неподвижное лицо юноши.
– Клянусь Аполлоном! – прошептал он. – Собака не лжет. Это действительно прекрасный Аристон! Эй, Имфикл! Иксион! Фебал! Фегей! Готовьте копья и щит!
Приказание было исполнено молниеносно: спартанцев специально учили сооружать такие носилки. Щит прикреплялся к двум копьям. Начальник стражи постелил на него свой кроваво-красный гиматий: спартанцы часто носили красные плащи, чтобы враги не видели их ран и не приободрялись. А затем стражники бережно положили Аристона на носилки лицом вниз.
– Старайтесь не слишком его трясти, о мои господа, – попросил илот, – а то клинок вонзится глубже и отнимет у него жизнь.
Что-то в голосе Тала заставило илиарха вглядеться в его лицо попристальней. Но тут Аристон открыл рот, и его вырвало сгустками крови.
– Дионис, отец мой! – простонал юноша. – Мне больно! Больно! Я страдаю!..
Тал поспешно нагнулся к раненому.
– Держись, сынок, – прошептал он. – Скоро тебе окажут помощь, скоро…
И снова илиарх посмотрел на рыжебородого Тала, но теперь он переводил взгляд с его лица на лицо мальчика и обратно. Медленно, медленно…
– Клянусь Менелаем, отцом всех рогоносцев, – буркнул он. – Я готов поклясться… но нет… об этом жутко даже подумать…
Он возвысил голос и крикнул:
– Марш вперед, живо!
Но гоплит, державший носилки спереди, вопросительно уставился на него. В Спарте было много лечебниц. А он был простым солдатом и не умел читать мысли начальства.
– Куда идти, господин? – спросил гоплит.
– Осел! – рявкнул илиарх. – Мул, сын мула! Конечно же, к велшсому Полору! Или ты думаешь, я понесу сына нашего полководца к какому-нибудь занюханному лека-ришке? Давай-давай, поднимай копыта, пошевеливайся!
Стражники понесли мальчика по извилистым, узким улочкам Спарты, вымощенным булыжником, и наконец добрались до района Фенодамас, что в переводе означает «сдерживание смерти». Именно там обитал лекарь Полор. В центре площади Тал увидел храм Асклепия, бога медицины. Здесь все свидетельствовало о том, что квартал посвящен искусству врачевания. Повсюду стояли статуи: Аполлона Алексикакоса – Аполлона, прогоняющего хвори, Пеона, врачевателя богов, Гигеи, богини здоровья. Панацеи, избавляющей от всех болезней, и даже богини мудрости Афины Паллады, хотя спартанцы теперь редко возносили ей молитвы, ведь считалось, что она покровительствует афинянам. Перед самым входом красовалась массивная статуя кентавра Хирона, который, как гласит легенда, обучил Асклепия секретам медицины. Мускулистое человеческое тело почти незаметно переходило в туловище могучего жеребца.
– Все лекари вылезли из задницы этого старого коня, – хмыкнул один из гоплитов. – Сколько людей они угробили!
– Заткнись, дурак! – рявкнул илиарх, но сказал он это довольно беззлобно. Он был погружен в наблюдение за Талом и успевал еще разглядывать вывески над дверями, сообщавшие о том, какой лекарь, целитель, приходящий на дом, или травник тут обитает. Были в этом квартале и лавки, где изготовлялись стелы, таблички, в которых богов молили об исцелении, и анатемы – их приносили в жертву богам после выздоровления. На нескольких табличках стояли названия лечебниц самых знаменитых врачей, и илиарху показалось, что Тал смотрел на них особенно внимательно.
«Нет! – подумал илиарх. – Не может быть! Илот, умеющий читать? Это противоестественно. И все же…»
Но тут они подошли к дому Полора, и Тал остановился, не дожидаясь, пока кто-нибудь проронит хоть слово. Начальник стражи горестно покачал головой в шлеме. Сильный, приятного вида илот начинал ему нравиться. Было ясно, что в юности Тал тоже отличался красотой… наверное он был красив не меньше, чем юноша, неподвижно ле– жащий на щите. Жалко… Ведь илот – человек конченый. Он, Орхомен, илиарх десятой илы городских стражников, обязан выдать его криптее. Появись у илотов такой вождь – они добьются очень многого! Даже факт спасения сына великого Теламона говорил о железной выдержке и хитрости илота…
Орхомен подался вперед и еще раз вгляделся в лицо Тала. Может, рыжебородый скот сам заколол мальчика, чтобы попытаться инсценировать его спасение, выторговать себе свободу? Или…
Но тут илиарх увидел глаза Тала, увидел, с какой отеческой, тоскливой нежностью глядит илот на раненого юношу. Нет! Орхомен вновь в смятении выпрямился. Его зрение, инстинкт, ум подсказывали ему то, что он не в силах был принять. Это слишком ужасно! Илот – и дочь одного из знатнейших спартанских семейств? Илот – и жена спартанского полководца? Нет! Во имя всех мрачных, жутких хтонических божеств, этого просто не может быть!
Они внесли Аристона в помещение лечебницы и положили на пол. Девушка-рабыня медленно, неохотно – пока ее не кольнули в задницу копьем и у нее не пробудилось уважение к военным людям – пошла будить спящего господина.
Лекарь явился, дрожа от ярости. При виде его сердце Тала ушло в пятки. Ибо лекарь был очень, очень стар. Руки его дрожали, а голос срывался на фальцет.
– Как вы смеете! – пропищал он. – Будить меня из-за того, что одного из ваших вооруженных болванов ранили в пьяной драке?! Наверняка из-за какой-нибудь шлюхи! Убирайтесь отсюда все! Там, дальше по нашей улице живет лекарь, который вполне справится с этой задачей! Я не принимаю…
– Тихо, лекаришка! – рявкнул Орхомен. – Придержи свой заплетающийся от старости язык, если хочешь сохранить его. Юноша очень знатен, хотя это сейчас неважно. Важно то, что врачей, нарушающих обет, данный Аскле-пию, или клятву Гиппократа, ждет суровое наказание! Юноша уже у берегов Стикса. Твой долг – спасти его. Вот и приступай! Иначе…
Старик остановился.
– Ладно, – сказал он. – Но мои услуги дорого стоят, илиарх. Я вынужден тебя об этом предупредить. Кто возьмет на себя бремя расходов на жертвоприношения? А я считаю их необходимыми. Разве может лекарь кого-нибудь вылечить без благословения богов? Придется принести огромное количество жертв Аполлону Алексикакосу и Пеону, Гигее и Панацее, кентавру Хирону и Афине Палладе. И самому Асклепию! Вполне может статься, что еще кого-нибудь я упустил. О боги! Я ведь действительно кого-то забыл. Так у нас ничего не выйдет. Боги страшно гневаются, если о них забывают. Дайте подумать… дайте подумать… кто же…
– Телесфор, – подсказал илот Тал.
И опять Орхомен удивленно воззрился на рыжебородого раба. Телесфор, прекраснейший юноша, помогавший Асклепию врачевать, был одной из самых загадочных фигур среди богов-целителей. Если он вообще мог считаться богом, многие с этим не соглашались. О Телесфоре знали только весьма образованные люди. Все, все с этим илотом было не так! Его голос, произношение, его…
– Да-да, Телесфор! – пискнул доктор. – Я знал, что забыл кого-то! Скажи, илиарх, кто заплатит за это?
– Не ломай свою слабую голову, старик, – сказал Орхомен. -Лучше подумай, кто оплатит твои похороны и жертвоприношения, если мальчик умрет, пока ты со мной споришь. Ибо отец его Теламон, глава совета старейшин, главный полководец и командующий флотом, позаботится о том, чтобы ты умер медленной и очень страшной смертью. Ты меня слышишь? За работу, лекаришка!
Лицо Полора побелело как полотно. Руки еще сильнее задрожали. Тал бросил на Орхомена умоляющий взгляд.
– Да, ты прав, илот, – пробормотал илиарх. – Боюсь, я перегнул палку и напугал старого шарлатана так, что он стал вообще ни на что не годен.
Орхомен повернулся к дряхлому лекарю и сказал гораздо ласковей:
– Однако я уверен, что если ты спасешь юношу, то можешь получить столько золота, сколько весишь сам или весит он, смотря кто тяжелее. А это по меньшей мере два таланта, Полор! Что ты об этом думаешь?
Слова илиарха подействовали на врача чудесным образом. На пятьдесят четвертый год после битвы при Фермопилах (спартанцы, как и прочие эллины, вели отсчет времени по каким-нибудь знаменательным датам) официальными деньгами полиса по-прежнему считались большие, похожие на колеса телеги, железные монеты, хитроумно придуманные Ликургом в целях борьбы с алчностью: ведь монеты были слишком тяжелы и огромны, чтобы унести их далеко, и не имели особой ценности, так что их незачем было копить. Однако любовь к роскоши, постепенно прокрадывающаяся в души людей и в конце концов погубившая всю Элладу, сыны которой оказались не в силах совладать с варварскими племенами, начала покорять и суровую Спарту. Наперекор законам Ликурга все жители умудрились раздобыть хотя бы пару унций запрещенного серебра или золота. А в таланте содержалась почти тысяча унций (если быть совсем точным – девятьсот двенадцать). Получив два таланта, лекарь стал бы богат, как Крез… По крайней мере, ему так казалось.
Дрожь в руках Полора мгновенно унялась. На сморщенном лице вновь заиграл румянец. Темные глазки засверкали.
– Сюда! – сказал Полор. – Кладите юношу сюда. Я сейчас его осмотрю. Так-так… Гм…
– А жертвоприношения? – спросил Тал.
– Не докучай мне этими суевериями, илот! Разве ты не понимаешь, что у нас нет времени? – сказал великий Полор.
Несмотря на свой преклонный возраст, врач, как выяснилось, не утратил мастерства. Прежде всего он влил в горло Аристона настойку мандрагоры. Но когда спустя полчаса дотронулся до раны, юноша громко застонал. Поэтому лекарь добавил в питье вытяжку белладонны. Однако пациент по-прежнему чувствовал боль, это было очевидно. Тогда Полор прибегнул к драконовским мерам: дал Аристону четверть драхмы опиума. Это возымело действие. Даже когда врач ухватил щипцами сломанное лезвие, юноша не шевельнулся. Но едва Полор вытянул клинок из раны, началось такое кровотечение, что страшно было смотреть. Ничто не могло остановить кровь, никакие средства, которые применяли врачи Эллады в эпоху первого расцвета медицины, когда дух бессмертного Гиппократа все еще присутствовал среди людей, вдохновляя и направляя их. Не подействовала ни дубовая кора, ни кровь дракона, ни сок граната. Наконец, старый Полор поступил правильно: приложил к ране докрасна раскаленное железо. Несмотря на обезболивание, Аристон издал душераздирающий вопль.
Тал упал на колени подле кровати. Илиарх увидел у него на глазах слезы.
«Бедняга! – подумал Орхомен. – Он слишком мягкосердечен, чтобы быть опасным. Я не буду подвергать его пыткам. Все, что мне нужно узнать, можно выудить хитростью».
Тем временем лекарь промыл рану прокипяченным вином, проткнул ее концы чистыми щипцами, чтобы рана не раскрывалась, и наложил повязку.
– Он… будет жить? – прошептал Тал.
– Понятия не имею! – отрезал Полор. – Может, мне зарезать курицу и погадать на ее внутренностях?
Теперь юноша лежал спокойно. Илиарх послал одного раба к Алкмене, а другого – в Герусию, чтобы известить обоих родителей. Наконец-то у него появилась свободная минутка, и он вывел илиота Тала на улицу, чтобы допросить.
– Ты знаешь, кто его ранил? – начал допрос Орхомен. – Если, конечно, ты не сделал этого сам, надеясь получить награду за то, что спас жизнь чуть не убитому тобой человеку.
Тал слабо улыбнулся.
– Я не думаю, что ты так плохо разбираешься в людях, илиарх, – сказал он. – Ты же знаешь, что я его и пальцем не тронул.
– Да, я это знаю, илот, – кивнул Орхомен. – Твоя тайна сокрыта глубже. Может, ты его любовник?
– Такой грязный пес, как я? – усмехнулся Тал.
– Бывают вещи и подиковинней. Ты вполне хорош собой, рыжебородый, хотя и носишь собачью шапку. А о вкусах не спорят… Иначе на свете не было бы мутонов, не правда ли?
Тал закусил губу. Оскорбление было нанесено намеренно и рассчитано точно. Мутонами звали детей, которых спартанцы приживали с беззащитными женщинами-илот-ками, не смевшими отказать господам.
– Да, – бесстрастно ответил Тал. – Думаю, не было бы.
– Так все же, – продолжал Орхомен, – ты его любовник?
– Нет, – сказал Тал.
– И между вами нет никакой связи?
– Никакой.
– Ты просто наткнулся на раненого юношу?
– Нет. Я нарочно следовал за ним. Я был в гимнасии, когда он…
– Ты был в гимнасии?! – взревел Орхомен. – Что ты там делал, во имя…
– Это был ежегодный урок, посвященный вреду пьянства, добрый илиарх. Но они сделали плохой выбор. У меня очень крепкая голова и желудок. Я имею в виду выпивку.
– Хорошо. Значит, ты был в гимнасии и валялся на полу, как боров, нализавшись, подобно афинянину, или притворяясь пьяным, и…
– Он подрался с юношей, оскорбившим его мать. И хотя чуть не убил негодяя – который вполне этого заслуживал, добрый илиарх! – был так расстроен, что в любой момент мог сделать что-нибудь безрассудное. Поэтому я пошел за ним. Я хотел предотвратить беду.
– Почему? – спросил начальник стражи.
– Потому что я питаю уважение и восхищаюсь его матерью, знатной госпожой. Она была ко мне однажды очень добра. Очень.
Рука илиарха метнулась к рукоятке кинжала. На лбу выступили поблескивавшие капли пота. На виске набухла и билась толстая жила.
– Если бы я думал… – прохрипел он. Тал посмотрел ему прямо в глаза.
– Но ты же этого не думаешь, мой господин? – сказал он. – Подобные мысли оскорбляют божественную Артемиду, равно как и госпожу Алкмену. Так что не надо им предаваться, хорошо? Я надеюсь, у тебя есть ко мне более мудрые и благородные вопросы.
– О да, – пробормотал Орхомен. – Например, КТО его ранил?
– Не знаю. Я не мог найти след мальчика всю ночь. Видишь ли, на скалистых кручах Парнона не остается следов… А когда я его обнаружил, было поздно. Он полз по тропинке, и в спине у него торчал нож…
Илиарх еще раз взглянул на Тала.
– Да, ты у нас великий помощник! – усмехнулся он. – Однако я, пожалуй, запишу твои слова. Эфоры наверняка захотят с ними ознакомиться. Надеюсь, тебя не нужно предупреждать о том, чтобы ты не лгал? Ты достаточно умен и не захочешь подвергнуться пыткам…
– Ты прав, мой господин, – согласился Тал. Орхомен вынул из-за пояса деревянную табличку, намазанную воском, и стило. С большим трудом, высунув язык, он принялся писать. Нацарапал число, указал место, где он повстречал илота, несшего на руках Аристона, записал еще некоторые подробности. Тал еле сдерживал улыбку. Он сидел за спиной илиарха и видел, что накарябано на табличке. С орфографией и грамматикой у Орхомена было из рук вон плохо. Этим грешили все спартанцы, даже мнившие себя очень образованными.
– Твое имя, илот! – потребовал илиарх.
– Меня зовут Тал, – сказал илот. Орхомен оторвался от таблички.
– Сомневаюсь, – сухо произнес он. – Ты ведь изменил свое настоящее имя, да?
Тал поглядел на булыжники мостовой. Потом поднял глаза.
– Да, – просто ответил он.
– Раньше тебя звали Флегий, не так ли? Из-за волос…
– Флогий, мой господин, это почти одно и то же. А затем я переименовал себя в Тала. Это больше подходит к моему положению. Ты со мной согласен, добрый илиарх?
– Соглашаться с илотом для солдата равносильно измене, – возразил Орхомен. – Ты же знаешь закон, собака!
– Да, – кивнул Тал. – Но еще я знаю людей.
– То есть? – не понял Орхомен.
– Ты добрый илиарх, не такой… твердокаменный, каким хочешь казаться. Этот закон… Что он на самом деле означает? Мы рабы и не в силах что-то переменить. Однако каждый год эфоры официально объявляют нам войну, словно мы вражеский полис…
– Вы относитесь к нам крайне враждебно, – сказал Орхомен.
– Но довели-то нас до этого вы! – спокойно возразил Тал. – Ибо не хотите понять, что человека нельзя держать в повиновении при помощи кнута.
– А как можно? – спросил Орхомен.
– Я думаю, любовью, – сказал Тал. – Но точно не знаю. Пока что ни в одном полисе люди не поумнели настолько, чтобы попробовать.
– Тал-философ! – насмешливо фыркнул Орхомен. Но издевка была притворной. Тал видел, что, невзирая на свой тон, илиарх заинтригован.
– В каком-то смысле – да, – сказал Тал. – Возьми хотя бы этот закон, илиарх. Разве он не служит невольным подтверждением вашей неправоты?
– Собака! – взревел Орхомен. – Да я тебя… Но голубые глаза Тала требовательно впились в лицо илиарха.
– Почему ты не хочешь выслушать, господин? – сказал он. – Ты же знаешь, что тебе представилась бесценная возможность. Поговорить свободно, начистоту всегда очень важно. Это больно, потому что, когда человека заставляют думать, ему больнее всего. Но я научился сносить сию боль. И теперь, даже в моем грязном рубище и в собачьей шапке, я остаюсь человеком.
– А я, значит, осел в доспехах? – спросил Орхомен. Слишком быстро родилась у него эта мысль. Тал понял, что он не раз думал о таких вещах, сидя в одиночестве.
– Если бы мне так казалось, – мягко ответил он, – то я не тратил бы на тебя слова, илиарх. Я вижу в твоем лице ум, а в глазах – гуманность. Вот почему – прости за откровенность – мне тебя жалко, мой господин.
– Тебе меня жалко? – только и смог прошептать Орхо-мен. – Тебе, илот, жалко МЕНЯ?
– Да, – кивнул Тал, – ведь, обладая двумя этими качествами, умом и гуманностью, ты вынужден оставаться спартанцем.
Орхомен выронил табличку и выхватил из ножен кинжал, который сверкнул на солнце. Тал не пошевелился. Он спокойно сидел и улыбался спартанцу. И даже не взглянул на высоко занесенное блестящее лезвие. Похоже, он знал, что кинжал так и застынет в воздухе. Илиарх посмотрел на него в упор, но Тал не опустил взора. Наоборот, это Орхомен не выдержал, и его суровые глаза забегали по сторонам, столкнувшись с непробиваемым спокойствием илота.
– Ты знаешь, что я могу тебя убить, собака? – чуть ли не восхищенно воскликнул Орхомен.
– Я знаю, что тебе это дозволено, – ответил Тал.
– Что ты имеешь в виду?
– Ваш пресловутый закон. Эфоры ежегодно объявляют нам войну, и молодые парни из криптеи могут безнаказанно убивать илотов. Это, как я уже говорил, само по себе является признанием вашей вины. Ибо если бы вы считали себя правыми, то убивали бы нас, не заручившись заранее формальными оправданиями. Но есть огромная разница между «можно» и «могу», мой молодой господин. Тебе можно убить меня кинжалом, который ты держишь в руке. Только ты не сможешь.
– Почему не смогу? – огрызнулся Орхомен. Тал опять улыбнулся:
– Потому что ты – это ты. Так что засунь в ножны свою глупую, жестокую игрушку, сын мой, и сядь. Перестань изображать из себя кого-то другого… осла в доспехах – благодарю тебя за это выражение! – и становись таким, какой ты есть на самом деле, каким ты должен стать: гуманным и добрым.
Орхомен потрясенно глядел на Тала. В его мозгу, душе, сердце шла жесточайшая борьба. Он такого еще ни разу в жизни не испытывал. Орхомена так и подмывало убить этого странного, властного бородача и освободиться от противоречивых чувств, захлестнувших его. Он подозревал, что, если этого не сделать, вся его жизнь пойдет вкривь и вкось. Единственной загвоздкой в выполнении этого элементарно простого решения было то, что Тал оказался прав. Орхомен не мог его убить.
Орхомен медленно засунул кинжал в ножны.
– Вы нас боитесь, – сурово произнес Тал. – И причина страха в том, что вы сознаете, насколько несправедливо взвалили на нас бремя рабства. Вот почему я изменил свое имя. Мне хочется жить, и я решил, что мудрее будет назваться Страдальцем, а не Пламенным, Флогием.
– Но в душе ты все равно остался Флогием, – сказал Орхомен. – И это имя намекает не только на цвет твоих волос. Тал означает «тот, кто страдает». Ха! Нет, ты других заставляешь страдать. Рыжебородый! И сдается мне, илоты обрели в твоем лице вожака, хотя для этого им нужно как-то возвыситься над собой. Ведь твои речи не имеют ничего общего с их животным мычанием, ты совсем не похож на илота. У тебя слишком белая кожа, а волосы и глаза как у северных варваров. Да и держишься ты…
Тал пожал плечами.
– Судьба переменчива, мой молодой господин, – сказал он. – Моя судьба менялась несколько раз. Некогда я был «ослом в доспехах» и охранял царя Македонии. Это, как и здесь, означает, что я высокого происхождения. Но я был Флогием, Пламенным. И убил приятеля в бессмысленной пьяной драке из-за какой-то шлюхи из притона. Мне пришлось убежать во Фракию. Но фракийцы не любят македонян, и они продали меня в рабство к афинянам, да благословят их боги!
Глаза Орхомена сурово заплясали.
– Ты предпочитаешь нас афинянам? – воскликнул он.
– Да, сын мой, – чистосердечно ответил Тал. – О, я знаю, что они изнежены, безнадежно продажны, ленивы и болтливы, но…
– Но что? – поджал губы Орхомен.
– Они свободные люди. Самые свободные, какие только жили на земле.
– А мы? – прошептал Орхомен.
– Вы рабы. Рабы даже по сравнению с нами, которых вы поработили. Вы рабы ежечасной необходимости держать нас в повиновении, необходимости подавлять периэков. Рабы вашего сурового воспитания, в результате которого вы все равно не становитесь хорошими воинами. Вы становитесь только храбрыми. Но трусы афиняне бьют вас снова и снова, потому что они свободны и у них гибкий ум. Они способны принимать неожиданные решения. Они свободны до такой степени, что могут бросить щиты и кинуться наутек, как простые смертные, которым страшно. И оставить за собой возможность вернуться и в один прекрасный день победить вас. Но вы, рабы своей железной дисциплины, обязаны стоять не дрогнув, словно железные ослы, и умирать…
– Продолжай, – сказал Орхомен.
– У вас нет крепостных стен, ибо вы считаете, что достаточно заслонить город телами ваших сыновей. А афиняне, укрывшись за высокими стенами, которые вы их заставили возвести, потрясают весь мир бессмертной силой идей. Где ваши Софоклы, Еврипиды, Эсхилы?
– Поэты? Ха-ха-ха! – развеселился Орхомен.
– Да, поэты. Они заставляют душу воспарить. Это благородней, чем протыкать человеку мечом кишки, сын мой. И когда вы разрушите Афины – а когда-нибудь вы это сделаете, потому что вы упрямей, сильней и непреклонней, а главное, что хуже всего, ужасно тупы, – то потомки будут помнить только этот ваш «подвиг». И проклянут вас как разрушителей того, что вы не в состоянии построить: цивилизации. Прости меня, но Тал-Страдалец кое-чему научился на своем веку. В том числе видеть и говорить правду. В то время как горячий, упрямый рыжий козел Флогий умел только убивать людей. Это недостойное занятие для мужчины, мой сын илиарх. Ведь убитых нельзя даже съесть.
– Коли ты так любишь афинян, то почему не остался жить у них? – спросил Орхомен. И в его голосе невольно зазвучала обида.
– Я хотел, – вздохнул Тал. – Но мой хозяин был купцом, хотя в душе – поэтом и философом. Он научил меня всему, что я теперь знаю о жизни, об искусстве, науках, людях. Однажды мы поздно ночью пересекали Го Пон-гтос, направляясь в Сиракузы, что на острове Сицилия, возле мыса большого полуострова, похожего на сапог… там живут италийцы. Начался шторм. Корабль наш был невелик. Мы плыли на пентаконте, ибо хозяин, более склонный к философии, чем к торговле, никак не мог наскрести денег, чтобы купить бирему. При первой же волне судно перевернулось. Я поплыл на берег, таща хозяина, который цеплялся за мою бороду. Но, когда мы достигли берега, его тень уже сошла в Аид. А берег оказался пелопоннесским, и…
– Ты стал не афинским, а спартанским рабом, – сказал илиарх.
– Я стал рабом подающего надежды молодого буагора, который вскоре сделался стратегом. Его имя Теламон, – с улыбкой произнес Тал. – Он заставил меня пасти коз на холмах, в своем дальнем поместье. Но затем, примерно семнадцать лет назад, ему вдруг, без всякой на то причины, не понравился цвет моих волос и бороды. Поэтому он продал меня другому спартанцу. С тех пор меня не раз покупали и продавали. Нынешняя моя хозяйка – вдова, она во всем полагается на меня, бедняжка. Хозяйка разрешает мне пользоваться некоторой свободой… Но я тебе уже наскучил своей печальной историей, молодой господин. Не могли бы мы вернуться в дом? Я хочу посмотреть на мальчика.
– Он будет спать много часов подряд, Тал, – сказал Орхомен. – Однако мне нужно выяснить еще кое-что. Какое отношение ты имеешь к сыну военачальника? Ты был его педагогом?
Тал поднялся со стула и бросил быстрый взгляд на улицу. К удивлению Орхомена, голос илота заметно дрожал, когда он отвечал на последний вопрос.
– Я не имею никакого отношения к прекрасному Аристону, – ответил Тал. – Кроме разве что уважения и благодарности, которые я испытываю к его матери. Пожалуйста, добрый илиарх, можно я войду в дом?
Но илиарх, который был далеко не глуп, уже проследил за взглядом илота. И тоже встал. К ним приближалась величественная, высокая и стройная женщина, лицо ее было скрыто покрывалом, рука, как и полагалось, покоилась на плече маленькой рабыни. Но шла женщина гораздо поспешней, нежели допускалось правилами приличия или же соответствовало представлениям о женском достоинстве.
– Это ведь ее имя весь день было готово сорваться с твоего лживого языка? Да, Тал? – прищурился Орхомен. – Мать Аристона, жена великого Теламона. Я никогда ее прежде не видел. А ты, похоже, не желаешь видеть. Почему?
– Ты не угадал, илиарх. Я не хочу, чтобы она видела меня.
– Но почему?
– Потому что я не люблю… не люблю того, что убивает… даже мечты. Она лелеяла одну светлую мечту целых восемнадцать лет. Позволь мне проявить благородство, которое когда-то соответствовало моему происхождению. Не поступай с ней жестоко, она этого не заслуживает. Прошу тебя, молодой господин!
– Ты говоришь загадками, – вздохнул Орхомен. – Ну да ладно! Иди в дом. А я встречу благородную супругу стратега.
Тал вошел в дом лекаря, направляясь в комнату, где лежал Аристон. Там он торопливо опустился на колени. Аристон что-то пробормотал. Потом открыл глаза. И с огромной, переливающейся через край нежностью посмотрел в лицо Талу.
– Дионис, отец мой, – пробормотал он. Затем вновь закрыл глаза и заснул.
– Дозволь мне подождать в помещении для рабов, о великий потомок бога-врачевателя, – торопливо прошептал илот. – Я страшно устал и…
– Умираешь от голода и жажды, – добродушно подхватил Полор. – Конечно! Ты заслужил награду за спасение мальчика. Иди в зал. Скажи Арисбе, чтобы она дала тебе поесть и выпить, но ничего больше. Этой потаскушке трудно удержаться, чтобы не задрать хитон, а ты очень хорош собой. Но учти, тебя высекут, если ты ею попользуешься, рыжебородый. Предупреждаю!
– Не бойся, великий лекарь! – сказал илот и вышел. Едва он покинул комнату, как туда зашла Алкмена, которую поддерживал под локоть илиарх.
– Возрадуйтесь, калокагаты! – спокойно сказала она. Орхомен смотрел на нее во все глаза. Он в жизни не видел более прекрасной женщины. Ей было, по его подсчетам, лет сорок, но лишь серебро, мелькавшее кое-где в ее черных волосах, выдавало возраст Алкмены. На вид ей можно было дать лет двадцать пять. Нет, даже меньше.
Но больше всего начальника стражи поразила не ее красота. Он встречал прелестных женщин, а с одной-двумя даже переспал. Тем паче что, как и большинство молодых мужчин в те времена, он испытывал влечение к обоим полам. Мужественная красота Тала тоже его взволновала. Нет, больше всего Орхомена поразило и ужаснуло спокойствие Алкмены. Приветствие, с которым она обратилась к присутствующим, было, конечно, традиционным, носовершенно не соответствовало обстоятельствам.
«Возрадуйтесь», когда ее сын лежит на смертном одре!.. Хуже выражения не придумаешь. А слово «калокагаты», высокородные, тоже не подходило к компании, где были и простые солдаты, и лекарь, который все-таки был лишь искусным ремесленником, приносившим пользу людям, и даже рабы со слугами!
Орхомен, разумеется, знал, что благородных спартанских девушек воспитывали почти так же сурово, как и юношей, и они умели владеть собой гораздо лучше других женщин Эллады. Но это было не самообладание. Алкмена не испытывала ни малейшего беспокойства за судьбу своего сына.
Она лишь на миг склонилась над постелью Аристона, поцеловала его в ледяную щеку и снова выпрямилась.
– Твои труды будут вознаграждены, добрый илиарх, – сказала она своим удивительно безмятежным голосом. – Мы с моим супругом проявим щедрость по отношению к тому, кто так благородно помог нашему сыну. Скажи, лекарь, сколько времени займет исцеление?
– Исцеление? – разинул рот Полор. Затем выпрямил согбенную спину. Несмотря ни на что, он был Асклепиадом, то есть принадлежал к благородному клану, который якобы вел свое начало от самого бога Асклепия; старшие сыновья этого клана всегда посвящали себя медицине. И кроме того, Полор был спартанцем. Он понял, что вопросы професси– ональной этики нужно пустить побоку и лучше сказать правду. Введенные врачами в заблуждение благородные господа могли натворить множество бед в приливе разочарования и гнева.
– Госпожа, – промямлил Полор, – мы будем говорить об исцелении, когда он отсюда выйдет… если выйдет. Я по опыту знаю, что от подобных ран люди почти всегда умирают.
Алкмена попятилась. На какой-то краткий, едва уловимый миг ее лицо побледнело. Но затем она опять высоко подняла голову, и на ее щеки вернулся румянец.
– Нет, добрый лекарь, – сказала она, – Аристон не умрет. Я знаю, что этого не случится, хотя и не могу тебе сказать почему. Во всяком случае, я уже дала полталанта серебряных дел мастеру, дабы он изготовил стелу, которую мы поставим в храме Асклепия в благодарность за исцеление моего сына. И я велю тебе нарисовать, а еще лучше, вылепить из глины рану Аристона, чтобы мне могли изготовить ее золотую копию на анатеме из литого золота. Мы ее бросим в фонтан к ногам бога, воздавая ему за то, что он сохранил Аристону жизнь. Хотя, по правде говоря, у него нет выбора, ведь судьбой моего сына распоряжается более могучий бог.
«Бедняжка, она сумасшедшая, – подумал Орхомен. – Совершенно сумасшедшая!»
– Ну а теперь, с твоего разрешения, добрый лекарь, – Илиарх сразу понял, что эти слова всего лишь дань вежливости и безумная Алкмена намерена исполнить задуманное независимо ни от чьего дозволения, – я прикажу рабам забрать его из твоей лечебницы и отнести в храм, чтобы он провел ночь у ног бога…
– Нет! – взвизгнул Полор. – Ты не сделаешь такой глупости, женщина! Любое перемещение его непременно убьет, а от холода, царящего в каменном склепе, у больного начнется кровотечение, и…
Алкмена подняла глаза на врача.
– У тебя что, нет веры, добрый лекарь? – прошептала она. – Неужели ты не веришь в богов?
Лекарь Полор хотел смолчать, но ему вдруг стало тошно терпеть людскую глупость, и отвращение взяло верх над благоразумием и здравым смыслом.
– Нет, моя госпожа, – сказал он. – На оба твоих вопроса я отвечаю: «Нет!»
Черные глаза Алкмены расширились.
– Как… как ужасно! – выдохнула она.
– Менее ужасно, чем убить его из-за предрассудков, а ведь именно это ты намереваешься сделать, моя госпожа! – вскричал Полор. – Ну, хорошо. Допустим, боги существуют. Но где доказательства, что их хоть каплю волнует, что происходит с людьми? Ты что, живешь в другом мире? Ты хоть раз видела, чтобы добродетель вознаграждалась – по-настоящему! – а зло было наказано? Жизнь, о дражайшая супруга великого государственного мужа и полководца, наказывает людей за глупость и слабость. А на мораль этим гипотетическим богам наплевать! Поэтому я запрещаю тебе трогать мальчика, твои глупости его доконают! Какая, скажи на милость, связь между железными, серебряными или даже золотыми табличками с красивыми надписями и исцелением этой смертельной раны? Я говорю вообще о всех ваших стелах! Зачем лепить из глины безобразную колотую рану? Зачем тратить целый талант или даже больше, тратить золото, которого хватило бы, чтобы год с лишним кор мить два селения голодающих периэков, на такую же бесполезную анатему? Ты бросишь ее в фонтан Асклепия, на поживу толстобрюхим жрецам, которые потратят золото на вино и на шлюх! Говорю тебе…
Его гневную речь прервал крик Аристона.
– Отец! Дионис, отец мой! Не покидай меня! Я умираю! Умираю! Приди ко мне! Вернись!
Алкмена резко отворотилась, ее лицо снова побледнело, черные брови взлетели вверх.
– Он имеет в виду илота, который его спас, – пояснил начальник стражи Орхомен. – Почему-то он спутал этого рыжебородого скота с божеством.
– Отец! – опять закричал Аристон. – Во имя любви, которую я к тебе питаю! Пожалуйста!
Полор обратился к одному из своих рабов:
– Приведи илота. В таких случаях лучше потакать прихотям больных. Конечно, это горячка, но присутствие илота поможет ему.
Раб вышел, но вернулся один.
– Он говорит, что боится… Орхомен кивнул двум воинам:
– Приведите его! Если надо, силой!
Воины вернулись, грубо толкая перед собой Тала. Увидев Алкмену, он попытался отвернуться. Но напрасно! Мойры уже соединили концы запутанной нити…
Алкмена уставилась на илота. Краска сходила с ее лица так медленно, что Орхомен мог это видеть. Теперь даже губы женщины были белее снега на вершине Тайгета.
– Ты?! – пролепетала она.
Тал снял собачью шапку. Поклонился ей.
– Да, моя госпожа, – сказал он. – Я… когда-то я был пастухом у твоего благородного супруга и пас стада высоко в горах, в одном из его дальних имений. И однажды… всего на час… мне пригрезилось, что я бог. Но грезы рассеялись. И опять навалился тяжкий труд, боли и горести. Так что теперь…
Но Алкмена уже отвела большие темные глаза от его лица. Шатаясь, она сделала один шаг к постели Аристона, потом другой… Встав у изголовья, она долго вглядывалась в потное, перекошенное от боли лицо сына, находившегося в каком-то полубреду.
– Я убила тебя, да, сынок? – прошептала Алкмена. – Ты ведь страдаешь за мой грех, правда? За то, что у тебя мать – шлюха. Такое низкое, невыразимо порочное существо, что…
– Моя госпожа! – простонал Тал и протянул к ней руку. Сильная, мускулистая, она заметно дрожала.
Алкмена дернулась в сторону. А затем поглядела ему в глаза с такой жуткой ненавистью, что ее лицо тут же сделалось безобразным.
– Свинья! – прошипела она. – Грязный илот!
– Пожалуйста, госпожа… – чуть не зарыдал он. Алкмена покачнулась. Ноги ее медленно, очень медленно подкосились. Казалось, кости постепенно расплавляются. Она надолго склонилась над раненым сыном, а затем, вся дрожа, накренилась еще ниже. Пока не коснулась лбом пола. А тогда громко, жутко закричала.
Глава VI
Аристон замерзал. Никогда в жизни ему не было так холодно. Зуб на зуб не попадал. Он попытался перестать стучать зубами, но не мог. Не было сил.
Он поднял глаза и увидел стоящего рядом Аида, владыку Подземного царства. Аид был одет во все темное. Одежда его промокла. С нее капала черная вода. Почему-то темно-серые, по-ночному мрачные одежды бога были очень простыми, из грубой ткани.
– Отчего же люди зовут тебе Плутоном, господин мой? – спросил Аристон.
– Ты не похож на богача. Аид улыбнулся.
– Мое богатство – это тени умерших. Если считать по количеству теней, то я очень богат, – сказал он. – А сейчас я пришел добавить твою тень к моим сокровищам, сын Диониса.
Аристон поразмыслил над его словами. Ему было холодно, но уже не страшно. Просто холодно. Очень.
– Хорошо, – сказал он богу смерти, – раз ничего нельзя поделать, то я согласен.
– Ты, похоже, грустишь, сын Диониса, – сказал Плутон-Аид. – Бьюсь об заклад, тебе порассказали небылиц о моих хоромах. Да и потом ты не такой уж страшный греш– ник, так что отправишься на Асфодельские поля, а не в Тартар. А на Асфодельских полях не так уж и плохо. Может, немного мрачно, но большинству теней там нравится. А одна – так просто обрадуется. И перестанет рыдать, когда я приведу тебя к ней. Именно поэтому я и пришел за тобой. Я хочу, чтобы она была счастлива. Она заслуживает лучшей участи.
– Кто? – спросил Аристон.
– Фрина, конечно. Ты разве не знаешь?
– О! – воскликнул Аристон.
– Неужели ты не хочешь к ней? – спросил Аид. Аристон подумал.
– Хочу.
Аид улыбнулся.
– Правильный ответ. Ты хороший мальчик.
Аид встал на колени возле Аристона. Вытянул длинный палец и потрогал его спину. Палец пронзил тело юноши и вгрызался все глубже, глубже, пока боль не стала совсем невыносимой. Тогда Аристон открыл рот и закричал. И тут же наступила темнота. На него обрушилась ночь.
После этого он уже ни в чем не был уверен. Тьма царила кромешная, и Аристон жутко замерз. Он лежал в лодке, и его вез по черной реке очень старый, безобразный паромщик. На дальнем берегу завывала собака. Аристон никогда не слышал более кошмарных звуков. Казалось, собака воет громче, чем стая волков. Вскоре юноша понял почему. У собаки было три головы.
А затем Аристон, совершенно не удивившись и приняв это как должное, заметил, что собаки на берегу нет и паромщик тоже исчез. Аристон остался один и теперь спускался по извилистой, каменистой тропинке. Она пролегала в пещере. Там было очень темно, и Аристон дрожал от холода.
Потом Аристон увидел Фрину. Она была целой и невредимой. Все части тела на месте. Фрина бежала к нему, протягивая руки. Ее длинные черные волосы плыли за ней, словно туча. Она смеялась и плакала одновременно. И звала его по имени.
Он не слышал ее голоса, но знал, что она говорит. Аристон читал по губам фрины.
Внезапно между ними вырос бог Дионис. Он был очень высоким, сильным и прекрасным. У него были рыжие волосы и борода. Бог улыбнулся ему и вытянул руку.
– Я родился от великого Зевса, – сказал он. – А посему мне не страшна смерть. И тебе тоже, сын мой. Поэтому ты должен вернуться к жизни. Я приказываю тебе!
Тут Аристон увидел, что на боге грязная накидка из овечьей шкуры и смешная собачья шапка. Он не понимал, почему богу вздумалось одеться как илоту, но все равно взял его за руку. И они пошли вдвоем вверх по извилистой каменистой тропинке.
– Не гляди назад, сын мой, – сказал бог. Но Аристон оглянулся. И увидел Фрину, которая стояла на коленях у скалистой кручи. Она рыдала, молила и выкрикивала его имя.
– Ей придется подождать, только и всего, – сказал бог. – Пойдем.
Было очень темно, и Аристон коченел от холода.
Но теперь к этому примешивалась еще и боль. Страшная. Она гнездилась в середине спины между лопатками. Однако она была немного другой. Аристон долго пытался сообразить, что же изменилось. Потом понял. Боль не изменилась. Она была такой же сильной или даже еще сильнее. Изменилось ощущение боли. Теперь он ее ощущал как живой человек. Всеми органами чувств. Он был жив и постепенно начинал припоминать, воссоздавать в памяти всю безумную цепь причинно-следственных связей, которую люди величают роком. Он был жив, не желая этого. Но тем не менее он жил. Ему даже казалось, что он пришел в сознание. А этого ему тоже не хотелось. Ибо, придя в себя, он должен был вспомнить еще больше, вспомнить такие ужасы, которые до сих пор вытеснялись из его памяти.
Аристон открыл глаза и увидел перед собой лицо бога.
– Дионис, отец мой! – отчетливо произнес он.
– Видишь? – сказал илот Тал. – Мы пришли вовремя. Прикажи рабам положить его на носилки, господин мой Ипполит.
Дядя Толстопуз обратился к врачу Полору:
– Его не опасно переносить, добрый лекарь? – спросил он.
– Опасно, – ответил врач. – Но это все равно лучше, чем оставить его умирать здесь от холода. Я говорил твоей сестре, что неблагоразумно оставлять тяжело раненного мальчика в храме. Но она не послушалась. То она утверждала, что он будет жить, а теперь столь же упорно твердит, что он умрет. Твоя сестра… м-м… странная женщина, господин мой Ипполит.
– Алкмена глупа, – сердито хмыкнул Ипполит. – Но надеюсь, у нее достанет ума, чтобы ходить за больным. Полор поглядел на маленького толстячка.
– Я на твоем месте не стал бы относить его к Алкмене, мой господин.
– Почему? – изумился Ипполит.
– Потому что твоя сестра не просто глупа. Она… безумна, – сказал лекарь.
– Но я не женат, – возразил Ипполит. – В доме нет женщины, чтобы…
– Я пришлю мою рабыню Арисбу, чтобы она за ним ходила. Арисба – прекрасная сиделка. Конечно, когда он немного поправится – если это вообще случится, – ты вернешь ее обратно. Мальчик слишком хорош собой, а Арисба – похотливая коза. Ладно, пусть рабы положат его на носилки.
Аристон почувствовал прикосновения их рук. Его подняли и принялись разрывать пополам. Язык пламени лизнул спину Аристона и проник в самое сердце. Аристон открыл рот, собираясь закричать, и увидел лицо бога.
Не Диониса, а другого. Судя по всему, Асклепия. Но затем он понял, что это всего лишь статуя бога. Огромная статуя из золота и железа. Аристон устало подумал: неужели боги еще больше? А может, это только человеческий страх и гигантомания, ожившие под руками скульптора?
Затем рабы двинулись вперед и вынесли его из холодного, темного храма на ночной воздух, нежно пахнувший весной, под небо, усеянное звездами.
– Дядя, – спросил Аристон. – Что такое жизнь?
Ипполит поглядел на племянника. Аристон, очень бледный и худой, полулежал, опираясь на подушки.
– Это тайна, племянник, – ответил толстый коротышка-сибарит. – Тайна, которую не имеет смысла пытаться раскрыть. Или, что еще хуже, ящик Пандоры, из которого вылезло все мировое зло. А почему ты спрашиваешь?
Аристон не ответил. Вместо ответа он поглядел в окно. Стоял ослепительно солнечный, знойный августовский день. Дом Ипполита, который находился в одном из селений, – Спарта не была городом в буквальном смысле слова, как, скажем, Афины, а представляла собой несколько селений, которые, разрастаясь, сливались, и границы между ними размывались – был бедным, безо всяких претензий. Вполне естественно, что такой человек, как Ипполит, не мог себе позволить ничего более роскошного.
– Дядя. – Голос у Аристона стал совсем тоненьким. – А почему вообще существует зло? Я хочу сказать: почему боги это допускают?
– Во имя Афины Паллады, вышедшей в полном боевом снаряжении из головы Зевса! – воскликнул Ипполит. – Кем ты меня считаешь, мальчик? Философом?
Аристон улыбнулся. Но на эту улыбку было больно смотреть. Она напоминала гримасу, которая возникает на лице у истязаемого человека, когда он хочет сдержать крик.
– Я думаю, ты очень мудр, дядя Толстопуз, – прошептал он. – Мудрее всех, кого я знаю… кроме моего отца.
– Гм, – хмыкнул Ипполит. – По-моему, это не очень лестно, мой мальчик. На свете есть, конечно, и большие тугодумы, чем великий Теламон, но…
– Я говорил не о нем, – спокойно возразил Аристон. – Я об илоте.
Ипполит уставился на племянника. Словоохотливый коротышка впервые не нашелся что ответить.
– Он не осмеливается прийти навестить меня, – продолжал Аристон, – а то бы я спросил у него. Но раз его нет, то приходится спрашивать у тебя. Что такое жизнь, дядя? Почему в мире есть зло? Почему существую я, ведь я воплощенное зло?
– Аристон! – воскликнул Ипполит.
– Я любил девушку. Ее разорвала на клочки стая вол– чиц. Ты когда-нибудь видел подобное? Очень интересное зрелище. Они раздвинули ей ноги. Так широко, как только смогли. Словно… словно собирались заняться любовью. А потом старая, седая женщина резанула ее посередине толстым ножом, какие бывают у мясников. Звук был такой, словно дерево рубили в щепки. Мокрое дерево. А она была еще жива, дядя. Но не вскрикнула. Не издала ни стона. Она просто лежала и глядела на меня одним глазом – другой ей выбили камнями, – пока они совсем не отрезали ей ноги. Я думаю, после этого она умерла очень быстро. А они потом швырнули ее ноги собакам.
– Племянник! – простонал Ипполит.
– Но даже тогда они от нее не отстали. Они отрезали ей голову. Разрубили тело на куски. Знаешь, на что это похоже, дядя? На козлиное мясо. Ты бы никогда не подумал, что то была девушка. Очень хорошенькая девушка. В жизни не встречал таких милых девушек. Я любил ее.
– Послушай, мой мальчик, – сказал Ипполит, – я…
– Ну а я в ответ убил их предводительницу. Перерезал ей глотку. Ты когда-нибудь видел, как умирает женщина с перерезанной глоткой? Из раны со свистом вырывается воздух. И ты это слышишь. Маленькие кровавые пузырьки. Кровь капает, словно…
– Прекрати! – зажмурился Ипполит,
– А человека, которому проткнули живот мечом, ты видел? Он танцует, дядя. Зажимает пузо двумя руками, чтобы не выпали кишки. Но кровь все равно сочится у него между пальцами. Поэтому он скачет и рычит… рычит, пока не умрет. Комичное зрелище, дядя. Очень смешно.
– Аристон… – прошептал Ипполит.
– Как они убили жителей Парнона, дядя? Каким образом отчим устроил резню в отместку за ублюдка, которого он ненавидит? О, я знаю: таков закон. Они подняли руку на спартанца. Поэтому женщин и детей продали в рабство, а мужчин… забили, как скот. И все потому…
– Кто тебе рассказал? – перебил Ипполит.
– Симоей. Он пришел попросить прощения за то, что оскорбил мою мать. И сам простил меня за то, что я его чуть не убил. Так что теперь мы друзья. Я разрешил ему себя поцеловать. Он не знал, что целует мутона.
– Аристон, во имя Зевса!
– А кто же я? Или ты знаешь другое название, дядюшка? Если мутон – это ублюдок, рожденный илотской женщиной от спартанца, то как назвать внебрачного ребенка, рожденного от илота спар…
– Аристон, я запрещаю тебе!
– Да, – вздохнул Аристон. – Ты мне запрещаешь. А вот моей целомудренной, милой матушке никто не запретил, не так ли? Не запретил лечь на землю, словно жена пастуха, раздвинуть ноги и подарить всю себя…
Ипполит одним прыжком пересек комнату. Его толстая маленькая ладошка звонко, хотя и с явной неохотой, хлопнула племянника по губам.
Аристон не шелохнулся. Из его глаз выкатились слезы и, немного подрожав на ресницах, упали вниз.
– Благодарю тебя, дядя, – прошептал Аристон. – Я это заслужил.
– Племянник, племянник! – простонал Ипполит. – Я…
– Забудь. Почему сегодня ко мне никто не пришел? Ни Лизандр, ни Орхомен, ни матушка. Орхомен мне теперь нравится больше Лизандра. Конечно, я не люблю его, потому что он безобразен. Но… странно…
– Что странно, племянник? – с некоторым облегчением спросил Ипполит. Такой поворот мыслей Аристона показался ему менее опасным.
– Я и Лизандра больше не люблю. Он… он прекрасен, но клянусь Афиной, ужасно глуп! А Орхомен… обнаруживает рудименты и даже зачатки разума. Он бы сам никогда до этого не дошел, если б не…
Ипполит замер, на его круглом лице с жидкой бороден-кой отразилось смущение.
– Если б не Тал, мой отец, который научил его думать, – спокойно продолжил Аристон. – Как ты научил думать меня, дядя Толстопуз. Я видел влюбленных, но никогда не видел, чтобы кто-нибудь любил кого-нибудь, как Орхомен моего отца. И все же… он клянется, что между ними нет… ну, физической любви. Похоже, мой отец считает плотскую любовь между мужчинами отвратительной. Странно, не правда ли, дядя?
– Очень, – сказал Ипполит. -Я, например, предпочитаю мальчиков, хотя должен признать, что с женщинами в кровати бывает очень приятно.
– Наверно, – безразлично откликнулся Аристон. – Орхомен говорит, что мой отец – самый мудрый человек на свете. Настоящий философ. Он дважды в неделю посещает отца на его маленькой ферме. Отчим поступил великодушно, не правда ли? Ну, когда купил Талу свободу, сделал его вольноотпущенником и дал крохотный участок земли.
– Нет, – покачал головой Ипполит. – В этом не было великодушия.
Аристон внимательно поглядел на дядю.
– Ты прав. Не было. Ведь, не сделай он этого, его сочли бы жадным, да? И кто-нибудь очень скоро заметил бы, как я похож на Тала. Орхомен уже заметил. А так отчим дал бы понять всему полису, что подозревает или знает…
Ипполит покачал головой.
– Нет, – сухо проронил он, – Теламон дал бы понять это себе.
– О! – прошептал Аристон.
– Не думай больше об этом, мой мальчик. Пожалуй, на сегодня достаточно неприятных бесед, особенно если учесть твое состояние. И потом, мне нужно идти…
– Куда? – спросил Аристон.
– К Сарпедону, отцу Ламии. Ты же знаешь, несколько месяцев назад мне исполнилось тридцать лет. Теперь по закону я не могу участвовать в процессиях. Совершеннолетний мужчина, который отказывается выполнить свой священный долг перед полисом, то есть еженощно резвиться в кровати с какой-нибудь неаппетитной телкой, чтобы произвести на свет будущих воинов, дабы они защищали и прославляли Спарту, лишается всех своих привилегий. Так что я больше не могу пожирать глазами прелестные формы нагого Иксиона или твоего Лизандра, танцующих священные танцы! Или же любоваться Феопой, Фебой или Фило-мелой… ты ведь знаешь, я человек без предрассудков в том, что касается любви. Однако через неделю праздник Артемиды Орфийской и…
– Чтобы не пропустить его, ты женишься на девушке, которую почти не знаешь. О любви я и не говорю…
– Хуже нет, когда человек женится по любви, мой мальчик. А Ламию я знаю. Вполне. Уточнять насколько – не пристало такому благородному человеку, как я. И она мне, в общем-то, подходит. Она кругленькая, розовощекая, пухленькая и жадная… до всего. К сожалению, Сарпедон – противный старикашка. Он целых два месяца торговался со мной из-за приданого. Но я его все равно надул, не волнуйся. Короче, когда придет твоя матушка, будь с ней подобрее, хорошо? Она красива, но ведь это твоя мать! Так что постарайся сдержать глупую ревность, племянничек. В конце концов, чего добился Эдип, убив Лая? А он убил его, не догадываясь, кто это. В общем, прости Талу то, что он когда-то порезвился на скалистых горках. Будь хозяином жизни. Святотатцем, грешником и насмешником, как я… Иными словами, цивилизованным человеком. И тебе больше не захочется убивать людей. Возрадуйся, племянничек, я ухожу!
Через пару минут после ухода Ипполита в комнату вошла Арисба, рабыня врача Полора, которую тот одолжил Ипполиту, чтобы она выхаживала его племянника. Арисба явно еле дождалась, пока Ипполит уйдет. Она наклонилась и поцеловала Аристона долгим поцелуем, щекоча его языком. Он не сопротивлялся. Ему нравилось, как Арисба целуется. Она была очень опытной. Затем она совершила грубое святотатство – пощупала, каков результат ее поцелуев. И кощунственно улыбнулась.
– Еще пару недель – и мы попробуем, – сказала Арисба.
Когда пара недель, о которых говорила Арисба, прошла, Аристон гулял по саду с илиархом Орхоменом и думать забыл про рабыню. Орхомен рассказывал ужасно смешную историю о том, как он накануне еле вызволил дядю Аристона из лап спартанских женщин, которые собрались его побить, а может, хотели сотворить с ним и что-нибудь похуже.
– Они валяли его в грязи, – говорил илиарх, – и весело колошматили. Какая-то степенная толстуха села ему на голову. Ты спросишь, что сделал в ответ старый Толстопуз? Взял и впился зубами мегере в задницу! От ее вопля даже одиннадцатая и тринадцатая илы обратились бы в бегство!
Они бы решили, что афиняне наконец отважились на них напасть. И поверь. Аристон, нам в тот момент действительно требовалась помощь воинов! Даже Благомыслящие – и те добрее чинных спартанских женщин!
Аристон рассмеялся. Самым странным в этой истории было то, что Орхомен говорил правду. Женщины высшей касты считали, что закоренелый холостяк оскорбляет их женское достоинство… может быть, подумал Аристон, потому что у их дочерей на выданье был такой небольшой выбор подходящих женихов. И по старинному обычаю им разрешалось откровенно портить жизнь человеку, достигшему тридцатилетия и не женившемуся. Поэтому в Спарте не было ни одного холостяка, которому бы исполнился тридцать один год, не говоря уж о мужчинах постарше. Даже вдовцам не позволялось долго горевать. Это правило не знало исключений, так что деваться было некуда. Допустим, если бы Ипполит не согласился до следующих Дионисий-ских торжеств на то нищенское приданое, которое вредный Сарпедон давал за пухленькой и похотливой Ламией, благородные спартанские дамы втолкнули бы его в темную комнату, где бы беднягу ждали все косоглазые, прыщавые, плоскогрудые девицы, которым уже стукнуло двадцать, а никто к ним не посватался. И в конце концов, из комнаты выплыла бы какая-нибудь голая, окровавленная, ликующая амазонка, таща за бороду или волосы полумертвого Толстопуза. Он был бы ей пожизненной наградой за победу в борьбе без правил, в которой в ход шли зубы, ногти, локти, колени, ноги и кулаки. Причем девушки сражались так яростно, что в итоге три четверти претенденток оказывались наутро у городских лекарей, а пару раз девицы послабее даже погибали.
– Теперь Ипполит клянется, – прищелкнул языком Орхомен, – что возьмет за себя Ламию вообще без приданого. На нее хотя бы приятно взглянуть, и с ней, наверно, будет весело в постели… Правда, по-моему, твоему дяде Толстопузу это уже известно наверняка.
– Не сомневаюсь, – откликнулся Аристон. – Но скажи, друг Орхомен, зачем ты пришел на самом деле? Я ведь недаром сын илота. Я так же легко, как и он, распознаю притворство.
– Притворство? – переспросил илиарх. – Ну, что ты, Аристон, я никогда…
– Чепуха! Это именно притворство. Ты по натуре человек серьезный, друг мой. А тут целый день как-то чересчур веселишься. Да и веселишься-то вынужденно. Тебе кажется, что моя жизнь в опасности? Ты думаешь, периэки отомстят человеку, из-за которого тридцать их соотечественников убили, а почти вдвое больше обратили в рабство? Не вини их. Я… я благословляю периэкские кинжалы.
Орхомен отвел взгляд. Потом опять посмотрел на Аристона.
– Нет, дело не в этом, – сказал он. – Пока, хвала Зевсу, периэки ведут себя смирно.
– Но тогда в чем же дело? – спросил Аристон. Темные глаза Орхомена впились в его лицо.
– Понимаешь… – начал он. И осекся.
– Ну, давай! Говори! – сказал Аристон.
– Дело… дело в твоей матушке. Она очень переживает из-за того, что ты так к ней относишься. Или переживала. Сейчас ее, наверно, ничто не волнует.
Аристон поднял на него глаза:
– Продолжай, друг мой.
– Благородный Теламон сейчас в Аттике, выступил в ежегодный поход против афинян. Ей не к кому было обратиться… Ты ведь это понимаешь, правда? Разумеется, от такого насмешника, как твой дядя Ипполит, толку никакого…
– Продолжай, – повторил Аристон.
– Поэтому она попросила меня передать Талу, чтобы он навестил ее. А я – о Афина, богиня мудрости, прости мне мою глупость! – возразил, что для Тала входить в дом стратега, когда Теламона нет, равносильно самоубийству. Причем в этом случае его ожидает очень мучительная смерть. Тогда она велела узнать: может, он примет ее у себя?
– Продолжай. – Аристона почти не было слышно.
– Во имя Аида, Аристон, пойми же! Они не старые, дряхлые развалины, а люди в расцвете лет! Она пошла к нему, чтобы попросить его увидеться с тобой, поговорить… Чтобы ты перестал ее обвинять…
– Шлюха! – сказал Аристон.
– Это кощунство, ты сам знаешь! Она все равно твоя мать. Таких прекрасных, наивных женщин еще надо поискать! Не будь она до такой степени наивной, она бы поняла тогда, что должно произойти. Аристон, Аристон… они хранили мечту друг о друге восемнадцать лет! А Тал… ты бы видел его сейчас… Он ходит в чистой одежде из тонкого полотна, постриг и завил свою рыжую бороду, вымыл волосы, причесался, надушился… локоны полыхают на плечах ярким пламенем…
– Ты его любишь, – сказал Аристон.
– Да. И не стыжусь этого. Но я соглашаюсь с его доводами, когда он говорит, что мужчины не должны ложиться с мужчинами, что боги создали мужское тело и женское, дабы они дополняли друг друга. Мы меч, а они ножны, мы…
–« Перестань. Значит, теперь они… снова любовники, да?
– Да, – прошептал Орхомен.
– Я убью его, – спокойно сказал Аристон. – Клянусь Гестией и Артемидой!
Орхомен в ужасе поглядел на него.
– Жаль, что я тебе рассказал. Я… я думал, ты им поможешь… раздобудешь денег, чтобы они могли бежать из Лаконики, поехать в …
– Помочь шлюхе и ее любовнику? – рассвирепел Аристон. – Помочь похотливой козе и сатиру еще раз обесчестить мой дом? Бессмертные боги! Я…
Он осекся, заметив Лизандра, вошедшего в сад. На красивом юном лице друга застыло изумление, он переводил взгляд с Аристона на Орхомена.
– Возрадуйся, илиарх, – прошептал он. – Возрадуйся, Аристон. Я… я вам не помешал? Я сейчас уйду. Я…
– Нет-нет, останься, – беспечно отозвался Аристон. – Я просто говорил Орхомену, что мне нужно перерезать пару глоток. Что означают два убийства для человека, чьи руки уже по локоть в крови? Проходи, проходи. Не стой с таким дурацким мрачным видом. Давай я тебя поцелую. Ну вот… Так лучше?
– Гораздо, – горестно усмехнулся Лизандр. – Но боюсь, я не смогу пробыть тут долго. Я только пришел тебе сказать…
– Что? – насторожился Аристон.
– Я… вытащил черную фасолину, когда кидали жребий. Так что завтра мне и Симоею – ему тоже не повезло – выпадает великая честь. Нас будут сечь перед лицом Статной Артемиды, пока мы не окропим все камни у ее ног своей кровью. Поэтому поцелуй меня еще раз. Аристон. Во имя самого Эроса, я люблю тебя! И у меня предчувствие…
– Какое, прекрасный Лизандр? – спросил Орхомен.
– Что это будет мой последний поцелуй, – ответил Лизандр.
– Ерунда! – улыбнулся Аристон и поцеловал юношу. – Ты вынослив, как лошадь, Лизандр. Слушай! Знаешь что? Я дам тебе записку к моему лекарю Полору. Он тебе приготовит обезболивающее средство…
Лизандр покачал светловолосой головой:
– Нет. Это нечестно, Аристон. Ладно, мне еще нужно сходить в храм Геракла: помолиться, чтобы он дал мне силы выдержать испытание. Возрадуйтесь, друзья!
Лизандр вдруг робко поцеловал их… совсем как девушка… впрочем, он и был девушкой в глубине души. И не разбирая дороги он помчался к калитке.
– Бедняга! – вздохнул Орхомен.
– Да, – прошептал Аристон. – Бедный, бедный Лизандр! А кто не бедный, Орхомен? Кто счастлив в этом мире? Скажи!
– Во всяком случае, не я, – сказал молодой илиарх. – Аристон! Прояви здравомыслие! Ее отдали замуж в тринадцать лет за человека, который годился ей в дедушки! Ты родился от чистой, священной любви. Все остальное чудовищно! Говорю тебе…
– Орхомен, – сказал Аристон.
– Да, Аристон?
– Ты ценишь мою дружбу?
– Да. Ну, конечно! А что?
– Тогда уходи, пока ты ее не потерял, – сказал спартанец Аристон.
Глава VII
Та ночь была безлунной. Это было странно. Обычно в начале празднеств в честь Артемиды Орфийской, которые проходили во вторую неделю гекатомбиана, второго летнего месяца, с которого у спартанцев начинался год, на небе сияла полная луна. Звезд тоже не было. Ночь выдалась облачной, жаркой, душной, совершенно безветренной. В комнате, где лежал Аристон, царила тьма.
– Как в людских сердцах, – пробормотал он. – Она черна, как твои грехи, матушка.
Он положил голову на подушку и заплакал.
Аристон плакал долго, но очень тихо. Дяди, как всегда, дома не было, а Арисба не могла услышать его из будущей гинекеи, женской половины дома, куда Ипполиту предстояло привести свою Ламию. Однако внезапно Аристон почувствовал рядом чье-то чужое дыхание: шумное, прерывистое и хриплое, даже с присвистом… какие-то сдавленные всхлипы. Подняв глаза, он чисто инстинктивно – поскольку увидеть что-либо в комнате не представлялось возможным – понял, что рабыня склонилась над ним в темноте.
Аристон лежал, глядя прямо на источник противных звуков: отрывистого, неблагозвучного, глупого и умоляющего блеяния… И чувствовал ее запах – горьковатый, неприятно щекочущий ноздри… смесь пота, который высту– пает на коже от страха, и резких дядюшкиных духов (Арисба украла их и смешала все без разбору). Вдобавок Аристон уловил жаркий, душный запах самки, сгорающей от вожделения, и у него захватило дух. Отвращение боролось в его сердце со сладострастием.
– О господин мой Аристон! – всхлипнула Арисба. – Я…
Аристон по-прежнему неподвижно лежал, вперив взор в какое-то пятно, маячившее в темноте, в этот дрожащий – с чего он взял? как узнал? – источник звуков и запахов, от которых у него сводило низ живота.
А затем сказал:
– Почему бы и нет? Разве мало в моей жизни свинства? И притянул ее к себе.
Далеко за полночь они услышали, как кто-то входит через садовую калитку.
– Это твой дядя, – хихикнула Арисба. – Как всегда, пьянее афинской совы. Отпусти меня, милый. Мне лучше одеться и встретить его. О, я вернусь! Обещаю! Как только он ляжет в постель и захрапит… Я, как ты понимаешь, намерена взять от этой ночи все, что только можно… После стольких недель ожидания!
Аристон посмотрел на Арисбу. Он ее не видел, было слишком темно, но он все равно посмотрел туда, где находилось ее лицо.
– Ну как, ты довольна? – спросил он.
– Довольная ли я? – рассмеялась Арисба. – И ты еще спрашиваешь? Держу пари, в последний раз меня слышали в Македонии! Клянусь козлоногим Паном и всеми его сатирами, никто бы не поверил, что всего пять недель назад тебе чуть не положили под язык обол, чтобы ты заплатил старому Харону за переправу через Стикс! Неутомимый – вот ты кто, мой господин! Неистощимый. Ну а сейчас полежи тут, как послушный сыночек Приапа, и подожди меня. Помолись Афродите. И Эросу. Попроси их привязать Эос к постели, чтобы она не могла разбудить брата-солнце. Я хочу, чтобы эта ночь длилась тысячу лет, ведь ты…
– О, перестань болтать, потаскушка, и впусти моего дядю в дом, – сказал Аристон.
Стало еще темнее. Стояла давящая жара. Звуки пробивались сквозь нее еле-еле, с трудом. Арисба торопливо спрыгнула с кровати и побежала, ее босые ноги зашлепали по плитам пола. Она направилась к двери, звякнул засов.
Затем Аристону показалось, что он заснул. И увидел сон. Он знал, что это сон, потому что теперь рядом с ним, обливаясь потом, лежала нагишом мать.
– Аристон, золотой мой мальчик, – тихо промурлыкала она. – Мой любимый, неистощимый…
Это было таким чудовищным святотатством, что он разорвал путы сна и, открыв глаза, увидел силуэт Арисбы, тень, шевелившуюся на темном фоне. Арисба стояла возле постели.
– Аристон! – позвала она. Ее голос звучал странно. Он не был похож на голос Арисбы. Он был низким и каким-то влажным… словно она плакала.
Но Аристон одурел ото сна и был очень раздражен, что ему привиделся такой кошмар. Он был разозлен и напуган.
– Иди сюда, шлюха! – сказал он. – Не трать зря времени!
Он грубо схватил ее за руку и рванул на себя. Она была в одежде. Причем даже в пеплосе и гиматии.
– Что происходит, во имя черного Аида? – воскликнул он. – Куда ты собралась? Клянусь Персефоной, я мигом сорву с тебя эти тряпки!
Сказав это, Аристон протянул руку и принялся раздирать на ней одежды.
– Аристон! – ахнула она. – Ты с ума сошел?
– О да! – усмехнулся он. – Сошел. Но разве в свинском мире быть свиньей – это сумасшествие? Когда все вокруг похотливые козлы, почему бы и мне…
Тут он осекся, и у него перехватило дыхание, ибо ее крики наконец достигли его сознания, и в мозг проникли такие знакомые, любимые интонации, врезавшиеся в память еще до его рождения, вошедшие в кровь через пуповину еще до того, как жестокая судьба вырвала Аристона из утробы матери, заставила, вопреки его страстному жела– нию, отделиться от нее и уже независимо ни от кого жить, дышать, чувствовать боль…
– Мама! – простонал он. – Я…
И тут, конечно же, как и положено по закону, установленному властвующей даже над богами Ананке, Великой Необходимости, которой вынужден кланяться сам великий Зевс, – а закон тот гласит, что совпадения случаются всегда в неподходящий момент, – в комнату вошла с зажженной масляной лампой в руках рабыня Арисба.
Вошла и уставилась на них с таким потрясенным видом, что ее круглая маленькая мордашка приняла еще более глупое выражение, а это было ох как нелегко.
– М-мать с с-сыном?! – пролепетала она. – Бессмертные боги, спасите меня! Спаси меня, божественная Артемида! Спаси меня, Гестия! И великая Гера! Я не виновата! Я не хотела видеть это святотатство!
Алкмена подняла руки, прижимая разорванный пеплос к груди, которая даже в ее сорок была прекрасна.
– Послушай, Арисба, – сказала она прерывающимся грудным голосом. – Это была ошибка… ужасное недоразумение. В комнате было темно, и мой сын, он… Ты не должна думать…
Но Арисба была из беотийских крестьян, а больших болванов на всем свете не сыскать.
– Думать?! – взвизгнула она. – О чем тут думать, похотливая коза? У меня есть зрение! Совокупляться со своим собственным сыном! Я сейчас же ухожу из этого дома!.. Дома, ха-ха! Из этого грязного притона… Сейчас же, немедленно! Ведь Эвмениды непременно уничтожат его и всех, кто тут живет! А ты, мой юный развратник! Тебе что, мало было меня? Только не говори, что тебе больше по нраву эта старая свинья, которую ты тискал за сиськи, чем я, юная и нежная! Почему…
Тут она умолкла, потому что Аристон выскочил из кровати и кинулся на нее. Только на миг он задержался у стены, чтобы выхватить из ножен старинный бронзовый минойский кинжал своего дяди. Он приставил его Арисбе к горлу. Она не вскрикнула. Не посмела. Но у нее подкосились ноги, и рабыня, стоя в дверях, начала потихоньку сползать вниз в густой, давящей, гробовой тишине. Аристон прижимал лезвие кинжала к ее горлу и тоже постепенно опускал руку.
Однако горло он ей не перерезал. Не смог. Слишком жив еще был в нем тот ужас. И все же он прекрасно понимал, что должен убить Арисбу, ибо только смерть заставит ее прикусить болтливый язык. Ему нужно было перешагнуть через самого себя, через то единственное препятствие, которое удерживало сейчас его руку. Вообще-то бояться ему было нечего: будучи спартанцем, он имел полное право распоряжаться жизнью и смертью любого раба.
Арисба увидела, что голубые глаза Аристона потемнели. Она все еще держала в руках масляную лампу. Осторожно поставив светильник на пол, рабыня простерла к юноше руки, моля о пощаде. Но поняла, что даже это не возымело действия. Тогда она воскликнула, внезапно обретя голос:
– Не надо! Не надо, мой любезный господин! Я… Алкмена подбежала к сыну. Еще чуть-чуть – и было бы поздно. Схватившись за меч, она отвела его в сторону, и богато орнаментированный древний клинок, выкованный из бронзы еще в критскую эпоху, а значит, имеющий не такое острое лезвие, какое бывает у стальных клинков, скользнул вниз по горлу Арисбы и рассек ей грудь почти до соска, оставив большой, но неглубокий порез, который был на самом деле не опасен, но выглядел очень страшно и сильно кровоточил.
– Я умираю! – взвизгнула Арисба. – Ты… ты убил меня!
– Еще нет, – мрачно возразил Аристон. – Но собираюсь.
– Беги, Арисба! – крикнула Алкмена. – Бессмертные боги! Ты что, не видишь? Он сошел с ума!
Рабыня сорвалась с места, словно олениха, за которой гонится стая волков. Одним прыжком, который снискал бы ей славу на Олимпийских или Истмийских играх, она выскочила за дверь и умчалась, не дожидаясь, пока Аристон вырвется из рук матери.
– О Аристон! Аристон! – простонала Алкмена. – Что нашло на тебя, сынок?
Аристон посмотрел на мать,
– Да так, моча в глупую илотскую голову ударила, – небрежно, с милой улыбкой заявил он. – А может, я обезумел от запаха шлюхи. Прости меня, матушка, хорошо? Я же не знал, что это ты. Да и потом в темноте трудно отличить одну продажную девку от другой. Может, тебе стоит нацепить на шею какой-нибудь знак? Ну, чтобы сразу было понятно, что это ты. Правда, это будет еще неприличней, словно клеймо или позорная отметина. Да и как можно читать без света?
Аристон наклонился, поднял с пола лампу, брошенную Арисбой, и поставил ее на стол.
– Аристон! Аристон! – всхлипнула мать. – Сын мой! Сынок!
– Да, матушка. Твой сын… в жилах которого течет твоя кровь. Прямо перед твоим приходом я это доказал. Я имею в виду, что мы с этой немытой беотийской коровой стали вдруг одним животным, только с двумя спинами. О Зевс, как она воняла! Это меня совершенно выбило из колеи. А ты, матушка, откуда явилась в столь подходящий час?
– Аристон, я… – пролепетала Алкмена.
– Не трудись отвечать. Ты явилась из собачьей конуры. Из соломенной илотской хижины. Однако все равно ты наслаждалась, да, матушка? Похоть – она везде похоть, где бы ей ни предаваться: на кровати, на полу или в высоких рощах, куда забредают рыжебородые боги в собачьих шапках. Ты мне подаришь братика? Спасибо, но, знаешь, как-то немного поздновато. Я уже привык быть один, ты не находишь? Почему ты на меня так смотришь? Ты что, не видела раньше мутона? Ну, может, конечно, и не мутона… Любопытная языковая загадка, да? Если бы ты была моим отцом, а он матерью, я бы звался мутоном. Но поскольку все наоборот, то я просто ублюдок. Это универсально, правда, матушка? Внебрачный ребенок – всегда внебрачный ребенок, неважно, что он был зачат в священном трепете.
– Аристон! – прорыдала мать.
– Доброй ночи, матушка! Возвращайся к своему илот-скому жеребцу, который еще вполне в состоянии тебя покрыть… Ах, прошу прощения! Отправляйся к богу Дионису, моему папочке, и передай, что я стал поклонником своего сводного брата Приапа. А мой братец жаждет жертвы и хочет, чтобы жертвенным животным стал наш папаша. Братцу хочется крови и немножечко мяса. Он просит ту часть, которая, так сказать, меня породила. Чего же ты ждешь? Не заставляй меня разыгрывать драму про Ореста и Клитемнестру. Хотя нет… Я ведь почти Эдип. Правда же? Сегодня ночью я чуть было не доказал это. Ступай, моя дорогая Иокаста! Скажи своему рыжеволосому, прекрасному Лаю, что его сын точит кинжал, дабы совершить отцеубийство. Позволь мне воплотить в жизнь все древние легенды, сыграть роли всех святотатцев, кровосмесителей, безумцев и убийц!
– Аристон, ты не понимаешь! Ты не имеешь права обвинять меня… Ты никогда не любил!
– Я… никогда… не любил. Ты несправедлива ко мне, матушка. Я любил… Это был настоящий пир любви. Да, я мог бы попировать, если бы стремглав спустился вниз и сразился бы с псами за кишки моей возлюбленной. У нее были такие миленькие, такие хорошенькие кишочки, матушка. Такие длинненькие, розовые, перемазанные кровью. Я думал, псы будут вечно вытягивать их… какие они были скользкие, блестящие!.. Прямо царский пир! Для собачьих царей. А ее ноги… Их, конечно, поджарили с луком и бобами. Но даже сырыми они были…
– Аристон!
– …Очень даже аппетитны. Все окровавленные… мясо клочьями… сквозь него белеют косточки… Ай, мама, мама! У тебя что, нет ни капли жалости ко мне? Почему ты не хочешь сыграть Медею, не хочешь зарезать меня, как она зарезала своих детей? Клянусь всеми богами, я буду только рад! Вот! Возьми этот клинок. Клянусь перед лицом великого Зевса, я больше не желаю жить!
Он встал на колени и протянул ей меч, а она, тоже упав на колени, прижала его к своей обнаженной груди, и они заплакали, но не так, как плачут люди, а как рыдают боги, с такой неукротимой тоской, печалью и болью, что у Ипполита, вернувшегося после приятно проведенного вечера, на который он не имел права до того, как будут принесены брачные обеты и жертвы (они, кстати сказать, были намечены через шесть дней, когда кончатся великие Элевсийские мистерии), так вот, у полусонного от вина и приятной ус– талости Ипполита, размышлявшего о том, что мальчики это, конечно, хорошо, но крутобедрая Ламия, хвала Пану, богу наслаждений, все-таки лучше, тут же вылетели из головы все подобные мысли.
Он застыл в дверях, ошалело глядя на сестру и племянника. К горлу подступила тошнота. Увы, бедный Ипполит стал жертвой своей богатой эрудиции. Он знал предание о детях Эола, знал наизусть все древние легенды. Ему было совершенно ясно, что содеяли Эдип и Иокаста, Орест и Клитемнестра, что таилось за страданиями Электры, узнавшей о смерти Агамемнона, за стенаниями Антигоны по поводу убийства Полиника. Ипполит прекрасно знал, почему Федра возвела напраслину на его легендарного тезку.
Поэтому он пришел к тому же заключению, что и Ари-сба. Ипполит решил, что его ближайшие родственники нарушили самое суровое, самое древнее табу. Иначе с чего бы они так горько, безутешно рыдали? Явно от раскаяния! А меч, положенный между ними, что это, как не орудие самоубийства, которое они вознамерились совершить?
Единственное, что пришло в тот момент Ипполиту в голову – от страха весь его скептицизм, почерпнутый у агностиков, куда-то улетучился, – была мысль об Эриниях, которые теперь хлопают крыльями возле его дома. С дрожащих, помертвевших губ толстяка сорвались слова:
– Не здесь! Во имя Зевса, только не здесь! Алкмена взглянула на брата. А потом ясным голосом, который чудом сохранил спокойствие в этом море слез, сказала с какой-то странной гордостью:
– Не волнуйся, брат. Да хранят боги твой дом ради тебя и твоей невесты. И да простят они мне и сыну наш раздельный грех. Возрадуйся, брат! Возрадуйся, сын мой! Я ухожу.
Лицо Аристона было похоже на маску трагедии, «Песни Козлов», как называли ее в древней Элладе. Горе и боль чудовищно искажали прекрасные черты.
– Ступай! – простонал он. – Ступай к Аиду, матушка! Иди!
На закате следующего дня Аристон вышел из дома. Поборов отвращение, которое спартанцы испытывали к мытью, он все же вымылся и надушился – главным образом, для того, чтобы смыть запах похоти, оставшийся на теле после ночи, проведенной с Арисбой. Этот запах расслаблял и будоражил Аристона. Поверх хитона он надел военный плащ – не потому, что плащ был нужен, жара под утро лишь слегка спала. Нет, просто он спрятал под плащом два кинжала.
Аристон шел очень спокойно, его лицо больше не искажалось страданием и не напоминало маску трагедии. Сейчас оно, скорее, было похоже на маску, которую актеры надевали, собираясь играть богов. Неподвижное, бесстрастное… его с равным успехом можно было назвать и прекрасным, и ужасным.
Чтобы добраться до маленькой фермы, которую Талу подарил Теламон – жизнь сыграла с ним безумную шутку, заставив отблагодарить любовника жены за то, что Тал спас жизнь своему внебрачному сыну, в результате чего рога, украшавшие лоб геронта, приобрели дополнительный блеск и сияние, – Аристону нужно было пересечь всю Спарту, ибо дом Ипполита находился на самом юге полиса. Но не успел он пройти и половины пути, как услышал приближающийся бой барабанов. Аристон замер, не в силах пошевелиться или вздохнуть, он сразу узнал звуки похоронной музыки, и к горлу снова подкатился горький ком. Который из двух? Лизандр или Симоей? – мелькнула смятенная мысль. Однако Аристон знал, что смерть любого для него невыносима: Лизандра потому, что в памяти Аристона была жива любовь, которую он питал к нему столько лет, а Си-моея, поскольку именно из-за того, что Аристон так жестоко избил его, юный великан ослабел и теперь обыкновенная порка его доконала.
Аристон стоял как вкопанный, из головы не шел образ уродливого идола, статуи Артемиды, украденной из храма в Тавриде его предком Орестом, которому помогла сестра Ифигения и Пилад, ставший впоследствии мужем другой сестры Ореста, Электры. Идол был из дерева и весь черный оттого, что тавры несколько столетий подряд приносили ему человеческие жертвы. Но даже потом, когда Астрабакос и Алопекос, царевичи Спарты, нашли идола в зарослях, где его спрятал Орест (поддерживаемая ветками ивы статуя стояла прямо, откуда и пошли ее названия «Орфия» – статная, и «Лигодезма» – из ивовых деревьев), спартанцы продолжали ублажать его человеческими жертвами: сперва из-за жуткого безобразия статуи, которое свело с ума обоих царевичей, а потом из-за жестокой распри, начавшейся между поклонниками Артемиды, они оспаривали право хранить идола у себя. Распря прекратилась вовсе не потому, что противники усеяли трупами площадку перед храмом, а потому, что разразилась чума, которая грозила уничтожить Спарту как полис. Получив таким образом тройное доказательство страшной силы Статной Артемиды – безумие царевичей, сумасшествие простых спартанцев, которых вдруг обуяла необъяснимая жажда крови, ну и, конечно, чуму, – жители Спарты продолжали каждый год, в день, когда была найдена статуя, приносить ей в жертву по юноше. Лишь великий Ликург прекратил это. Законодатель постановил, что кровь, которую требовал жестокий идол, должна отныне течь из спин спартанских юношей, которых будут стегать кнутом. И с тех пор меллираны Спарты ежегодно оспаривали великую честь доказать свою мужественность. Они боролись за право снести без единого крика немыслимое число ударов.
Если бы Аристон был сейчас в состоянии думать, он бы задался вопросом: почему столь непристойная жестокость приписывалась именно Артемиде? Да, конечно, она была богиней охоты, но в то же время олицетворяла девственность и проявляла суровость, только защищая свою чистоту, и была неумолимой лишь по отношению к тем, кто посягал на ее честь. Но он уже ничего не соображал, а мог лишь стоять и молча смотреть на десятую городскую илу во главе с его новым другом, илиархом Орхоменом. Нацелив острие копий на восток, воины медленно, зловеще шли вперед, неся на щитах двух юношей, которые лежали спокойно, слишком спокойно.
Глаза, которыми Аристон поглядел на Орхомена, были похожи на голубые раны – такие остаются в теле мертвеца после того, как кровь застынет в его жилах. Орхомен вполголоса приказал воинам остановиться и, в свою очередь, заглянул в глаза Аристону, который смотрел на покрытые плащами тела. Глаза юноши, казалось, кричали.
Орхомен почти слышал, как они кричат. Он вдруг почув– ствовал, что не вынесет, если этот крик зазвучит внутри него, всплывет из темной глубины сознания. И, открыв рот, хрипло задышал, задыхаясь от ужаса. Этот ужас был бы ему совершенно неведом всего месяц назад, пока Тал не вошел в его жизнь. Орхомену это и в голову бы не пришло.
«А все потому, что я перестал быть ослом в доспехах и превратился в человека, – подумал он. – В том смысле, который вкладывает в это слово Тал, а не спартанцы. Но до чего ж больно, бессмертные боги!»
– Да, – тихо прошептал он. – Оба погибли. Хотя… Лизандр – я еще понимаю… Он был силен, но в его груди билось сердце женщины. А вот Симоей?! Клянусь Аидом и Персефоной, это выше моего разумения! Почему…
– Я убил его, – бесстрастным, монотонным голосом произнес Аристон.
И внезапно Орхомен, которого Тал укорял за излишнюю чувствительность, ощутил, как лапы Эриний вцепляются в него и начинают разрывать изнутри. Благодаря воображению, умению сострадать ближнему и даже гуманности, которые пробудил в нем илот, он вдруг ощутил, как подступают к горлу желчь и кровь, бурлившие в теле Аристона, задыхавшегося от ужаса и тоски.
– Нет. – хрипло возразил Орхомен. – Ты тут ни при чем, Аристон. В этом году богиня проявила какую-то необычайную жадность. Она кричала и кричала устами жрицы, державшей ее: «Еще! Сильней! Или не видите вы, что тянете меня к земле?»
– Я убил их, – повторил Аристон ровным, безжизненным, спокойным голосом. – Обоих. Лизандра потому, что разлюбил его, и он наверняка это почувствовал. А Симоея потому, что надорвал его здоровье, ослабил его тело. И все из-за какого-то пустяка, из-за того, что он правильно назвал мою мать шлюхой. Так что теперь…
– Аристон, во имя Зевса, ты не можешь! Ты не имеешь права делать из себя козла отпущения и расплачиваться за грехи всего мира! Скажи лучше: Спарта убила их своим отказом от цивилизации, своей приверженностью к древним диким и кровавым обрядам!
Аристон слабо улыбнулся.
– Ты цитируешь Тала. А может, моего дядю Ипполита, – сказал он. – А ведь такие слова – измена полису.
– К Аиду полис! Государство, которое забивает юношей до смерти в угоду грязным, безумным…
– Перестань, Орхомен! Можно мне на них взглянуть? – спросил Аристон.
Орхомен пристально посмотрел на него.
– Ты действительно этого хочешь? Они сейчас далеко не красавцы.
– Хочу, – кивнул Аристон.
Орхомен еще раз устремил на него задумчивый взгляд.
– Я бы на твоем месте не стал, – сказал он.
– Ты что, запрещаешь мне, илиарх? – резко спросил Аристон. – Конечно, ты имеешь право… Орхомен вздохнул.
– Нет, как илиарх городской стражи, я не запрещаю тебе поглядеть на них. Аристон, – сказал он. – Хотя, как ты правильно заметил, это мое право. Но, как твой друг, я не советую тебе. Ты был тяжело ранен, болел, и это…
– Помрачит мой рассудок? А ты думаешь, я в здравом уме? – усмехнулся Аристон и открыл тела товарищей.
Орхомен оказался прав. Они выглядели непривлекательно. Мертвецы лежали на щитах лицом вниз. Их спины были так исполосованы, что кое-где сквозь клочья мяса проглядывали ребра. Головы им повернули набок, лица юношей посинели. Глаза и рты были широко раскрыты. Оба беззвучно кричали, даже после смерти, и этот жуткий безмолвный крик был гораздо громче настоящего.
Аристон встал на колени между двумя щитами. Наклонившись, он поцеловал Лизандра в губы. Изо рта покойника так пахло кровью, что Аристона затошнило. В следующее мгновение он понял, в чем дело: у мертвого юноши не было языка. Лизандр откусил его, чтобы не кричать от страшной, непереносимой боли.
Но Аристон все равно поцеловал его. Он поцеловал обоих, и Лизандра и Симоея, долгим поцелуем, как целуют любовников. Раздался гром. Цербер взвыл что было мочи, пронзительно и безумно, словно менада, роженица или Эринии, завывающие за спиной отцеубийцы. Аристон открыл ему рот, и оттуда хлынула желтая желчь, а за ней – горячая, соленая кровь. Стоя на коленях, он ткнулся лбом в землю и застыл, дрожа, пачкая все вокруг кровавой рвотой и орошая слезами.
– Аристон! – прошептал Орхомен. – Аристон, друг мой, любимый…
Но Аристон затряс головой, вскочил и кинулся прочь, шатаясь из стороны в сторону. Пьяный от горя, не видя ничего из-за слез, застилавших ему глаза, обезумевший…
«Я пойду за ним, – подумал Орхомен. – Вот только отнесу бедных искалеченных мертвецов их родителям. Однако надо торопиться. Он в таком состоянии…»
Орхомен повернулся к гоплитам.
– Поднять носилки! Вперед! – хрипло скомандовал он. И опять послышалась глухая, печальная барабанная дробь. Затем надвигающуюся ночь прорезал пронзительный звук рога. Колонна двинулась дальше, неся Лизандра и Симоея их матерям, которые ждали сыновей, не проронив ни слезинки. Спартанские женщины считали, что плакать ниже их достоинства.
Надо упомянуть еще об одном обстоятельстве. Несясь по городу в плаще, перепачканном рвотой и кровью. Аристон привлекал внимание многих граждан, которые хорошо его знали. Но, приблизившись к нему с вопросами, они замирали, ибо в его глазах сверкало пламя и люди чувствовали, что пытаться проникнуть в сию великую, страшную тайну по меньшей мере кощунственно. Однако некий человек, проницательный, умный и мудрый (или наоборот, хотя это могут сказать лишь вечно молчащие боги), решил донести о происходящем в криптею.
Тогда буагор – это было звание выше капитанского, что-то вроде полковника, – служивший в тайной спартанской полиции, решил на свой страх и риск понаблюдать за сыном благородного Теламона. Поскольку подозрительность была в натуре всех спартанцев, даже самых обыкновенных, то нетрудно себе представить, насколько грешил этим глава такой организации, как тайная полиция. Вдобавок у Перимеда, буагора криптеи, не шло из головы то, что он обнаружил, расследуя историю покушения на этого златокудрого знатного меллирана. На тропинке позади деревни – пойти по ней солдат криптеи заставило донесение Орхомена – лежал труп человека какого-то сказочного, исполинского роста. Трудно было определить, что вызвало Смерть богатыря: волки, вороны и грифы слишком долго резвились над его трупом, но рядом с покойником валялся меч, и на черном лезвии запеклась кровь. На рукоятке меча был выгравирован девиз стратега Теламона. Кроме того, в селении была хижина, которую все периэки обходили стороной. Внутри стоял страшный смрад – быка свалить можно. Обнаженной женщины, валявшейся на полу, конечно, не коснулись птичьи клювы и звериные клыки, но ее всю раздуло от гнилостных газов, распиравших тело, а изо рта, носа, глаз, ушей и прочих отверстий вылезали жирные личинки. В ранах на плече и горле копошилась целая армия червей.
Перимед еще тогда подумал, что неплохо бы приглядеть за красивым убийцей. Конечно, убийство периэков не считалось серьезным преступлением, из-за которого стоило тратить время на размышления. Но буагора – а он знал толк в своем ремесле – заинтриговало явное отсутствие мотивов. Может, юноша не в себе? Что, если от убийства периэкских свиней и илотских собак он перейдет к покушениям на жизнь гомойои, спартанцев, людей?
Поэтому, когда Аристон заглянул в освещенные окна дома Тала, под тихий шепот надвигавшейся ночи, он был не один. Хотя и не подозревал об этом. Вокруг дома, в траве, колосьях, за масличными деревьями, лежали на животах молчаливые, словно призраки, солдаты криптеи.
А значит, сама смерть ждала, притаившись в темноте.
Аристон видел в окно отца и мать. Тал обнимал Алкмену. Она, припав к нему, орошала его хитон слезами.
И вдруг Аристон понял, что не убьет их. Они были Такими прекрасными! Оба! Он с нежностью оглядел новое платье Тала, его изменившееся лицо. Какой благородный вид у отца! А мать, плачущая горше Ниобы, просто царица!
Однако кто-то все равно должен умереть. Нарушен самый священный из всех обетов. Нужно умилостивить Геру, Гестию, Артемиду и Гименея. Если уступить требованиям бесстыжих олимпийских распутников, зовущихся богами:
Афродиты, похотливой девки, постоянно изменявшей мужу, ее сыну Эросу, возможно, рожденному от кровосмесительной связи с Зевсом и отличающемуся необузданной дикостью нрава, козлоногому Пану, королю прелюбодеев, отвратительному Приапу, рожденному от Диониса, При-апу, который, невзирая на красоту обоих родителей, был страшно безобразен, но очень гордился своими гениталиями, такими огромными, что ему приходилось возить их на тележке, иначе они волочились по земле и начинали болеть, – если поставить этих развратников впереди четырех целомудренных защитников семейного очага, чести семьи и супружеского ложа, то все человеческое общество затрещит по швам и горячая козлиная похоть превратит мужчин и женщин в скотов.
Грех был ужасен. Причем повторен дважды. Но он, плод греха, не Немезида, призванная отомстить. Ревность к отцу вдруг куда-то изчезла, а вместо нее пришла любовь. Страстные, жгучие, почти противоестественные чувства, которые он питал к матери, смягчились и изменились, преисполнились благородства, когда он увидел очевидное, понял одну простую истину: эти два прекрасных человека были созданы друг для друга, а говоря о невольном оскорблении, которое они нанесли сердитым богам, не нужно забывать и о том, сколь незаслуженно жестоко поступили с ними боги еще до того, как они встретились и уж тем более согрешили! Красивый, благородный юноша, низведенный до положения илота, и прелестная, нежная девушка из знатной семьи, отданная замуж за нелюбимого старого козла, военачальника, который годился ей в отцы!..
И все же Аристон прекрасно знал, что боги рассуждают иначе, чем люди. Они жаждут крови, требуют жертв…
Жертв!.. Что может быть лучше первого плода этой кощунственной, хотя и столь понятной, любви? Что ему сказал Орхомен? Что он не может взять на себя прегрешения истинных грешников, не может взять на себя грехи всего мира. Да, но этот-то грех он взять может! За этот прекрасный грех, давший ему жизнь, его нынешний облик, красоту, он, в душе которого скопилось столько усталости, ужаса и боли, вполне может умереть.
Размышляя об этом, Аристон вынул из-за пояса один из двух кинжалов и приставил его к горлу. Но остановился. Сознание его совсем помутилось. Он умрет – и они будут рыдать над ним… Но, во имя Зевса, ему хочется видеть их слезы! Он хочет полюбоваться страданиями, которые им причинит его падение в Тартар, хочет услышать стоны отца, причитания матери…
Поэтому лучше не сейчас. Лучше сделать это у них на глазах, сперва помучив их горькими словами, и лишь потом полоснуть себя лезвием… Хотя нет… Риск слишком велик. Тал проворен и силен, он наверняка удержит руку сына, и Аристон будет только ранен, а он и так натерпелся боли за последние шесть недель.
– Следовательно, – хитро нашептывало ему безумие, – нужно войти в дом уже смертельно раненным, но так, чтобы смерть подбиралась к тебе потихоньку, незаметно.
Аристон не колеблясь, без малейших угрызений совести, вытащил клинок и почти до кости рассек себе оба запястья. Затем достал из-за пояса второй клинок, бросил его на землю рядом с первым, сунул кровоточащие руки под мышки и постучал локтями в дверь.
Тал открыл и увидел его. Улыбнувшись, илот сказал:
– Входи, сынок. Я рад, что ты пришел. Алкмена попятилась, ее лицо побелело.
– Возрадуйся, отец, – прошептал Аристон. – Возрадуйся, мой отец! Почему ты так на меня смотришь? Разве ты не хочешь меня поцеловать?
– Тал, – сказала Алкмена. – Погляди на него. Я тебе говорила, он обезумел! Он рассуждал об Оресте, Эдипе… Я… я боюсь… он может…
Аристон проворно обмотал кровоточащие запястья концами кроваво-красного плаща и распахнул его.
– Вот, полюбуйся, дорогая матушка, – с любезной улыбкой промолвил он. – У меня нет оружия. Я пришел к вам с любовью… попросить твоего благословения, как преданный сын. И твоего, отец. Ты же не виноват, что я не знал твоей любви и наставлений… Да и матушка моя не виновата, ее ведь взяли силой, когда она была пьяна, во сне… Алкмена вскочила на ноги.
– Ничего подобного! – страстно воскликнула она. – Слушай меня, Аристон! Я проснулась и увидела, как он стоит передо мной, прекрасный, как бог, вылитый бог Дионис, подумала я… Поэтому я протянула к нему руки и заключила его в объятия. Вот, сын, как это было! Можешь меня презирать, но я не стыжусь! Впервые в жизни, через десять лет после того, как этот дряхлый козел стал моим мужем, я узнала, что такое любовь. А когда мой Тал ушел, у меня остался только ты, сынок… я любила в тебе его образ, его отражение, его красоту. Если это грех, то я готова умереть за него, но не от твоей руки, юный святотатец! Ибо…
– Ибо что, матушка? – спросил Аристон. Он чувствовал, как его покидает жизнь и по телу тихо ползет смертный холод.
– Ибо я хочу, чтобы ты жил. Жил и был счастлив. Я хочу, чтобы ты покинул Спарту, уехал в прекрасные, не такие жестокие края: Лесбос, Фивы или Беотию… Или даже в Афины. Ты женишься, у тебя будут свои дети, и ты забудешь…
Аристон ее уже почти не слышал. Перед глазами стояла пелена.
– Можно мне присесть? – спросил он. – Я очень устал.
– Конечно! – Тал протянул ему стул. – Хочешь вина, сынок?
– Нет, отец, – сказал Аристон. – Папа… Ты не поцелуешь меня? Ты же никогда не целовал своего сына. Это будет твоим благословением. Странно… Я не это хотел сказать. Но в душе я чувствую именно это. Я люблю тебя. И тебя тоже, матушка. Не важно, что ты сделала. Ты поступила правильно и хорошо. Благодарю тебя. Благодарю вас обоих за то, что вы зачали меня в обоюдной радости под голубыми небесами. А теперь поцелуйте меня. Слышите?
Поцелуйте! Ибо я…
– Аристон! – вскричал Тал. – Во имя Зевса, что с тобой, мальчик?
Аристон улыбнулся:
– Ничего отец. Просто… просто я умираю. За твой грех. И за грех моей матушки. Я ваш фармакос – жертвенный козел. А это, наверно, трагедия… «Песнь козлов». Не так ли, отец? Только я умираю тихо, не блея. Как умерла моя Фрина. И Лизандр. И Симоей. В мире столько смертей … да, отец? Такая вонища! У меня в носу стоит отвратительный запах смерти. Тебе это знакомо, отец? У Лизандра во рту было полно крови. Но я все равно поцеловал его. А теперь…
– Он обезумел! – прошептала Алкмена. – Я тебе говорила, Тал. Он… обезумел…
– Обезумел, матушка? – Аристон выпростал запястья из намокших складок плаща и протянул родителям руки.
– Аристон! – пронзительно вскрикнула Алкмена. – О Тал, взгляни!
– Сынок, – сказал илот. – Это глупо. Давай я перевяжу твои раны. Тебе не нужно…
Но Аристон встал, повернулся, как пьяный, отшвырнул сиденье, шагнул к двери и вышел в ночь.
Тал с львиным рыком кинулся за ним, но растянулся на полу, поскольку Аристон, прекрасно понимая, что в таком состоянии ему не убежать от отца, предусмотрительно поставил ему подножку.
Когда Тал чуть отдышался после падения, мальчик был уже белой точкой, исчезавшей за масличными деревьями. Тал поднялся на ноги и на секунду замер. Алкмена выскочила из дома и схватила его за руку.
– Ты иди туда, – велел Тал, прежде чем она успела раскрыть рот, – а я пойду туда. Может, мы нагоним его, пока он не…
Тал не закончил свою мысль. Это было не нужно. В следующее мгновение они опрометью мчались вперед при свете луны. Спустя десять минут Алкмена, которая, несмотря на свой возраст, бежала, как сама Артемида, заметила Аристона. Шатаясь и спотыкаясь, он ковылял между масличными деревьями, словно слепец. Алкмена подняла голову и закричала:
– Тал! Тал! Я нашла его! Он здесь! И тут же со стороны поля показался Тал. Он кинулся к качавшемуся, почти потерявшему сознание мальчику. Но, почти добежав до Алкмены, Тал вдруг замер. Алкмена повернула голову и увидела, что солдаты криптеи нацелили на него копья. Она не колебалась ни секунды, а сделала то, что должна была сделать. Наверно, она инстинктивно сознавала, что умереть за любовь легче, чем жить с ней, и что летящий дротик причинит меньше боли ее бедному, израненному, нежному сердцу, нежели медленно угасающие радость и надежда – ас годами они неизменно должны были угаснуть. Алкмена метнулась вперед, чтобы принести в жертву любви все, что у нее было: жизнь. Стремительно летящий дротик сверкнул в лунном свете. Изо рта Алкмены вырвался не крик, а долгий, экстатический вздох. Она отдалась смерти, как любовнику. Тал подхватил ее на руки и опустился на колени. Он попытался вытащить дротик, но не смог: силы его оставили. Он наклонился и поцеловал Алкме-ну в губы, орошая слезами ее неподвижное лицо. Когда солдаты криптеи окружили его с оружием наготове, он по-прежнему стоял на коленях, прижимая к себе Алкмену, из спины которой торчал дротик. Увидев их, Тал положил тело Алкмены на землю и стал, переводя взгляд с одного железного, безжалостного солдата на другого, в лицах которых то ли от рождения, то ли из-за воспитания не было ничего человеческого.
Буагор Перимед вышел из-за деревьев и с легкой иронической усмешкой посмотрел на рыжебородого.
– Я свободный человек, буагор! – сказал бывший илот. – И македонец. Ты, правда, не знаешь, что это такое, но когда-нибудь узнаешь. Я прошу тебя о том, что мне полагается по праву как свободному человеку: одолжи мне твой кинжал. Раз твои безмозглые собаки-убийцы лишили меня моей… жизни, я хочу сам нанести себе последний удар. Прошу тебя как калокагата, как спартанца!
Буагор все еще улыбался. В предложении рыжебородого была своя прелесть. Компактность. Экономия. Рука Пери-меда потянулась к поясу и схватила кинжал. Он вытащил его из ножен и подал Талу.
– Да примут тебя великие боги, неодамод! Таких, как ты, я еще не встречал, – промолвил он.
Орхомен, прибежавший слишком поздно и не успевший предотвратить несчастье, которое он увидел во взгляде Ари– стона, нашел осиротевшего, потерявшего сознание юношу в примятой траве. Тот лежал ничком. В ярости и горе, ибо Орхомен безмерно любил Тала, он выхватил кинжал и занес его над головой. Но остановился.
– Нет, – пробормотал илиарх. – Как говорил Тал, «не смерть наказание, но жизнь». А коли так, то живи, отцеубийца! Я приговариваю тебя к жизни… и к мести Эриний. Когда-нибудь ты на коленях будешь молить меня нанести тебе удар, который я не нанес сейчас. Эриний позаботятся об этом. А если нет, то я сам постараюсь. Так что живи…
Илиарх сунул кинжал в ножны, поднял Аристона и медленно понес его к другим спартанцам, искавшим юношу в нежной, звездной ночи.
Глава VIII
Перимед, начальник тайной полиции, сидел в своей служебной комнате у окна. Однако его взор привлекал не радостный летний пейзаж. Нет, Перимед леденел от ужаса, неотступно думая о смерти, которая неотвратимо приближалась к нему под стук копыт лошади вестового, который наверняка уже подъезжал к лагерю Теламона.
Перимед сидел не шевелясь. Мысли путались и разбегались, не в силах объять всего, что стряслось за один-единственный час. У Перимеда в голове не укладывалось, что его солдат случайно убил благородную Алкмену, жену великого стратега, а он, Перимед, буагор криптеи, славившийся в полисе изощренностью ума, лисьей хитростью и железным сердцем, впервые в жизни поддался порыву чувств и был настолько тронут благородным, достойным поведением неодамода, то есть бывшего илота, что позволил этому красивому, огненнобородому животному самому лишить себя жизни, а не подверг его пыткам, дабы вырвать у него…
Что? Какого признания, во имя Зевса, могли они добиваться от Тала, ведь они и так уже все знали, это было очевидно?! Что он любовник Алкмены? Отец прекрасного златокудрого Аристона? Через освещенное окно хижины было видно, как жена стратега обвивала руками бывшего илота, словно плющ обвивает могучий дуб. А сходство между погибшим вольноотпущенником и полумертвым юношей, которых они положили рядом на щиты, чтобы перенести в Спарту, оказалось настолько разительным, что смрад греха, достигнув высокого Олимпа, защекотал ноздри богини Геры, хранительницы семейного очага.
Однако это знание ничего не проясняло. Да, конечно, измена жены каралась смертью, но когда речь шла о гражданке, ее обычно наказывал сам оскорбленный муж. Если же, в редких случаях, он ни карал, ни миловал ее, она могла быть приговорена к казни, которую после суда эфоров совершал палач. Разумеется, простые копьеносцы криптеи не имели права убивать Алкмену, словно периэкскую сучку или илотскую хрюшку. Неважно, что она натворила.
Рассказывать правду все равно бесполезно. Кто поверит, что тупица Ксанф случайно убил ее, пытаясь вызволить из беды юношу, которого, как ему, дураку набитому, показалось, преследовал похотливый педераст? Никто не поверит. После пятиминутного допроса эфоры установят очевидный факт: Тал несомненно хотел спасти мальчика, который явно сам перерезал себе запястья, не в силах вынести вопиющего позора матери, ведь она так кощунственно попрала брачные обеты и… по вполне понятным причинам отдалась этому потрясающему самцу, которого он, Перимед, сам с удовольствием затащил бы к себе в постель.
Но оттого, что он все понимал, было только еще хуже. Теперь буагору предстояло решить, как выгородить себя или же, если не получится, быстро и безболезненно умереть. Ибо безмерная любовь Теламона к жене была общеизвестна, его никогда не уличали в связях с другими женщинами или мальчиками. Вне всякого сомнения, он потребует предать смерти и Ксанфа, и Перимеда.
Перимед вынул из ножен кинжал и уставился на безжалостный клинок, который лишь несколько часов назад вонзился в роскошную плоть Тала и бесшумно лишил его жизни. И вот теперь…
Но Перимед не мог! Не мог! Он слишком любил себя! Сильней, чем Нарцисс! Он никогда не любил никого другого, даже тех красивеньких мальчиков и женщин, которых он в приливе сладострастия завлекал к себе в постель. И чтобы теперь его жизнь оборвалась из-за того, что какая-то великолепно сложенная рыжебородая скотина-неодамод вдруг почему-то его растрогала?! Нет, это слишком! Надо немножко повременить, подумать, пустить в ход свою хитрость… Наверняка найдется какая-нибудь лазейка. Наверняка!
И, поскольку боги любят зло, лазейка действительно нашлась.
В комнату вошел илиарх той илы, которая отправилась вместе с Перимедом на ферму Тала. Он быстро салютовал Перимеду своим мечом.
– Говори, Пелей, – сказал Перимед.
– Мой командир, – произнес Пелей; от волнения он потерял самообладание, и голос его дрожал и звенел, – дело серьезней, чем мы предполагали! Гораздо серьезней! Сдается мне, что …
– К Аиду то, что тебе сдается, тупица! Говори по существу! А я уж сам решу, как поступить, – оборвал его буагор.
– Слушаюсь, буагор! Как ты и приказывал, мы отнесли юношу к лекарю Полору. Он сказал, что случай не из лег' ких, однако сын стратега вряд ли умрет. Полор принялся перевязывать его раны и позвал рабыню, чтобы она ему помогла. Но едва девушка увидела, кто перед ней, она ухнула, словно афинская сова, и кинулась из комнаты, как будто у нее над ухом задышали Эвмениды…
– А ты, мой дорогой илиарх, разумеется, побежал за ней и привел обратно?
– Так точно, мой командир. Но, когда мои гоплиты приволокли ее, она истекала кровью, точно зарезанная свинья. Я строго отчитал их за применение силы, ведь умри она от потери крови – мы бы не узнали ничего интересного…
– Истинно говоришь. А что ответили твои горячие головы, эти юные идиоты?
– Они клялись и божились, что не вытаскивали оружие из ножен. И тут за них неожиданно вступился лекарь. Он сказал, что девушка уже была ранена, причем довольно таинственным образом. Ночью, накануне последней…
– Ах, вот как? – оживился буагор. – Твой рассказ начинает меня интриговать, Пелей! И что было дальше?
– Я велел костоправу остановить ей кровотечение, что он немедленно и исполнил. Тогда я спросил ее напрямик:
«Выкладывай, шлюха, кто порезал твою аппетитную сиську».
– Весьма деликатная манера выражаться, – сухо проронил Перимед. – Ну а дальше?
– Она не колебалась ни секунды, мой командир. Указала на юношу и завопила мерзким голосом: «Это он, извращенец, свинья!»
– Ха! Это означает лишь то, что он ее отверг, Пелей. Шлюха, если ей не удается завлечь парня – обычно они это делают, чтобы приписать ему ребенка, которым ее наградил кто-то другой, – всегда кричит, что бедняга – извращенец.
– Но не на сей раз, командир. Златокудрый Аристон хоть и выглядит очаровательным паинькой, но вполне ублажил похотливую дрянь. Она призналась в этом даже с оттенком некоторой гордости. Ее возмутило другое: то, что ее место заняла соперница. Причем гораздо старше ее. Если верить горестному рассказу сладострастницы, она вошла в комнату юноши без стука и застала его в постели с…
Илиарх Пелей быстро наклонился и прошептал что-то буагору на ухо. Глаза Перимеда вспыхнули. Он запрокинул голову и расхохотался.
Пелей тоже посмеялся – из уважения к начальству, хотя, по правде сказать, не понимал, что смешного нашел буагор в таком ужасном грехе.
– Ты привел девчонку сюда? – спросил Перимед, утирая глаза тыльной стороной руки.
– Конечно, мой командир! Я же знаю свои обязанности! Подвергнуть ее пыткам?
– Нет! Нив коем случае, дурень; Обращайся с ней очень ласково. Пусть лекарь исцелит ее раны. Корми девчонку как следует… И главное, смотри, чтобы твои олухи над ней не надругались… хотя к ней вряд ли применимо это выражение.
Пелей недоуменно воззрился на буагора.
– Может, мой вопрос покажется тебе нескромным, буагор, но… почему?
– Вопрос действительно нескромный, но я отвечу. Я хочу, чтобы она хорошо себя чувствовала, когда прибудет благородный Теламон, и мы покажем ему одно очень интересное зрелище, – промолвил буагор криптеи.
– Послушай, зять, – сказал Ипполит. – При все моем почтении к твоим сединам и положению, я бы прекратил это дело. Замял бы его.
Стратег посмотрел на брата своей покойной жены.
«Уже одно то, что у нее такой родственничек, должно было меня насторожить!» – подумал он.
Но железное самообладание ни на миг не покинуло Те-ламона.
– Почему? – спросил он.
– И вопросов таких я бы тоже не задавал, – сказал Ипполит.
Теламон поглядел в упор на толстого коротышку-шурина.
– А если я все равно буду допытываться, ты ответишь мне, Ипполит?
– Нет, – покачал головой Ипполит.
Теламон встал. Для эллина он был слишком высок. И, когда стоял, имел довольно грозный вид. Теламон с удовлетворением отметил, что в глазах Ипполита вспыхнули искорки страха.
– Не волнуйся, шурин, – спокойно произнес он. – Твой отказ – вполне достаточный ответ для меня.
Круглый, детский рот Ипполита задрожал. Его душа разрывалась от отчаяния.
«Кретин! – подумал он– – Ты же все испортишь! Да, да! Тебе опять наставили рога! Да, она опять разрешила другому заткнуть свою вечно кровоточащую рану, которую, как и у прочих баб, можно заткнуть только мужской плотью, грубой мужской плотью! Ты сам мог бы до этого додуматься! Рогоносцы всегда знают или подозревают, что их наградили по заслугам. А ты, видите ли, не знал, не подозревал, что…»
– Слушай, стратег, – сказал Ипполит, – если бы я попробовал тебя убедить, что ты ошибаешься, ты бы мне поверил?
– Нет, шурин, – покачал головой Теламон.
– Ну и прекрасно. Тогда я не буду тебя разуверять. Ты прав. Ты был прав все эти годы. Ты был не прав только, когда не убил его.
Теламон устремил на Ипполита долгий взгляд.
– Выходит, ты… знал? – спросил он.
– Тогда – нет. Иначе я убил бы его! – страстно воскликнул Ипполит. – Я понял что к чему лишь тогда, когда увидел его с Аристоном в храме. Сходство… поразило меня. Но убивать уже было поздно. Я старался сохранить жизнь, а не отобрать ее. Да и моя сестра тогда еще не решила на склоне лет повторить свою давнишнюю глупость. Когда же я узнал ПРО ЭТО, они оба с Талом были мертвы.
– Тебе ее жаль, да? – спросил Теламон.
– Мне жаль все человечество, – пожал плечами Ипполит. – Мы все рождаемся для похоти, глупостей, безумств, тоски и боли. Правда, Алкмена оказалась созданной для этого в меньшей степени. У нее хотя бы достало мужества и разума, чтобы жить по-настоящему. А теперь все ее беды позади. Мне жаль тех, кого она оставила: моего племянника, красивого сына раба, твоего пастуха, себя, толстого борова, бывшего педераста, который скоро станет любящим мужем. Но больше всего я думаю о тебе, мой благородный геронт и стратег, великий Теламон, мой уважаемый зять. Мне жаль тебя.
Теламон удивленно поднял брови.
– Тебе жаль меня? – переспросил он.
– Да. Ибо что у тебя есть, кроме репутации? Ты же человек чести! Ты никогда себя ничем не запятнал! Ты настоящий спартанец! Ты не жил, Теламон. Не знал сладость греха. Не чувствовал, как у тебя все тает внутри от малейшего прикосновения любимых рук. От его… или ее взгляда, улыбки, любой гримаски. Если моя невеста наставит мне рога – а она наверняка это сделает при первой же возможности, – она изменит изменщику. Ведь я, хвала Эросу, украсил рогами столько благородных спартанских лбов! И в то же время, спасибо Афродите, я мог проплакать всю ночь напролет из-за несчастной, неразделенной любви. Я был похотливой свиньей, предавался мерзким порокам, но был и возлюбленным. То есть я обыкновенный человек, а ты…
– А я, – произнес Теламон, – всю жизнь был, как ты правильно выразился, спартанцем.
– Да. Надеюсь, Зевс над тобой сжалится. Послушай, зять, брось ты эту затею! Алкмена тебе изменила. Оставь ее смерть неотмщенной. Пусть смерть будет наказанием за ее измену. Считай, что вы квиты, мой благородный зять! Прояви милосердие, в котором мы все нуждаемся, ибо боги – если они существуют – никогда не бывают милосердны. Я молю не о сострадании к себе или к мальчику. Нет, пожалей себя, Теламон! Ты никогда не жил, а значит, нуждаешься в сострадании. Взять хотя бы такую мелочь: скажи, как ты будешь поддерживать дисциплину в войсках, если воины начнут шептаться за твоей спиной и исподтишка показывать тебе рожки? Скажи, как?
Теламон слабо улыбнулся.
– Я попросил об отставке, Ипполит, – спокойно сказал он. – Как раз сейчас раб несет мое письмо в герусию, в коем я извещаю благородных членов этого благородного собрания, что не могу долее пребывать в их числе. В каком-то смысле я рад, что мне представился удобный случай, шурин. Мне шестьдесят семь лет. Я устал от государственных дел и от войн. Да, наверно, и от жизни тоже устал. То, что мне довелось видеть, не приносило веселья. Я хочу уехать отсюда. Я долго размышлял об этом. И купил ферму в Беотии, огромные пастбища с большим числом коров. Как только Перимед и его палачи предстанут перед судом… кто-то же должен обуздать все возрастающую власть криптеи…
– Согласен, – прервал его Ипполит. – Но кто-то другой. Не ты.
– Почему? Они дали мне прекрасную возможность.
– Они ничего тебе не дали, стратег! Это повлечет за собой только смерть Аристона, которой ты, полагаю, уже не жаждешь… если и жаждал когда-то…
– Нет. Пусть мальчик живет. Он милый юноша и, конечно же, не виноват в своем рождении и в грехах матери. Может, в один прекрасный день он даже достигнет каких-нибудь высот, в чем я, правда, сомневаюсь… Что ты мне говорил?
– Что криптея не дала тебе никакой возможности, кро– ме одной-единственной: невольно убить мальчика, а самому – если в тебе есть хоть капля человечности – сойти с ума и, вполне вероятно, последовать примеру Тала. Послушайся меня, Теламон! Ты не должен! Не можешь!
Теламон смерил своего толстого низенького шурина долгим, спокойным взглядом.
– Значит, это не простое прелюбодеяние?
– Не простое прелюбодеяние? О да, зять! Видишь этот кинжал? Я трус. В будущем месяце у меня свадьба. Я люблю жизнь и ужасно боюсь крови, боли, смерти. И все-таки прежде чем сказать тебе или кому-нибудь еще, что таится за этой историей, я воткну кинжал по самую рукоятку в свой живот, который я холил и лелеял всю жизнь. И выпущу себе кишки у тебя на глазах. Ясно?
– Вполне, – кивнул Теламон.
– Тогда, может, ты согласишься замять это дело?
– Нет, – сказал бывший геронт, бывший стратег, но вечный спартанец.
Так что никакой надежды не осталось. Аристон лежал в доме отчима, солдаты десятой илы городской стражи караулили его день и ночь, чтобы он не попытался снова наложить на себя руки. Сперва его приходилось кормить насильно, но через некоторое время он начал молча съедать в день пару ломтиков хлеба и выпивать глоток воды. Естественно, выглядел он плачевно: скелет, глядевший на мир голубыми глазами, в которых полыхало пламя, подобное священному Дельфийскому огню.
А вот разговорить его никак не удавалось. Он не отвечал ни на приветствия, ни на вопросы, не вступал в беседы. Когда илиарх Орхомен попробовал расспросить Аристона о смерти его родителей, юноша молча отвернулся к стене.
Его пришлось принести в суд на носилках. Никто не понимал, какой прок от его молчаливого присутствия. Аристона нельзя было заставить говорить против его воли, он все еще считался меллираном, сыном – по крайней мере, официально – гомойои, спартанца. Для того, чтобы подвергнуть Аристона пыткам, его следовало сперва обратить в рабство. А это, в свою очередь, могло произойти только после того, как эфоры публично объявят Алкмену виновной и во всеуслышание признают перед лицом всего мира немыслимое: что знатные спартанки, жены, матери – такие же женщины, как и все прочие.
Это уничтожило бы самый дух Спарты.
Вот почему Аристон, лежавший на носилках в герусии, был в такой же безопасности, как и великий Зевс. Во-первых, – и с этим никто не спорил – его даже не судили. Перед судом предстал Ксанф, легко вооруженный солдат тайной полиции. Во-вторых, никто не сомневался в исходе суда: Теламон будет с достоинством носить рога и доказывать, что сын его законнорожденный, хотя сам прекрасно знает – козлоногий Пан и сатиры тому свидетели! – что мальчик не его сын; Перимед как-нибудь выкрутится, а бедный Ксанф умрет, быстро, тихо и бескровно. Все это знали. Но все ошибались. Страшно, кошмарно ошибались.
Ибо Перимед встал и, сохраняя полное спокойствие, обратился к суду.
– Благородные судьи! – начал он. – Калокагаты! Стратеги! Равные! Поскольку в интересах нашего полиса поскорее прекратить это дело, пока безобразные слухи, ползущие по улицам, не уничтожили все правильные, прекрасные, истинно спартанские принципы нашей жизни, не ослабили наш дух и не обезоружили нас морально перед врагами, позвольте мне заявить, что сфарей Ксанф, юноша знатного происхождения, как и подобает, – я считаю нужным напомнить об этом суду – всем членам криптеи, действительно убил женщину по имени Алкмена…
– Женщину?! – воскликнул Теламон.
– Да, мой дорогой стратег! Женщину. Или ты хочешь, чтобы я называл ее благородной спартанкой, супругой? Что ж, воля твоя, великий Теламон! Я могу назвать ее так из уважения к твоим сединам, заслугам, славе. Ибо она была твоей супругой, правда же? То, что она виновна в прелюбодеянии и хуже того…
Главный эфор поднял жезл.
– калокагаты! – громко произнес он. – Я прошу вас уважать достоинство суда и соблюдать приличия, как и подобает мужчинам, равным спартанцам!
– Перимед поклонился.
– Примите мои извинения, великие эфоры и благородный стратег, – кротко сказал он. – Я поддался чувству негодования. Так же, как и Ксанф, когда он уяснил истинную причину того, почему Тал намеревался убить своего собственного сына…
– Калокагаты! – воскликнул Теламон.
– Я беру свои слова назад, – тут же заявил Перимед, – ибо хотя я и все присутствующие в суде ЗНАЮТ правду, ее невозможно доказать. Прошу писца изменить запись. Пусть будет «почему Тал намеревался убить сына женщины… благородной спартанки! Жены! Алкмены!» Это я доказать сумею. Прошу принять во внимание смягчающие обстоятельства: Ксанф пришел в ужас и ярость при виде столь чудовищного поведения этой… благородной спартанки, жены… а сие вполне объяснимо, если вспомнить о его спартанском воспитании. Кроме того, она погибла случайно: Ксанф пытался вырвать мальчика из рук Тала…
Один из эфоров поднял жезл.
– Ты говоришь, что неодамод Тал намеревался убить меллирана Аристона, – сказал он. – И в то же время утверждаешь, что Аристон – внебрачный сын Тала. Как бывший член Евгенического Совета, я кое-что об этом знаю, но из уважения к великому Теламону, чьи заслуги перед полисом следует помнить, предлагаю не обсуждать вопрос об отцовстве, как не имеющий отношения к данному делу. Вы согласны, калокагаты?
Все эфоры торжественно подняли жезлы.
– Согласны! – молвили они хором. Однако заявление Перимеда уже было сделано.
– В связи со сказанным, – продолжал эфор, – у меня возник вопрос: зачем Талу было убивать мальчика? Или ты считаешь, благородный буагор криптеи, что неодамод не разделял твоих соображений по поводу того, кто был истинным отцом меллирана? Погоди, дорогой стратег! Я обсуждаю здесь не вопрос об отцовстве, а то, верил Тал в это или не верил. А сие совершенно другой вопрос, и он имеет отношение к делу.
– Хорошо, благородный эфор, – кивнул Теламон.
– Он верил, – сказал Перимед, явно подавляя смешок. – У него были… как бы поточнее выразиться?.. веские основания считать мальчика своим сыном.
– И все же ты говоришь, что он пытался убить мальчика, которого считал своим ребенком. Странно. Очень странно. Позволь суду осведомиться: почему?
– Из ревности, благородные господа, – заявил Пери-мед.
– Из ревности? – ахнули эфоры.
– Да. Из обыкновенной презренной ревности, которую отвергнутый мужчина питает к своему более удачливому сопернику. В данном случае ревность усиливалась еще и тем, что всех троих связывали особые узы. Это привело Тала в ярость, калокагаты. В такую же ярость, которая ослепила моего бедного Ксанфа, и он метнул копье, не подумав о…
Эфоры, все до единого, вскочили на ноги.
– Буагор! – громовым голосом воскликнул главный судья. – Ты понимаешь, что говоришь?
– Да, благородные спартанцы, – сказал Перимед. – Я говорю, что повторилась история Эдипа, Лая и Иокасты. С вариациями, разумеется. Эдип не убил своего… своего отца. Во всяком случае, непосредственно. А благородная Иокаста не сплела себе петлю из шелковых шнурков; за нее это сделал Ксанф… хотя у меня нет доказательств, что она чувствовала раскаяние. А Эдип не ослеп… если только мы не сочтем его перерезанные запястья заменой выколотых глаз. Как вы полагаете, калокагаты? В конце концов, у нашей Иокасты не было пряжек, остриями которых Эдип мог бы выколоть себе глаза.
Теламон перемахнул зал с такой резвостью, которую трудно было ожидать от человека его возраста. Рука стратега потянулась к поясу, но – увы! В суд эфоров не разрешалось приность оружие, только стражники, стоявшие за дверью, были вооружены, да палачи, когда приходилось вырывать признание у какого-нибудь упрямого раба, прибегали к помощи оружия. Впрочем, это и оружием-то назвать было нельзя, скорее, то были особые орудия.
– Стратег! – закричал главный эфор.
Теламон замер. Многолетняя привычка соблюдать дис– циплину взяла верх даже над гневом. Но никто на него в тот момент уже не смотрел. Все глядели на Аристона. Юноша повернулся на бок и начал блевать кровью.
Это только затруднило положение Теламона.
– Калокагаты, равные! – сказал полководец. – Я прошу привести лекаря, чтобы он занялся этим ма… моим сыном. И прошу убрать его из зала суда. Если он наслушается тут всяких мерзостей, то, боюсь, он может умереть. Аристон слишком слаб.
Эфоры шепотом посовещались. Потом главный судья обратился к Перимеду.
– Благородный буагор криптеи, – сказал он, – означает ли это, что ты во всеуслышание обвиняешь милларана Аристона, считающегося сыном стратега Теламона, в святотатственном преступлении – инцесте? Подумай хорошенько, прежде чем отвечать. Это серьезное дело, самое серьезное из всех, с какими мне пришлось столкнуться за многие годы, проведенные в этом суде. На карту поставлена не только жизнь юноши. Если слухи о происшедшем достигнут чужих пределов – а сие непременно случится, несмотря на все наши старания! – наш любимый полис потерпит поражение, сравнимое с поражением в очень крупной битве. Все люди – и эллины, и варвары – боятся Спарты. Но других племен тоже боялись! К примеру, Персию перед битвой при Фермопилах. Разница, буагор, состоит в том, что нас при этом уважают, нами восхищаются. Наша честность, неподкупность, достоинство, целомудрие наших женщин никогда не ставились под сомнение. А теперь будут поставлены! Ввиду всего этого, неужели ты, благородный буагор, выдвигаешь свое обвинение?
Перимед не колебался ни мгновения.
– Да, – ответил он. Теламон вскочил с места.
– Если суд не возражает, я хочу спросить у буагора, известно ли ему, какая кара предусмотрена за ложное обвинение? И за то, когда человек порочит… мертвого?
– Известно, – ответил Перимед.
– И ты… упорствуешь? – прошептал Теламон.
– Упорствую, – кивнул буагор.
Воцарилось жуткое молчание. Оно было таким осязаемым, что, казалось, его можно потрогать. Оно давило на присутствующих, словно темнота.
– В таком случае, – вздохнул главный эфор, – юношу нельзя вынести из зала суда.
– Но… но… – Голос Теламона едва слышался. – Хотя бы врача…
– Это можно. Приведите лекаря Полора, – велел главный эфор.
Теперь Теламон наконец понял, какую он совершил ошибку. Она была огромной. Ибо когда эфоры спросили, желает ли он подвергнуть пытке рабыню Арисбу, он, разъяренный наглостью и дерзостью, с которой она упорно повторяла свои чудовищные обвинения, позабыл про здравый смысл. Гораздо лучше было бы, как он теперь понимал, потребовать перекрестного допроса, подловить ее на противоречиях, уличить во лжи. Он же прекрасно знал, что упрямей беотийских крестьян на всем свете не сыскать! То, как Арисба выносила пытки, вызывало восхищение. Нет, она, конечно, кричала. Удержаться было невозможно. Палачи уже потрудились над ней так, что от ее вида вытошнило бы даже козла. Но всякий раз, когда Теламон знаком приказывал им отойти и спрашивал: «Так ты все равно утверждаешь, что мой сын…», она неизменно шипела:
– Да! Утверждаю! Я видела!..
…Теламон снова кивнул уродливым, потным зверюгам. Крики Арисбы разорвали ночь пополам, заглушая все прочие звуки. Теламон поглядел на Аристона. Сердце его замерло, дыхание прервалось. То, что он увидел в глазах мальчика, способно было остановить даже время.
Аристон оттолкнулся руками о носилки. Встал. Когда его принесли в суд, он был совсем без сил и не смог бы поднять даже листок папируса, такой крошечный, что на нем с трудом уместилось бы его имя. Но теперь он встал и, шатаясь, сделал первый шаг по направлению к палачам. Потом другой, третий… Крики Арисбы терзали его слух… Он сделал еще один шаг и закачался, точно подрубленный дуб. А потом рухнул и растянулся на полу.
Лекарь Полор подбежал и опустился подле него на колени. Но едва он потянулся к юноше, как тот вперил в него голубые глаза, в которых плясало холодное пламя, и рука лекаря застыла в воздухе.
– Не трогай меня, – сказал Аристон.
Он оперся о пол. Опять оттолкнулся. По его лбу тек пот. Из носа струилась кровь, тоненькие алые линии прочертили подбородок вниз от уголков губ. Но юноша все же встал, встал на ноги посреди гробового молчания. Это было непостижимо, ибо человеческий дух, возвысившийся над измученной, истерзанной плотью, превозмогший боль, страх, тоску, преодолевший даже смерть, – это, по меньшей мере, чудо.
Аристон, шатаясь, сделал несколько шагов и налетел на потного палача. Рука юноши метнулась к рукоятке кинжала, сверкнуло лезвие. Зажав кинжал в руке, Аристон подошел к обугленному, окровавленному, сплошь переломанному живому существу, которое когда-то было человеком, женщиной.
–.Арисба! – прошептал он. – Они не будут… не будут больше терзать тебя. Я… не позволю. Ну, скажи им правду. Ты же знаешь… я не спал со своей матерью. Я порвал на ней одежду. Вот и все. Все! Я думал… это ты… Было темно. Очень темно. Ну, скажи им…
Лицо Арисбы исказилось. В глазах отразилась бездонная ненависть.
– Нет, спал! – взвизгнула она. – Я тебя видела. Ты был голый. А она лежала сверху с задранной юбкой. А ты…
И тут Аристон яростно, вслепую взмахнул кинжалом. Но мгновенный, неестественный прилив сил, вызванный ужасом, отчаянным сознанием того, что нужно напрячься, вдруг кончился. Лезвие кинжала вонзилось в покрытую волдырями, почерневшую, исполосованную, искромсанную плоть меньше чем на полдюйма. Аристон вытащил кинжал из раны и тупо уставился на его кончик, с которого капала кровь. Потом попытался воткнуть его себе в грудь, но тоже безуспешно. У него не осталось сил.
Здоровенный палач навалился на него и вырвал кинжал.
Затем оба палача поглядели на Теламона и кивнули бритыми головами на умирающую девушку.
Стратег медленно склонил свою голову. Дело было проиграно, безнадежно проиграно. Каждый жест Аристона убеждал судей в его виновности, в том, что он совершил невероятное святотатство. Спорить было не о чем. Лучше облегчить рабыне ее страдания.
Один из палачей убил Арисбу мастерским ударом кинжала. Она умерла так скоропостижно, что из ее груди не успел даже вырваться последний крик, а раздалось только бульканье, и тут же все смолкло. Эфоры и свидетели потупились. Теламон имел право осудить ее на смерть. Она была рабыней, он спартанцем.
Сохраняя полное спокойствие, Теламон поднялся на ноги.
– Благородные эфоры! – почти ласково произнес он. – Мой дорогой буагор криптеи, калокагаты! У меня есть предложение. Вы не будете спорить, что я сослужил кое-какую службу нашему полису. Я прошу вас позволить мне в последний раз доказать мою преданность великой Спарте и не дать попрать ее честь. Мой сын осужден, хотя никто не может сказать, виновен он или нет. Разве гомойои, стратег или даже эфор способны распознать, что было на уме у этой бедной, сумасшедшей развратницы? Я думаю, она лгала. Если б вы знали… благородную Алкмену, как знал ее я, вы бы поняли, что столь чудовищное святотатство было противно ее натуре. Но пусть все останется как есть! Да будет так…
– Дорогой буагор, – продолжал Теламон, – я хочу заключить с тобой сделку. Я откажусь от всех обвинений, выдвинутых против тебя и твоего человека, и дам в награду два таланта серебра, дабы возместить нанесенную вам обиду. А вы, с разрешения благородных эфоров, не будете возражать против передачи сына в мои руки. Я сам назначу ему наказание. Вы знаете меня, знаете, как мне дорога честь. Я не подведу вас!
Перимед улыбнулся. Он выиграл. Причем победа была полной. Он не только спас жизнь себе и Ксанфу, но и разбогател!
– Я согласен, великий стратег. ТВОЯ честь никогда не подвергалась сомнению. У меня нет возражений, – сказал он.
– Калокагаты, благородные эфоры, вы даруете мне это право? – спросил Теламон. Главный судья нахмурился.
– Мой дорогой стратег, – осторожно начал он, – а ты знаешь, каково наказание за это… за это тяжкое преступление?
– Да. Такое преступление карается смертью, – ответил Теламон. – Но если я знаю закон – а я думаю, что знаю, – то там не говорится, как именно следует казнить человека в подобном случае. Я прав?
Главный эфор еще больше нахмурился. Взгляд его потускнел и обратился вовнутрь, словно высматривая что-то в себе.
– Да, -наконец произнес он, – там не определено, как именно следует привести в исполнение смертный приговор. Даже великий Ликург не допускал, что спартанец способен на столь невыразимую непристойность, а посему не стал уточнять. Что же ты предлагаешь, благородный стратег?
– Чтобы вы позволили мне и… моему сыну в последний раз послужить полису. Отдайте его под мою охрану, и я позабочусь, чтобы он выздоровел, чтобы раны его затянулись. Затем, когда в Спарту снова придет весна и прекрасный таргелион украсит землю цветами, мы оба отправимся на войну. Он будет в первых рядах. И из первой же битвы ни он, ни я не вернемся. Клянусь честью воина!
– А как же приговор суда? – встревоженно спросил главный эфор. – Нам нужно его записать, иначе народ решит, что власти оказано неуважение! А этого мы не можем допустить, ибо…
– Вы заявите во всеуслышание, что из-за отсутствия доказательств никакого решения вынести нельзя. А поэтому вы освобождаете мальчика и поручаете мне следить за ним. Таким образом вы, благородные эфоры, сохраните доброе имя Спарты, избегнете скандала, который может ей только повредить, и предадите правосудие – если на то будет ваша воля! – в руки человека, который ни разу в жизни вас не подвел. Вы согласны, калокагаты?
Эфоры переглянулись, в их глазах читалось облегчение. Один за другим они подняли жезлы.
– Буагор Перимед, воин Ксанф! – громовым голосом провозгласил главный эфор. – Вы тоже связываете себя словом спартанца, обещая хранить тайну?
– Да, благородные судьи! – тут же откликнулся Пери-мед.
– Да будет так! – молвил главный эфор. – Ты можешь забрать мальчика домой, великий Теламон.
– Благодарю вас, калокагаты, – ответил Теламон и повернулся к Перимеду, глядя с ледяным презрением на человека, способного ради спасения собственной жалкой жизни пойти на такую подлость.
– Завтра утром я пришлю тебе таланты домой, – сказал Теламон. – Слово стратега. А теперь пусть твои люди окажут мне услугу: сходят за моими рабами и велят им перенести мальчика домой…
– Отец! – Голос Аристона звучал слабо, но отчетливо.
– Что, мой мальчик? – ласково спросил Теламон.
– Благодарю тебя… от всего сердца, – сказал Аристон и поднес к губам руку стратега.
– Ладно, хватит трогательных сцен! – хмыкнул стратег. – Нам пора идти.
Глава IX
Аристон шел по лагерю спартанцев. Стараясь не привлекать к себе внимание, он сгорбился, ссутулился, понурил голову, чуть ли не полз по земле. Теперь он вел себя так просто по привычке. После суда и вплоть до очередного ежегодного вторжения в Аттику Аристон изо всех сил старался – хотя настоящей нужды в этом не было – стать невидимым. И почти добился своего.
Вот почему два седовласых старых воина, вполголоса сетовавших на жизнь, сидя под навесом, не услышали и не заметили его. Серо-голубые доспехи Аристона никак не выделялись в туманной дымке, за пеленой дождя, который стоял на втором месте в длинном списке того, что вызывало жалобы старых вояк. На первый план вышло то, что они, как и прочие спартанские воины, чуть не умирали с голоду. В пятьдесят пятую весну после битвы при Фермопилах в Аттике было очень холодно, сыро и гадко. Воинам не удалось поживиться зерном у аттических крестьян, у которых они обычно отбирали урожай. Овес, просо и пшеница стояли еще совсем зеленые.
– Старый дурень! – буркнул один из солдат и умолк, пережевывая пищу и обдумывая сказанные слова.
Аристон увидел, что оба воина – эномотархи, так на– зывался самый низший чин среди командиров. У каждого в подчинении находилось тридцать солдат.
Юноша замер, ожидая, когда эномотарх снова заговорит. Тогда Аристон смог бы пройти мимо и они не услышали бы его шагов.
– Слыханное ли дело?! – продолжал ворчать полысевший ветеран. – Начинать наступление в таргелионе! Нас, видно, решили сжить со свету, как ты считаешь? Нет, я тебя спрашиваю: когда, во имя черного Аида, поспевал в это время урожай? Тем более в Аттике!
– Воин, – сказал другой эномотарх, – я не меньше тебя сражался. Но, если ты перестанешь шамкать своим беззубым ртом и послушаешь, что тебе скажу я, ты можешь услышать кое-что интересное. К примеру, то, что благородный Теламон не думает ни о каком войске. Он же отправился на войну, чтобы умереть!
– Что-о-о?! – воскликнул эномотарх Сфер.
– Что слышал. Полемарх отправился на войну, чтобы умереть. Вместе с красавчиком, которого его старуха нагуляла, наградив муженька самыми что ни на есть ветвистыми рогами. А мы не в счет. Мы должны заткнуться и спокойно дать проткнуть себя копьями. А потом лечь и помереть. Это хотя бы быстрее, чем подыхать от голода.
– Неужто ты хочешь сказать, что великий Теламон…
– Ищет смерти? Да. И мальчишку за собой тянет. Правда, у Теламона все равно нет выбора. Сфер. Он пообещал эфорам, что его и маленького развратника убьют.
– Но почему, во имя любвеобильной вертихвостки Аф-родиты, он им это обещал?
Аристон проскользнул мимо, не проронив ни слова. Зачем слушать то, что он знает наизусть? И потом это выше его сил. Он к тому времени уже перестал предаваться самоистязанию, перестал добровольно подвергать себя жестоким испытаниям. Он слишком много пережил и смирился с близостью смерти. У него был почти год, чтобы привыкнуть к мысли о ней; впрочем, ему и не понадобилось столько времени. Ведь Аристон дважды чуть не отправился на тот свет и знал, как это бывает. Умирать не очень больно, такую боль можно перенести с достоинством. Жизнь уходит из тела так быстро, что чувства притупляются задолго до того, как померкнет сознание. А взамен приходит ощущение покоя. Нет, умирать не так уж невыносимо. Невыносимо жить. Жить и помнить.
В безжалостной памяти всплыли во всех подробностях долгие месяцы, протекшие со дня суда. Аристон мысленно перечислил эти месяцы. Суд состоялся на последней неделе метагейтниона. Бедромион, пианепсион, маймактерион, по-сейдон, гамелион, анфестерион, этафеболион, муничион, таргелион. Девять месяцев, показавшихся ему девятью столетиями.
Аристон с самого начала очень старался выздороветь. Он понимал, что чем скорее поправится, тем скорее прервется жизнь, которую он не желал влачить. Однако, вопреки его стараниям и мечтам, время тянулось медленно. Нет, разумеется, порезы на запястьях затянулись быстро, а о колотой ране, нанесенной Панкратом, Аристон вспоминал лишь иногда, когда у него побаливала спина. Но таинственная болезнь, точившая Аристона изнутри и выражавшаяся в приступах кровавой рвоты, упорно не желала проходить, пока Теламон не призвал на помощь жреца Аполлона Алек-сиакоса. Жрец принес жертвы, исследовал, как полагалось по обычаю, внутренности нескольких куриц и торжественно повелел, чтобы пациент поспал ночь в храме Аполлона, а затем в точности выполнил все указания бога, который явится ему во сне. Тогда Аристон наверняка вылечится. Сказав это, суровый старый идиот, прикидывавшийся очень набожным, взял плату и откланялся.
Вспомнив сейчас про это, Аристон неожиданно подумал про дядю Толстопуза. Ипполит был твердо уверен, что Вселенной правит разум, что все подчиняется неизменному естественному закону. И все же старый осел-жрец оказался прав. Совершенно прав!
Только Аристону явился во сне не дальноразящий Аполлон. Вместо него пришла божественная Артемида, девственная сестра бога. Аполлон подумал во сне, что это вполне естественно: храм – земной дом бога, а даже у самых диких племен принято, что братья и сестры могут свободно ходить друг к другу в гости. Но когда богиня склонилась над ним, Аристон закричал от ужаса, страшно закричал.
Ибо у целомудренной, прекрасной Артемиды было лицо его матери.
– Мир тебе, сын мой, – сказала она своим удивительным безмятежным голосом, который он так любил и помнил.
– Мама! -заплакал Аристон. – Я убил тебя! Я…
– Нет, – возразила она. – Смерть каждого человека предопределена с начала времен. Аристон. Ты тут ни при чем. Просто мои дни были сочтены, вот и все. И дни Тала тоже. А теперь запомни…
– Что, матушка? – воскликнул он от всего сердца. И у него оборвалось дыхание от тоски, любви и горя.
– Что ты должен простить себя, сын мой. Потому что только ты сам можешь это сделать. И никто другой. Греховность в природе людей. И способность к раскаянию – тоже. Но ты не должен придавать слишком большого значения ни тому ни другому. Человек с рыбьей кровью, не согрешивший хотя бы раз, это чудовище. Как твой предок Ипполит, в честь которого назвали твоего дорогого дядюшку. Поэтому Афро-дита и убила его, того Ипполита. А человек, упивающийся своим раскаянием, – недочеловек. Да-да, он просто кретин! Будущее принадлежит тебе, сын мой. Прости себя. И забудь. Забудь…
– Матушка! – вскричал он, но мать уже исчезла во мгле.
А утром Аристон проснулся с ясной головой. Через неделю резь в животе и рвота прошли.
Однако все остальное было просто непереносимым. Во-первых, когда он поправился настолько, что смог вернуться в гимнасий, педоном его прогнал. Аристона теперь явно считали неподходящим товарищем для спартанских мальчиков.
Тогда он отправился в палестру, чтобы упорными упражнениями преодолеть неуклюжесть и медлительность, оставшиеся после ранения. Но, явившись туда, моментально остался один, поскольку при его приближении каждый атлет взял свое копье, диск и щит, оделся и покинул гимнастический зал.
В каком-то смысле Аристону было бы легче, если бы он подвергался насилию, насмешкам или угрозам. Возмущение пробудило бы в нем ярость и упорство. Но его не преследовали. И не просто игнорировали. Его отвергали. С изощренной жестокостью. Везде, куда бы ни пришел Аристон, воцарялось молчание. Словно сама смерть вдруг появлялась в какой-нибудь харчевне, доме, на улице. Если Аристон просил вина, ему молча протягивали чашу. Но, когда он пытался заплатить и бросал хозяину железный обол, хозяин качал головой, и тусклая, тяжелая монета так и оставалась лежать на пурпурно-алом прилавке. А когда Аристон осушал большую чашу, мерзавец разбивал ее у юноши на глазах.
Только однажды на Аристона напали в открытую. Дело было в месяце гамелионе. Во время бесконечных одиноких скитаний по улицам Аристон увидел девушек, разучивавших танец в честь Диониса. Через несколько дней им предстояло участвовать в празднестве. Аристон остановился, чтобы полюбоваться на них; благодаря Фрине его сердце и ум стали очень восприимчивы к женской красоте, а эти девушки были, в основном, очень милы. С некоторой натяжкой одну-двух даже можно было назвать красавицами. Аристону, страдавшему от невыносимого одиночества, они показались нимфами и богинями.
Но вдруг какая-то девушка заметила Аристона и указала на него своим подругам. В любом другом полисе Эллады, застань юноша врасплох обнаженных девушек, они с визгом убежали бы. Но эти девушки были спартанками. Они окружили Аристона и подступали к нему, пока их красивые, юные, потные тела не оказались на расстоянии вытянутой руки от него. А тогда каждая по очереди плюнула ему в лицо.
Он вытерпел это. Он вообще многое вытерпел. Но теперь, если будет на то воля Зевса, какой-нибудь афинский копьеносец, лучник или пращник положит этому конец. Эринии прекратят преследовать его. Смерть будет для Аристона избавлением,, благословением.
Аристон тряхнул головой в шлеме, пытаясь отогнать подобные мысли. Потом заметил Орхомена, стоявшего неподалеку в мокрых от дождя доспехах, и подошел к нему. Он был единственным живым существом, которого Аристон теперь не избегал.
Орхомен не произнес никакого приветствия, лишь кивнул и вновь перевел взгляд на стены Афин. Они были так близко, что Орхомен с Аристоном могли разглядеть наверху, сквозь серебряные нити дождя, гребни их конского волоса, украшавшие шлемы афинских гоплитов.
– Трусливые собаки! – воскликнул Аристон.
– А кто тебе сказал, что храбрость – это достоинство? – возразил Орхомен.
Аристон поглядел на простого гоплита, каким теперь был Орхомен, ведь он добровольно отказался и от звания илиар-ха, и от службы в городской страже, чтобы принять участие в военном походе вместе со своим юным другом. Другом? Аристон немного подумал. Уж не от его ли кинжала – однажды ночью, в спину – приму я смерть?
– А разве нет? – спросил Аристон.
– Не всегда. Твоему отцу, настоящему, а не седобородому ослу в доспехах, возглавляющему наше войско, удалось это вдолбить в мою тупую башку. Ничто не остается неизменным. Все зависит от обстоятельств. Бывают случаи, когда трусость становится добродетелью.
– Назови хоть один, – потребовал Аристон. Орхомен поразмыслил. А потом улыбнулся: за то короткое время, пока он ходил в учениках у илота. Тал его здорово вымуштровал. К примеру, Орхомен не возмутился и не потребовал назначить его пентекостом, что соответствовало бы его прежнему званию, а спокойно воспринял, когда его разжаловали и сделали обыкновенным воином, – только улыбнулся да плечами пожал.
– Будь я поэтом Еврипидом, – сказал он, – и задумай написать шедевр к следующим Дионисийским празднествам, было бы вполне оправданно, если бы я старался спасти свой труд, сохранить его для потомков, хотя бы для этого мне пришлось спасать мое бедное, бренное тело. Или – тебе это, как спартанцу, понятней – должен был бы поплатиться честью. Обладай я подобным талантом, я бы с радостью бросил щит и бежал.
Аристон смотрел на Орхомена не отрываясь.
– И все же, – молвил он, – ты здесь… и до сих пор вел себя храбро.
Орхомен пожал плечами.
– Афиняне не такие уж страшные, – сказал он.
Глаза Аристона мрачно поблескивали на юном загорелом лице, словно голубое священное пламя.
«Придется мне тебя спровоцировать, друг мой Орхомен, – подумал он. – Уж больно противно ждать. Воюя с такими врагами, как афиняне, я, пожалуй, доживу до того, что стану геронтом. А жизнь… моя жизнь – это бремя, от которого мне хотелось бы избавиться, друг».
– Орхомен! – позвал он.
– Да, Аристон?
– Приведи мне пример инцеста, который можно было бы оправдать.
Орхомен поджал губы. На его виске набухла и забилась жилка. Но, когда он заговорил, голос звучал спокойно, сдержанно.
– Ну, например, когда виновные не знали о своем родстве. Как Иокаста и Эдип, – натянуто произнес он.
– Я не говорил «объяснить», – покачал головой Аристон. – Я сказал оправдать.
Орхомен опять надолго задумался.
– Допустим, случилась катастрофа… Наводнение… Чума. И ты с сестрой…
– С матерью, – поправил Аристон.
– Ладно. Ты с матерью – единственные жители полиса, которые уцелели. Тогда, ради сохранения рода, будет оправдано, если ты с ней ляжешь. Таких примеров в истории немало…
«Значит, разозлить тебя не удастся?» – подумал Аристон.
А вслух сказал:
– Орхомен!
– Да, Аристон?
– Почему ты до сих пор не убил меня? Ты же питаешь ко мне такую ненависть!
Орхомен уставился на юношу. Однако голос его звучал так же спокойно, как и раньше.
– Потому что ты этого хочешь, – ответил он. – Смерть будет для тебя благодеянием. Вот почему я вызвался пойти на войну. Я буду с тобой рядом. И спасу тебя, если пона– добится, тысячу раз. Чтобы ты продолжал жить. Продолжал страдать. Ты можешь придумать что-нибудь хуже?
Аристон поднял голову, поглядел на высокие афинские стены. Аттический лучник выпустил в Орхомена и Аристона стрелу. Но поскольку, победив два с лишним столетия назад скифов, которые считались лучшими в мире лучниками, эллины не переняли их технику стрельбы, ибо питали безграничное презрение ко всему варварскому, – а заключалась эта техника в том, что стреляющий целился врагу в ухо, а не в живот, как греки, – афинянин, естественно, промахнулся, и стрела упала вдалеке от Орхомена и Аристона, которые напоминали в своих блестящих от дождя доспехах величественных юных богов.
– Ну, так можешь? – повторил Орхомен.
– Нет, – покачал головой Аристон.
Той же ночью из Спарты прибыл гонец. Что он сказал Теламону – спартанцы всегда передавали важные сообщения устно, и считалось, что гонец скорее умрет под пыткой, чем выдаст тайну, – стало ясно только через три дня. Похоже, Теламон поведал о донесении только своему лоча-гою, командовавшему пятью тысячами воинов. Лочагой отдал приказ пентакосту, в подчинении у которого находились тысяча двадцать пять гоплитов, а те, в свою очередь, передали его своим эномотархам, которые объявили простым солдатам:
– Снимайте шатры! Упаковывайте снаряжение! Готовьте оружие!
Все было собрано за полчаса… И вот они молча стоят и с удивлением, дрожью и болью слушают, как трубач подает сигнал, который спартанцы всегда слышали лишь на учениях: «Отход». Им приказано отступать! Однако они недаром родились спартанцами. Без единого слова воины повернулись спиной к афинским стенам и зашагали прочь.
На обратном пути Теламон чуть не довел их до разрыва сердца. Он вел их быстрым шагом, пока они не начали падать с ног. В первый день они прошли от Афин до Элевсии, во второй – от Элевсии до Коринфа– После Коринфа следующим перевалочным пунктом был Аргос, находившийся по дороге в Спарту. Однако они не могли устроить там привал, поскольку, хотя Аргос принадлежал Пелопоннесскому полису, жители были союзниками Афин. Так что спартанцам пришлось миновать город. Но позже, днем, Теламон, видя, как измотано его войско, проявил мудрость и доброту, на которые он иногда оказывался способен. Он собрал воинов и прямо, откровенно объяснил, что стряслось.
Афинский флот под начальством Эвримедона и Софокла вторгся в Пелопоннес, захватил полуостров Пилус на западном побережье и оставил там воинов, которыми командовал афинский стратег Демосфен.
Не успел он договорить, как гоплиты повскакали с мест и принялись кричать:
– Вели выступать! Мы готовы!
Ночью они миновали Аргос и шли с удвоенной скоростью до рассвета. Затем отдохнули часок и вновь отправились в путь. И хотя расстояние от Аргоса до Спарты равнялось шестнадцати парасанкам, одному гиппикону и трем стадиям[2], они преодолели его всего за четырнадцать часов. В десять вечера они видели впереди огни Аргоса, а утром следующего дня уже входили, шатаясь от усталости, в Спарту.
В Пилус их послали не сразу, ибо Спарта уже вызвала свой флот из Корсиры. Однако Теламон напомнил эфорам о своей клятве, и его с сыном пообещали взять на борт триремы. Но, несмотря на приказание эфоров, отплытие Теламона чуть не сорвалось.
Во-первых, Теламон был гораздо выше рангом, нежели сам капитан судна, некий Бразид, который тогда был только триерархом, а впоследствии стал крупнейшим спартанским полководцем. Надо сказать, что эллины не различали рода войск. Человек мог быть навархом, а через день уже стратегом. В Афинах слово «наварх», адмирал, вообще не употреблялось, командующего флотом все равно называли полководцем. Разумеется, Бразид должен был уступить командование судном Теламону, но он твердо, хотя и вежливо, отказался это сделать, вопреки тому, что, как и все спартанцы, питал огромное уважение к старшим. Бразид понимал, что флот лакедемонян, который был еще,что называется, в пеленках, ибо его создали лишь несколько лет назад, должен сразиться с мощным флотом афинян. Мужчина возраста Теламона абсолютно ничего не смыслил в мореходстве: хуже того, он наверняка его презирал, будучи, как все знатные спартанцы, консерватором до мозга костей; они всегда презирали то, чего не видели или не делали их великие предки. Юный триерарх с горечью сознавал, что седобородый старец даже не знает морских терминов и не сможет отдавать команды. Поэтому Бразид в отчаянии воспротивился назначению Теламона, хотя знал, что по закону, обычаям, по всем правилам должен был уступить ему. Но он не знал, что Теламон был живым трупом, для которого такие мелочи, как звания и почести, уже не имели значения. Бывший стратег лишь слабо улыбнулся красивому юному триерарху. А затем с невероятным достоинством сорвал со своих доспехов регалии и швырнул их в море.
– Если хочешь, пошли меня на камбуз, – спокойно сказал он. – Я умею готовить.
Во-вторых, при виде Аристона моряки подняли страшный шум. Матросы вообще очень суеверны. Они считали, что присутствие на борту юноши, уличенного в столь жутком святотатстве, разгневает Посейдона и тот выпустит на волю все ветры на свете, вспенит трезубцем громадные волны, и их утлое суденышко разлетится в щепки, а они все потонут.
Теламон уладил это, призвав жреца, который предсказал морякам их судьбу. Или думал, что предсказал. На самом деле все уладилось благодаря Аристону. Прослышав про замысел отчима, он взял у Теламона взаймы целую мину, сказав, что собирается воздвигнуть стелу в храме Афины-всадницы, дабы она воздержалась от помощи афинянам. А на самом деле дал взятку вещуну, и мудрый старик истолковал все знаки и предзнаменования в благоприятную для Аристона сторону.
Так что они наконец пустились в путь, хотя и с задержкой на день. Однако, едва корабль отдал швартовы и си– девшие в три ряда гребцы взмахнули веслами, моряки увидели странную сцену: гоплит в полном вооружении пробежал по пристани и нырнул в море. Вынырнув на поверхность, он быстро поплыл за ними, несмотря на тяжелые доспехи. Бразид немедленно приказал гребцам остановиться.
– Такой человек мне нужен! – воскликнул он. – Бросьте ему веревку, дураки!
И они втащили Орхомена на борт корабля. Аристон тут же подошел к нему и поцеловал. Орхомен ухмыльнулся, глядя на юношу.
– Я за тобой в огонь и в воду, ослик в доспехах! – сказал бывший илиарх.
– Ты по-прежнему считаешь афинян трусливыми собаками? – спросил Орхомен.
Аристон посмотрел на него и перевел взгляд на море. Вопрос не требовал ответа. Ведь все пошло наперекосяк с самого начала. И теперь уже не оставалось никакой надежды.
Когда на сорока трех триремах под предводительством наварха Фразимелида они величественно вплывали в бухту Буфрас, это казалось увеселительной прогулкой. Будто слона послали прибить муху. Но на полуострове Пилус афинян, которыми командовал Демосфен, было в десять, двадцать, даже в пятьдесят раз больше. Они выстроились на берегу одного-единственного узкого пролива, по которому могли подойти к берегу лодки с трирем, и лакедемоняне не сумели высадить на берег столько гоплитов, сколько требовалось, чтобы чувствовать себя на равных с афинянами. А те сражались, словно загнанные в угол львы.
Бразид в первый же час упал, обливаясь кровью: ему нанесли целую дюжину ран. Когда он падал, у него вырвали щит, и лакедемоняне сразу приуныли. Впервые в их истории афиняне отобрали щит у живого спартанца!
Аристон не видел ни первой атаки, ни двух других, столь же безуспешных. Они с Орхоменом оказались среди четырехсот двадцати воинов во главе с лочагоем Эпитадом и его помощником пентекостом Иппагретом, которым выпал жребий захватывать остров Сфактерия. Эта операция затевалась, чтобы защитить спартанский флот, дабы он не оказался в бухте как в мышеловке, когда появятся афинские корабли. А они наверняка должны были появиться с минуты на минуту, поскольку Демосфену удалось провести две из пяти трирем мимо спартанских судов и вывести их в открытое море.
Теламона в числе отобранных не оказалось, но он просил даровать ему право сопровождать сына в самоубийственной миссии по удержанию абсолютно незащищенного острова. Не отличаясь особой прозорливостью в быту, Теламон в военном деле был совсем не так глуп, как считали окружающие. Ему не хватало лишь воображения. Однако местность он всегда оценивал превосходно. Теламон сразу сообразил, что ни четыреста двадцать человек, ни четыреста двадцать тысяч – если бы удалось разместить столько народу на каменистом островке длиной не больше двадцати стадий и шириной не больше пяти, причем в самом широком месте, – не смогут воспрепятствовать продвижению афинских трирем. Спартанцы остановили бы врагов, лишь полностью перегородив своими судами оба входа в бухту Буфрас: узкий пролив на севере между Сфактерией и Пилусом и широкий цроход между южным берегом Сфактерии и материком. Таким образом они лишили бы афинян их главного преимущества – свободы маневра.
– Если этого не сделать, – сказал он по секрету Аристону (отказавшись от своего звания, Теламон тщательно остерегался отдавать приказания и выступать в роли советчика) , – у спартанского флота нет ни малейшей надежды.
И дело было не в том, считал Теламон, что спартанцы утратили свою знаменитую храбрость. И не в численном превосходстве противника, ведь весь афинский флот, вместе взятый, насчитывал пятьдесят кораблей. Просто спартанцы были пехотинцами, а афиняне – моряками, и никакая храбрость не в состоянии восполнить недостаток умения, когда приходится сражаться с решительно настроенным противником в его родной стихии.
«Теламон совершенно прав, – думал Аристон. – Эври-медон за один день выгнал нас из открытого моря, и теперь афиняне свободны, а мы в осаде».
– Ты думаешь, из этого перемирия что-нибудь выйдет? – спросил он Орхомена.
– Нет, – покачал головой Орхомен.
– Почему? – спросил Аристон.
– Потому что в Афинах власть в руках народа. Один из правителей Афин – кожевник по имени Клеон. А что делаем мы, завоевав какой-нибудь полис? Свергаем власть демоса и устанавливаем правление олигархов. Мы реакционеры по природе, мой мальчик. Так что потные, провонявшие чесноком толпы афинян вряд ли проявят к нам милосердие… Слушай, ты этих еще сегодня не видел?
Орхомен имел в виду илотов, которые привозили спартанцам на своих утлых суденышках сыр, хлеб и вино с материка. За определенную мзду. В обмен они получали свободу. Прежде чем отдать скудные запасы провизии, спасавшие гарнизон Сфактерии от голодной смерти, илоты требовали, чтобы спартанцы подписали бумагу об их освобождении. Но афиняне наловчились пробивать лодки илотов своими тридцативесельными триаконтами или пятидесятивесельными пентеконтами, легкими быстрыми судами, которые стремительно неслись по волнам. Поэтому илотам приходилось плыть под водой, таща за собой шкуры, наполненные смесью мака, меда и льняного семени.
Конечно, теперь, после страшного поражения, которое афиняне нанесли спартанскому флоту, спартанцам больше не нужно было тайком привозить себе пищу. В условиях перемирия специально обговаривалось, что лакедемонянам будет позволено ежедневно поставлять освобожденному гарнизону острова две меры овса, одну пинту вина и кусок мяса для каждого солдата; илоты получали половину дневного рациона спартанского воина.
– И ради такого скудного обеда мы отдали им шестьдесят кораблей! – вздохнул Аристон.
– Не отдали, а торжественно передали. В знак доверия, – насмешливо поправил Орхомен. – Пока наши послы не вернутся из Афин и не возвестят, что война либо окончена, либо…
– Либо нет. Ты думаешь, они тогда отдадут корабли обратно? – спросил Аристон.
– Нет, – покачал головой Орхомен. – Поэтому я и убедил Иппагрета не мешать илотам привозить нам провизию. Она еще пригодится, Аристон. Я знаю афинян!
Он оказался прав. Точно так же, как Теламон, когда он рассуждал об опасности, грозящей флоту. Демагог Клеон обрушился на спартанских послов и потребовал вернуть земли, которые уже больше ста лет не принадлежали Афинам. Так что послы вернулись с пустыми руками. Война продолжалась. Осада возобновилась, причем враги стали еще более жестокими и бдительными. Только одному илоту из десяти теперь удавалось довезти продукты до острова.
При этом афиняне отказались вернуть корабли.
– Я же тебе говорил! – напомнил Аристону Орхомен. – Никогда не доверяй грекам, мой мальчик.
– Грекам? – переспросил Аристон. – Кто такие греки, Орхомен?
– Большей частью ионийцы и эолийцы. Когда они впервые явились в Элладу, местные жители уговорили их поклоняться Гекате. А поскольку ее звали Серой Богиней, Grai, эолийцы назвали себя Graikoi, греками. То же сделали и ионийцы, нынешние афиняне. Они поклоняются ведьме и зовутся греками. Греки славятся лицемерием, бесчестным поведением в бою и вообще лживостью. Забавно, но ита-лийцы всех нас величают греками. Так что теперь никто не может вдолбить в их глупые головы, что мы тут далеко не все поклоняемся Крону. Они даже называют Элладу Грецией, идиоты!
– Ясно, – сказал Аристон. – Но что же нам теперь делать, Орхомен?
– Умирать с голоду, – сказал Орхомен.
И они действительно чуть не умерли. Осада продолжалась. Спартанцы прибыли на остров в таргелионе. Теперь уже кончился скирофорион и начался гекатомбион. Стояла давящая жара, в воздухе словно растекалась расплавленная медь. Низкие деревья и кусты, которыми порос остров, были сухими, будто трут.
Утром на семидесятый день пребывания спартанцев на острове небо с южной стороны вдруг почернело от дыма, и на нем заплясали языки пламени.
– Ты думаешь, до нас дойдет пожар? – с тревогой спросил Аристон.
– Нет. Однако я знаю, кто это устроил. Знаю так же твердо, как то, что Аид – владыка Тартара, – ответил Орхомен.
– Ты думаешь, афиняне? – удивился Аристон. – Но зачем? Им же известно, что здесь, возле нашего лагеря, кусты не растут. Так что вряд ли они надеются выкурить нас отсюда подобным способом.
– Конечно, но ты когда-нибудь видел более простой и изящный способ начать лобовую атаку. Аристон? Если вон там, на горизонте, не паруса, а что-то другое, то, значит, я ослеп. Пожалуй, нам с тобой лучше отсюда уйти, пойдем к высокой скале на севере острова. И… клянусь фаллосом Приапа! Ну надо же! Какое жуткое, страшное невезение!
– Ты о чем? -г не понял Аристон.
– Эпитад и Иппагрет отправились на разведку. Тебе известно, кто остался тут командиром, Аристон? Известно?
– Мой отчим Теламон, – сказал Аристон.
– Его ведь невозможно ни в чем убедить! Клянусь хромым Гефестом, покровителем всех тупиц, он только фырк-нет и…
– И все же ты должен попытаться, – сказал Аристон. – Твой святой долг – предупредить его об опасности.
– Ха! Думаешь, он меня послушает? Простого гоплита? Да и потом, он знает отца. А стало быть, для него, скорее всего, не секрет, что отец устроил меня, используя свои связи, в городскую стражу, поскольку хотел сохранить мою драгоценную шкуру. Я ведь тоже единственное чадо. И прослужил я в городской страже целых десять лет, с семнадцати до двадцати семи. А это, на взгляд благородного Теламона, равносильно трусости.
– А на твой? – спросил Аристон.
– На мой – это признак ума. Хотя, возможно и то и другое – все едино. Я не знаю. Лучше бы ты его предупредил, Аристон.
– Я? Не забывай, все считают, что я наставил ему рога.
Переспал с его женой. С моей… с моей собственной матерью, Орхомен. И он…
– …выслушает тебя, потому что любит. Я уверен, он относится к тебе как к сыну. Что же до этих чудовищных домыслов, то любой, кто провел бы в обществе твоей матушки хоть пять минут, никогда бы этому не поверил. А он прожил с ней двадцать семь лет. Аристон. Почему я говорю так уверенно? Да потому что в последние недели перед ее гибелью я несколько раз беседовал с ней в присутствии Тала. И знаю, что она не способна на такое, несмотря на уверения двадцати тысяч Арисб! Я даже знаю, что и ты не способен на подобную низость. Хотя это не меняет в наших отношениях ровным счетом ничего. Я ведь одновременно и эл-лин, и спартанец. А по нашим законам, мужчина, который пренебрегает своим святым долгом и не мстит за погибшего, это не мужчина.
– Не забывай, он был моим отцом, – напомнил Аристон.
– И моим наставником, что гораздо важнее. Ты убил его… или, если хочешьбыть буквалистом, вызвал его смерть. Как ни рассуждай, твоя потеря была невелика, ибо ты не знал Тала. Моя же огромна. Ты отрезал мне путь к красоте, мудрости, знаниям, философии, любви, к истинной духовной любви, а не к вонючему плотскому вожделению. Я ведь привык думать, хотя это больно, Аристон! Так что мне уже никогда не стать прежним. Даже в минуту страшного отчаяния во мне сохранилось достаточно сообразительности, которой научил меня он. И я не убил тебя. Я вспомнил, как Тал говорил, что не смерть, а жизнь – наказание. Так что живи, отцеубийца! Живи и помни. Ну а сейчас поверни свою мордашку, мой дорогой ослик в доспехах, к седобородому ослу, с которым вас роднит хотя бы ваше презрение к доводам разума, и предупреди его, что, если мы не укроемся на скале на северной стороне острова, афиняне еще до завтрашнего рассвета бросят наши трупы на поживу воронам. Тела-мону-то это на руку, он ведь пообещал эфорам, что не выйдет живым из первой же схватки. Да и насчет тебя все вроде бы уладится: в конце концов, ты виновен в убийстве собственного отца! Однако я намерен помешать Теламону, мой мальчик! А что касается всех остальных, то пусть забе– рут меня Гадес и Персефона, если у стратега есть хоть малейшее право отправить нас на кровавую бойню во искупление твоего греха…тем более того, в котором ты неповинен. Так что бери ноги в руки, маленький ослик в доспехах, и – вперед!
Аристон улыбнулся:
– Ты все правильно сказал. Только пойдем со мной. Я заведу разговор, а ты будешь меня поддерживать. Сделай это ради твоего же блага! Помоги мне немножко, хорошо, Орхомен? Я так боюсь Теламона, что у меня все вылетит из головы, и…
– Ну, ладно, – согласился Орхомен.
Теламон спокойно и внимательно выслушал их. Дело в том, что Орхомен вмешался в разговор, не дожидаясь, пока Аристон все испортит своим невнятным бормотанием и неубедительными доводами. Орхомен говорил горячо, даже страстно. Теламон долго, не торопясь разглядывал высокую стену дыма и пламени, надвигавшуюся на них. Его обуревали сложные, горькие чувства. Прежде всего, ни исход войны, ни судьба окружающих и даже любимой Спарты уже не волновали Теламона. Вдобавок он был разъярен тем, что ему приходится принимать решение, от которого будет зависеть жизнь стольких людей, а между тем у него нет на это полномочий, ведь более молодые воины передали ему командование просто из вежливости, из уважения к его сединам. И третьим обстоятельством, смущавшим Теламона, было то, что, если он примет неправильное решение, эта ошибка навеки подорвет его репутацию, даже если к тому времени его уже не будет в живых. А, кроме репутации удачливого полководца, у Теламона ничего не осталось. Он взвесил все «за» и «против» и подумал, что лучше уклониться от принятия решения. Лучше предоставить это богам. Теламон поднял голову и громко произнес:
– Позовите жреца!
Аристон взглянул на Орхомена. Бывший илиарх дрожал мелкой дрожью. На глазах у него выступили слезы. Но Аристон сразу понял, что Орхомен с трудом сдерживает смех, за которым скрывается жуткая ярость.
Аристон тронул его за руку.
– Можно нам удалиться, ore… мой командир? – спросил он.
– Конечно-конечно, – сказал Теламон. – Кстати, что такое с твоим другом? Говори, гоплит! Что с тобой происходит?
– М-м… потроха вдруг заболели, великий стратег, – вымолвил Орхомен с постной миной. – Пройдет!
– Особенно если ты неделю воздержишься от вина, – посоветовал Теламон.
– Береги здоровье, солдат! Мне сейчас больные ни к чему. Можете идти, оба!
– Орхомен! – воскликнул Аристон. – Неужели обязательно было так говорить?.. «Потроха заболели…» Как раз в тот момент, когда он послал за…
– Жрецом. Предсказателем. А точнее, за тем, кто копается в потрохах. Выходит, теперь жизнь нескольких сотен людей зависит от того, что какой-то старый болван разглядит в куриных потрохах?! О Аристон, Аристон! Это все Аристофан, а не Еврипид или Софокл… Жизнь – непристойный фарс, а вовсе не трагедия! Значит, нам теперь надо спокойно ждать, пока седобородый осел в доспехах и напыщенный идиот покопаются в скользких кишках белоснежного петуха? А затем, во исполнение воли богов, явленной в чудесных знамениях, – я прямо слышу, как ухает афинская сова! – мы сядем и будем дожидаться своей кончины?!
– Может, и нет, – сказал Аристон. – Может, он решит, что знаки не благоприятствуют…
– Нет, Аристон. Прекрасный Аристон. Прекрасный, прекрасный отцеубийца! Боги обожают кровь. Неужели ты этого до сих пор не понял?
– Я больше не верю в богов, – сказал Аристон.
– Я тоже. Но нечто, некая сила все равно обожает кровь. Боль – самый главный принцип существования Вселенной. Второй принцип – страх. Похоть – третий. За ней идут сумасшествие и смерть. Разве ты не доказал это, к вящему своему удовольствию? К моему, по крайней мере, доказал. А коли так, то да здравствует мудрость, чудесным образом заключенная в куриных потрохах! О кишки священного петуха, способные вышибить дух из четырехсот мужчин! Почему…
– Ты не прав, – сказал Аристон. – Ведь…
– Ты так думаешь? – перебил его Орхомен. – Ну, ничего, погоди!
И Орхомен не ошибся. Теламон действительно приказал им оставаться на месте. Он сделал это под предлогом защиты колодца, единственного источника питьевой воды на острове. Сей совет дал ему знаток куриных потрохов. Так что теперь, что бы ни случилось, благородный Теламон мог свалить свою неудачу на богов.
Разумеется, исход войны не зависел от того, сразу они уйдут с острова или нет. На самом деле заминка, вызванная предрассудками Теламона, не оказала никакого влияния на сражение, завязавшееся на Сфактерии. Вполне естественно, афинский военачальник Демосфен быстро подтянул войска к острову, воспользовавшись дымовой завесой и тем, что боги устранили на его пути все препятствия, – ибо пожар начался совершенно случайно, от искры, вылетевшей из костра афинян, когда они готовили походную еду. Демосфен ужасно боялся сражаться в зарослях кустарника или в лесу, поскольку однажды на северо-западе Этолии спартанцы наголову разбили его войско в лесной чаще. Расчистив себе путь, он приготовился немедленно выступить.
Однако в самый последний момент выступление задержалось из-за приезда кожевника Клеона, которому стратег Никий передал командование войском. Стратег желал заткнуть болтуну рот. Клеон хвастался, что, возглавив армию, он за двадцать дней захватит Пилус и Сфактерию и вернется обратно в Афины.
Поэтому чопорный аристократ Никий снял с себя регалии и протянул их кожевнику.
– Сделай, если умеешь, – сказал он.
Клеон на протяжении всего заседания экклесии пытался уклониться от петли, в которую сам добровольно засунул голову. Но, поняв, что отвертеться не удастся и народ с явным наслаждением ждет его позора, он вдруг изъяв!:! ч готовность и с удивительной охотой принял на себя коман дование флотом. Теперь он прибыл на место, и Демосфен, знаток своего дела, совсем приуныл… но затем хитроумный Клеон прямо заявил ему, что не собирается вмешиваться в дела, в которых он чувствует себя полнейшим профаном. Он, Клеон, с удовольствием возьмет на себя переговоры и все такое прочее, а такой гадостью, как война, в результате которой можно погибнуть, пусть занимается Демосфен!
Так что атаки, о которой Аристон и Орхомен предупреждали Теламона, в тот день не было. И на следующий тоже, поскольку два афинских стратега отправили к спартанцам послов, требуя сдачи Сфактерии. Но и даже после этого они выждали еще целый день и только потом двинулись в наступление.
Тем временем Орхомен, заходясь от безудержного, горького смеха, любовался, как лочагой Эпитад и пентекост Иппагрет почтительно слушали Теламона, а бывший стратег торжественно советовал им ничего не предпринимать.
– Афиняне не перейдут в наступление, – твердил старый дуралей. – Нужно только продержаться, пока не подуют зимние ветры. Афиняне не рискнут вступать в единоборство со стихией, находясь в столь уязвимом положении. Кроме того, нужно учитывать и другие обстоятельства. Уже сейчас к спартанцам поступают донесения о том, что афиняне страдают от голода почти так же, как их враги. Конечно, афиняне могут помешать доставлять продукты на Сфак-терию, но Афины далеко, а у наших противников нет здесь возможности хранить пищу на летней жаре. Наверняка они тоже сидят на голодном пайке. В их рядах уже начались болезни. Прибытие новых кораблей только усугубит трудности, молодые люди! Послушайтесь опытного воина! Держитесь! Держитесь!
Наутро после этой речи Теламона на берег высадились восемьсот афинских лучников, столько же пращников, воины из Мессинии – целых два отряда – и все войска, стоявшие на полуострове Пилус, за исключением гарнизона крепости. Также в бой двинулись матросы с семидесяти с лишним кораблей, вплоть до гребцов с верхних и средних весел трирем (на кораблях остался только один ряд весел). Они уничтожили спартанский дозор на южной оконечности острова, перерезав тридцать человек, которые повскакали полуголыми с постелей, хватаясь за мечи.
Но, несмотря на это, спартанские воины, в основном располагавшиеся в центре острова, где находился колодец с питьевой водой, выступили стройными рядами против афинян, не сомневаясь, что им удастся, как обычно, сбросить врагов в море. Спартанцы были отнюдь не так глупы, как может показаться. Дело в том, что на Сфактерии численное превосходство ничего не значило. Остров напоминал своими очертаниями длинный, костлявый палец и, казалось, был создан для того, чтобы грешники не забывали о Тартаре. Численное превосходство, как правило, позволяет командиру сделать две вещи: обойти противника с флангов, в результате чего его можно окружить, разгромить или смять врага, ударив в центр. В редких случаях, когда перевес очень большой, удается сделать и то и другое одновременно. Но на Сфактерии окружить спартанцев можно было только вплавь, ибо море защищало оба их фланга. А пробить линию обороны лакедемонян в центре не сумел еще ни один полководец. Вдобавок на таком узком пространстве афиняне могли бросать в бой ограниченное число воинов – ровно столько, сколько спартанские копьеносцы могли без труда стереть в порошок.
Лакедемоняне рассчитывали на то, что, неся такие потери, афиняне – никто не герой, свидетели тому – великие боги! – оставят попытки выбить их с острова. Однако они не учли одного обстоятельства. Им противостоял Демосфен, который не только отличался недюжинным умом, но и много лет подряд воевал со спартанцами.
Великий стратег прекрасно знал, что никакие воины не в силах одолеть спартанских гоплитов. Но зачем пытаться их одолеть? Почему бы не воспользоваться особенностями местности и не прибегнуть к помощи лучников, которые могут поражать врагов издалека? Это займет больше времени, но Демосфен не торопился. И вообще, полководцы напрасно пренебрегают легковооруженными войсками. Будущее, считал Демосфен, за ними. Зачем губить прекрасных солдат, отправляя их крушить врага, который будет отвечать им тем же, когда можно безнаказанно убивать его с расстояния в пятьдесят ярдов?
Так что в середине дня Аристон уже клокотал от ярости.
– Собаки! Трусливые собаки! Как они подло сражаются!
– Неужели? – спокойно произнес Орхомен, отирая со лба кровь и пот. – А я считаю их способ прекрасным, Аристон. Ум всегда прекрасен. Они хотят нас победить, правда? Ну вот они и добиваются своего!
– Но каким бесчестным путем! – всхлипнул юноша. – Они ни разу не сразились с нами врукопашную! Их гоплиты стоят в тяжелых доспехах, опустив оружие, и ухмыляются, глядя, как копьеносцы, лучники и пращники перебивают нас тут поодиночке! А когда мы нападаем на этих мошек, не прикрытых доспехами, они…
– Весело и резво разбегаются и ждут, пока мы не выбьемся из сил, таща на себе груду ненужного железа. И тут же начинают дырявить нас снова. Прекрасно! Одним словом, вместо того чтобы драться, как ослы в доспехах, они воюют, как люди. Пользуются умом, которым наградили их боги… если они, конечно, существуют. А у нас есть только копыта да уздечка. Смотри! Похоже, до нашего военачальника наконец-то дошло! Трубят отход!
– Это не наш командир, – сказал Аристон. – Эпитад… погиб, Орхомен. А Иппагрет так тяжело ранен, что нам придется оставить его здесь, если мы будем отступать в крепость. Мне сказал это отчим, я ходил к нему недавно, и…
– Теламон командует войсками?! – прошептал Орхомен. – Помогите нам, о милосердные боги!
– Нет, он не командует, – покачал головой Аристон. – Он отказался. Сказал, что слишком стар, и потом из-за его глупого совета спартанцы и так уже хлебнули горя. Поэтому назначили человека по имени Стифон. Он давно служит эномотархом, так что можешь не беспокоиться, друг.
Лакедемоняне сомкнули ряды и двинулись на север. Воины, шедшие позади, старались, по возможности, отбивать атаки легковооруженных афинян. Однако это не помогало. Спартанцы шли под раскаленным солнцем, ослепнув от пыли, пота и пепла, в который превратился сожженный кустарник, шли, умирая от неистовой жажды, страдая от ран, и всю дорогу убийственный дождь стрел и камней не прекращался ни на мгновение.
Уже показалась высокая скала, на которой стояла крепость. Но никто не верил, что удастся до нее добраться. Ибо по мере того, как силы покидали спартанцев и их движения становились все более неуклюжими и медлительными, легковооруженные противники начали осознавать, что лакедемоняне – обыкновенные люди. А посему пращники, копьеносцы и лучники уже подбирались к ним довольно близко. В те времена спартанские доспехи делались из плотной ткани, а не из дубленой кожи, как впоследствии. Вдобавок, презирая врагов, лакедемоняне оставили дома свои нагрудники: сочли, что на такой жаре они будут только в тягость. И теперь стрелы афинян пробивали тряпичные доспехи, словно их вообще не было; дротики спокойно вонзались в тела спартанцев и застревали в ранах.
Аристон схватил свинцовое ядро, угодившее в его щит. Оно вылетело из пращи с такой силой, что на щите осталась вмятина. Неподалеку от Аристона снаряд из пращи попал гоплиту в лоб, прямо под шлемом. Воин рухнул как подкошенный и умер, не успев коснуться земли.
Но больше всего спартанцам доставалось от лучников, которые на деле доказали, что они весьма опасные противники.
Однако Стифон и спартанцы все равно карабкались на гору. Там их должны были встретить и поддержать тридцать свежих, неизмотанных воинов, а с фланга спартанцы оказались бы прикрыты старой Стеной Циклопа и, избавившись от лучников, которые приставали к ним, словно назойливые мухи, благополучно отразили бы нападение афинских гоплитов.
Так они, по крайней мере, думали. Однако они забыли, что мессенийцы, союзники афинян, знали эту часть Пело-поннесского побережья гораздо лучше спартанцев. Стоя на горе и мрачно, самонадеянно глядя на афинских гоплитов, карабкавшихся следом за ними, спартанцы не обратили внимания на хмурые, неприступные скалы у себя за спиной. Они были уверены, что никто, даже муха не взлетит на такую высоту. Зевс, отгоняющий мух, тому свидетель!
Поэтому, когда первый воин метнул копье в незащищенные спины лакедемонян, они не сразу поверили. Тем не менее мессенийцы были там: объехав остров на лодках, они высадились на берег и с издевательской легкостью влезли на неприступные скалы. Спартанцам пришлось повернуться к ним лицом, и афиняне, разумеется, взяли приступом гору.
Это была настоящая бойня. Аристон видел, как отчим упал навзничь, из его горла торчала украшенная перьями стрела. Юноша в два прыжка оказался возле Теламона, но не успел даже вытащить стрелу из раны: на него сразу навалились афиняне.
Аристон сражался над трупом отчима, словно раненый лев. Остальные спартанцы тоже не допускали мысли о сдаче в плен. Но через некоторое время эту мысль пришлось допустить. Хитроумный Клеон понимал, что живые спартанские пленники горазда ценнее мертвецов. Во-первых, их можно провести в цепях по улицам Афин, чтобы нанести презренному Никию удар, от которого он никогда в жизни не оправится. Во-вторых, за пленников можно потребовать выкуп золотом. Это выгодно и с точки зрения наживы, и как предупреждение против дальнейших посягательств Лакони-ки на Афины. Если спартанцы будут знать, что их благородные сыновья могут повиснуть вниз головой, с выпущенными кишками, на афинских стенах, они хорошенько подумают, прежде чем идти в атаку.
Поэтому афинский трубач неожиданно подал сигнал к отступлению, и победоносные афинские гоплиты отошли, оставив в полном недоумении оглушенных, измотанных, истекающих кровью, полумертвых врагов. Но через мгновение из афинских рядов вышел глашатай, который объявил, что спартанцам будет сохранена жизнь и обеспечено хорошее обращение, если они проявят мудрость и сложат оружие.
Лакедемоняне переглянулись. Они были, конечно, спартанцами, но и людьми тоже. Причем в основном молодыми, еще полными сил и горячего, страстного желания жить. Поэтому они побросали свои щиты и подняли руки.
Все, кроме одного – Аристона, сына Тала, который от горя и боли вдруг стал настоящим спартанцем. Единствен– ный из всех, он прикрылся щитом, взмахнул мечом и пошел на афинян.
Враги смотрели на него с восторгом и сожалением. В следующее мгновение они должны были его убить, но поступок юноши был великолепен, афиняне это признавали. Но затем они увидели другого спартанца, он шел вслед за первым. Только этот спартанец бросил свой шлем, щит, копье и меч. Не отягощаемый ничем, кроме матерчатых доспехов и наколенников, он быстро догонял тяжеловооруженного юношу. Примерно на полпути они сравнялись. Афиняне увидели, как второй лакедемонянин вытянул руку и дотронулся до шлема, защищавшего голову юноши. Сильный рывок – и шлем оказался у него в руках.
Аристон ощутил, как прохладный, ласковый ветерок вдруг освежил его мокрые от пота, темно-золотистые волосы. Он остановился и обернулся. Сзади стоял Орхомен. Он ухмылялся и держал шлем в руках.
– Прекрасный дуралей, мой обожаемый враг, – промурлыкал Орхомен. – Я дарую тебе жизнь!
И с размаху огрел Аристона по голове тяжелым бронзовым шлемом.
Глава X
Оттуда, где он стоял, изо всех сил натягивая цепи, которыми его приковали к переборке, – он надеялся, что эта боль заглушит другую, разрывавшую душу, – Аристон мог смотреть вдаль. Ему вдвойне повезло. Во-первых, Клеон, сознавая всю ценность пленников, приказал поместить их на баке, а не в трюме, где несчастные видели бы лишь ноги гребцов, сидевших на скамьях над ними. А во-вторых, благодаря своей красоте и тому восхищению, которое вызвал у врагов его последний самоубийственный поступок, Аристона поместили в самом удобном месте, где он мог не только смотреть по сторонам, но и дышать свежим воздухом, пропитанным морской солью.
Так что теперь Аристон висел на цепях, раскачиваясь вместе со скрипящей посудиной, и глядел, как весла мчат ее по морю. Зрелище было завораживающим: длинные весла вгрызались в синюю воду, потом взлетали вверх, ослепительно сияли, сверкали серебром, проносились плашмя, уходили вперед, опускались и снова вгрызались в воду. Три ряда гребцов махали длинными широколопастными веслами очень слаженно, в унисон. И неспроста, ведь афиняне доверяли весла лишь свободным гражданам, а не рабам. Поэтому гребцы относились к своему делу с гордостью, и изящество, проворство афинских судов резко контрастировало с неуклюжестью спартанских кораблей.
«Так, значит, – подумал Аристон, – гордость – это самое главное свойство человеческой натуры?»
Над головой юноши, чуть позади, трепетал надутый, словно бурдюк с вином, треугольный парус. Ветер дул почти прямо в корму. Даже в этом боги, в которых он уже не верил, покровительствовали афинянам. Крутой нос триремы, пропарывавший темную воду, оставлял перья белоснежной пены. Идя на такой скорости, они уже завтра на закате увидят порт Пирей. А дальше что?
Этот вопрос неотступно преследовал каждого пленника, прикованного к палубе афинского военного корабля, пока не продолбил им голову, словно молот келеуста, весельного мастера. Спартанские пленники начали проявлять черты характера, за которые их ненавидели по всей Элладе. Дома спартанцы вели себя скромно, с достоинством, даже благородно. Это восхищало заезжих гостей, считавших сынов Спарты какими-то особыми людьми. Однако едва спартанец оказывался вырванным из привычной обстановки, эти качества исчезали словно по волшебству, и он вмиг становился жадным, противным хамом, для которого нет ничего святого.
И хотя среди двухсот девяноста двух пленников был только сто двадцать один спартанец, а остальные илоты, которых заставляли служить оруженосцами и помогать хозяевам в бою, а также несколько легковооруженных периэ-ков, не успевших удрать с поля боя, спартанцев казалось вдвое больше: так громко они стенали. Теперь, отдохнув, отъевшись и предаваясь вынужденному безделью, а стало быть, имея время подумать, они начали постепенно осознавать всю глубину своего позора. И, как часто бывает с людьми, которым понятно, что их поведение отнюдь не безупречно, они начали искать оправдания и вспоминали войну во всех подробностях, пытаясь найти причины – внешние, конечно, не имевшие отношения к их драгоценному «я», – своего поражения.
– Надо было оставить собак-илотов на кораблях и взять побольше людей! – прорычал один из пентекостов. – Будь у нас побольше воинов, мы бы с честью…
Однако существуют два места на земле, где люди абсолютно равны. Это могила и плен.
– С честью? – вдруг расхохотался илот, прекрасно зная, что его хозяин тоже прикован к переборке"и не сможет заткнуть ему рот. – Разве у спартанцев есть честь, господа мои? Орест, первый из ваших царей, убил собственную мать за то, что она наставила рога своему мужу Агамемнону, а потом и вовсе его прикончила. А вы проиграли битву, потому что среди вас есть фармакос…
– Ах ты, собака! – взревел пентекост. – Да я тебя…
– Ничего ты мне не сделаешь, ты тоже в кандалах! – сказал илот. – Но коли уж вам так нужно объяснение вашей злой судьбы, то вот оно! Видите вон того хорошенького маленького педераста? Миленького развратничка, которого любовник огрел по башке, чтобы спасти ему жизнь? Он тоже вел себя с честью, да? И даже пытался в конце напасть на афинян. О, мои господа! Спартанская честь! Спартанская храбрость! Вот вам пример. Он ведь смел, как лев, не так ли?
Теперь все спартанцы глядели на Аристона.
– На что ты намекаешь, собака? – спросил пентекост.
– Я был с ним на триреме великого Бразида. И знаю, что команда взбунтовалась, когда он ступал на борт корабля. Ведь он стал затычкой тому самому отверстию, из которого когда-то вылез на свет…
– Заткнись, собака! – вскричал Орхомен.
– Ха! – усмехнулся илот. – Любовничек! Ах ты, благородный развратник! Скажи, педераст, как ты до этого докатился? У нас мужчины обычно ложатся с женщинами. А тебе не важно! спереди или сзади – все едино, о благородный поклонник самого низкого из пороков! Но только не говорите мне о чести, господа мои! Ведь вы любите мальчиков, а ваш единственный герой, не опозорившийся на Сфактерии, осужден за инцест… какое милое, благозвучное слово… а значит лишь то, что его застукали, когда он брю-хатил собственную мать… За что и был осужден судом эфоров!
– Он лжет! – хрипло выкрикнул Орхомен, но его голос сорвался.
– Златокудрый юноша, по которому, наверняка, сохли все наши любители мальчиков, ты знал когда-нибудь женщину? – спросил один из спартанцев, стоявших неподалеку от Аристона.
– Да, – кивнул Аристон.
– А… обвиняли ли тебя в суде эфоров? Говори, юноша. Мне нравится твое лицо. Только скажи, что этот грязный клеветник, этот пес лжет, и он не доедет живым до Афин, обещаю тебе. Ты действительно обвинялся в столь кощунственном преступлении.
– Да, – сказал Аристон.
– Но он невиновен! – вставил Орхомен. – Клянусь…
– Спросите его, что постановил суд, – сказал илот.
Так что у спартанцев наконец нашлось оправдание. Боги хотели их поражения, ибо в спартанские ряды затесался фармакос, козел отпущения. Тот, кто приносит несчастье. Существовал только один способ снять с себя проклятие богов: фармакос должен умереть.
«А я – помогите мне Зевс, Аид и Геката! – должен предотвратить это, – думал Орхомен. – Предотвратить любой ценой. Но почему? Потому что в словах грязного раба, в том, что он растрезвонил на весь свет, была доля правды? Да. И поэтому тоже. Отчасти. В значительной степени мерзавец правильно подметил. Но он понял не все. Никакие слова не могут полностью, целиком, всеобъемлюще выразить смысл понятий. Даже слово любовь. Итак, я люблю его. И при том ненавижу, хотя разве это не две стороны одной медали? В данном случае ненависть – более достойное чувство. Из-за этого хорошенького безмозглого поросенка я уже лишился блестящего будущего, пережил страшные несчастья. За это он должен жить и мучиться. Мертвые не чувствуют боли, ясно вам, болваны? Вот в чем причина! Существует двадцать тысяч разных причин, по которым – Аид забери его! – я не хочу, чтобы Аристон умирал. Потому что я люблю его, потому что ненавижу. И еще по многим другим причинам, которых я даже сам не знаю.
Так в смятении говорил себе Орхомен, слегка утешаясь тем, что пока еще время работает на него. На триреме Аристону ничто не угрожало. Но, когда их поместят в афинскую темницу, враги вряд ли будут держать их на цепи. И Аристон, с горечью думал Орхомен, наверняка не переживет первую же ночь, оказавшись в одном узилище со спартанцами. Если они правильно рассчитали скорость триремы, то корабль прибудет в Пирей на рассвете, а значит, к тому часу нужно сделать так, чтобы Аристона отделили от товарищей и поместили в отдельный каземат. Но как этого добиться? Как, во имя всех мрачных хтонических божеств?
Однако наступило утро, потом полдень, а ответ на вопрос все не приходил. Орхомен стоял в общем каземате и глядел на Аристона, который сидел, уронив на руки забинтованную голову, и не обращал внимания ни на злобные взгляды спартанцев, ни на напевный ионийский говор афинян, которые целое утро бесконечной вереницей шли в тюрьму поглазеть на невиданное зрелище: на двухсот девяносто двух спартанцев-лакедемонян, захваченных в плен! Сто двадцать один спартанец побросали щиты и остались в живых!
Наконец через час перед Орхоменом блеснул луч надежды, ибо в темницу явился сам Клеон, окруженный почитателями. Рядом шел раздосадованный Никий.
– Погляди, Никий! – пробасил кожевник. – Полюбуйся! Я привез тебе через двадцать дней, как и обещал, целую кучу спартанцев! Что ты на это скажешь, мой друг?
– Что тебе повезло, – презрительно фыркнул Никий. – Клянусь Аресом, у них жалкий вид! Не может быть, чтобы это были лучшие спартанские воины. Ты же знаешь, спартанцы не сдаются. Я думаю, что все настоящие лакедемоняне остались на поле брани и только эти жалкие трусы без стыда, без совести…
– Когда твои лучники, – подал голос из-за решетки Орхомен, – научатся издалека определять, кто достойный воин, а кто – нет, можешь считать, что ты изобрел ценнейшее оружие, великий стратег!
– Отлично сказано, спартанец! – рассмеялся Клеон. – Говорю тебе, Никий, они сражались как львы и сдались, только когда увидели, что сопротивление бесполезно. Но если тебе очень хочется полюбоваться на настоящего спартанца, то я тебе могу показать одного. Видишь вон того красивого юношу, погруженного в свои мысли?
– С повязкой на голове? – уточнил Никий.
– Совершенно верно. Он не сдался в плен, а пошел один против нас, когда его товарищи опустили щиты. А не убили мы его только потому, что… Эй, послушай! – неожиданно воскликнул кожевник, обращаясь к Орхомену. – Я вроде бы тебя помню. Это ты огрел его по голове, да?
– Да, великий стратег, – сказал Орхомен. – Он мой друг. Я не хотел, чтобы он умирал.
– Вот молодец! – покатился со смеху Клеон. – Спасибо, спартанец! Он, наверное, стоит вас всех, вместе взятых. Судя по его виду, он высокого происхождения. Может, даже сын одного из ваших царей… Ты, правда, в этом не сознаешься, лукавая собака.
– Он действительно высокородный юноша, – медленно произнес Орхомен. – Но теперь осиротел, и никто не даст за него выкуп. Его отец, один из наших благородных полемархов, пал на Сфактерии, великий Клеон.
– Выкуп?! Хо-хо! На что нам сдались ваши железные колеса от телег, спартанец? Пока в Лаконике есть люди, которым не захочется увидеть его труп, свисающий с крепостной стены, и они не будут посылать своих гоплитов в Аттику, нам и этого будет довольно! Почему… Его слова потонули в хохоте спартанцев. «Да благославит вас Зевс, дураки! – подумал Орхомен. – Безмозглые пьяницы, вы играете мне на руку!»
– О благородный Клеон, – спокойно произнес он, – юноша, да и я тоже в этом смысле не представляем для тебя интереса. Ежели вы бросите нас в темнице в одном каземате с нашими любезными соратниками, то к утру сможете лишь похоронить наши бренные останки…
Клеон удивленно посмотрел на Орхомена.
– Почему? – спросил он.
– Они считают юношу фармакосом… Думают, что остров пал из-за его святотатства, и собираются убить его сегодня ночью. А меня – за то, что я буду пытаться его спасти.
– Чепуха! – быстро затараторил Клеон. – Они ни за что…
–Ты думаешь? – прошепелявил Никий. – Только посмотри на них!
– А в каком святотатстве его обвиняют? – поинтересовался Клеон.
– Прости меня, великий стратег, – мрачно произнес Орхомен. – Но лучше я не…
– Эгей! – проревел илот. – Я скажу тебе, Кожаный Фартук! «Обвиняют» – это еще мягко сказано! Он осужден судом эфоров, приговорен к смерти! Но поскольку его папаша был геронтом и стратегом, ему разрешили взять похотливого сыночка на войну, чтобы малыша там прикончили. Так ведь оно попристойнее выглядит.
– Что выглядит, грязный язык? – пробасил Клеон.
– То, что он натворил, – осклабился илот. – Малыш у нас развратник. Сладенький светловолосенький извращенец. Наверно, ему надоело подставлять задницу, и он попытался засадить…
– Заткнись! – закричал Орхомен.
– Пусть говорит, -рассмеялся Никий. – Мне это начинает нравиться. В чем именно обвиняют прекрасного юношу? Клянусь Эросом, я никогда не видел такого красавца! Что он мог натворить?..
– Его осудили… – начал было илот.
– …за Эдипов грех, – поспешил вставить Орхомен.
– Ну, если ваш Эдип тоже спал со своей матерью, то, значит, эфоры осудили малыша за это, – сказал илот. – Голубчика застукали на месте преступления. Он пытался залезть как можно дальше туда, откуда когда-то вылез на свет. А старая сука ему помогала, не сомневайтесь! Мерзавцы до смерти замучили бедную Арисбу – нежней и милей которой на всем свете не сыщешь! – но она все равно твердила, что его мамаша и он…
Илот не успел договорить, потому что Аристон уже стоял перед ним. Движения юноши были невероятно грациозны:
красота и ловкость всегда грациозны, даже когда направлены на разрушение. Все смотрели на его руки, а он с размаху врезал илоту коленом промеж ног. Крупный, здоровый муж– чина завизжал, словно женщина. Потом скрючился, а Аристон стукнул его по загривку сомкнутыми руками. Илот грохнулся оземь. Юноша высоко подскочил и прыгнул обеими ногами на упавшего раба. И тут же на него, взревев, накинулись все лакедемоняне: спартанцы, периэки и илоты.
– Стража! – завопил Клеон. – Во имя Зевса, сейчас же позовите стражу!
– Ну, маленький Эдип, – сказал кожевник. – Как ты считаешь, что мне с тобой сделать?
Аристон не ответил. Он стоял, глядя сквозь Клеона, словно правителя Афин перед ним не было.
– Парень сумасшедший, Клеон, – сказал Никий. – Ты разве не видишь? Его бесполезно спрашивать. Я считаю, что нужно его казнить. Раз судьи так постановили, значит, он…
– Несмотря ни на что, он невиновен! – выкрикнул Орхомен. – Ты сам был судьей, великий Никий. Ты что, никогда не ошибался?
– Я ошибался сотни раз, спартанец, – спокойно ответил Никий. – Какой человек не ошибается? И все же в данном случае я не понимаю, как можно ошибиться. Такое… такое вопиющее преступление наверняка расследовалось очень тщательно… Так, по крайней мере, поступили бы мы. И для вынесения смертного приговора нужны были…
– Убедительные доказательства, – сказал Орхомен. – Они имелись. И все ложные! Но мы не могли заставить главную свидетельницу изменить показания, благородные господа. Весь ужас в том, что она не лгала. Она ошибалась, но сама верила своим словам. Вдобавок она была беотийкой. Вы когда-нибудь имели дело с беотийцами, благородные господа?
– С беотийцами? – проревел Клеон. – Упаси меня великий Зевс! Во всей Элладе не сыскать более тупоголовых скотов. Всякий раз, когда я езжу в Беотию, я стараюсь не перепутать их с коровами.
– А как ты их различаешь, Клеон? – усмехнулся Никий. – По рогам?
– О нет, глянусь Аидом! Рога есть у всех беотийцев, Никий. Их любящие жены наставляют им рога с каждым встречным и поперечным. Если ты когда-нибудь отправишься в Беотию, запомни: умный вид там только у коров. Значит, эта шлюха…
– Совершенно честно обвиняла Аристона… насколько у нее хватало мозгов. Хотя должен заметить, там не обошлось и без женской ревности… Но вы, наверно, желаете услышать все по порядку, благородные господа?
– Конечно, спартанец! – сказал Клеон.
– Его слова вполне разумны, не правда ли, Клеон? – молвил Никий.
– Согласен, – откликнулся кожевник. – Если б ты был не праздным аристократом, а трудился в поте лица, как я, Никий, ты бы научился разбираться в людях. Спартанец не лжет. Да и потом в юноше нет никакой извращенности…
сразу видно, что…
– О чем ты теперь думаешь? – резко спросил Никий.
– То, что вы, образованные люди, называете непостижимым, тоже имеет свою стоимость. Например, невинность. Непорочность. Красота… Да, теперь я знаю, что делать с мальчишкой… вернее, с обоими спартанцами, – сказал Клеон.
В том, что он сделал, проявилась вся его меркантильная сущность: Клеон привел Аристона и Орхомена в Агору, на рынок, и продал в рабство.
Аристон стоял среди рабов, выставленных на продажу, и смотрел по сторонам. Он с удивлением обнаружил, что опять способен чувствовать. Правда, сейчас им владело лишь детское, ничем не прикрытое любопытство. Воистину в мире не было города, подобного Афинам. Проведя юность в скучной, бедной обстановке, ибо аскетизм считался в Спарте достоинством, Аристон оказался совершенно неподготовленным к ошеломляющей красоте аттической столицы. Он был так потрясен, что едва прислушивался к словам Орхомена, который шутливо болтал с потрепанным, жутко уродливым афинянином, напоминающим пьяного сатира; в кошельке у него явно не было ни обола.
– А если б тебе пришлось выбирать хозяина, кого бы ты выбрал? – спросил уродливый афинянин.
– Себя! – сострил Орхомен.
– Хорошо. А если бы это не получилось? – продолжал допытываться лысый, могучий человек с лукаво поблескивавшими темными глазками.
– Тогда бы поэта Эврипида.
– Прекрасный выбор! А можно полюбопытствовать почему?
Аристон больше не слушал Орхомена и безобразного афинянина. Его внимание привлек рассказ старого, высохшего раба, который стоял с ним рядом и шепотом повторял названия всех зданий, запечатлевшихся в его памяти. Он перевел взгляд с Агоры на Керамекус, квартал горшечников, затем на черные, задымленные кузницы, расположенные у подножия горы; потом посмотрел на большой дорический храм Гефеста, бога-кузнеца, чье изображение увенчивало храм. Слева располагалась длинная крытая колоннада, украшенная фресками. Ее называли колоннадой Зевса, и жители Афин собирались там посплетничать, укрываясь от солнца и дождя. Рядом высился храм Аполлона Покровителя, чуть южнее виднелся храм Геры, а рядом, под бдительным оком богини, находился городской архив. Сзади Аристон разглядел Булевтерион, где заседал Совет Пятисот. Затем старик указал ему на круглое здание, называвшееся «фолос», в нем собирались притамеи или комитеты Совета. Каждый состоял из пятидесяти членов одной трибы, а чтобы ни одна триба не захватила власть, она правила Советом всего тридцать семь дней. Дабы граждане не могли подкупить членов притамеи и протаскивать через них нужные законы, очередность устанавливалась жребием, так что ни один из членов комитета не знал, когда он придет к власти.
«Афиняне, – с мрачным смешком сказал себе Аристон, – прекрасно знали человеческую природу!»
За деревянным, временно возведенным помостом, на котором выставили на продажу его, Орхомена и других рабов, находились две большие колоннады. На западной стороне одной из них располагался фонтан Эннеакроноса, а другой своей стороной выходил на Одено, музыкальный театр. Старый раб, с охотой рассказывавший все это Аристо– ну, показал ему на севере Агоры алтарь двенадцати богов, от которого в Аттике велся отсчет всем расстояниям.
– Чуть подальше, – сказал он Аристону, – расположена Стоа Пойкиле, «Разрисованная колоннада» с фресками Полигнота, где изображена битва при Марафоне и запечатлены лица знаменитых людей, принимавших участие в сражении: полемарха Каллимаха, Мильтиада и поэта Эсхила, причем они как живые, а вся картина выглядит так удивительно объемно, что…
Но тут в разговор встрял уродливый афинянин.
– А ты, курсе калон, прекрасный юноша, – обратился он к Аристону, – чего ты ждешь от жизни?
Аристон внимательно вгляделся в маску сатира. Зевс свидетель, мужчина был безобразен! Аристон с отвращением и презрением отвел от него свои сверкающие голубые глаза.
– Я хочу с ней распроститься, – сказал он. Безобразный афинянин улыбнулся. И внезапно его уродство странным образом исчезло. Его лукавые глазки преобразили негармоничные черты лица: по-африкански широкие и плоские нос и губы, высокие скифские или монгольские скулы, жидкую бороденку. Мужчина был прекрасен, ибо в нем жила душа, дух, даймонион.
– Это слишком легко, – ласково возразил он. – Почему бы тебе не попытаться стать ее хозяином, прекрасный юноша?
Аристон удивленно воззрился на него.
– Стать ее хозяином? Но как?
– Прими ее такой, какая она есть. Ты должен понять, что боль, ужас, страдание, горе – странно, что у такого юного человека все это есть в глазах – тоже иллюзии. Как и почести, богатство и слава. Что счастье в философии, то есть в любви к мудрости, а не в обладании ею, сын мой! Ибо мудрость как женщина: прижми ее к груди, и она окажется такой же каргой, как моя Ксантиппа, хотя – Гера и Гестия свидетельницы! – я даю ей достаточно оснований для ее гневных вспышек. Я ничего не знаю. Я лишь повитуха, как и моя мать, только я принимаю не детей, рождающихся на свет, а идеи. Скажи, почему ты хочешь умереть?
Аристон, ни слова не говоря, глядел на афинянина. На языке вертелся вопрос: во имя черного Аида, какое твое дело? Но горькие восклицания так и застыли на губах. Отчасти Аристона удержало спартанское воспитание, культивировавшее уважение к старшим. Но лишь отчасти. Почему-то Аристон почувствовал, что странному, властному мужчине есть до этого дело, что любой человеческий опыт вызывает у него интерес, участие, жалость и, может быть, даже попытку помочь. Однако, чувствуя, зная это, Аристон все равно не отвечал. Он не говорил, потому что не мог. То, что накопилось в душе, лежало слишком глубоко, за словами или слезами.
– Скажи ему! – свистящим шепотом произнес Орхо-мен. – Я тоже хочу послушать твою версию. Хотя… лучше, наверно, его предупредить… Тебе, видно, на роду написано убивать мудрецов… а он явно мудрец…
– Говори, курос калон, – повторил афинянин.
– Зачем? – спросил Аристон. – Какой от этого прок?
– Ты когда-нибудь видел, как хирург вскрывает нарыв? – спросил афинянин.
Аристон рассмеялся. Его смех льдышками рассыпался в воздухе. И сразу стало холодно.
– Тебе охота захлебнуться в гное, незнакомец? – сказал он.
– Я хороший пловец, – ответил афинянин. – Говори, сын мой.
– Прекрасно. Я внебрачный ублюдок. Я спал с родной матерью. Убил собственного отца. Я…
Он осекся. Безобразный мужчина смотрел на него, улыбаясь.
– У меня впереди целый день, златокудрый мальчик, – сказал он. – И больше терпения, чем ты можешь себе вообразить. Однако я должен предупредить тебя: только правда приносит исцеление. Тебе это когда-нибудь приходило в голову?
– Правда? – прошептал Аристон. – Что есть правда, незнакомец? Разве она существует? Разве в мире существует что-нибудь, кроме похоти и кошмара? Разве жизнь не состоит лишь из безумия, горя и боли?
– Не знаю, – сказал афинянин. – Но ведь я ничего не знаю. Скажи, курос… когда тебя вели сюда, ты проходил через Акрополь?
– Да, – кивнул Аристон.
– Неужели он не прекрасен?
– Прекрасен, – сказал Аристон.
– Но разве это не часть жизни? Я имею в виду красоту, гармонию линий, элементов, пропорций. Неужели ты никогда не встречал прекрасной девушки, с песней спускавшейся по тропинке, когда почти все деревья стоят в белом цвету?
– Да, – выдохнул Аристон. – О да!
– Ну вот и начни с этого. Расскажи мне… о ней.
И внезапно Аристон услышал откуда-то издалека голос:
– Ее звали… Фрина. И она была прекрасна, как звездная ночь. Ее походка была… музыкальной. А руки так нежны! Ее губы…
Не веря своим ушам, он понял, что это его голос!
– Продолжай, сын мой, – сказал афинянин.
И Аристон рассказал. Рассказал все. Слова, вырывавшиеся наружу, царапали, раздирали горло. Они имели вкус желчи, соли и крови. Но Аристон уже не мог остановить их поток. Он должен был выплеснуть все. Все до конца.
Афинянин не прерывал его, только повторял: «Продолжай, курос» всякий раз, как Аристон замирал, чтобы перевести дыхание.
Но когда юноша наконец завершил свою повесть, мужчина наклонил большую лысую голову и просто сказал:
– Я дурак. У меня нет ответов на это. Но, может…
– Может, что? – спросил Орхомен.
– Я задаю вопросы, но никогда не отвечаю на них. Ибо я уродливый старый дурак, который ничего не знает. Но я спрашиваю: может быть, столько страданий вместилось в такой короткий отрезок жизни, чтобы потом, в гораздо более длинный период, человек узнал огромное счастье? Разве не может он обрести любовь, самообладание, спокойствие, мир? Даже… мудрость, хотя большинству людей в этом отказано… Может, он не просто мальчик, за которым будут бегать женщины и извращенцы? Разве я не угадал в нем истинной глубины?
Затем, не дожидаясь ответа Орхомена, уродливый афинянин повернулся и пошел прочь.
– Подожди! – вскричал Орхомен, и голос его задрожал от голода и боли.
–Да?
– Купи его! – Орхомен чуть не плакал. – Купи меня! Мне ничего больше не нужно от жизни, только иметь такого хозяина!
Безобразный мужчина остановился, и на лице его появилась непритворная грусть.
– Сын мой, у меня нет ни обола, – сказал он.
– Найди богатого друга! Попроси взаймы! Я отработаю… я верну…
–Ты делаешь мне честь, сын мой, но какой богач ссудит деньги тому, кто у него как бельмо на глазу? Да еще для покупки рабов?! Они же знают, что я тут же вас обоих освобожу, ибо даже такой дурак, как я, понимает, что рабство – это позор и проклятие.
– Пожалуйста! – Орхомен теперь действительно плакал.
– Благодарю тебя за доверие, сын мой. Благодарю вас обоих. Я ухожу. Но вернусь! Больше я ничего не могу обещать. Сеять в человеческой душе призрачные надежды жестоко и подло.
Аристон наконец тоже подал голос.
– Как тебя зовут, господин? – тихо спросил он.
– По-разному, в основном довольно нелестно. Но мое имя – Сократ, каменотес, – ответил безобразный афинянин.
Однако ничего из этого не вышло. Возможно, Сократ и пытался собрать денег, чтобы купить им свободу, но он в то время еще не был таким известным человеком, каким стал впоследствии, и это затрудняло поиск кредиторов. Да и потом он бы все равно не успел. Через час Орхомена продали управляющему Никия, который пришел в восторг от его могучих мускулов и почти Геракловой стати. Дело в том, что благородный Никий сколотил приличные деньжата, давая рабов напрокат, за один обол в сутки, владельцам рудников в Лауриуме. Поэтому управляющий прекрасно понимал, что стратег оценит человека богатырского телосложения и здоровья. Это была прекрасная покупка. В день доход Никия составлял тысячу оболов, или мину и еще три четверти, а точнее, мину и семьдесят драхм. В год это равнялось восьми с лишним талантам. Что было совсем неплохо!
Но когда Орхомен попросил, чтобы управляющий купил Аристона, тот решительно покачал головой.
– Твой миленький дружок не протянет в шахте и неделю. А при нынешней дороговизне так часто менять рабов невыгодно. Но я сделаю тебе… да и ему одолжение: расскажу о нем банщику Поликсену. У Поликсена очень даже неплохо, а мальчишка такой хорошенький, что скоро заработает денег и купит себе свободу.
– Как он их может заработать? – спросил Орхомен.
– О!.. Как помощник банщика! – ответил управляющий Никия.
Глава XI
Одно плохо: они не знали, что такое 'помощник банщика, ведь спартанцы привыкли выражаться прямо, и уж грешить – так откровенно. Вероятно, Орхомен, который был на десять лет старше Аристона и имел больше жизненного опыта, а также довольно изощренный ум, сразу бы догадался о чем речь,: стоило ему только увидеть банщика Поликсена. Но этого не случилось. К тому времени бывшего илиарха спартанской городской стражи уже увели с рынка, и он направлялся на серебряные прииски, навстречу рабству и верной смерти от затяжных каждодневных мучений.
Когда же явился Поликсен – конечно, это было прозвище, которым наградили его клиенты, находя, что настоящее сирийское имя банщика совершенно непроизносимо, и желая к тому же блеснуть остроумием, ибо «поликсен» переводится как «много гостей», – Аристона сразу затошнило при виде его откровенно порочной, умильной рожи евнуха с маслеными глазками. Поликсен был далеко не глуп. Он тут же смекнул, что перед ним бесценное сокровище, и в пять минут купил Аристона, дав за него неслыханно высокую плату. Он даже не поторговался, испортив работорговцу все удовольствие… Мыслимое ли дело, целых пятьдесят мин за какого-то безбородого, смазливого юнца?! Работорговец слишком поздно понял, что мог бы запросить вдвое больше и сириец раскошелился бы, даже не пикнув.
Поликсен взял Аристона за руку.
– Пойдем, дорогой, – проворковал он. – Пойдем домой с папой Поликсеном, мой сладенький.
В тот же вечер Аристону стало понятно, что такое помощник банщика. И он предпринял вторую попытку самоубийства.
Толстый и надушенный клиент, заплативший Поликсену целых две мины за час пребывания с новым юношей, вылетел с воплями из маленькой спальни. Поликсен вбежал как раз вовремя, чтобы снять с крюка Аристона, который повесился на собственном поясе. К счастью (или к несчастью, этот как посмотреть), юноша был еще жив, хотя его прекрасное лицо приобрело неприятный синюшный оттенок.
После этого Поликсен держал его совсем голым и заламывал за час три мины. Богатые афиняне сетовали, но все равно платили.
– Ах! – ворковали и щебетали они. – Он просто очарователен! И такой… потрясающий! Такой целомудренный! Бедняжку даже жалко!
Затем Аристон попытался уморить себя голодом. Но это оказалось ему не по силам. Хитрый сириец ставил передним такие изысканные блюда, за которые сам персидский царь сделал бы его своим сатрапом. Спартанская кухня, к которой привык Аристон, была такой отвратительной, что другие эллины, потешаясь над ней, уверяли, будто именно здесь кроется разгадка спартанской храбрости: лучше умереть, чем отведать черного спартанского варева, которое подают к пиршественному столу. Но, по правде сказать всем остальным эллинам тоже нечем было похвастаться. Их пища в лучшем случае отличалась простотой. Восточные же яства, которые Поликсен выставлял перед своим драгоценным рабом, одним ароматом могли соблазнить даже святого, заставив его впасть в грех чревоугодия.
Так что Аристон ел и не умирал. И уже поэтому перестал быть спартанцем. Он больше не пытался покончить жизнь самоубийством. Теперь его утешало другое: он вбил себе в голову, что влачит столь жуткое существование по воле Эриний, карающих его за грех отцеубийства. А значит, впереди маячил пока далекий, тусклый, но все-таки лучик надежды. Аристон, как и прочие эллины, привык мыслить логически, а логика подсказывала ему, что наказание – это один из способов отпущения грехов. Может, когда-нибудь боги…
Если только они есть… И если в жизни есть хоть что-нибудь хорошее, не гнусное.
Конечно, Аристон очень страдал. Каждую ночь он узнавал все новых и новых эллинов, которых, исходя их официальной морали, не должно было существовать. Они считали своим покровителем поэта Тамира, который, согласно легенде, был первым, кто влюбился в человека своего пола. Они обожали Аполлона, первого бога, тоже поддавшегося порочной страсти, лелеяли память о спартанском царевиче Гиацинте, чья трагическая гибель была вызвана тем, что Западный Ветер и Аполлон соперничали из-за его ласк.
Испытывая какое-то новое, доселе незнакомое чувство омерзения, Аристон выслушивал их жалобы на женщин.
– Они такие… такие крикливые, разве ты не замечал? Такие неаппетитные. Их… их естественные отправления… фу! Такое скотство, такая гадость, мой дорогой! Бабы – это мешок с потрохами, всякий раз с новой луной истекающий кровью. Как плохо, что нельзя по-другому продолжить род, иначе…
Даже в тот откровенно бисексуальный век они были невыносимы. Ведь и в Афинах мужчине не позволялось заниматься исключительно мужеложством. За это его могли лишить гражданства. Разумеется, эллины считали преступлением не само мужеложство, а порицали лишь тех, кто напрочь отказывался от женщин. Боги сотворили оба пола одинаково прекрасными, и пренебрегать любым из них считалось признаком гордыни, если не хуже. Поэтому хороший гражданин мог – а в Афинах так почти всегда и получалось – обладать любыми прелестными мальчиками, если только он не оставлял вниманием свою жену, любовниц и рабынь. Конечно, некоторый перевес все-таки был на стороне консервативных граждан, которые решительно утверждали, что мужчина должен иметь дело только с женщинами. И эти старомодные чудаки производили на свет сыновей, а Афинам очень нужны были моряки и солдаты. На подобных людей утонченные афиняне смотрели свысока, как на неотесанную деревенщину. Что может быть прекрасней целомудренного, хорошо воспитанного мальчика? Прелестная девушка? Возможно. Но кому придет в голову БЕСЕДОВАТЬ с женщиной? После окончания любовных утех что общего может иметь мужчина с таким безмозглым существом?
Безусловно, именно в столь специфическом отношении к любви, характерном для эллинов, таилась истинная причина того, что Аристон не повредился в рассудке за полгода, что длилось его ужасное рабство. Человек той культуры, он, естественно, не мог воспринимать свои вынужденные занятия с таким невыразимым ужасом, с каким отнесся бы к этому юноша, родившийся в другую эпоху и воспитанный по-другому. Поэтому Аристон терпел, вспоминал Фрину, вспоминал, чувствуя, как в жилах закипает кровь, даже Арисбу, которая показала ему, какой должна быть нормальная любовь.
Он не тешил себя мыслью, что единственный способ освободиться – это напасть на одного из тех, кто покупает его ласки, ибо скопить денег из щедрых чаевых, которые давали ему богатые клиенты, все-таки было пустой мечтой. В лучшем случае его приговорили бы к медленной смерти на приисках. Однако некоторые люди бежали даже из Ла-уриума. Бунты и побеги с серебряных рудников участились в последнее время из-за того, что афинянам приходилось уменьшать число надсмотрщиков и перебрасывать их на поле брани! Под угрозу было поставлено само существование Лауриотской Совы – так называли афинские драхмы.
Аристон часто думал об Орхомене. Жив ли его враг? Прекрасно зная ум, выносливость и мужество Орхомена, он вполне допускал мысль о том, что Орхомен бежал. Но что он в таком случае предпримет дальше? Вернется в Спарту? Или будет скрываться в Аттике, чтобы…
«Отомстить за смерть своего учителя, моего отца. Мне нельзя дожидаться, пока он сюда заявится. Надо бежать… Бежать… ха-ха! Откуда, куда? Я могу, конечно, воспользоваться кинжалом, который украл у Илы, одеться в прозрачный женский хитон, что мне подарил Дейон, и удрать. Но как я выберусь из города, обнесенного со всех сторон крепо– стной стеной? В какой новой кошмар попаду? И все же надо попытаться, ибо…»
Он продолжал размышлять на эту тему, когда услышал девичье пение. Голос был невыразимо прекрасен: кристально чистый, нежный. Он звучал, словно флейта, звуки были такими прозрачными, серебристыми, что напомнили ему журчание весенних вод, стекающих по скалам в лесное озеро. Однако где-то в самой глубине таилась невыразимая печаль.
Аристона охватила дрожь. Лихорадка. Он дрожал, как человек, которого бросает то в жар, то в холод. Девушка, обладательница такого прелестного, небесного голоса, непременно должна быть красавицей! Наверняка ее улыбка и прикосновения вернут ему то, что у него крадут еженощно, ежечасно: его мужскую силу! И, забыв о своей наготе, о том, что его тело умащено благовониями, а лицо размалевано, забыв о накрашенных губах, о голубом перламутре на веках, о том, что его темно-золотистые волосы выкрашены в жуткий серебристо-пепельный цвет. Аристон припал к зарешеченному окну и выглянул на улицу.
Девушка уже прошла, но он видел, что она стройна, как ива. На ней было такое прозрачное желтое одеяние, что она казалась еще соблазнительней, чем голая. На ткани были вышиты большие подсолнухи. Это означало, что она продажная девка, порна.
И все же прелестный голос принадлежал ей. И со щемящей надеждой и состраданием подумал Аристон, вполне могло быть, что она, как и он, не виновата в своем положении.
– Девушка! – позвал он. – Подожди минутку, пожалуйста!
Она обернулась, и Аристон увидел ее лицо. Однако он не смог определить, красива она или нет. Ибо юное лицо было сильно измучено. Слишком много ей пришлось пережить. Слишком много издевательств.
Она смотрела на него, и ее лицо, бесстрастная, застывшая маска – девушка давно научилась отгонять от себя малейшую мысль, ибо мыслить значило открыть путь безумию, с острым чувством сострадания подумал Аристон, – постепенно менялось. Аристон не понимал, что таилось за этим. Девушка смотрела на него очень долго. А потом смачно плюнула на землю.
– Свинья! – сказала она и пошла прочь. Глядя на ее узкую прямую спину, разделенную посередине полосой черных волос, он наконец понял, какое выражение вспыхнуло в глубине ее мертвенно-тусклых глаз. Презрение. Шлюха, испытывающая презрение – тут его мысль яростно затрепыхалась, словно пронзенная стрелой пташка, – к другой шлюхе. К той, которая даже не может оправдаться тем, что она женщина. К шлюхе, продающейся каждую ночь существам, которых и мужчинами-то назвать нельзя!
Этого он вынести не мог. Он должен был разыскать ее, показать, на что он способен, убедить ее в том, в чем сам уже не был уверен. Он мечтал о ней всю ночь напролет, когда не был занят с клиентом. Вопреки всему Аристон решил, что она красива. Ему хотелось считать ее красивой, неважно, так оно на самом деле или нет. Он наделил ее чувствительностью, остроумием, умением сострадать. Короче, переплюнул Пигмалиона.
Наутро Аристон соскреб с тела липкое масло, смыл с лица густой слой румян, стере губ красную краску, а с век – голубой перламутр, оделся в прозрачный хитон, который ему подарил омерзительно женоподобный Дейон, – сперва, конечно, Аристон аккуратно оторвал от подола тяжелое серебряное и золотое шитье – и, взяв украшенный драгоценными камнями кинжал, подарок Илы, принялся выковыривать из пазов железные прутья оконной решетки.
Ему повезло. Раствор, скреплявший прутья, был старый и рассохшийся. Не прошло и получаса, как Аристон вытащил решетку. Он вылез в окно. Аккуратно вставил прутья на место, чтобы их отсутствие не насторожило Поликсена. И отправился на поиски поющей девушки.
Однако, выходя из первого же веселого заведения, Аристон столкнулся с хозяином, ждавшим его на улице.
– Послушай, милый мальчик, – сказал сириец горестно-ласковым тоном, каким он всегда разговаривал с юношей. – Откуда мне было знать, что ты хочешь женщину? Я тебе приведу целую дюжину! И не этих дешевых порна или даже простых алевтрид. Я тебе приведу гетеру, умную и прекрасную. Зачем, зачем ты это сделал? Разве я плохо с тобой обращался? Разве был груб? А ты взял и убежал, как…
– Я не убегал, хозяин, – мрачно ответил Аристон. – Я просто хотел найти одну девушку.
– Но ты не должен ходить в ТАКИЕ места! – воскликнул Поликсен. – Дорогой, эти шлюхи ужасно гадкие! Ты подхватишь какую-нибудь дурную болезнь, и она сведет тебя в могилу. Предоставь все папе Поликсену. Я приведу тебе гетеру, такую чистую, что ты сможешь пить вино из ее пупка и…
– Но мне не нужны гетеры, – возразил Аристон. – Они слишком старые. Я хочу девушку. И не любую, а вполне определенную.
– Как ее зовут? – спросил сириец.
– Не знаю. Я знаю только то, что она красива и умеет петь.
– Хм! – хмыкнул Поликсен. – Все шлюхи поют, особенно когда видят деньги. Пойдем со мной, любимый. Завтра я приведу к тебе такую чудненькую вертихвосточку, которая заставит тебя позабыть…
– Нет! – сказал Аристон. – Хозяин, позволь мне найти эту девушку! Тем более что мне нужен свежий воздух. Если я не буду двигаться, буду сидеть без солнца, я стану толстым и некрасивым. И тебе от меня не будет никакого проку. Отпускай меня иногда погулять! Я вернусь, обещаю тебе! Или, если хочешь, пошли со мной вооруженного раба! Я не пытаюсь удрать. Да и куда б я подался? Ты же прекрасно знаешь, что в Спарте мне вынесли смертный приговор. И кто может убежать из города, обнесенного самой высокой в мире стеной?
Поликсен поразмыслил. Содержатель веселого заведения был человеком здравомыслящим. Ничего страшного, если мальчик немного погуляет, решил он. Даже одно утро, проведенное на свежем воздухе, благотворно сказалось на его цвете лица. А то, что он интересуется девушками, даже хорошо. Юноша не станет слишком женоподобным. А для клиентов, посещавших «баню», сдержанная мужественность Аристона, наполовину скрытая его изумительной красотой, составляла основу его очарования.
– Ладно, – медленно произнес сириец. – Пойдем сей– час домой, а после обеда выйдешь опять. Я пошлю с тобой Велчана, чтобы… чтобы он охранял тебя от назойливых извращенцов. Но только ты не должен ложиться с порнами.
Обещаешь?
– Ладно, ни с кем, кроме той девушки, не буду, – сказал Аристон.
Так он обрел возможность продолжать поиски. Через пять дней после того, как они с Велчаном дважды терялись в толпе, но Аристон все равно возвращался к Поликсену, сириец разрешил ему ходить без сопровождения.
Лишь через пятнадцать дней Аристон отыскал девушку. Она работала в увеселительном заведении «Три рыбки» в порте Пирей, ниже этого не могла пасть ни одна проститутка. Над порогом «Трех рыбок» красовался большой резной символ Приапа: чтобы клиенты случайно не перепутали публичный дом с храмом Артемиды, богини целомудрия. Девушек здесь звали «гимнаи», обнаженные, потому что именно в таком виде они здесь расхаживали, а клиентами были грубые пьянчуги, громогласные бездельники и болваны со всей Эллады, у которых хватало ума выклянчить, занять или стащить жалкий обол – такую тут взимали плату за вход.
Девушка узнала его сразу, но он понял это только по ее глазам. Она оказалась совершенно непохожей на образ, созданный Аристоном. Ее даже нельзя было назвать хорошенькой. Перед Аристоном стояла тощая, жилистая, замученная рабочая скотина с опавшими грудями, грубым лицом и мертвыми, потухшими глазами. Но Аристон все равно пошел с ней наверх – ведь он потратил на ее поиски столько времени! С самого начала все пошло вкривь и вкось, потому что не успели они добраться до каморки, пропахшей ею и всеми ее посетителями, как где-то неподалеку пронзительно, страшно вскрикнула девушка. Потом еще. И еще раз. В промежутках между этими отчаянными криками Аристон услышал тоскливый посвист кнута.
Его спутница пожала плечами.
Он удивленно посмотрел на нее своими голубыми глазами.
– К нам тут всякие приходят, – сказала она. – Такие, каких в Афинах даже на порог приличного дома не пускают А какой твой конек, друг любезный?
Через двадцать минут он плакал в ее объятиях, словно побитый ребенок.
– Не плачь, – сказала она голосом, охрипшим от жалости. – Я никому не скажу, красавчик. Значит, ты не можешь. Но это не странно. А что ты ожидал? Мальчики, которые начинают посещать бани, как правило, становятся ни ни что не пригодны. Мужчину можно кастрировать и без ножа. До чего же мерзки эти педерасты! Ты должен был хорошенько подумать, прежде чем…
– Я туда пришел не по своей воле! – рассердился Аристон. – Меня взяли в плен и продали в рабство! Я… я не педераст, Диотима! Нет! Просто…
– Замолчи, ягненочек, – сказала она, – не то я тоже расплачусь. А я давно забыла, как это бывает. Может, хочешь я тебе сделаю… – и она сказала слово, которым иносказательно обозначался один из самых запретных способов любви.
Он в ужасе воззрился на Диотиму.
– Нет, о боги!
– Ну хорошо. Я просто подумала, что тебе нужно облегчение. Оно тебе действительно нужно, но другого свойства. – Диотима задумчиво поглядела на Аристона. – Знаешь что, красавчик? Дам-ка я тебе один адресок. Сходи к моей подруге. Ее зовут Парфенопа, она самая прекрасная женщина, которую ты когда-либо видел. Некогда она тоже тут работала. Но пробыла у нас всего две недели, ее выкупил один богач. Поэтому она великолепно сохранилась. Это было задолго до меня. Я ее знаю, потому что она приходит навестить старую Орейфию, они начинали тут вместе. Забавно, они ровесницы, но Парфенопа похожа на внучку Орейфии.
– Зачем мне идти к ней? – уныло спросил Аристон. – Чем она мне поможет?
– Многим. Слушай, калон, я тебе помочь не в состоянии. Я старая развалина. А Парфенопа тебя исцелит. Она нежная, утонченная, умеет читать. Сочиняет стихи. Все умные люди и философы от нее без ума. Парфенопа – изысканная женщина. Настоящая гетера, а не шлюха. И сейчас она не занята, потому что ее покровитель потерял сына, ни на что не пригодного лоботряса, он погиб во время состязания на колесницах. Юный балбес проиграл пари неистовому Алкивиаду и не мог заплатить. Поэтому, чтобы расквитаться с ним, Алкивиад заставил дурака править колесницей, в которую были запряжены четыре лошади. А ведь он и с двумя не мог справиться! Женоподобный щеголь!
– Почему ты столько знаешь о нем? – удивился Аристон.
– Да я его часто видела, расфуфыренного ублюдка! Он притаскивался к Парфенопе всякий раз, когда у него кончались деньги, а старик ему не давал. Вот он и клянчил у Парфенопы то мину, то две. У дурехи слабость к юным красавчикам. Особенно если они ей в сыновья годятся. Но, с другой стороны, идеальных людей нет, и…
– Ты ходишь к Парфенопе? – спросил Аристон. – Зачем, Диотима?
Она подняла голову и вызывающе поглядела на него.
– Я… я в нее влюблена! И не смотри на меня так! Ты должен понять. Неужели ты думаешь, что девушка, занимающаяся ЭТИМ целых пять лет, может быть влюблена в мужчину?
– А она отвечает тебе взаимностью? – поинтересовался Аристон.
– Если ты подразумеваешь под этим, отдается она мне или нет, то – да… изредка. Очень, очень редко. Думаю, в основном из жалости. Мне так кажется потому, что я-то с ней всегда достигаю того, чего не могу достичь ни с одним мужчиной. А она – только иногда. Если это вообще случается. Может, она из вежливости делает вид. Однако…
– Однако мне она ни к чему, – сказал Аристон. – Я достаточно насмотрелся на извращенцов, чтобы теперь интересоваться извращенкой.
– Милый, ты глупыш! Парфенопа вовсе не плоскогрудая мужеподобная извращенка. Она ЛЮБИТ мужчин. Даже обожает. Все деньги, что ей удается выжать из лысых стариков, она тратит на молодых красавчиков вроде тебя. Она облегчит твои страдания. Парфенопа так много делала для малыша Фебалида и делала бы впредь, если б этот шепелявый подлец Алкивиад… Ой, погоди!
– Что такое? – поднял брови Аристон.
– Ты на него похож! Потрясающе! Вы как близнецы! Во имя Приапа, кем угодно могу поклясться, что…
– На кого я похож? – не понял Аристон.
– На Фебалида. Ну, на того, что погиб. На сына Тимос-фена, покровителя Парфенопы. Конечно, у нее есть еще несколько тайных любовников, но…
– Значит, – спокойно произнес Аристон, – я похож на покойного Фебалида, которого ты сама назвала женоподобным щеголем. Прощай Диотима… спасибо тебе…
– Погоди! Я не хотела тебя обидеть. Ты действительно похож на него. Только у него волосы были потемнее, как твои настоящие, вот тут, у корней. Но ты ведешь себя совсем по-другому, милый ягненок. Он бы никогда не пришел сюда разыскивать девушку. Даже намереваясь, как ты, доказать себе, что еще не утратил мужскую силу. А ты НИЧЕГО не утратил, дорогой. Просто твоя душа изранена и смущена. Именно поэтому тебе и надо сходить к Парфенопе, особенно сейчас, пока бедный старик Тимосфен так убит горем, что не захаживает к ней, и она…
– Нет, – сказал Аристон и пошел к двери.
– Ягненочек, – позвала Диотима. – Не уходи! Подожди. Побудь со мной еще хоть часок. Нет, лучше два. Пожалуйста!
Аристон удивленно уставился на нее.
– Почему? Ты же сама говорила, что не любишь мужчин?
– Не люблю грубиянов, меня от них с души воротит. Но ведь ты… ты красивей любой девушки. Это во-первых. А во-вторых, ты вознес мою репутацию до самого Олимпа. А коли так, то я заставлю нашу хозяйку, эту старую Гекату, увеличить долю, причитающуюся мне за каждого клиента!
Аристон по-прежнему не сводил с нее удивленного взора.
– Не понимаешь, ягненочек? Ты же выглядишь как юный царевич… нет, как бог! У нас каждая девушка мечтала пойти с тобой наверх. Некоторые чуть не умерли, когда ты выбрал меня. Они бы легли с таким красавчиком задаром, просто для разнообразия. А я их всех переплюнула – даже тех, кто моложе и симпатичней меня! Чем ты дольше пробудешь тут, тем для меня лучше. Тебе не нужно будет больше стараться, чтобы у тебя получилось. Конечно, если хочешь, я добьюсь этого. Меня ведь тут для того и держат. Но…
– Нет, – сказал Аристон. – Я не хочу. Больше не хочу.
– Но ты останешься? Да, милый?
– Ладно, – согласился Аристон. – Но с одним условием.
– С каким?
– Ты будешь для меня петь, – сказал Аристон.
Однако к гетере Парфенопе, как советовала Диотима, он все-таки не пошел. Вместо этого Аристон использовал новую привилегию, позволявшую ему в дневные часы обретать свободу, довольно любопытным способом: бродил по улицам, пока не набредал на кого-нибудь из софистов, рассуждавших перед толпой. Тогда он останавливался и слушал, ибо больше всего теперь его мучила жажда познания. Оказалось, что каким-то странным образом в теле спартанца жил дух афинянина. И Аристон надеялся, что мудрецы дадут ему ключ к разгадке тайны его ужасной жизни. Почему столько плохого произошло именно с ним? Почему кошмар до сих пор не прекращается? Отчего все, к чему бы он ни прикасался, чахнет? Почему все, кого он любил, страдали и погибли? Неужели боги так немилосердны? Где они, эти боги? Как можно объяснить преобладание зла в мире?
Когда с толпой беседовал уродливый философ Сократ – хотя на самом деле он ни о чем не рассказывал, а лишь задавал вопросы, которые безжалостно демонстрировали безмозглость его собеседников, пустоту их высказываний и смешное убожество самых любимых верований: это бесило их до такой степени, что очень часто самым юным и сильным ученикам Сократа (например, богатому баловню судьбы Алкивиаду, племяннику последнего великого стратега, ав-тократора Перикла, и смелому, будто лев, хотя и женственному с виду Ксенофону, впоследствии ставшему знаменитым воином) приходилось вступаться за учителя, иначе бы его побили, – Аристон отходил подальше, боясь, что фило– соф его увидит и узнает. Ибо самым разрушительным чувством, владевшим Аристоном, был стыд. Это было вдвойне жалко: во-первых, Аристон пропускал существенную часть Сократовых рассуждений, нередко теряя даже их нить, а во-вторых, Сократ почти наверняка сделал бы для него то, что он позже сделал для юного Феда: убедил бы какого-нибудь богача вроде Критона выкупить юношу и дать ему свободу.
И вот однажды Аристон возвращался после бесед Сократа, опечаленный, ибо не услышал и половины. Он шел и размышлял о том, что все-таки ему удалось услышать. И вдруг с ним произошло событие, которое потом он справедливо считал поворотным в своей жизни.
Маленькая рабыня, от силы двенадцати лет, приблизилась к Аристону и тронула его за руку. Он заглянул ей в лицо и разъярился, ибо нахальная крошка размалевалась хуже отпетой шлюхи. Затем Аристон подумал, что, наверно, она и есть шлюха, и он оттолкнул ее руку. Но тут услышал женский голос:
– Перестань!
И одно это слово пронзило его, будто мечом. Ибо то был голос его матери, безмятежный и мелодичный. Только говор был не дорический, а ионический, а значит, еще напевней.
Женщина подняла покрывало и поглядела на него без стыда. Аристон решил, что перед ним богиня. У нее была нечеловеческая красота.
– Ты… Аристон, да? – спросила женщина. Она произнесла его имя, словно это была музыкальная фраза, начальная строфа эротического стихотворения, долгая, сладостная ласка.
– Да, – скованно, деревянным голосом ответил Аристон. Его смутил ее взгляд.
– Диотима не солгала, – усмехнулась женщина. – Ты самый красивый юноша в мире. Пойдем. Возьми меня за руку,калон.
– Но… – запротестовал он.
– Мужчина, отбивающийся от женщины, выглядит смехотворно, – промурлыкала она. – И за ним закрепляется дурная слава, правильно я говорю? А ведь еще мгновение – и мы с тобой подеремся, потому что я ни за что не выпущу из рук такую восхитительную добычу. Ты слышишь меня, Аристон? Пойдем.
Аристон покорно взял ее за руку. Она долго и тщательно занавешивала лицо покрывалом.
– Веди нас, Филлис! – велела затем женщина размалеванной рабыне. И, прильнув к Аристону, словно любовница, пошла с ним по пыльной улице.
– Вот видишь? – рассмеялась Парфенопа. – С тобой все в порядке! Зевс свидетель! Клянусь поясом Афродиты, я себя чувствую, как…
– Леда? – предположил Аристон.
– Нет! Как Европа! Как Пасифая! Пойдем, мой прекрасный золотистый бык Зевс! Примем ванну.
– Вместе? – изумился Аристон.
– А почему нет? Если тебя не смущает то, чем мы занимались, то почему ты сейчас смутился? Аристон серьезно обдумал ее слова.
– Да, наверно, не стоит, – кивнул он. – Скажи, кто такая Пасифая.
– Пойдем, я расскажу тебе в ванне, – сказала Парфенопа.
Лежа в ванне – мраморном бассейне таких размеров, что там вполне уместился бы Зевс в обличье быка, – нежась в горячей, ароматной воде, поступавшей по трубам, Аристон с любопытством разглядывал Парфенопу. Ее тело было совершенно. И все же…
Прежде всего, она оказалась ненастоящей блондинкой. Аристон был еще очень наивен и не знал, что почти все гетеры осветляют волосы, не без оснований полагая, что необыкновенное всегда привлекает внимание. А поскольку блондинки в Элладе встречались крайне редко, они были ходовым товаром, так что мнение гетер полностью подтверждалось. Итак, Парфенопа, как и почти все ее подруги из высшего слоя женщин сей деликатной профессии, осветляла свои длинные темно-каштановые локоны, и они, неровно прокрасившись, приобретали довольно гадкий светлый оттенок, причем гамма варьировалась от золотистого до чисто белого. В том, что Аристон догадался об ухищрениях Пар– фенопы, в известной степени была и его вина. Парфенопа пришла в такое волнение от рассказа Диотимы, что слишком рано убежала утром из дома, и рабыня не успела закончить ее туалет, в который в классической Элладе входило тщательное сведение волос на руках, на ногах и в прочих местах, где человеческое тело упорно сохраняет волосяной покров своих предков-животных. В результате выросшие за ночь волосики, тут и там оттенявшие ее кожу, оказались гораздо темнее прически.
Но это было еще не все. У Аристона возникло ощущение, что прекрасное, совершенное, поразительно опытное и ловкое тело немолодо. Он хотел спросить, сколько Парфенопе лет, но даже его небогатый опыт общения с женщинами подсказал ему, что этого делать не стоит. Так что Аристон ограничился догадками.
Двадцать пять, решил он, назвав возраст, который казался ему, восемнадцатилетнему, настоящей старостью. Узнай Аристон правду, он бы просто онемел: ведь на самом деле он польстил Парфенопе и скинул ей целый десяток годков!
– Ягненочек! – промурлыкала она. – Ты когда-нибудь видел нагую женщину?
– Даже сотни, – честно признался Аристон. – Но такой очаровательной, как ты, Парфенопа, нет. А теперь скажи, кто эта Пасифая, с которой ты себя сравнила?
Тогда Парфенопа рассказала ему на своем напевном, изящном, ласкающем слух ионическом наречии безобразнейшую историю о том, как критская царица Пасифая умудрилась стать матерью чудовищного Минотавра.
– Она велела великому мастеру Дедалу, который потом смастерил искусственные крылья и стал первым человеком, полетевшим, будто птица, сделать полую внутри деревянную корову и покрыть ее настоящей коровьей шкурой. Но, конечно, в нужных местах были проделаны отверстия. Потом Пасифая скинула одежды и залезла внутрь: руки она просунула туда, где были передние ноги коровы, а ноги – в задние, предусмотрительно широко расставленные, ягненочек. Ну а затем ее втолкнули туда, где ее ждал белый бык, посвященный Посейдону, и…
Аристон испуганно воззрился на Парфенопу.
– Извини, Парфенопа… Прости меня…
– Во имя Эроса и Афродиты, ягненочек, за что?
– За то, что ты испытала такое! Хотя, наверно, ты меня просто дразнишь, правда? Мой дядя Ипполит всегда потешался над этими легендами. Он говорил, что плотская любовь между женщиной и огромным существом вроде быка невозможна. Иначе, говорил он, последствия будут катастрофическими. -Аристон повторил язвительные доводы Ипполита, подражая выражениям и жестам толстого маленького сибарита.
Парфенопа смеялась, пока слезы не заструились по ее лицу, капая в воду.
– Ну, насчет невозможности – это он преувеличивает, – сказала она. – А насчет последствий… да, это почти катастрофа. Но зато как сладко, мой дорогой калон… совсем как в первую ночь… Ладно, пойдем!
– Куда? – удивился Аристон.
– Обратно в постельку, мой минотаврик. И да здравствует катастрофа!
– Диотима говорила, ты похож на моего знакомого, – промурлыкала Парфенопа, лежа рядом с Аристоном и угощая его маленькими печеньицами. – Она клялась, что я тут же пойму на кого. Что мне не нужно будет подсказывать. Но да поможет мне Афина, я что-то никак не соображу! Я никогда не видела таких прекрасных юношей, мой маленький устроитель катастроф! Да-да, настоящих катаклизмов… ибо именно так я себя ощущала в последний раз! Дай подумать… дай подумать… кого же по эту сторону от Тартара ты мне напоминаешь?
– Не по эту, – поправил ее Аристон. Парфенопа подскочила на постели и впилась в него взором.
– Точно! – прошептала она. – Да поможет мне Зевс! Конечно, ты гораздо красивей Фебалида… главным образом потому, что умудрился сохранить мужественность… О-о! Великая Афина, благодарю тебя! И тебя, божественная Гера, мать богов!
– Я не верю в богов, – устало произнес Аристон. – Но, может, ты потрудишься объяснить, за что ты их благодаришь?
– За то, что они подсказали мне способ спасти тебя от позора, – прошептала Парфенопа. – Вызволить тебя из подлого общества, в котором ты оказался и все же сохранил чистоту. Вставай!
– Вставать? – ошеломленно повторил Аристон.
– Да! Вставай и отправляйся в притон разврата! У меня полно дел! О, ягненочек, не смотри так обиженно! Эти дела связаны с тобой. К завтрашнему вечеру ты уже выйдешь оттуда, чтобы никогда не возвращаться!
Парфенопа сдержала слово. В полдень следующего дня Аристон, торопливо, почти вприпрыжку направлявшийся по запруженным улицам к тому месту, где, как сообщил ему ночной клиент, Сократ должен был обсуждать проблему существования бога, увидел Парфенопу. Она шла прямо на него.
Аристон вполголоса выругался и остановился, не сомневаясь в том, что она его видела. Но Парфенопа прошла мимо, и Аристон вдруг заметил, что за ней на прекрасной лошади следует высокий лысый мужчина лет шестидесяти, поджарый и сильный, с большим крючковатым носом, впалыми щеками и аскетическим выражением лица, никак не вязавшимся с тем, в каком обществе он сейчас находился.
В тот же миг досада Аристона улетучилась, и к горлу подкатил ледяной ком ревности, так что больно стало дышать. Боль была странной. Аристон твердил себе, что ему плевать на Парфенопу, что она слишком стара для него, что он связался с ней просто чтобы не стать таким же, как его извращенные клиенты, что…
– Аид ее забери! – яростно приговаривал он. – Что мне до Парфенопы? Она обыкновенная шлюха! Все женщины в душе – шлюхи. Даже моя мать…
Тут он осекся, не договорив кощунственных слов, сердито ударил себя ладонью по глазам и побежал туда, где Сократ спорил с толпой.
Через час Аристон возвращался по той же улице. Он был сердит и обижен. И довольно серьезно разочарован. Сократ сказал лишь вот что;
– Мы ничего не знаем о богах. Так зачем же спорить о вещах, которые для нас непостижимы по самой своей природе? Разве кто-нибудь из вас так прекрасно управляется с земными делами, что может судить о делах небесных? Лучше всего, друзья, признать свое невежество, слушаться Дельфийского оракула, совершать нужные жертвоприношения и позабыть про эти раздумья.
А когда какой-то человек, явно чужестранец, спросил, каким образом следует поклоняться богам, уродливый старый пересмешник ответил:
– Как принято в твоей стране.
«Не очень-то удовлетворительные ответы дал проклятый старикан, – подумал Аристон. – Ишь, скользкий, как угорь! Никто не может его ни на чем подловить. Почему, провались он к Аиду и Персефоне, этот Сократ…»
Аристон резко остановился, потому что вдруг увидел на своем пути какого-то человека. Он намеренно загораживал дорогу Аристону. Юноша открыл было рот, собираясь его выругать, но прикусил язык. Во-первых, перед ним стоял тот самый афинянин, который час назад сопровождал верхом на лошади Парфенопу, А во-вторых, этот высокий гордый мужчина смотрел на него с таким выражением, которое Аристон видел в своей жизни только у одного человека – у своего родного отца, илота Тала.
Аристон вгляделся внимательней, его удивление все росло и росло. У старого орла были на глазах слезы! Тут Аристон понял, нет, вернее, почувствовал, что суровость черт, аристократическая надменность, написанная на лице незнакомца, – это обман, видимость, а на самом деле мужчина бесконечно добр.
– Господин, – сказал Аристон, – ты нездоров? Или…
может, мой вид оскорбляет тебя? Поверь, это не нарочно.
Я…
– Аристон… – произнес мужчина, и его голос был глубок, как море. А затем он без лишних слов заключил юношу в объятья.
Аристон не сопротивлялся. Мужчина обнимал его, целовал, орошал его юные щеки слезами.
– Ты, – спросил Аристон, – глава Элленотамии, да? Благородный Тимосфен? А я… похож на сына, которого ты потерял? Так, господин мой? Если это правда, мне очень жаль. Очень. Я не хотел причинять тебе боль.
– Ты принес мне радость, сын мой, – возразил Тимосфен. – Вернее, принесешь, если…
Он осекся и, отодвинув Аристона на расстояние вытянутой руки, поглядел ему в лицо.
– Аристон, – сказал Тимосфен, – тебе бы хотелось стать… моим сыном?
Аристон подумал. Он вообще-то не знал, хочется ли ему теперь быть чьим-то сыном или нет. Ему хотелось быть свободным. Однако сколько раз он слышал от Сократа, что свобода – вещь относительная? Даже став рабом этого человека, он будет свободнее, чем в «бане». По крайней мере никому больше не будет позволено издеваться над его беззащитным, истерзанным телом.
– Да, господин, – сказал он.
– Хорошо, – облегченно вздохнул Тимосфен. – Тогда пойдем в заведение этого жирного сирийского борова. Я дам ему за твою свободу все, что он пожелает, и…
Аристон нахмурился. Хуже того, что намеревался предпринять его новый благодетель, трудно было придумать. И Аристон это сознавал. Услыхав подобное предложение, такой прожженный обманщик, как Поликсен, с радостью обдерет сентиментального старого аристократа как липку. Этого следовало избежать любой ценой. Во имя Гермеса, покровителя мошенников, обманщиков и воров… как?
Потом его осенило. Он оглянулся по сторонам. В Афинах по улицам сновало столько народу, что поговорить, не боясь быть подслушанным, представляло собой почти неразрешимую задачу. А людей, которые зарабатывали себе на жизнь, передавая разговоры влиятельных особ, вроде Тимосфена, тем, кому это могло пригодиться, было более чем достаточно. Не по своей воле узнав тайную, закулисную жизнь Афин, Аристон, среди всего прочего, усвоил, что ни один город Эллады так не кишит мерзкими шантажистами и вымогателями, как столица Аттики. Убедившись, что поблизости никого нет, Аристон быстро наклонился к уху всадника и прошептал несколько слов, да так тихо, что Тимосфен едва смог расслышать.
Лицо благородного старика посуровело и приняло столь осуждающее выражение, что Аристон запнулся и умолк.
– Продолжай, – сказал Тимосфен.
– Прости меня, благородный Тимосфен, – спокойно произнес Аристон, – но, честное слово, другого выхода нет. Вот что я предлагаю тебе сделать…
Всадник слушал внимательно. Постепенно неодобрительное выражение исчезло с его лица. Но на смену ему пришел страшный гнев.
– Ты говоришь, там содержится сын человека, чьи земли дают в год пятьсот бушелей? -прорычал он.
– Да, – прошептал Аристон. – А другой – сын такого же всадника, как и ты, господин.
– Зевс Громовержец! – воскликнул Тимосфен. – Что будет с Афинами?
– Ничего хорошего, если не… – Аристон нарочно не договорил.
В небольших голубых глазках Тимосфена неторопливо заиграла улыбка. Он положил Аристону на плечо тяжелую Руку.
– Я согласен, – сказал он. – Какой прок от щепетильности в подобных делах? В конце концов, свинью режут не дорогим кинжалом, украшенным драгоценными камнями, правда?
Аристон медленно, облегченно вздохнул. И тоже улыбнулся.
– Чем бы ты ни резал свинью, мой господин, главное – нанести верный удар, – сказал он.
Когда Поликсен в тот же вечер увидел на пороге «бани» трех осанистых, богато одетых незнакомцев, он чуть не разбил себе лоб: так низко он кланялся. Распрямившись, сириец потер пухленькие, короткие ручки, словно собирался соскрести с них кожу.
– Мои господа! – бормотал он. – Благородные госпо– да! Поверьте, для моего убогого заведения это великая честь…
Он вдруг осекся, и лицо его слегка посерело. Поликсен перестал потирать руки. Челюсть у него отвисла. Из уголка рта на угольно-черную бороду потекла струйка белой слюны.
– Благородный Тимосфен! – выдохнул он. – Но… но… Тимосфен улыбнулся ему. Ледяной улыбкой, исполненной презрения.
– Тебе говорили, что я не люблю извращенных забав, так, о сириец? – молвил он.
– Совершенно верно, мой господин, – пролепетал Поликсен. – Больше того, я слышал, что ты решительно восстаешь против…
– Ах, тебе наболтали лишнего! – прервал его Тимосфен. – Я считаю, что свобода человека предполагает право оскотиниваться, если ему так нравится. Эти калокагаты, благородные мужи из Аргоса, желают заняться любопытным делом, которое ты тут практикуешь, сириец. Они прекрасно осведомлены, что я не одобряю столь грубого искажения предначертаний природы, но гостеприимство для меня важнее, тем паче, что сам я не намерен профанировать свою плоть столь ненавистным мне способом. Так что приступай к делу, сириец! Обслуживай клиентов. А я сяду и подожду.
Поликсен с тревогой посмотрел на благородных гостей из Аргоса. Но потом немного расслабился. Долгий опыт подсказал «банщику», что все в порядке. Эти двое были ярко выраженными мужчинами, отцами семейств, суровыми мужьями, которые во всеуслышание, на людях, ругали женоподобных извращенцев и вовсю демонстрировали свою мужественность… дома. Но, оказавшись за пределами родного полиса, подальше от зорких глаз и злых языков, они точно так же, как и все эллины, не прочь были порезвиться с мальчиками. О, Поликсен таких видел-перевидел!
– У вас есть какие-нибудь пожелания, мои господа? – поинтересовался он.
– Один заезжий гость из Афин, – медленно молвил всадник из Аргоса, – рассказывал нам, что у тебя есть парочка очаровательных мальчиков – пальчики обли– жешь. Их имена… Тем, как зовут этих маленьких плутишек?
– Диомед и… Ификл, насколько я помню, – сказал второй всадник.
– У вашего друга хороший вкус! – одобрительно щелкнул языком сириец. – Это мои лучшие мальчики, если не считать…
– Если не считать кого, вернее, чего? – насмешливо спросил Тимосфен.
– Спартанского мальчика Аристона, – расхрабрившись, выпалил сириец. – Он красив как бог. Его чары так велики, мой господин, что уж не знаю, устоит ли перед ним твоя непоколебимая добродетель.
Тимосфен устремил на сирийца ледяной, пронзительный взгляд. Потом улыбнулся, но улыбка вышла кривой, презрительной.
– Что ж, введи его, устроим проверку, о сириец! – сказал он.
Когда всадники из Аргоса удалились в спальни с двумя надушенными, жеманными гомосексуалистами, Тимосфен остался в зале для приема гостей и завел беседу с Аристоном и хозяином «бани». Страхи Поликсена рассеялись. Он убедился, что двое рослых, мускулистых мужчин действительно явились в его заведение в надежде вкусить изысканных наслаждений. Он поспешно дал понять афинскому всаднику Тимосфену, что тот может беседовать с юношей сколь угодно долго, если, разумеется, не появится клиент, испытывающий более настоятельную и насущную необходимость в обществе Аристона.
– Я заплачу тебе, сколько ты обычно берешь… оплачу все время нашего разговора, – напрямик заявил Тимосфен. – Только позаботься, чтобы нас не беспокоили.
– Конечно, мой господин! – с привычной услужливостью засуетился Поликсен. – А ты не думаешь, что гораздо доверительней беседовать в спальне?
– Не будь ослом, сириец! – оборвал его Тимосфен. – Если я говорю «побеседовать», значит, действительно хочу побеседовать. А для этого подойдет и зал. Кроме того, я желаю, чтобы ты остался с нами. У меня такое ощущение, что разговор может оказаться полезным и для тебя.
– Как прикажешь, благородный всадник, – склонился Поликсен.
Тимосфен повернулся к Аристону.
– Скажи мне, юноша, – без обиняков начал он, – тебе нравится такая жизнь?
– Нет, я ее ненавижу, – ответил Аристон.
– Тогда почему ты не прекратишь ее? – спросил Тимосфен.
– Потому что я… я раб, мой господин, – грустно промолвил Аристон. – Мой хозяин Поликсен купил меня, чтобы я занимался именно этим.
– И еще из-за твоей красоты, – добавил Тимосфен. – Чему я очень рад, хотя совсем по иным причинам. Дело в том, что ты напоминаешь мне сына, которого я утратил. Ты поразительно похож на него. Поэтому я хотел бы выкупить тебя из позорного притона. Сколько ты за него возьмешь, сириец?
Поликсен напрягся. Потом еле заметно усмехнулся.
– Все твое состояние, господин, – насмешливо произнес он, – и состояние двух твоих друзей, а также капиталы всех твоих родственников, соплеменников и…
Тимосфен покачал головой.
– Нет, сириец, – сказал он, – ты возьмешь гораздо меньше. Да, ты возьмешь… погоди-ка! Лучше спросим мальчика. Аристон, сын мой, сколько мне ему предложить?
– Одну мину, – сказал Аристон, – и ни оболом больше. Он заплатил за меня пятьдесят мин. Но если вспомнить, сколько он на мне заработал, то будет вполне справедливо. Ты согласен со мной, благородный Тимосфен?
– Абсолютно, – кивнул Тимосфен и вынул из кошелька серебряную монету.
Поликсен глядел то на одного, то на другого. Он был далеко не глуп и понимал, что за этим что-то скрывается. Но совсем не мог понять, что именно.
– Ты шутишь, господин, – начал он. – Неужели ты думаешь, что я соглашусь?
– Я никогда не шучу, – строго поправил его Тимос– фен. – А насчет того, что ты согласишься… Я не думаю, а знаю.
Он возвысил голос и позвал:
– Тем! Митрад! Идите сюда и приведите с собой этих изнеженных собачонок!
Всадники вместе с мальчиками вышли из спален. Тимос-фен посмотрел на благоухавших благовониями, размалеванных полуженщин.
– Диомед, – сурово вопросил он, – сын Фенелая из рода Лаподии, свободнорожденный сын гражданина, что мы можешь сказать в свое оправдание?
– О господин! – пролепетал мальчик. – Ты… ты ведь не скажешь моему отцу, правда? А то он… он…
Сникнув под ледяным взглядом Тимосфена, он замолчал. Потом заглянул в глаза другим всадникам, ища сочувствия. Но не обнаружил. И в ужасе разрыдался.
Тимосфен и бровью не шевельнул.
– Ификл, – строго произнес он, – сын благородного всадника Фезала из рода Скамбонидов, свободнорожденный сын не просто гражданина, а благородного мужа, что ты скажешь в свое оправдание?
Ификл открыл рот, и оттуда вырвался пронзительный женский вопль. Он упал на колени перед Тимосфеном.
– Мой отец меня убьет! – кричал он. – А я, господин, еще слишком молод, чтобы умирать!
Аристон отвел от них взгляд. На это позорное, душераздирающее зрелище больно было смотреть. Он устремил взор на хозяина «бани». Сириец медленно опустился на колени, его лицо побагровело от напряжения. Он разинул рот, но не издавал ни звука. Губы Поликсена посинели и быстро-быстро шевелились, пытаясь произнести хоть слово.
– Ну, Поликсен, сирийская свинья, – спокойно сказал Тимосфен, – что ты запоешь, когда эти благородные люди, мои друзья, предстанут перед судом и подтвердят, что они делили ложе в твоем заведении с двумя мальчиками, сыновьями граждан. Неужели ты будешь притворяться, что не знал, какое страшное преступление – вынуждать свободнорожденных афинян продавать свое тело? И что оно карается тюрьмой, изъятием всего имущества и навечным из– гнанием из Аттики сразу же после вынесения приговора? Говори, пес, как ты будешь выкручиваться?
– Пощади, благородный муж! – чуть не зарыдал Поликсен.
– Пощадить? – нахмурился Тимосфен. – Пощадить тебя, который ни за что на свете не освободил бы этого целомудренного, благородного юношу, а принуждал бы его заниматься всякими пакостями? Тебя, который требовал за него все мое состояние и состояние моих друзей?
– Отец! – внезапно сказал Аристон.
– Да, сын мой? – ласково откликнулся Тимосфен.
– Прояви к нему милосердие. Ты можешь это сделать. Он ведь не заставлял двух этих женоподобных жеманников приходить в его заведение. И – по-своему, конечно – был добр ко мне. Пусть он возьмет за меня одну мину и в присутствии калокагатов подпишет мне вольную. Это – и то, что я больше не буду на него работать, – и так достаточное наказание.
Тимосфен посмотрел на Аристона.
– Ты благородный юноша, – сказал он. – Я вижу, боги хотят, чтобы мой новый сын оказался лучше того, которого я потерял. Итак, сириец?! Что будем делать? Ты продаешь мне мальчика или…
– Да, забирай его! – взвизгнул Поликсен. – Во имя Зевса, забирай всех троих!
– Нет, – покачал головой Тимосфен. – С меня хватит и одного. Этих изнеженных свиней ты можешь оставить себе. А ты, Аристон, как ты думаешь, тебе не надоест быть моим сыном?
Аристон без слов встал на колени перед благородным стариком и, склонившись, поцеловал его руки.
– Для меня это лучшйй подарок богов, господин, – сказал он.
Вот так и получилось, что Аристон, еще на закате бывший рабом и служивший в «бане», к рассвету стал вольноотпущенником и приемным сыном самого богатого человека в Афинах. Наконец-то богини судьбы ему улыбнулись.
Если, конечно, богини судьбы умеют улыбаться.
А Эринии умеют спать.
Глава XII
Надсмотрщик прочитал купчую и вернул ее Тимосфену.
– Ты, разумеется, понимаешь, как это будет трудно, благородный Тимосфен, – сказал он. – У нас на приисках около двадцати тысяч людей. Но слово военачальника для нас, конечно, закон. Мы выполним его приказ. Только это потребует времени. Сперва надо будет посмотреть на мастеров, работавших в ночную смену. Они сейчас спят, так что это несложно. Вдруг, на ваше счастье, друг твоего сына окажется среди них?
– Хорошо, – кивнул Тимосфен. Надсмотрщик обратился к Аристону.
– Соизволь описать своего друга, юный господин, – попросил он.
– Зачем? – возразил Аристон. – Он здесь уже семь месяцев. Какой смысл описывать его таким, каким он был когда-то?
– Верно, – вздохнул надсмотрщик. – Тут тяжелая жизнь… Она меняет людей, но…
– Не меняет, а убивает, – поправил Аристон. – И убивает душу даже больше, чем тело. Как любое рабство.
Надсмотрщик удивленно воззрился на юношу, выражение глаз которого так не соответствовало ни его моло– дости, ни красоте. Надсмотрщик видел такие глаза много раз и прекрасно знал, что бывает дальше. Он это узнал на своей шкуре. Иногда, если не зевать, то можно удержать раба с такими глазами, чтобы он не кинулся в дымящийся котел, не закололся железным прутом или не шарахнул себя по голове молотом. Иногда. Но обычно такие все равно умирают, только чуть позже. Люди не могут жить без надежды.
– О, перестань, Аристон! – возразил Тимосфен. – Бывает и не такое уж кошмарное рабство. Мои домашние рабы…
– Живые вещи, отец. Ты хорошо обращаешься со своими лошадьми, мулами, ослами, козами и прочей живностью. Но они все равно скот. Скажи, у людей есть душа?
Тимосфен посмотрел на своего странного приемного сына, отличавшегося беспокойным пытливым умом.
– Да, – кивнул старик.
– Тогда ответь: как, по-твоему, влияет на эту душу сознание того, что один человек – собственность другого? Что его можно бить, пытать, убить…
– Аристон! – запротестовал Тимосфен.
– Выслушай меня, отец! Конечно, раба можно и целовать, холить и лелеять, использовать для наслаждений. Предположим, ты всего лишь педагог и выполняешь совсем необременительную работу: провожаешь мальчиков в школу и отводишь домой. Или же ты очень образованный человек, каких порой покупают богачи, желающие, чтобы их сыновья обучались на дому… знаешь ли ты, мой любимый, уважаемый отец, что даже в таком случае ты можешь зарыдать, увидев птичку, свободно летящую по небу.
– О да, – вздохнул надсмотрщик, – это правда. Я… Аристон повернулся к нему.
– А ты откуда знаешь? – спросил он. Надсмотрщик с легкой грустью улыбнулся.
– Потому что я раб, мой господин, – сказал он. Аристон так и застыл. Потом вытянул руку и положил ее на плечо надсмотрщику.
– Извини меня. Я не знал.
– Не стоит, – сказал надсмотрщик. – Здесь, кроме сторожей, нет свободных людей. Все мастера и надсмотрщики – это рабы. Свободные люди не задерживаются в Ла-уриуме, благородные господа! Не могут этого вынести. Одно дело – получать каждый день мину и семьдесят драхм, как получает за использование рабов великий, благородный и благочестивый Никий, адругое – воочию видеть, как людей ломают, превращают в животных, постепенно доводят до смерти, чтобы добыть это богатство. Нам приходится тут оставаться. Мы не можем отвернуться. Некоторых из нас вынуждают превращаться в мучителей. Должен сразу признать: те, кто этим занимается, быстро начинают получать удовольствие, причиняя другим боль. Человеческая душа – это такие глубины и закоулки, что…
– Я, – сурово произнес Тимосфен , – нахожу сей разговор неподобающим. Поэтому давайте его прекратим. Но прежде чем пойти, я хочу заронить в ваши головы одну мысль: кто из людей… кто из людей, ступающих по земле и дышащих воздухом, свободен?
Аристон долго смотрел на своего приемного отца. Потом подошел и поцеловал его в щеку.
– Прости меня, отец, – сказал он.
– Ничего, – проворчал Тимосфен. – Ладно, надсмотрщик, так мы будем искать Орхомена, которого мой сын просит меня выкупить отсюда?
– Его уже ищут, – откликнулся надсмотрщик. – А пока, если вы не возражаете, я могу показать вам прииски.
– С удовольствием посмотрим, – сказал Тимосфен. Аристон вскоре понял, какой подвох таился в предложении надсмотрщика. Ведь он показал им все без изъятья. Пантарх провел их по длинному извилистому главному коридору, откуда они могли заглянуть в галереи. Они были столь малы, что даже в самых просторных людям приходилось работать на коленях; обычно же рабы и вовсе лежали либо на животе, либо на спине и откалывали руду молотом и металлическими клиньями. Они работали, зажмурившись, чтобы не ослепнуть от пыли, а затем другие рабы по цепочке передавали руду в корзинах наружу, ибо даже два человека не могли разойтись в столь тесных коридорах. Единственное преимущество заключалось в том, что надсмотрщикам было трудно размахивать кнутами в таком узком пространстве. Но они все равно умудрялись исполосовать раба до крови, увидев, что он остановился на минутку передохнуть.
Смрад стоял жуткий: воняло потом, человеческими испражнениями, кровью и даже порой трупным разложением – когда раба придавливало каменной глыбой и его никому уже не нужное тело не смогли или не посчитали необходимым вытащить из-под обломков. Аристон подумал, что если Тартар существует, то здесь.
Они перешли в дробильню. Рабы ходили тут по кругу бесконечной чередой, приводя в движение большие балки, которые выполняли роль тяжелых железных пестиков, долбящих руду в огромных ступках. Тут уж надсмотрщикам было где взмахнуть хлыстом. На спины рабов страшно было смотреть. Мельницы, приводившиеся в движение при помощи воды и человеческих усилий, поворачивали громадные жернова из твердого-претвердого трахита, которые перемалывали руду, чтобы ее можно было просеивать. Рабы лопатами кидали руду на сито. Прошедшие через ячейки песчинки отправляли на промывку. Для этого их ссыпали на наклонные столы и лили на них воду, поворачивая струю так и сяк под острым углом, пока более тяжелые частички металла не оставались на столах, а каменная пыль не вымывалась. Дальше находилась плавильня, идеальный прообраз преисподней; там стояли сотни маленьких печей, за которыми следили рабы, все без исключения обреченные на смерть от болезни легких – она развивалась из-за дыма. Следом за плавильней шла мастерская очистки, где серебро отделяли от свинца, для чего его вновь подогревали на пористых камнях, обдуваемых ветром. Вступая во взаимодействие с воздухом, свинец превращался в глет, а чистое, без примесей серебро оставалось на поверхности, и его нужно было только соскрести. Рабы, которые этим занимались, харкали кровью, выплевывая легкие.
«Никогда больше не смогу без содрогания взять в руки драхму», – подумал Аристон.
Когда они вернулись в комнату главного надсмотрщика, Орхомен их уже ждал. Вернее, то, что осталось от Орхомена. Бородатое, грязное животное, чьи могучие плечи, казалось, тянули его к земле, так что оно не-могло распрямиться, устремило на них дикий, звериный взгляд. Нос Орхомена был переломан. На лбу выжжено клеймо. Руки и ноги закованы в кандалы. От тела исходил непереносимый смрад. Узнав Аристона, он ощерился, точно волк.
– Ты? – сказал Орхомен. – Тебе всегда удавалось отвертеться.
– Только не от тебя, – откликнулся Аристон и поцеловал его, невзирая на вонь. Потом повернулся к сторожам и приказал: – Разбейте его оковы.
Вечером вымытый, хорошо накормленный, напоенный вином Орхомен, которому подстригли волосы, завили и надушили бороду, выглядел почти что человеком. Он серьезно и вежливо обсуждал с Тимосфеном, стоит ли пригласить лекаря, чтобы тот убрал безобразное клеймо – его Орхоме-ну поставили за то, что он много раз пытался бежать с приисков.
– Конечно, – сказал Тимосфен, – у тебя останется шрам, но все будут думать, что ты получил его на войне или что это несчастный случай. Никто не догадается…
– Хорошо, – кивнул Орхомен. – Я согласен. Зевс свидетель, я могу переносить боль. Но что меня действительно беспокоит – это как я буду жить. Спартанцы умеют только убивать людей. Вы же знаете, как нас воспитывают. Мы не прикасаемся к земле, ее обрабатывают илоты, освобождая нас для того, чтобы мы…
– …становились рабами долга, дисциплины и держали в подчинении огромное множество непокорных рабов, – сухо продолжил Тимосфен. – Я бы не хотел быть спартанцем, мой друг.
– Я тоже не хочу, – спокойно отозвался Орхомен. – У меня нет ни малейшего желания возвращаться в Спарту. Кроме того, моя жизнь связана с жизнью Аристона – волей судьбы, рока…
– А не волей… любви? – спросил Тимосфен.
– Наверно, и это присутствует, хотя я столько раз испытывал огромное искушение свернуть ему шею, – ответил Орхомен. – Он может взбесить кого угодно… ты разве не замечал, благородный Тимосфен?
– Замечал, – улыбнулся тот. – Но это все не на пустом месте. Что же касается работы, то я тебе ее дам. Со следующей недели, когда ты отдохнешь и немножко развеешься, я назначу тебя надсмотрщиком в моих мастерских.
– В твоих мастерских? А что там производят?
– В основном работают с металлом: куют щиты, доспехи, оружие. Это довольно просто. Тебе нужно будет только записывать, сколько металла поступило в мастерские – без раковин и других дефектов – и сколько щитов, нагрудных пластин, наголенников, мечей, кинжалов, наконечников для копий и всего такого прочего получено. Конечно, при работе всегда часть металла теряется, но в твои обязанности будет входить, чтобы терялось как можно меньше. Теряется металл в основном из-за нерадивости работников. Ну и, конечно, из-за воровства… Есть, правда, еще одна, не такая заметная причина: лень. Когда за то время, что можно выковать два щита, делают всего один. Но ты быстро смекнешь что к чему. Насколько я понимаю, у тебя недюжинный ум.
– Отец, – вступил в разговор Аристон. – А почему ты не хочешь, чтобы я управлял какой-нибудь мастерской? Я бы с удовольствием! Ненавижу жить как праздный паразит. Почему…
Тимосфен покачал головой.
– Нет, сынок, – ласково сказал он. – Ты должен завершить свое учение, твое образование оставляет желать лучшего. А потом посмотрим.
Той ночью Орхомен вошел в спальню Аристона и забрался к нему в постель. Обняв юношу, он принялся осыпать его страстными поцелуями.
Аристон содрогнулся.
– Нет, Орхомен, – сказал он. Орхомен насмешливо прищурился.
– Почему? Ты же был влюблен в Лизандра! Когда он умер, ты целовал его в мертвые губы целых полчаса. В чем же дело? Или ты считаешь, что я стал безобразен, а может…
– Нет. Просто я… не в силах. Твои шрамы сразу видны, а мои – нет. Я видел прииски, в которых ты надрывался. Но поверь, если б у меня был выбор, я бы мигом согласился отправиться туда. Я бы предпочел умереть. И это не пустые слова, Орхомен. Я действительно так думаю.
– Почему? – спросил Орхомен.
Аристон ему рассказал. Все, до мельчайших подробностей. Голос его звучал ровно, почти бесстрастно. От этого рассказ производил еще большее впечатление. Ничто так не усугубляет ужас, как спокойный тон рассказчика.
– Понятно, – кивнул Орхомен. – Хочешь, я убью сирийца? Или свинью-управляющего, который рассказал ему о тебе?
– Нет, я не хочу ничьей смерти. Пока я жив, я не хочу причинять мужчинам… или женщинам боль, не хочу никого унижать. Нет ничего хуже этого, друг. Я бы хотел посвятить жизнь таким людям, обиженным, униженным, лишенным человеческого достоинства, лишенным…
– Человечности, -подсказал Орхомен.
– Ты меня понимаешь. А теперь встань.
– Встать? – переспросил Орхомен.
– Да. Я найду тебе женщину. Тебе это нужно… после стольких месяцев. Может, мне тоже, но не думаю. Я уже пережил это… Надеюсь…
– Пережил? Что пережил?
– Мне уже не нужно доказывать себе, что я мужчина, – пояснил Аристон.
– Ну хорошо, – согласился Орхомен. – Хотя я, наверно, уже не испытываю тяги к женщинам. Когда рядом нет никого, кроме волосатых, вонючих мужиков, поневоле входишь во вкус…
– Я не вошел, – сказал Аристон. -Ладно, пойдем.
Он не повел Орхомена в порнобоскион, порнею или еще в какой-нибудь бордель. И с Парфенопой тоже не познакомил. Аристон подозревал, что она придет в восторг от богатырского телосложения и мощи Орхомена. А юноша боялся ее потерять. Ужасно боялся.
Вместо этого он повел друга-врага, несостоявшегося любовника, в тот квартал, где можно было повстречать алев-трид-флейтисток и даже не очень знаменитых гетер. Аристон принял необходимые меры предосторожности и раздо– был себе и Орхомену по трости, без которых их могли принять за пьяных и взять под стражу: в этом квартале власти строго преследовали флейтисток, танцовщиц и попрошаек. Оба, и Аристон и Орхомен, были богато одеты. А благородный вид и воспитание Аристона служили им прекрасной гарантией безопасности, пока они не раскрывали рты. Но скажи друзья хоть слово – все пропало бы, ибо афинские власти не церемонились с метеками, чужаками.
Все оказалось просто. Слишком просто. Едва они добрались туда, как увидели маленькую резвушку с крашеными светлыми волосами. Она шла впереди них и с усмешкой поглядывала через плечо. Когда девушка прошла под фонарем, они увидели, что в подошвы ее блестящих сандалий вбиты гвоздики, оставляющие на пыльной мостовой надпись «следуй за мной».
Аристон поравнялся с девушкой.
– У тебя есть подружка? – спросил он.
– Для кого? – прошептала она.
– Для меня, – сказал он.
– Я пойду с тобой, ягненочек, – сказала она. – Даже без денег, если у тебя их нет. Мы ведь нечасто получаем удовольствие от нашего ремесла. А такой юноша, как ты, калон…
– Тогда нужна подружка для моего друга, – настаивал Аристон.
Девушка взглянула на Орхомена и содрогнулась.
– Для этого жуткого урода? Фу! Зачем он тебе?
– Он мой друг. Он спас мне жизнь в бою. У него такой вид, потому что его взяли в плен и обратили в рабство. А вообще он очень милый.
– Ладно… Я попытаюсь. Но ему придется ограничиться простой порной. Правда, хорошей. Чистой. Ее зовут Тар-гелия, если тебя это интересует. Когда она свободна, я разрешаю ей оставаться у меня дома, чтобы она могла подзаработать денег и купить себе вольную. Она довольно хорошенькая. Да, она слишком хороша для такой жизни!
– Отлично, – кивнул Аристон, – Но надеюсь, она сильная девушка. Мой друг целых семь месяцев не прикасался к женщине, так что…
– О Эрос, спаси нас! – воскликнула маленькая гетера.
Когда Орхомен и Таргелия покинули комнату, маленькая гетера по имени Феорис – ей исполнилось лишь пятнадцать лет – подошла и села к Аристону на колени. Потом начала его целовать. Очень умело.
Аристон отстранил ее.
– Не надо.
Она удивленно подняла на него глаза.
– Почему?
– Не знаю. Наверное, я не в настроении. Но ты не волнуйся. Я тебе все равно заплачу.
Девушка посмотрела на него с некоторой тревогой.
– Милый, может, ты не по этой части? Аристон улыбнулся, нисколько не смутившись.
– Вовсе нет, – сказал он.
– Тогда докажи!
– Если б я не интересовался женщинами, то не пришел бы к тебе. А будь я не уверен в своей мужественности, то тогда бы наверняка старался доказать и тебе и себе… Но я не страдаю ни тем, ни другим. А значит, нет нужды и доказывать. Мне просто скучно, Феорис. И немножко грустно. Ты не можешь мне дать то, что я ищу…
Она произнесла короткое, очень выразительное аттическое ругательство.
Он усмехнулся.
– Извини. Я не хотел тебя обидеть. Ты красивая девушка, Феорис. Клянусь Афродитой! Просто…
– Что просто, калон?
– Я не думаю, что мне нужна красота…
– Тогда что же тебе нужно, во имя черного Аида? – воскликнула Феорис. Аристон улыбнулся.
– Можешь назвать это любовью, – сказал он. – Мне нужно то, что не выставляется на продажу. Любовь нельзя купить или подделать. Она бесценна… если ее удается найти. Да, если когда-нибудь удается.
Девушка продолжала смотреть на него испытующим взором.
– Милый, ты что, хочешь сказать, тебя никто никогда не любил?
Он покачал головой:
– Любили. Однажды.
– А что с ней стряслось?
– Она умерла. Хотя нет… Ее убили.
– Из-за… тебя?
– Из-за меня.
– Расскажи мне.
– Нет, – отрезал Аристон.
– О! – прошептала Феорис. – И с тех пор ты все время ищешь…
– Нет. С тех пор я никого и ничего не ищу. Кроме разве что паромщика и Черной Реки. Я спускался к ней однажды… туда, в Тартар. Но за мной пришел мой отец и привел обратно. Я помню, как она стояла на коленях между Аидом и Персефоной и плакала, простирая ко мне руки. Но во мне слишком много жизненной силы. Я не смог умереть. Хотел, но не смог.
– Милый, тебе никогда не говорили, что ты немножко сумасшедший?
Аристон ласково улыбнулся:
– Только немножко, Феорис?
– Да нет. Ты безумнее самых безумных мечтателей. Но это безумие какое-то… милое. Мне нравится. И ты мне нравишься. Сделай мне одолжение, калон…
– Какое? – спросил Аристон.
– Ложись со мной. Я буду любить тебя так, словно только что познала любовь. Словно мы ее с тобой сами выдумали. Как… как твоя невеста. Робко, застенчиво, нежно и… ласково.
– Нет, – сказал Аристон. – Мне очень жаль.
– Тебе очень жаль?! Скажи, калон, сколько ты мне заплатишь за то, что НЕ сделаешь этого?
– Сколько хочешь. Пятьдесят драхм. Мину. Две.
– Две мины! Хорошо. Покажи.
Аристон вынул из кошелька две тяжелые серебряные монеты. В каждой было сто драхм. Он протянул деньги девушке.
Но Феорис неожиданно помотала головой:
– Нет! Оставь их себе! Засунь их себе в задницу! Хотя нет… ты… соверши на них жертвоприношение… в память о ней. На высоком алтаре перед Парфеноном. Чтобы боги сжалились над ее тенью и душой. Сделай это от моего имени. Хорошо, калон?
Аристон вдруг увидел, что она плачет.
– Феорис! – позвал он.
– Теперь ты можешь говорить, что нас было двое… Тех, кто тебя любил. Потому что я тоже люблю. Это ужасно. Наверно, я умру. Когда занимаешься таким ремеслом, не можешь себе позволить влюбляться. Но я… я влюбилась! Это танталовы муки, сизифов труд… Вот на что это похоже. Скажи… она была… девственницей, да?
– Да, – кивнул Аристон. – Она была посвящена Артемиде.
– Уходи! – воскликнула Феорис. – Отправляйся домой, калон!
– Но, Феорис…
– Этот здоровый бык сам найдет обратную дорогу. А я не вынесу… Не могу я смотреть на тебя и умирать от желания. Но что я в состоянии тебе предложить? Себя, такую потасканную, грязную? Афродита свидетельница, у меня была целая сотня мужчин. Нет, даже больше. Но сейчас я… я хочу…
– Что, Феорис?
– Хочу снова стать чистой. Невинной. Стать твоей. Твоей первой девушкой. А ты чтобы стал моим первым мужчиной. И последним. Навеки. Поэтому убирайся отсюда, калон! Иди! И больше не возвращайся!
– Феорис… – начал Аристон.
Но тут они услышали крики Таргелии. Аристон с Феорис переглянулись и одновременно повернули головы к двери. В комнату ворвалась Таргелия. Она была голая и везде: на ее плечах, груди, животе и бедрах – виднелись кровоточащие раны. На горле и плече были следы от укусов. Один глаз у нее распух и покраснел.
– Спасите меня! – кричала она. – Он… он сошел с ума!
Аристон схватил ее за руку и спрятал у себя за спиной как раз в тот момент, когда в дверь ворвался Орхомен с ножом. Он скалился от неистовой, демонической радости. Глаза его дико сверкали. Могучее тело сотрясалось от беззвучного смеха.
– Где она? – проревел он. – Дай мне до нее добраться, мальчишка! Я разрежу ее на мелкие кусочки и съем сырой. Это самая вкусная козочка, которую я…
Аристон не колебался ни секунды. Он взмахнул рукой и ударил Орхомена по лицу. В маленькой комнате пощечина прозвучала очень громко.
Орхомен затряс головой, словно бык, готовый ринуться в бой. Но потом его глаза прояснели. Он посмотрел на Аристона, на девушек, на нож в своей руке… Орхомен разжал сильные пальцы и выронил нож.
– Я выпил слишком много вина, – пробормотал он. – Хотя нет… Дело не в этом. Я пытался убежать с приисков. Они… они били меня по голове палицей. И с тех пор…
– Нет, это тоже ни при чем, – сказал Аристон.
– Наверно. Наверно, виновата жара. Вредные испарения. Темнота. Сильная боль. А может, дело во мне. Что-то во мне надломилось. Я… я убил там мальчика. Сначала обладал им, а потом убил. Сам не знаю почему. Тала больше нет. Ты убил его, ты, смазливый ублюдок-отцеубийца! Никто не может мне объяснить…
– Что? – спросил Аристон.
– Объяснить про зло, – сказал Орхомен.
– Пойдем, Орхомен, – вздохнул Аристон. – Пойдем домой. Тебе надо прилечь, отдохнуть.
– Нет, – заплетающимся языком возразил Орхомен. – Я должен извиниться. Извиниться перед этой маленькой дриадой. Перед этой лесной нимфой. Я ее обидел. Жестоко обидел. Мне очень жаль. И я хочу ей это доказать. Таргелия!
– Да… да, Орхомен? – пролепетала девушка.
– Выходи! Встань гордо, как царица! Вот так! Орхомен упал на колени и поцеловал ей ноги. Потом поднял правую ногу Таргелии и поставил на свою могучую, мускулистую шею. Повернув большую голову, он взглянул округлившимися глазами на ее обнаженное тело.
– Теперь я твой раб.
– О, вставай, вставай, дурень! – поморщился Аристон. Но Таргелия смотрела на высокого спартанца не отрываясь. Смотрела с трепетом и гордостью. И с какой-то…
нежностью.
– Оставь его, мой господин, – прошептала она. – Он больше не обидит меня. Правда… любимый?
– Могилой своего учителя Тала клянусь, что никогда не обижу тебя! – воскликнул Орхомен.
Феорис вопросительно поглядела на Аристона.
– Он не обидит ее, – подтвердил Аристон. – Он скорее умрет, чем нарушит эту клятву.
Через два месяца после тех событий Орхомен женился на Таргелии. Он смог это сделать, потому что она, как и он, была из метеков – чужеземкой, жившей в Афинах.
Расположившись подле приемного отца за свадебным столом, где налегали не на еду, а на вино, а затем выходили танцевать. Аристон захлебывался от бессильной ярости. Сперва он просто удивился, что Тимосфен принял приглашение, но потом, когда понял, почему отец это сделал – исключительно ради него, Аристона, ибо Орхомен был его лучшм другом, – ему стало не по себе. Ведь пир устраивался в доме Алкивиада, из-за которого и погиб Фебалид. Тимосфен наверняка не знал подробностей той чудовищной истории. Он, должно быть, полагал, что его сын сам вызвался править колесницей Алкивиада на состязании, завершившемся для него столь трагично. То, что Фебалид правил колесницей, было далеко не редкостью. Молодые афинские аристократы очень часто правили во время празднеств либо своими колесницами, либо колесницами друзей. Иногда кто-нибудь из них даже оказывался победителем, но это случалось лишь иногда.
Однако сейчас Аристон гневался по другому поводу. Он глядел на Орхомена, сидевшего возле невесты. Лицо друга выражало смущение.
– Еще бы! – пробормотал Аристон. – Пойти на такое! Во имя черного Аида, как он умудрился познакомиться с Алкивиадом, этим двуличным мерзавцем?
Тимосфен наклонился к приемному сыну. На его благородном, гордом лице была написана тревога.
– Что тебя гнетет, сын? – спросил он.
– Ничего, отец, – покачал головой Аристон. Но Алкивиад заметил, что они склонились друг к другу, и, словно танцор, легко вскочил на ноги. Он подошел к Аристону и Тимосфену и встал перед ними, покачиваясь. Его красивое, но уже потрепанное лицо осветилось лукавой улыбкой.
– Правда, моя маленькая сестренка очаровательна? – спросил он, сюсюкая. (Алкивиад всегда сюсюкал.)
– Очень, – сухо отозвался Аристон.
– Ты понимаешь, в чем дело, не так ли, благородный Тимосфен? – продолжал Алкивиад. – Моя двоюродная сестренка Таргелия – сирота, она из той моей родни, что живет на Лесбосе. Вот я и подумал, что как родственник должен устроить этот пир, дабы все могли оценить ее знатность и чистоту.
– Это, конечно, благородно с твоей стороны, – сдержанно произнес Тимосфен. Он не любил Алкивиада. Хотя Тимосфен не знал, насколько велика его ответственность за смерть Фебалида, ему все равно тяжело было видеть человека, который имел отношение к разразившемуся несчастью. Но даже если закрыть на это глаза, он и без того много слышал об извращенности Алкивиада, о его пороках и грехах. Человек, приходившийся племянником бессмертному законодателю Периклу, мог бы себя вести и поприличней. Из уважения к заслугам дяди, во имя чести семьи. С другой стороны, несколько старомодному Тимосфену казалось, что мужчина, наплодивший столько внебрачных детей, сколько Алкивиад, мог бы оставить в покое мальчиков.
– Ну, с твоим благородством мне не сравниться! – торжественно произнес Алкивиад. – Ибо если я заменил бедной Таргелии отца, которого она потеряла в раннем детстве, то ты…
– Я позволяю Орхомену ввести ее в мой дом. Но это лишь красивый жест. Можно назвать это выгодной сделкой. Он служит у меня меньше месяца, но принес больше выгоды, чем любой другой управляющий. Да и невеста его очень милая,да?
– О, да! Безусловно! – подхватил Алкивиад. – Она сегодня же вечером вывесит из окна свою ночную сорочку, ей нечего бояться или стыдиться.
– Алкивиад, пожалуйста! – не выдержал Аристон.
– Прости меня, прекрасный Аристон! Клянусь Эросом, ялюблю тебя! Я не хотел тебя смущать– Ведь общеизвестно…
– …что у нас есть варварский обычай вывешивать из окна окровавленную сорочку невесты в доказательство ее девственности. Ладно! Но зачем говорить об этом заранее?
– Как ты деликатен, калон! – усмехнулся Алкивиад. – О боги! Наверно, отчасти поэтому ты так обворожителен! Хочешь еще вина? Кусок свадебного пирога?
– Ничего я не хочу, спасибо, – сказал Аристон.
– Ну, хорошо, тогда я вас оставлю, тем более что мое общество тебе, должно быть, не по душе…
– Оставляй, – сказал Аристон.
– Сын, – обратился Тимосфен к Аристону, когда Алкивиад отошел от них, – я знаю, что он чудовищно непристоен, но разве обязательно быть с ним таким грубым?
– Обязательно, отец, – сказал Аристон. – Он все время пристает ко мне, просит, чтобы я ему отдался. А ведь он женат, и у него есть ребенок! Алкивиад хвастается, что спит с Сократом, хотя это грязная ложь! Сократ не занимается любовью с мужчинами. Он отрубил хвост своей собаке только потому, что люди восхищались ее удивительной красотой. Он предпочитает, чтобы его ругали за жестокость, лишь бы не забывали о нем. Жена бросила его…
– А он вынес ее из зала суда на руках, и она до сих пор с ним мучается… Все это я знаю. Не пересказывай мне сплетен, сын. Не мужское это занятие. Однако я все равно не понимаю, почему ты так разгневан.
– Отец, – осторожно произнес Аристон, – если я тебе расскажу, ты не испортишь свадьбу?
– Конечно, нет! – удивился Тимосфен.
– Тогда я скажу. Это все ложь! Она не сестра Алкивиада.
Она обыкновенная шлюха. Все женщины, собравшиеся тут и изображающие родственниц и подруг, либо порны, либо алевтриды, либо малоизвестные гетеры. Он не осмелился пригласить более знаменитых вроде Парфенопы, боясь…
Аристон вдруг осекся, услышав, что Тимосфен спокойно прищелкивает языком.
– Хорошая шутка! – сказал приемный отец. – Очень неплохой замысел! А я тупоголовый болван, так? Свадебная процессия, составленная из флейтисток и факелыциц, препровождает бедную маленькую шлюшку из публичного дома в мой! Благородный Тимосфен оказывает почести проститутке! Ха! Чтобы такое выдумать, нужны мозги, сынок. Изобретательно! Скажи, а Орхомен знает? Ну, что она продажная девка?
– Да, отец. – кивнул Аристон, – Он… он искренне ее любит. Он думает, что его любовь возродит ее, и…
– Тогда ладно. Я вытерплю все это, – сказал Тимосфен. – Хотя жаль, что он так поспешил. Даже среди метеков встречаются прекрасные, целомудренные девушки.
– Ты мне подыщешь такую, когда пора будет жениться? – попросил Аристон.
– Ты ведь знаешь, я тоже не могу жениться на гражданке Афин.
– Какой идиотский закон! – возмущенно буркнул Тимосфен. – Глупее Перикл ничего не мог придумать! Он на своей шкуре в этом убедился, когда встретил Аспазию. Развелся с женой и стал жить с этой крашеной светловолосой чужеземкой, несмотря на то что…
– Отец, – сказал Аристон, – не ты ли говорил, что сплетни – не мужское занятие?
– Верно. Но меня беспокоит эта история. Я всеми способами пытался добиться для тебя афинского гражданства.
– Но на войну меня не отпустил, – сказал Аристон.
– Я бы отпустил, если б из этого вышел толк. Но с тех пор как многие метеки разбогатели и стали влиятельными людьми, они возбуждают зависть! Даже если ты голыми руками захватишь в плен спартанца, Собрание Пятисот не пожалует тебе гражданства. И потом, риск слишком велик. Ты лакедемонянин. Если попадешь в плен, тебя объявят предателем и замучают до смерти. Так что забудь о воинских подвигах!.. Но этот закон для меня как заноза. Я не хочу, чтобы в жилах моих внуков текла кровь какой-нибудь сирийской потаскухи!
–Ну, а египтянка тебя устроит, отец? – нарочито серьезно произнес Аристон. – Мне очень нравится их смуглая кожа. Или, скажем, эфиопка? Они такие черненькие и блестящие, как племенные кобылки… А может, лучше найти скифскую девушку? У них очень милые раскосые глазки…
– О, не болтай ерунды, мой мальчик! В любом полисе Эллады ты найдешь среди метеков и эллинских девушек. Только… что мы будем знать об их родителях?
– А что ты знаешь о моих, отец? – спросил Аристон.
– Вполне достаточно. Скажи… у тебя есть любовница среди этого сброда? Вон та маленькая резвушка просто пожирает тебя глазами…
– Да, я ее знаю, – спокойно отозвался Аристон. – Ее зовут Феорис. Но мы с ней не любовники. Я совершил ошибку: отверг ее. И с тех пор она вбила себе в голову, что влюблена в меня. Два раза в неделю она приходит к Пар-фенопе и берет у нее уроки. Хочет стать культурной. Она думает, я ее отверг, потому что она невежественна.
– А это действительно так? – спросил Тимосфен.
– Нет. Она просто не интересует меня, вот и все. Никто из них меня не интересует, даже Парфенопа. Странно… Я до сих пор ищу девушку, которую потерял… Хочу, чтобы она была похожа на Фрину. Но наверно, все попусту…
– Конечно. Я усыновил тебя, потому что ты был похож на Фебалида. Но оказалось, что вы совершенно разные. Вы ни в чем не схожи, хвала Зевсу! А… вон тот юноша… Кто он?
– Не знаю. Я его никогда раньше не видел.
– Он на тебя так смотрит! Сразу напрашивается мысль, что…
– Посмотрит и перестанет, – нахмурился Аристон. – Ты же знаешь, как я отношусь к подобным вещам.
– Странно, что здесь нет твоего любимого Сократа, – заметил Тимосфен.
– Ничего странного. Он далеко… на войне, отец. Я молю Зевса, чтобы он сохранил Сократу жизнь!
– Хм! Представляю, какой солдат из этого болтуна! Аристон горячо принялся доказывать своему приемному отцу:
– Он прекрасный солдат! Просто превосходный! Неужели ты не знаешь, отец! В Потиаде, на пятьдесят восьмом году после битвы при Марафоне, он спас Алкивиаду жизнь и отобрал у спартанцев Алкивиадов щит. Спроси Алкивиада, если ты мне не веришь! Всю ночь Сократ один сражался с целым полчищем врагов! Он получил награду за храбрость, но отдал ее Алкивиаду, побуждая нашего свинью-хозяина к добродетели.
– Да, это ему, конечно, очень помогло! Впрочем… говорят, они любовники.
– Это ложь! Сплетни! Сократ не спит с мужчинами! А месяц назад в Делиуме он спас жизнь другому человеку, Ксенофону… тот упал с лошади. А ты прекрасно знаешь, какой Ксенофон герой. Спроси его, когда он вернется. Сократ был последним афинянином, покинувшим поле боя, а когда ему начали петь дифирамбы, он свел все к шутке и сказал, что лакедемоняне окаменели от ужаса при виде его уродства.
– Ну ладно. Я знаю, как ты предан своему наставнику Может, он и не такой уж злостный атеист, каким его представляют. Я сам видел, как он приносил жертвы богам. И все же…
Тимосфен осекся, увидев перед собой Феорис. Она была очаровательна. Особенно потому, что ее лицо было почти не нарумянено.
– Аристон… – выдохнула она.
– Это мой отец, Феорис. Не позорь меня перед ним, – оборвал ее Аристон.
Свадебная процессия быстро продвигалась к дому Тимо-сфена, оглашая ночь громкими криками. Внезапно Аристон почувствовал, что кто-то трогает его за руку.
– Я же сказал тебе, Фео…
Но это была не Феорис, а красивый мальчик, тот самый, что пожирал Аристона глазами в доме Алкивиада.
– Я Данай, сын Пандора, мне хотелось бы подружиться с тобой. Боюсь, я влюбился в тебя. Аристон, – сказал он.
Аристон хотел было ответить ему резко, жестко, жестоко, но почему-то не смог. Данай был слишком открыт, невинен… В нем чувствовалась искренность, аристократизм, благородство.
Аристон положил ему руку на плечо.
– Моим другом ты стать можешь, – с расстановкой произнес он, – но любовником – никогда.
– Почему? – вскинул на него глаза Данай.
– Приходи ко мне завтра в полдень, и я тебе объясню, – сказал Аристон.
Наутро, проснувшись, Аристон отправился в палестру, где он занимался самыми трудными видами единоборства и даже поднимал большие камни, пытаясь обезобразить свое тело шарами мускулов, чтобы оно казалось утонченным афинянам уродливым и смешным, ибо благородный человек не должен был иметь грубые мускулы, точно какой-нибудь раб. Выйдя из дома. Аристон увидел, что в окне на верхнем этаже что-то трепещется. Он остановился и пригляделся, Это оказалась ночная сорочка Таргелии, густо замазанная кровью. Алкивиад предусмотрительно снабдил счастливую чету живым цыпленком, из которого Орхомен и выжал убедительное доказательство девственности своей невесты.
«Что в нашей жизни не фарс!» – подумал Аристон и поспешил прочь.
Глава XIII
Аристон почувствовал, как сильная, дLинная рука, втиравшая ему масло между лопатками, вдруг остановилась, замерла. Аристон нахмурился. Неужели Данай все-таки не избавился от своих замашек? Неужто нельзя попросить нового друга помочь натереться маслом, не боясь при этом, что…
Аристон повернул голову и посмотрел на Даная. Но юноша глядел вовсе не на обнаженное тело Аристона. Его взгляд устремился в противоположный конец палестры. Аристон увидел там Феорис. Даже издалека было заметно, что ее глаза полны желания. Аристону не понравился ее взгляд. Он сразу вспомнил, что на нем нет одежды. Ей не следует так смотреть на него при людях. Стыдно столь откровенно демонстрировать вожделение.
Затем Аристон обратил внимание на то, что в глазах Даная, устремленных на Феорис, застыло какое-то странное выражение. Аристон не понимал, какое именно… вернее, понял, но не сразу. Это была не просто похоть. Нет, во взгляде Даная сквозило смятение, стыд.;. Тут Аристон наконец-таки понял. Его неожиданно осенило.
– Ты хочешь мне что-то рассказать. Дан? – спросил он.
– Аристон, я… Пусть Харон утопит мою подлую душу в Черной Реке… я…
– Что, ты?
– Я… я обманул тебя… С ней! – признался Данай.
Аристон запрокинул голову и рассмеялся. Заслышав этот звонкий, веселый смех, соперник Аристона, лежавший на другом столе, где его тоже натирали маслом, приподнялся и удивленно уставился на юношу. Аристон очень любил своего противника. Особенно ему нравилось, что Автолик, сын Ликона, несмотря на свою необычайную красоту, вполне сравнимую с красотой самого Аристона, вовсе не был женоподобным.
Автолик отворотился от наставника, знаменитого борца, которого, по случайному совпадению, тоже звали Аристоном (так что когда он порой соизволял показать нашему Аристону пару приемов, местные остряки приходили в восторг и начинали кричать: «Глядите! Аристон ломает ноги Аристону!», и посмотрел в противоположный конец палестры.
Потом насмешливо усмехнулся.
– Слушай, Аристон, пусть крошка Феорис будет призом, который получит победитель, – предложил он.
– Не могу. Она не принадлежит мне… и никогда не принадлежала, – покачал головой Аристон. – Тебе в таком случае надо сразиться с Даном.
– Дан не силен в драке, – зевнул Автолик. – Лучше пускай приведет сюда своего брата Брима. Или Халкодона. Аристон, ты когда-нибудь боролся с Халкодоном? Он обожает, когда его бьют. Всякий раз визжит: «О дорогой, еще, еще!»
Аристон перевел взгляд на Даная.
– Ты был прав, – грустно кивнул Данай, – нет ничего хуже. Я, наверно, не понимал этого, потому что у меня и отец такой, и братХалкодон. ХвалаЗевсу, хоть Брим другой. Но он все равно грязная свинья… Так вот. Аристон, я хотел сказать насчет Феорис…
– Забудь об этом. Ты же знаешь, она мне безразлична. Дан, во имя Геракла, натри меня скорее маслом!
Когда Данай закончил притирания, а второй Аристон натер оливковым маслом Автолика, два юных атлета направились к яме с теплым песком, улеглись в нее и начали кататься с боку на бок. После этого они еще посыпали друг друга песочком, потому что маслом борцы натирались лишь для гибкости мышц, а не для того, чтобы кожа была скользкой (хотя, конечно, избежать этого не удавалось). Среди борцов считалось почетной обязанностью посыпать друг друга песком после притираний. Вдобавок это давало возможность, не нарушая приличий, пощупать мускулы противника.
Направляясь вместе с Автоликом на площадку для борьбы, Аристон увидел, что в палестру пришли еще два зрителя.
– О, Аид! – с чувством произнес он. Автолик усмехнулся:
– Ты что, тоже знаешь Крития?
– Нет, – покачал головой Аристон. – Я выругался, потому что увидел Алкивиада. Значит, второй – это Кри-тий? А кто он такой?
– Дядя Хармида. Мы его прозвали Старикашка Шаловливые Ручонки. Он ко всем пристает, фу! Отвратительное создание. Знаешь, что с ним сделал Алкивиад?
– Наверно, склонил к сожительству, – сухо сказал Аристон.
– Нет. Алкивиад в этом смысле нормальный. Он просто притворяется извращенцем… одна мудрая Афина знает почему. Он так разыграл Крития – умора! Пообещал ему свидание со мной и подстроил все так, чтобы Критий вошел в комнату, не зажигая света. А там его поджидала в кровати гетера Лаис… в чем мать родила! Знаешь, что случилось с Шаловливыми Ручонками, когда он на ощупь определил, что рядом женщина?
– Что? – спросил Аристон.
– Его вывернуло наизнанку! – расхохотался Автолик.
– Он что, законченный, да? – с некоторым удивлением поинтересовался Аристон.
– Хуже! Другого такого на свете не сыскать! Ну что, ты готов?
Первое очко получил Автолик, второе – Аристон. Автолик был гораздо искусней, но Аристон вдруг почувство– вал, что не отстает от противника. Никто из них не старался причинить другому боль. Вернее, изо всех сил старались НЕ причинить боли. Борьба панкратеон, если ею заниматься серьезно, была смертельно опасной. В отличие от обычной борьбы, здесь разрешалось пускать в ход кулаки, ноги, бить ребром ладони. По крайней мере, дюжина ударов, достигнув цели, вызывала мгновенную смерть. Все присутствующие в палестре видели однажды трагическую картину: раб из дома Хармида, сына Глаукона, внезапно обезумел и начал бросаться на всех подряд с большим ножом. Тогда испытанный боец, наставник Аристон, много лет прослуживший в палестре, набросился сзади на бедного сумасшедшего и убил его голыми руками.
Так что борцы не случайно соблюдали осторожность. Малейшая ошибка могла обернуться для противника тяжелым увечьем или даже смертью. Наставник Аристон озабоченно следил за Автоликом и юным Аристоном. Из всех зрителей он один по-настоящему осознавал, насколько опасен панкратеон.
Другим же это до странности напоминало дионисийские пляски, неистовые и в то же время поразительно изящные. То Автолик замахивался, намереваясь нанести Аристону сокрушительный удар, но Аристон успевал поймать его руку и отвести ее в сторону. То Аристон целился Автолику ногой в живот – отчего у сына Ликона могли вывалиться наружу кишки, – но Автолик отклонялся в сторону, хватал Аристона за лодыжку и, высоко вздернув ногу противника, бесцеремонно валил его на спину. Всякий раз, когда Аристон получал очко – а это случалось трижды, – Критий издавал восторженные восклицания и хлопал в ладоши. Алкивиад тоже изъявлял радость, но сдержанней.
А потом случилась беда: Аристон не успел вовремя отшатнуться, и железный кулак Автолика рассек ему переносицу. Рана была несерьезной, но кровоточила страшно. Аристон отпрыгнул в сторону и помотал головой, чтобы вернуть ясность мысли. И в этот момент Феорис заметила на его лице кровь.
Она пронзительно, жутко вскрикнула. Аристон слегка повернулся на этот крик, и второй сокрушительный удар Автолика, от которого Аристон, как всегда, успел бы увер– нуться, нагнувшись или же загородившись рукой, обрушился на его незащищенную челюсть. Ноги Аристона подкосились, и он без чувств рухнул на землю.
Феорис мгновенно оказалась подле него. От ужаса и отчаяния на ее ногах словно появились крылатые сандалии Гермеса. Она бросилась на колени, схватила безвольную руку юноши и начала покрывать его грязное, потное, окровавленное, намазанное маслом лицо влажными поцелуями, которые заглушали безумные вопли, вырывавшиеся из ее рта.
Критий стоял в каком-нибудь шаге от нее и прекрасно видел эту душераздирающую сцену. С его губ, змеясь, поползли шипящие слова:
– Отпусти его, шлюха! Ты его задушишь… Или отравишь своими мерзкими поцелуями!
Данай потрясеный уставился на Крития. В отличие от Аристона, он его хорошо знал, поскольку Критий принадлежал к тому же кругу, что и отец Даная Пандор, и брат Халкодон. Данай всегда восхищался Критием как великолепным поэтом, драматургом, образованнейшим человеком и непреклонным, решительным политиком. Но теперь он увидел лишь безобразную, извращенную страсть, стал свидетелем горькой, бездонной ненависти, которую Критий питал ко всем женщинам без изъятия. Даже к нежной бедняжке Феорис, в которую он, Данай, был влюблен.
Данай подскочил к Критию и оттеснил его плечом. Данай, Алкивиад и другой Аристон отнесли юношу в гимнасий. Автолик шагал сзади, он был бел как полотно, дрожал, по его грязному лицу текли слезы.
– Я убил его! – рыдал он. – Я вскрою себе вены. Клянусь Герой!
– Ты не виноват, прекрасный юноша, – сказал Критий. – Это все мерзкая потаскушка, она…
Данай в упор поглядел на Крития.
– Если ты скажешь это еще раз, я тебя убью, – предупредил он. Придя в себя, Аристон увидел пять лиц, тревожно склонившихся над ним. Феорис в гимнасий, естественно, не допустили. Тезка Аристона массировал ему шею своими могучими, большими руками. У Аристона зверски болела голова, но под искусными пальцами панкратиста боль постепенно стихала. Юноша улыбнулся друзьям.
– Мне уже хорошо, – сказал он.
– О Зевс! Как ты меня напугал. Аристон! – воскликнул Автолик. – Я так ругал себя за то, что натворил!
– За то, что стукнул меня по башке? – усмехнулся Аристон. – Удивительно, как ты руку не сломал. Дан, будь добр, соскреби с меня масло, ладно?
Остальные вышли обратно в палестру, дожидаясь, пока Данай и наставник Аристон соскребут с кожи юношей грязное масло и песок, а затем намажут их другим, более благовонным составом. К тому времени как все процедуры были закончены, Аристон уже почти оправился, если не считать опухшей челюсти и ноющей боли в голове. Они с Автоликом оделись, то есть нацепили хитоны и подпоясались шнурками. Когда они вернулись на площадку, встревоженный Автолик все время держал Аристона за руку.
– Со мной ничего страшного, Автолик. Честное слово! – сказал Аристон. – Отпусти меня. Я сегодня обедаю с Даном, а потом меня ждет куча дел. Пообедаешь с нами?
– Не могу, – отказался юный борец. – Мне сегодня нужно разделить трапезу с Клейнием, двоюродным братом Алкивиада. Он ужасно назойливый, но хотя бы руки не распускает. Да, сейчас ты уже выглядишь нормально. Спасибо Зевсу, у тебя башка твердая, как мрамор. Возрадуйтесь, Аристон и Дан! Позабавьтесь за меня с Феорис, не знаю уж, кому из вас она сегодня достанется. Когда же она вам надоест, дайте мне знать.
– Болван! – чуть не зарыдал Данай. – Он не знает, он не в состоянии понять…
Аристон удивленно поглядел на него.
– Ты влюблен в Феорис?
– Да, – беспомощно сказал Данай. – Не было печали…
– Я поговорю с ней, – пообещал Аристон. – Я ей расскажу…
Но договорить он не успел, потому что Алкивиад и Кри– тий преградили ему путь.
– Отобедаешь со мной, прекрасный Аристон? – спро– сил Критий. – Я закажу диапрское вино, чтобы исцелить твою головную боль.
– Благодарю тебя, нет, – сказал Аристон.
– Почему? – поднял брови Критий.
– Я связан другим обещанием, – ответил Аристон.
– Ты обещал этой потаскушке? – Критий кивнул на бедную Феорис, которая стояла чуть в стороне и пожирала глазами Аристона.
– Возможно, – холодно проронил Аристон.
– Не могу этого понять! – воскликнул Критий. – Женщины! Как вы, юноши, только выносите этот запах испорченного козьего сыра и протухших сардин?
– Да, тебе этого не понять, правда? – усмехнулся Аристон. – Ты никогда не поймешь, да сжалятся над тобой великие боги!
– Лучше ты надо мной сжалься, прекрасный Аристон, – вкрадчиво признес Критий. – Поужинай со мной как-нибудь наедине…
Он вытянул руку и томно положил ее на плечо Аристона.
И зря. Ведь Аристон полгода вынужден был, задыхаясь от отвращения, терпеть прикосновения таких мерзавцев. Слепая, безрассудная ярость помрачила его взор. Он поймал руку Крития и вывернул ее в запястье. А затем перевернул Крития в воздухе и отбросил в сторону. Критий молча поднялся на ноги и, заметно прихрамывая, удалился.
Алкивиад впервые за все это время нарушил молчание.
– Не следовало тебе так поступать, Аристон, – сказал он.
– Почему? – возмутился Аристон.
– Потому что Критий никогда не забывает обид и оскорблений, – сказал Алкивиад.
– Ну и что? – передернул плечом Аристон.
– Ты его недооцениваешь, – добавил племянник Пе-рикла. – Так же как и меня.
Алкивиад поглядел вокруг, его темные глаза помрачнели.
Когда-нибудь я буду править этим полисом, – заявил он.
– Станешь стратегом-автократором? Как твой дядя Пе– рикл? – спросил Аристон.
– Если афиняне будут понимать, в чем их благо, тогда я буду править как автократор. Если же нет, то как тиран! – молвил Алкивиад и, повернувшись на пятках, вышел из палестры.
Аристон поглядел вслед богатому и знатному юноше.
– А ведь он действительно так думает! – пробормотал Аристон. – Странно… Я впервые видел его серьезным.
– Алкивиад – многогранный человек, – медленно произнес Данай. – Вполне вероятно, что он нарочно кривляется, прикидываясь женоподобным щеголем, жеманным болваном. Он сделает то, что обещал. А ты его действительно недооценивал. И я тоже, и все мы.
– Аристон… – внезапно прошептала Феорис.
– Да, Фео? – беззлобно спросил Аристон.
– Если… если б он убил тебя, я была бы виновата. – От страха Феорис даже охрипла. – Я отвлекла твое внимание, и ты…
– Забудь об этом, Фео, – сказал Аристон.
– Можно мне немножко пройтись с тобой рядом? – спросила Феорис.
– Пройдись с Даном, – ответил Аристон. – Вы же теперь возлюбленные.
– Ну нет! – фыркнула Феорис. – Он… просто купил на часок мои услуги. Он получил доступ к моему телу, но не к сердцу или к душе. Почему бы и нет? Таково мое ремесло. Ты должен понимать, насколько это мало значит… Ты ведь сам когда-то завяз в этой трясине! А потом выбрался.
– И ты выберешься, – подбодрил ее Аристон.
– Нет. Никогда. Была одна дверка, да и ту ты захлопнул перед моим носом, – вздохнула Феорис. – Так что я навсегда останусь шлюхой…
– Ты не шлюха! – воскликнул Данай. – Ты…
– Гетера. Не такая дешевая шлюха, которую все топчут ногами. Но это небольшая разница, мой дорогой Данай! Во всяком случае, мне никогда не стать целомудренной, почтенной женщиной. Или ты соизволишь на мне жениться?
– Да! – сказал Данай. – Прямо сейчас. Сию минуту!
– Не будь дураком. Дан! – вмешался Аристон.
– Не надо. Дан, – прошептала Феорис. – Милый, милый Дан, не будь дураком! Никогда не люби безответно, как я. Не женись на публичной девке. Не бери в жены дешевую маленькую шлюшку, которую презирает твой лучший друг! Не женись на паршивой сучке, что ползает на брюхе у его ног и лижет подошвы отталкивающих ее сандалий. О нет! Никогда не делай этого!
– Фео! – с упреком сказал Аристон. – Я ведь не потому…
– А почему же? – воскликнула Феорис.
– Мое сердце истерзано, – промолвил Аристон, – разорвано на куски…
– …стаей горных волчиц, которые растерзали и твою возлюбленную Фрину! Собаки выгрызли из ее живота кишки, еще ей отрезали ноги и…
– Фео! – выдохнул Аристон. – Во имя Артемиды! Кто сказал тебе это?
– Орхомен. Вернее, он сказал Таргелии… утомившись от побоев, которыми он ее награждает, когда является домой пьяным. Он избивает бедняжку до полусмерти, жжет раскаленной кочергой, режет ножом… Он, конечно, безумен. А кто из нас нормален? Я, например, схожу с ума по тебе. Аристон, скажи… поклянись ее именем… Поклянись Фри-ной, ее могилой, что… что ты не любишь меня не из-за того, какой я стала не по своей воле! Скажи, что, если бы ты мог забыть тот кошмар, ты полюбил бы меня… хоть немножко! Скажи, Аристон! Поклянись, даже если скажешь неправду!
– Мне не нужно лгать. Я люблю тебя, Фео… Насколько я вообще способен любить. И я не презираю и не кляну тебя за то, как ты живешь. По какому праву я, которого тоже принуждали к разврату, буду смотреть сверху вниз на гетеру? Поверь, любовь, на которую я способен, уже принадлежит тебе.
– А что толку? И вообще я тебе не верю. В конце концов… ты же… спишь со старой, вечно молодящейся Пар-фенопой! – надула губы Феорис.
– Потому что я ее не люблю, – мягко сказал Аристон. – И потому что она тоже не придает этому значения.
Нам просто удобно, Фео. А с тобой… с тобой так не получится. Я не могу тобой пользоваться, милая девочка. Для меня ты слишком реальна.
– Ну хотя бы на этом спасибо, – вздохнула Феорис. – Но ведь ты собираешься жениться на младшей сестренке Дана, когда она подрастет…
– На Хрисее? – спросил Аристон. – Ты не поверишь, Феорис, но я ее ни разу не видел, хотя часто бываю у Дана дома.
– Здесь так принято, – натянуто произнес Данай. – Я тебе столько раз объяснял! Мы вовсе не хотим тебя обидеть. Незамужняя девушка не может принимать у себя гостей-мужчин. Ей разрешают видеться только с женихом, которого ей подыщет отец. Да и эти встречи проходят под надзором.
– Вот почему столь многие наши девушки выходят на улицу! – воскликнула Феорис. – Но все равно, даже если ты ее не видел, мой любимый Аристон, благородный Тимос-фен уже имел довольно длинную беседу в бане со старым жеманным развратником, отцом Дана… Кстати, Дан, я давно собиралась тебя спросить: как твоя мать умудрилась зачать детей? Она что, связывала своего мужа? Или наставляла ему рога?
– Фео! – возмутился Аристон.
– Я говорю чистую правду! Рядом с ним Критий выглядит Гераклом. Так что я не собираюсь извиняться перед твоим папашей, Дан. А насчет беседы, то говорят, что свадьба – дело решенное. Ни для кого не секрет, что старый Пандор потратил все свое состояние, до последнего обола, на мальчиков из заведений Гурга и Поликсена. А твой приемный отец, Аристон, ужасно богат, а…
– А Хрисее, – мрачно перебил Аристон, – насколько я знаю, еще не исполнилось двенадцати лет.
– Значит, остался всего год! Афинских девушек всегда выдают замуж в тринадцать лет… по той простой причине, что потом их уже не удержишь в девицах…
– До чего ж у тебя злой язык, Феорис! – поморщился Данай. – Не суди обо всех по себе. Что до меня, то я был бы счастлив породниться с Аристоном. Весь вопрос в том, будет ли он счастлив, женившись на Хрисее…
– А почему нет? – спросил Аристон.
– У нее характер хуже, чем у всех демонов Тартара вместе взятых, – печально вздохнул Данай. – И она, мягко говоря, имеет не очень привлекательную внешность. А на самом деле Хрисея – вылитая внучка Гекаты. В нашей семье никто не отличается красотой, но бедняжка Хрисея…
– Ты меня заинтересовал, – сказал Аристон. – Ты никогда не задумывался, чего мне стоила так называемая красота? Если мне суждено жениться, то я возьму в жены такую невесту, которая не передаст моим детям смазливую внешность, из-за нее всякие мерзавцы вечно ходят за мной по пятам. Да и вообще я не понимаю, почему мужчин так волнует, как женщина выглядит. Вполне довольно того, что у нее острый ум и доброе сердце.
– Великая Гера, спаси нас! – прошептала Феорис. – Я знала! Я так и знала! Тебе нужна лишь семья и доброе имя… Так что теперь…
– Теперь ничего, – отрезал Аристон.
– Что значит «ничего»? – простонала Феорис. – На следующий год, в это же время…
– Я буду веселиться на свадьбе малышки Хрисеи, которая выйдет замуж за кого-нибудь другого, – улыбнулся Аристон. – Ты упустила одну важную деталь, Фео.
– Какую?
– Я метек. Богатый, если хочешь знать, но все равно чужак. А тебе известно, что по этому поводу гласит закон?
– О! – выдохнула Феорис. – Ты никогда не сможешь жениться на афинской гражданке! Об этом я не подумала! О великая Гера, благодарю тебя!
– Но ты тоже гражданка! – криво усмехнулся Данай.
– А ему не нужно на мне жениться! – заявила Феорис. – Он может просто забраться ко мне в постель и оставаться там… всю жизнь. Ну конечно, признать наших детишек. Узаконить их. Но кроме этого… Аристон! Ты куда идешь?
– Вон в тот дом. Если хотите, пойдемте со мной. Аристофан не будет возражать.
– Комический поэт? – спросил Данай. – Он что, твой друг?
– В некотором смысле. Вообще-то он друг моего приемного отца. Они оба придерживаются очень консервативных взглядов. Сейчас мне нужна помощь Аристофана. Я собираюсь попросить у него роль в новой комедии. Он хорошо платит, а я потратил бы эти деньги на…
– Ты? – расхохоталась Феорис. – Тебе нужны деньги?! Настолько, что ты решил стать комическим геппокри-том, актером? Во имя Плутона! Я этому не верю! Тебе нужно лишь попросить Тимосфена, и он даст тебе хоть целый талант серебра…
– Нет, на сей раз он мне откажет. Ведь я хочу открыть свою собственную мастерскую. А он решительно возражает. Говорит, что работа не для благородных людей. Владеть чем-то, как владеет он, – пожалуйста. Но самому вести дела? Никогда! А мне надоела праздная жизнь. Все эти наставники, прекрасные лошади, безделье, удовольствия… Там, за высокими стенами, люди погибают! Мне пришлось спокойно глядеть, как уходил на войну Сократ… он рискует головой, а это лучшая голова, которую только знала история! Сократ сражается со спартанскими тупицами, такими же, каким был я сам, пока боги меня не облагодетельствовали, отправив в плен к афинянам. Не могу я болтаться без дела, Данай. А благородный Тимосфен считает, что именно этим я и должен довольствоваться как аристократ. Даже пример Фебалида ничему его не научил. Однако я хочу не просто заслонять своим телом Афины, это может сделать любой гоплит. Зевс свидетель, я стремлюсь к большему: ковать оружие, которое будет защищать нашу цивилизацию от варваров.
– Цивилизацию? – насмешливо переспросил Данай. – Ты считаешь нас цивилизованными людьми?
– Да. Несмотря на все ваши грехи. Я понял это, когда встретил Еврипида. Вот умный человек! Он такой же проницательный, как Сократ… А какие у него стихи! Я опьянел от них больше, чем от вина. Поверьте…
– Он женоненавистник, – изрекла Феорис.
– А ты, моя радость, – если ты действительно так считаешь, – просто дуреха. Ладно, идете вы со мной или нет? – оборвал ее Аристон.
Аристофан встретил их ласково. Это был невысокий смуглый человечек с мрачными, застывшими глазами и неулыбчивым лицом. Это всегда изумляло Аристона. Он много раз приезжал на лодке на остров Саламин, где в просторной пещере, обустроенной и обставленной как обыкновенное городское жилище, обитал Еврипид. И великий трагический поэт всегда был исполнен лукавства, а в его разговоре сквозил едкий сарказм, которого не чувствовалось в трагедиях. А этот коротышка, писавший самые забавные пьесы в мире, вечно печалился. По-настоящему!
– У меня есть к тебе просьба, – сказал Аристофан Аристону. – Я только что написал несколько строф для комедии «Облака». Пожалуйста, прочти их гостям. Ты ведь так великолепно декламируешь. У меня и для тебя есть роль. Ученика. Она второстепенная, но в ней есть неплохие строчки. Кстати, кто твои друзья? Данай, сын Пандора? Да, я знаю твоего отца. Однажды я вывел его в одной пьесе, очень колкой… но не отважился ее представить на сцене, побоялся, что Пандор потащит меня в суд… А кто эта юная красавица?
– Феорис, – серьезно ответил Аристон. – Если я когда-нибудь надумаю жениться, она станет моей супругой.
– Я смотрю, мне вовсе не нужно писать для тебя стихи, – пошутил Аристофан. – Ты и так говоришь стихами! Кстати, у меня в гостях Софокл… велиие авторы трагедий время от времени снисходят до нас, шутничков. Ты, дитя мое, – Аристофан лукаво поклонился Феорис, – доставишь ему большое удовольствие. Ему неохота признавать, что он старее Ночи и Хаоса, существовавших еще до Зевса. Пойдемте, пойдемте! О Софокл, взгляни на эту прелестную крошку! Сущий пир для твоих беспутных глаз, не так ли?
Феорис застыла, глядя на великого трагического поэта. Софокл легонько вздохнул.
– Как жаль, что сочинитель непристойных шуток не лжет, – сказал он. – Увидев тебя, детка, я готов молить богов, чтобы они скинули мне лет двадцать, не меньше.
– Тебе… тебе не нужно этого делать, мой господин, – прошептала Феорис. – Ты стар, но это неважно. Я никогда не видела такого красивого мужчины! Ты даже красивее Аристона, хотя, может, он тоже станет таким, когда годы отшлифуют его красоту.
Поглядев на Софокла, на его пышные белоснежные кудри, на белую бороду, водопадом струящуюся на грудь, на высокий лоб и белокожее, изящное, совсем не морщинистое лицо благодушного Зевса, Аристон понял, что маленькая гетера говорила правду. Ни один человек в Афинах не мог сравниться по красоте с Софоклом.
– Спасибо, дитя, – сказал поэт. – Иди, сядь у моих ног. Я обожаю юность… потому что утратил ее. А ты… ты как Антигона…
– Антигона? – переспросила Феорис. – А кто она такая?
– Ну, – сказал Софокл, – она была влюблена. Как и ты, дитя. Ибо:
О Эрос-бог, ты в битвах могуч! О Эрос-бог, ты грозный ловец! На ланитах у дев ты ночуешь ночь, Ты над морем паришь, входишь в логи зверей, И никто из богов не избег тебя, И никто из людей: Все, кому ты являлся, – безумны? Не раз сердца справедливые ты К неправде манил, на погибель влек, – И теперь родных в поединке свел Но в невесты очах пыл любви сильней! Вековечный устав утвердил ее власть. То богини закон, Всепобедной, святой Афродиты![3]– Неужели… неужели это все относится ко мне? – прошептала Феорис. – Все эти прекрасные, ужасные слова?
– Да, дитя, – сказал поэт.
Конечно, Аристон не мог знать, чем обернется встреча Феорис с Софоклом, но он сразу почувствовал какое-то странное волнение. Оно было так велико, что когда он начал читать издевательские стихи Аристофана – комический поэт безжалостно нападал на бедного беззащитного Сократа, называя его дом «мыслильней», писал, что одни ученики Сократа роют носом землю, исследуя глубины Тартара, а другие в небо поднимают задницы, считая «звезды собственными средствами», – волнение даже заглушило гнев, вызванный жестокостью Аристофана, ибо по-настоящему жесток бывает именно автор комедий, а создатель трагедий в душе всегда добр.
– Видишь? – одобрительно воскликнул Аристофан. – У тебя превосходно получается роль ученика. Ты сыграешь ее, ладно? Я мечтаю об этом с тех пор, как видел тебя в роли Гектора… ну, в «Гекубе» этого старого писаки Еврипида. Твой отец был в тот год хорегом. Старый брюзга только потому тебе и предложил участвовать в постановке. А я сразу понял, какой ты прекрасный актер. Разумеется, ты не нуждаешься в деньгах, но это не суть важно. Деньги все равно пригодятся, потратишь их на таких крошек, как эта, и…
– Ты ошибаешься, мне как раз очень нужны деньги, – возразил Аристон.
Софокл, гладивший черноволосую Феорис по голове – она перестала осветлять свои локоны, когда Аристон заявил, что ненавидит все эти фальшивые уловки, – поднял на юношу глаза.
– Почему, во имя Зевса? – удивился он. Тогда Аристон им все рассказал. Он говорил сперва медленно, но постепенно, по мере того как его мечта облекалась в слова, речь становилась все более торопливой и пылкой. Аристон сказал, что хочет быть достойным великого полиса, который он полюбил, ибо здесь исповедуют необычайную широту мысли и нравов. Настолько, что Аристофан может называть афинских граждан подлецами, а они все равно принимают участие в постановке его комедий. Еврипид бросает вызов самим богам, отрицает их существование, а его слушают с почтением. Софокл же воспевает древние мрачные преступления Эдипова рода, а ему вновь и вновь при– суждают Дионисийский приз. Здесь почитают и любят талант, а не губят, не душат, не замалчивают его, как в Спарте.
– Только, – закончил Аристон, – я не могу объяснить этого моему отцу. Он хочет, чтобы я был блестящим аристократом, не подозревая, что это значит быть праздным, женоподобным щеголем. А раз так, то мне нужно подобраться к нему с другой стороны. Я должен показать ему, на что способен. Боги свидетели, чего только я не перепробовал. Расписывал для вас обоих декорации. Ковылял вокругсцены на высоких котурнах, которые надевают, чтобы актер стал повыше. Нацеплял на себя маску безобразнее, чем лицо Аида, а в рот засовывал медный рупор, чтобы меня слышала даже чернь на задних рядах! Хотя вы вроде бы нанимали меня из-за моей красоты. Да уж, много от нее осталось, когда на голову мне нахлобучили онкос, а лицо закрыли трагической маской!
– Ты все равно хороший актер, мой мальчик, – сказал Софокл.
– Я надеюсь. Мне бы хотелось в чем-нибудь себя проявить. Я даже пытался попробовать силы в механике, придумал новые периакты для Еврипида: это такие треугольники, на каждой стороне нарисована своя картинка, и, поворачивая треугольник, можно трижды менять декорации. Еще я сделал ему новую экклему – табличку, на которой пишут о том, что произошло до начала пьесы, или описывают то, что нельзя показать по законам драмы.
– Да, мы не можем показать убийство, инцест или пытки. То есть самую суть жизни, – вставил Софокл. – Продолжай, мой мальчик.
– Эта экклема гораздо легче старой, ее проще выкатывать на сцену… Да, я даже пробовал создать новый тип машины…
– Из которой боги спускаются на веревках, чтобы быстренько уладить все неприятности? – усмехнулся Аристофан. – Афина свидетельница, старый Еврипид обожает этот избитый трюк.
– На самом деле ему это не нужно, – возразил Аристон. – Он великий поэт, такой же великий, как и вы. Но всего, что я делал и делаю, оказалось недостаточно. Мне нужен талант серебра, если не больше. Тогда я смогу обза– вестись небольшой кузницей. А заработать такие деньги никак не получается… ну никак!
И тут Аристофан спокойно и взвешенно высказал вполне логичное предложение:
– Почему бы тебе не одолжить денег у твоего друга Орхомена? Говорят, он теперь богат как Крез. Аристон изумленно поглядел на поэта.
– Надо же… мне это даже в голову не приходило! – воскликнул он. – Я обязательно к нему обращусь! Завтра же! Я заплачу ему, сколько он потребует…
Услышав его голос, Феорис внезапно содрогнулась. Ей послышался какой-то странный звук… словно вдруг зловеще захлопали крылья или завертелось большое, скрипучее колесо.
Крылья Эриний.
Колесо судьбы.
Но никто из присутствующих не знал тогда об этом. Простые смертные никогда не знают.
Глава XIV
Не успел Аристон преодолеть и половины небольшого подъема, ведущего к кварталу оружейников у подножия Агорийского холма, под сенью возвышавшегося над ним храма бога-кузнеца, как встретил Орхомена, который вышел ему навстречу. Что само по себе было странно. Нет, даже более чем странно. При всем желании его бывший соратник никак не мог увидеть его из своей конторы в глубине эргастерии или даже из ее дверей. Дело в том, что его мастерская была отнюдь не первой на этой улице, поэтому спуск к жилым кварталам города, по которому в данный момент поднимался Аристон, заслоняли другие мастерские, расположенные ближе к нему.
Что это, случайное совпадение? Аристон не был склонен в это поверить. Он к этому времени слишком хорошо изучил Орхомена.
– Как ты узнал, что я собираюсь зайти к тебе сегодня? – осведомился он.
Улыбка Орхомена была похожа на волчий оскал.
– О, разве ты не знаешь, что я ясновидящий! – заявил он.
– В таком случае, я Дионис! Я серьезно спрашиваю тебя, Орхомен, как ты узнал?
– Соглядатаи, – спокойно сказал Орхомен. – Я расставляю их на всех дорогах, ведущих к мастерским, чтобы они предупреждали меня о приближении сборщика налогов. Или старого Орлиного Клюва…
– …или меня, – подхватил Аристон.
– Вот именно. Чтобы я мог встретить своих хозяев и благодетелей с надлежащей угодливостью и раболепием, как верный и преданный пес. В конце концов, благодаря вам я разбогател, точнее, благодаря тому, что вы не слишком строго следили за мной.
– То есть ты хочешь сказать, что самым наглым образом обкрадываешь нас,
– уточнил Аристон.
– Ну разумеется! Моя безупречная честность просто не выдерживает всех тех соблазнов, которым вы подвергаете ее на каждом шагу. Клянусь Эросом, ты просто очарователен! Я говорил тебе, что с каждым днем ты становишься все соблазнительней? Во всяком случае, для такого старого педераста, как я.
– Ради Зевса, Орхомен! Послушай, давай лучше поднимемся в мастерскую и…
– Не стоит. Там слишком шумно. Я-то уже привык, но ты не услышишь и собственных мыслей. Ну так что привело тебя ко мне? Только не говори, что тебя внезапно охватило страстное желание полюбоваться моими мужскими прелестями!
Аристон пристально посмотрел на него. Затем сразу взял быка за рога:
– Мне нужны деньги. Много денег. Целый талант! Нет, даже два таланта.
На невероятно уродливом лице Орхомена вдруг появилось выражение неподдельной тревоги.
– У тебя неприятности, мой мальчик? Влип во что-то такое, что позволило сикофантам подцепить тебя на крючок? Проник к замужней женщине, велев зашить себя в новый матрац? Алкивиад как-то проделал такую штуку. Говорит, что чуть не задохнулся.
– Жаль, что совсем не задохнулся, – заявил Аристон. – А кроме того, ты прекрасно знаешь, я не такой глупец, чтобы рисковать шкурой из-за товара не первой свежести!
– Ну, во всяком случае, речь идет не о мальчике. Даже если бы ты и соблазнил сына какого-нибудь всадника, оскор– бленные чувства его папаши столько не стоили бы. Да к тому же тебе вообще не нравятся мальчики – разве что Данай. Но его-то ты можешь поиметь совершенно бесплатно.
– Орхомен, ради Артемиды!
– Ты хочешь сказать, что у меня одна грязь на уме? Именно она и придает стройность моим мыслям. Ладно, расскажи своему старому дядюшке Орхомену, во что, клянусь черным Аидом, мог ты вляпаться, чтобы выбраться из этого стоило целых два таланта?
– Это не для того, чтобы откуда-то выкарабкиваться. Это скорее для того, чтобы куда-то влезть, – сказал Аристон.
Орхомен удивленно уставился на него.
– Ну давай, рассказывай, – сказал он. И Аристон рассказал.
– Г-м-м-м, – промычал Орхомен. – Итак, ты хочешь открыть собственную эргастерию, ибо тебе надоело жить как персидский царевич, когда разные восхитительные существа, вроде Парфенопы и Феорис, раздвигают ноги по одному твоему жесту, когда все твои капризы беспрекословно выполняются, когда ты проводишь время в благословенной праздности, когда твое прекрасное тело тщательно оберегают от стрел, дротиков, мечей и копий – иными словами, тебе надоело столь жалкое и беспросветное существование, какое ты вынужден влачить, и ты…
– Не думаю, что ты когда-либо всерьез прислушивался к словам Тала, моего отца, не говоря уж о Сократе, – прервал его Аристон. – Иначе ты понял бы, что мое существование в самом деле жалкое. Ибо праздность всегда ничтожна. Вот ты, по крайней мере, делаешь хоть что-то полезное. Ты снабжаешь Афины орудиями войны. Человек должен жить в ладах с самим собой, Орхомен. А я не могу. Не могу так жить. Просто не могу, и все!
– Но послушай. Аристон, сейчас вряд ли подходящее время для того, чтобы открывать оружейную мастерскую. Ведь мирные переговоры идут полным ходом! И я не удивлюсь, если со дня на день…
– Даже если мир будет заключен, он долго не про– держится, – заявил Аристон. – Он не может быть прочным. Для этого нет никаких оснований.
– Вот в этом ты, пожалуй, прав. Эта несчастная война тянется вот уже целых девять лет; и единственное, что в самом деле может положить ей конец, так это захват и уничтожение либо Афин, либо Спарты. Что в любом случае крайне маловероятно. Ну что ж, думаю, тебе не нужно объяснять, что эргастерия – это рукотворное воспроизведение Тартара; ты уже достаточно на них насмотрелся. А эта твоя идея – использовать новый метод обработки металла, изобретенный твоим другом Алкаменом, вовсе недурна. Твоя маленькая мастерская могла бы опробовать этот метод для всей нашей отрасли. Клянусь Аидом, эта идея мне нравится! Так ты говоришь, два таланта? Да, задал ты мне задачу. У меня сейчас долгов куда больше, чем наличных денег, впрочем, как и всегда. Но ничего, я их где-нибудь раздобуду. Дай мне недельки две, а?
– Хорошо. Значит, я зайду через две недели, – сказал Аристон.
– Только не сюда. Приходи ко мне домой, – поспешно сказал Орхомен.
В тот вечер, когда назначенные две недели истекли, Аристон отправился в новый уютный домик Орхомена. Но самого Орхомена он не застал. Дома была одна Таргелия. Даже при виде лампады Аристон отчетливо видел многочисленные кровоподтеки на ее руках, старые шрамы, рубцы от ударов плети, следы от ожогов. Она была на последних месяцах беременности, и ее потухший взор делал ее похожей на затравленное животное. По всей видимости, она даже не узнала Аристона.
– Его нет дома, – устало произнесла она. – Впрочем, как и всегда. Поищи его в доме Крития или Алкивиада. Он должен быть где-то там. Если он, конечно, не в публичном доме или бане. Это его единственное занятие – тратить деньги на шлюх или мальчиков. Все думают, что мы богаты, но это не так. А я опять беременна. Двух предыдущих я потеряла. Он напился, избил меня, и я их потеряла.
– Мне очень жаль, – пробормотал Аристон. Эта фраза прозвучала весьма неубедительно, но ничего лучшего он придумать не смог. «Ну почему, о великая Гера, почему Орхомен так поступал? Потому, что он настрадался в рудниках? Но ведь и другие тоже познали и рабство, и страдания. И Тал. И я, думал Аристон. – И все же…»
Он вышел и, сев на коня, поехал по тихим улицам. Когда он добрался до дома Крития, глазам его предстало странное зрелище: высокий надменный педераст стоял посреди улицы в окружении вооруженных стражников. Вместе с ним были его слуги, нагруженные всевозможным скарбом. Он насмешливо улыбнулся Аристону; при свете факелов его лицо сильнее, чем обычно, напоминало стервятника.
– Ты опоздал, прекрасный Аристон! – сказал он. – Если, конечно, твое сердце наконец-то смягчилось. Я отправляюсь в изгнание – по повелению полиса. Мое имя было начертано на остраконах, глиняных черепках – обрати внимание, как остроумно мы их используем. Тем самым мы как бы говорим человеку, что он столь же бесполезен, как разбитый горшок, не годится даже на то, чтобы в него испражняться, точнее, на него – так мне, во всяком случае, кажется! Другими словами, я подвергся остракизму!
– За что, Критий? – спросил Аристон.
– За мою пьесу. Благочестивые граждане обиделись на меня за то, что я прямо назвал богов всего лишь изобретением умных политиков, пугалами, страх перед которыми заставляет глупцов быть добродетельными. Впрочем, люди всегда обижаются на правду, разве не так? Подойди же ко мне, калон! Слезай со своей лошади и поцелуй меня на прощание. Если ты это сделаешь, я прощу тебя за то, что ты швырнул меня в грязь при нашей предыдущей встрече.
Аристон медленно покачал головой.
– Я не могу этого сделать, Критий, – спокойно произнес он. – Поверь, я лично ничего не имею против тебя, но я просто не могу.
– И почему же? – резко спросил Критий Аристон улыбнулся.
– Ты помнишь, что произошло, когда Алкивиад заманил тебя в объятия гетеры Лаис? – вопросом на вопрос ответил он.
– Фу! Еще бы! Меня вывернуло наизнанку. Я никогда не выносил женского запаха. Даже когда они чистые – как была Лаис, – этот вечный рыбный запах их выделений пробивается через все их благовония. Должен признать, что это моя личная особенность. Мое чувство обоняния чрезвычайно обострено от рождения.
– Увы, у меня такой же изъян, – признался Аристон.
– Так в чем же дело? – обрадованно воскликнул Критий.
– Только я не выношу того зловония, что исходит от педерастов, – заявил Аристон. – Если бы я тебя поцеловал, со мной бы произошло то же самое, что и с тобой в случае с Лаис. Короче говоря, меня бы вырвало.
Критий стоял перед ним в факельном свете, окруженный стражей.
– Это уже второе оскорбление, которое ты мне нанес, Аристон, – тихо произнес он. – Запомни это.
– Зачем? – осведомился Аристон, – Какое мне до этого дело?
– Затем, что однажды от моей благосклонности может зависеть твоя жизнь,
– сказал Критий.
Не успел еще Аристон постучать в дверь Алкивиада, как уже услыхал шум царившего в нем веселья. Он остановился, вне себя от возмущения, ибо еще и месяца не прошло со дня смерти чистой и благочестивой Гиппареты, жены Алкивиада. «Умершей, конечно же, от разбитого сердца, – думал Аристон, – от нехватки даже самых мизерных знаков внимания, которые необходимы любой женщине».
Затем он с силой ударил огромным бронзовым дверным молотком по специальной пластинке.
Один из домашних рабов открыл ему дверь. При свете лампады его лицо казалось мертвенно-бледным. Он весь дрожал, и Аристон понял, что раб охвачен неподдельным ужасом.
– Как твое имя, мой господин? – заикаясь, выдавил он из себя.
– Аристон, сын Тимосфена, – сказал он. Поклонившись, раб поспешил прочь. И больше не появлялся. Вместо него появился Алкивиад собственной персоной.
– Аристон! – загремел он. – Какая честь для моего убогого жилища! Ведь ты не переступал порог моего дома с тех пор, как Орхомен женился на той бедной маленькой потаскушке. Входи же! Входи! Клянусь Эросом, ты все так же прекрасен! Даже эта жиденькая бороденка тебя не портит!
Аристон застыл на месте, будто громом пораженный. Ибо Алкивиад был одет как женщина. Его лицо было нарумянено, губы подкрашены, веки густо присыпаны голубым порошком из морских раковин. И женское платье на нем было какое-то необычное.
Затем Аристон понял, в чем дело. Это было не простое платье. Это была одежда гиерофанта, священные покровы жрицы ужасных Элевсинских мистерий, этих тайных обрядов, посвященных богиням Деметре и Коре, о которых было запрещено даже упоминать вслух. Аристон не был религиозен, но подобное кощунство потрясло его до глубины души. Он придерживался твердого принципа, что к религиозным верованиям следует относиться с надлежащим уважением вне зависимости от того, разделяешь ты их или нет. И вот…
Алкивиад взял его за руку. Аристон с удивлением отметил, что хватка у хозяина дома железная. Они прошли в трапезную. Там, на высоком троне, сидел Орхомен, одетый, как и Алкивиад, в женское платье. Справа и слева от него располагались двое миловидных женоподобных юношей, в чьи обязанности, судя по всему, входило поддерживать серебряный таз, стоявший у него на коленях.
Почти все гости тоже были в женской одежде, за исключением самих женщин – алевтрид, которых пригласили, чтобы они развлекали пирующих игрой на своих флейтах, и которые были совершенно нагими. Некоторые из гостей, устроившись под обеденными столами, занимались с этими соблазнительными служительницами Муз тем, что очень мало напоминало игру на флейте. Другие все свое внимание уделяли надушенным и нарумяненным юнцам. Но большинство из присутствующих было увлечено игрой в коттаб, смысл которой состоял в том, чтобы осушить огромную серебряную чашу с вином до самого дна и затем плеснуть последние капли с изрядного расстояния в сторону Орхоме– на, пытаясь попасть точно в серебряный таз у него на коленях. Это означало, что Орхомена избрали симпосиархом, то есть главой пиршества. Когда кому-либо из подвыпивших гуляк удавалось попасть в таз, он выкрикивал имя и пожелание – обычно непристойное – в адрес своей любви. Аристон заметил, что мужские и женские имена распределялись примерно поровну.
Алкивиад вручил ему невероятных размеров чашу, но Аристон даже не прикоснулся к вину. Он почувствовал, как зеленая тошнотворная волна медленно подкатывает к горлу. И это та цивилизация, ради которой он из кожи вон лез, чтобы получить возможность ее защищать? Этот разгул разврата и полного упадка нравов? Конечно, Афины подарили миру великие произведения искусства, музыки, театра, поэзии, создали бессмертные шедевры и все еще создают их, но…
Но кто является самым популярным человеком в Афинах, если не его гостеприимный хозяин? Все знатнейшие юноши города пытались подражать ленивой походке Алки-виада, его женственной манере слегка шепелявить. Стоило этому высокородному принцу гуляк выйти на улицу в новых сандалиях, как сапожник, первым ухитрившийся изготовить такие же, мог считать себя обеспеченным на всю оставшуюся жизнь. Этот дом, который он, приветствуя Аристона, назвал с показной и ернической скромностью «убогим жилищем», на самом деле представлял собою городскую достопримечательность, ибо своей чрезмерной, вызывающей роскошью опрокидывал все весьма строгие эллинские понятия о вкусе. Он держал беговых лошадей, и когда его колесницы выигрывали призы – что случалось очень часто, – он за свой счет угощал все Собрание. На его щите был изображен Эрос, метающий молнию, что должно было символизировать его бечисленные победы в любовных сражениях над представителями обоих полов – а возможно, и не только над ними; здесь в равной степени присутствовали и глумление, и хвастовство. Он оснащал триеры, регулярно выступал в роли хорега, оплачивая театральные постановки. Он настолько привлекал всеобщее внимание, что к нему невозможно было относиться равнодушно. Все афиняне либо обожали его, либо ненавидели.
И в то же время, размышлял Аристон, разглядывая его в этом странном, непристойном одеянии, в битвах при По-тидее и Делии он проявил отвагу, граничащую с безрассудством. Более того, его любит сам Сократ, так что в нем просто должно быть что-то хорошее, хотя провалиться мне в Тартар, если я вижу…
Сидевший рядом с ним Алкивиад неожиданно встал и хлопнул в ладоши.
– Друзья! – воскликнул он. – Давайте в честь нашего нового и неожиданного гостя, прекрасного Аристона, еще раз исполним мистерии!
Аристон поднялся на ноги. Он не собирался принимать участие в богохульстве. Он просто не мог. Хотя бы из уважения к своему приемному отцу, чьи верования были очень просты и чисты, он не мог принять участие в этом издевательстве над богинями или их таинствами.
Алкивиад схватил его за руку, но Аристон отработанным борцовским движением освободился от цепких пальцев своего хозяина. Одним прыжком он достиг двери и выбежал в ночь. Он уже готовился вскочить в седло, но тут услыхал зычный голос Орхомена, окликавший его.
Он остановился и стал ждать, все еще слегка содрогаясь от увиденного, пока его бывший соратник подойдет к нему.
– Ты прав, – пробурчал Орхомен. – Беги отсюда! Фес-сал собирается обвинить его в святотатстве. Все началось как шутка, но теперь это зашло слишком далеко. И вот что еще, калон…
– Что, Орхомен? – с грустью спросил Аристон, глядя на размалеванное лицо своего друга, волочащееся по земле платье, накрашенные губы, на его бритую бороду, нелепо просвечивающую сквозь румяна.
– Вот твои два таланта. Я же говорил тебе, что раздобуду их где-нибудь, не так ли? – сказал Орхомен.
За три долгих месяца, понадобившихся ему, чтобы создать свою опытную эргастерию, Аристон пришел к твердому убеждению, что за бурной деятельностью Орхомена скрывается нечто большее, чем казалось на первый взгляд. Все это время он почти ежедневно наведывался в мастерские своего приемного отца, расспрашивая управляющих и мас– теров, отвечавших за их работу. Многие из них работали на Тимосфена уже более двадцати лет; и тем не менее Орхомен за неполные два года, что он находился в услужении у благородного всадника, сумел настолько войти в доверие к Тимосфену, что был им поставлен начальником над всеми ними и теперь являлся главным управляющим всеми его мастерскими.
Если судить по результатам, достигнутым спартанцем, то он несомненно заслужил подобное повышение. За все семьдесят с лишним лет, прошедших с того дня, как отец Тимосфена, знатный эвпатрид Телефан, приобрел по случаю три оружейные мастерские, это предприятие – ныне состоявшее из восьми отдельных мастерских, в каждой из которых работали от двадцати до ста рабов и которые как бы дополняли друг друга, производя отдельные детали, превращавшиеся затем в готовые изделия в самой большой мастерской под непосредственным руководством Орхомена, – никогда не приносил своему владельцу таких доходов.
– Но как это у него получается, отец? – недоумевал Аристон. – Он ничего не смыслит в оружейном деле, кроме того, чему он научился уже здесь, в Афинах. И тем не менее под его руководством наши эргастерии стали прибыльнее, чем любые мастерские во всем полисе, даже те, что вдвое больше наших!
Тимосфен пожал плечами.
– Это знает одна Афина с ее божественной мудростью, сын мой, – заявил он, – Меня же это совершенно не интересует. Он приносит мне прибыль, огромную прибыль, даже за вычетом того, что он, по всей видимости, крадет. И меня это вполне устраивает. Нет, даже более того; меня это полностью устраивает.
В этом ответе Тимосфена как в капле воды отразились все те типичные для всадников взгляды, которые Аристон уже не пытался оспаривать. Аристократы вроде Тимосфена преумножали свои состояния, владея землей, мастерскими, рудниками, кораблями, рабами, и никогда не опускались до столь недостойного и неблагородного занятия, как работа. Даже управление их собственностью передоверялось ими другим. Точно так же как стратег Никий сколотил себе целое состояние, одалживая тысячу своих рабов владельцам се– ребряных рудников и при этом ни разу в жизни не побывав ни на одном из них, так и благородный Тимосфен жил в довольстве и роскоши на те деньги, что он получал от других за пользование его собственностью, ни в малейшей степени не утруждая себя размышлениями о том, как, каким образом и за счет чего работают его мастерские. В сущности, для него все его богатство заключалось в длинных рядах цифр на листе пергамента, время от времени присылаемых мастерами и управляющими ему на дом, ибо за все два года знакомства со своим приемным отцом Аристон ни разу не видел, чтобы Тимосфен лично посетил сами мастерские.
Ибо проявить слишком явный к ним интерес значило унизить свое достоинство всадника. Это пахло торгашеством, меркантильностью, жадностью – словом, дало бы повод его высокорожденным друзьям презирать его.
«Но я-то, по крайней мере, не всадник, – мрачно подумал Аристон. – И поскольку я метек, никто не сможет смотреть на меня свысока из-за того, что я занимаюсь ремеслом или торговлей. Это единственная дорога, открытая для нас. Так что в моих интересах разузнать, как у Орхомена это получается».
Но у него ничего не вышло. Другие управляющие при одном упоминании имени спартанца как будто проглатывали языки вместе с бородами, и в их глазах появлялась враждебность. Что же касается самого Орхомена, то он легко и непринужденно уклонялся от всех вопросов, как бы дразня его. И каждый раз, когда Аристон направлялся в мастерские, его встречали на полпути, отвлекали всякими разговорами, задерживали. И тем не менее, когда он входил в мастерскую, он не мог обнаружить ничего подозрительного. Кроме, пожалуй, атмосферы. Чего-то угрожающего, мрачного, тяжелого, что буквально висело в воздухе. Но он не мог понять, что именно создавало у него подобное впечатление. Не мог, и все тут.
За два месяца Аристон многое узнал, но, что любопытно, большая часть всего этого ему не понравилась. Отличаясь живым и острым умом, он на каждом шагу задавался вопросами, причинявшими головную боль его собеседникам. Почему мастерские должны быть такими маленькими? Почему на рабочих скамьях всегда так тесно? Не лучше ли иметь одну-две большие плавильные печи, чем множество маленьких? Почему мастерские такие темные и так плохо проветриваются? Нельзя ли соорудить какую-то вентиляционную систему, чтобы не приходилось менять весь персонал каждые четыре года из-за смерти рабочих от легочных заболеваний?
Всякий раз, когда он слышал ответ: «Потому, что так издавна заведено», Аристон без колебаний отказывался от устоявшихся традиций. Его эргастерия росла буквально на глазах, большая, полная воздуха и света; печи, литейные формы, закалочные ванны были сосредоточены в центре мастерской, в то время как рабочие скамьи располагались по периметру вокруг них, поближе к самым большим окнам во всех Афинах. Все управляющие соседних мастерских и даже некоторые из их владельцев – ибо среди них было много метеков, имевших свое собственное дело, – приходили посмотреть на это диво. «Идиотизм! – бурчали многие. – Парень совсем спятил». Но кое-кто из метеков оказался достаточно проницательным, чтобы оценить все преимущества подобной планировки. Но они скромно молчали, преисполнившись решимости позаимствовать ее при первом удобном случае.
Затем Аристон стал подбирать себе рабочих. Он отдавал предпочтение тем специалистам по бронзе, что когда-либо отливали изделия для скульпторов и, соответственно, были знакомы с технологией точного литья. Кроме того, он предпочитал иметь дело со свободными людьми независимо от того, были ли они свободнорожденными или вольноотпущенниками. Наконец, он приобрел и нескольких высококвалифицированных рабов. Им он сделал следующее предложение:
– Я буду платить вам столько же, сколько и свободным, но я буду удерживать десятую часть вашей платы в счет специального фонда. Когда эти средства составят половину той суммы, что я за вас заплатил, я прощу вам вторую половину и дарую свободу. Но имейте в виду, что в этот же самый день я уволю тех из вас, кто плохо себя проявит на работе, – так что в ваших интересах добросовестно служить мне!
Сразу нужно сказать, что эта идея принадлежала не Аристону, а Сократу. Аристон, на сердце которого тяжелым грузом все еще лежали воспоминания о тех страшных днях, что он и Орхомен провели в рабстве, предпочел бы сразу освободить всех рабов, тем более под впечатлением угрюмых, тупых, полных страха и ненависти лиц рабов в мастерских его отца. Но уродливый старый философ, слишком хорошо изучивший природу человека, отговорил его от излишней щедрости.
– Будь осторожен, калон, – говорил ему Сократ. – Самое худшее в рабстве – это то, что оно притупляет в человеке чувство личной ответственности. Освободи их немедленно, и ты тем самым окажешь им дурную услугу. Нет, сперва ты должен возродить в них чувство собственного достоинства, научить их поступать разумно, обуздывать свои страсти, жить своей головой. Так что пусть свобода станет для них целью, к которой они будут стремиться. И к тому времени, когда они ее достигнут, они снова станут людьми.
Так он и поступил. И, приняв все это во внимание, вряд ли стоило удивляться тому, что эргастерия Аристона сразу же начала процветать. Конечно, при том, что братоубийственная война между городами-государствами по-прежнему заволакивала голубые небеса Эллады дымом горя и отчаяния, любой оружейной мастерской разориться было бы крайне сложно, и тем не менее даже на этом фоне успех Аристона превзошел все ожидания. Во-первых, как бывший спартанский гоплит, он превосходно разбирался в оружии, так что продукция, выпускавшаяся под его личным руководством, вызывала всеобщее восхищение своим отменным качеством. Во-вторых, приспособив изобретенный скульптором метод точного литья для изготовления барельефных изображений на защитных доспехах и щитах, он превращал каждую их деталь, шлемы, латы, наголенники в столь великолепные произведения искусства, что все без исключения молодые всадники, да и многие постарше, устремились в его мастерскую, громогласно требуя, чтобы он оснастил их с головы до ног, и немедленно.
Свой первый комплект доспехов он изготовил по заказу Алкивиада. Второй предназначался для его друга Даная.
Ровно через три месяца после открытия мастерской, Тимосфен принял приглашение своего приемного сына по– сетить ее. Если учесть, что он никогда не захаживал даже в свои собственные мастерские, то этот его шаг был лучшим свидетельством той любви, что он питал к юноше. В сущности, он согласился с явной неохотой, опасаясь обвинений в меркантильности, однако к этому времени все Афины знали – или, по крайней мере, полагали, – что он ни обола не вложил в это предприятие. Ибо Алкивиад не постеснялся пустить слух, что те два таланта, понадобившиеся для основания этой новой прекрасной эргастерии, Аристон получил непосредственно от него. И когда взбешенный юноша бросился за разъяснениями к Орхомену, он обнаружил, что племянник Перикла ничуть не солгал.
– Ну и где же еще, по-твоему, я мог раздобыть целых два таланта за такое короткое время, калон? – спокойно осведомился Орхомен.
– Они должны были быть у тебя самого! – бушевал Аристон. – Судя по тому, сколько ты уже заработал, не говоря уж о том, сколько ты сверх того украл, у тебя должно быть не менее десяти талантов. Почему…
– Потому что я по уши в долгах, – ухмыльнулся Орхомен. – Видишь ли, мой прекрасный юноша, чтобы разбогатеть, человек должен обладать двумя качествами: умением зарабатывать деньги и умением сохранять их. Я доказал, что первое из них у меня есть. Но что касается второго… Клянусь Аидом, мой мальчик! В умении находить самых жадных девок…
– И мальчиков! – фыркнул Аристон.
– Да, и мальчиков, мой милый святоша. А что в этом плохого? Как говаривал твой дядя Ипполит, они, по крайней мере, никогда не заявляются с раздувшимся животом, чтобы наградить тебя урожаем, чьи семена были посеяны кем-то другим. Так о чем бишь я? Ах да, так вот, в умении находить самых жадных девок, самых привередливых маленьких педерастов и самых тихоходных лошадей мне нет равных. Все сводится к элементарному сложению и вычитанию. Да, я зарабатываю много денег, но при этом я трачу вдвое больше.
– Тебе следовало бы сидеть дома с Таргелией! – заявил Аристон.
– Ну разумеется. Но понимаешь, она нагоняет на меня скуку. Просто невыносимую скуку. А когда мне становится слишком скучно, я не могу удержаться от того, чтобы не мучить ее. Поэтому, чтобы ее совсем не убить – а я наверняка бы убил ее, если бы мне пришлось две ночи подряд выносить ее скулеж, ее гнусную плаксивую физиономию и этот ее собачий взгляд, – я и держусь от нее подальше. Но это мне дорого обходится. У меня такой изысканный вкус!
В итоге Аристон сделал то, что ему только и оставалось сделать: он пошел к Тимосфену и рассказал ему, как его обманом заставили взять деньги Алкивиада. Даже рискуя быть обвиненным в меркантильности, Тимосфен не мог допустить, чтобы его приемный сын остался в долгу у человека, виновного в смерти Фебалида. В ту же ночь он отправил своего доверенного слугу с двумя талантами, плюс набежавшие за это время проценты, к Алкивиаду. А Алкивиад, не замедливший раструбить на весь мир о своей щедрости, вовсе не спешил всем сообщать о том, что деньги ему вернули. В сущности, к тому времени, когда Афины узнали, что Аристон никому ничего не должен, Алкивиад находился уже в изгнании в Спарте.
Ну а в тот день, когда они ехали рядом по афинским улицам, направляясь к эргастерии Аристона, ни он, ни Тимосфен даже не упоминали о мастерских, доходах и вообще об оружейном деле. Как это ни странно, но они говорили о девушках.
Ибо теперь, когда Аристон твердо встал на ноги, Тимосфен решил, что настало время подыскать своему приемному сыну подходящую невесту. Конечно, по афинским понятиям, Аристон в свои двадцать один год был еще слишком молод для женитьбы, ибо афиняне, имея в своем распоряжении все мыслимые земные наслаждения, никогда не спешили со вступлением в законный брак, а впоследствии всегда жаловались на тяготы семейной жизни. Но Тимосфена угнетали воспоминания о покойном Фебалиде. Ему хотелось как можно скорее обзавестись внуками и тем самым обеспечить продолжение рода. Поэтому он вознамерился ускорить женитьбу Аристона.
Но все дело в том, что эта проблема сама по себе была невероятно сложна. Ибо согласно закону, изданному самим великим Периклом, чужестранцы не имели права вступать в брак с афинскими гражданами. То, что по иронии судьбы самому Периклу пришлось проталкивать через Собрание особую поправку, позволявшую ему узаконить своего сына, Перикла II, рожденного от его союза с иноземной гетерой Аспасией, абсолютно ничего не меняло. Исключение было сделано для великого афинянина ввиду его особых заслуг перед полисом и ни на кого больше не распространялось.
Самое же печальное состояло в том, что в Афинах не существовало самого понятия натурализации. Можно было усыновить иноземца, но гражданства он при этом не получал. Он мог, подобно Аристону, вознестись в самые высшие сферы общества, перед ним могли распахнуться все двери, дружбой с ним могли гордиться самые блестящие аристократы. Но при этом он не мог быть представлен их сестрам даже в тех очень редких случаях – во время свадеб, похорон, некоторых религиозных праздников, – когда суровые афинские обычаи дозволяли светское общение между представителями различных полов. И хотя многие граждане Афин, вроде Даная, с радостью отдали бы своих сестер за столь богатого, образованного и красивого человека, как Аристон, из-за этого незыблемого закона, начертанного на свитке пергамента наряду с другими основополагающими законами Афин, подобное знакомство, даже если бы оно и состоялось, ничего бы не дало, ибо любовь к мужчине, за которого они никогда не смогут выйти замуж, могла их только обесчестить.
Теоретически у Аристона был только один способ добыть себе афинское гражданство: чужестранец, с риском для жизни совершивший какой-либо исключительный подвиг на благо полиса, в принципе мог получить гражданство как бы в награду, разумеется, с одобрения Собрания. Но на практике постоянно растущее богатство трудолюбивых метеков возбуждало такую зависть у афинских простолюдинов, что планка этого пресловутого подвига для чужеземцев поднималась все выше и выше, пока, наконец, фактически не приравняла его к самоубийству. В результате, в тех очень немногих случаях, когда гражданство таким образом все же присваивалось, оно всегда доставалось сыну в память о его геройски погибшем отце.
Конечно, Аристону приходилось принимать участие в боевых действиях. Как и любой житель Афин, он в любой момент мог быть призван на военную службу до достижения шестидесятилетнего возраста. Но, приняв участие в двух тяжелых кампаниях, он решил последовать примеру Тимос-фена и стал просто-напросто откупаться от воинской повинности. При этом он руководствовался двумя соображениями: прежде всего, он ненавидел войну вообще, в особенности ту жестокую и неизбежную необходимость убивать людей, не причинивших ему никакого вреда, которую она предполагала. Кроме того, у него не было ни малейших сомнений, что, попади он в руки своих бывших соотечественников, лакедемонян, его не просто убьют – это его мало волновало, ибо систематическим убийством пленных отличались обе стороны, – но обрекут на долгую, мучительную смерть под пытками за столь тяжкое преступление, как измена своей родной Спарте.
Отличаясь по-эллински трезвым умом, Аристон не видел никакого смысла в том, чтобы подвергать себя столь ужасной опасности, тем более что он мог принести гораздо больше пользы своему приемному полису, оставаясь дома и снабжая его оружием, чем позволив выпустить себе кишки в роли гоплита. К этим соображениям он был вынужден добавить и то на редкость неприятное обстоятельство, что в любом случае он мог бы стать гражданином Афин лишь посмертно. А поскольку у него были сильные подозрения, что в Тартаре афинское гражданство ему вряд ли понадобится, он со свойственной ему рассудительностью решил обойтись без бессмысленного героизма.
Таким образом, если только не произойдут какие-либо крайне маловероятные перемены, Аристон никогда не сможет жениться на дочери всадника, пентекосиомедимна или даже самого последнего свободнорожденного рабочего. Более того, в принципе он не смог бы взять в жены даже дочь афинянина, проданную в рабство за долги, или преступника, осужденного за преступление, не связанное с лишением гражданства.
Впрочем, надо сразу сказать, что все эти обстоятельства ни в малой степени не волновали Аристона. Во-первых, он нисколько не спешил со вступлением в законный брак, ибо главная причина, обычно влекущая мужчин к брачному алтарю – сексуальный голод, – была чем-то совершенно немыслимым в Афинах. Во-вторых, он отлично знал, какие чистые, очаровательные, прекрасные девушки встречаются в семьях зажиточных метеков. Главная проблема заключалась в том, что Тимосфен, который тоже хорошо понимал, что среди иноземных девушек, проживающих в Афинах, есть и такие, кто своей образованностью, добродетельностью и красотой не уступят лучшим из афинянок, оказался в сложном положении из-за полного отсутствия каких-либо социальных контактов с метеками. А поскольку, согласно одному из самых строгих афинских обычаев, отец должен был сам найти невесту для сына, вместо того чтобы позволять юнцу, руководимому в столь важном деле такими абсурдными обстоятельствами, как собственные вкусы, горячая кровь и очевидная неопытность, самому выбирать себе жену, эти затруднения оказывались весьма серьезными. Но любовь Тимосфена к своему приемному сыну была столь велика, что он уже начал, по мере сил и возможностей, налаживать такие контакты.
Поначалу метеки вежливо уклонялись от его знаков внимания, придерживаясь той жироко распространенной точки зрения, что всадник может добиваться их дружбы исключительно с целью занять у них денег, но Тимосфену удалось преодолеть это препятствие, прямо изложив суть дела своему казначею Парису. Надо сказать, что все афинские казначеи и ростовщики были иноземцами, ибо эти профессии считались недостойными граждан. Когда Парис убедился, что благородный всадник всего-навсего ищет невесту для своего приемного сына, он тут же предоставил себя в полное распоряжение Тимосфена, начав, разумеется, с того, что пригласил его в собственный роскошный дом и представил ему трех своих незамужних дочерей. Одна из них, младшая, по имени Фетис, чрезвычайно понравилась Тимосфену своей неброской красотой, целомудренностью и скромностью. Именно о ней и говорил благородный всадник со своим приемным сыном по дороге к эргастерии, причем с явной укоризной.
– Эта маленькая Фетис – ну ты помнишь, дочь Париса, – по-моему, очаровательное дитя, Аристон. А ты так и не навестил ее с тех пор, как я ввел тебя в их дом.
– Мне не нравятся очаровательные дети, отец, – серь– езно сказал Аристон. – Я предпочитаю взрослых женщин – умных, своенравных, страстных. С независимым характером. И красота меня не привлекает. Скорее даже отталкивает. Красота это проклятие. По крайней мере для меня она всегда была проклятием. Ибо что дала она мне в жизни, кроме ужаса и страданий? Если я когда-либо женюсь, – что, по правде говоря, очень сомнительно, ибо этот мир слишком неподходящее место для того, чтобы приводить в него детей, – то можешь быть уверен, моя жена будет некрасивой. Или еще лучше – уродливой.
Тимосфен с удивлением уставился на своего приемного сына.
– Клянусь Афродитой, – воскликнул он, – ты можешь толком объяснить почему? Аристон улыбнулся.
–Все очень просто, отец. Красота определяет всю жизнь женщины. Я ни разу не встречал красивой женщины – а у Парфенопы я видел многих красавиц, – чьи интересы не замыкались бы полностью на собственной очаровательной персоне. Все по-настоящему привлекательные женщины, которых я знаю, только и делают, что милостиво принимают знаки внимания мужчин и в придачу цветы, подарки, драгоценности, наряды и просто деньги. Можешь назвать меня эгоистом, но если уж я завожу семью, то хочу быть хозяином и повелителем в своем доме. Моя милость должна быть желанна для моей супруги, а не ее для меня. Я хочу, чтобы мое слово было законом, чтобы любая моя прихоть воспринималась как царственное повеление. А что может быть лучше для этого, чем женщина, которая получает урок смирения всякий раз, когда смотрится в зеркало? Что может лучше способствовать кротости и покорности женского сердца, чем ясное понимание того, что ее господин в любой момент может хлопнуть дверью и на любом углу найти себе куда более соблазнительное тело и очаровательное личико. И можно ли найти более надежную гарантию супружеской верности, чем лицо и фигура твоей жены, вызывающие у потенциального соблазнителя приступ зевоты?
– Я вижу, ты все обдумал, не так ли? – сказал Тимосфен.
– Вот именно – вплоть до подходящей кандидатуры, девушки, на которой я никогда не смогу жениться, что, согласись, особенно смешно.
– И кто же она?
– Хрисея, сестра Даная. Не беспокойся! Я отлично знаю, какой дурной славой пользуется эта семья! Пандор и его младший сын Халкодон – законченные извращенцы, а Брим просто грубая скотина. И только мое уважение к Данаю не позволяет мне открыть ему глаза на то, что всем очевидно; его почтенная мать по крайней мере дважды наставила рога этому жеманному старому щеголю: раз с сыном мясника, произведя на свет Брима; и другой раз – с царственной особой, зачав от него Даная, единственного приличного человека – возможно, не считая Хрисеи – во всей этой семье.
– Почему ты говоришь «возможно», если влюблен в нее? – осведомился Тимосфен. Аристон весело расхохотался.
– Да я вовсе не влюблен в нее! – сказал он. – Как можно любить девушку, которую ты никогда не видел?
– Ты ее ни разу не видел? Да полно, Аристон! Даже в дни моей молодости можно было найти способ – подкупить рабынь, сесть рядом в театре, подстеречь на углу во время женских празднеств, таких, как праздник Артемиды, Па-нафинеи и…
– Ну разумеется! Но все дело в том, что я не хочу глядеть на нее. Я в любом случае не могу на ней жениться, поскольку она гражданка Афин; в таком случае, к чему мне ее соблазнять? Благодаря Парфенопе и ее маленьким нимфам я не испытываю недостатка в женской ласке. А так это просто игра. Я прошу Даная передать ей мои заверения в совершеннейшей преданности, чего он наверняка не делает, так как все эти разговоры ему явно не нравятся, в то же время это служит достаточным объяснением моей несговорчивости для чересчур ретивых мамаш и настырных папаш-метеков, уже считающих деньги, которые я от тебя унаследую.
– А в действительности дело вовсе не в ней, – подытожил Тимосфен.
– Нет. Дело в двух других женщинах, – тихо произнес Аристон.
– И кто же они?
– Парфенопа, которая так хорошо удовлетворяет мои физические потребности, что тем самым отбивает у меня охоту совершать всякие глупости, и Фрина, память о которой согревает мне дущу.
– Ты очень странный юноша, – заявил Тимосфен. – Должен признаться, что не пони…
Это было все, что он успел сказать, ибо в это самое мгновение его лошадь вдруг встала на дыбы с пронзительным ржанием. Как и все афинские всадники, Тимосфен был великолепным наездником. Он ухитрился совладать с мечущимся, хрипящим, обезумевшим животным, но лошадь тут же вновь вздыбилась, молотя передними копытами прозрачный воздух; на этот раз Аристон успел заметить камень, ударившийся о булыжники мостовой после того, как он с огромной силой врезался в бок серого жеребца. Чуть повернув голову, он встретился взглядом с невысоким коренастым человеком Гераклового телосложения; его лицо, окаймленное густой черной бородой, было совершенно искажено лютой злобой, а его огромный кулак сжимал еще один камень.
– Берегись, отец! – крикнул Аристон, но было уже слишком поздно; камень белесым пятном промелькнул на фоне золотистого пополуденного неба. Аристон увидел, как он ударил его приемного отца прямо в лоб, увидел, как кровь хлынула внезапной, неукротимой струей, но к этому моменту он был уже в воздухе, легким, стремительным соколом налетев на врага Тимосфена.
Его противник был по меньшей мере вдвое сильнее его, но не имел никакой подготовки. Будучи искусным панк-ратиастом, Аристон мгновенно опрокинул своего мощного бородатого врага, затем, как только он поднялся, вновь поверг его на землю ударом ногой в подбородок, рубанул его по шее ребром ладони – один этот удар мог бы убить более слабого человека, – вторым таким же ударом, только горизонтальным, перебил ему переносицу, вызвав обильное кровотечение, и уже собирался добить его, когда скифские наемники, выполнявшие в Афинах обазанности городской стражи и привлеченные криками прохожих, ставших свидетелями нападения, выбежали из-за угла, гремя доспехами, схватили злоумышленника и увели его с собой.
Только после этого Аристон сделал то, что ему следовало бы сделать в первую очередь: он поспешил на помощь к Тимосфену.
Дела всадника были плохи. Все его лицо было залито кровью. Крови было столько, что лишь после того, как его уложили на носилки и принесли в лечебницу врача Офиона, обнаружилось, что его правое бедро было раздроблено как минимум в трех местах, при этом осколки бедренной кости вонзились в мышцы его бедра, подобно множеству остро отточенных лезвий. И что еще хуже, ореховидный сустав бедра был разбит до такой степени, что его невозможно было восстановить.
– Ну что? – спросил Аристон Офиона, когда тот закончил обследование.
Врач медленно покачал головой.
– Он обречен, – печально произнес он. – Хуже всего то, что он не умрет сразу. Его организм слишком силен. Видишь ли, в его возрасте подобные повреждения бедренных костей не заживают. Ногу я мог бы залечить; в этом случае он бы просто остался калекой. Но я не знаю способа залечить сломанное бедро. В конце концов начнется заражение крови, и он умрет. Если и не от заражения, так от истощения, от бесконечных бессонных ночей, от невыносимой изматывающей боли. Пройдет время, и даже опиум не сможет облегчить его страдания. А рана на лбу – пустяк. Небольшое сотрясение, только и всего.
Аристон посмотрел в глаза врачу и, проведя языком по высохшим, потрескавшимся губам, выдавил из себя только одно слово: «Сколько?»
– Полгода. Год. А может, и два. Но нам следует молить богов, чтобы конец наступил как можно скорее. Это будет тяжкое зрелище, Аристон. Будь с ним рядом, постарайся сделать для него все, что в твоих силах.
– Я не отойду от него ни на шаг, о достойный врач! – поклялся Аристон и, повернувшись, поспешил обратно в комнату, где лежал Тимосфен.
И все же ему пришлось удалиться от ложа Тимосфена, причем на весь день и всю ночь, пока его приемный отец мирно спал под воздействием сонного зелья, которое дал ему врач. Первым делом Аристон направился в тюрьму, где раб по имени Пактол ожидал того часа, когда он предстанет перед гелией, народным судом, по обвинению в попытке убийства знатного афинянина. Он пошел туда потому, что на первый взгляд ужасное злодеяние Пактола было напрочь лишено всякого смысла. Любой раб прекрасно знал, что убийство или даже покушение на жизнь всадника означало для него мучительную смерть от рук государственных палачей. Афинский гражданин, охваченный яростью или отчаянием, еще мог бы бросить вызов судьбе, зная, что его в худшем случае ожидает чаша с ядовитым соком крапчатого болиголова, то есть относительно безболезненная смерть. Но раб, готовый испытать на себе изощренное искусство афинских палачей, должен был бы иметь для этого столь ужасные основания, что их трудно было даже вообразить. А какие вообще могли быть основания у любого слуги желать смерти Тимосфена, добрейшего человека, ни разу в жизни не поднявшего даже голоса на своих рабов, не говоря уж о том, чтобы поднять на них руку?
Значит, Пактол должен был быть наемным убийцей. Но кто мог его нанять? Насколько было известно Аристону, у его приемного отца не было ни одного серьезного врага. Да и неужто наемный убийца стал бы среди бела дня кидаться камнями? Разве не разумнее было бы вонзить нож в спину своей жертве в уличной толпе? Или выпустить стрелу из укрытия? Или подсыпать яд в чашу с вином в какой-нибудь таверне.
Все происшедшее не поддавалось никакому объяснению. И именно поэтому Аристон хотел поговорить с убийцей.
При ближайшем рассмотрении лицо этого могучего раба, несмотря на то что оба его глаза были подбиты, а нос сильно распух от удара, нанесенного ему Аристоном, оказалось на редкость приятным. Более того, во всем его облике сквозило даже какое-то благородство. Аристон долго и пристально смотрел на него. Затем он негромко произнес только одно слово:
– Почему?
Вместо ответа Пактол молча показал ему свою обнаженную спину.
У Аристона перехватило дыхание. Ему приходилось ви– деть следы побоев, но он даже представить себе не мог, что человеческая спина может быть так исполосована плетьми. На ней буквально не было живого места. Подобные истязания наверняка убили бы менее сильного человека. Но когда он вновь обрел дар речи, его голос был все так же сдержан, вопрос столь же лаконичен, как и подобало истинному лаконцу. Он опять произнес только одно слово, еще тише, чем предыдущее:
–Кто?
– Орхомен! – взорвался Пактол. – Но по приказу твоего благородного отца!
Аристон медленно покачал головой. Его голос прозвучал ровно, спокойно, но при этом с безграничной уверенностью:
– Нет.
– Что нет? – рявкнул Пактол. – Ты хочешь сказать, что твой отец…
– Ничего об этом не знал. Именно это я и хочу сказать. Мой отец годами не бывал в мастерских. То. что делает Орхомен, он делает по собственной инициативе. А теперь расскажи мне, за что он избил тебя?
– Мой маленький сын был при смерти. Мой маленький Зенон. Кроме него, у меня никого не осталось. Месяц назад умерла моя жена – умерла от голода, благородный Аристон! Да, я знаю, знаю! Ты лично распорядился, чтобы нам, рабам, выплачивали деньги на пропитание, хотя мы всего-навсего рабочий скот и ты не обязан был этого делать. Вот почему я не направил тот камень в твою прекрасную голову…
– Продолжай, Пактол, – прошептал Аристон.
– Но дело в том, что Орхомен присваивает эти деньги себе – эти жалкие несколько оболов, которые могли бы спасти мою жену, моего сына. В других мастерских рабам больше повезло; управляющие крадут лишь часть этих денег.
– Я слушаю тебя, – сказал Аристон.
– И вот я украл немного серебра, чтобы спасти жизнь моего Зенона. Все было напрасно, ибо он умер в ночь перед тем как я попытался убить твоего отца. Я взял всего несколько маленьких кусочков, предназначавшихся для отделки парадных доспехов полководца Никия, – после того как я тщетно умолял Орхомена дать мне денег на лекарства для моего сына. Он грубо отказал мне и пинками погнал меня обратно на работу.
Пактол остановился и окинул взглядом элегантно одетого юношу, стоявшего перед ним. Затем гневно произнес:
– Я полагаю, ты сейчас скажешь, что ничего не знал о надсмотрщиках с освинцованными плетьми, которых он держит в каждой мастерской твоего отца! Готов биться об заклад, что, посещая нашу мастерскую, ты ни разу…
– Не видел их? Нет. Посуди сам, Пактол. За все время, что я бывал в той мастерской, где ты работал, я хоть раз входил в нее без сопровождающих? Разве меня всякий раз не встречали на улице, не задерживали под всякими предлогами?
Раб медленно склонил голову. Затем вновь ее поднял.
– Да, это так, молодой господин, – признался он. – И эти убийцы со своими кнутами всегда выбегали через заднюю дверь перед тем, как ты входил через переднюю. Я это заметил. И даже допускал, что ты ничего об этом не знаешь. Но поверить, что и твой отец ничего не знал, это было бы уже слишком. Я слышал, что ты добр. Твои рабы восхваляют тебя, как бога. Они клянутся, что вскоре получат свободу.
– Да. И ты тоже ее получишь, – заявил Аристон. Пактол уставился на него; его глаза под огромными мохнатыми бровями пылали.
– После того, что я сделал? – прошептал он.
– Да, после того, что ты сделал. Сегодня же я откажусь от всех обвинений в твой адрес перед архонтом-басилеем. И я предлагаю тебе должность телохранителя моего отца; если же он не выживет, ты будешь моим телохранителем.
И тогда огромный, могучий, подобно Гераклу, Пактол склонил свою косматую голову и заплакал.
– Господин мой, – произнес он срывающимся голосом, – прошу тебя, просунь свою ногу через решетку, чтобы я мог поцеловать ее.
– Не надо. Вот тебе моя рука. Ты можешь пожать ее – как равный, как свободный человек, – сказал Аристон.
В тот же день Аристон отправился в Булевтерий и предъявил бумагу, подписанную лично Тимосфеном, который к тому времени уже пришел в сознание, хотя и страдал от жестокой боли; в ней была изложена просьба снять все обвинения с Пактола и объяснялось почему. Архотент-ба-силей кряхтел и сопел в течение получаса, не зная, что ему делать с подобной неслыханной просьбой, но в конце концов сдался под напором страсти и красноречия, с которыми сын пострадавшего защищал провинившегося раба.
После этого Аристон поднялся на Агорийский холм с противоположной стороны, пересек внутренний двор храма Гефеста и спустился вниз к главной мастерской. Его никто не успел перехватить и задержать.
Когда он зашел в мастерскую, он увидел, как трое надсмотрщиков полосуют спину раба своими плетьми. Он не произнес ни слова. Он просто поймал кнут, отведенный одним из них для удара, и дернул с такой силой, что его обладатель, потеряв равновесие, с размаху ударился головой о ножку рабочей скамьи и остался лежать на полу без движения; второй надсмотрщик был повержен безжалостным ударом ногой в промежность; третьего же он ухватил за запястье и сломал ему руку о свое колено.
Затем он произнес ровным, холодным тоном, от которого становилось жутко:
– Убирайтесь отсюда. Вы все. И чтобы я вас больше здесь не видел.
Орхомен уже бежал к нему с широко разинутой пастью, из которой вот-вот должны были посыпаться проклятья. Но то, что он прочитал на лице Аристона, заставило закрыть рот даже его.
Аристон стоял и смотрел на своего бывшего соратника, и эти ужасные минуты показались тому вечностью.
– Ты можешь последовать за своими друзьями, Орхомен, – сказал он.
В тот же вечер Орхомен заявился домой в стельку пьяный и принялся зверски избивать свою жену Таргелию. Он бил ее до тех пор, пока это развлечение ему не наскучило. Тогда, нежно простившись с ней напоследок ударом ногой прямо в ее раздавшийся живот, он, шатаясь, вывалился в опустившуюся на город ночь.
К тому времени несчастная Таргелия была уже на девятом месяце беременности. От удара Орхомена у нее случился выкидыш и открылось кровотечение. И она была одна в доме. Ее слабых криков никто не услышал.
Когда же, два дня спустя, истратив свой последний обол, как обычно, на вино, шлюх и мальчиков, Орхомен вернулся домой, ему оставалось только похоронить Тар-гелию и маленький синий окровавленный комочек, который должен был стать его сыном.
Благородный всадник Тимосфен получил возможность в полной мере продемонстрировать и свое благородство, и свое мужество. И, надо сказать, в течение десяти из тринадцати месяцев, что он еще прожил, у него это получалось совершенно безукоризненно. Но у любого мужества есть свои пределы; и к концу года Тимосфен, некогда холеное тело которого покрылось пролежнями, распухшее бедро источало гной через раскрывшуюся рану, Тимосфен, превратившийся в груду костей, выпиравших под тонким, как пергамент, слоем его исхудавшей плоти, каждую ночь кричал от нестерпимой боли, пока не терял сознание.
Все это время Аристон ни на шаг не отходил от него, так же как и ныне свободный Пактол, пожелавший искупить свою вину тем, что стал заботливой нянькой, верным слугой, преданным рабом человека, которого он обрек на смерть. Пактол делал для своего хозяина абсолютно все: купал, кормил, переворачивал его ставшее почти невесомым тело в тщетных попытках найти более удобное для. него положение, оказывал ему даже наиболее интимные услуги, в которых всегда нуждается человек, прикованный к постели и не способный сам отправлять свою нужду. И в конце концов он оказал Тимосфену и последнюю, самую великую и милосердную услугу.
В ту последнюю ночь Тимосфен проснулся и увидел, что Аристон распростерся на большой скамье подле его ложа, погруженный в глубочайший сон человека, уже более недели не смыкавшего глаз. Но Пактол бодрствовал; его глаза сверкали, как два пылающих уголька на темном лице, и в них отражалась бесконечная печаль и жалость к своему хозяину, которого он за это время успел всей душой полюбить.
– Пактол, – прошептал Тимосфен, и его голос был тише шороха сухих листьев, гонимых ветром по пустынной улице.
– Да, господин? – отозвался вольноотпущенник.
– Помни, о чем я тебя просил. Если я закричу. Я больше не могу вынести, я…
– Господин мой! – рыдал Пактол.
– Ты обещал, Пактол! Ты должен, ты обязан это сделать. Я приказываю тебе. Слышишь? – Его рот открылся, а голова стала запрокидываться назад, все дальше, дальше…
И Пактол встал. Подошел к постели. Вынул подушку из-под головы несчастного старца. Затем, орошая слезами свою иссиня– черную бороду, он с невыразимой нежностью, осторожно, стараясь не причинять боли, задушил Тимосфе-на.
На это ушли считанные минуты, ибо истощенный организм всадника не мог оказать никакого сопротивления. Пактол отнял подушку от доброго, теперь уже спокойного лица старика и подложил ее обратно ему под голову. Закрыл ему глаза своими огрубевшими от работы, мозолистыми пальцами. Затем подошел к спящему Аристону и потряс юношу за плечо.
– Что, что такое? – пробормотал Аристон.
– Он покинул нас, – сказал Пактол.
И пока Аристон, стоя на коленях у этого смертного одра, рыдал, как могут рыдать только самые безутешные, Пактол вышел в сад и повесился на огромной ветви старой оливы.
Глава XV
Ах, это ты, мой ягненочек! – воскликнула Парфенопа. – Я так рада, что ты решил навестить меня.
– Ну а я не рад, – мрачно произнес Аристон. – В сущности, я сам не знаю, зачем пришел. Во всяком случае, не для того, чтобы с кем-нибудь переспать, так что не вздумай устраивать тут смотр своих нынешних учениц!
Парфенопа улыбнулась. Четыре года назад, по случаю своего сорокалетия, она во всеуслышание объявила, что отходит от активных занятий своим деликатным ремеслом; по странной иронии судьбы, это событие совпало с окончанием добровольного траура, который Аристон неукоснительно соблюдал в течение двух лет в честь столь горячо им любимого приемного отца. Уйдя на заслуженный отдых, Парфенопа открыла в собственном доме школу по подготовке гетер и алевтрид. Здесь под ее чутким руководством многие молодые афинянки, явно предпочитавшие путь в меру оплачиваемого порока той беспросветной нищете, из которой большинство из них вышли, обучались грациозной походке, пению, танцу, искусству украшать свою внешность, а также приобретали весьма поверхностные знания из области культуры, которыми, однако, можно было при случае блеснуть в обществе. Одной из ее наиболее известных и способных учениц, далеко превзошедшей этот, в общем-то, элементарный курс и достигшей в своем деле высшего совершенства, была Феорис. Аристон, к немалому облегчению, узнал, что она стала любовницей поэта Софокла и решила воспользоваться услугами Парфенопы, чтобы сделаться достойной несравненной мудрости такого великого человека.
– Ты напрасно думаешь, что я не могу предложить тебе ничего достойного внимания, ягненочек, – промурлыкала Парфенопа. – Нынешний набор гораздо лучше прошлогоднего. У меня есть две дочери всадников, одна маленькая очаровательная беглянка из семьи пентакосиомедимна и целых четыре девушки из семей зевгитов. И заметь, ни одной неотесанной фетянки! Ну как?
Аристон молча уставился на нее. То, что она говорила, не укладывалось ни в какие рамки. Пентакосиомедимны, согласно законодательству Солона, были богатейшей из имущественных групп Афин. Буквально это слово означало «люди, имеющие пятьсот бушелей»; во времена Солона это считалось огромным богатством, ибо в каменистой бесплодной Аттике такие урожаи можно было собирать лишь с очень больших земельных владений. Конечно, теперь принадлежность к состоятельным классам определялась не собранным урожаем, а деньгами – талантами, минами, драхмами и оболами; однако древнее название сохранилось. Вслед за пентакосиомедимнами (зачастую превосходя их родовитостью и знатностью) шли всадники, чьи земли приносили им более трехсот бушелей, но менее пятисот; этого хватало для того, чтобы иметь верховую лошадь и боевые доспехи, что стоило немалых средств. Опять же в настоящее время применялись в основном денежные критерии, хотя многие всадники – особенно эвпатриды, или благородные, к которым принадлежал и Тимосфен, – из-за своего консерватизма упрямо держались за земельные угодья. Затем шли обладатели от двухсот до трехсот бушелей; их название – зевгиты, или погонщики, – говорило о том, что они могут позволить себе обладание колесной повозкой и парой быков. Ну а на низшей ступени стояли феты, бедные крестьяне, чей урожай не достигал даже двухсот бушелей.
Во времена Солона, когда все афиняне, независимо от состояния, занимались сельским хозяйством, все эти на– звания имели определенный смысл. теперь же, в постпери-кловскую эпоху, этот смысл был во многом утрачен. «Люди с пятистами бушелями» в абсолютном своем большинстве заменили эти самые бушели пшеницы, ячменя, слив, вина денежными доходами, получаемыми со своих верфей, различных эргастерий или от труда сотен своих рабов, работавших на шахтах и в мастерских. То же самое делали и всадники, ставшие городскими жителями; правда, они сохранили привилегию служить в кавалерии, а не месить грязь в пехоте. А большинство зевгитов сталкивались с запряженной быками повозкой только тогда, когда она загружалась вазами из их гончарен, тканями с их ткацких станков или мебелью из их мастерских, чтобы отвезти эти типично городские товары в гавань для погрузки на корабли или на рынок для продажи, – в то время как почти все феты зарабатывали себе на жизнь своими мускулистыми руками на эргастериях и в мастерских, принадлежавших представителям трех других групп.
Но вот что заставило Аристона проглотить язык от удивления, так это внезапно пришедшая ему в голову мысль, что на самом деле ни одна девушка, принадлежащая к какой-либо из этих групп, включая даже квалифицированных работников из числа фетов, не испытывала нужды, которая могла бы заставить ее заняться тем, что, несмотря на все эвфемизмы и деление на категории – порна, алевтрида, гетера, – в сущности, представляло из себя все ту же древнейшую профессию. Во времена Солона, и даже еще при Перикле, все гетеры и большинство алевтрид и порн были уроженками других городов; однако теперь, судя по шокирующему заявлению Парфенопы, многие из них, как он понял, были коренными афинянками.
– Но почему? – воскликнул он наконец. – Клянусь Гестией, Парфенопа, почему девушка из хорошей семьи, богатая, защищенная…
– Ага! – сказала Парфенопа. – Вот теперь ты попал в самую точку, ягненочек! Все дело именно в этой самой «защищенности»! Тебе бы понравилось провести всю свою жизнь в тюрьме? Ибо афинские гинекеи и есть самые настоящие тюрьмы, какими бы удобными и красивыми или даже роскошными они ни были. Представь себе, что ты афинянка благородного происхождения. Это значит, что ты не сможешь принимать участия ни в вечеринках, ни в званых обедах, ни вообще в каких бы то ни было общественных мероприятиях, если это только не свадьба или похороны кого-либо из твоих ближайших родственников. Добавь к этому, что даже твои праздники и религиозные обряды будут отличаться от мужских и проводиться отдельно от них; что даже в театре тебе запрещено сидеть рядом с мужчинами; что тебе нельзя просто сходить за покупками; что даже среди бела дня ты не можешь пройтись по улицам без сопровождающих; что, наконец, ты должен выйти из комнаты, как только в нее войдет твой друг – я имею в виду, разумеется, мужчину – или друг твоего брата, или отца, или мужа, даже если в этот момент ты лакомишься своим любимым блюдом во время обеда. Ну, как бы тебе все это понравилось, ягненочек?
– Совершенно не понравилось бы, – признался Аристон.
– Ну вот, и твоим высокородным афинским дамам такая жизнь не по вкусу. Послушай, ягненочек, пора бы тебе уже немного разбираться в женской натуре. Мы, за редким исключением, просто не столь похотливы, как мужчины. О, разумеется, я не хочу сказать, что в нашей крови не может вспыхнуть пламя страсти, которую мало кто из вас в состоянии удовлетворить, коль скоро она разгорелась! Но все дело в том, что это пламя еще нужно разжечь. А возбудить страсть в обычной женщине задача не из простых, уж поверь мне. Короче говоря, я еще не встречала женщины, которая стала бы шлюхой из-за того, что ее сжигала похоть. Ни разу в жизни.
– Тогда почему? – спросил Аристон.
– Если не считать рабынь, которых заставляют заниматься этим ремеслом – а именно так обычно становятся порной, – главной причиной, конечно, является голод. Если ты неделю ничего не ела, ты уже не станешь так уж сильно возражать против того, чтобы лечь под какого-нибудь ублюдка, особенно если учесть, что на заработанную таким образом драхму ты сможешь прожить четыре-пять дней, а за это время может произойти нечто такое, что избавит тебя как от голода, так и от такой вот жизни. Именно так все и рассуждают. Правда, на самом деле, увы, ничего «такого» никогда не происходит, и в результате ты оказываешься в соответствующем «доме» с надписью над дверьми, рекламирующей твои прелести. Со мной, во всяком случае, все случилось именно так, после того как чума в одну ночь унесла моих родителей. Другой причиной может стать любовь. Разумеется, неудачная. В результате очень многие девушки остаются с быстро растущим животом на память о каком-нибудь прохиндее, который исчез в неизвестном направлении. Их отцы, естественно, выгоняют их из дому. После чего они либо делают аборт, либо обзаводятся потомством, которое нужно кормить; но в любом случае им приходится заботиться о хлебе насущном. Ну и как они, по-твоему, будучи женщинами, могут зарабатывать себе на пропитание? Прислугу богатые люди не нанимают, они предпочитают покупать рабов, ягненочек. А кто такая жена или дочь афинянина, как не привилегированная прислуга для своего мужа или отца? Что она умеет делать, кроме как вести домашнее хозяйство? И вот, раз уяснив для себя, насколько большое значение мужчины придают этой любопытной процедуре или даже, в редких случаях, получив от этого удовольствие, они делают выбор между этим занятием и голодом. Разумеется, в пользу первого.
– Ну допустим. Но все равно ты меня не убедила – по крайней мере в том, что касается высших слоев. Дочери фетов, зевгитов – это я еще могу понять, но ведь вероятность того, что внебрачная беременность может приключиться с дочерью пентакосиомедимна или всадника, равна нулю. Абсолютно нулю.
–Разумеется, ягненочек! Ты совершенно прав! Правда, только до тех пор, пока она находится под крышей родительского дома и наслаждается той самой защищенностью, о которой ты говорил.
– Но ведь она всегда так живет, – возразил Аристон.
– Вот и нет. Теперь уже нет. Все больше и больше девушек с мозгами в голове и кровью в жилах восстают против такой жизни. Сначала они просто ссорятся с папочкой, что, в худшем случае, заканчивается для них поркой от его августейшей руки. Но потом, чаще всего после такой ссоры или множества таких ссор, а особенно после побоев, они улучают момент, когда папаша дрыхнет без задних ног, и находят способ удрать ночью из дому, обычно с помощью рабыни, столь же по горло сытой афинским образом жизни, как и они сами. Вот и все. Она попалась. Ей вовсе не нужно чего-либо делать, ягненочек. Достаточно, чтобы ее заметили одну на улице или в каком-нибудь кабаке с мальчиком в эту ночь. Она по-прежнему может быть девственницей, но в глазах окружающих она уже шлюха. И папочка вышвыривает ее на улицу – если, конечно, не убивает, как это все еще делают некоторые замшелые реакционеры. Он вынужден так поступить. Что еще ему остается?
– Простить ее, – сказал Аристон.
– Ага. Только для того, чтобы через год-другой она выкинула бы то же самое, когда одиночество станет невыносимым; к тому же она точно будет знать, что никогда не сможет выйти замуж, поскольку ни один афинянин не возьмет в жены девушку с сомнительной репутацией.
– Так значит вот откуда ты берешь своих нежных высокородных красавиц! – сказал Аристон.
– Ну да. Прибавь к ним еще нескольких жен, которые ушли от своих мужей, или развелись с ними, или были пойманы с поличным супругами, слишком мягкосердечными или слишком слабыми, чтобы убить их, и в то же время недостаточно мягкосердечными или сильными, чтобы простить. Вообще-то я не люблю разведенных. Они чересчур озлоблены. Когда выясняется, что тип, из-за которого ты разошлась с мужем, вдруг приобретает неодолимую страсть к путешествиям в ту же минуту, как ты стала свободной, ты начинаешь ненавидеть всех мужчин. А я предпочитаю девушек, которым мужчины нравятся. Они приносят больше дохода. В конце концов, неискренность всегда заметна.
– Надо же, Парфенопа в роли философа! – рассмеялся Аристон. Затем он посмотрел ей прямо в глаза с чуть насмешливой ульбкой. – Ну а теперь давай ближе к делу, – сказал он.
– К какому делу? – спросила она. Ему показалось, что ее голос слегка дрогнул.
– Да к тому самому, из-за которого ты и прочла мне эту лекцию. Дорогая моя Парфенопа, ты напрасно думаешь, что я не знаю женщин. Более того, я прекрасно знаю тебя.
Пустая болтовня тебе вовсе не свойственна. И эту весьма своеобразную тему – «Как и почему становятся шлюхами» – ты выбрала совсем не случайно. Ты куда-то клонишь, а я этого не люблю. Мы с тобой столько лет знакомы, что пора бы тебе уже знать: хочешь что-либо мне сказать – говори прямо, без всяких там подходов. Ну ладно. Выкладывай, что там у тебя! Признаюсь, ты меня заинтриговала. Что, клянусь Эросом и Афродитой вместе, может быть интересного для меня в связи с этой темой?
– Знаешь, Аристон, – прошептала она, – именно за это я тебя и люблю. Честно. Ты единственный мужчина в моей жизни, умеющий чувствовать, и при этом не гомик. Если, конечно…
– Что если?
– Если ты в самом деле не гомик. Ты стал редко появляться у меня. И даже когда появляешься, в половине… нет, в трех четвертях случаев не хочешь девочки. Ну а Данай… Данай очень красивый мальчик.
– Ты хочешь, чтобы я тебе врезал по физиономии? – осведомился Аристон.
– Нет. Я хочу, чтобы ты меня успокоил. Ты же не спишь с ним, Аристон, правда? Меня бы это очень огорчило.
– Я с ним не сплю. Ни с ним, ни с кем-либо другим. После того как я шесть месяцев прогостил у Поликсена, единственное чувство, которое я испытываю от мужской ласки и поцелуев, – это тошнота. Ну что, успокоилась?
– На этот счет да.
– Ага! Теперь наконец мы приближаемся к сути. Итак, речь идет о деле, потребовавшем столь длинного и тщательного вступления?
– Ну да. Ох, Аристон, ягненочек, я так напугана! Ничего подобного раньше не случалось!
– Чего не случалось?
– Его сестра. Я имею в виду Даная. Так вот, его сестра Хрисея – она приходит сюда, в мое заведение!
– Зевс Громовержец! – воскликнул Аристон.
– И великая Гера, мать богов! – прошептала Парфе– нопа.
– Как? Как она могла? Это совершенно невозможно, – он осекся на полуслове и нахмурился. – Нет, – произнес он после некоторого раздумья. – В этом нет ничего удивительного, разве не так? Если учесть, что Пандор и Халкодон не вылезают из бань Поликсена или Гургоса, где они предаются разврату с беззащитными мальчиками, что Брим обогащает все притоны Пирея, то единственный человек, от кого ей всерьез нужно прятаться, – это Данай.
– Который не отходит от тебя, – язвительно вставила Парфенопа.
– Не всегда. Но он сейчас проходит подготовку к предстоящей экспедиции против Сиракуз, а это значит, что ему, возможно, приходится ночевать в казарме. Так что никто не может ей помешать.
– Кроме тебя. Ты можешь все рассказать Данаю. Сообщить ему.
– Нет, Парфенопа. Данай очень консервативен в этих вопросах. Наверное, это его реакция на поведение отца и брата. Скорее всего, он станет бить ее, а потом… Парфенопа, зачем она приходит сюда? Встречаться с любовником? Или ей нравится продаваться?
– Ни то, ни другое, клянусь Артемидой! Я дам голову на отсечение, что она непорочна, как горные снега. Более того, ей было бы непросто расстаться со своей девственностью, даже если бы она этого захотела. Она тощая как жердь и уродливее дочери Гекаты. Ее груди величиной со сливы, а бедра…
– Ты несправедлива к ней, Парфенопа, – сказал Аристон.
– Да нет же, ягненочек! Напротив, она мне нравится! Ее маленькая чудная головка кое-что соображает. Она приходит только после полуночи, закутанная в покрывало, как египетская мумия, причем через дверь, предназначенную для торговцев и слуг. Я настояла на этом после того, как пришла в себя от шока, вызванного ее первым появлением; узнав, кто она такая, я просто лишилась дара речи и могла только благодарить богов за то, что она каким-то чудом ни с кем не столкнулась в прихожей. Зачем она пришла? Чтобы я дала ей ту привлекательность, которой ей, по ее мнению, не хватает. И вовсе не для того, чтобы зарабатывать себе на хлеб чем-либо постыдным. Она всего-навсего хочет просто выйти замуж – за кого-нибудь вроде тебя. За этим она и пришла. Ее брат как-то проговорился, что ты завсегдатай этого заведения. Знаешь, ты ее очень интересуешь. Правда, к этому интересу примешивается некоторая враждебность. Она думает, что ты занимаешься всякими грязными штучками с ее братом, и, согласись, что вполне соответствовало бы тому, что ныне творится в Афинах, так что ее не в чем упрекнуть. Беда в том, что я не знаю, что мне с ней делать. Это совершенно уникальная ситуация. Все остальные девушки благородного происхождения, которые попадают сюда, до того уже теряют свой дом, репутацию, невинность. С Хрисеей дело обстоит иначе. Она как бы между двух миров, и, похоже, это небезопасное положение ей нравится. Но если она попадется, мне конец. Этот старый, – Парфенопа употребила чрезвычайно неприличное аттическое выражение, примерно означающее «любитель минетов», – Пандор потребует все мое состояние до последнего обола в качестве компенсации за развращение своей дочери. И выиграет дело, не сомневайся.
– А ей ты это говорила?
– Разумеется. Но она только рассмеялась. Говорит, что беспокоиться абсолютно не о чем. Уверяет меня, что в случае, если мне будет когда-либо предъявлено подобное обвинение – а, по ее мнению, шансы на то, что этот дряхлый извращенец застукает ее, крайне невелики, с чем, в общем, можно согласиться, если иметь в виду порядки, царящие в этом доме, – то все, что от нее потребуется, – это открыть лицо, сбросить одежду. «Она сама спадет, так как у меня нет бедер, на которых она могла бы держаться», – заявляет она. – Ив голом виде предстать перед гелиэей. «И тогда, – говорит она мне, – это обвинение рухнет под собственной тяжестью, или, если хочешь, под моей невесомостью. Ибо, посуди сама, кому из увидевших меня обнаженной и имевших удовольствие пересчитать все мои кости под этой бледной кожей, не покрывающей ничего, кроме них, может прийти в голову, что кто-либо пожелает подвергнуться хоть малейшему риску ради моего развращения?»
– А голова у нее варит! – заметил Аристон.
– Да, но в основном яд для ее язычка. Ох, ягненочек, что же мне делать?
– Ничего, я ей сам займусь. Когда она собирается опять появиться?
– Понятия не имею. Думаю, что не скоро. Она была у меня прошлой ночью и теперь, скорее всего, придет не раньше чем через две недели. Она очень осторожна, этого у нее не отнимешь.
– В любом случае, когда она объявится, задержи ее под каким-нибудь предлогом. И пошли за мной раба.
– А ты?
– Примчусь сюда, с глазами навыкате и пеной на губах, сгорая от безумной страсти, и изображу попытку зверского изнасилования. Так напугаю ее, что…
– Ягненочек, – нежно проворковала Парфенопа.
– Ну что еще? – недовольно осведомился Аристон.
– Знаешь, ты очень привлекательный мужчина.
– И что?
– Допустим, она не испугается. Допустим, она просто скажет: «Секундочку, дорогой!», – сбросит с себя пеплос и уляжется перед тобой в сладостной истоме.
– Не уляжется. Ну а в случае чего меня тут же охватят угрызения совести, я вдруг вспомню, что она сестра Дана, захочу вскрыть себе вены во искупление нанесенного ей оскорбления и…
– И в результате она влюбится в тебя без памяти.
– Ну тогда я не знаю, – простонал Аристон. – У тебя есть другие предложения?
– Есть. Я пошлю за тобой, но ты поговоришь с ней серьезно, как любящий брат. Скажешь, что Данай – а она его обожает настолько же, насколько презирает двух остальных – будет страшно потрясен, если она испортит свою репутацию. Я думаю, что тебя она послушает. Твои слова, подкрепленные твоей мужской красотой, должны произвести на нее куда большее впечатление, чем слова любой женщины. Ягненочек, ты ведь поможешь мне, пока эта хитрая маленькая ведьма меня не погубила?
– Ну разумеется, Парфенопа, – заверил ее Аристон.
Однако прежде чем им удалось осуществить свой план, произошли события, в корне изменившие ситуацию. Все началось в тот день, когда Аристон получил записку от Даная, в которой говорилось, что флот под командованием стратегов Никия и Алкивиада на следующий день отплывал к берегам Сицилии для осады Сиракуз. Впоследствии оказалось, что Данай ошибся или был введен в заблуждение, но это мало что меняет. Аристон, естественно, тут же отправился проститься с лучшим другом. Однако выходя из своей конторы, куда он заходил дать распоряжения десятнику по эргастерии, он увидел Сократа, поднимающегося в гору в его направлении.
Он остановился. Визит к Дану можно отложить на час-другой. Ничто не могло сравниться с тем высочайшим интеллектуальным наслаждением, которое Аристон получал от общения с этим старым уродливым мудрецом.
Да и откуда мог он знать, наблюдая за тучной фигурой, с трудом преодолевающей подъем к эргастерии, что эта задержка будет иметь столь ужасные последствия.
Глава XVI
Сократ поднял щит и вынес его через дверь эргастерии на солнечный свет. Оказавшись снаружи, он стал внимательно рассматривать его.
Аристон улыбнулся. В мастерской, разумеется, было темно и дымно, но дело было вовсе не в этом. Для того чтобы хорошенько рассмотреть изображения на щите, философу было бы достаточно подойти к одной из печей, в которых выплавлялась бронза. В сущности, каждые несколько минут кто-либо из рабочих заливал жидкий металл из ковша в одну из литейных форм; при этом весь цех озарялся ярким светом, по силе не уступающим солнечному, так что Сократ мог увидеть все, что хотел. На самом деле ему мешал шум.
Аристон, бывавший здесь практически каждый день на протяжении вот уже почти восьми лет, привык к адскому грохоту печей, работающих на форсированной тяге; огромные кузнечные мехи, приводимые в действие мускулистыми руками самых сильных его рабочих, буквально вгоняли в них воздух. К этому нужно прибавить непрекращающийся стук молотков по листовому металлу, наложенному на пресс-формы из твердого дерева – таким образом выковывались надписи и барельефные изображения; шипение, издаваемое закалочными ваннами при погружении в них лезвий мечей и наконечников копий; наконец, тяжелые удары молотов о наковальни. Но привычное ухо почти не замечало весь этот жуткий шум; во всяком случае, он нисколько не отвлекал Аристона от философских размышлений на разные темы, как-то: где грань между защитой свободы и неприкрытой агрессией, можно ли вообще оправдать производство оружия, не является ли война, какими бы благородными мотивами ни руководствовались воюющие, в конечном итоге просто убийством?
Однако Сократ не привык к оглушительному грохоту оружейной мастерской. У него закружилась голова, к тому же, как и всегда, старику хотелось поговорить. Эти разговоры – столкновение умов, изучение мотивов и мыслей, проникновение в глубины человеческих душ и выявление их сути (впрочем, как правило, весьма разочаровывающей) – составляли весь смысл его жизни.
– Это просто великолепно, – произнес он. – Пожалуй, это самый великолепный щит, который я когда-либо видел. Как ты додумался до такого, Аристон?
– Ты имеешь в виду метод точного литья? Его придумал не я, Сократ, – сказал Аристон. – Я узнал его от скульптора Алкамена, когда позировал ему за деньги.
– И было это в то время, когда ты не мог достать денег даже на то, чтобы открыть эту мастерскую, – ехидно заметил Сократ. – Несмотря на то что твой покойный отец был первым богачом в Афинах!
Аристон с укором посмотрел на него. Ему все еще было тяжело вспоминать, как мучительно долго умирал его возлюбленный приемный отец. Что бы там ни говорили, а смерть всегда ужасна. Отрицание всего человеческого. Полное и бесповоротное отрицание.
– Ты же знаешь почему, – сказал он Сократу.
– Да. Я знаю. И Тимосфен был не прав. Прав был ты, при всей своей молодости. То, что достается легко, не идет человеку на пользу. А вот когда тебе приходится всего добиваться самому, это укрепляет твою волю.
Аристон невесело улыбнулся.
– Да я, в общем-то, сам ничего не добился, – сказал он. – Деньги мне дал Орхомен, а он, в свою очередь, одолжил их у твоего драгоценного Алкивиада.
Сократ тяжело вздохнул.
– Это одна из моих неудач, сын мой Аристон, – сказал он. – Видишь ли, и у меня иногда бывают неудачи. И Алкивиад – наглядный тому пример.
Аристон удивленно посмотрел на него.
– И ты говоришь об этом сейчас? Сейчас, когда он назначен стратегом, когда ему вместе с Никием вверено командование экспедицией против Сиракуз?
– Да, говорю, – заявил Сократ. – Что такое успех и что такое неудача. Аристон? Просто слова, сотрясающие воздух. Ничто. Кстати, что ты думаешь о Фукидиде, сыне Олора?
– Я думаю, что с ним обошлись несправедливо! В конце концов ему пришлось оборонять все побережье Халкидики и Фракии всего с семью триерами. Откуда было ему знать, в каком именно месте, от Потидеи до Херсонеса, Брасид нанесет удар? Неудивительно, что он потерпел неудачу под Амфиполем, а вы, афиняне, его за это изгнали.
– А в изгнании он написал фундаментальный труд по военной истории, величайший из всех когда-либо существовавших. Я прочел все, что он уже закончил. А что касается битвы, то он проиграл ее, потому что опоздал. Но я рискну утверждать, что его промедление по такому совершенно несущественному поводу обеспечит ему бессмертие. Теперь пойдем дальше: кто, собственно, победил под Амфиполем?
– Брасид, разумеется, – сказал Аристон.
– А кто потерпел поражение?
– Клеон.
– Ну а что произошло с ними обоими в тот день? И с тем, и с другим?
– Брасид умер от ран, которые он получил, идя в атаку во главе своих гоплитов. А Клеон был сражен пелтастом, когда бежал с поля боя.
– Ага, но ведь в результате оба мертвы, не так ли? Как победитель, так и побежденный? Как герой, так и трус?
Аристон молча воззрился на своего учителя. Затем его лицо медленно расплылось в улыбке.
– Твоя взяла, Сократ! Впрочем, как и всегда. Надо быть круглым дураком, чтобы ввязываться с тобой в спор. В конце концов, не прошло еще и десяти лет, как я начал учиться у тебя мудрости.
– Да-да. Целых десять лет, мой сын Аристон! Когда я впервые увидел тебя, ты был безбородым юношей, красотой затмевающим богов. Ты и теперь по-прежнему прекрасен, но уже по-иному.
– По крайней мере теперь у меня есть борода! – рассмеялся Аристон.
– И к тому же плечи, как у Орхомена. Твоя мускулатура чересчур развита, и я подозреваю, что ты нарочно это сделал, чтобы ни у одного мужчины не возникло больше желания. Но я вижу, что эта тема все еще причиняет тебе боль. Ладно, возьми свой щит. Я сейчас немного потанцую.
– Потанцуешь? – переспросил Аристон.
– Ну да. Я каждый день танцую. А каким еще способом, по-твоему, можно удерживать мое достопочтенное брюхо в разумных пределах?
– А можно мне предложить кое-что взамен? – осведомился Аристон.
– Разумеется! Но если ты собираешься вызвать меня на борцовский поединок, мой мальчик, не будь слишком самоуверен!
– Ни в коем случае. Мне известна твоя сила, Сократ. Я хотел всего-навсего предложить тебе прогуляться со мной до дома Даная. Мне нужно проститься с ним. Завтра он отплывает с экспедицией.
– С превеликим удовольствием. Но может быть, ему это не понравится? Ты не думаешь, что ему захочется проститься с тобой наедине? – спросил Сократ.
– Нет, – твердо ответил Аристон, – то есть я не думаю, что у него возникнет такое желание. Он знает мое отвращение к плотской любви между мужчинами и уважает мои чувства. Я всегда был для него чем-то вроде посредственного наставника, по мере сил передававшего ему твою науку. Твой визит он сочтет большой честью для себя, так что, Сократ, мы можем отправляться в дорогу.
И они вместе зашагали по улицам Афин. Высокий молодой человек двадцати восьми лет от роду широкоплечий, мускулистый – строго говоря, слишком мускулистый, по представлениям жителей Эллады, которые возвели принцип «все хорошо в меру» в ранг высшего жизненного закона, – с густой курчавой бородой, окаймлявшей его строгое за– думчивое лицо, которое не столько утратило ослепительную красоту его юности, сколько приобрело новые оттенки этой красоты, – ту мужественность, которая ранее не была ему свойственна; и рядом с ним, доставая головой до его плеча, коротконогий тучный философ, почти такой же мускулистый, с лицом Пана, Сатира, Силена, столь разительно контрастирующим с величием и благородством его духа и ума.
По дороге они развлекались, обсуждая некоторые постулаты софистов: учение Парменида, отождествлявшее бытие с сознанием и утверждавшее, что ничто не может существовать независимо от человеческого мышления; парадоксы Зенона, гласившие, что любое движение к какой-либо цели бесконечно, поскольку для преодоления любого расстояния человеку необходимо преодолеть бесконечное число отрезков пути, что исключает саму возможность когда-либо пройти весь путь: к примеру, Ахилл никогда не догонит черепаху, ибо всякий раз, когда он будет достигать какой-либо точки, где раньше находилась черепаха, ее в этой точке уже не будет; или что выпущенная стрела на самом деле находится в состоянии покоя, так как в любой момент времени она может находиться лишь в одной точке пространства, то есть с точки зрения метафизики она неподвижна, а ее видимое движение обманчиво.
– Стань, пожалуйста, у той стены, – предложил Аристон, – а я выпущу в тебя эту метафизически неподвижную стрелу Зенона.
– Охотно! – рассмеялся Сократ. – Видишь ли, моя неподвижность будет столь же метафизически обманчива и мое толстое брюхо, между нами говоря совершенно не метафизическое, не повстречается с твоей стрелой, поскольку мои нервы и мускулы, понятия не имеющие о метафизике Зенона из Элеи, оттащат его в сторону.
Примерно в таком высокоинтеллектуальном духе они валяли дурака на протяжении всего неблизкого пути. Лишь однажды Сократ, обычно самый веселый из смертных, вдруг стал серьезным. При виде товаров, в изобилии разложенных на рыночной площади, он заметил с глубоким удовлетворением:
– Сколько же на свете существует вещей, которые мне не нужны!
Дом Пандора, как и все афинские дома, был обращен к улице глухой стеной без единого окна. Все двери и окна, за исключением, разумеется, главного входа, выходили на уютный внутренний двор. И как только старый раб ввел их в прихожую. Аристон сразу понял: ходившие по Афинам слухи о том, что богатство Пандора постепенно проматывается им самим и его двумя старшими сыновьями, соответствуют действительности: прихожая явно нуждалась в ремонте и покраске. Что касается Даная, то к нему молва не имела никаких претензий. Напротив, афинские остряки утверждали, что, «полюбив этого богатого метека Аристона, он совершил самый мудрый поступок в своей жизни». Разумеется, они имели в виду любовь в прямом, скандальном, смысле этого слова, что совершенно не соответствовало действительности, но кто смог бы убедить в этом истинного афинянина?
Теперь исправить что-либо было уже невозможно. Из-за задержки, вызванной визитом Сократа, они прибыли во время полуденной трапезы, а это означало, что Данай уже не один. Им пришлось подождать в прихожей, а старый раб отправился в столовую, где, как они уже знали, Данай обедал со своей сестрой Хрисеей. Даже скорое отбытие родного брата в опасную экспедицию не заставило Брима прервать свой буйный круглосуточный разгул, а Халкодона с отцом – оторваться от столь милых их сердцам утех с молоденькими мальчиками. Если бы Данай был один или только с отцом и братьями, старый раб провел бы Аристона и Сократа в столовую без лишних церемоний, поскольку в демократических Афинах не придавали большого значения этикету. Однако теперь им нужно было дождаться, пока Хрисея не удалится в гинекей, ибо для знатной афинской девушки даже находиться в одной комнате с гостями мужского пола – за исключением отдельных весьма редких случаев вроде свадеб или похорон, – было совершенно немыслимо.
Впрочем, как Аристон и Сократ могли теперь увидеть или, точнее, услышать, немыслимо для кого угодно, только не для Хрисеи. До них донесся ее пронзительный, звенящий от гнева голос:
– Ни за что! Я всю жизнь мечтала познакомиться с Сократом! Гинекей? Фу! Объясни мне, Данай, что может сейчас угрожать моей непорочности? Что, Сократ имеет привычку насиловать девушек? Ну, что касается меня, ему это не понадобится; если он настолько мудр, как о нем говорят, я пойду ему навстречу!
Аристон хлопнул Сократа по плечу.
– Может, мне удалиться? – прошептал он. – Нельзя упускать такую возможность!
Сократ решительно помотал головой.
– Она меня еще не видела, – прошептал он в ответ. – Увидев меня, девушки обычно убегают, визжа от страха.
В столовой тем временем, как можно было догадаться, Данаи предпринимал героические усилия, чтобы сохранить самообладание; его молодой голос звучал приглушенно, и они не могли разобрать слов. Однако повышенные тона Хрисеи вмиг просветили их:
– Аристон? Ха! С ним-то я тем более хочу познакомиться! Я давно хотела высказать этому старому грязному педерасту все, что я о нем думаю!
Настала очередь Сократа радостно похлопать по плечу своего молодого друга.
Теперь уже голос Даная прозвучал как рев разъяренного быка:
– Аристон вовсе не старый! Он всего на два года старше меня! И он не…
– Не педераст? Ха-ха! Тогда чем же вы занимаетесь вдвоем, милый братец? Чем-то ужасно интересным, по-видимому, коли вы восемь или девять лет не отходите друг от друга, не найдя времени даже жениться? Что же это за занятие,а?
– Мы просто разговариваем. Он учит меня разным вещам. Например, стихам Еврипида…
– Ну а этому он тебя научил, братец? – спросила Хрисея, и вдруг ее голос потерял всю свою пронзительность. Он стал ниже на целую октаву, стал глубоким, трепещущим, очаровательным и в то же время столь грустным, что от его звука у Аристона перехватило дыхание:
Да, изо всех, кто дышит и кто мыслит, Нас, женщин, нет несчастней. За мужей Мы платим – и недешево. А купишь, Так он тебе хозяин, а не раб. И первого второе горе больше. А главное, берешь ведь наобум: Порочен он иль честен, как узнаешь? А между тем уйди – тебе ж позор, И удалить супруга ты не смеешь. И вот жене, вступая в новый мир, Где чужды ей и нравы и законы, Приходится гадать, с каким она Созданьем ложе делит. И завиден Удел жены, коли супруг ярмо Свое несет покорно. Смерть иначе! Ведь муж, когда очаг ему постыл, На стороне любовью сердце тешит, У них друзья и сверстники, а нам В глаза глядеть приходится постылым. Но говорят, что за мужьями мы, Как за стеной, а им, мол, копья нужны. Какая ложь! Три раза под щитом Охотней бы стояла я, чем раз Один родить…[4]– Медея, – прошептал Аристон. – А ты знаешь, Сократ, ведь это чистая правда!
– М-да, – промычал Сократ, но тут они вновь услышали голос Даная. Он чуть ли не плакал.
– Хрисея, я не могу! Ну как ты не хочешь понять? Это нарушение всех обычаев и законов!
– К Аиду все твои обычаи и законы! – заявила сестра. Аристон открыл дверь и вошел в столовую так тихо, что его никто не заметил.
– Пусть этот грех падет на мою голову, Данай, – произнес он, и его спокойный глубокий голос придал особую мелодичность его словам. – Ибо ради такой женщины, как твоя сестра, я готов подвергнуться гневу всех богов и смертных – и даже гвоему.
Они оба обернулись и уставились на него. Аристон понял, что Парфенопа была права. Девушка в самом деле была чрезвычайно некрасива. Она была так худа, что на нее нельзя было смотреть без сострадания. У нее не было ни бедер, ни сколь-нибудь заметной груди. Губы ее большого рта казались чересчур полными для такого худого лица. Ее глаза, как ни странно, были раскосыми, как у скифов; и они, золотистые, почти желто-карие, с россыпью зеленоватых искорок, мерцали, как огонь, в египетской смуглости ее лица. А вот волосы ее были прекрасны. Этого у нее не отнять. Они были черны, как воды Стикса, и в то же время от них исходило ощущение какой-то нежности и теплоты. Ее обнаженные руки, да и ноги, насколько он мог разглядеть через платье из овечьей шерсти, представляли из себя кости, обтянутые кожей, практически без какой-либо плоти под ней. А теперь, когда она повернулась к своему брату, Аристон обнаружил, что груди у нее все-таки есть. Крохотные, размером не более грецкого ореха. Сердце у него упало. Даже после точного описания Парфенопы он не мог себе представить, что это бедное маленькое создание настолько непривлекательно.
Затем она заговорила, и сердце Аристона не просто вернулось в прежнее положение, но чуть не выскочило из груди от восторга. Ибо ее голос, произносивший его имя, прозвучал как самая сладостная музыка, которую он когда-либо слышал; эта музыка рождалась как бы из ничего, из воздуха.
– Это и есть твой Аристон? – спросила она.
– Да, – ответил Данай. – Перед которым я теперь должен извиниться за это ужасающее нарушение всех при– личий. Мне остается только надеяться, что он не слышал, как ты тут вопила, как рыночная торговка. А теперь убирайся отсюда, Хрисея. Ты меня уже достаточно опозорила!
– Ну нет, – прошептала она, – я обещала тебе высказать все, что я о нем думаю, и я это сделаю! И оттого, что я теперь понимаю, почему ты его любишь, оттого, что он так прекрасен, как ты его описывал – нет, еще прекраснее, чем у тебя хватило бы слов его описать, – все это не становится менее отвратительным.
– Что не становится менее отвратительным, моя госпожа? – осведомился Аристон.
Хрисея пошла ему навстречу мягкими неслышными шагами. «Как тигрица, – подумал Аристон. – Как тощая, костлявая тигрица, умирающая с голоду». Он даже не подозревал, насколько удачным было это сравнение. Она подошла к нему так близко, что ему достаточно было бы немного нагнуться, чтобы поцеловать ее в губы. Эта мысль пришла ему в голову и оказалась невероятно соблазнительной. Она стояла и смотрела ему прямо в глаза снизу вверх. Он чувствовал ее запах. Запах мыла, духов, запах возбуждения и страха.
– Что же тебе кажется таким отвратительным, моя маленькая Хрисея? – вновь спросил Аристон.
– Гомосексуализм, – ответила она. – И гомосексуалисты вроде тебя!
– Хрисея! – Данай вскочил со своего места, но Аристон остановил его движением руки.
– Мне очень жаль, – сказал он. – Я бы предпочел, чтобы я тебе нравился. По крайней мере, чтобы ты могла помочь мне избавиться от этого тяжелого порока.
Она с удивлением посмотрела на него.
– Значит, ты этого не отрицаешь? – прошептала она.
– Ну а если бы я это отрицал, ты бы мне поверила? – спросил Аристон.
– Хрис, это возмутительно! – воскликнул Данай.
– Он смеется надо мной. Я знаю. И к этому давно привыкла. Мужчины все такие недалекие. Они не в состоянии рассмотреть за уродливой внешностью женщины, за тем, что она представляет из себя мешок костей, ее…
– Ее душу? – подхватил Аристон. – Я, например, в состоянии. – Затем он повысил голос: – Сократ! – крикнул он. – Зайди, пожалуйста, к нам.
Сократ вошел в столовую. Данай беспомощно переводил взгляд с Аристона на философа. Он был в полном смятении. Положение было абсолютно недопустимое, но кого, в сущности, можно было в этом винить?
– Разреши представить тебе госпожу Хрисею, – торжественно произнес Аристон своим глубоким, звучным голосом, – которая отказывает мне в мужских достоинствах. Более того, она настаивает на том, что мы должны изучать ее душу, не обращая внимания на ее – скажем прямо! – весьма скудную и тощую плоть. Что ты думаешь о ней, о Сократ?
– Что перед нами высший дух, – Сократ говорил весьма серьезным тоном, если не считать озорных огоньков в его маленьких черных глазках, – спустившийся на землю на лунном луче, носившийся по свету на пушинке и наконец оказавший честь своим посещением нашему полису. Я приветствую тебя, моя госпожа!
– И я приветствую тебя, великий Сократ, мудрейший из людей, – прошептала Хрисея. – Присядь, прошу тебя. И поговори со мной! О, я так хочу насладиться беседой с тобой! Не обращай внимания на этого тупицу, моего братца. Его жалкого умишка не хватает даже на то, чтобы понять, что все эти законы и обычаи, властвующие над женщинами, ничего не могут значить для такого создания, как я.
– Почему же, моя госпожа? – осведомился Сократ.
– Да потому, что все они направлены на сохранение чистоты и непорочности женщины, то есть того, что я считаю обузой.
– Хрис! – воскликнул Данай.
– Послушай, Дан, перестань шипеть, как идиот:
«Хриссссс!» Повторяю, обузой, от которой я бы охотно избавилась, которую я бы с радостью променяла на свободу, которой пользуются мужчины. Но в любом случае охранять мою девственность – занятие совершенно бессмысленное, ибо кому из увидевших меня она может понадобиться? Подождите! Я хочу, чтобы вы поняли меня правильно! Особенно ты, Аристон, красотой подобный богам! Я отнюдь не мартовская кошка, сгорающая от похоти. Я даже не знаю, что это такое – влечение к мужчине. Я никогда этого не испытывала…
– Пусть боги сжалятся над тобой, если это правда! – вставил Аристон.
– …Но я стала бы гетерой, ни секунды не раздумывая, если бы располагала тем, что для этого необходимо.
– А что для этого необходимо, моя госпожа? – спросил Сократ.
– Красота. Привлекательность. Хотя бы немного плоти, способной соблазнить мужчину. Я уже сказала, что не понимаю похоти. Но какой бы отвратительной она мне ни казалась, лучше уж быть желанной, чем отвергнутой. Я всегда выхожу из дому с закрытым лицом, как и подобает знатной афинянке, в сопровождении рабыни. И вижу, как мужчины провожают ее глазами – ее, а не меня! Ибо определить, где у меня зад, а где перед, можно только по носкам моих сандалий.
– Хрис! – простонал Данай. – Неужели у тебя нет никакой гордости?
– Абсолютно. А зачем она мне, братец? Чем я могу гордиться?
– Голосом, который лучше любой музыки, – сказал Аристон. – Голосом, звуки которого прекраснее всего, что я когда-либо слышал. Ты знаешь, моя маленькая Хрисея, одного его достаточно, чтобы навсегда сделать любого мужчину твоим рабом. А твои глаза! Глаза робкой лесной нимфы, пробирающейся сквозь дебри своих ночных страхов. Какой огонь горит в их бездонной глубине! Какая теплота, какая нежность…
– Аристон, послушай, – запротестовал Данай, – мне что-то не нравятся такие разговоры.
– То, что я говорю, дорогой друг, я говорю открыто и честно. Твоя сестра не красавица – зачем же мне пытаться убедить ее в обратном? Но вот о чем вы оба забыли, так это о том, что красота в лучшем случае ничего не значит, а в худшем становится проклятием. Так, как это случилось со мной. И я всего лишь хочу ободрить ее, помочь избавиться от этих дурацких мыслей, что ей якобы нечем гордиться. Я человек, который без колебаний бросил бы свое сердце и свое состояние к ее ногам сейчас, немедленно, если бы я только мог это сделать.
Хрисея прижала тонкие руки к горлу. Жест вышел исключительно грациозным, как будто взмах трепетных крыльев.
– А почему же ты не можешь? – прошептала она еле слышно. – У тебя что, уже есть тайная жена?
– Хрис! – взмолился Данай. – Это уже не лезет ни в какие ворота!
– Да заткнись ты наконец, Дан! Я не собираюсь уводить твоего любовника. Я не могу, да и не хочу этого делать. Я вообще не намерена выходить замуж.
– Почему? – в свою очередь спросил Аристон.
– Сначала ответь на мой вопрос, благородный Аристон! Допустим, твои слова заинтересовали бы меня, хотя на самом деле это, конечно, не так. И все-таки почему же ты не мог бы на мне жениться?
– Да потому, что я метек, моя госпожа. Более того, я бывший раб. И к тому же это было самое гнусное рабство, какое только можно себе вообразить.
– Ну, твоей вины в этом не было никакой, – возразил Сократ, – а до того ты принадлежал к одному из знатнейших домов Лаконики. Так что не сгущай краски, мой мальчик. Единственным реальным препятствием является закон. И я полагаю, теперь нам всем нужно подумать о том, как его обойти. Должен же найтись какой-то способ приобрести или купить гражданство.
– Возможно, если ты купишь и оснастишь триеру, преподнесешь ее в дар полису, отправишься с нами в поход в качестве триера рха, – предложил Данай.
– Дан! – воскликнула Хрисея.
– Купить и оснастить триеру нетрудно, – задумчиво сказал Аристон, – но командовать ею я не смогу. Метек не может отдавать распоряжения афинским гражданам, Дан. Так что проявить таким образом свою доблесть мне не удастся. Придется придумать что-нибудь получше.
– Вот именно! – фыркнула Хрисея. – Особенно если иметь в виду, что ничто на свете не заставит меня выйти за тебя замуж! За тебя или за кого-либо другого!
Аристон удивленно посмотрел на нее. Затем лицо его медленно расплылось в улыбке.
– Но почему же? – спросил он.
– Потому что жена – это рабыня. Жалкая и униженная рабыня. Которая каждую ночь должна отдавать свое тело на… – Она осеклась, и судорога пробежала по всему ее телу.
– Хрисея! – обреченно произнес Данай. – Ты когда-нибудь перестанешь меня позорить?
– Да. Теперь перестану. Я удаляюсь в гинекей, и вы можете спокойно обсуждать планы моего порабощения. Действуй, Данай! Возможно, тебе удастся отдать мое тело этому твоему другу – прекрасному другу, – ибо он воистину прекрасен! Но как бы не получилось так, что это тело окажется бездыханным!
С этими словами она повернулась и выбежала из комнаты – лань, вспугнутая охотниками, ее тело, как копье, летящее на крыльях смертельного ужаса. Аристону, наблюдавшему за ней, явственно послышался лай своры, преследующей свою жертву.
– Аристон, – простонал Данай, – позволь мне принести тебе мои глубочайшие извинения…
– Это я должен извиниться перед тобой, – быстро прервал его Аристон. – Мне не следовало сюда врываться. Но голос твоей сестры и, признаюсь, то, что она говорила, так заинтриговали меня, что я не смог удержаться. В конце концов, если и произошло какое-то нарушение приличий, то с моей стороны. Она только угрожала остаться в нашем присутствии. Я же имел дерзость непосредственно предстать перед знатной афинской девушкой, не получив на это разрешения ее отца или братьев. А это, по вашим обычаям, непростительно. Но мой дорогой Данай, быть может, ты позволишь мне поделиться с тобой одной мыслью?
– Ну разумеется! – воскликнул Данай с облегчением. Само присутствие Аристона действовало на него успокаивающе.
– Скажи мне, зачем вы так унижаете своих женщин?
– Унижаем? – переспросил Данай.
– Да. У нас в Спарте они пользуются полной свободой. Во время священных празднеств девушки танцуют на глазах у мужчин совершенно нагими. Замужние женщины могут принимать каких угодно гостей в присутствии мужа или без оного. Если вы решите навестить друга и не застанете его дома, вас самым радушным образом примет его жена. У нас просто нет никаких оснований думать, что наши женщины только и мечтают о том, как бы улечься в постель с первым попавшимся мужчиной, который окажется с ними наедине. Видишь ли, мы верим в их честь, верность, целомудрие. Ну и в результате, кто из женщин Эллады славится этими свойствами?
– Все это прекрасно, – сказал Данай, – но весь вопрос в том, насколько эта слава заслуженна.
– Несомненно, заслуженна, – подтвердил Сократ. – Каждый из побывавших в Спарте, с кем мне когда-либо доводилось говорить, это подтверждает. А вот наши афинянки имеют самую скверную репутацию во всей Элладе. Как ты думаешь. Аристон, с чего бы это?
– Я думаю, что вы их сами провоцируете, – не спеша проговорил Аристон.
– Тюрьма никого не делает лучше, Сократ. А ваши гинекеи и есть самая настоящая тюрьма. Рабство не способствует воспитанию моральных качеств. Можете мне поверить. Я сам был рабом. И вот сначала вы превращаете своих жен в безмозглых кукол, привилегированных домашних рабынь, отличающихся от ваших наложниц только тем, что их сыновья являются законнорожденными и имеют право наследования, а затем идете к гетерам, чтобы насладиться духовным общением, которого вам не хватает дома. Именно духовным, а не физическим! Ибо, клянусь Аидом, Дан, любой уважающий себя афинянин стыдится ходить к порнам. Я десять лет провел в обществе одной из лучших гетер Афин. Я бывал у нее очень часто, и ее дом всегда был полон седобородых старцев, приходивших поговорить! Именно поговорить, Данай? Я знаю законченных гомосексуалистов, которых вырвало бы от одного прикосновения женщины, но и они обожают ее! В ее доме я спорил о поэзии с Софоклом; я слышал, как она отчитывала Аристофана за его постоянные непристойности. У нее, единственной во всех Афинах, хватило ума понять, что Еврипид отнюдь не женоненавистник, что он любит и защищает женщин, а не оскорбляет их. Что, кстати, возвращает нас к разговору о твоей сестре.
– Я слушаю тебя, – холодно сказал Данай.
– Я попробую получить афинское гражданство. Серьезно. И если мне это удастся, я хочу получить твое разрешение на наш брак – разумеется, при условии, что я смогу добиться ее согласия и любви. Я обещаю тебе не видеться с ней во время твоего отсутствия до тех пор, пока не буду иметь права ввести госпожу Хрисею в мой дом как свою жену. Свою единственную жену – никаких наложниц, с которыми ей придется делить ложе, никаких гетер, чтобы развлекать меня. Потому что, Дан, именно то, что тебя в ней шокирует, меня привлекает. Она человек, а не кукла. В ней есть ум, душа, огонь. И еще благородство. Ну как, ты согласен?
– Но Аристон, – пролепетал Данай. – Она же, она не красавица…
– Я знаю. Ну и что? Зато у нее прекрасный ум. И я думаю, что и душа. А кроме того, Дан, она очень похорошеет, как только исчезнет этот ее страх перед жизнью. Неужели ты не можешь себе представить, как она будет выглядеть, нарастив с пол, нет, даже с четверть таланта плоти на своих хрупких косточках? А это будет несложно. Как только она узнает, что значит быть любимой, по-настоящему любимой, нервное напряжение спадет, и она сможет нормально есть. Да и вообще, что значит эта телесная красота, друг мой? Я уже давно потерял счет прекрасным женщинам, с которыми спал. Но вся беда в том. Дан, что рано или поздно с ложа нужно вставать. Разговаривать. Иметь общие интересы. Да в конце концов, клянусь Аидом и Пер-сефоной, я не хочу, чтобы матерью моих сыновей была безмозглая дура!
Лицо Даная медленно прояснялось. Затем он улыбнулся и протянул Аристону руку.
– Я не мог бы желать себе лучшего зятя, чем ты, Аристон, – сказал он.
Итак, будущее его было предрешено, но очень скоро Аристон начал всерьез спрашивать себя, не сошел ли он с ума. Ведь что ни говори, а бедная маленькая Хрисея была слишком уж худа и некрасива. Нет, даже не просто некрасива – уродлива. Он пытался убедить себя в том, что она даже возбуждает, будучи, по зрелому размышлению, гораздо привлекательней, чем холодная и правильная красота; но чтобы все это звучало убедительно, ему необходимо было еще раз увидеть ее. А это в сложившихся обстоятельствах было совершенно невозможно – если она, конечно, не захочет нанести еще один тайный визит Парфенопе, на что ему только и оставалось надеяться.
Охватившее его состояние неуверенности, сомнения, даже можно сказать, меланхолии, вскоре настолько усилилось, что он отправился на поиски Сократа, чтобы попросить совета у этого мудрейшего из людей. Отплытие сиракузской экспедиции вновь откладывалось, что представляло ему сомнительную возможность присоединиться к ней и предпринять отчаянную попытку добыть себе гражданство военными подвигами. Из этого наверняка ничего бы не получилось, а если бы и получилось, то скорее всего ценой собственной жизни, что его, разумеется, никак не устраивало. С другой стороны, перспектива повторного прощания с Дана-ем вряд ли могла улучшить его настроение; он чувствовал бы себя чрезвычайно неловко.
Однако подойдя к дому Сократа, Аристон услышал голос Ксантиппы, вопившей, как рыночная торговка. На сей раз ее гнев был направлен против юной и прелестной Мирты, дочери Аристида Справедливого, которая несколькими годами ранее стала второй женой Сократа. Полигамия была временно узаконена Народным Собранием с целью восстановления численности населения Аттики, катастрофически упавшей из-за великой чумы, которая стоила жизни многим гражданам полиса, включая великого Перикла, и этой грязной братоубийственной войны, тянувшейся уже почти шестнадцать лет (с перерывом всего в несколько месяцев) и медленно обескровливавшей Афины, унося жизни ее лучших юношей. Ну а то, что Мирта родила философу двух сыновей, Софроника и Менексена, а Ксантиппа только одного, что она была молода, хороша собой и любила своего веселого старика мужа всем своим нежным сердцем, – все это отнюдь не способствовало улучшению и без того скверного характера некрасивой и сварливой Ксантиппы, особенно если учесть, что доходы Сократа, сами по себе мизерные, теперь приходилось делить между столькими едоками.
– Откуда мне знать, где он? – бушевала Ксантиппа. – Ищи его сама. Мирта! Загляни сперва к Парфенопе или к какой-нибудь другой высококлассной шлюхе! Он просто обожает давать им советы – в постели! Или сходи во дворец к Алкивиаду! Или ко всем этим молодым бездельникам, которые пользуются его умом, не платя за это ни обола, тогда как другие софисты сколачивают целые состояния, обучая знатную молодежь! Или поищи его в домах богачей вроде Критона или Аристона, которые кормят его, позволяют ему вливать в себя столько вина, сколько влезет в его бездонное брюхо, знакомят с гетерами и ничего более! Слышишь, ты, глупая маленькая ведьма!
Аристон уныло повернул назад. Коли уж Сократа не было дома, а благодаря Ксантиппе ему даже не пришлось это выяснять, то одна мудрая Афина могла знать, где он в данный момент находится. Искать его было не просто бесполезно, это было невозможно, ибо Сократ, влекомый тем демоном, что сидел в нем и заставлял его подталкивать людей к самоанализу для их же высшего блага, мог находиться где угодно, от Пирейского порта до пограничного камня Керамика, то есть того предела, которого можно достичь, не покидая территории Афин. Итак, отсюда помощи ждать не приходилось, по крайней мере сегодня.
Но он должен был с кем-нибудь поговорить. Должен! Но с кем?
Он окинул взглядом панораму Афин, раскинувшуюся перед ним. Там, далеко внизу, голубоватым серебром сверкало море, сжатое горами Аттики. Багряная тень заката уже упала на вершины этих гор, темные горбатые силуэты сосен отчетливо виднелись на фоне вечернего зарева, кипарисы черными копьями вонзались в небо, однако лучи солнца, покидающие материк, задерживались на острове Саламин как бы для последнего нежного прощания, заставляя этот пологий горб скалистой земли, увенчанный белизной домов и мягкой зеленью деревьев, светиться неясным желтоватым жемчужным светом.
Саламин! Остров, где живет Еврипид. Вот человек, которому боги открыли все тайны женского сердца! Он отправится к нему, к единственному человеку, кто иногда казался Аристону мудрее самого Сократа. Правда, сегодня было уже слишком поздно; он поедет к нему завтра. Итак, решено – завтра.
Но как только он стал спускаться с Агоры к своему дому, кто-то громко окликнул его по имени, и, обернувшись, он увидел группу молодых воинов; большинство из них сверкало доспехами его собственного изготовления. В середине ее, возвышаясь над остальными, находился сам командующий экспедицией, Алкивиад, с ним были несколько незнакомых Аристону молодых всадников и двое в гражданской одежде. Одним из этих двоих, к удивлению Аристона, оказался Автолик; удивление это было вызвано тем, что такой непревзойденный боец, как сын Ликона, должен был бы одним из первых присоединиться к экспедиции; но, подойдя поближе, он понял, почему его друг и соперник не был в доспехах: левая рука Автолика висела на перевязи, и Аристон заметил, что она привязана к деревянной дощечке. Сломанная рука для ленивого и беспечного красавца атлета была, разумеется, вполне достаточным предлогом, чтобы остаться дома. В другом Аристон узнал Перикла, сына бессмертного государственного мужа. «Он наверняка остается в Афинах по политическим соображениям, – подумал Аристон. – Жаль. Говорят, что он у нас один из лучших морских военачальников».
– Эй, Аристон! Аристон! – насмешливо крикнул Алкивиад. – Должен сказать, что ты совершенно не подходишь для роли Гефеста, которую выбрал. Кузнец богов был уродливым и хромым и женат на прекрасной Афродите, а ты…
– Ну а я достаточно уродлив, правда, пока еще не хромой, – в тон ему ответил Аристон. – Приветствую вас, калокагаты! А ты, старина Автолик, я вижу, прекрасно сыграл бы роль покалеченного Гефеста!
– Это все твой тезка, личный панкратиаст Хармида, – простонал Автолик.
– Он чем старше, тем зловреднее – и сильнее. Представляешь, сломал мне руку как тростинку. Угораздило же меня бороться со стариком Аристоном. Ну а ты, прекрасный юный Аристон, как твои любовные дела?
– Я все тебе расскажу вместо него. – Алкивиад был явно в игривом настроении. – Он разочаровывает меня. Ему бы следовало жениться и таким образом предоставить мне Афродиту, чтобы я мог сыграть для нее роль Ареса. Но он не только не дает мне никакой возможности украсить его лоб рогами, но и вообще довольствуется одним очень скучным мальчиком – я полагаю, вы все знаете Даная, сына Пандора?
– Я его знаю, – заявил Перикл, – но вот что касается того, что он сын Пандора, это весьма сомнительно. Я бы даже сказал, чрезвычайно сомнительно, если, конечно, хорошо знать Пандора!
– Ты напрасно сомневаешься, – с серьезным видом продолжал Алкивиад. – Дело, судя по всему, было так. Однажды ночью госпожа Текмесса в отчаянии пошла в конюшню, отрезала хвост одному жеребцу и приклеила его к подбородку с помощью муки, смешанной с козьим молоком. После чего облачила свое прекрасное тело в хитон, украденный ею у конюха, – разумеется, уже двенадцатый месяц как нестираный. И вот, когда Пандор, в стельку пьяный, пришел домой и учуял свой любимый аромат – эту выворачивающую наизнанку вонь немытой деревенщины, – он протянул руку и нащупал эту гнусную свежевыращенную бороду. Охваченный неудержимой страстью, он прыгнул на нее и…
– Алкивиад, ради Артемиды! – взмолился Аристон.
– Клянусь Эросом, это чистая правда, – серьезно сказал Алкивиад. – Эта уловка так хорошо сработала, что она повторила ее еще трижды, снабдив, таким образом, своего августейшего педераста – к вящему его неудовольствию – большой семьей. Но как бы там ни было, Данай стал причиной самого громкого скандала года. Раскройте свои уши, друзья. Из-за любви к Данаю наш друг Аристон отдал поэту Софоклу лучшую гетеру во всей Аттике!
– Я слышал об этом, – сказал Перикл, – но не поверил.
– И правильно сделал, – сказал Аристон, – поскольку здесь нет ни слова правды.
– А вот и есть! – резвился Автолик. – А теперь наша маленькая Феорис носит ребенка, которого этот старый развратник Софокл по глупости считает своим!
– Тогда он заслуживает глубочайшего восхищения, – невозмутимо произнес Перикл. – Любой, кто в возрасте Софокла имеет какие бы то ни было основания рассчитывать на нечто подобное, достоин того, чтобы быть увенчанным лавровым венком на ближайшей Дионисии.
– Счастливое дитя! – заметил Алкивиад. – Оно несомненно будет прекрасным. Ибо Феорис очаровательнейшая из женщин, а Софокл, даже на склоне лет, один из самых красивых мужчин в Аттике. Ну а если он и заблуждается на сей счет, наш Аристон уж наверняка приложил руку к его зачатию, и он…
– Вы сказали «руку», великий стратег? – сострил один из молодых всадников.
– Всего лишь оборот речи, мой юный друг, – строго сказал Алкивиад. – Прошу вас, давайте без пошлости. Ну что. Аристон, не отужинаешь ли с нами сегодня? Уверяю тебя, все будет в высшей степени чинно и благочестиво.
– Как в прошлый раз, когда я был у тебя дома? – осведомился Аристон.
Вдруг, к его удивлению, Алкивиад протянул руку и схватил его за плечо, стиснув с такой силой, что Аристону послышался хруст собственных костей. Взглянув в лицо новоизбранного стратега, Аристон понял, что Алкивиад дает ему знак замолчать.
– Благодарю за приглашение, – сказал Аристон, – но, к сожалению, я не могу его принять, Алкивиад. Я собираюсь завтра навестить Еврипида в его логове, а для этого мне надо встать пораньше.
– Ив самом деле, повидайся с ним, – неожиданно сказал Перикл. – Я был у него два дня назад, и он очень лестно отзывался о тебе. После того как твой покойный отец оплатил хор для его «Гекубы», а ты сыграл, кажется, Гектора, не так ли? С этими масками нетрудно и ошибиться.
– Да, Гектора, – подтвердил Аристон.
– Так вот, он все время сокрушался, что ты не стал профессиональным актером. Он говорит, что у тебя есть все – голос, внешность, манеры, чувствительность, чтобы преуспеть на этом поприще. А кроме того, твой визит пойдет ему на пользу. Он выгладит совершенно больным – работа над новой пьесой донельзя вымотала его. Он попытался прочесть мне кое-что из нее, но его хватило буквально на пару строк – не смог совладать с собственным голосом. И все равно то, что я услышал, – это просто чудо.
– Как она называется? – спросил Аристон.
– «Троянки», – сказал Перикл.
– Аристон, – вновь заговорил Алкивиад, и в его голосе, к вящему изумлению Аристона, ясно чувствовались тревожные нотки. – Так ты точно не придешь ко мне на ужин?
– Я не смогу, Алкивиад. Мне очень жаль, но… В этот момент Алкивиад снова схватил его за руку.
– Тогда давай отойдем на минуту. Аристон, – сказал он. – Мне нужно поговорить с тобой наедине. Прошу извинить нас, калокагаты!
Они отошли на несколько родов.
– Аристон, – прошептал Алкивиад, – я об этой дурацкой истории с переодеванием, о которой ты упомянул, – ты ведь не станешь распространяться о ней? Я хочу сказать, если она опять всплывет. А я боюсь, что так оно и случится. И тогда мне конец. Но ему понадобятся свидетели, которые сами не принимали в этом участия, и ты…
– Кому понадобятся свидетели?
– Фессалу, сыну Цимона. Я все эти годы откупался от этого жалкого сикофанта. До сих пор он держал язык за зубами, но теперь, когда я возглавил экспедицию, он из зависти…
Аристон сухо улыбнулся.
– Поскольку я не могу погубить тебя, не погубив при этом Афин, ты можешь рассчитывать на мое молчание, о великий стратег! – сказал он.
– Я вижу, ты смеешься надо мной, – сказал Алкивиад. – Но я хочу кое-что сказать тебе, Аристон. И запомни хорошенько мои слова! Какие бы другие обвинения ни были выдвинуты против меня после нашего отплытия – а что-то обязательно произойдет, это так же верно, как то, что Зевс правит Олимпом, – эти обвинения будут ложными. Ты веришь мне?
– Нет, – коротко ответил Аристон.
– Клянусь могилой Гиппареты, – тихо произнес Алкивиад. – Теперь ты мне веришь?
Аристон окинул его долгим испытующим взглядом. Затем он заговорил, и в его голосе не было ни тени сомнения.
– Да, Алкивиад. Теперь я тебе верю.
Глава XVII
Когда Аристон вылез из лодки в маленьком заливе у пещеры Еврипида, навстречу ему вышел Цефизофон, секретарь великого поэта. По его мрачному темному лицу было ясно видно, что он считает данный визит крайне нежелательным и намеревается сообщить непрошеному гостю, что поэт не в настроении или слишком болен, чтобы принимать посетителей.
Затем, на глазах Аристона, выражение лица Цефизофо-на стало меняться. Его глаза сузились, придав всему его облику несколько задумчивый вид. Затем они прояснились, и секретарь склонился в низком поклоне.
– Добро пожаловать, о благородный сын Тимосфена! – торжественно произнес он.
Аристон стоял на каменистом берегу залива, разглядывая Цефизофона. Внутренний голос говорил ему, что что-то здесь было неладно. Прежде всего, приветствие прозвучало чересчур напыщенно. «Аристон, сын Тимосфена» было бы вполне достаточно. Ибо Тимосфен, усыновляя спартанского мальчика, который привлек его своей красотой и сильным сходством с его покойным сыном Феоалидом, помимо всех прочих неудобств должен был отказаться от всяких надежд передать ему свой титул. Если бы Тимосфен усыновил афинского гражданина, его новый сын автоматически стал бы эвпатридом, благородным, как сам Тимосфен. Но усыновив в своем слепом сентиментальном порыве безродного метека, он не мог сделать его эвпатридом так же, как и гражданином полиса.
И все это было прекрасно известно Цефизофону. Аристон улыбнулся темнокожему секретарю слегка насмешливо.
– Эта твоя новоявленная угодливость не украшает слугу такого господина,
– сказал он. – Кроме того, не забывай, что я давно тебя знаю и у тебя никогда не было недостатка в гордости. Ты прекрасно знаешь, что я не благородный. Я просто Аристон Оружейник, Аристон Метек, или, если угодно, любовь отца ко мне, моя любовь и преклонение перед его памятью дают мне право называться Аристоном, сыном Тимосфена. А теперь скажи мне, как поживает твой господин?
– Плохо, – грустно сказал Цефизофон. Последовала долгая пауза, во время которой он смотрел на Аристона глазами, выдававшими его душевное смятение.
– Говори, о Цефизофон! – приказал Аристон.
– О молодой господин, я… – Эфиоп запнулся. – Нет, я не смею. Но может, ты сначала поговоришь с Мнесилохом?
– Ну разумеется, – согласился Аристон.
Мнесилох был тестем Еврипида и, что гораздо важнее, его близким другом. «Куда лучшим, – мрачно подумал Аристон, – чем его жена или трое сыновей, ни один из которых не остался с ним после того как этот старый крикливый демагог Клеон привлек его к суду за богохульство. И даже несмотря на то, что Еврипид был оправдан, ни одному из его сыновей не хватило мужества на…»
Его мысли переключились на главный вопрос. Почему, о великая Афина, люди так ненавидят Еврипида? Эти слухи, что Хорила, его жена, часто наставляет ему рога, – слухи, лишенные малейшего основания, но повторяемые с каким-то злым удовлетворением всеми Афинами, – опять же, откуда это? Почему люди утверждают, что его мать якобы была зеленщицей, торговавшей горькой травой, которую едят только во время голода? А эти смехотворные обвинения, что поэт ненавидит женщин – это он-то, в чьих пьесах женские роли всегда сильнее и лучше мужских?
Все это, на первый взгляд, было совершенно необъясни– мо, но Аристон почувствовал, что он близок к разгадке. «Я сейчас поговорю с Мнесилохом, – подумал он, – а потом попробую вытащить Еврипида из его раковины, вызвать его на откровенность – его, практически никогда не рассказывающего ничего о себе, – прежде чем беспокоить его моими проблемами. Разумеется, если он не слишком болен. И если у меня хватит смелости».
Мнесилох поприветствовал Аристона с озабоченным видом теребя бороду своими кривыми пальцами, как будто пытаясь расчесать ее. Как это часто случалось в Элладе, где мужчины, как правило, женились в тридцать – тридцать пять лет и при этом выбирали себе невест, только-только достигших половой зрелости – для того, чтобы не было никаких сомнений в их девственности, как с горечью заметила как-то Феорис, – Мнесилох был несколько моложе своего зятя.
– Приветствую тебя, о сын Тимосфена! – сказал он.
– Я счастлив видеть тебя, Мнесилох, – сказал Аристон и стал ждать.
Ему пришлось вновь стать свидетелем грустного зрелища внутренней борьбы, происходящей в душе человека; тем более что в данном случае смятение, охватившее Мнесило-ха, не было скрыто от его глаз покровом цвета черного дерева, прятавшим переживания Цефизофона.
– Говори же, Мнесилох, – сказал наконец Аристон. – Я вижу, ты чем-то озабочен, так же как и Цефизофон. Но заботы этого дома – мои заботы. Разделить их с вами – величайшая честь для меня.
– А облегчить их? – осведомился Мнесилох.
– А это было бы больше, чем честью, – сказал Аристон. – Это было бы счастьем.
Мнесилох посмотрел на него исподлобья. В конце концов он был зллином и как каждый эллин впитал с молоком матери, что обходные пути всегда предпочтительнее прямолинейности.
– Даже если это будет стоить больших денег? – осторожно спросил он.
Аристон насмешливо улыбнулся.
– Ах, так дело лишь в деньгах, Мнесилох! – сказал он. – У меня даже отлегло от сердца. Я-то думал, что от меня потребуется что-то в самом деле сложное.
– А если речь идет о целом таланте? Или даже двух? – прошептал Мнесилох.
– Это для Еврипида? – спросил Аристон.
– Ну да. Разумеется.
– Пяти талантов хватит? – спросил Аристон. – Может, нужно десять? Скажи сколько. Пусть мне принесут письменные принадлежности, и я немедленно напишу письмо своему казначею, Парису.
Мнесилох ошеломленно уставился на него.
– Но ведь я даже не сказал тебе, для чего все это, – произнес он.
– Мне вполне достаточно знать, что это для Еврипида. А значит, все, что я для него могу сделать, будет во благо цивилизации и против варварства, – заявил Аристон.
Мнесилох набросился на него и стиснул в своих объятиях. Расцеловал в обе щеки. Отстранился, чтобы еще раз заглянуть ему в лицо. И теперь Аристон увидел слезы в его глазах.
– Ты спасаешь ему жизнь! – воскликнул Мнесилох.
– Да будет тебе, Мнесилох, – рассмеялся Аристон. – Не устраивай тут мелодраму; Еврипиду бы это не понравилось, ему совершенно чужда мелодраматичность. Итак, сколько ему нужно?
– Понятия не имею, – признался Мнесилох. – И вообще все не так просто. Видишь ли, архонт-басилей прочел его новую пьесу. Он разрешил ее постановку, хотя и очень неохотно. Он признал, что это гениальное произведение, но боится, что ее могут счесть подстрекательской и возникнет большой скандал. Поэтому, чтобы подстраховаться, он не захотел назначать для нее хорега. И теперь нам нужно найти его самим.
– Вы его уже нашли, – заявил Аристон. – Я отправлюсь к архонту, как только вернусь в Афины. Но нельзя ли мне повидаться с Еврипидом? Разумеется, если он не слишком болен?
– Он был болен, – сказал счастливый Мнесилох, – но теперь, я думаю, от его болезни не останется и следа.
Аристон сидел в пещере и рассматривал великого поэта. Лицо Еврипида, страшно осунувшееся и посеревшее от его титанических трудов, все еще было прекрасно, хотя и по-иному, чем у Софокла. С точки зрения чисто физической красоты его можно было с определенными основаниями назвать даже уродливым, что и делали его бесчисленные враги. Слишком высокий лоб, слишком впалые щеки, губы, обтягивающие десна в тех местах, где выпали зубы; кроме того, его лицо украшали две или три хорошо заметные бородавки. Но все эти мелочи не имеют никакого значения, решил для себя Аристон. Главное – это необыкновенная одухотворенность, которая, подобно свету, озаряла его исхудавшие черты, и это лицо преображалось, становилось невыразимо прекрасным.
– Итак, мой юный друг, – произнес Еврипид с мягкой иронией, – вам не терпится воздвигнуть свой маленький монумент на улице Треножников?
Аристон улыбнулся. Когда поэт завоевывал главный приз во время Великих Дионисий, его имя, название пьесы и имя ведущего гипокрита – это слово первоначально значило не «актер», а «ответчик», – ибо в древности, когда искусство трагедии еще только возникало из дионисийских ритуальных танцев и песен, вся его роль сводилась к тому, чтобы отвечать хору, то есть на каждую его строфу произносить антистрофу – высекались на каменных табличках, вставленных в стены храма Диониса, так что завоевать этот приз было все равно что обеспечить бессмертие как автору, так и главному исполнителю. А вот что касается хорега, богатого человека, который назначался архонтом-басилеем для финансирования постановки, то он удостаивался куда меньших почестей. Ему разрешали установить за свой счет бронзовый треножник со своим именем в крохотном храме и таким образом увековечить свой вклад в эту великую победу. Для этих целей отвели целую улицу, которую так и назвали. Она огибала восточный конец Акрополя и далее вела к театру Диониса; и вся она была буквально забита этими памятниками жалкого тщеславия мелких людишек.
– Нет, учитель, – сказал он. – Все, что я хочу, это дать миру возможность насладиться – нет, скорее настрадаться – твоим гением.
– Настрадаться? – переспросил Еврипид. – Да, ты прав, мой сын Аристон. Именно настрадаться, но страдания их тяжки. О бессмертные боги, как же они ненавидят меня!
– Каждый раз, когда идет твоя пьеса, они заполняют театр так, что даже муравью не протиснуться. При одном твоем виде они ревут, как взбесившиеся быки, придумывают всякую чепуху о горькой траве, росшей вокруг твоей колыбели. Они утверждают, что бедная Хорала бьет тебя – путая ее, судя по всему, с Ксантиппой, которая, к их неописуемому восторгу, в самом деле однажды отлупила Сократа прямо на рыночной площади на глазах у всех Афин. Они так ржали, что их можно было, наверное, услышать в Ионии!
– Это еще не самое худшее из того, что они говорят обо мне, – вздохнул Еврипид.
– Да, я знаю. Но даже они сами в это не верят, – сказал Аристон. – А главное, они всегда возвращаются к тебе. Всякий раз, когда актер в маске и котурнах произносит с подмостков твои слова, в которых слезы, и кровь, и огонь, они приходят, чтобы услышать их! В каждой своей комедии Аристофан издевается над тобой вот уже более двадцати лет без перерыва. Как ты думаешь, учитель, почему? Ты разрешишь мне высказать свои предположения на этот счет?
– Я с радостью выслушаю тебя, – сказал поэт.
– Потому что ты гений! Величайший из всех когда-либо родившихся в Элладе. Более великий, чем Эсхил, ибо ты взял у него все, чему он мог научить, и пошел дальше него. Более великий, чем Софокл…
– Нет, – сказал Еврипид. – Нет и еще раз нет!
– Да! Более великий, ибо у тебя больше мужества. Стих Софокла изящнее твоего, музыкальнее, но в нем нет твоей мощи. Он сглаживает острые углы, делает истину мягкой и приятной, чтобы никого не задеть. Лишь однажды, по-моему, он восстал в своей «Антигоне» против всей этой лжи, которую люди нагромождают между собой и истиной, приводящей их в ужас. Тогда как ты…
– Тогда как я сдираю с них кожу, бичую их, заставляю кровоточить их души, – прошептал поэт.
– Вот именно. И поэтому твоим произведениям уготовано бессмертие. Потому что ты не паяц и не шлюха, коими должны быть любимцы толпы, но их убогий товар быстро портится и уходит в небытие.
– Аристофан не паяц, – спокойно произнес Еври-пид. – Ты слишком далеко заходишь, сын мой Аристон! Вспомни строки из «Облаков», где Кривда даже богов называет негодяями, а затем, заставив Правду признать, что составители речей, трагические поэты – то есть я! – публичные ораторы и так далее являются мерзавцами, оборачивается, указывает на аудиторию и спрашивает: «Ну а кто же средь наших друзей в большинстве?»
– «Несомненно, мерзавцы, и много их больше!» – процитировал Аристон. – И они от души хохотали над собой. Комическому поэту такие вещи сходят с рук, так как его никто, в общем-то, не принимает всерьез. Но великому трагику ничего не прощается. Ты кормишь их чистой правдой, а ведь на свете нет ничего более несъедобного; ты срываешь с них жалкие покровы, под которыми они хотят спрятаться от собственной низости, ничтожности и неотвратимо надвигающегося конца…
– А это жестоко, – вздохнул Еврипид.
– Но необходимо. Разве отец не бьет своего сына, чтобы тот вырос мужчиной? Можно ли обрести достоинство, не взглянув в лицо реальной жизни, не научившись выносить всю ее боль? Существо, бормочущее какой-то вздор, называемый молитвами, пав ниц перед каменными идолами, и истязающее перед ними беспомощных животных в полной уверенности, что эта первобытная дикость и кровожадность понравятся им, – это существо всего лишь отсталый, примитивный ребенок; но тот, кто стоя встречает ночь, которая должна поглотить его, ждет этот надвигающийся мрак спокойно, без жалоб и без страха – тот человек. Я предпочитаю быть взрослым, Еврипид. И ты подарил мне понимание того, что для этого нужно. За что я бесконечно благодарен тебе. Скажи мне, что для тебя важнее – любовь или уважение?
– Пока у меня ни того, ни другого, сын мой Аристон. Да что там. Я прожил долгую жизнь, и на моих глазах все, кого я любил, покинули меня. Мой отец, торговец Мне-зархид из Филы – да будут боги добры к его тени, моя милая, добрая мать Клито, – надеюсь, мне не нужно объяснять тебе, мой сын Аристон, что она не была зеленщицей?
– Ну конечно нет! – рассмеялся Аристон. – Хотя, учитель, должен сказать, что ты сам способствовал возникновению этих сплетен.
– Я? – воскликнул Еврипид. – Каким же это образом, клянусь Герой?
– Помнишь, в твоей «Меланиппе»; «То говорю не я, а моя мать»? Прибавь к этому, что Меланиппа, и тем более ее мать, славились своими знаниями различных трав, и сюжет готов. Та же история и с… – Аристон запнулся, его прекрасное молодое лицо заметно покраснело.
– С моей женой, Хорилой, – вздохнув, закончил за него поэт, – которая, хотя порой и уподобляется Ксантип-пе, припоминая мне в весьма нелестных выражениях все мои грехи, тем не менее хорошая помощница и любящая супруга, но в уста которой молва вкладывает слова, написанные мною для моих самых порочных героинь, и к тому же приписывает ей их самые неприглядные поступки. Ты это хотел сказать, не так ли? Я это знаю, мой сын Аристон. А вот чего я не знаю и не понимаю, так это почему так происходит.
Аристон улыбнулся. Он уже замечал эту же черту у Софокла и даже – как это ни удивительно – у самого Аристофана: какую-то странную слепоту, свойственную великим людям. Еврипид, проникавший в человеческую душу гораздо глубже, чем кто-либо из смертных, совершенно не замечал простейшего объяснения, лежавшего прямо на поверхности: все дело было в полном отсутствии воображения у рядового обывателя.
– И этот рядовой обыватель не просто лишен его, – продолжал он развивать свою мысль, открыв поэту глаза, – но поскольку у него самого нет воображения, он вообще не верит в его существование. Твои женские персонажи задевают его за живое; и как бы он ни пытался это скрыть, как бы он ни утверждал, что никогда не встречал женщин, не желающих довольствоваться своей участью и во всем повиноваться своему мужу, собственные шишки, набитые в семейной жизни, шрамы, оставленные на его шкуре острым лезвием женского языка, убеждают его в глубине и спра– ведливости твоего анализа женской природы. И он спрашивает себя: «Откуда это Еврипид так хорошо знает женщин?» И тут же находит простой ответ, даже не подозревая о том, как работает мозг гения: «Ну конечно по своему собственному опыту!» Ты изображаешь Тесея, значит, ты рогоносец. Ты изображаешь Медею, значит…
– Во всяком случае, мои сыновья живы, так что хоть этого они не могут приписать моей Хлориде! – рассмеялся Еврипид. – А вообще-то, если уж проводить параллели с жизнью, то моя бедная мать была из семьи эвпатридов – весьма знатного происхождения. Скорее всего, она и в глаза никогда не видела эту траву. Этой сплетней я в первую очередь обязан Аристофану. Ну а что касается моей так называемой разочарованности в жизни, я сам затрудняюсь ее объяснить. Я родился в Филе, в самом сердце Аттики, и более прелестного местечка не сыскать во всей Элладе. Хотя вокруг нас вся земля была выжжена и иссушена безжалостным солнцем, здесь, в филе, множество ручьев и ручейков, пробивающихся из-под земли, питают своей влагой зеленые благоухающие деревья. Вот почему там так много храмов. Люди думали, что даже боги избрали это место для своей земной обители.
Я был виночерпием Общества Танцоров, исполнявшего священные танцы у храма Аполлона Делийского. И если ты имеешь хоть какое-то представление об аттических порядках, то можешь себе представить, насколько малы были бы шансы сына зеленщицы удостоиться такой высокой чести! Тем более быть избранным главным факелоносцем Аполлона на мысе Дзостер, а я побывал и в этой роли. Знаешь, что это такое? Я возглавлял отряд нагих факельщиков, который должен был встретить Аполлона Делийского на мысе и освещать его путь от Делоса до Афин.
– И ты был счастлив? – спросил Аристон.
– Нет. Не думаю. Видишь ли, я появился на свет с пытливым умом, и он не позволял мне чувствовать себя счастливым, какой бы благополучной ни была моя жизнь. Но не думай, что мне не пришлось хлебнуть лиха! Когда мне было четыре года, нам пришлось бежать из своего дома из-за персидского вторжения. Даже сейчас у меня перед глазами стоят столбы дыма, поднимающиеся над городами и селениями Аттики, а затем и над самим Акрополем. Как моя бедная мать рыдала при виде всего этого! Когда мне исполнилось восемь лет, стены Афин были восстановлены, и мы смогли вернуться домой. Мой отец повел меня на первую великую трагедию Фриниха, хорегом которой был сам великий Фемистокл; однако теперь я даже не могу вспомнить ее название, так что, как видишь, она не произвела на меня большого впечатления. Гораздо больше поразили меня картины Полигнота, которые по распоряжению Фе-мистокла были выставлены и в наших филийских храмах, и в самих Афинах. Ах, как я мечтал стать художником! Но, по воле богов, эта проклятая страсть к стихоплетству к тому времени уже овладела мной, хоть я и не догадывался об этом. Десяти лет от роду я стал свидетелем процессии, переносившей останки великого Тесея с острова Скирос в Афины, и сами собой во мне родились строки. Я записал их, но, перечитав спустя некоторое время, с грустью стер с восковой таблички, на которой я так старательно нацарапал их своим детским пером, и предал забвению, которого они заслуживали.
– Вот в этом я сильно сомневаюсь, – вставил Аристон.
– И напрасно. Это было графоманство чистейшей воды. В двенадцать лет я посмотрел «Персов» Эсхила, и моя судьба была предрешена, как я ни противился ей. В семнадцать я посмотрел «Семеро против Фив» – хорегом был Перикл – и окончательно погиб. Точнее, погиб бы, если бы на следующий год не стал эфебом и мне бы не пришлось взять щит и копье и отправиться в поход против фракийцев. И я когда-то был молод и силен, Аристон, сын мой. Так же силен, как ты сейчас. Я выиграл бег на длинную дистанцию в Афинах и панкратеон в Элевсине. Но я все еще страстно хотел стать художником: и, к несчастью для себя, преуспел и на этом поприще.
– К несчастью? – переспросил Аристон. – Почему к несчастью, учитель?
– Да потому что, если бы меня постигла неудача, я просто вынужден был бы гораздо раньше посвятить себя своему подлинному призванию. Некоторые мои картины – кстати, неплохие – до сих пор висят в храме Мегары. Мне их заказали, потому что в то время я считался великим художником. Но я им не был. Я был хорошим, добросовестным ремесленником, и не более того. В моих картинах не хватало самого главного…
– Гения, – подсказал Аристон.
– Вот именно. Но тем не менее в то время вряд ли что могло стать причиной моей меланхолии, разве что мое чересчур болезненное отношение к той пропасти, что существовала между словами и делами людей, между тем, что они проповедуют, и тем, что творят. Или даже между тем, что боги…
– …требуют от людей, и тем, что они сами дают людям, – закончил за Еврипида Аристон.
– А дают они очень мало – или вообще ничего, – сказал Еврипид. – Но сами Афины, или, точнее, их крикливая чернь, вечно пекущаяся о некоем благочестии, суть и смысл которого непонятны ей самой, вскоре снабдили меня достаточным поводом для печали. Мой старый учитель, Ана-ксагор из Клазомен, был изгнан из полиса, был вынужден бежать, спасая свою жизнь, несмотря на то что сам Перикл сделал все возможное, чтобы ему помочь. А Протагор, читавший вот здесь, в этой самой пещере, свой великий труд «О богах»…
– Что касается богов, то «я не могу знать, что они существуют, равно как и того, что они не существуют, слишком многое препятствует такому знанию – неясность предмета и краткость человеческой жизни», – процитировал Аристон.
– Ты что, запоминаешь все, что прочел? – спросил поэт.
– Или услышал. Это странный дар, за который я очень благодарен богам. Мне достаточно прочесть что-то один раз или внимательно прослушать, и я запоминаю это навсегда, причем чаще всего слово в слово.
– Это является еще одной причиной, почему тебе следовало бы быть великим актером, а не производителем орудий убийства, – сказал Еврипид.
– Убийства? – возразил Аристон. – Лично я считаю себя защитником цивилизации, матерью которой являются Афины.
– Как на Мелосе? – осведомился Еврипид.
– А, вот ты о чем. Что ж, ты прав. Этому нет и не может быть оправдания. Но я делаю оружие не для истребления невинных, учитель. И не моя вина, что его подчас используют не по назначению. Я родом из Спарты. Я видел, как в моем родном полисе искусство, музыка, красота – все извращалось в угоду дикости и невежеству, а любая мысль уничтожалась в зародыше. Вот почему я защищаю Афины. При всех своих недостатках это самый свободный полис в мире. Но прошу тебя, ты хотел рассказать мне о Протагоре…
– …который был бы сейчас жив, если бы «свободные Афины» не изгнали его за то, что он открыто высказывал свои мысли, – с горечью сказал Еврипид.
– Он утонул в море и…
– И ты написал: «Вы, о эллины, вы убили соловья самих Муз, вещую птицу, певшую только во благо!» – опять процитировал Аристон.
– Да-да, именно так. Прости мне мою резкость. Аристон, тем более что ты намерен спасти мою пьесу. Но я должен предупредить тебя, что у «Троянок» нет никаких шансов на победу. Может так случиться, что ты, как хорег, даже впадешь в немилость толпы из-за нее.
– Сочту за честь, – заявил Аристон, – ибо если она способна до такой степени возбудить умы и сердца, это великое произведение.
– По крайней мере, сильнодействующее. Я написал ее как раз из-за этого кошмарного события на Мелосе. Видишь ли, этим летом в Афинах, на невольничьем рынке, я увидел мальчика, одного из пленных. Он был прекрасен как бог. У него были волосы цвета спелой пшеницы, до того светлые, что отливали серебром, но глаза его были чернее ночи. Его плечо было рассечено ударом меча; рана, очевидно, плохо зажила и вновь открылась. Кровь и гной сочились из нее, привлекая сонмы мух. Он даже не пытался их отогнать, просто сидел неподвижно, глядя в пространство этими бездонными черными глазами. Я подошел к нему и спросил, как его зовут. «Фаэдон», – произнес он; это все, чего я смог от него добиться. Я помчался домой за деньгами, чтобы выкупить его, подарить ему свободу. Но когда я вернулся, его уже продали. Как мне сказали, в одну из бань в качестве порна. А ведь ему было не более двенадцати лет.
– О боги! – воскликнул Аристон.
– После этого я вернулся домой, и первые строки этой трагедии – а я уже давно обдумывал ее идею – тут же возникли у меня в голове. Я сел и стал писать; все получалось как бы само собой, так что мне не пришлось исправлять ни единой буквы из всего того, что мое перо начертало на воске:
Как слепы вы все, Вы, городов разрушители, вы, Разорители храмов, вы, Осквернители великих могил, Где покоится прах тех, кто давно уж ушел, Вы, кто так скоро Уйдете за ними вослед!
– Учитель, – прошептал Аристон, – можно мне прочесть ее? Сейчас, сию минуту?
– Конечно, – сказал Еврипид.
Вот так и вышло, что Аристон покинул эту пещеру, дом на Саламине, даже не упомянув о своих проблемах, по правде говоря, совершенно забыв и о них, и о самом существовании девушки по имени Хрисея. Темнокожему Цефи-зофону пришлось взять его под руку и довести до лодки, ибо глаза его застилали слезы, столь сильны были сострадание, стыд и ужас, охватившие его под воздействием величайшей трагедии, когда-либо написанной человеком.
Спустя две недели, кстати, накануне того самого дня, когда столь долго откладывавшаяся экспедиция против Сиракуз наконец отплыла, Аристон сидел в открытом театре с Данаем и Сократом, ожидая начала представления «Троя-нок». Никто из его друзей не знал, что он хорег этой пьесы, ибо он не сказал им об этом. Ни им, ни кому другому. Собственный вклад казался ему крайне ничтожным по сравнению с величием этого произведения.
Но вот что все трое прекрасно знали, так это то, что шансов завоевать приз у Еврипида не было никаких. Победу можно было заранее отдать его сопернику Ксеноклу, пред– ставившему на зрительский суд три трагедии – «Эдип», «Ликаон» и «Вакханки», а также сатирическую драму «Ата-мант». Аристон ограничился «Эдипом», а Данай осилил все три трагедии Ксенокла, но даже его хватило лишь на половину первого акта сатирической драмы – ее бесконечные непристойности вызывали у него глубокое отвращение. Ну а Сократ вообще не посмотрел ни одной из пьес Ксенокла, потому что ходил только на постановки работ Еврипида. Из этого правила он не делал исключений даже для Софокла, хотя тот тоже был его другом.
Но разумеется, все трое посмотрели «Александра» и «Паламеда», две другие трагедии Еврипида, представленные на конкурсе. А сегодня пришел черед «Троянок», и они с нетерпением ожидали начала. Более того, из уважения и любви к своему великому другу они намеревались вытерпеть даже его «Сизифа», хотя это была сатирическая драма, то есть один из тех исключительно грязных фарсов, которые все поэты, участвующие в фестивалях, были вынуждены включать в свой репертуар на потребу обожавшей непристойности афинской толпе.
– Я пересмотрел все эти дешевки Ксенокла! – бушевал Данай. – Он не достоин даже шнуровать Еврипиду котурны! И тем не менее…
– Тем не менее он выиграет, – с горечью сказал Аристон. – Ив этом нет ничего удивительного. Дан. Еврипид никогда не поступится своими принципами. Он не станет потакать толпе. Эта пьеса как раз и будет стоить ему приза. Я это знаю. Я ее читал.
– Ты ее читал? – удивился Данай.
– Да. В доме Еврипида – то есть в его пещере на Саламине. Я отправился туда, потому что узнал от Перикла, что поэт совсем занемог под тяжестью своих трудов, что работа над этой пьесой сводит его с ума. А знаете, почему он взялся за нее? Из-за этих жутких событий на Мелосе. Чтобы показать афинянам, что истребление всего населения беззащитного острова, мягко говоря, не делает им чести. Что это дикость, недостойная даже варваров. Вряд ли такая оценка этих событий добавит ему популярности, не так ли? Понимаете, в своей пьесе он становится на сторону троянцев. Вы не поверите, но, когда я уходил от него, раб вел меня за руку, ибо глаза мои ослепли от слез!
– И как она звучит? – спросил Сократ. – Ты запомнил что-нибудь из нее, калон?
– Да, и слишком многое. Она до сих пор бередит мою душу. Подождите немного, и вы сами все услышите.
– Нет, – сказал Данай. – Ничто не может сравниться с твоим голосом, мой калон, когда он произносит слова высокой поэзии. Прошу тебя, прочитай мне что-нибудь из нее!
– Ну что же, – прошептал Аристон. – Ну хотя бы это:
Здесь, у этих ворот, разбитых, слетевших с петель, Пред взором рабов, равнодушно и праздно стоящих, Гекуба лежит, распростерта, и слезно горюет О Трои погибших сынах, об их душах, во мрак отлетевших.
Ее Поликсена меньшая, любимая дочь Уж жизни лишилась под хладною жертвенной медью, В пепел и прах обратившись на Костре погребальном Ахилла.
Нет уж Приама, и дети, взращенные ею, Убиты.
Одна лишь жива: безумная дева Кассандра, Разум оставил ее под тяжкой рукой Аполлона, И не знает она, что уж скоро Царь Агамемнон, герой, благочестием славный, Силой возьмет непорочность ее, Обагрит ее девственной кровью Ложе свое беззаконное, Волю богов нарушая И добродетель поправ…
– О боги! – прошептал Данай.
– Слушайте дальше, – сказал Аристон, – одно это место будет стоить ему приза:
Женщины ради одной, Из-за ночи одной греховодной Эти герои пришли возвратить Менелаю Елену, Трупами землю устлав и кровью невинных насытив. А стратег их, мудрый и набожный, как Подобает, Ради той шлюхи рассек своей дочери горло На жертвенном камне в Авлиде. Ради попутного ветра погибла Ифигения, Дочь отца, чье сердце как камень, Ради воздуха, бьющего в парус. И все для того, чтоб вернуть Менелаю супругу, Порну, его осрамившую, Без принужденья Ложе супруга сменившую На обитель разврата…
Он услышал чей-то прерывистый вздох у себя за спиной и обернулся. Но женщина, седевшая на каменной скамье сзади него, была тщательно укутана в покрывало, и он не смог как следует рассмотреть ее. Затем начался спектакль, и он тут же забыл о ней.
Но однажды во время предъявления он вновь услыхал тот же вздох. Это было в тот момент, когда Андромаха произнесла:
Ночи одной, говорят, сладострастной довольно, Чтобы любая забыла про стыд и сомненья, Но уж по мне так достойна презренья супруга, Честь и любовь променявшая На наслажденья, Он вновь обернулся и внимательно посмотрел на нее. Судя по одежде, перед ним была замужняя афинянка. «Нет, скорее всего, вдова, – подумал он, – раз это так взволновало ее. А может быть, она уже испытала то, о чем говорила Андромаха, и теперь горько сожалела о содеянном. Похоже, она еще молода, но нет. Молодая женщина никогда бы так не задрапировалась. Женское тщеславие не позволило бы».
Его внимание опять переключилось на эпическую драму, разворачивавшуюся перед ним. Он позабыл о женщине сзади него, о любимом друге слева и живом воплощении мудрости справа. Когда дело дошло до кульминационной сцены, в которой торжествующие эллины вырывают маленького Астианакса из рук матери, чтобы уничтожить вместе с ним доблестный дух Гектора, унаследованный его сыном, он склонил голову и заплакал, вспоминая Алкамену, свою мать, вспоминая Фрину, мать его сыновей, которым не суждено было родиться. Страшные слова звучали в его ушах как удары бича, рассекающего воздух вокруг него:
Сбросьте его со стены, разлучив с материнскою грудью, Пусть разобьется о камни, как хрупкий сосуд, его череп, Пусть вся земля оросится младенческой кровью И разлетятся мозги наследника Гектора; ешьте Детскую плоть, как молочных едят поросят, Если хотите.
Коли уж боги, все милосердные боги, которым молилась, Ныне от нас отвернулись и не дали сил мне Сына спасти.
Так закройте лицо мне. Бросьте в смердящее чрево Этой галеры. Ведите К новому брачному ложу, куда восхожу я, Перешагнув чрез его бездыханное тело…
Он почувствовал ее руку на своем плече. Он услышал ее голос, хриплый от рыданий, полный слез, так что трудно было понять, слышал ли он этот голос прежде. Ему показалось, что слышал. Вот только где?
– Ты плачешь над этим? – сказала она. – Ты? Мужчина?
– Да, – сказал он. – Я плачу по моей матери, отдавшей свою жизнь за меня и моего отца. Пронзившей себе грудь мечом, чтобы спасти нас обоих. Я плачу по единственной девушке, которую я любил. Которая была растерзана, как Поликсена, на могилах кровожадных зверей. Эта пьеса слишком похожа на мою жизнь, моя госпожа. Иянестыжусь своих слез.
– Да благословят тебя боги, незнакомец, – сказала она. В тот же день, все еще находясь под впечатлением «Тро-янок», переполненный нахлынувшими на него чувствами, он пошел на могилу своего приемного отца и принес жертву богам. Закончив этот благочестивый обряд, он обернулся и увидел женщину, закутанную в покрывало, которая стояла неподалеку вместе с молодой рабыней. Ему показалось, что это та самая женщина, что сидела сзади него в театре. Однако убедиться в этом ему не удалось, ибо при его приближении она повернулась и удалилась с таким достоинством, что он не решился следовать за ней, боясь оскорбить ее. Поэтому он отправился обратно к себе домой.
Глава XVIII
Ужасный вопль разбудил его поутру, когда флот уже скрылся за горизонтом. Казалось, что он раздавался отовсюду; он звучал с Агорийского холма; он метался между колоннами всех портиков Агоры; он несся с Акрополя, летел с Ареопага, холма Ареса, взмывал над Пирейским портом, разносился по городу вдоль длинных городских стен какими-то жуткими завываниями, более похожими на волчьи, нежели на человеческие.
Он вскочил с постели и в одном хитоне выбежал на улицу. Повсюду, у каждой двери, толпились люди, воющие, рыдающие, заламывающие руки. Он посмотрел по сторонам и, поняв причину их скорби, сам с трудом сдержал слезы. Ибо все двойные гермы, которые стояли у входа в каждый дом, храня покой его обитателей – эти родовые статуи с двумя лицами, располагавшимися затылком друг к другу, так что они смотрели одновременно в обе стороны, чтобы, как верили афиняне, вовремя предупредить хозяев об опасности, – были вдребезги разбиты чьей-то варварской рукой.
Хотя сам Аристон не верил, что каменные статуи могут кого-нибудь от чего-нибудь защитить, он тоже поставил герму у входа в свой дом из уважения к верованиям окружающих и не желая оскорблять их чувства открытым пренебрежением к местным обычаям. А его собственные пере– живания были вызваны отнюдь не суеверным ужасом, охватившим афинян при виде столь чудовищного святотатства, а тем, что его герма была создана руками самого Сократа.
Ибо философ по просьбе Аристона временно вернулся к своей старой профессии скульптора, причем вовсе не из-за нужды, так как богач Критон так удачно вложил в дело его сбережения – семьдесят мин, – что Сократ отныне был избавлен от необходимости зарабатывать себе на хлеб, высекая фигуры из камня. Теперь он занимался этим просто для собственного удовольствия, либо из благочестивых побуждений – так, например, одну из своих герм и статую «Три Грации» он преподнес в дар храму Парфенон, либо, наконец, как в случае с Аристоном, чтобы сделать подарок своим друзьям или любимым ученикам.
И вот теперь Аристон стоял и смотрел на разбитую статую, а со всех сторон неслись крики:
– Кто это сделал?
– Кто же еще, как не этот нечестивец Алкивиад! Или его люди. Человек, который в собственном доме наряжается в одежду гиерофанта, изображает из себя жрицу, оскверняет священные обряды – такой человек способен на все, это я тебе говорю!
– Что делать? Созывать Собрание, вот что! Отправить триеру за этим негодяем! Притащить его обратно в Афины! Напоить его ядом вместо вина! Подумать только, и такого человека мы назначили командующим экспедицией!
И именно в этот момент Аристон вспомнил слова, сказанные ему Алкивиадом несколько недель назад: «В чем бы меня ни обвинили, это обвинение будет ложным, Аристон. Клянусь могилой Гиппареты!»
Аристон медленно зашагал обратно. Войдя в дом, он плотно закрыл за собою дверь, как бы отгораживаясь от этого безумия, как бы оставляя за ней свою боль.
Этот вечер он собирался провести на званом обеде, в кругу богатейших людей Афин. Однако в нынешних обстоятельствах ему было явно не до веселья. Поразмыслив, он все же решил пойти туда. Ибо вряд ли стоило упускать такую возможность прощупать настроения, царившие в городе.
Хармид повернулся к Аристону.
– Ну, а ты, друг мой, – сказал он, – что ты думаешь обо всем этом? У тебя наверняка есть что сказать?
Аристон обвел взглядом зал. «Как странно, что я нахожусь в таком обществе, – подумал он». Обед давал сам Хармид, сын Глаукона, а гости, за исключением Сократа и его самого, все принадлежали к старейшим и знатнейшим родам Афин. Вокруг стола возлежали люди, известные всем Афинам: Ницерат, сын бывшего хозяина Орхомена, стратега Никия, отплывшего накануне вместе с Алкивиадом и флотом, которым они оба командовали, в экспедицию против Сиракуз; старинный друг и соперник Аристона, знаменитый борец Автолик, сын известного политика Ликона; философ Антисфен, променявший учение Горгия Софиста на диалектику Сократа; богач Критон и его сын Критобул; Каллий, богатством превосходивший Критона, а мотовством соперничавший сАлкивиадом, и наконец Клиний, двоюродный брат Алкивиада, один из тех юношей, ослепительная красота которых во многом объясняла столь характерную для Афин путаницу в отношениях между полами.
– Мы слушаем тебя, Аристон! – подбодрил его Хармид, видя, что Аристон колеблется. – Можешь говорить совершенно откровенно! Даже Клиний знает, что Алкивиад грязная свинья. Так что можешь не церемониться!
Аристон улыбнулся.
– Я думаю, что ты, о гостеприимный хозяин, забыл, что я не гражданин Афин; у меня нет ни малейшего желания оказаться во власти сикофанта из-за слов, которые могут быть истолкованы как клевета.
– Ну, это ерунда, о благородный Аристон, – возразил Клиний. – Среди нас нет вымогателей, – он замолчал, медленно обвел взглядом присутствующих и только затем продолжил: – По крайней мере, мне так кажется, – что вызвало дружный хохот всей честной компании. – Разумеется, я слышал, что Каллий залез по уши в долги из-за своих разнообразных и разнополых любовных похождений, но…
– Но я не стану шантажировать нашего прекрасного Аристона, – подхватил Каллий. – Ибо, не говоря уж о том, что я сам постоянно страдаю от этих жалких псов сикофантов, кто же решится шантажировать человека со столь безупречной репутацией? Теперь, когда богоподобный Данай отправился вправлять мозги надменным сиракузцам, наш Аристон утратил единственного любовника. Так что он может быть спокоен на сей счет. Скажи нам, о прекрасный Аристон, у твоей гермы тоже отбили уши и нос?
– Да, – сказал Аристон.
– Ну и что ты думаешь по этому поводу?
– Что я никогда не прощу тому, кто это сделал. Эта герма была моим величайшим сокровищем.
– Ха-ха! – воскликнул Ницерат. – Эта каменная уродина была твоим величайшим сокровищем? И это говоришь ты, который может с потрохами купить моего отца, Критона и Каллия вместе взятых?
– Да, – спокойно сказал Аристон, – ибо эту статую изготовил для меня Сократ.
– А! – сказал Антисфен. – Ну тогда конечно. За такую статую, даже изуродованную, я отвесил бы тебе столько золота, сколько она весит – если бы, конечно, у меня было столько золота, а у меня его, увы, нет, и если бы ты захотел ее продать, а ты, разумеется, не захочешь. Но ближе к делу, Аристон; ведь ты хорошо знал Алкивиада через своего друга и товарища по плену Орхомена. Кстати, я никогда не мог понять, почему вас обоих не выкупили вместе с другими спартанцами, взятыми в плен на Сфактерии.
– Спроси об этом Ницерата; его высокочтимый отец наверняка поведал ему эту историю во всех подробностях, – сухо сказал Аристон. – Но я слушаю тебя, Антисфен.
– Скажи нам вот что: как, по-твоему, это Алкивиад устроил избиение герм, охраняющих вход в каждый афинский дом?
– Не думаю, – сказал Аристон. – Более того, я знаю, что он здесь ни при чем.
– А каким это образом ты можешь это знать, молодой человек? – осведомился Критон.
– Ну если ты так ставишь вопрос, мой господин, – сказал Аристон с тем глубоко укоренившимся в нем ува– жением к старшим, которое афинянам казалось явно чрезмерным, точно так же, как его и всех других лакедемонян всегда шокировало полное отсутствие благоговения афинян перед преклонным возрастом, – то я, разумеется, не могу этого знать наверняка. Но тем не менее, я уверен, что он этого не делал. Я готов согласиться с вами, что Алкивиад вполне заслужил свою недобрую репутацию, но кто из присутствующих здесь осмелится назвать его глупцом?
– В этом ты прав, мой мальчик, – согласился Кри-тон. – Помните, как он избавился от Гипербола?
– Конечно, отец! – рассмеялся его сын Критобул. – Гипербол – этот гиперболический Клеон! – попытался подвергнуть его остракизму. Но когда стали подсчитывать черепки, Алкивиад и твой отец, Ницерат, устроили так, что черепков с начертанным на них именем Гипербола оказалось вдвое больше, чем с именами Алкивиада и Никия вместе взятыми. Так что остракизму подвергся сам изготовитель светильников, и ему пришлось отправляться в изгнание. Ха-ха! Аристон совершенно прав; Алкивиад кто угодно, но не глупец!
– И вот я спрашиваю вас, – продолжал Аристон. – Какую выгоду Алкивиад мог бы извлечь из подобного безумства? Ведь он уже получил командование флотом вместе с Никием. Так с какой стати ему нанимать людей, чтобы восстановить народ Афин против себя подобным святотатством по отношению к их домашним божествам? А в результате вы отправляете за ним эту внушительную полисную триеру, он возвращается в Афины и предстает перед судом по обвинению в святотатстве; ну что же, именно этого и хотели подлинные виновники этого преступления; вы попадаетесь в ловушку, приготовленную вам теми, кому в самом деле выгодно это на первый взгляд абсолютно бессмысленное надругательство над гермами.
– И кто же эти люди? – спросил Автолик.
– Те, кто, пытаясь обесчестить Алкивиада и добиться его опалы, добросовестно отрабатывают сиракузское серебро, полученное ими, – заявил Аристон.
– Но зачем им это нужно, как ты думаешь, калон? – спросил Сократ.
Аристон оглядел пирующих, его взгляд встретился со взглядом Ницерата.
– Ницерат, – сказал он, – надеюсь, ты простишь мне мою откровенность? Я бесконечно уважаю твоего отца; как человеком я им восхищаюсь, но как полководцем…
– Он старый трусливый перестраховщик с кучей предрассудков и безо всякого воображения, – спокойно произнес Ницерат. – Я это знаю лучше тебя. Аристон. Я имел несчастье сражаться под его командованием, и не один раз. С отвагой и напором Алкивиада мы без труда одолели бы сиракузцев, однако теперь…
– Теперь все в руках богов, – сказал Аристон. – Сократ, ты высечешь для меня еще одну герму?
– Охотно, – отозвался философ, – но предупреждаю тебя, плата будет высокой!
– Назови ее, – улыбнулся Аристон.
– Ты подаришь мне то же, что и поэту Софоклу, – с серьезным видом произнес Сократ. – Только еще прелестнее.
Столовое серебро задребезжало от разразившегося хохота. История о том, как Аристон якобы подарил маленькую гетеру Феорис великому поэту, разнеслась уже по всем Афинам и, судя по всему, принималась всерьез, к его немалому удивлению. Разговор переключился на эту тему; гости Хармида, горячо обсудив несравненные прелести Феорис, заговорили о недавнем судебном процессе, на котором сын поэта, Иофон, попытался объявить своего отца слабоумным на том основании, что тот в столь преклонном возрасте связался с гетерой, да еще рассчитывает на потомство. Из слов присутствующих следовало, что Софокл блестяще выиграл процесс, прочитав судьям несколько строк из своего нового произведения, еще неизвестного широкой публике. Аристон запомнил его название, решив при следующей встрече попросить поэта подарить ему копию этой пьесы. Она называлась «Эдип в Колоне».
Аристон терпеливо слушал громогласную болтовню Каллия насчет того, что Аристону следовало предъявить такое же обвинение, поскольку человек, отдавший другому одну из прекраснейших гетер во всей Эллаце, явно не в себе, если совсем не сумасшедший, когда вошел раб с маленьким серебряным подносом?, на котором лежало письмо. Он поклонился своему господину и что-то прошептал ему, кивая головой в сторону Аристона. Хармид взял письмо, взглянул на печать. Однако вместо эмблемы какого-либо афинского рода письмо было запечатано крохотным изображением лани, и он ничего не смог определить по ней. Тогда он поднес его к косу и шумно втянул в себя воздух.
– Ата! – воскликнул он. – Боюсь, что ты поторопился, Каллий, сказав, что после отплытия Даная у нашего друга Аристона не осталось любовников. Что-что, а любовница, я полагаю, у него есть – и к тому же весьма знатная особа, если судить по изяществу почерка и аромату духов! Итак, мои возлюбленные друзья, вот вам и разгадка тайны его жестокого обращения с бедной маленькой феорис: ему просто нужно было от нее избавиться! Это пророческое письмо – оно предсказывает скорую свадьбу, да такую, ччо не потерпит никаких гетер, алевтрид, порн или даже мальчиков! Я прав, не так ли. Аристон?
– Понятия не имею, – хладнокровно заявил Аристон, – ибо мне еще нужно прочесть это письмо, к тому же я не знаю, от кого оно…
– Ну, это не проблема, – рассмеялся Хармид. – Отнеси ему письмо, Нибо,
– пускай прочтет вслух. Думаю, это нас позабавит.
– Ну уж нет' – в тон ему отпарировал Аристон – Я еще недостаточно долго живу в Афинах, чтобы опуститься до такого бесстыдства. Ты мне вот что скажи, мой добрый Нибо, каким образом это письмо доставлено сюда? Я хочу сказать, откуда посланец мог знать, где меня искать?
– Он узнал это от твоих слуг, мой господин, – сказал раб. – Ему было приказано передать это письмо лично в твои руки, и после долгих препирательств – судя по всему, им очень хотелось, чтобы он оставил письмо у них…
– Чтобы нагреть печать на пару, – прошептал Сократ, – или вскрыть ее горячим лезвием ножа. Ты должен сказать своей даме, чтобы она была осторожней, калон!
– Продолжай, Нибо. – сказал Аристон.
– В конце концов они направили его сюда. Он за дверью, дожидается твоего отчета.
–Отдай ему эту драхму, – сказал Аристон, – а вторую оставь себе. Пусть передаст тому, кто его послал, что я отвечу немного попозже. Я думаю, что он…
– Ха-ха! – фыркнул Хармид.
– …или она поймет причину задержки.
– Благодарю тебя, Нибо. Ты можешь идти.
– Благодарю тебя, мой господин, – с чувством произнес Нибо.
Вся компания смотрела на него с озорным любопытством школьников, наблюдающих за своим учителем. Аристон с непроницаемым лицом засунул письмо под хитон, даже не взглянув на него, и как ни в чем не бывало повернулся к своим сотрапезникам.
– Итак, на чем мы остановились, друзья мои? – спросил он.
Следующие полчаса они, как и подобает истинным афинянам, посвятили догадкам насчет таинственной дамы, приславшей письмо Аристону, и попыткам хоть что-нибудь из него выудить. Каллий даже предположил, что это жена Ницерата; вообще-то он ничем не рисковал, так как знал, что Ницерат не обижается на подобные шутки; горячая и нежная привязанность этой достойной женщины к своему мужу была известна всем Афинам. Любопытно, что об этом говорили больше, чем о самых свежих скандалах: «Ты представляешь, до чего докатились Ницерат и его жена? Они верны другдругу! И как это им удается? Да, такого в Афинах еще не бывало!»
– Когда приду домой, я ей всыплю, – с серьезным видом пообещал Ницерат, вызвав очередной взрыв хохота.
– Сократ, не уделишь ли ты мне пару минут? – сказал Хармид. – Видишь ли. мой племянник очень хочет познакомиться с тобой. Ему всего двенадцать лет, но он \умен не по годам. Я уже давно уговариваю своего зятя, чтобы тот разрешил ему стать твоим учеником.
– Пускай сначала подрастет. Не хватало мне только обвинений в совращении детей, – отозвался Сократ. – Но пусть войдет, Хармид, пусть войдет!
Хармид послал раба за мальчиком. Когда они вошли, все гости с любопытством оглядели его. Мальчик был коренаст и широк в плечах, его мускулатура была развита не по годам. Видно было, что ему не суждено стать красивым. Но Аристон готов был поклясться, что никогда в жизни ему не доводилось встречать столько ума, сколько светилось в этих темных глазах.
– Это мой племянник Аристокл, – сказал Хармид. – Но мы никогда не зовем его по имени. Мы зовем его Платоном за его широкие плечи. Он тренируется у Аристона – я имею в виду борца, а не нашего друга; боги свидетели, что между ними нет ничего общего, кроме имени, – и он уже достиг немалых успехов. Платон, сын мой, подойди к великому Сократу!
Мальчик приблизился, склонился перед Сократом и поцеловал ему руки. Но тот нежно поднял его и поцеловал в лоб.
– Ты хочешь быть моим учеником, Платон? – спросил он.
Но ответа на этот вопрос, равно как и всего дальнейшего разговора между Сократом и его учеником, которому суждено было впоследствии стать столь же знаменитым, как и он сам, Аристон не услышал. В этот момент Нибо опять вошел в зал. Шепнув что-то своему господину, он направился прямо к Аристону.
– Метек Орхомен, – произнес он слегка презрительно, еще раз подтверждая мысль Аристона о том, что домашняя прислуга бывает высокомернее своих собственных хозяев, – ждет вас на улице, господин. Он говорит, что у него срочное дело. Он в самом деле какой-то взвинченный.
– Он что, пьян? – резко спросил Аристон. В последнее время Орхомена редко видели трезвым. После смерти несчастной Таргелии он сильно опустился.
– Да нет, мой господин, – сказал Нибо. – Просто, как бы это сказать – возбужден. Ходит взад-вперед и…
– Хорошо, я выйду к нему, – сказал Аристон.
Нибо оказался прав. Орхомен был явно возбужден. Длинный шрам у него на лбу, оставшийся от клейма, некогда украшавшего лицо беглого раба Орхомена, казался лиловым на фоне его побагровевшего лица. Но он был умыт и опрятно одет. Его волосы и борода аккуратно подстрижены. От него исходил весьма приятный, нерезкий запах духов. А главное, он был один. Без смазливых женоподобных юнцов, которых он постоянно таскал за собой. И это было самое удивительное.
– Ты должен помочь мне, Аристон! – воскликнул он, даже не поздоровавшись. – Ты просто обязан!
– В самом деле? – осведомился Аристон.
– Да, клянусь Зевсом Громовержцем! Ну хорошо, я признаю, что в твоих глазах я был последней свиньей, но с этим покончено, слышишь! Покончено!
– Неужели? – сказал Аристон.
– Ну да, клянусь Афродитой! Понимаешь, мой мальчик, впервые в жизни я влюбился. По-настоящему. Я полюбил всей душой!
– Ну и как его зовут? – спросил Аристон.
– Как его зовут? Ха-ха! Вот тут-то ты и ошибаешься! Как ее зовут, друг мой! Мою жену, мою маленькую женушку!
– Ты что, опять женился? – спросил Аристон.
– Ну да. Для того чтобы удержать ее, понимаешь? Я не мог с ней расстаться. Не мог. Аристон! Но теперь и этого мало, потому что… – Голос его прервался, и Аристону послышался звук, странно похожий на всхлипывание.
– Ладно, успокойся, Орхомен, – сказал он. «А ведь Орхомен немного сумасшедший, – подумал он, и сердце его наполнилось жалостью. – Нет, даже не немного. Бывает, что страдания лишают человека рассудка, когда душа его не готова достойно перенести их».
– Назови мне ее имя, – сказал он.
– Ее зовут Хлодовехия, или Кассевелона, а может, и так, и так. Честно говоря, я сам толком не знаю.
– Хлодовехия? Кассевелона? Она что, варварка? Клянусь Афиной, это не эллинские имена!
– Ну разумеется не эллинские. Она в самом деле варварка – самая прелестная маленькая варварка, какую ты когда-либо видел. Она из Галлии – ну, в общем, ты знаешь, это западнее Сицилии, но ближе, чем Гесперия, у нас там еще есть город Массалия. Одни боги могут понять, что она говорит. Она пробыла в Массалии недостаточно долго, чтобы хорошо выучить греческий язык. Насколько я понял, она родилась в местечке под названием Лютеция – какой-то городок на острове посреди реки, а ее народ называется паризии.
– А вот это эллинское имя, – заявил Аристон.
– Вовсе нет. Простое совпадение в языках. Она даже не знает, кто такой Парис. И об Елене ничего не слыхала. и вообще о Гомере.
– Да просветит ее Афина! – сказал Аристон.
– Но она прекрасна. Аристон! Ее волосы такие светлые, что кажутся почти белыми.
– Ха! – хмыкнул Аристон. – Эти осветлители продаются в каждой лавке.
– Ничего подобного! – Ухмылка Орхомена была похожа на волчий оскал. – Видишь ли, поскольку она варварка из этой самой Галлии – во всяком случае, италиоты называют их галлами…
– Я прекрасно знаю, где находится Массалия, – перебил его Аристон. – Продолжай, Орхомен.
–… она еще не научилась ухаживать за своей внешностью. Нет, ты не подумай, она часто моется, от нее всегда хорошо пахнет; но она не бреет волосы на теле и вообще не удаляет их, как наши женщины. И представь себе, они всюду такие же светлые! Абсолютно везде, Аристон! Брови, ресницы, подмышки…
– Остановись, прошу тебя! – Аристон оборвал его на полуслове. – Не забывай, что она твоя жена, Орхомен! Изволь относиться к ней с должным уважением. Не пристало тебе вслух обсуждать ее тело, да еще на улице.
– Какой ты все-таки чувствительный, калон! Внешне ты стал мужчиной, но душа у тебя все еще девичья, не так ли? Ну да ладно. Пойдем же! Я хочу познакомить тебя с ней.
Аристон остановился в нерешительности.
– Не забывай, что мы в Афинах, – сказал он.
– Я знаю. Но я не афинянин, и ты тоже. Кроме того, я полагаюсь на это твое проклятое понятие чести. Идем же!
– Думаю, – сухо заметил Аристон, когда они тронулись в путь, – не пройдет и года, как ты забьешь ее до смерти, как несчастную Таргелию.
Орхомен встал как вкопанный. Дрожь пробежала по его могучему телу.
– Какой-то демон сидит во мне, Аристон, – прошептал он. – Мне хочется причинять людям боль, я упиваюсь своей жестокостью. Но это находит на меня только когда я пьян – вот почему я не выпил ни капли с тех пор как встретился с ней. Тем не менее и в этом мне понадобится твоя помощь, мой драгоценный друг. Скажи мне, если я окажусь слишком слаб и не устою перед искушением, ты разрешишь мне прийти к тебе, чтобы протрезветь перед тем, как отправиться домой?
– Разумеется, – успокоил его Аристон.
– Ибо я умру, если трону мою Хлодовехию-Кассевелону хоть пальцем! Ведь я так люблю ее, да поможет мне Эрос!
– Ну так и не трогай ее, – предложил Аристон.
– А если это сильнее меня? – возразил Орхомен. – Алкивиад как-то сказал, что все люди делятся на тех, кому доставляет удовольствие причинять боль другим, и тех, кому нравится самим ее испытывать. Сдается мне, что ты принадлежишь к последним. О, как ты обожаешь страдать!
Аристон с удивлением уставился на него. Практически то же самое он слышал от Сократа: «Пойми, Аристон, в твоей любви к маленькой Хрисее нет, в сущности, ничего противоестественного. Я хочу сказать, противоестественного для тебя. Да, она во многом похожа на мою Ксантиппу, а ты не столь кроток и терпелив, как я. Каждый день она будет разыгрывать перед тобой сцены, достойные Тартара. Она из тех, кто просто не может не мучить того, кого любит. Она вечно не уверена в себе, она стыдится своей внешности, и поэтому она на каждом шагу станет подозревать тебя в неверности; она будет кричать на тебя, выходить из себя по всякому поводу. Но все это не имеет значения, точнее, не имело бы значения, если бы я мог быть полностью уверен в том, что душа твоя успокоилась, что ты все еще не ищешь страданий, сам того не ведая, и что тайная страсть к самоуничижению навсегда оставила тебя».
Он вдруг почувствовал, что письмо под хитоном царапает ему грудь. Однако сейчас время для чтения было явно неподходящее. Да и в конце концов, тот, кто его написал – разумеется, это не могла быть Хрисея, она бы скорее умерла, чем решилась на такое, – мог подождать до вечера.
– Нам нужно придумать ей нормальное имя вместо этих жутких варварских кличек, – заявил он Орхомену. – Как, ты говоришь, она себя называет?
– Хлодовехия-Кассевелона, – сказал Орхомен.
– Единственное, что мне приходит в голову, – это Хлорея. По-гречески, стало быть, зеленая. Нет, не годится. Как там второе?
– Кассевелона.
– Может быть, Кассандра?
– Клянусь Зевсом, нет! Только не это! Это имя принесет несчастье! Во-первых, оно означает «та, что завлекает мужчин», а во-вторых, вспомни, что случилось с самой Кассандрой – и с ней, и с Агамемноном!
– Пожалуй, ты прав, – согласился Аристон. – Ладно, я, пожалуй, сначала взгляну на нее, а затем уж подберу подходящее имя. А пока, может, ты перестанешь скакать вокруг меня, как козел, и расскажешь мне наконец, в чем тут дело?
– Я приобрел ее у одного морехода по имени Алет. Он мой старый собутыльник и хорошо изучил мои вкусы. Когда у меня водились деньги, он предоставлял мне лучших мальчиков и девочек перед тем как продать их работорговцам. А теперь он долго пробыл в плавании и не знал, что ты вышвырнул меня из управляющих и что я у же истратил, можно сказать, последний обол и главным образом на мальчиков. Понимаешь, они больше возбуждают зверскую часть моей натуры, чем женщины. Но когда я ее увидел, то совершенно потерял голову. Я дал ему долговую расписку и забрал ее, поклявшись всеми богами Олимпа, что расплачусь на следующей неделе. Он заверил меня в том, что она девственница, и, надо сказать, не обманул. О великий Зевс, сколько крови вылилось из этой бедной крошки! Мне даже пришлось позвать лекаря. Но знаешь, она простила меня, видя мой испуги раскаянье. А теперь она, кажется, начинает привыкать ко мне. Дай мне только время, и я заставлю ее полюбить меня. Вот что зависит теперь от тебя, мой мальчик! О Зевс Громовержец! Кто бы мог подумать…
– Что именно от меня зависит? – спросил Аристон.
– Да это самое время. Видишь ли, Алет хочет вернуть ее. Вот почему я женился на ней. Теперь он не может забрать ее у меня без рассмотрения этого дела в суде. Я рассчитывал, что ему придется отправиться в плавание до того, как его иск дойдет до судей, или что к тому времени мне удастся увеличить ее живот до таких размеров, которые растрогают этих старых козлов. Но, увы, я просчитался. И вот, завтра мы предстанем перед дикастерией, если…
– …если я не выложу денежки, которые требует за нее твой приятель пират, – закончил за него Аристон.
– Вот именно. Только не говори, что ты мне отказываешь, мой мальчик! Ради Гестии и Геры, не говори этого!
– Хорошо, – медленно произнес Аристон. – Я не откажу тебе. Но я ссужу тебе деньги на нескольких жестких условиях, Орхомен.
Орхомен остановился и со страхом посмотрел на него.
– На каких же? – прошептал он еле слышно.
– Во-первых: ты вновь становишься управляющим моей самой крупной эргастерией; то, что эта работа тебе по силам, ты уже не раз доказывал. Погоди, я еще не кончил! Я хочу, чтобы ты был строг с работниками, которые явно разленились в последнее время. Но если ты хоть раз кого-то ударишь, даже ладонью, ты немедленно вылетишь. Согласен?
– Согласен, – сказал Орхомен. – Второе условие?
– Ты выплатишь мне стоимость твоей жены-рабыни из своего жалованья, Орхомен. Я более не намерен делать тебе подарки. Я не буду торопить тебя, но вернуть долг тебе придется. Ну как?
– Согласен, – прорычал Орхомен. – Дальше?
– Мы заходим сейчас в ближайший скрипторий – именно сейчас, пока я еще не видел ее, чтобы тебе не пришло в твою недобрую голову, что я замышляю отнять ее у тебя, – и составляем бумагу в трех копиях – одну ей, другую мне, третью окружному судье, – в которой ты поклянешься именем великой Афины предоставить ей свободу и развод в случае, если ты когда-либо ударишь ее или будешь плохо с ней обращаться. Согласен?
Орхомен окинул его свирепым взглядом.
– Я вижу, ты мне не доверяешь, мой мальчик? – сказал он.
– Скажем так, я хорошо знаю тебя, – спокойно ответил Аристон.
– Что, в сущности, одно и то же, – вздохнул Орхо– мен. – И ты прав. Хорошо! Пошли составлять твою гнусную бумагу!
Девушка – скорее девочка, которой не исполнилось и пятнадцати лет, – медленно и робко подошла к ним, и у Аристона перехватило дыхание. Все мысли исчезли, сердце остановилось. Ни в аттическом, ни в дорийском или ионическом наречиях не было подходящего слова, чтобы описать ее красоту. Небесная нимфа – вот все, что он мог придумать. Богиня. Розоперстая Эос, восходящая утром над землей. Сама Афродита, рождающаяся из морской пены. Прекрасная Елена. Ибо именно такой должна была быть Елена, иначе все, что произошло под Троей, лишалось всякого смысла.
Смертная печаль наполнила его душу. «Поздно, поздно, слишком поздно, – рефреном звучало в его воспаленном мозгу. – Это восхитительное неземное нежное создание – в руках такой грубой скотины, как Орхомен! Нет!» Клянусь Эросом, Афродитой, самой любовью, нет! Но изменить ничего уже было нельзя. Он отвернулся, пытаясь овладеть собой, скрыть горячую соленую влагу, внезапно наполнившую его глаза. Хрисея перестала для него существовать. Ее просто не было. Ни ее, ни письма у него на груди. Он больше не чувствовал его прикосновения.
Он снова повернулся к ним и сказал, стараясь придать твердость своему голосу:
– Теперь я знаю, как ее назвать, Орхомен.
– Как? – спросил Орхомен. – Я вообще-то думал о Кч-ллиопе.
– Нет. Этого недостаточно. Каллиопа-светлоликая… Верно, но этого мало.
– Ну а как тогда? – спросил Орхомен.
– Клеотера, – прошептал Аристон.
– Клеотера, – задумчиво произнес Орхомен. – Клеотера. – Нежные слоги тяжело перекатывались у него на языке. – Хм-мм… – вдруг он взревел как бык: – Клеотера – Возвышенная Красота! Клянусь Зевсом, это то, что надо! Ты попал в самую точку, мой мальчик! Я знал, что ты что-нибудь придумаешь! Подойди сюда, Клео, познакомься со своим покровителем! Это…
В этот момент все и произошло. С каким-то мягким журчащим звуком, одновременно напоминающим смех и всхлип, новоявленная Клеотера шагнула вперед и бросилась на шею Аристону.
Лицо Орхомена сделалось чернее туч, гонимых по небу Зевсом. Он протянул руку, чтобы оторвать девушку – девушку? Голова у Аристона шла кругом. Эту сребролунную и солнечноликую богиню! – от Аристона. Оба услышали гортанные, типично варварские звуки ее речи; издаваемые кем-либо другим, они были бы ужасны, но из ее уст они звучали как необычная возбуждающая музыка, глубокая и теплая, наполненная радостью, как солнечное лето.
– Мне очень жаль, моя милая, – выдавал из себя Аристон, – но я понимаю только эллинскую речь.
– Ox! – простонала она. Затем она разомкнула свои объятия и отшатнулась от него. Слезы, как прозрачные жемчужины, сверкали на ее голубых глазах, с мольбой смотревших на Аристона.
– Прости меня, мой господин! – прошептала она на ломаном колониальном наречии. – Прости меня, я подумала, что ты один из нас! Твои глаза, волосы, твоя борода…
Орхомен с облегчением расхохотался.
– Ха-ха-ха! – заливался он. – Она приняла тебя за варвара, своего соплеменника! Видишь ли. Клео, и среди нас встречаЮТСЯ светловолосые. Редко, но встречаются. Вот, например, наы величайший герой Ахилл был светловолосым. Л Одиссей так вообще рыжим. Даже в наше время, в Македонии Фракии. Да ты все равно не понимаешь ни слова из того, что я говорю, не так ли?
– Нет, господин мой муж, – сказала Клеотера.
– Да поможет нам Афина! Послушай, Аристон, как ты думаешь, мне когда-нибудь удастся научить ее разговаривать по-человечески?
– Ты хочешь сказать, по-Эллински? Я попрошу Софокла, чтобы он на время одолжил нам Феорис; лучшего учителя нам не найти. Никто не может сравниться с ней по изысканности речи. Даже сама Парфенопа.
– Ну хорошо, при условии, что она не станет учить Клео всем этим грязным гетерским штучкам! Они притворяются, что любят мужчин, но… Кстати, мой мальчик, насчет этой ссуды – Алет заявится завтра ровно в десять, и я…
– Направь его ко мне, – сказал Аристон.
Он не пошел домой. Он просто не мог. Он был как одержимый. Он бродил по афинским улицам, даже не слыша яростных споров о виновности или невиновности Алкивиада в столь святотатственном осквернении домашних герм. Наконец он остановился; мысли жгли его, как расплавленный свинец, душа корчилась от боли в руках самого безжалостного и умелого палача из всех когда-либо терзавших человека: черной жестокой зависти.
– Я пойду к Парфенопе! – бушевал он. – Напьюсь как сова Афины! Буду спать с…
Его шатало, как будто он уже был пьян. В сущности, он и был пьян. От горького вина душевных мук.
Маленькая начинающая гетера Псилла – разумеется, это не было ее настоящим именем, ибо означало «блоха»; такое прозвище она получила от подруг за свою миниатюрность и живость – очень медленно оторвала свои губы от губ Аристона.
– В чем дело, милый? – прошептала она. – Обычно мои поцелуи могут возбудить даже покойника.
– Я не знаю, – пробурчал Аристон. – Наверное, во мне слишком много вина. Нет, слишком много печали.
– Ну ничего, я тебя мигом вылечу! – заявила Псилла и приступила к делу. Но все ее усилия были тщетны.
Наконец она села и удивленно посмотрела на него. Она была очень маленькой и очень привлекательной. Ее соски были подрумянены. От нее исходил очень сильный и насыщенный запах духов. Ему внезапно сделалось дурно.
– Послушай, Псилла, – начал он. Но слова, которые он собирался произнести, застряли у него в горле.
Хрисея стояла рядом и смотрела на них. Она не плакала. Пока. С ней происходило нечто куда более ужасное. Она буквально распадалась на куски, не снаружи, а внутри. Он отчетливо видел этот жуткий процесс самораспада в ее глазах.
Она резко наклонилась, что-то подняла с пола и протянула ему трясущейся рукой. Это было письмо. То самое, что он весь день проносил под туникой. О существовании которого он давно забыл. Которое упало на пол, когда он сдернул с себя хитон.
– Прочти его, когда у тебя найдется время, мой господин Аристон, – сказала она ясным твердым голосом, ломким, как сланцевая скала. – Я думаю, что оно позабавит тебя. Подумать только, я предложила тебе свое тело! Тебе, которому достаточно свистнуть, и в твоем распоряжении будет великое множество тел – восхитительных, как у этой маленькой куклы. Но вот того, что принадлежало тебе и все еще принадлежит, она тебе дать не может, о бесконечно прекрасный Аристон, потому что этого у нее нет. Мою душу. И еще кое-что. Девственность, о которой она давным-давно позабыла. Любовь, которая не продается. Верность – да ты даже слова этого не знаешь!
Она повернулась, шагнула к дверям, затем остановилась и снова оглянулась.
– По крайней мере, я рада, что она – не мужчина! – произнесла она, еле сдерживая рыдания, и стремительно выбежала из комнаты.
– Да оставь ты эту старую тощую Гекату, пусть убирается! – сказала Псилла. Но он грубо оттолкнул ее и поднялся на ноги.
Он натягивал хитон, когда услышал крик Парфенопы.
– Я пыталась остановить ее! – причитала Парфено-па. – Я пыталась. Аристон! О, Гера, мать богов! Что же нам теперь делать?
Хрисея открыла глаза.
– Ты добилась только того, – прошептала она, – что я – о боги, как больно – не попала себе в сердце. А теперь мне придется…
– Хрис! – простонал Аристон. – О всемогущие боги! Хрис!
–… мне придется долго умирать. А я не такая уж смелая… Я думала, что я смелая, но – как мне больно! Аристон, вытащи его! Чтобы кровь…
Она потеряла сознание.
– О боги, – повторял Аристон, – о боги, боги, боги!
– Аристон, – рыдала Парфенопа. – Они закроют мое заведение! Я хочу сказать, мою школу! Меня, наверное, посадят в тюрьму! Я пойду по миру! Ах, ягненочек, солнышко, умоляю тебя, убери эту маленькую ведьму отсюда! О Зевс Громовержец, зачем ей понадобилось убивать себя именно в моем доме?
Волна холодного презрения, внезапно накатившая на него, странным образом прояснила его мысли и чувства. Он вдруг ощутил ледяное спокойствие. Он не знал, что оно было следствием только что испытанного шока. Но это не имело значения, главное, что в нем было спасение.
– Заткнись, грязная шлюха, – сказал он ровно. – Она еще жива. И я сделаю все, чтобы спасти ее. На моей совести и без того достаточно смертей. А теперь иди и принеси ткань для перевязки, горячую воду, корпию, чтобы остановить кровь. И иголку с нитками. Льняными нитками, не перепутай. И прокипяти иголку. Я видел, как это делают военные лекари. Это помогает. Не знаю почему, но помогает. Ты слышала, жалкая старая порна? Бегом!
– Ты что, хочешь заштопать ее? Как рваный мешок? – ахнула Парфенопа.
– Ну разумеется. Быстрей, Парфенопа! Клинок застрял в левой груди Хрисеи; он вонзится косо. по диагонали, так что одна сторона лезвия торчала наружу почти до самого острия. Он увидел, что грудная клетка не была пробита. Если она не истечет кровью, у него есть шанс ее спасти. Ничтожный – но все-таки шанс.
– О Асклепий, помоги мне, – вознес он молитву к небесам. – И ты, о божественный Аполлон. И ты, Пан. И вы, Афина, Панацея и кентавр Хирон – вы, исцеляющие боги, направьте мою жалкую руку, не дайте ей дрожать. О божественные, молю вас…
Он выдернул клинок. Поток крови, хлынувший из ее груди, был ужасен. Он, столько видевший ее на поле боя, чуть не лишился чувств. Ибо это была кровь Хрисеи – этой бедной нежной и столь дорогой ему глупышки. Этого хрупкого, маленького, почти бесплотного дикого лесного зверька, любившего его больше жизни, готового умереть из-за него, как умерла Фрина. Нет! Клянусь великим Зевсом, я не допущу этого! О Гера, Гестия, Артемида – вы, любящие чистоту, невинность, непорочность!
Он взял в руки иголку. Он слышал, как Парфенопу рвало за его спиной.
Псилла стояла рядом с ним на коленях, подавая ему разные предметы, по мере того как в них возникала надобность. Ее глаза казались огромными на ее маленьком личике. Но она не падала в обморок, подобно уже лишившейся чувств Парфенопе; ее даже не рвало. Она изо всех сил помогала ему. Когда он закончил, она посмотрела на него, затем на неподвижную смертельно бледную окровавленную фигурку на постели. И только тогда слезы хлынули у нее из глаз неудержимым потоком.
– Она мертва, не так ли? – прошептала она. – О небеса, отныне каждый год в этот самый день я буду приносить жертву на ее могиле. В честь той, что знала, что такое любовь и что любовь стоит того, чтобы за нее умереть. Ибо любовь того стоит! О да! О, Аристон, я…
Но Хрисея не умерла. Ни Мойры, ни Эринии не были столь жестоки.
Или, если хотите, столь милосердны.
Глава XIX
Он нес ее на руках, завернутую в гиматий, по темным городским улицам к себе домой. Ему повезло: он не встретил никого из скифских наемников, охранявших ночной покой полиса. Правда, такая встреча не имела бы для него каких-либо серьезных последствий, ибо содержимого его кошелька вполне хватило бы для того, чтобы купить их молчание. Но сама задержка, неизбежная в подобной ситуации, могла бы оказаться роковой.
В спешке он раз или два встряхнул Хрисею, и она застонала. Этот слабый, еле слышный исполненный страдания звук разрывал ему сердце. И он молил всех богов, в которых, в общем-то, по-настоящему не верил, не дать ей умереть.
Войдя в спальню, он положил ее на кровать и несколько раз позвонил в колокольчик, разбудив всю женскую прислугу. На их лицах он прочел ужас, любопытство, ту болезненную ненасытную страсть ко всякого рода скандалам и сплетням, что составляет саму суть женской природы; но он не обратил на это никакого внимания.
– Позаботьтесь о ней, – кратко распорядился он. – Да поосторожнее, глупые курицы. Ее рана очень опасна. И пришлите мне Подарга!
Одна из них помчалась на мужскую половину. Остальные склонились над Хрисеей.
– Бедняжка! – перешептывались они. – Такая маленькая, такая худенькая! Наверное, ее морили голодом. А эта рана! Какой ужас! Кто-то пытался ее убить! Ах! Сколько крови! Интересно…
– Ничего интересного, – оборвал их Аристон. – Идите и принесите горячую воду и простыни, чистые простыни, ради Геры! Снимите с нее одежду! Искупайте ее, устройте поудобнее. Белье тоже снимите. Наденьте на нее ночную рубашку, только выстиранную и не рваную, если у вас вообще есть нечто подобное, немытые козы!
Подарг уже стоял перед ним.
– Подарг, – торжественно обратился к нему Аристон, – ты еще не разучился бегать?
– Я, мой господин? Разве я проиграл хоть один забег из тех, в которых я защищал твою честь? – обиженно отозвался Подарг.
– Ну что ж, друг мой, тебе предстоит еще один забег, – сказал Аристон.
– Самый главный в твоей судьбе. Ибо разыгрывается в нем жизнь. Нет, две жизни. Если она умрет, я не смогу жить.
– О мой господин! – воскликнул Подарг.
– Беги к дому врача Офиона. Скажи ему, что я послал тебя за ним и он должен прийти немедленно, несмотря на столь поздний час. Если он откажется, приведи его силой. Впоследствии я заплачу ему достаточно, чтобы он забыл нанесенную ему обиду…
– Я все понял, мой господин, – сказал Подарг. Аристон снова повернулся к кровати. Служанки уже раздели Хрисею. Ее худоба была просто невероятной. Он легко мог сосчитать каждую ее косточку. «Придется придумать способ, как нарастить на них хоть немного мяса. Если, конечно, она выживет», – подумал он.
Врач Офион удивленно взглянул на него.
– Кто обрабатывал эту рану? – спросил он. – Кто зашил ее?
– Я, – ответил Аристон. Врач улыбнулся:
В таком случае я должен поздравить тебя со вступлением в братство хирургов, – заявил он. – Хорошая работа. По– жалуй, получше, чем у некоторых учеников на третьем году обучения.
Аристон пропустил мимо ушей эту слегка насмешливую похвалу – если это вообще можно было назвать похвалой, ибо, по общему мнению, ученики хирургов годились разве что в мясники – и задал главный вопрос:
– Она выживет?
– Думаю, что да. Обычно для здоровой женщины такие раны не смертельны. Если не произошло заражение крови и не начнется омертвление тканей, она должна выжить. Главная опасность не в этом…
– А в чем же?
– В голодной смерти. Ты ее вообще когда-нибудь кормишь, друг мой? Насколько я могу судить, все остальные девушки в твоем доме вполне упитанны!
– До сих пор она не была вверена моим заботам, – осторожно сказал Аристон. – Но если она выживет и останется у меня, я обещаю тебе, Офион, что прикрою эти хрупкие косточки плотью.
– Вот-вот. Это совершенно необходимо. Ей нужно много есть, чтобы преодолеть слабость, вызванную ранением. Супы, особенно мясные, хорошее вино. Твердую пищу на несколько дней нужно исключить. Послушай, Аристон…
– Да, Офион?
–Я не собираюсь доносить на тебя. В любом случае это было бы бессмысленно, так как с твоими деньгами ты бы без труда откупился. и я не принадлежу к сикофантам.
Аристон улыбнулся. В то время это слово еще не имело значения лживого раболепного льстеца, которое оно приобрело спустя несколько веков в Римской империи. В Афинах классического периода оно обозначало просто шантажиста.
– Продолжай, я слушаю тебя, – сказал он.
– Мне просто любопытно. Зачем ты ударил ее, друг мой?
– На твоем месте, Офион, я задал бы другой вопрос. Какойнибудь более разумный. Ну например, где и когда я научился зашивать раны.
– Хорошо, считай, что я тебе его задал. Итак, где и когда? Если серьезно, у тебя в самом деле неплохо получилось.
– В спартанской армии. Я был гоплитом.
– Гоплитом?
– Ну да. Тяжеловооруженным воином. Специалистом по нанесению подобных ударов. Собственно говоря, меня всю жизнь только этому и учили.
– Надо же, а я как-то об этом не подумал! Нет, я знал, что ты был среди лакедемонян, взятых в плен на Сфактерии, но… Ну конечно. Все ясно. Ни один человек, умеющий обращаться с мечом, не нанес бы такой нелепой раны. Тогда кто же, клянусь Афродитой и Эросом? Ну разумеется! Она сделала это сама!
– Я этого не говорил, – заметил Аристон.
– Тут все ясно и без твоих слов. Для того чтобы нанести такой удар сверху вниз – тебе пришлось бы обхватить ее руками, стоя у нее за спиной. На самом деле ты всего-навсего ударил ее по руке, чтобы клинок соскользнул и не достал до сердца, в которое она целилась. Теперь я все понял. Ты отверг ее – и неудивительно, ведь она костлява, как ворона, да к тому же уродливее дочери Гекаты, – и она пыталась убить себя. Я не ошибся?
– Я не отвергал ее. Я ее люблю. Более того, я женюсь на ней, если это будет возможно.
– Да поможет мне Аполлон, отводящий безумие! Ты хочешь жениться на этой, этом…
– На этом несчастном опозоренном измученном существе с прекрасной и благородной душой, – заявил Аристон.
Он сам накормил ее мясным супом, который принесли слуги. Сначало она давилась. Затем ее вырвало. Но он упорствовал, и в конце концов ему удалось влить в нее всю чашу. За супом последовали две чаши вина. Он нежно держал ее на руках, пока слуги меняли мокрые простыни: она все еще была без сознания и мочилась прямо в постель. Ему показалось, что щеки ее слегка порозовели. Надежда с новой силой вспыхнула в его сердце.
Он провел подле нее весь день и всю следующую ночь. К утру ее дыхание успокоилось, стало ровным и размеренным. Судя по всему, она уснула.
И только тогда, спустя столько времени, он вспомнил, что до сих пор не прочел ее письма. Он вытащил его из-под хитона, сломал печать и пододвинул поближе светильник.
Любовь моя, радость моя! – писала Хрисея, – Я знаю, эти слова поразят тебя. Но как еще могу я начать? Ведь это чистая правда: ты моя любовь, моя радость, моя жизнь отныне и навсегда. Я готова даже стать твоей самой преданной и покорной рабыней, если ты этого пожелаешь, мой повелитель и господин. Я ненавижу рабство, но мое собственное слепое сердце предало меня, мою волю, мою непокорную душу.
Видишь ли, мой Аристон, лучший из людей, лучший и благороднейший, я самым бесстыдным образом подслушала твой разговор с моим братом. Я была вне себя от ярости, я пыталась всем сердцем возненавидеть тебя, убедить себя в том, что ты смеешься надо мной! Но твой голос, твой серьезный глубокий голос, столь ласкающий слух, был совершенно искренен. Весь день и всю ночь я плакала, но это были слезы радости. На следующий день я последовала за тобой в театр, я увидела, как ты оплакиваешь женское горе! И кое-что узнала, совсем немного, о твоем горе. Ты ведь все расскажешь мне, правда? Я так хочу утешить тебя! Затем я стала свидетелем твоего благочестия, и вся моя душа воспарила на божественных крыльях. В последующие дни я неотступно следовала за тобой. Я расспросила о тебе пол-Афин, всех, кого посмела:
разумеется, из нищих слоев – метеков, торговцев, рабов. Все они просто обожают тебя; никто другой, даже сам Сократ, не пользуется в Афинах такой любовью, Я узнала, что у тебя нет рабов, чтовсем, ктоработает натебя, ты даровал свободу…
Всем, кроме меня. Которую ты никогда не сможешь освободить от служения тебе, от почитания тебя, от благоговения перед тобой; которую только Аид и Персе-фона могут оторвать от тебя. А теперь я, твоя рабыня, смиренно умоляю тебя, моего господина, простить мне то, что я сейчас напишу, ибо это настолько постыдно, что я сама не могу смотреть на слова, выводимые моей рукой, и отвожу глаза от бумаги, Я приду к тебе, Аристон. Приду этой ночью в дом Парфенопы. И ты должен заключить меня в свои объятия, лишить меня моей невинности. Прости меня! Я говорила тебе, что никогда не испытывала влечения к мужчине, и сейчас я тоже не чувствую этого, разве что в какой-то неясной причудливой форме. Но это необходимо из-за одного любопытного закона. Я говорила с одним архонтом, другом моего отца. Он сказал мне, что в настоящее время для метека нет абсолютно никакой возможности получить афинское гражданство, каким бы уважаемым, образованным и богатым он ни был. «Ну а если знатная афинянка любит такого метека?» – спросила я. Он сразу же все понял. «Бедное, бедное дитя, – сказал, он. – Лучше забудь его» -«Яне могу, – ответила я ему. – Я умру без него. – „Тогда иди к нему. Стань его любовницей открыто, не таясь. И если ему удастся избежать гибели от рук твоих братьев – а при том, что единственный из них, кто мог бы представлять для него опасность, сейчас далеко отсюда, сделать это будет несложно, – ты приобретешь вполне официальный и законный статус: нечто большее, чем просто наложница, что-то вроде наполовину жены, кем гетера Аспасия была для Перикла. Если же вы будете крепко держаться друг за друга и никто не сможет уличить кого-либо из вас в неверности, то твое положение будет считаться достаточно респектабельным. В наше время многие так живут“, – сказал он.
О Аристон, мой Аристон! Возьмешь ли ты меня? Или же вынесешь мне смертный приговор? Ибо если ты, прочитав эти строки, отвергнешь меня, я не вынесу такого позора. Ответь мне, если сможешь или захочешь. Если же что-то помешает тебе ответить, знай, что я буду там после полуночи. Я принесу с собой нож. Моя жизнь всецело в твоих руках. В любом случае, приговоришь ли ты меня к смерти или сделаешь счастливейшей из живущих, знай, я люблю тебя, Хрисея.
Он долго сидел и не отрываясь смотрел на эти слова, пока их изящные очертания не расплылись у него перед глазами. Его голова поникла, и он заплакал от жалости и стыда.
Вдруг он ощутил какое-то легкое прикосновение. Оно было легче перышка, но тем не менее обожгло ему щеку, как раскаленное железо. Вздрогнув, он открыл глаза и увидел, что она лежит перед ним, разглядывая свои худые пальцы. На них при свете лампы сверкали крохотные капельки его слез. Медленно, благоговейно она поднесла их к своим губам.
– Как хорошо, как невыразимо хорошо, – произнесла она.
Но когда, спустя час, она вновь проснулась, в ее взоре, обращенном к нему, горел лихорадочный, безумный огонь; в нем отражалось нечто не поддающееся описанию: какая-то неизлечимая болезнь, возможно, ее растоптанная гордость, которая, гния и разлагаясь, источала смертоносную отраву, заражая вокруг себя все, что оставалось живого в ее душе, истерзанной обидой, горечью, пренебрежением…
– Аристон, – прошептала она, – эта девушка…
– Какая девушка? – спросил он, прекрасно понимая, что она имеет в виду, но пытаясь как-то отвлечь ее от этой роковой темы. – Для меня отныне не существует никаких девушек, кроме тебя.
– Не лги! – буквально взвизгнула она; ее лицо, во сне становившееся даже как-то по-варварски привлекательным, теперь было ужасно, как маска вакханки, как лик Гекаты. – Эта девчонка! Это маленькое прелестное создание в постели рядом с тобой! И вы оба нагие, как будто только что появились на свет!
Аристон улыбнулся ей чуть насмешливо.
– Видишь ли, Хрисея, в подобных ситуациях одежда только мешает, – сказал он, – а ведь я никогда не притворялся горячим поклонником Артемиды. Мне очень жаль, дорогая, что все так случилось. Но ты должна понять меня. Я понятия не имел, что ты собираешься прийти ко мне, и я…
– Ну разумеется! – пронзительно выкрикнула она. – Ведь ты же не прочел моего письма! Ты швырнул его на пол, когда раздевался, чтобы совокупиться с этой девкой! Так иди же к ней, Аристон! Убирайся! Ты мне не нужен! Я хочу умереть! Уме…
Он наклонился и поцеловал ее в губы. Ее дыхание было зловонным. Оно пахло рвотой и кровью. Но он, невзирая на тошноту, не отрывался от ее губ, сжимая маленькое личико в своих сильных и нежных руках до тех пор, пока ее отчаянные попытки освободиться не прекратились, а ее губы вдруг не стали мягкими и податливыми, и ему почудилось, что они превратились в какой-то странный заморский цветок.
Он медленно отстранился, пытаясь заглянуть в глубину этих огромных, теплых, восхитительных карих глаз. Но он ничего не мог увидеть. Лишь мерцание гаснущей свечи, неяркий дрожащий свет, искру, готовую вот-вот исчезнуть навсегда.
– Хрис, – простонал он.
– Аристон, – прошептала она.
– Да, Хрис?
– Ты любишь меня?
– Всем сердцем, – сказал он, и если жалеть значит любить, то это было почти правдой.
– Тогда почему же ты не прочел моего письма? – всхлипывала она.
– Потому что я получил его во время обеда, когда был в обществе золотой афинской молодежи, желавшей, чтобы я прочел его вслух. Я засунул его за пазуху…
– И позабыл о нем! – рыдала она.
– Ну да. Точнее, я думал о другом. Видишь ли, один из моих друзей попал в беду. Это очень серьезно, Хрис. Мне пришлось выручать его, и…
Он рассказал ей историю Орхомена. Он даже описал ей девушку-рабыню из Галлии. Она молча выслушала его. Затем произнесла голосом, хриплым от ужаса:
– Ты влюблен в нее! В эту Клеотеру! В жену твоего лучшего друга! О бессмертные боги, в чем я провинилась перед вами?! О божественная Артемида, пошли мне смерть!
Тогда он понял, что все это бесполезно; и ум, и сердце подсказывали, что ему удалось-таки изобрести для себя самую изощренную пытку, которую он сам взлелеял и которую искал все эти годы. Ибо счастье с Хрисеей было немыслимо; жизнь с ней представляла из себя новую кошмарную разновидность Тартара.
Когда она наконец замолчала, в полном изнеможении откинувшись на подушки с красными, распухшими, горящими ужасным огнем глазами человека, выплакавшего все свои слезы, он встал и вышел в сад. И мысли его размеренно текли в такт его медленным тяжелым шагам.
Kак.ова природа греха и какова сущность возмездия? Существуют ли они? И не есть ли они всего лишь порождение чудовищного тщеславия человека? Вот, к примеру, этот муравей, ползущий по камням мостовой при свете луны; я наступаю на него, и его нет. Как и меня. Я мог спасти Фрину, но я этого не сделал. Мелькнула ли у меня тогда мысль, что, если даже я ее спасу, жизнь с ней, покрытой шрамами и лишившейся глаза, будет для меня невыносимой? Мои отец и мать умерли из-за меня. Да, и он, и она, они оба умерли из-за меня. И Арисба. И Теламон, мой приемный отец. Возможно, что и Симей, и Лизандр. Я убил Ликотею. Я зарезал Панкрата. Есть ли кто, кого я не убил или не предал? И кто не предал меня?
И вот теперь я освобождаю рабов, приношу жертвы богам, занимаюсь благотворительностью, и что же? Толпа теней, вечно толкущихся подле меня, хохочет надо мной своими беззубыми ртами! Интересно, этот муравей тоже считал себя великим грешником? Молился ли он в тот момент, когда моя подошва погрузила его в вечный мрак, пантеону могущественных муравьиных богов, чтобы они простили ему его муравьиные грехи?
Что же я сделал, что мог я сделать такого, что имело бы хоть какое-то значение перед лицом вечности? Какое до всего этого дело тем похабным, буйным, распутным богам, что придуманы нами по своему гнусному образу и подобию? Да кто я такой, кто такой человек, чтобы удостоиться внимания божества, и тем более всех богов сразу? Мы можем устлать трупами всю Землю, воздвигнуть гору из мертвецов, которая поднимется выше самого Олимпа, и все стервятники насытятся до тошноты и перестанут терзать свою добычу; но и тогда Тартар останется лишь символом нашего тщеславия. Насмешкой останутся Асфодельские Поля. И апофеозом тщеславия – Элизиум!
И вот теперь Хрис. Как мне объяснить, хотя бы самому себе, ее появление в моей жизни? Я знаю, какой она была, когда я встретил ее – несчастным, больным, страдающим, потерянным существом. Но что двигало мной, что заставило меня предложить ей эту фальшивую, неискреннюю любовь:
жалость, сострадание или собственная потребность в страданиях? Упоение своей болью?
Он остановился на краю пруда и посмотрел на свое искаженное смутное изображение, нарисованное лунным светом на его темной поверхности.
Он заговорщицки подмигнул ему.
«Мне следовало бы увести Клеотеру у Орхомена, – подумал он. – Добродетель и искупление грехов не принесут моей душе покоя. Нужно наконец познать свою сущность и перестать насиловать свое „я“. Если, конечно, вся эта история с Хрисеей – тоже насилие на собой; если…»
Он повернулся и зашагал обратно к дому.
Следующим утром он менее чем за десять минут уладил дело с Хлодовехией-Кассевелоной-Клеотерой, без единого слова заплатив пирату Алету совершенно непомерную сумму, запрошенную им за свою галльскую рабыню. Но сохранить покой своего дома было задачей куда более сложной. Через четыре дня ему нанесли визит отец и два старших брата Хрисеи.
Они заявились без оружия, намереваясь с помощью угроз извлечь все, что можно, из этого неожиданного, но столь обильного источника, из этого фонтана, бьющего серебром – богатейшего человека во всей Аттике.
Аристон смотрел на них, переводя взгляд с Пандора – тщательно завита седая борода, надушен, все движения подчеркнуто жеманны («Одной Афине с ее несравненной мудростью известно, каким образом подобное существо могло обзавестись детьми», – подумал он) – на Брима, на его большое мускулистое тело, постепенно оплывающее жиром; и, наконец, на Халкодона, несомненно, достойного сына своего отца, вплоть до следов помады на губах, томных жестов, одним словом, полного стирания граней между полами, надругательства над самой жизнью, природой, окончательного разрушения и деградации мужского начала.
Данай, бедный Данай, который сейчас далеко отсюда смотрит в глаза смерти у стен Сиракуз, искренне любит свою сестру. А эти твари, здоровенный боров и два дохлых педераста, пришли, чтобы продать ее. Еще бы! Они уже давно потеряли счет своим долгам, а их запросы безграничны, и вот бедная худенькая некрасивая Хрис, на которую они привыкли смотреть как на вечную обузу, ибо никто из них не надеялся, не имел на то ни желания, ни возможности, когда-либо собрать для нее приданое, которое смогло бы возместить ей недостаток красоты и очарования, теперь вдруг сама предоставила им столь неожиданную добычу! Ну держись, метек, богатая скотина! Они выкачают из тебя все твое золото до последней капли!
Брим вышел вперед, огромный и угрожающий.
– Подобное попрание чести нашей семьи какой-то собакой-метеком, – начал он, но Аристон оборвал его на полуслове.
– Давай не будем зря сотрясать воздух, Брим! И уж тем более тратить время на обсуждение того, о чем ты не имеешь ни малейшего представления. Это Данай мог бы говорить о чести; но его здесь нет, он пересек все Ионическое море, чтобы лишний раз доказать это. Так что приступим прямо к делу. Итак, сколько?
– Метекская собака! – прорычал Брим. Аристон усмехнулся.
– Ты уже второй раз употребляешь это выражение, Брим. Впрочем, в нем нет ничего оскорбительного для меня, особенно когда я слышу его из твоих уст. Ибо собака – животное благородное, во всяком случае куда лучше свиньи. И даже трех свиней, вместе взятых. Так что веди себя потише. Насколько я понимаю, ты говоришь не только за себя, но и за этих двух дрожащих надушенных извращенцев, этих педерастов, минстчиков и средоточие всех отборных мерзостей, ибо в тебе еще осталось хоть что-то мужское. Но у меня нет времени на пустую болтовню. Ты пришел сюда, чтобы продать свою сестру, которую я был бы счастлив назвать своей госпожой и супругой, как простую наложницу, как порну, как товар! Учти, что подобным унижением она обязана вам, а не мне. Ну что ж, называй свою цену, тупая скотина! Сколько?
– Мой дорогой Аристон! – пропищал Пандор.
– Никакой я тебе не дорогой, Пандор. Если бы я был тираном в Афинах, я бы приказал кастрировать таких тварей, как ты, чтобы раз и навсегда обезвредить вас. Правда, боюсь, что в ТвОЕМ случае мне пришлось бы отсечь тебе не только член, но и голову, так как ты и без члена мог бы услаждать свою плоть, не так ли? А теперь довольно глупостей! Я вижу, Брим, что ты все еще надеешься запугать меня. Ну так протяни свою руку. Я не сержусь на тебя, но ты, видимо, не успокоишься до тех пор, пока не поймешь всю тщетность своих угроз. Протяни мне руку!
Брим поднес свою огромную правую руку к его лицу. Аристон с улыбкой поймал его запястье. В следующее мгновение Брим растянулся на полу. Он с ревом вскочил на ноги и бросился на своего противника. Это была его ошибка. С того самого дня, когда Аристон вырвался из бань Поликсена, он каждое утро, и летом, и зимой, проводил в палестре. Он находился в прекрасной форме; а регулярно тренируясь со своим тезкой Аристоном, чемпионом чемпионов, и с Автоликом, многократным победителем Панафинских, Истмий-ских и Олимпийских игр, он в совершенстве постиг искусство панкратеона, смертоносного сочетания кулачного боя и борьбы. Он легко мог убить Брима с помощью специальных ударов, известных лишь посвященным. Но это не входило в его планы; вместо этого он просто сделал шаг в сторону, его левый кулак глубоко погрузился в мягкий жир необъятного брюха Брима; затем, когда тот согнулся пополам, он выпрямил его ударом колена в подбородок и добил уже падающего противника, рубанув сзади по его бычьей шее ребром ладони, твердым, как тупое лезвие топора.
Аристон посмотрел на поверженного врага, распростертого у его ног. Затем он повернулся, чтобы позвонить в колокольчик, и стал дожидаться, с ухмылкой разглядывая Пандора и Халкодона, которые прижимались друг к другу, скуля от страха.
– Мой господин звал меня? – спросил появившийся слуга.
– Окати-ка водой вот это, – презрительно кивнул на Брима Аристон. – Судья уже здесь?
– Да, мой господин.
– Попроси его войти и засвидетельствовать сделку. Нет, погоди, пусть сначала Евризак и Пактол принесут весы. Потом прикажи служанкам помочь госпоже. Ну а судью введи в последнюю очередь, – распорядился Аристон.
Впоследствии слухи об этой необычной сделке разнеслись по всем Афинам; само собой разумеется, что ни сам астуном, ни слуги, присутствовавшие при ней, не стали держать язык за зубами. Итак, двое слуг внесли в зал огромные весы, вроде тех, что использовались в мастерских Аристона для взвешивания металлических слитков, а так-?/-е готовой продукции: мечей, наконечников копий, ножей, нагрудников, наголенников, щитов. За ними вошли еще четверо, сгибаясь под тяжестью огромных мешков. Затем двое слуг внесли на носилках Хрисею. Надутый и важный астуном, или окружной судья, вошел последним и сел на отведенное ему место.
Увидев отца и братьев, Хрисея вздрогнула; страх промелькнул в ее глазах. Халкодон и Пандор злобно смотрели на нее, так, как женщины обычно смотрят на удачливую соперницу – строго говоря, в глубине души они именно так себя и чувствовали; Брим же сидел на скамье, ошалело мотая головой, его мясистое лицо не выражало ничего, кроме тупого изумления, вода капала с его хитона на мраморный пол, и между его сандалиями уже образовалась изрядная лужа.
– Мой господин, – обратился Аристон к судье, – я прошу тебя засвидетельствовать торговую сделку. Эти благородные господа пришли сюда затем, чтобы продать мне свою сестру.
Хрисея громко ахнула.
– При сложившихся обстоятельствах они могли бы потребовать, чтобы я своей кровью искупил то, что они, будучи в неведении относительно некоторых фактов, которые я не намерен кому-либо сообщать, могли бы с определенными основаниями расценить как покушение на честь этой благородной дамы и, соответственно, их семьи. Но они предпочли этого не делать. Как видишь, они пришли без оружия, намереваясь поторговаться, повыгоднее продать то, что нельзя ни продать, ни купить, то, что для меня бесценно; любовь моей госпожи и право обладать ею, – то, что принадлежит ей, и только ей. Что же, да будет так! Но прежде всего я хочу заверить госпожу Хрисею, – продолжал Аристон, – что эта омерзительная сделка не имеет к ней никакого отношения. Я плачу только для того, чтобы навсегда избавиться от этих трех сикофантов; я клянусь, что никогда не унижу ее даже самой мыслью, что ее благосклонность, ее тело, ее любовь могут быть куплены за эти деньги. Если же, восстановив свои силы, она захочет покинуть мой кров, она сможет уйти, когда того пожелает. Печаль моя будет велика, но все это ни к чему ее не обяжет! – Он повернулся к ней и мягко сказал: – Хрис, любовь моя!
– Да, Аристон? – прошептала она.
– У тебя хватит сил встать на весы? Хрисея безмолвно покачала головой.
– Тогда положите ее на них прямо на носилках, – распорядился Аристон. Он повернулся к Пандору и его сыновьям и произнес спокойным размеренным голосом: – Я предлагаю вам столько серебра, сколько весит моя госпожа, за то, что вы никогда не ступите на порог моего дома, никогда больше не предъявите мне никаких претензий, а также за ваше торжественное обещание не чинить препятствий моему браку с госпожой Хрисеей после того, как я найду способ стать гражданином этого полиса. Ну как, согласны?
Они сидели и смотрели на него, не в силах вымолвить ни слова. Аристон кивнул слугам. Они развязали мешки и стали ссыпать серебряные мины на весы. Да, это были не драхмы, а мины, каждая стоимостью в сто драхм. Казалось, что глаза Брима вот-вот выскочат из орбит. А Халкодон вскочил на ноги и затанцевал вокруг Аристона.
– Согласны! – завизжал он, его тоненький голосок дрожал от возбуждения.
– Согласны! Согласны! Согласны!
– Ну а ты, Пандор? – осведомился Аристон. – Подумай, над сколькими беспомощными плачущими мальчиками-рабами сможешь ты надругаться с такими деньгами! А ты, Брим. Да ты сможешь купить все публичные дома Пи-рея, завсегдатаем которых являешься. Ну так что скажете, о благородные господа? Разве ваша честь не стоит этого серебра? Разве таких тварей, как вы, нельзя купить? Достаточно одного вашего слова, и мы подпишем эту бумагу, чтобы вы в дальнейшем от него не отказались – ибо ваше слово, по моему глубокому убеждению, стоит ровно столько же, сколько и ваша честь. Ну что, калокагаты, софруны, променстры – благородные изысканные сводники, – что вы на это скажете?
Хрисея уже рыдала навзрыд.
– Отец! – всхлипывала она. – Брим! Халкодон! Не надо! Не подвергайте меня такому позору! Я умоляю вас! Не надо!
Но они даже не взглянули на ее страдальческое заплаканное лицо; их взор не мог оторваться от этого звенящего, сверкающего серебряного потока, льющегося в чашу весов.
– Согласны, – прошептали они. Затем голоса их зазвучали все громче и громче. – Да, о великие боги! Клянемся Зевсом Громовержцем, мы согласны!
Спустя месяц после той роковой ночи, Хрисея подошла к его кровати. Она присела на ее край и пристально посмотрела на него; ее глаза сверкали, как молнии, на ее неподвижном мертвенно-бледном лице.
– Ты когда-нибудь собираешься использовать то, что купил? – прошептала она. – Этот кусок плоти, из которого, как я слышала, мужчины умеют извлекать для себя наслаждение? Вот я вся перед тобой. Я принадлежу тебе. Ты щедро заплатил за меня. И я не вправе лишать тебя удовольствия, которое ты приобрел за такие деньги. Ну так бери же свою рабыню, свою наложницу. Аристон! Сорви с нее одежду! Растерзай ее плоть! Навались на нее! Торжествуй! Надругайся!
Он печально улыбнулся ей.
– Хрис, – сказал он, – ты ничего не понимаешь.
– Чего я не понимаю?
– Самого главного. Видишь ли, женщину нельзя купить. Даже самую последнюю порну. Те, кто ходят к шлюхам, просто обманывают себя. Жалкое притворство, грубую подделку – вот все, что они получают вместо любви. От тебя мне этого не нужно. Мне не нужно даже наслаждений – я имею в виду для себя одного. Ибо любовь может быть только взаимной, или это не любовь. Я готов ждать – годы, вечность, если понадобится, пока ты не придешь ко мне сама и не принесешь мне в протянутых руках свое сердце. И я увижу нежность в твоих глазах. И тебя охватит желание, перед которым померкнет моя собственная страсть. Да, я хочу, чтобы ты подарила мне свое тело, но вместе с ним я хочу получить и твою душу. И я хочу отдать тебе всего себя – и тело, и душу. Я хочу, чтобы ты никогда не поднималась с нашего ложа, не испытав высшего блаженства, не получив наслаждение гораздо большее, чем мое.
Ее огромные раскосые, как у лани, глаза широко раскрылись от удивления.
– Но это же невозможно! – воскликнула она. – Женщины не могут…
– Много ли ты в этом понимаешь? – перебил ее Аристон. – Может, хочешь попробовать?
Она смотрела на него не отрываясь. Он видел судорожное биение пульса на ее тоненькой шее, у самого горла.
– Да, – выдохнула она, – о боги, да!
Но утром, когда он проснулся, ее не было рядом с ним. Он вскочил с постели, охваченный невыразимым ужасом. Неужели она опять…
В этот момент он услышал ее голос. Он рвался ввысь, как восходящее солнце, наполненный светом, теплом, радостью. Она пела песнь любви, которую хор исполнял в «Антигоне» Софокла:
Эрос, бог всепобеждающий, Бог любви, ты над великими Торжествуешь, а потом, Убаюканный, покоишься На ланитах девы дремлющей, Пролетаешь чрез моря, Входишь в хижину убогую. Ни единый в смертном племени, Ни единый из богов, Смерти чуждых, не спасается, Но страдают и безумствуют Побежденные тобой.
Затем дверь открылась, и она вошла, протягивая ему маленькую чашу.
– Что в ней? – спросил Аристон.
– Немного козьего молока, хлебных крошек – и все мое сердце, – сказала она.
Глава XX
Врач Офион протянул чашу Хрисее. – Выпей-ка это, – мрачно сказал он. – Это поможет тебе уснуть.
Хрисея взяла чашу пальцами, похожими на когти какой-то хищной птицы. Ее голос совершенно охрип от рыданий.
– И так каждый год! – всхлипывала она. – Скажи мне, мой добрый врач, неужели я никогда, никогда не смогу…
–… родить живого ребенка? – закончил за нее Офион. Он бросил взгляд на Аристона, молча стоявшего у окна, и, казалось, внимательно разглядывавшего что-то во дворе. В его позе, во всей его поникшей, согбенной фигуре было нечто такое, что тронуло сердце лекаря. Он решил сказать правду. Но правда ли это? Он хорошо знал, что в его профессии невозможно было утверждать что-либо с полной уверенностью.
– Думаю, что нет, госпожа Хрисея, – медленно произнес он. – До сих пор боги были благосклонны к тебе. Я имею в виду то, что у тебя каждый раз в течение первых трех месяцев случается выкидыш, который, вполне возможно, спасает тебе жизнь. Принимая во внимание твое телосложение, узость твоих чресл и бедер, я нисколько не сомневаюсь, что попытка произвести на свет девятимесячного ребенка окажется для тебя роковой.
Аристон повернулся к врачу.
– Ты знаешь это наверняка, Офион? – спросил он. Офион тяжело вздохнул.
– Если бы ты был просто моим пациентом. Аристон, я бы,не задумываясь сказал «да». Но ты еще и мой друг, и мои чувства к тебе заставляют меня быть полностью правдивым. Я не знаю этого наверняка. В искусстве врачевания никогда ничего нельзя знать наверняка. Если врач утверждает иное, значит, он лжет.
– Значит, значит, – прошептала Хрисея, – у меня все-таки есть надежда сохранить плод, родить живого ребенка и…
– Не все сразу, моя госпожа, – прервал ее врач. – Ну, что касается сохранения плода, то в этом сомневаться не приходится. Все, что для этого нужно, так это при первых признаках беременности лечь в постель и не вставать с нее все девять месяцев; главное – не ходить и не делать резких движений, связанных с физическими усилиями.
– Да благословит тебя Эсхил! – воскликнула Хрисея.
– Подожди. Сказав то, что я сказал, должен добавить, что не советую тебе этого делать. Для женщины столь хрупкой, с неразвитой фигурой, родовые схватки могут стать ужасным испытанием. Боюсь, что ребенок погибнет, прежде чем появится на свет; думаю, что и ты, скорее всего, не сможешь перенести такие роды.
– Но ведь ты только так думаешь, – с надеждой сказала Хрисея. – Ты же не знаешь этого наверняка.
– Да, ты права. Шанс у тебя есть. Крохотный шанс. Но ОЕ столь мал, что разрешить тебе воспользоваться им – значит фактически совершить убийство. Так что я настоятельно рекомендую тебе, моя госпожа, любой ценой избежать беременности. Ты обещаешь мне это?
– Нет, – холодно произнесла Хрисея.
– Почему же?
– Мой брат умер, не оставив наследника. У него не было сына, чтобы совершить погребальный обряд. И теперь я должна родить мальчика, его племянника, который и принесет жертвы богам. Иначе его тень будет вечно бродить меж двух миров, бездомная и неприкаянная.
– Клянусь Аидом, повелителем Тартара! – взорвался Офион. – Я не желаю слушать весь этот вздор, моя госпожа! Аристон, мой бедный друг, выйдем на минуту! Они вышли во внутренний двор.
– Она одержима этой идеей, не так ли? – спросил лекарь.
– Да, – сказал Аристон, – с тех пор как Данай погиб при этом ужасающем разгроме у стен Сиракуз.
– Если он в самом деле погиб, – возразил Офион. – Ты не можешь быть полностью уверен в этом.
– Все пленные уже вернулись. Большинство из них не позднее, чем через семь месяцев после нашего поражения. Я как раз был в пещере Еврипида, когда они пришли, чтобы поблагодарить его.
– Поблагодарить? За что? – спросил врач.
– За свою свободу. В отличие от вас, афинян, сиракузцы знают цену гению. Они освободили каждого, кто знал хотя бы несколько строк, хоть один куплет, хоть что-нибудь из текстов Еврипида, написанных для хора; одним словом, все, что можно было бы запечатлеть на бумаге. Вот почему я уверен, что несчастный Данай погиб. Он знал наизусть тексты из Текубы», «Гипполита», «Андромахи», «Электры», «Медеи». И если уж кого-то освобождать за знание стихов Еврипида, то именно его!
– Ну хорошо, – сказал Офион. – Аристон, у тебя есть наложница? Или какая-нибудь гетера на другом конце Аго-ры? Флейтистка? Хотя бы порна?
– Нет, – сказал Аристон.
– Я бы посоветовал тебе завести какую-нибудь женщину. Разумеется, твоей жене ничего серьезного не угрожает до тех пор, пока ее беременность не зайдет слишком далеко. Какой же я осел, что рассказал ей, как сохранить плод! Но имей в виду, что рожать ей опасно. Очень опасно.
Аристон печально улыбнулся.
– Я не принадлежу к тем сатирам, что не в состоянии сдерживать свои влечения, Офион, – сказал он. – Ну а бедная Хрис – что уж я буду притворяться перед тобой, друг мой, – очень мало меня привлекает в этом смысле. И Кб подумай, что она из тех немногих женщин, обуянных похотью. Она совершенно нормальна, то есть желание в ней нужно возбуждать нежностью и ласками, как и в любой смертной женщине. Правда, теперь, когда ею завладела эта безумная идея…
– Я понимаю. Теперь она стала очень настойчивой – в этом плане?
– именно – так, – вздохнул Аристон.
– Тогда это усложняет дело. Очень усложняет. Женщина, одержимая желанием стать матерью, становится хуже всех Эриний, вместе взятых. Все, что я могу тебе посоветовать, – по по мере возможности избегать ее. Если уж тебе некуда деваться, принимай все обычные меры предосторожности. Ну а на случай, если ей все же удастся забеременеть, я дам тебе снадобье, которое ты подмешаешь ей в вино, и у нее вновь случится выкидыш. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы она достигла поздней стадии беременности. Ты понял меня?
– Да, – сказал Аристон, – я тебя понял.
– Ну тогда удачи тебе, старина, – сказал Офион и распрощался.
Когда врач ушел. Аристон вернулся в спальню Хрисеи. Она мирно спала под воздействием снотворного, которое дал ей Офион. Вздохнув с облегчением, он взял свою трость и вышел на улицу.
У него не было какой-либо определенной цели. На самом деле ему просто хотелось вырваться хоть ненадолго из той мрачной похоронной атмосферы, что воцарилась в его доме с тех пор, как Данай не вернулся из этой злосчастной сицилийской экспедиции, закончившейся полным разгромом – разгромом, который, безо всякого сомнения, стал результатом безумного решения отстранить блистательного Алкиви-ада от командования, после чего ему пришлось бежать в Спарту, чтобы избежать казни за святотатство, к которому он не имел ни малейшего отношения, – и все из-за этой дурацкой истории с осквернением герм. В сущности, от этой всеобъемлющей печали он нигде не мог укрыться, но все же сейчас Аристону было просто необходимо отвлечься – и от нее, и от постоянного чувства усталости, тяжким грузом лежавшей у него на плечах.
Прошло уже почти пять лет с того рокового дня, когда Данай пал – если он в самом деле пал – у стен Сиракуз. Пять лет, как Данай бесследно исчез в самый разгар битвы.
Еще пять лет жестокой братоубийственной войны между эллинами, которая вспыхнула, когда ему, Аристону, было двенадцать лет, и которая теперь, двадцать один год спустя, все еще продолжалась с неослабевающей силой. Собственно говоря, одного этого было вполне достаточно, чтобы утомиться душой и телом: снова и снова, когда ему не удавалось откупиться от военной службы – а зачастую, движимый каким-то смутным, но вполне объяснимым при его нынешней жизни стремлением свести с ней счеты, он даже и не пытался этого сделать, – он облачал свое совершенное мускулистое тело в доспехи гоплита и отправлялся туда, где царил тупой зловонный опустошающий душу кошмар человекоубийства.
Но дело было не только в этом. Больше всего его угнетало то, что идеалы, которые он защищал, вдруг стали рушиться у него на глазах. Ибо Афины, истощенные войной, все дальше отходили от своих высоких принципов; и враги свободы и демократии все чаще поднимали голову в самом полисе. Дело дошло до того, что Колыбель Свободы на несколько месяцев оказалась под пятой режима олигархов, получившего название Тирании Четырехсот. Кто бы мог подумать, что гордые афиняне могут пасть столь низко! Аристон содрогнулся при одном воспоминании о вакханалии насилия, мошенничества, политических убийств, охватившей Афины, которой могла бы позавидовать любая персидская сатрапия.
К счастью, на сей раз нежданное спасение пришло от находившегося в ссылке Алкивиада и стойких демократов флота. На Самосе рядовые матросы восстали против верного олигархам командования флота, избрали своими руководителями способных военачальников Фрасибула и Фрасила, призвали из ссылки Алкивиада, сделали его стратегом-ав-тократором и стали готовиться к походу на Афины, чтобы навести там порядок.
В это время наиболее умеренный среди олигархов, Ферамен, которого местные острословы уже давно прозвали «Котурном» за ту быстроту, с которой он умел перебегать из одного лагеря в другой для спасения собственной шкуры – смысл шутки состоял в том, что афинский сапог мог надеваться на любую ногу, – выступил против своих быв– ших союзников кз Тирании Четырехсот, сверг их и восстановил ограниченную демократию, предоставив, таким образом, флоту возможность заниматься своим прямым делом, то есть борьбой со Спартой.
Флот весьма энергично взялся за дело, одержав победы у Киноссемы и Абидоса. И наконец этой весной в решающем сражении, в котором Аристон непосредственно принял участие в составе сухопутного войска, Алкивиад еще раз доказал свой несравненный полководческий гений, полностью уничтожив лакедемонский флот у Кизика.
И вот теперь Аристон, стоя на Акрополе, наблюдал за рабочими, которые устанавливали изящные женские статуи, предназначенные для того, чтобы поддерживать крышу только что построенного Эрехтейона вместо обычных колонн. Они назывались кариатидами и придавали новому зданию какую-то необычную и запоминающуюся прелесть. Идея этого строительства принадлежала Клеофону, изготовителю лир, недавно выдвинувшемуся демагогу, так же как и идея создания нового храма Афины, который воздвигался слева от Парфенона. Клеофон хотел таким способом обеспечить работой многих безработных фетов, чтобы они могли заработать что-то сверх того ежедневного пособия в два обола, что выдавалось тем из них, чей уровень жизни резко понизился из-за непрекращающейся войны.
« Что бы там ни говорили о демагогах, они намного предпочтительнее олигархов», – подумал Аристон и повернул обратно, вниз по склону горы к городским кварталам.
Но когда он направился домой, погруженный в невеселые мысли об экспедиции, предпринятой Алкивиадом для захвата Византии, о том, что Афины все еще находятся в серьезной опасности, что Клеофон сделал большую глупость, не согласившись на мир со Спартой после сражения у Кизика, он вдруг заметил Феорис, шедшую ему навстречу.
Он остановился, чтобы получше рассмотреть ее; пополневшая, утратившая девичью порывистость, Феорис, глаза которой излучали тот мягкий, спокойный свет, что свидетельствует о большой и чистой любви, была просто восхитительна. Вопреки всем досужим домыслам, он не дарил ее Софоклу; но если бы это было правдой, он вполне мог бы гордиться таким подарком.
. – Аристон, – мягко сказала она голосом, который, лишившись былой резкости, звучал теперь как самая совершенная музыка, – я разыскиваю тебя вот уже несколько недель!
– Я очень рад, – ответил он. – А я думал, что ты ненавидишь меня, Феорис.
– Не говори глупостей. Аристон. Я бы никогда не смогла возненавидеть тебя. Я просто перестала нуждаться в тебе; но если в чем-то мои чувства к тебе изменились, то в их основе все равно осталась любовь. Пусть это теперь любовь сестры, но все же именно любовь.
Аристон улыбнулся. Как красиво она говорила, какой безукоризненной, какой мелодичной стала ее речь!
– Зачем же ты искала меня, Фео? – спросил он.
– Из-за Клеотеры, – просто ответила она. Аристон нахмурился.
– Что-нибудь случилось? Неужели Орхомен…
–… стал истязать ее, как несчастную Таргелию? Нет. Он пытается причинить ей страдания, душевные страдания, выставляя перед ней напоказ всех своих потаскух и педерастов; но, благодаря твоему хитроумному замыслу, он не осмеливается тронуть ее хотя бы пальцем. Да и душевных мук он причинить ей не в силах, ибо лишь одно на свете может заставить и заставляет ее страдать.
– И что же это? – сухо осведомился Аристон; внутри у него все напряглось.
– Твое отсутствие. То, что ты больше не навещаешь ее…
– Фео, – простонал Аристон.
– Я все понимаю. Ты не смеешь. Все эти твои представления о чести! Но я служу Афродите, а не Артемиде. И я хочу сказать тебе: то, что ты делаешь, – бесчеловечно. Богине следовало бы бросить тебя под копыта лошадей, как она это проделала с Гипполитом за его прегрешения против нее. Ибо твои грехи тяжелее. Гипполит всего-навсего отстаивал свой аскетизм и свою непорочность, а ты живешь в беззаконном союзе с женщиной, которую даже не любишь, и при этом оставляешь бедную Клео в лапах грубого животного, к которому она испытывает только отвращение. Я видела сон и решила разыскать тебя, ибо сон этот о тебе.
Мне приснилось, что ты отправился в Дельфы, а я, невидимая, под покровительством Афродиты последовала за тобой…
– И что дальше? – спросил Аристон.
– Ты спросил жрицу, будешь ли ты когда-нибудь счастлив. И она ответила: «Да. Когда ты научишься смеяться смехом богов!»
– Ну и что же, о моя драгоценная Сивилла, это должно означать?
– Только то, что ты обретешь свое счастье, когда научишься столь же пренебрежительно относиться к условностям и предрассудкам людей, как это делают боги. Вы с Клеотерой созданы друг для друга!. Вы оба столь прекрасны…
– Ради всех богов, Феорис!
– Почему бы тебе прямо сейчас не пойти со мной и не повидаться с ней? Уделить ей каких-нибудь десять – да нет, пять минут, этого хватит, чтобы вернуть блеск ее глазам и румянец на ее щеки.
– Фео, ты говоришь чепуху. Клеотера всегда была добра ко мне. Но ни разу ни словом, ни жестом она не…
– Она порядочная женщина. Аристон! Чего ты от нее хочешь – чтобы она сорвала с себя пеплос и бросилась нагой в твои объятия, сгорая от страсти?
Аристон плотоядно ухмыльнулся.
– Вот это было бы именно то, что философы называют истинно прекрасным. Почему бы тебе не подсказать ей эту идею? – предложил он.
– Вот в этом вы все! Она дала бы мне пощечину за такое предложение. Кстати, тебе тоже, если бы ты стал открыто к ней приставать. Все дело в том, что в этом нет никакой надобности. Все, что от тебя требуется, – это быть нежным и ласковым с нею, пока в один прекрасный день она уже не сможет бороться с собой и сама не бросится, рыдая, в твои объятия.
– Значит, именно так ты и советуешь мне поступить? – спокойно сказал Аристон. – Потихоньку склонить ее к супружеской измене, предать?
Феорис взглянула ему в глаза, и он осекся.
– Ты предаешь ее сейчас, когда лишаешь ее права любить. Ты предаешь самого себя, когда лишаешь себя права быть счастливым и обрести покой. И ты к тому же еще и оскорбляешь Афродиту, а она беспощадна в своем гневе. Итак, делай то, что я тебе говорю! Идем!
Когда он вошел вместе с Феорис, Клеотера очень медленно поднялась на ноги. Ей уже было почти девятнадцать, и любые слова, которыми он мог бы описать ее, даже в своих мыслях, все равно оказались бы недостаточными, а значит, ложью. Ее фигура ни разу не была испорчена родами. Возможно, вдруг пришло в голову Аристону, потому, что Орхо-мен из-за своих излишеств утратил способность к продолжению рода. Ну а назвать формы и линии ее тела, скрытые под мягкой тканью одежды, ниспадающей до щиколоток, идеальными, значило бы придать этому слову совершенно новое качество и значение.
Ее огромные голубые глаза распахнулись, как утреннее небо, и все небесные светила вспыхнули в них разом и утонули в их бездонной синеве. Он ощутил на своем лице ее взгляд, который буквально ощупывал его, как пальцы слепого.
– Мой господин Аристон, – прошептала она, – я…
И она робко протянула ему руку.
Он нежно взял ее и поднес к своим губам. Он почувствовал, как она затрепетала при его прикосновении, как дрожь пробежала по всей ее руке до самого плеча. Он отпустил ее и с улыбкой посмотрел ей в глаза.
– Что, Клео? – сказал он.
– Мой господин, я… я… – Она пыталась совладать со своим голосом и тут только заметила Феорис, стоявшую у него за спиной. – А, Феорис! – Она звонко рассмеялась, и в ее смехе прозвучало огромное облегчение. – Я так рада, что ты пришла!
От ее былого причудливого колониального акцента не осталось и следа. Ее аттическое произношение было столь же чистым и напевным, как и у самой Феорис.
– Значит, моему приходу ты не рада? – осведомился Аристон с насмешливым упреком в голосе.
– Ну конечно я рада, мой господин! – воскликнула Клеотера. – Я имела в виду, что я очень рада, что Феорис пришла вместе с тобой. Ой! Я опять что-то не то говорю! Я не хотела сказать…
– Что именно ты не хотела сказать, дитя мое? – спросил Аристон.
– Ой, я сама не знаю, что я хочу сказать! – простонала Клеотера. – Прошу вас, присаживайтесь! Я сейчас принесу вам рисовый пирог и немного вина. Я сама его испекла. Я…
– В таком случае для меня он будет восхитительнее божественного нектара, – произнес Аристон своим серьезным звучным голосом.
– Прошу тебя, мой господин, не говори мне таких слов! – сказала Клео и скрылась за занавеской.
– Я помогу тебе, – крикнула ей вослед Феорис и отдернула занавеску. Однако она осталась стоять в проходе, держа занавеску так, чтобы Аристон мог видеть все происходящее на кухне.
Клеотера стояла к нему спиной в позе дельфийской жрицы, вдыхающей дым синего пламени, который позволял ее душе общаться с богами. Она пристально разглядывала тыльную сторону собственной ладони, то место, куда Аристон поцеловал ее. Затем медленно, словно в тумане, с невыразимой нежностью она поднесла его к своим губам.
Феорис опустила занавеску и одарила его торжес! вую-щей улыбкой.
– Ты не возражаешь, если я покину тебя, Клео? – громко сказала она. – У меня там ребенок один, и…
– Ой, Феорис, не уходи, прошу тебя! – Клеотера была готова расплакаться. – Я…
– …не хочу оставаться наедине с этим грязным старым сатиром, – подхватил Аристон, – с этим отродьем Пана, который наверняка…
Она отдернула занавеску и вошла в комнату.
– Дело вовсе не в тебе, мой господин. Это все Орхомен. Ему может не понравиться, если…
– …он узнает об этом, что совершенно исключено, – заверила ее Феорис.
– Клео, дорогая, мне в самом деле нужно идти. И к тому же, поверь мне, я знаю Аристона не первый год. Он изобрел для себя особый способ самоконтроля, и его добродетель столь непоколебима, что это может вывезти из себя кого угодно. Так что разреши ему остаться и немного поболтать с тобой. Это пойдет на пользу вам обоим. Прощайте же, о прекраснейшие!
Когда она ушла, Аристон долго ел пирог и пил вино. Но разговор между ними не клеился. Слова вдруг стали тяжелыми, как каменные глыбы; они с трудом срывались с их губ и тут же проваливались в бездонные глубины молчания.
Это становилось невыносимым. Аристон поднялся на ноги.
– Ну что ж, до свидания, Клео, – сказал он.
– Ты уже уходишь? Так быстро? – жалобно проговорила она.
Аристон улыбнулся.
– Мне кажется, что мое общество не доставляет тебе удовольствия, – сказал он.
– О нет! Я просто…
– Ты просто нервничаешь, потому что боишься меня, и…
Она покачала головой с какой-то отчаянной решимостью.
– Я не тебя боюсь, мой господин, – прошептала она.
– А кого? Орхомена? – спросил Аристон.
– И не его. – Ее голос был тише самого легкого вздоха.
– Тогда кого же? – спросил Аристон.
– Себя, – выдохнула она и, резко повернувшись, ринулась к спасительной занавеске.
Но какими бы стремительными ни были ее движения, он был еще быстрее. Он поймал ее за плечи и очень нежно и плавно развернул к себе. Он молча стоял и смотрел ей в лицо, не разжимая своих объятий. Теперь она была белее полотна, вся кровь отхлынула от ее щек. Она разжала губы – он ждал гневного протеста,
– но все, что они произнесли, было лишь его имя, прозвучавшее в ее устах как звон серебряных колокольчиков, покачиваемых легким ветерком.
– О Аристон, Аристон!
Тогда он наклонился и нашел ее губы; он поцеловал их без страстного желания, но с такой мучительной, раздирающей душу нежностью, что он испытал почти физическую боль; он упивался ее мягкими, теплыми, солеными от слез губами, похожими на лепестки какого-то заморского цветка, бесконечно хрупкими, невыразимо дорогими.
Затем он разжал руки и отпустил ее. Но она даже не пошевелилась. Она все так же неподвижно стояла, касаясь его губ своими губами, и прикосновение это было столь легким и невесомым, что, казалось, его и вовсе не было. Время для них остановилось, оно замерло вместе с их дыханием, и это продолжалось до тех пор, пока он не дотронулся до ее плеча и не вернул обратно в этот жестокий мир, полный боли и страданий.
Она стояла и смотрела на него, и огромные слезы расплавленным серебром жгли ей глаза, сверкая на ее золотистых ресницах.
– Клео, – простонал он.
– О Аристон, – прошептала она. – О господин мои, жизнь моя, я так люблю тебя!
Если бы кто-нибудь в Афинах узнал об их тайной любви, он бы никогда не поверил, что они избегают плотских утех. Даже Феорис, которая не только знала, но и активно содействовала их свиданиям, не могла в это поверить. И тем не менее Артемида и Гестия свидетельницы, что любовь их была, в сущности, столь же невинной, как и детские игры.
Возможно, дело в том, что здесь, в Афинах, где можно было безо всякого труда, в любое время дня и ночи, удовлетворить любое, самое извращенное желание, единственно ценным, что он мог бы ей предложить, единственно достойным ее оставалось только воздержание. А возможно, что, впервые познав любовь после смерти несчастной Фрины, он невольно обожествлял ее, превращал в некий культ, в котором Клеотере отводилась роль верховной богини. Ну, а она, чей опыт физической любви сводился к периодическим надругательствам Орхомена, который брал ее без каких-либо вступлений, зачастую не удостаивая даже поцелуя, не считаясь с ее желаниями, так что вся процедура ассоциировалась у нее с грубым насилием, причем не только над ее израненным, всегда неподготовленным и оттого еще более страдающим телом, но и над всем, что было в ней утонченного, изящного, прекрасного, над самим ее представлением о себе, ее сущностью, индивидуальностью, над ее душой, – она радовалась сдержанности Аристона и поначалу даже поощряла ее.
Но со временем, будучи, в конце концов, влюбленной женщиной, познавшей впервые в жизни мужскую нежность и ласку, она постепенно стала ощущать себя существом из плоти и крови, причем жаркой плоти и кипящей крови, да к тому же и из нервов, которые могут всю ночь звенеть, как туго натянутые струны, не давая ни минуты покоя.
Очень скоро он обнаружил, что она может чисто по-детски выходить из себя, плакать без каких-либо видимых причин, но его любовь к ней делала даже эти, казалось, не слишком приятные черты ее характера очаровательными и милыми в его глазах.
Все это продолжалось до той ночи, когда, охваченная потребностью заставить его страдать так же, как страдала сама, тем более что даже она не могла понять причину своей депрессии – настолько общение с Орхоменом разделило в ее сознании любовь и физическое влечение, – она встретила его с опущенными глазами и сердито надутыми губками и впервые за все время их знакомства холодно, преднамеренно солгала ему.
– Я беременна, – заявила она и с жестоким удовлетворением отметила, как побелели его губы.
– От него? – пробормотал он.
– От кого же еще? – равнодушно пожала она плечами. Он повернулся и вышел прочь. Она побежала за ним, рыдая, повторяя его имя, но он даже не обернулся. Он уходил с гордо поднятой головой, прямой и непреклонный, все дальше и дальше от ее стонов и причитаний. И в ту ночь, в первый раз за много-много лет, он напился, как священная сова Афины. Он потерял всякое ощущение времени; впоследствии он никак не мог вспомнить, где же он был.
Не помнил он и как вернулся домой. Однако проснулся он в собственной постели, пребывая в непоколебимой уверенности в том, что если он попытается приподнять голову, то она тут же отвалится и покатится по полу. Он долго лежал неподвижно, пока наконец ценой невероятных усилий ему не удалось разогнать туман, застилавший ему глаза, и тогда он увидел Хрисею, которая лежала рядом с ним, улыбаясь так, будто только что одержала величайшую победу.
– Послушай, как называется то вино, которое ты пил вчера вечером? – промурлыкала она.
– Понятия не имею, – простонал он. – А что?
– А то, что я куплю целую бочку этого вина! О Аристон, Аристон! О моя любовь, этой ночью…
– Что этой ночью? – пробурчал он.
– Ты любил меня, как… как бог! Как Дионис! Или Аполлон! Или сам Эрос! О мой драгоценный повелитель…
Он отвернулся и долго, с наслаждением блевал на пол спальни.
Глава XXI
На этот раз, убедившись, что зачатие состоялось, Хрисея не вставала с постели. Охваченный паникой, Аристон в полном отчаянии бросился к Офиону за обещанным снадобьем, которое должно было избавить ее от бремени, по мнению врача, смертельно опасного для нее. Четыре месяца, день за днем, он подмешивал его ей в вино.
И никакого эффекта. Снадобье не действовало. Хрисея лежала пополневшая, разрумянившаяся, довольная и даже похорошевшая, излучая мягкий, теплый свет материнства, в то время как Аристон метался из угла в угол, не находя себе места. Он позабыл о своих мастерских, о войне, в общем, был близок к полной потере рассудка. И так продолжалось до того дня, когда… в его доме появилась Клеотера.
Она возникла на пороге с распущенными волосами цвета холодного зимнего солнца; один ее глаз, украшенный огромным синяком, совершенно заплыл, в другом отражались все ужасы Тартара; ее губы распухли, засохшая струйка крови пересекала ее подбородок; огромные багровые отметины от хлыста опоясывали ее обнаженные плечи. Она стояла перед ним, дрожа всем телом, и смотрела на него, и в ее взгляде было нечто такое, во что он не мог поверить, с чем он не мог примириться: нечто невыносимое, одновременно и терзав– шее, и лечившее его душу, и он, так и не найдя слов, способных выразить все то, что он сейчас чувствовал, просто раскрыл ей свои объятия.
И тогда, ни секунды не колеблясь, вприпрыжку, как испуганный ребенок, Клеотера вся в слезах бросилась ему на шею.
Он крепко прижал ее к себе и долго стоял, содрогаясь от дикой ярости, охватившей его, вдыхая горячий животный запах крови, исходивший от ее одежды, которая прилипла к многочисленным ранам, оставленным безжалостной плетью Орхомена, а она, уткнувшись в его хитон, орошала его слезами.
– Клео, – простонал он, Она подняла свое покрытое ссадинами лицо, и все, что он собирался сказать, напрочь вылетело у него из головы. Он уже ничего не видел; его взгляд, его дыхание, его жизнь – все замерло в глубоком оцепенении, и она, увидев, распознав это, сжалилась над ним и прекратила его мучения.
Она приподнялась на цыпочки и прижалась губами к его губам; и кровь, как стая голодных львов, огромными прыжками помчалась по его жилам, возвращая ему жизнь, чувства, силу и – как ни странно – даже волю.
– Клео, – произнес он, – что же…
– …нам теперь делать? – подхватила она. Она произнесла «нам» просто и естественно, как нечто само собой разумеющееся. Неразрывные узы, связавшие их, воспринимались ею как данность. И никакие слова не могли ни освятить, ни осквернить их.
Но его измученная душа, одержимая тем, что Сократ как-то назвал страстью к самоистязанию, не могла воспринять все это так просто. Он не мог оставить в покое то, что уже было хорошо само по себе. Ему обязательно нужно было начать копаться в себе, обрушить на ее беззащитную голову град унылых вопросов и очень логичных возражений, пока она наконец не прервала его:
– Может, ты все-таки замолчишь и продолжишь меня целовать? Мне это гораздо нужнее всех твоих разговоров!
– Но Клео! – простонал он. – Ведь ребенок, твой ребенок…
– Моего ребенка никогда не существовало, – ехидно сказала она. – Я солгала тебе, Аристон, мой повелитель! Я хотела причинить тебе боль, потому что…
– Почему? – спросил Аристон.
– Да я сама не знаю почему! Нет, опять вру! Теперь-то я знаю. Только сказать тебе не могу…
– Почему? – опять спросил он.
– Потому что мне стыдно. Ну поцелуй же меня! Ну пожалуйста! Прошу тебя!
Он наклонился к ее губам. Он целовал ее так, как никогда не делал этого прежде. Как женщину, а не хрупкую куклу. Затем он почувствовал, что она отталкивает его. Он тут же отпустил ее.
– Хватит, – сказала она прерывистым, задыхающимся голосом. – Я бы даже сказала, что это чересчур. Я не за этим сюда пришла, хотя Афродита свидетель, что мне необходима твоя ласка. Я пришла к тебе за помощью, мой господин, ибо ты единственный из всех, кого я знаю, кто был по-настоящему добр ко мне. Я очень сожалею, что солгала тебе тогда. Хотя, клянусь Афродитой и Эросом, я достаточно наказана за это. Я имею в виду тем, что ты перестал приходить ко мне. Уверяю тебя, о мой повелитель, это была пытка, которой могли бы позавидовать даже демоны, ибо каждый день, что я не видела тебя, какая-то маленькая частица меня умирала.
– Клео! – прошептал он.
– Клео! – передразнила она его. – Как ты красноречив, любовь моя! Какие дивные слова льются из твоих уст! Но сейчас я не могу даже пококетничать с тобой. Мне слишком больно. Орхомен, он…
– Это мерзкое чудовище! Она покачала головой.
– Нет, Аристон, – сказала она. – Он не чудовище, и ты это знаешь. Он неплохой человек, даже добрый, хотя и грубоват, и когда демоны не вселяются в него…
– …что случается слишком часто!
– Да. Теперь слишком часто. И я не могу больше этого выносить, хотя во всем виновата сама.
Аристон удивленно посмотрел на нее. Высокая, с царственной осанкой, в свои девятнадцать лет она уже выглядела совсем взрослой. Он и не подозревал, что ее дикие галльские соплеменники сочли бы ее просто недомерком и уж во всяком случае слишком хрупкой, чтобы быть, по их понятиям, красивой, так как среди галлов женщины ростом и силой частенько превосходили мужчин.
– В чем же ты виновата, Клео? – спросил он.
– Он застал меня, когда я писала твое имя на куске пергамента. Только твое имя – ничего более. Видишь ли, Феорис научила меня писать. И первое слово, которое я выучила, было твое имя. Я могла часами сидеть и смотреть на него. Даже буквы его казались мне прекрасными. Альфа, ро, йота, сигма, тау, омега, ню – Аристон. «Лучший». Прекрасное имя прекрасного человека. Имя моей любви.
– Перестань, Клео!
– Я знаю, что не должна этого говорить, но ты меня не остановишь. – Неожиданно она рассмеялась. «Смех вышел не очень-то веселым», – подумал он.
– Как видишь, я тоже умею красиво говорить, по крайней мере с тобой, не будучи лаконичным лаконцем. Кстати, Феорис сказала мне, что слово «лаконичный» происходит именно отсюда, ибо все вы, лакедемоняне, неразговорчивы и ужасно застенчивы. Это правда?
– Правда, – сказал Аристон. – Для большинства спартанцев легче умереть, чем произнести длинную речь.
– Ну так не говори ничего. Просто поцелуй меня. Затем внезапно, безо всякого перехода, вся ее боль прорвалась наружу.
– О, Аристон, что же нам делать? – рыдала она.
– Прежде всего избавить тебя от него, – мрачно сказал Аристон. – Ты можешь идти?
– Сюда же я дошла. Точнее, даже не дошла, а добежала. А что?
– А то, что мы сейчас пойдем к окружному судье, – заявил Аристон.
– Ну и что это даст? – угрюмо спросила Клеотера. – По закону, муж имеет полное право бить свою жену, если, по его мнению, она это заслужила. Ну а если я приду к судье вместе с тобой – это будет само по себе лучшим доказательством того, что я это заслужила. Если, конечно, тут вообще нужны какие-либо доказательства. На самом деле здесь и доказывать нечего. Конечно заслужила.
– Не говори глупостей, Клео! – сказал Аристон. – Тебе достаточно предъявить бумагу, которую я заставил его подписать, и…
Она удивленно воззрилась на него.
– Какую бумагу, мой господин? – спросила она. Аристон улыбнулся.
– Я это тоже предвидел. Я имею в виду то, что он не даст ее тебе. На этот случай я передал вторую копию судье, а еще одну оставил себе. Ну идем же!
Но она не двинулась с места. Он остановился, пристально посмотрел на нее и добавил, немного запнувшись:
– Если, конечно, ты хочешь избавиться от Орхомена. Ты хочешь этого, Клеотера?
Она подняла голову и взглянула на него. Ее голубые глаза прояснились.
– Да, – сказала она. – Я хочу этого больше всего на свете. Кроме одного…
Он стоял и смотрел на нее. У него вновь перехватило дыхание, сердце перестало биться.
– И что же это? – прошептал он.
– Принадлежать тебе. Быть твоей, – просто сказала Клеотера.
– Г-м-м-м, – промычал астуном. – Ну а в чем же ты провинилась, женщина, за что твой муж так избил тебя? Шлялась по улицам? Завела любовников? К примеру, вот этого господина?
Клеотера вновь натянула пеплос на свои исполосованные плетью плечи.
– Аристон! – жалобно простонала она.
– Ничего подобного, – заявил Аристон, стараясь сдержать свой гнев. – Ее муж много пьет. А напившись, он…
– Очень правдоподобная история! – фыркнул судья. – Это белокурое дитя так прелестно, что любой мужчина захотел бы…
Аристон молча подал ему свиток пергамента, который он заставил Орхомена подписать в присутствии прежнего астунома, к несчастью, уже покинувшего этот пост, где полусумасшедший спартанец клялся Афиной никогда не бить свою жену и не причинять ей какого-либо вреда.
– Ну, что ты теперь скажешь? – осведомился Аристон. Астуном внимательно прочел бумагу.
– Уж не знаю, что и сказать, – заявил он. – Просто не представляю, с чего бы это человек в здравом уме стал подписывать нечто подобное.
– Может быть, все дело в том, что он не в здравом уме, – спокойно сказал Аристон. – Послушай, о достойный судья, я знаю Орхомена почти всю свою жизнь. И когда он сообщил мне, что собирается жениться – уже во второй раз, – и попросил у меня денег, чтобы выкупить эту девушку из рабства, я заставил его подписать эту бумагу именно потому, что хорошо его знаю. Более того, по моему настоянию он подписал ее до того, как я увидел его избранницу, чтобы не возникало никаких сомнений в моей личной незаинтересованности.
– Что касается сомнений, – проворчал астуном, – то мне вообще непонятно, зачем тебе понадобилась эта бумага!
– Он однажды уже был женат. Его первая жена умерла. Во многом из-за его пьяных зверств. Я мог бы представить двадцать свидетелей того, что не проходило и недели, чтобы он не избивал ее до полусмерти, не жег каленым железом, не резал ножом. Ну а твой почтенный собрат, астуном Фило-кот, твой предшественник на этом посту, охотно подтвердит, что Орхомен подписывал бумагу по собственной воле, без какого-либо принуждения. Ну, что скажешь, уважаемый?
– Я передам это дело в коллегию архонтов, – медленно произнес судья. – Она будет заседать через две недели. Собери всех своих свидетелей, и тогда…
– Ах, Аристон! – Клеотера с трудом сдерживала слезы. – Две недели! Куда я пойду? Что мне делать? Я не могу вернуться домой! Он, он убьет меня!
Аристон задумался. Конечно, он без труда мог бы снять для Клео небольшой дом, снабдить ее слугами, едой, одеждой, даже приставить к ней вооруженную охрану на случай, если Орхомену вздумалось бы попытаться силой увести ее к себе.
Но он слишком хорошо знал психологию афинян. Поступив так, он только осложнил бы свое положение и почти наверняка проиграл бы дело. Ибо составители речей, нанятые Орхоменом – в Афинах профессия югиста сводилась к изучению существующих законов и к составлению на их основе текстов выступлений для спорящих сторон, которые те должны были выучивать наизусть и сами произносить перед дикастерией; отсюда и соответствующее название этого рода занятий, – не преминули бы воспользоваться такой возможностью и привлечь внимание судей к возникшей ситуации: богач крадет у бедного человека жену, помещает ее в уютный домик со слугами и охраной. «И вот я спрашиваю вас, калокагаты…»
И в то же время он не мог отправить ее обратно к Орхомену. Это было просто немыслимо. И вдруг его осенило. Он возьмет ее к себе. К себе домой. В конце концов у Хрисеи, при всем ее неистовом характере, было доброе и нежное сердце. Он расскажет ей всю правду – ну если и не всю, то, по крайней мере, ту ее часть, которая не причинит ей боли, – продемонстрирует ей исполосованную спину бедной Клео. Лучшего плана невозможно было придумать. Хрисее и в голову не придет, что он может привести в дом любовницу; да и дикасты, которые были женатыми людьми, никогда не поверят, что какой-либо афинянин осмелится на такое, если учесть, что подавляющее большинство афинских жен в этом смысле как две капли воды походили на Ксантиппу. Сама дерзость такого поступка придаст ему невиновности и обеспечит выигрыш дела против Орхомена. И он оказался прав. Во всем, кроме одного. Когда он привел Клеотеру обратно к себе домой, служанки с плохо скрываемым злорадством уже сообщили своей беременной госпоже, что их господин внезапно отбыл с какой-то очаровательной девушкой, рассчитавшись таким образом с Хрисеей за ежедневные оскорбления и побои, которыми она щедро награждала их. И как только они пере– ступили порог, она – опять-таки загодя поставленная в известность об их приходе одной из мстительных служанок и позабыв в расстроенных чувствах все советы Офиона, – встала с постели и с трудом переместила свое раздавшееся тело в прихожую.
– Хрис! – воскликнул Аристон. – Тебе не нужно было вставать! Ведь Офион сказал тебе…
Хрисея приняла горделивую позу. Однако пытаясь держаться сдостоинством, она не смогла избежать банальности, ибо все уничтожающие реплики, которые она репетировала последние полчаса, разом вылетели у нее из головы. Вместо этого она произнесла те самые донельзя затасканные слова, которые в аналогичных ситуациях произносились почти всеми женщинами, когда-либо посещавшими этот мир:
– Аристон, может быть, ты объяснишь мне, кто эта женщина?
Аристон улыбнулся.
– Это жена Орхомена, – спокойно сказал он. – Видишь ли, ее появление в нашем доме вызвано весьма печальными обстоятельствами. В сущности, ей пришлось спасать свою жизнь. Покажи ей свою спину, Клео.
В этот момент он увидел лицо Клеотеры. Она смотрела на округлившийся живот Хрисеи. Затем она перевела взгляд своих огромных голубых глаз на его лицо. Она не произнесла ни слова. Она просто стояла и смотрела на него, и ее глаза заволакивались слепящей жгучей пеленой, скрывая сквозившее в них отчаяние за этим сапфирным блеском, этим неудержимым прозрачным потоком, этим водопадом безнадежности и тоски… Затем она очень медленно повернулась, стянула пеплос со своих плеч и дала ему соскользнуть к своей тонкой талии.
– Ох! – потрясение выдохнула Хрисея. – Да поможет нам Гера! Какое же он чудовище! Грязная бессердечная свинья!
Клеотера стояла неподвижно, повернувшись своей обнаженной спиной к Хрисее. Голова ее упала на грудь, и огромные слезы одна за другой непрерывной чередой скатывались по щекам. Но слезы эти были вызваны отнюдь не болью от засыхающих рубцов. Эта боль теперь ничего не значила.
Хрисея увидела, что ее плечи содрогаются от рыданий. Она тяжело шагнула вперед, остановилась, не отрывая взора от этой живой статуи Ниобы, орошающей весь мир своими горькими слезами. И вопрос, которого с трепетом ждал Аристон – ибо, как и у всех людей, не привыкших лгать, у него это очень плохо получалось, – замер у нее на губах и бесследно утонул в нахлынувшей на нее жалости. Она не спросила: «Это из-за тебя он так избил ее, Аристон?» Вместо этого, в неожиданном порыве, она обняла Клеотеру и расцеловала ее в обе щеки.
– Бедное, бедное дитя! – прошептала она, и слезы хлынули теперь уже из ее теплых карих глаз. И так, обнявшись, они обе стояли и плакали.
Через три дня Орхомен появился у дома Аристона, вооруженный до зубов и ревущий, как взбесившийся буйвол. Разумеется, он был вдребезги пьян. Он требовал, чтобы Аристон вышел к нему, оповещая всю округу своей мощной глоткой о своих намерениях разорвать на куски соблазнителя своей жены.
Аристон подождал, пока его вопли соберут изрядную толпу. Затем он, безоружный, вышел из дому.
– Иди домой, Орхомен, – спокойно сказал он. – Да, твоя жена здесь. Она пришла сюда, спасаясь от твоих пьяных выходок. Собственно говоря, она живет в одном гинекее с моей женой, которая ухаживает за ранами, нанесенными ей тобой. И здесь она останется, пока не выздоровеет и пока гелиэя не выдаст ей свидетельство о разводе. Ты больше никогда не причинишь ей вреда. Так что самое лучшее, что ты можешь сейчас сделать, – это пойти домой.
– Я убью тебя! – взревел Орхомен. – Я оторву тебе голову! Я…
– Послушай, Орхомен, это становится просто скучным! – заметил Аристон.
При этих словах Орхомен ринулся на него как разъяренный лев. Но, увы, гигант не учел нескольких весьма существенных обстоятельств: что он был на десять лет старше Аристона и не занимался никакими физическими упражнениями, или, другими словами, что Аристон был на десять лет моложе его и при этом с религиозным рвением каждый день посещал палестру, чтобы потренироваться с Автоликом или своим тезкой Аристоном, что после Сфак-терии он ни разу не брал в руки оружия, так что даже присущее спартанскому гоплиту умение владеть им было в значительной степени утрачено, в то время как Аристон за это время сражался в трех ожесточенных кампаниях под знаменами своего нового полиса; что пьянство и обжорство сверх меры подернули жирком его могучие мышцы; что сейчас, когда он еле держался на ногах от вина и ярости, координация его движений, так же как и реакция, могли вызвать лишь жалость; и, наконец, что перед ним был один из трех сильнейших панкратиастов Аттики.
Аристон нырнул под его меч, поймал запястье его вооруженной руки и, используя ее как рычаг, а свою собственную широкую спину как точку опоры, с размаху швырнул его на землю под восторженный рев зрителей.
Орхомен приземлился на камни мостовой с такой силой, что меч вылетел у него из рук и у него перехватило дыхание. Но он все же потянулся к ножу, висевшему у него на поясе, и тут же получил удар ногой в подбородок, от которого у него потемнело в глазах. Когда он очухался, оружия при нем уже не было. Аристон аккуратно сложил его у своего порога.
– Иди домой, Орхомен, – спокойно сказал он. Но Орхомен с утробным рычанием вновь двинулся к нему, и тогда Аристон ударил его ногой в живот так, что огромный спартанец тут же принес в жертву немилосердным богам все, что съел и выпил в тот день. Затем Аристон рубанул его ребром ладони по переносице, сломав носовой хрящ и вызвав обильное кровотечение, и, наконец, взяв его могучую шею в замок, вновь бросил его с такой силой, что задрожала земля. Он встал над поверженным Орхоменом и, повернувшись к вопящим и улюлюкающим зрителям, произнес:
– Афиняне! Пусть великая Гера засвидетельствует мою правоту! Решайте: должен ли я убить этого человека?
– Убей его! – ревела толпа. – Убей эту темноволосую свинью!
Аристон улыбнулся.
– Нет, – сказал он, – в память о нашей былой дружбе и о том, что он однажды спас меня, я дарю ему жизнь. Но я сделаю так, чтобы он позабыл дорогу к моему дому!
Сказав это. Аристон приподнял огромную волосатую ногу Орхомена и одним движением сломал ее о свое колено.
– Вот теперь, друг мой, ты оставишь меня и моих близких в покое, – сказал он и, повернувшись, вернулся в дом.
Вот так и вышло, что Орхомен явился в суд на костылях, с левой ногой в лубке. Его речь была на удивление хороша: он обвинил Аристона в похищении его жены, обвинил их обоих в прелюбодеянии и потребовал десять талантов в качестве компенсации за нанесенный ему ущерб наряду с возвращением его заблудшей супруги.
Однако речь Аристона произвела гораздо большее впечатление, ибо он написал ее сам. Его ирония, хорошо продуманная и всегда уместная, била точно в цель. Он сообщил суду о существовании документа, подписанного Орхоменом, и предъявил его в качестве вещественного доказательства. Его свидетели, один за другим, живописали зверства и издевательства, которым Орхомен бессчетное число раз подвергал свою первую жену Таргелию и которые были столь бесчеловечны, что вполне могли рассматриваться как истинная причина ее смерти. Он поведал о том, как по просьбе Орхомена выкупил Клеотеру, после того как она стала женой спартанца, и что большая часть этого долга до сих пор еще не выплачена.
– Итак, дикасты, калокагаты, достойные судьи, – подытожил Аристон. – Как видите, нет ничего удивительного в том, что это бедное дитя обратилось за помощью именно ко мне. Астуном Филипп, сын Фета, может засвидетельствовать, в каком состоянии была ее спина в тот роковой день! Он видел ее, разодранную в клочья, всю залитую кровью! Ну а что касается этого смехотворного обвинения в прелюбодеянии, то я спрашиваю вас: когда, где и как часто имело оно место? Какие доказательства может он предъявить, чтобы заставить вас поверить в то, что я был близок с его женой?
Вы все женатые люди и, без сомнения, имеете кое-какое представление о кротком нраве замужних афинянок. И вот я, тихо и ненавязчиво, спрашиваю вас: кто из вас посмел бы привести любовницу в свой собственный дом? Многие ли из вас, в наше время, могли бы привести в свой дом хотя бы рабыню, если она не совсем уродлива?
Его слова утонули во взрыве хохота; дажедикасты дружно присоединились ко всеобщему веселью. Когда смех стих, Аристон продолжил:
– Моя дорогая жена скоро должна разрешиться от бремени, иначе она бы пришла сюда, чтобы дать показания в пользу бедной Клеотеры. Она рассказала бы вам, что, поскольку в ее нынешнем положении она, разумеется, не может жить в одном помещении со мной, это несчастное поруганное дитя делит с ней ее комнату, и их ложа стоят рядом друг с другом. Итак, довольно о наших прелюбодеяниях! Я прошу вас, о дикасты, освободить Клеотеру, это невинное дитя, от этого жестокого чудовища! Я прошу вас принять меры, чтобы он никогда более не смог причинить ей вреда. Я прошу вас поддержать честь и правосудие Афин! Пусть мудрая Афина, наша покровительница, возвысит ваши умы и сердца. Я кончил, достойный суд, благородные архонты, благодарю вас!
Его победа была безоговорочной. Гелиэя единодушно дала Клеотере развод. Более того, она вынесла специальное решение, в котором предупредила Орхомена, что если он причинит своей бывшей жене, свободной метечке Клеотере, какой-либо вред или станет досаждать ей тем или иным образом, то он проведет остаток своей жизни прикованным к веслу на галере.
Орхомен с поникшей головой выслушал приговор суда. Затем, бормоча проклятия, он заковылял прочь на своих костылях.
Когда они вышли из здания суда на яркий солнечный свет, Клеотера остановилась и посмотрела на Аристона так, что он не смог вынести этого взгляда; будто, подумал он, ее только что приговорили к смерти, а не даровали желанную свободу, а с ней и новую жизнь, полную надежды и радости.
– Ну и что же теперь, мой господин? – прошептала она. – Я не могу вернуться в твой дом. Не могу! Я не могу смотреть в глаза Хрисее! Слишком велик грех, отягощающий мою душу!
– Грех? – переспросил Аристон.
– Да. Мой грех в том, что я хочу быть твоей. Что в мыслях, в сердце я более чем виновна – виновна именно в том, в чем обвинил нас Орхомен! Что и от телесного греха меня уберегли только боги и твое великодушие! Ты – другое дело: у тебя есть жена, которая любит тебя и которая носит ребенка в своем чреве! Твоего ребенка, Аристон!
Она уронила голову на грудь и громко разрыдалась; рыдания вырывались у нее из горла, и она не могла ничего с собой поделать.
– Клео, – простонал он.
– Я не вынесу этого, мой господин! Эти мысли убивают меня. Стоит мне представить, что ты прикасался к ней, держал ее в своих объятиях, целовал ее, что ваши тела и души сливались воедино… О Аристон, Аристон! Это сводит меня с ума, я прокляну всех богов, я умру! Это убьет меня!
– Клео! – повторил он в полном отчаянии.
– Я мечтала носить в себе твоего ребенка, мой господин. Чувствовать, как он растет там, внутри, такой маленький теплый круглый мягкий комочек. Я мечтала родить его, и мое счастье при этом было бы столь велико, что я не ощущала бы боли! А потом, потом я держала бы его в своих руках, прикладывала к своей груди, и прикосновение его крохотного ротика доставляло бы мне неземное блаженство! Он был бы похож на тебя, ведь правда – это дитя, которого никогда не будет, которому не суждено появиться на свет? И с каждым днем он становился бы все более и более похожим на тебя, таким же высоким, сильным, красивым! О Аристон, Аристон! Дай мне нож! Пусть его лезвие будет достаточно длинным, чтобы достать до моего сердца, и достаточно острым, чтобы не причинить мне ненужных страданий! Дай мне умереть сейчас, сразу, это лучше, чем умирать медленно, день за днем!
Он взял ее за руку и потащил за собой по оживленной улице. Ибо самым невыносимым было то, что здесь, на глазах у ухмыляющейся толпы, он не мог ни поцеловать, ни хоть как-то утешить ее.
Спустя час они уже стояли в прихожей маленького домика, который он снял для нее. Она была очень бледна, но уже вполне овладела собой. Медленным жестом она протянула ему руку.
– Обещай мне, мой господин, – ровным голосом проговорила она, – что ты больше сюда не придешь. Я же, в свою очередь, обещаю не причинять себе вреда. Ибо только так мы сможем стать достойными того, что было между нами и чего больше уже быть не должно! Пусть это останется чистым и незапятнанным. Я выдержу это испытание. Я стану жрицей твоего культа, вся моя жизнь, до последнего вздоха, будет посвящена поклонению тебе, боготворению тебя. Я буду гиерофантом твоих благословенных мистерий. Я думаю, что это большая честь для меня! Так ты обещаешь мне это?
– Ты требуешь невозможного! – сказал он.
– Попытайся. Я знаю, ты сможешь. Это я слаба. И именно поэтому я умоляю тебя сжалиться надо мной, мой господин. Пощади меня, молю тебя!
– Если я только смогу, – прошептал он. – Клянусь всеми муками Тантала, оковами Прометея, камнем Сизифа, я не приду сюда, если смогу. Я клянусь тебе в этом моей любовью!
Но он не смог. Ничто не могло отвлечь его, заполнить пустоту в его сердце и мыслях. Хрисея была уже на поздней стадии беременности, всецело поглощенная своей безумной идеей, что на этот раз ее ребенок выживет, невзирая на весь ее предшествующий опыт, убедительно свидетельствовавший об обратном. Но даже если бы она не была столь погружена в свои переживания, ее скромные прелести вряд ли смогли бы удержать его. Он решил прибегнуть к испытанному средству и отправился в благоуханную обитель греха Парфенопы. Увы, он быстро убедился, что сжигала его не просто похоть, что страдал он от истинной любви, что его ум, душа и трепещущая плоть плавились в ее горниле, теряя способность реагировать на что-либо иное, что он уже не мог смотреть ни на какое другое лицо, каким бы прелестным оно ни было, слышать другой, пусть самый нежный, голос, желать другое, пусть самое гибкое и сладострастное, тело.
Всю ночь он просидел у окна, рассеянно прислушиваясь к шумным возгласам ликующей толпы. До Афин наконец-то дошли известия от Алкивиада, который, очевидно, вознамерился доказать, что нельзя судить о человеке по его поведению или внешности, во всяком случае, если этот человек гений. Как Алкивиад. Величайший полководец, который когда-либо рождался в Афинах. Этот любитель мальчиков. Этот жеманный, шепелявый щеголь. Этот нечестивый богохульник. Этот ценитель шлюх. Этот вечно пьяный мерзавец, который вернул Фасос и Селимбрию. Захватил Хризо-поль и основал там таможню, так что теперь каждый корабль, идущий из Понта Эвксинского, вынужден платить дань Афинам. Осадил Халкедон, обложил его данью и принудил к союзу и вот теперь измором взял могучую Византию, царицу городов, так что Афинская Сова вновь распростерла свои крылья над всем Боспором.
И тем самым, по всей видимости, принес мир Афинам. «Лишив меня, – размышлял Аристон – единственного достойного выхода из создавшейся ситуации – превратить квадратный род чужой земли в землю Аттики, полив его моей кровью. Что же, да будет так! Да простят меня Артемида и Гестия! Да поглотит мою честь мрак Аида! А мою тень – Тартар!»
Он встал и вышел в ночь.
Он подошел к этому маленькому домику. Тихо, неуверенно постучал в эту дверь.
Клеотера открыла ее. Она молча стояла на пороге. В руке у нее был фонарь. В его свете он заметил, что глаза ее покраснели и опухли от слез.
– Клео, – произнес он.
Она стояла и смотрела на него. Затем очень спокойным голосом она сказала:
– Я не думаю, что ты согласишься уйти и не делать меня соучастницей прелюбодеяния, не так ли. Аристон?
– Нет, – сказал он. – Я не соглашусь на это.
– И тебя не остановит то, что ты заставишь меня презирать себя всю оставшуюся жизнь? Что ты превращаешь меня в тварь, злоупотребляющую доверием женщины, которая была добра ко мне? Которая целовала меня, плакала над моими ранами, как сестра? И которая собирается – о бога, помогите мне! Помогите мне произнести слова, которые убивают меня! – которая собирается…
– …родить мне ребенка. Нет, не остановит, – мрачно сказал он. – Все это не имеет никакого значения. Есть только один способ избавиться от меня, Клео.
– Какой же? – прошептала она,
– Сказать – так, чтобы я поверил, – что ты не любишь меня, – сказал Аристон.
Она долго смотрела на него. Очень долго. Затем она вздохнула. Ее вздох прошелестел как невидимый меч, медленно пронзающий ее бьющееся сердце.
– Входи, Аристон, – сказала она.
Он увидел ее лицо. Оно было белее фригийского мрамора. Даже губы ее были совершенно белыми. Она не дышала. Ее глаза закатились, как у мертвеца, как у животного, затравленного охотниками. Он открыл рот и закричал:
– Клео! О бессмертные боги, Клео! Но она не отозвалась, она не могла отозваться. Он прижал ее к себе; ее нагое тело стало податливым, как воск; он бешено тряс ее, и слезы катились у него из глаз, и их было так много, что он уже не мог видеть ее лица за этой слепящей пеленой.
– Клео! О Гестия, Артемида, простите меня! О Клео! Внезапно ее глаза широко открылись. Она разомкнула уста, и ее дыхание вырвалось наружу порывом штормового ветра, ударившим в его горло. И на этом ветру трепетали сорванные лепестки ее губ, кружась в этом вихре, пытаясь облечь звук в слова, что-то сказать…
Он наклонился и поцеловал их с невыразимой нежностью, прижимаясь к ним своими губами, пока пульсирующий поток ее неровного дыхания не стал понемногу ослабевать… Затем он отпустил ее, и слезы засверкали алмазной россыпью на ее лице.
– Как хорошо. Как… необыкновенно… хорошо… – произнесла она.
– О Клео! Клео! О боги, как же ты меня напугала! – простонал он.
Она улыбнулась ему нежно и в то же время серьезно.
– Я умерла, – прошептала она. – Я умерла и отправилась на Элизейские поля. И там, где все залито божественным светом, я бродила среди женщин, давно покинувших этот мир. Там были и Антигона, и Андромаха, и Пенелопа, и даже сама Гекуба – все женщины, когда-либо познавшие истинную любовь. И как же они завидовали мне!
– Дитя, – пробормотал он. – Милое, глупое дитя!
– Я не была готова к такому, – сказала она. – Все, чем для меня была любовь до сих пор, – это боль. И еще пот, и звериное рычание, и вонь волосатой мужской плоти, и… О Аристон, отпусти меня!
– Отпустить тебя? – переспросил он. – Никогда!
– Ну пожалуйста. Только на минуту. Я хочу встать перед тобой на колени. Я хочу целовать твои руки, твои ноги…
– Клео! – сказал он.
– Я так благодарна тебе за то, что ты показал мне: то, чем занимаются вдвоем мужчина и женщина, – священно. Это возвышенно и свято. Наши тела – это ведь живые храмы, разве не так, мой повелитель? А любовь – божественный огонь, пылающий в них. Ах, Аристон, Аристон! Как вы, мужчины, можете ходить к продажным женщинам? Как можете вы превращать в насмешку, в непристойную пародию это, это…
– …поиск и обретение. – Его глубокий звучный голос подхватил ее мысль, превращая ее в заповедь, в молитву. – Это единственный миг между рождением и смертью, когда мы не одиноки. Я не знаю, Клео. Что касается меня, то я никогда больше не буду этого делать. Я не смогу. Ты наложила печать на мои глаза, и теперь они не могут смотреть на другие лица. И так будет всегда, пока я дышу, пока кровь течет в моих жилах, пока чувства не умерли во мне. О Клео, моя Клео, я…
– Молчи. Не говори ничего. Просто обними меня. Вот так. И никогда не отпускай. Никогда, – сказала Клеотера.
Но это не могло продолжаться долго. Слишком много вокруг тех, кто служит злу, кто испытывает наслаждение, причиняя боль. Без сомнения, кто-то выследил его по до– роге к этому маленькому домику. Может быть, это была женщина, ненавидевшая Хрисею, завидовавшая ей, или кто-то из тех многочисленных извращенцев, чьи притязания он отверг. Ему так и не удалось узнать, кто же это был. Впрочем, это не имело никакого значения. Главное – те ужасающие последствия, к которым это привело.
Ибо настал день, когда Аристон стоял у ложа Хрисеи и слушал, бледный и дрожащий, ее безумные вопли:
– Ты слышишь, лекарь! Распори мне живот! Вынь моего ребенка живым! Пусть я умру! У него будет мать! Его потаскуха с соломенными волосами будет нежно заботиться о нем! Эта светловолосая шлюха! Для нее будет дорого все, что происходит от него, даже из семени, столь щедро потраченного на такое жалкое создание, как я! Так бери же его! Спаси моего ребенка! Неужели ты не видишь, что я хочу умереть?! О Гера, зачем мне теперь жить?
Офион повернулся к Аристону, увидел его лицо, то, что было в его глазах.
– Сейчас же уходи отсюда, Аристон! – приказал он. И вот, полностью раздавленный, с поникшей головой шаркающей походкой Аристон, афинский метек, вышел прочь, как слуга, как раб.
Двенадцать часов спустя Клеотера услышала долгожданный стук в дверь. Она бросилась открывать ее, вся в радостном возбуждении, со светящимися от счастья глазами. И замерла на пороге, оцепенев, чувствуя, как смертельный холод проникает в ее сердце.
Ибо в женщине, стоявшей перед ней, не было ничего человеческого. Ее лицо было лицом скелета, маской из желтоватого пергамента, туго натянутого на хрупкие кости. Ее синие, искусанные, потрескавшиеся губы растягивались в каком-то жутком подобии улыбки, обнажая сверкающие зубы. Ее дыхание источало жаркое зловоние лихорадки, и от всего ее тела исходил тошнотворный запах крови. Ее пеплос был пропитан ею насквозь. Она струилась по ее ногам, заливая ступеньки лестницы, образуя на них целые лужи.
Она что-то держала в руках. Движением руки, похожей на лапу хищной птицы, она отдернула ткань, покрывавшую ее ношу.
Рот Клеотеры приоткрылся. Она почувствовала, как крик волной устремился вверх по ее горлу, обжигая его ледяным холодом и пылающим огнем одновременно. Но Хрисея царственным жестом заставила его замереть на ее губах.
– Вот, – произнесла она, – возьми его. Бери же. Он твой. Это дело твоих рук, Клеотера. Это был бы его сын, если бы горе, которое ты мне причинила, не убило его.
Затем она вложила этот изуродованный, синий, бесформенный крохотный комочек в руки Клеотере и, повернувшись, пошла прочь вверх по улице, как привидение, как тень. И в то же время как некая царица из древних легенд, ужасная в своей нечеловеческой гордости. Как Медея.
Клеотера не знала, как долго она бродила по улицам города. Дни и ночи превратились для нее всего лишь в мелькающее чередование света и темноты. Она давно уже ничего не ела – об этом она тоже не помнила, да это и не имело значения, ибо при одной мысли о еде на нее тут же накатывала омерзительная зеленая волна тошноты.
Она похоронила ребенка. Похоронила своими собственными руками. Она надеялась, что эта маленькая могила, вырытая ею в саду, окажется достаточно глубокой. Впрочем, и это не имело значения; она никогда больше не вернется в этот дом.
Она увидела перед собой длинные стены, протянувшиеся к Пирейскому порту. Она пойдет вдоль этих стен. В Мунихии, у самого порта, стоит храм Артемиды, богини целомудрия, которую она больше всего оскорбила, чьи священные заветы она столь ужасно нарушила. Она пойдет туда. И перед алтарем богини принесет ей в жертву свою жизнь. У нее не было оружия, но тонкий пояс ее хитона был достаточно прочным. Если дважды обмотать его вокруг обнаженной шеи и сильно потянуть, то… Если у нее хватит сил. Если ее дрожащие руки не откажутся повиноваться ей… В случае неудачи она сможет просто умереть от голода.
И вот, с поникшей головой, шатаясь от усталости, голода, жажды, она отправилась в путь. Ей даже не пришло в ее бедную полубезумную голову, что для того, чтобы добраться до Мунихии, ей придется пройти через сам Пи-рей, где у морского отребья, бродяг и пиратов, которых, как обломки кораблекрушения, прибивало к берегам Аттики со всей Эллады и со всего мира, был один гордый девиз, которого они всегда неукоснительно придерживались: «Никто, даже коза, не пройдет здесь неосемененной!»
И именно к их тавернам, лачугам, вонючим хижинам и направилась несчастная Клеотера.
Она сопротивлялась, как только могла, с безумной силой, порожденной отчаянием, диким ужасом, охватившим ее. Это тело, принадлежавшее ему – тончайший инструмент, который он трогал, гладил, ласкал, пока он не начинал звенеть, как струны лиры, рождая музыку наслаждения, – не могло быть осквернено другими! Оно не могло достаться этим козлам и обезьянам, этому сброду! Нет! Она скорее умрет!
Затем она услышала, как самый здоровенный из них завопил, пронзительно, как женщина, и, взглянув себе под ноги, увидела, что он корчится на камнях мостовой: его бычья шея была сломана одним ударом. Второй рухнул на колени, схватившись за горло, перебитое ударом руки, похожей на лезвие топора; еще один держался за промежность, получив удар ногой, сделавший его отныне и навсегда бесполезным для женщин.
Остальные обратились в бегство, волоча за собой шлейф ругани, похожей на собачье тявканье. И он стоял перед ней, прекрасный, как бог, грозный, как разгневанный Арес, могучий, как Геракл.
– О мой господин, любовь моя! – рыдала она. Затем она замолчала, вглядываясь в лицо, которое никогда не видела прежде. Оно было столь же прекрасно, как и лицо Аристона, но это был не он.
Ее спаситель улыбнулся немного грустно.
– Я не твой господин, а он, без сомнения, любимец богов! И даже не твоя любовь, что еще печальнее! Но если ты, о Эос, богиня зари, или, уж во всяком случае, золотоволосая небесная нимфа, смогла бы удостоить своим благосклонным взглядом простого смертного вроде меня, то у тебя будет…
– Кто ты? – прошептала Клеотера.
– Автолик, сын Ликона и твой раб навеки, – ответил он.
Глава XXII
Прошло три года. После триумфальных кампаний в Протонтиде, Геллеспонте, Боспоре Алкивиад получил приглашение вновь вернуться в Афины, дабы удостоиться почестей за одержанные победы и в то же время чтобы с него можно было снять все еще висевшие на нем обвинения в осквернении домашних герм и публичном надругательстве над Элевсинскими мистериями или, в крайнем случае, помиловать его. Эта новость была у всех на устах, она обсуждалась в каждом доме. И даже в доме богатого оружейника, метека Аристона.
– Итак, ему наконец-то разрешили вернуться, – сказала Хрисея. – Ведь ты был с ним знаком, Аристон. Расскажи мне о нем. Кто он на самом деле? О нем столько всего рассказывают…
– Кто такой Алкивиад? – переспросил Аристон. – Ты задаешь вопрос, Хрис, на который невозможно ответить. Я бы сказал, что Алкивиад весь соткан из противоречий. Вот, к примеру, Орхомен. Ты же знаешь, как в нем перемешаны ум и глупость, добро и зло – и ничего посередине, в его душе нет места, где противоборствующие свойства его натуры могли бы мирно встретиться и обрести согласие…
– Особенно после того, как ты украл у него жену, – язвительно вставила Хрисея.
– Не говоря уж о том, что ты выгнала ее на улицу, как бездомную собаку,
– парировал Аристон.
Хрисея оторвалась от ткацкого станка, от яркой разноцветной ткани, рождавшейся под ее умелыми пальцами и положила руку ему на плечо.
– Я очень сожалею об этом. Аристон, – мягко сказала она. – Но я спасала свою жизнь. Ибо я не могу жить без тебя. И ты это знаешь.
Аристон удивленно посмотрел на нее. В чем причина столь разительной перемены, произошедшей в ней? Вот уже целый год, как она являет собой воплощение нежности и смирения. Разумеется, иногда она все же выходила из себя, но тут же с поразительной быстротой брала себя в руки и просила у него прощения за свою несдержанность. Судя по всему, это новообретенное душевное равновесие самым благотворным образом сказалось и на ее внешности. Конечно, ей никогда не суждено было даже приблизиться к чему-либо хотя бы отдаленно напоминающему красоту; но она поправилась и превратилась в довольно интересную женщину, с лицом, если и не прекрасным, то, во всяком случае, запоминающимся. А главное, она больше ни разу не забеременела. По мнению Офиона, отныне она вообще не сможет забеременеть. Слишком серьезными оказались повреждения, нанесенные ее матке во время тех ужасных родов, когда ребенка пришлось вытягивать щипцами. Врач прямо заявил ей, что она почти наверняка не сможет даже зачать, не говоря уж о том, чтобы родить. Как ни удивительно, но она спокойно выслушала его с видом полной покорности судьбе.
– Хрис, – сказал Аристон, – что с тобой произошло? Из-за чего ты так изменилась?
– Ты что, жалуешься? – спросила она слегка насмешливо.
– О нет! Клянусь Герой, нет!
– Между прочим, это любимая клятва Сократа, – заметила она.
– Откуда ты это знаешь? – спросил он. – По-моему, я тебе этого не говорил.
– Ну разумеется нет. Я слышала ее от него самого. После этой истории – с тобой и Клеотерой. Понимаешь, Аристон, я была близка к потере рассудка. Я убегала из гинекея и бродила по улицам. Одна. Думаю, что меня наверняка бы изнасиловали, если бы я была хоть немного привлекательна. И вот однажды я встретила Сократа. Он тоже был один, погруженный в свои размышления. И у меня хватило смелости, точнее безумия и отчаяния, прервать их. Он привел меня к себе домой, познакомил со своими женами. Представляешь, у него их две! Мне никто никогда не говорил.
– Да, Ксантиппа и Мирта. Продолжай, Хрис.
– И он поговорил со мной. Или, скорее, задавал мне вопросы. А когда перестал их задавать, меня вдруг – словно по волшебству – осенило, какой же жестокой, самовлюбленной дурой я была; я поняла, что сама толкнула тебя в объятия Клеотеры. Я на коленях поклялась ему, что отныне буду добра к тебе. Я поклялась Герой, и ему, кажется, это понравилось. И я сдержала слово, не так ли?
– Да, – сказал Аристон и поцеловал ее.
– Благодарю тебя, мой повелитель! – Она рассмеялась, слегка неуверенно.
– Я уж думала, что ты никогда больше этого не сделаешь, не говоря уже о…
– Хрис, – с упреком возразил он, – ведь ты же знаешь почему.
– Здесь нет никакой опасности, Аристон. Я уже не смогу зачать, и я докажу это тебе сегодня ночью. А сейчас я хочу просто поговорить с тобой. Ты давно не видел Сократа, ведь так?
– Одного – давно. В последнее время я вижу его только в обществе его учеников. Все дело в том, что Фаэдон мешает нашему общению. Нет, он ничего такого не говорит и не делает, но он смотрит на меня с таким неприкрытым ужасом, что меня бросает в дрожь.
– А почему? – спросила Хрисея.
– Поначалу все было нормально. Затем кто-то сказал ему, что я тоже когда-то был рабом в банях. Ты знаешь эту историю? Критон выкупил его из бани Гургоса по просьбе Сократа. Судя по всему, я слишком живо напоминаю ему об этом ужасе. Во всяком случае, мне он многое напоминает. Он даже похож на меня в юности.
– Ну, тридцать шесть – это еще не старость, – проворковала Хрисея.
– Но и не юность. А Фаэдон еще совсем мальчик. Его захватили на Мелосе. Он избежал смерти только благодаря своему возрасту. Видишь ли, когда он смотрит на меня своими огромными черными глазами, это меня настолько отвлекает, что я теряю нить беседы с Сократом.
– Так подружись с ним, – предложила Хрисея. – Объясни ему, что даже такое постыдное рабство не может быть поставлено в вину ни ему, ни тебе. Впрочем, тебе-то оно вроде бы не причинило особого вреда.
– В том-то и дело, что причинило, – спокойно сказал Аристон.
– И что это за вред? – спросила Хрисея.
– Да тот же, что твое излишнее внимание к твоей, как ты выражаешься, уродливости, причинило тебе, Хрис: я не могу любить себя. Или уважать. Понимаешь, я знаю, что должен был лишить себя жизни, прежде чем подвергнуться такому позору. Таким образом, получается, что все последующие годы моей жизни были куплены такой ценой. А она слишком высока.
– В таком случае, хвала небесам, что ты все-таки решил заплатить ее! – воскликнула Хрисея. – А то я никогда бы не узнала тебя.
– А ты уверена, что знаешь меня? – осведомился Аристон. – Послушай, Хрис, давай поговорим о чем-нибудь другом, а?
– Ну хорошо. Например, об Алкивиаде. Какой необыкновенный человек!
Аристон улыбнулся ей.
– Хочешь вызвать во мне ревность, Хрис? – спросил он.
– Если бы я могла! Но, увы, это невозможно. Ты меня больше не любишь – если, конечно, ты вообще меня когда-нибудь любил, в чем я сильно сомневаюсь. Не возражай, прошу тебя. Ты добр ко мне, и этого достаточно. А главное, ты здесь, со мной. И этих крох мне хватает, чтобы жить. Но все-таки расскажи мне об Алкивиаде. Если хотя бы половина из того, что о нем говорят, правда…
Аристон с минуту колебался, затем сказал с задумчивым видом:
– Боюсь, что да. Но что я могу рассказать о нем такого, чего ты бы еще не знала? Кроме того, ты завтра сама его увидишь. Я хочу взять тебя с собой на торжественную церемонию, Хрис…
Хрисея выронила свой челнок и по-детски захлопала в ладоши.
– Ах, Аристон, в самом деле? Как это мило с твоей стороны!
Триумфальное возвращение Алкивиада в Афины, после которого с него должны были быть официально сняты обвинения, выдвинутые против него еще до злосчастного поражения Афин под Сиракузами, то есть почти восемь лет назад, явилось одним из немногих праздничных мероприятий, на которые афиняне могли приводить своих жен. Ибо, как правило, женщины, принадлежавшие к высшим кругам общества, содержались в изоляции, почти такой же строгой, как на Востоке, хотя и не настолько, как утверждали более поздние авторы.
К примеру, Хрисея, как и любая знатная дама, могла совершенно свободно посещать театр; она присутствовала на всех основных религиозных праздниках, включая, разумеется, и те, что предназначались только для женщин и на которые ни Аристон, ни другие афинские мужья не допускались. Она могла навещать своих подруг и при желании своих братьев; ибо Пандор, ее отец, уже умер, причем именно так, как можно было ожидать, в бане Поликсена, держа в своих мертвых объятиях перепуганного обнаженного мальчика. Но желания навещать Брима или Халкодона у нее не было, в чем ее вряд ли можно было упрекнуть, если вспомнить, что те продали ее самым недостойным образом. В сущности, днем она могла выходить из дому, когда ей заблагорассудится, при условии соблюдения приличий, которые заключались в том, что она брала с собой рабыню и закрывала свое лицо. Последнее требование не доставляло ей никаких неудобств; более того, стыд, который она постоянно испытывала из-за своей внешности, заставлял ее относиться к этому обычаю с чрезмерным рвением. Большинство замужних афинянок ограничивались прозрачной вуалью, а то и вовсе обходились без нее; однако Хрисея в самом деле закрывала лицо – что в тот день и привело к на редкость печальным последствиям.
Ибо, не успели они добраться до Акрополя, где должна была состояться оправдательная церемония, как услыхали радушный низкий голос, восклицавший:
– Аристон? Приветствую тебя, старина! Присоединяйтесь к нам! Клянусь Зевсом Громовержцем, приятель, я так давно не видел тебя!
И в следующее мгновение Аристон очутился в железных объятиях Автолика.
«Он ничего не знает, – пронеслось в его смятенном мозгу, пока огромные мозолистые кулаки друга хлопали его по спине. – Он в самом деле ничего не знает!»
– Чем я обидел тебя, – вопрошал атлет, – что ты обходишь мой дом стороной, как зачумленный? Наши жены могли бы дружить, и дети тоже – впрочем, кажется, у тебя нет детей?
– Нет, – выдавал из себя Аристон, моля всех богов, в которых он не верил, не дать ему пошатнуться, помочь ему устоять на ногах. И ему, и Клеотере. Ее лицо было белее снегов на вершине горы Тайгет. Даже губы ее побелели. Казалось, что вся ее жизненная энергия сосредоточилась в ее глазах. В двух сапфирах, излучающих неземной свет, в двух зеркалах, которые воспроизводили все мельчайшие черты его лица.
Тогда Хрисея прервала паузу, становившуюся совершенно невыносимой. Она подняла вуаль и, ко всеобщему удивлению, поцеловала Клеотеру в щеку.
– Приветствую тебя, Клео! – сказала она. – Это что, твои дети?
– Да, Хрисея, – прошептала Клеотера.
– Так вы знакомы! – воскликнул Автолик. – Ну и чудеса! Клянусь Герой, я не понимаю, как… Хрисея пристально посмотрела на Клеотеру.
– Так ты ничего ему не рассказала? – осведомилась она.
– Об Орхомене он знает, – прошептала Клео. – А обо всем остальном… Я не смогла. Прошу тебя, Хрисея! Я…
Автолик, будучи, как и все атлеты, человеком прямым и простодушным, дураком тем не менее никогда не был.
Лицо его потемнело. Он бросил свирепый взгляд на Аристона.
– Так это был ты! – прорычал он.
– Нет, господин мой Автолик, – невозмутимо произнесла Хрисея. – Я знаю Клеотеру, поскольку она укрылась в нашем доме, когда этот негодяй, ее муж, избил ее до полусмерти. Собственно говоря, я сама ухаживала за ней, хотя и носила тогда в своем чреве ребенка, которого я впоследствии потеряла. И именно по моему настоянию мой муж добился для нее развода и судебной защиты. Ну а после этого мы оба ни разу не видели ее, хотя до нас и дошли слухи, что она вышла за тебя замуж.
Она повернулась к Клеотере.
– Куда же ты убежала, дорогая, после судебного процесса? Бедный Аристон! Он выглядел таким разочарованным, когда вернулся домой и рассказал мне, как ты скрылась от него в толпе. Я всегда подозревала, что ему не давали покоя лавры Сократа и он желал бы отвести тебе роль Мирты, а мне – Ксантиппы!
– После, – только и смогла выдавить из себя Клеотера с невыразимой болью в голосе. – Хрис, здесь же дети…
Автолик отвернулся и хлопнул в ладоши. К ним подбежала рабыня.
– Уведи детей, – распорядился он. – Это слишком взрослый разговор для их нежных ушей.
Хрисея ущипнула Аристона так сильно, что он подпрыгнул.
– Если ты не перестанешь пялиться на мальчика, он обо всем догадается,
– прошипела она, – впрочем, если он еще не догадался, то он величайший глупец из всех смертных. Вылитый Дионис, возникший из твоего бедра, подобно тому как сам бог возник из бедра Зевса!
Но Автолик уже повернулся обратно к ним. Когда он заговорил, его голос был суров и печален:
– Теперь ты можешь говорить, Клео. Мнетоже хотелось бы услышать эту историю…
– И мне, – заявил Аристон с деланным спокойствием, стоившим ему невероятных усилий.
– Ну хорошо! – Клеотера с трудом сдерживала рыдания. – Если уж вам всем так хочется узнать про мой позор!
Автолик, мой добрый муж! Я знаю, это причинит тебе боль, но я должна сказать тебе правду: я убежала от Аристона, потому что влюбилась в него и не могла злоупотреблять доверием женщины, которая была столь добра ко мне, как Хрисея.
– Ну разумеется не могла, конечно не могла, не правда ли, дорогая? – подтвердила Хрисея.
– Ради Гестии, Хрис! – взмолился Аристон.
– А вот это уже причинит боль тебе. Аристон! – с вызовом заявила Клео.
– Я чуть не умерла с голода. Поэтому в конце концов я обзавелась любовником. Он был очень богат. Я не любила его, но терпела его общество, потому что он был похож на тебя.
– Недурно! – сказала Хрисея, не отрывая глаз от маленького мальчика, которого держала на руках его няня.
– Но ему пришлось вернуться в Македонию, откуда он был родом. Он хотел взять меня с собой, но я пришла в ужас от одной мысли об этом. Я много слышала о том, какая это дикая страна.
– Более дикая, чем Галлия, дорогая? – осведомилась Хрисея.
– Этого я не могу сказать, поскольку никогда не была в Македонии, да и к тому же я почти не помню Лютецию, мой родной полис. Видишь ли, Хрис, меня привезли в Мас-салию еще маленькой девочкой. А Массалия – это эллинский полис, что-то вроде маленьких Афин, хотя он и в Галлии. А кроме того – если уж ты хочешь знать правду, – я все еще была влюблена в твоего мужа! И самым ужасным было бы для меня уехать так далеко, что я никогда бы его больше не увидела!
– Клео, – с серьезным видом сказал Аристон, – если уж ты не хочешь или не можешь относиться с уважением ко мне, прояви уважение хотя бы к Автолику.
– О, я так уважаю его! – Клеотера уже не могла сдерживать слезы. – Я люблю и уважаю его! Он лучший из людей – куда благородней тебя. Аристон!
– Клео! – запротестовал Автолик.
– Выслушай меня до конца, мой муж! Я опять убежала. И именно тогда ты меня нашел, в лапах того зловонного чудовища, пытавшегося…
– …изнасиловать тебя, без сомнения, – ледяным тоном произнесла Хрисея. – Но скажи, дорогая: а что, собственно, тебя не устраивало? К тому времени тебе вряд ли было что терять!
– Хрисея! – взревел Аристон. Клеотера показала на малыша.
– Возможно, я потеряла бы его, – прошептала она. – На твоем примере я уже убедилась, что женщина может потерять еще неродившегося ребенка. И я думала, я знала, что он будет прекрасен.
– Да поможет нам Гера! – воскликнул Автолик.
– И Гестия, – добавил Аристон. Он улыбнулся Автолику. – Ты собираешься вызвать меня на борцовский поединок – ну, скажем, в обитых железом рукавицах? – спросил он.
– Нет, – спокойно ответил Автолик. – Мы слишком долго были друзьями, чтобы рассориться из-за давно минувших событий, сколь бы печальными они ни были. Даже если ты был любовником Клео – а я сильно подозреваю, что так оно и было, – ну и что с того? Я знаю, что ты не приближался к ней с тех пор как она вошла в мой дом. Если бы ты знал, друг мой, сколько радости она мне принесла. Я люблю своего сына, кем бы ни был его подлинный отец, ибо его рождение не явилось результатом обмана или умолчания. Клео с самого начала сказала мне, что беременна. И подарила мне эту прелестную маленькую нимфу, сотканную из морской пены и солнечных лучей, – самую лучшую из всех дочерей. Так что мы квиты с тобой – даже если ты когда-либо согрешил против меня, а я так не думаю. Но даже если это так, то я прощаю тебя. Ну признайся, было?
– Нет, – сказал Аристон. – Я не видел Клео с тех пор, как она вошла в твой дом, и до сегодняшнего дня. И знаешь что, Автолик…
– Что, Аристон?
– Она права. Позволь мне воздать тебе должное. Ты гораздо благороднее, чем я мог бы когда-либо стать!
– Хрисея, – прошептала Клеотера.
– Да, Клео?
– Не могли бы мы тоже проявить благородство – ты и я? Не могли бы мы последовать примеру наших мужей – поцеловаться и простить? Мне так нужно, чтобы ты меня простила! Я думаю, что только тогда душа моя обретет наконец покой!
Хрисея стояла неподвижно, как одна из статуй, поддерживающих крышу Эрехтейона; Аристону даже почудилось, что она перестала дышать. Затем она произнесла с глубоким вздохом:
– Да будет так! – и поцеловала Клеотеру. После чего опять закрыла лицо вуалью. И этот, столь безобидный на первый взгляд, поступок и привел ко всем последующим бедам.
Алкивиад, блистая великолепием своих доспехов, гарцевал во главе войска на изумительном гнедом жеребце. Трудно сказать, кто из них, всадник или конь, привлекал большее внимание, ибо в Афинах, после стольких лет жестокой войны, хорошие лошади стали большой редкостью. За ним легким галопом следовал отряд всадников, также отлично вооруженных. Но Аристон не обратил на них никакого внимания. Он был всецело поглощен изучением следов, оставленных на лице Алкивиада сорока тремя годами безудержного прожигания жизни.
В результате неожиданное, совершенно несвойственное опытному наезднику движение, которое произвел всадник, следовавший сразу за Алкивиадом – он резко натянул поводья, нарушив строй, – осталось почти незамеченным Аристоном. Но спустя мгновение ему пришлось отвлечься от своих наблюдений, ибо этот воин, бывший явно моложе своего командующего и носивший знаки отличия лохага, соскочил с коня и бросился к нему, крича как сумасшедший:
«Аристон! Аристон!» И не успел Аристон опомниться, как тот стиснул его в своих объятиях, чуть не сломав ему ребра о свой нагрудник, покрывая его лицо поцелуями и орошая его слезами.
– Дан, – только и смог вымолвить он. – О всемогущий Зевс! Дан!
Они стояли друг против друга, не разжимая объятий, не в силах произнести ни слова. Затем Аристон услышал громкий вздох, вырвавшийся сквозь стиснутые зубы, и, повернув голову, увидел глаза Хрисеи над плотной тканью ее вуали.
Несказанная радость горела в них; но в ту же неуловимую, ничтожную долю мгновения она исчезла. На смену ей ворвался ужас. Их теплый, золотисто-коричневый цвет сменился на какую-то зеленоватую дымку. И прежде чем он успел открыть рот, чтобы сказать…
Что? Что вообще можно было сказать в столь замечательной ситуации? «Дан, поцелуй свою сестру. Она теперь живет со мной в качестве моей любовницы или наложницы. Надеюсь, друг мой, ты ничего не имеешь против…» Какими словами можно было объяснить, оправдать?
Хрисея метаулась в сторону, как лань, заслышавшая звуки охотничьего рога, и скрылась в толпе.
Данай проследил за ней взглядом.
– Что это за маленькое создание? – спросил он, понизив голос до конфиденциального шепота, чтобы Клеотера и Автолик не услыхали его слов. – Наверняка чья-нибудь жена, раз она так убежала. Интересно, чей лоб ты украшаешь рогами, друг мой?
Аристон очень медленно выпустил воздух из легких. В это невозможно было поверить. Чтобы человек прожил всю свою жизнь рядом с женщиной, да к тому же собственной сестрой и… Но на открытом прекрасном лице Дана не было и следа гнева или насмешки. Он не узнал Хрисею! Конечно, он не видел ее восемь лет, но все же…
Вот в чем дело, вот в чем причина: эти восемь лет. Или, по крайней мере, последний из них. После визита к Сократу Хрис смирилась со своей жизнью, с тем, что она из себя представляет; стала домашней, почти ручной. И это смирение, или удовлетворенность – называй это как угодно, – помимо всего прочего, сказалось и на ее внешности. Ее нервы перестали завязывать узлом ее желудок; у нее появился весьма недурной аппетит, и теперь она ела довольно много для женщины ее габаритов. За этот год она прибавила в весе не менее четверти таланта. В результате для каждого, кто хранил в памяти образ истощенного заморыша прежних лет, ее тело, очаровательная стройность которого лишь подчеркивалась нынешней округлостью ее форм, было бы совершенно неузнаваемо, ибо одежды эллинских дам, привсей своей скромности, нисколько не скрывали очертаний женской фигуры.
А ведь Дан – Аристона точно обухом по голове ударило – не видел лица своей сестры! Да, не видел, так как после того примирительного поцелуя – примирительного ли? кто знает? – которым она удостоила Клео, Хрисея вновь закрыла лицо до самых глаз. Разумеется, если бы Данай внимательно присмотрелся к ней, он бы наверняка узнал ее даже так. Но увы, он был слишком увлечен своим другом, которого в глубине души считал больше, чем другом, чтобы уделять внимание кому-либо другому.
– Поговорим об этом позже, – уныло пробормотал Аристон, прекрасно понимая, что выяснение отношений всего-навсего откладывается. Ибо Данай был афинским всадником и, в отличие от своих братьев, ничем не запятнал это высокое звание и никогда не нарушал соответствующий ему строгий кодекс чести. Тот самый кодекс чести, согласно которому совращение сестры всадника каралось смертью. «Моей смертью», – подумал Аристон с невеселой усмешкой.
В этот момент Данай сделал шаг назад, сдернул с головы шлем, и Аристон увидел крохотное изображение лошади, встающей на дыбы – эмблему Сиракуз, – выжженное раскаленным железом у него на лбу.
– О Зевс! – воскликнул он. Данай с усмешкой потрогал клеймо.
– Печать рабства, Аристон! – сказал он. – Да к тому же знак жуткого невезения! Когда я узнал, что пленников освобождают за знание стихов, я битый час декламировал Еврипида своему хозяину. А он велел мне заткнуться и заявил, что терпеть не может стихов. «От этой чепухи у меня голова раскалывается!» – вот его подлинные слова.
– И я с ним полностью согласен! – заявил Автолик.
– Автолик! – Данай заключил атлета в свои объятия. – Это что, твоя супруга?
– Да, – сказал Автолик, – а это мои дети.
– Какая прелесть! – воскликнул Данай. – Глядя на тебя, Автолик, невольно захочешь жениться – особенно если посчастливится встретить богиню вроде твоей жены.
– Я не его жена, – внезапно произнесла Клеотера натянутым голосом. – Надеюсь, что ты поймешь нас, благородный Данай. Я метечка. Мой господин не может жениться на мне. Но в нашем союзе нет тем не менее ничего постыдного. Мы любим друг друга, вместе чтим домашних богов, воспитываем наших детей, как и пристало благородным гражданам… В наши дни так живут многие. Мудрые и терпимые в том числе. Я надеюсь, что ты…
Тут Аристона озарило. Он понял, зачем она это делает, зачем она намеренно жертвует своим добрым именем, рассказывая Данаю то, что ему вовсе не следовало знать. Она делала это для него, Аристона. А возможно, и для Хрисеи…
– Тебе не нужно объяснять все это Данаю, дорогая, – сказал Автолик. – Клянусь Эросом, он никогда не был поклонником Артемиды! Вот что, Дан, ты лучше расскажи нам, как тебе удалось избавиться от сиракузцев?
– Видишь ли, мой новый хозяин решил – с полным на то основанием, – что от меня нет никакого проку, – рассмеялся Данай, – и продал меня на галеры. Ну и под Ки-зиком триера, на которой я, как мне казалось, дважды пересек всю ойкумену, была захвачена не кем иным, как самим Алкивиадом. И когда после абордажа началась всеобщая резня, я закричал: «Я афинянин! Спасите меня!»
– И убедил их в этом своим акцентом, – сказал Аристон.
– Вот именно! – подтвердил Данай. – Послушай, а как поживала эта тощая мартышка, моя сестричка, когда ты ее в последний раз видел. Аристон?
– Хрис? – весело прогудел Автолик. – Да ведь она… Ой! Клео! Клянусь Афиной, ты отдавила мне все пальцы!
– Я тебе всю ногу отдавлю, если ты не замолчишь, о мой прекрасный глупый муж! – прошипела Клеотера. – Он ничего не знает!
– О моя госпожа, – произнес Данай серьезным тоном, в котором легко угадывалась насмешка, – наступать на ногу мужу значит подвергать его цензуре, что не пристало в демократическом обществе. Боюсь, что ты начиталась или насмотрелась пьес Аристофана!
– Можешь в этом не сомневаться, Дан! – простонал Автолик. – Особенно что касается «Лисистраты»! Подобным методом убеждения она пользуется уже многие годы!
– «Лисистрата»? – переспросил Данай. – Этой ко– медии я не знаю. Я видел «Ахарнян», «Всадников», «Облака», «Ос» и «Мир», но…
– Значит, ты пропустил «Птиц», «Женщин на празднике Фесмофорий» и «Лисистрату», – сказал Аристон. – Из них «Лисистрата», несомненно, лучшая. – Он вкратце обрисовал Данаю абсолютно непристойный сюжет этой комедии.
– В таком случае, твои слова должно рассматривать как гиперболу, Автолик, – заявил Данай, – ибо эти два прекрасных маленьких создания вряд ли выскочили в полном вооружении из твоего лба, подобно Афине из головы Зевса. Кстати, я жду, что вы двое просветите меня относительно того, что произошло в Афинах за время моего отсутствия…
– Завтра, Дан, – поспешно сказал Аристон. – Твой отряд уже удалился на приличное расстояние. Ну а нарушать строй подобным образом, да еще в день чествования твоего командующего, вряд ли пристало столь опытному воину…
– Ты прав, – согласился Данай. – Я зайду к тебе завтра, после того как засвидетельствую свое братское почтение Бриму, Халкодону и Хрисее и сыновнее своему отцу.
– Дан, – прямо в лоб выпалил Аристон, – твой отец умер.
– О! – произнес Данай и, склонив голову, замер на месте. Через мгновение он снова поднял ее. – В таком случае я принесу жертву на его могиле, – резко сказал он, – хотя я никогда не любил его. Привет тебе, моя госпожа Клеотера! Привет вам, калокагаты, друзья мои!
– О Аристон, Аристон! – выдохнула Клеотера, когда он отъехал от них. – Ты должен уехать отсюда! Немедленно! Он никогда не простит, что ты, что она…
– Не беспокойся обо мне, Клео, – сказал Аристон.
Дома Хрисеи не оказалось. Аристон, весьма этим обеспокоенный, отправился разыскивать ее. Он наведался всюду, где она, по его мнению, могла быть, даже к Сократу. Но и там ее не было. Впрочем, как и самого Сократа.
– Кто знает, куда могло занести этого никчемного бездельника, – прокомментировала его отсутствие Ксантиппа.
Удаляясь от этого дома. Аристон подумал, что сварливость Ксантиппы вполне может быть логически оправдана. Ибо для обычной женщины жизнь с гением и праведником, а Сократ, бесспорно, был и тем, и другим, должна быть невероятно тяжелой. Для начала ей приходилось мириться с каждодневным присутствием прелестной Мирты и детей, для нее чужих. Кроме того, ее муж постоянно находился в окружении блестящей молодежи вроде юного Аристокла, прозванного Платоном за его широченные плечи и уже победившего в панкратеоне на последних играх; всевозможных знаменитостей вроде великого полководца Ксенофонта; ослепительных красавцев, таких, как белокурый, черноглазый Фаэдон, юноша, вызволенный при содействии ее мужа из дома, который пользовался крайне дурной репутацией – что, без сомнения, возбуждало ее ревность, ибо в Афинах истинная красота не имела пола. К тому же, Ксантиппа, естественно, знала, что Феодота, самая известная в то время гетера в Афинах, была очень привязана к старому, уродливому философу, постоянно пользовалась его советами и, по слухам, щедро расплачивалась за них, причем отнюдь не деньгами. И наконец, что, с точки зрения практичной Ксантиппы, было хуже всего, Сократа окружали богачи вроде Аристона, от которых ее муж не согласился бы принять и бронзового обола.
Разумеется, Критон вложил сбережения философа, где-то около семидесяти мин, так удачно, что Сократ со своей двойной семьей имел доход чуть выше прожиточного минимума вне зависимости от того, занимался ли он своим ремеслом скульптора или нет, что вполне устраивало этого веселого старого мудреца, называвшего себя «сводником идей», «сутенером мысли» и даже «повивальной бабкой мудрости». Но Ксантиппу, знавшую, что софистам вроде Горгия платили до тысячи драхм за обучение одного богатого юноши, не могли не возмущать ее вечная нищета и полное пренебрежение материальными благами со стороны мужа.
«Если бы он хоть немного поступился своими принципами ради нее», – подумал Аристон. Но он знал, что это невозможно, что Сократ не признавал компромиссов. Тогда он выкинул все эти мысли из головы и возобновил поиски Хрисеи.
Но он нигде не мог ее найти. Уже наступала ночь, когда он подошел к своему дому, терзаемый беспокойством и страхом. Он хорошо знал, как Хрисея любит брата, и еще лучше – болезненные свойства ее натуры. Если он в ближайшее время ее не отыщет, то одному Зевсу известно, что она может…
Он остановился. У двери его дома стоял Данай. Молодой воин облачился в гражданскую одежду – простой хитон и хламиду. С ним были трое высоких и красивых юношей, гордая осанка которых выдавала в них всадников. Данай плакал, открыто, не стесняясь своих слез. В руках он держал два меча.
– Выбирай, Аристон! – всхлипывал он. – Теперь мне придется тебя убить, у меня нет другого выхода. Опозорить мою сестру, едва я ступил за порог, это…
– Дан, – устало произнес Аристон, – не будь глупцом.
– Ха-ха! – бушевал Данай. – Да, я был глупцом, но теперь поумнел! Бери меч! Не имеет значения какой. Они совершенно одинаковые, даю слово всадника. Я даю тебе шанс достойно защитить свою жизнь, ибо…
– Ничего ты мне не даешь. Дан, – сказал Аристон, – ибо я все равно не смог бы убить тебя. Даже защищаясь.
Несколько мгновений Данай стоял неподвижно. Затем он швырнул меч так, что тот, перевернувшись в воздухе, вонзился острием в землю между ступнями Аристона.
– Подними его. Аристон, – сказал он. Аристон покачал головой.
– Нет, Данай, – сказал он. – Во имя моей любви к тебе я этого не сделаю.
Данай повернулся к трем своим спутникам.
– Я призываю вас засвидетельствовать, что я предоставил ему равные возможности! – заявил он. – И я хочу, чтобы вы поклялись именем Афины, что не станете вмешиваться, что бы ни случилось. Клянетесь ли вы?
– Клянемся Афиной! – сказали они.
– Подними меч. Аристон! – закричал Данай.
– Нет, Дан, – произнес Аристон.
Тогда Данай бросился на него; меч сверкнул в его руке. Увы, он жестоко просчитался. Хоть Аристону стукнуло уже тридцать шесть лет, ни один человек в Афинах, возможно, за исключением несравненного Автолика, не смог бы одолеть его в борцовском поединке. В ту же секунду Данай почувствовал, что его рука, вооруженная мечом, очутилась словно в железных тисках; Аристон заломил ее ему за спину, дернул вверх и вывернул так, что его пальцы вынуждены были разжаться, или кости его руки переломились бы, как тростинки. Он выпустил рукоятку меча, и тот упал на землю. Аристон моментально отпустил его.
– Иди домой, Данай, – спокойно сказал он. – Ты ж знаешь, что теперь, когда ты безоружен, мое преимущество перед тобой больше того, что было у тебя с мечом в руке. Прошу тебя, уходи.
– Аристон, – прошептал Данай, – скажи мне, что все это ложь, все то, что я слышал. Скажи мне, что моя сестра не живет в твоем доме как наложница. Скажи мне!
– Она живет в моем доме как моя жена, – сказал Аристон, – или, если хочешь, она была бы моей женой, если бы полис предоставил мне гражданство, которое я пытался получить тысячу раз и тысячью способами. Греха нет ни на ней, ни на мне. Дан. Гестия свидетельница, что мы давно поженились бы, если бы могли.
– Но вы не можете, – прошептал Данай, – и ты это знал. Ты знал с самого начала, что…
Он нагнулся с поразительной быстротой. И как ни проворен был Аристон, он все же не успел. Клинок Даная распорол ему левую руку от запястья до локтя. Рана была неглубока, но кровь хлынула ручьем.
Тогда Аристон сделал то, что и должен был сделать: он обрушился на своего противника подобно урагану на Ионическом море, зная, что ему необходимо разделаться с Дана-ем до того, как силы оставят его. Молниеносный удар ногой в живот согнул Даная пополам, удар коленом в подбородок вновь заставил его выпрямиться; затем, захватив обеими руками его вооруженную руку. Аристон извернулся, наклонился и бросил Даная через свою широкую спину с такой силой, что брат Хрисеи несколько раз перевернулся в воздухе и приземлился в пяти родах от него, где и остался лежать, потеряв на какое-то время ориентировку. Пошарив вокруг себя затуманенным взором, он увидел меч, протянул к нему руку, и тут же сандалия Аристона пригвоздила ее к земле. После чего другой ногой Аристон отшвырнул меч в сточную канаву.
– Ну что, Данай, сдаешься? – осведомился он.
– Нет! – Данай с трудом принял вертикальную позу. Как только он поднялся на ноги. Аристон принялся за дело подобно некоему восточному божеству, обладающему сотней кулаков. Смачные глухие звуки его сокрушительных ударов наводили ужас. Данай, которому не посчастливилось родиться спартанцем и боевая подготовка которого, в целом вполне приличная, все же была не лучше подготовки любого знатного афинянина, не смог нанести ни одного мало-мальски эффективного ответного удара.
Увидев, что его глаза остекленели. Аристон шагнул назад и дал ему упасть, поймав его до того, как он коснулся земли. Затем он повернулся к друзьям Даная.
– Отнесите его домой, господа, – сказал он. Когда Аристон вошел в дом, чуть пошатываясь от усталости и потери крови, Хрисея была уже там. Она уставилась на его рассеченную руку, и губы ее побелели.
– Это… это сделал Данай? – спросила она.
– Да, – пробормотал Аристон. – Позови служанок.
– А… а он? – выдавила она из себя.
– Боюсь, что в еще худшем состоянии, чем я.
Спустя три часа в дверь постучал один из молодых всадников, сопровождавших Даная. Он пришел сообщить им, что Данай мертв.
Хрисея отшатнулась от него. Ее глаза превратились в два уголька, пылавших безумным огнем на ее лице.
– Зверь! – завизжала она на Аристона. – Кровожадный пес! Ты убил его! Ты убил моего брата! О Гера, сжалься надо мной! Я…
Она бросилась на него с оскаленными зубами, ее скрюченные пальцы протянулись к его глазам.
– Моя госпожа! – воскликнул всадник. – Он…
– Зверь! Животное! Убийца! Душегуб!
– Хрис, – простонал Аристон, но она уже до крови расцарапала его лицо и подбиралась к глазам. Так что ему вновь, в который раз, пришлось сделать то, чего требовал от него этот обезумевший мир, мир, в котором ярость и насилие превзошли все мыслимые пределы, – он с размаху ударил ее по лицу. Она отшатнулась, потрясение уставившись на него. Затем метнулась к дверям.
– Моя госпожа! – крикнул ей вслед всадник. – Ты ошибаешься! Это не он! Он…
Но она уже скрылась за непроницаемой завесой ночи.
– Оставь ее, – вздохнул Аристон. – Когда она вымотается, ей будет проще хоть немного вправить мозги. Лучше скажи мне, кто убил его? Только не говори, что я не рассчитал силу своих ударов.
– Нет, мой господин Аристон, – сказал всадник. – Ты вел себя самым благородным образом. Арес свидетель, что ты могубить его двадцать раз, еслибы захотел. Тыотказался обнажить меч, голыми руками защищаясь против его клинка. Мы уже засвидетельствовали это перед нашим полемархом, Алкивиадом, а затем, по его совету, и перед самим архонтом-басилеем. Нет, бедняга Дан был заколот – ударом в спину – своим братом Бримом.
– Да поможет нам Зевс, – прошептал Аристон.
– Видишь ли, мой господин, – продолжал всадник, – когда Дан вернулся домой после драки с тобой, он был в прескверном настроении. А Брим был пьян. Они поссорились, и Брим стал насмехаться над ним: «С чего тебе вздумалось драться из-за этой маленькой порны? Она пришла к нему совершенно добровольно, хотя впоследствии я выжал из этой богатой скотины-метека столько серебра, сколько она сама весит».
– И что было потом? – спросил Аристон.
– Ну и Дан слово за слово вытянул из него всю эту историю, как твоя госпожа последовала за тобой в дом Пар-фенопы, где попыталась убить себя на твоих глазах. Как ты принес ее домой, спас ее жизнь и как впоследствии он, Брим, с отцом и братом потребовали от тебя за нее столько серебряных мин, сколько она весит, что ты…
–… предложил им. Они этого не требовали. Они бы удовольствовались гораздо меньшим – впрочем, теперь это не имеет никакого значения. А дальше?
– Дан сбил его с ног, а затем повернулся к нему спиной, чтобы уйти, и в этом была его ошибка. Брим вскочил, как разъяренный медведь, и вонзил нож в спину бедному Дану.
Мы – Акает, Керкион и я, Лаоном, – если тебя это интересует, убили Брима. Затем мы притащили этот увядший цветочек, Халкодона, который присутствовал при всем этом, к нашему полемарху, хотя он и предлагал нам себя для самых разнообразных гнусностей, по-видимому, с его точки зрения, чрезвычайно приятных, если мы его отпустим, и заставили его рассказать все как было. Вот и все. Я пришел сюда, чтобы от своего имени и от имени своих товарищей предложить тебе, как всадник и калокагат, любое удовлетворение, которое ты мог бы от нас потребовать за наше участие в этом деле.
– Удовлетворение? За что? Вы все вели себя самым достойным образом. Я благодарю вас – особенно за то, что вы избавили меня от необходимости убить Брима. А теперь я…
И внезапно, к своему собственному удивлению. Аристон склонил голову и заплакал.
Молодой всадник изумленно посмотрел на него.
– Ты оплакиваешь его? – спросил он. – Человека, который пытался тебя убить?
– Я любил его, – сказал Аристон. – Он был одним из немногих во всем этом жестоком мире, кого я любил. И за это Эринии обрекли его на смерть.
– Но почему? – спросил всадник.
– Потому что я любил его. Потому что он любил меня. И так происходит всегда. А теперь я должен идти.
– Куда? – спросил Лаоном.
– Принести жертвы богам. За его душу. Чтобы она обрела покой. Если, конечно, вообще существует нечто подобное.
– Подобное чему, мой господин?
– Душе. И богам, которым нужно приносить жертвы. И даже покою, – сказал Аристон и, откланявшись, оставил его одного.
Рано утром Хрисея вошла в его спальню. Ее лицо было серым от изнеможения. Ее фиолетового цвета губы распухли и потрескались. На ее плечах были глубокие царапины от ногтей, а на горле голубым полумесяцем красовались следы от зубов. И от нее воняло. Воняло потом, мужским потом, перемешанным с ее собственным. И другими запахами мужских утех. Ее руки были спрятаны за спиной. Она что-то держала. Наверное, нож. Аристон не пошевелился. У него больше не было желания даже защищать свою жизнь.
Он просто смотрел на нее. Он ничего не сказал. Говорить было нечего. Не было слов, которые они могли бы сказать друг другу. Ни в эту минуту. Ни когда-либо еще.
– Алкивиад? – наконец произнес он.
Она тупо кивнула.
Он продолжал смотреть на нее, пока она не начала трястись всем телом; казалось, что эта безумная дрожь никогда не кончится.
– Над могилой твоего брата, – сказал он. И тогца она внезапно упала перед ним на колени, протягивая ему ужасающего вида плеть со множеством ременных хвостов, каждый из которых оканчивался свинцовым наконечником. Такими плетями пользовались, когда нужно было до смерти запороть раба за такие преступления, как надругательство над афинской гражданкой или над мальчиком из знатной семьи.
– Возьми ее, – сказала она. – Бей меня. До смерти. Я все равно умру, но я не хочу легкой смерти, Аристон. Я обещаю тебе, что буду кричать только тогда, когда боль будет уж совершенно невыносимой… Прошу тебя, мой господин!
– Нет, – сказал Аристон.
– Ты хочешь, чтобы я приказала это сделать рабам моего брата? Или чтобы я надругалась над священными таинствами и попала в руки мастеров пыток? Ибо теперь мне недостаточно просто умереть. Я по собственному опыту знаю, как это легко и просто. Мне нужна именно такая смерть. Аристон. Я хочу пройти через этот кровавый кошмар. Я хочу умереть, захлебываясь своим криком. Может быть, тогда я смогу простить себя. Может быть, боги…
– Их нет, – сказал Аристон. – Они не существуют. Есть только Эринии.
– Я пришла в его дом, – продолжала она, как бы не слыша его слов. – Я подкупила раба, чтобы он впустил меня. Я вошла в его спальню. Разделась…
– Замолчи! – сказал Аристон.
– Забралась в его постель. Его не было дома. Прошло несколько часов, прежде чем он появился. Он был пьян. Он спросил: «Кто ты, мышонок?» Я ничего ему не сказала. Я… мы…
– Я сказал, замолчи! – крикнул Аристон.
– Потом я сказала ему, что я твоя жена. Он с ужасом посмотрел на меня. Спросил: «Зачем?» Я и это рассказала ему. То есть, зачем я это сделала. Он сказал: «Безумная, ты навлекла на меня гнев богов! Теперь мне никогда и ни в чем не будет удачи!» Затем он рассказал мне, как и от чьей руки погиб Данай. Как благородно ты вел себя. Как ты рисковал жизнью, чтобы не убивать Дана. Я видела, что он не лжет. Я схватила его меч и приставила острие к своему горлу. Он даже не попытался отобрать его. Он только сказал: «Не здесь. Я не хочу, чтобы ты вновь запачкала мои простыни грязью, что исходит от тебя. Иначе мне придется сжечь их. Уходи. Сделай это там, снаружи, в сточной канаве, где и должны подыхать взбесившиеся развратные мегеры вроде тебя». Аристон, прошу тебя, убей меня. Забей меня до смерти. Молю тебя, пожалуйста.
В нем шевельнулось нечто такое, что не имело названия. Но это нечто было чернее ночи. И оно было многоголовым, как гидра. Оно извивалось внутри него и выбывало какое-то мерзкое, тошнотворное чувство. И это чувство было желанием. Но не тем чистым, мгновенным, открытым влечением, которое он испытывал ко многим привлекательным женщинам и даже, до того, как он попал в бани Поликсена, к прекрасным юношам вроде покойного Лизандра или очаровательного фаэдона, а холодным, медленным, ползучим желанием сделать то, о чем она его просила: содрать трепещущую плоть с ее хрупких костей, забрызгать все стены ее кровью. И он, столкнувшись с этой головой гидры, вдруг понял, что перед ним извращение столь же глубокое, столь же отвратительное, как и любой из половых актов, совершаемых между мужчинами; пожалуй, единственное настоящее извращение, возможное между мужчиной и женщиной, ибо, как в свое время учила его Парфенопа, каким бы экстравагантным наслаждениям они ни предавались, это оправдывалось – хотя бы частично – взаимодополняемостью их природы, так что ничто гетеросексуальное не могло быть полностью порочным. Ничто, кроме этого. Этого же– лания рвать, терзать, причинять боль и наслаждаться этим вплоть до оргазма.
Причинять боль или испытывать ее! Ибо нечто обратное тому, что он сейчас испытывал, нечто столь же неясное, столь же противоестественное, он видел, чувствовал, распознавал и на ее лице; этот голод, отражавшийся в лихорадочном блеске ее глаз; эта истома, читавшаяся во влажной мерцающей податливости губ ее приоткрытого рта. Еще одна из голов гидры. И для него самая огромная, самая ужасная из всех. Ибо теперь он знал, что именно она правила всей его жизнью. Эта уродливая, безумная, унизительная потребность страдать, которую в этот самый миг, хотя тогда он не сознавал этого – пройдет какое-то время, прежде чем он это поймет, – она убила в нем, изгнала ее из него, как изгоняют злых духов, тем, что наглядно продемонстрировала ему всю омерзительную сущность этой пожиравшей его страсти к самоуничижению.
И тогда в нем поднялась еще одна голова этой божественной и демонической твари. Но она была не такой, как остальные, ибо он почувствовал это впервые: дикое, мучительное желание наконец-то избавиться от нее, обрести свое счастье, найти какой-то способ вернуть Клео. И причинить, таким образом, вред Автолику, своему другу, который ни разу в жизни не сделал ему ничего дурного, который всегда проявлял такое благородство, который…
Внезапно пелена спала с его глаз. Все эти извивающиеся чешуйчатые головы опустились на дно, пропали, сгинули без следа.
– Нет, Хрис, – спокойно произнес он. – Если хочешь, можешь поискать себе судью или палача где-нибудь в другом месте. Или даже истязателя. В таких делах я тебе не помощник. Все, что я могу тебе предложить, – это две вещи, которые тебе не нужны.
– А именно? – прошептала она.
– Мое прощение и мою жалость. А теперь вставай. Иди и прими ванну. Смой, по крайней мере, его пот. Меня мутит от его запаха.
– Аристон, – сказала она.
– Да, Хрис?
– Ты более жесток, чем я думала. Может быть, более, чем ты сам подозреваешь. Ты приговариваешь меня к жиз– ни. Со всем этим ужасом во мне. Ты сможешь, ты посмеешь сделать это?
– Да, Хрис, – сказал он. – Посмею. И смогу. Тогда она поднялась на ноги. Долго стояла, смотря ему в глаза.
– Что ж, пусть это будет на твоей совести, Аристон, – медленно, размеренно проговорила она, – как и все ужасные злодеяния, которые я, возможно, совершу с этого дня. По твоей вине. Из-за того, что ты не избавил меня от моей вины. И еще…
Он смотрел на нее и ждал, и ее слова не вызывали в нем ничего, кроме смертельной усталости.
– Знай, что я буду ненавидеть тебя до самой смерти! – выкрикнула она и швырнула плеть к его ногам. Затем она покинула его спальню так же, как давно уже ушла из его сердца.
Он вымылся и надушился, словно пытаясь избавиться от всей этой грязи, которую он чисто физически ощущал на себе до сих пор. Он уселся за стол, разложил перед собой папирус, чернильницу, гусиные перья, ящичек с сухим песком. Долго сидел, погруженный в свои мысли, прежде чем написать несколько строк из числа тех очень немногих отрывков его произведений, которые дошли до нас:
Она хотела, чтобы я вину, ее терзавшую, похитил, Я, чья душа вину свою избыть была не в силах, Так как же мог я излечить болезнь, от коей Я сам страдал всю жизнь, от муки корчась?
Вот, о великий Еврипид, Софокл бессмертный, Вот где трагедия нашла себе обитель.
Она внутри нас, и скрипящие устройства ваши, Богов спуская на веревках, как с Олимпа, Бессильны из души ее извлечь живую, Ибо она, тюрьму свою покинув по воле бога, Умирает в муках И кровью орошает его руки, Бессмертные, которые, возможно, Придуманы людьми, как сами боги…
Глава XXIII
Аристон очень медленно поднимался по крутым каменистым тропинкам, ведущим к Акрополю. Он нес корзину. В ней была пара голубей, которых он собирался принести в жертву Афине.
«Интересно, зачем я пришел сюда, – думал он. – Ведь я не верю в богов. Да и сами боги, если они все же существуют, причинили мне много зла. А может быть, я сам причинил им много зла, ибо что такое моя жизнь, как не один сплошной грех, кощунственная вонь для их олимпийских носов?» И все же…
Все же он взбирался по древним козьим тропам к белоснежным мраморным обиталищам богов. Сам не зная почему, он часто обретал там покой, ну если не покой, так, по крайней мере, некоторое ослабление чувства тревоги, постоянно владевшего им. И особенно в храме Афины, который называли Парфеноном, Домом Дев, поскольку все жрицы Богини Мудрости давали обет вечной непорочности. А даже временное избавление от терзавших его душевных мук, по его мнению, стоило этого нелегкого подъема.
Он уже мог любоваться несравненной красотой храма, возвышающегося перед ним, его волшебной симметричностью, благодаря которой массивные каменные глыбы казались невесомыми. Он ускорил шаг, чувствуя, как боль, грусть, бесконечная, гложущая, непрерывная тоска начина– ют покидать его при виде этого воплощенного совершенства. Ибо таков и был Парфенон. «Никогда больше человеческие руки не сотворят ничего подобного», – думал он.
Затем он проскользнул в его прохладный тенистый неф, намереваясь произнести молитву и принести в жертву пару белых голубей, которых он захватил с собой… и застыл в полном оцепенении, уставившись на высокие леса, воздвигнутые рабочими вокруг гигантской, из золота и слоновой кости, статуи Афины. Зачем? Ограбить ее?! Надругаться над ней, совершить столь чудовищное святотатство?! В его воспаленном мозгу, затуманенном яростью и самым настоящим ужасом, охватившим его, невзирая на все его безверие, одно за другим возникали слова, которые он был не в состоянии выговорить.
Ибо рабочие были заняты тем, что снимали золотые украшения с тела богини.
Наконец его ярость обрела голос, который зазвучал как громовые раскаты, эхом отразившись от колонн, нефа и крыши.
– Клянусь ее светлым именем, что вы здесь делаете? – воскликнул он.
Рабочие в замешательстве смотрели сверху на него. Делать то, что они делали, нравилось им ничуть не больше, чем ему смотреть на это. По правде говоря, многие дрожали от страха. Кто знает, может, богиня, разгневанная подобным грабежом…
– Отвечайте! – прогремел Аристон.
Старший из рабочих вышел из-за лесов и подошел к нему. В руках у него был свиток. Он не знал Аристона в лицо, но гордая осанка, не говоря уж – Аполлон свидетель! – о необыкновенной красоте этого человека, без сомнения, свидетельствовали о том, что перед ним важная персона. Он с почтением вручил свиток этому калокагату, а может быть, даже и всаднику.
– Вот распоряжения, отданные мне, мой господин, – тихо произнес он.
Аристон развернул свиток. Ему хватило даже беглого взгляда на него. Этот человек имел полное право на то, что делали его рабочие. Приказ был подписан всеми членами Собрания. И первой стояла подпись самого архонта-басилея.
– Все ясно, – сказал Аристон. – Но почему, добрый человек? Заклинаю тебя именем Афины, скажи мне!
– Плохие новости, мой господин, – печально сказал старший. – Конечно, я не знаю всех подробностей, но посуди сам: ведь мы – ее народ, и это ее полис, не так ли? Ну и в данный момент, мне думается, золото, которое мы принесли ей в дар, нужно нам больше, чем ей. Оно необходимо нам, чтобы избегнуть смерти. Или того, что, по моему разумению, намного хуже смерти – рабства. Мы не грабим нашу госпожу. Мы вроде как одалживаем у нее это золото до тех пор, пока не кончатся наши беды. Полагаю, что она одобрит наши действия, ибо не захочет спокойно смотреть, как эти спартанские скоты будут перерезать нам глотки и насиловать наших женщин и детей. Разве ты не согласен со мной, мой господин?
– Наверное, ты прав, – пробормотал Аристон. – Но расскажи мне, что произошло, мой добрый мастер?
– Ты, конечно, знаешь, мой господин, что после того, как мы простили Алкивиада за эту скверную историю со святотатством против богинь Деметры и Коры, он покинул Афины и…
– …помчался через все Адриатическое море к Нотию и запер лаконский флот – девяносто триер под командованием спартанского наварха Лизандра – в Эфесской гавани. Разумеется, я это знаю. Как и то, что будучи Алкивиадом, он скоро устал от бесконечного патрулирования перед гаванью и на своем флагманском корабле отправился к Фокее, чтобы посмотреть, как другой наш стратег, фрасибул, осаждает ее, оставив…
– …этого зеленого юнца Антиоха присматривать за флотом Лизандра, запертым в гавани. Что явилось либо ошибкой, либо…
– …изменой? Не думаю, – сказал Аристон. – У Алкивиада нет оснований особо любить Спарту и уж тем более возвращаться туда.
– Еще бы! – расхохотался старший. – При том, что старый царь Агис только и мечтает о том, чтобы оскопить его – это в самом лучшем для него случае – за то, что он трахнул его старушку, царицу Тимею, оставил ее в положении и…
– Я полагаю, здесь не место для непристойных сплетен, не так ли, мой добрый мастер? – дружеским тоном заметил Аристон. – Но продолжай. И не надо рассказывать мне об Антиохе. Эта печальная история мне также хорошо известна.
– Ты имеешь в виду то, что он набросился на Лизандра, едва корабль Алкивиада скрылся за горизонтом? – спросил старший.
– Что было примерно то же самое, как если бы щенок напал на тигра. Да, именно это. И прошу тебя, избавь меня от всех этих глубокомысленных уличных теорий, что он якобы сделал это по приказу самого Алкивиада. Ничего подобного. Он был всего-навсего нетерпеливым юношей со свойственной юности жаждой славы. Он нарушил приказ своего командующего, а не выполнил его. Подумать только, напасть на Лизандра – величайшего флотоводца, который когда-либо рождался среди лакедемонян, – столь искусного в морском бою, что вполне можно усомниться, спартанец ли он вообще!
– Клянусь Афиной, это чистая правда! – проворчал старший. – Просто напасть какая то на нашу голову.
– Да, лучший из лучших. И в тот день он продемонстрировал это со всей убедительностью. Расправившись с Антиохом. Нет – просто раздавив его. Уничтожив весь наш флот. Ну а вы, афиняне…
Мастер изумленно посмотрел на него. В произношении этого величественного мужа было нечто неуловимое, нечто такое, что позволяло предположить…
– Ты хотел сказать «мы, афиняне», не так ли, мой господин? – осведомился он.
– Ну ладно. Пускай будет мы, афиняне. В конце концов я тоже афинянин, хотя и не родился здесь. Но в данном случае я отказываюсь взять на себя часть ответственности за всех афинян. Было преступной глупостью пойти на поводу у городской толпы, вопившей что-то насчет измены, оравшей, что Алкивиад продался за персидское золото.
– Ну, ведь он не мог продаться за спартанское золото, ведь так, мой господин? Афина свидетельница, что у них его нет. Именно поэтому они…
– …променяли на него все, что было приобретено ге– роизмом эллинов у Марафона, Саламина, Фермопил, – медленно произнес Аристон; его голос звучал по-прежнему ровно, но в нем послышалось нечто такое, от чего у его собеседника мороз пробежал по коже, – отдали ионийских эллинов под беспощадное персидское иго. И все это – ради золота. За это кровавое грязное золото, чтобы с его помощью продолжать убивать своих братьев. Совершать самоубийство Эллады. Гасить очаг цивилизации. Мастер ошеломленно уставился на него.
– Я не знаю, о чем ты говоришь, калокагат! – воскликнул он. – Твои слова непонятны мне. Но от них меня пробирает дрожь. Особенно от того, как ты это говоришь.
– Извини, – отрывисто бросил Аристон. – Но я не верю, что Алкивиада подкупили. Я слишком хорошо его знаю. Сами по себе деньги его совершенно не интересуют. Чтобы его подкупить, им пришлось бы предоставить ему пятьдесят стопроцентных девственниц.
– И столько же нетронутых мальчиков! – заржал старший.
– Мальчики не понадобились бы. Это не для него, поверь мне. Но все это неважно. Важно то, что вновь отстранить его от командования, выслать его в Херсонес на Геллеспонте и оставить там, в его замке, наедине со своей обидой, было, как я уже сказал, преступной глупостью. Потому что он единственный из наших стратегов, кто может с успехом противостоять Лизандру на море. И если бы ла-концы не сделали ответную глупость, заменив Лизандра новым командующим, Калликратидом, то, возможно, мы бы уже имели спартанский гарнизон на Акрополе.
– Если мы не будем поторапливаться и ничего не предпримем, – мрачно сказал старший, – то так оно и случится. Поэтому-то и был издан этот указ, мой господин. Неужели ты ничего не слышал?
Теперь уже Аристон уставился на него.
– Чего не слышал? – спросил он.
– Плохие новости. Судя по всему, этот новый наварх еще лучше Лизандра. Прошлой ночью пришел дозорный корабль. Этот Калликратид пронесся по морям как ураган. Две недели назад он захватил Дельфинон на Хиосе и Ме-тимну на Лесбосе. Но это еще не все. Восемь дней назад он внезапно напал на Конона возле Митилены и потопил тридцать наших триер, мой господин. И в данный момент он запер весь наш уцелевший флот в Митиленской гавани. Так что мы лишились флота. И всех надежд, если только…
– Если только что? – упавшим голосом спросил Аристон.
– …не сработают эти новые меры. Я имею в виду изъятие ценностей из храмов, чтобы собрать средства на постройку нового флота. Ну и предоставление гражданства метекам и свободы рабам…
Аристон едва не лишился чувств. «О бессмертные боги!» – прошептал он так тихо, что мастер даже не услышал его.
– …если они будут хорошо драться. Положение отчаянное, мой господин. Похоже, что…
Но Аристона уже и след простыл. Он долго стоял у стен Парфенона в лучах полуденного солнца. Затем он открыл корзину и выпустил голубей. Они взмыли ввысь, белокрылыми стрелами устремившись к небесам, простершимся над…
ЕГО АФИНАМИ.
Теперь его. Его! Он бросил взгляд на город, раскинувшийся у его ног, на дома – белые, серые, цвета беж – с неизменной красной черепичной крышей, на черно-зеленые копья кипарисов, возвышающиеся между ними, на мерцающие зеленоватым серебром оливы, на неровные силуэты сосен, на разбросанную здесь и там глазурь цветущих миндальных деревьев, окрашенных весной в ослепительно белый цвет; и у него перехватило дыхание от этого великолепия.
Его город! Его полис! Единственное место во всей Элладе, которое было создано именно для него. Это разноцветье пастельных кубов и багряных треугольников, лениво ниспадающее к морю, увенчанное рвущимся в небеса мрамором его несравненных храмов, – все это его! Если, конечно, мастер не солгал или что-то не напутал. Что, впрочем, было маловероятно. Этот человек произвел на него впечатление одного из лучших представителей фетов: спокойный, трудолюбивый, сообразительный, хотя и необразованный – одним словом, из тех, кто не станет злоупотреблять истиной.
Да и кроме того, ему достаточно было сходить на Агору, чтобы убедиться в правдивости его слов. Там наверняка все это вывешено. И весь город горячо обсуждает столь необычные новости. Он уже слышал недовольное брюзжание олигархов:
– Гражданство метекам! Свободу рабам! О бессмертные боги! До чего докатились Афины!
«До здравого смысла, – усмехнулся про себя Аристон. – Во всяком случае, теперь они мои. Вот только мне придется в придачу к этому великолепному полису взять и Хрисею; взять ее, опустошенную, озлобленную, сварливую, в законные жены».
Он склонил голову, затем вновь ее поднял.
– Я обещал это Данаю, – пробормотал он. – А он мертв. Так что теперь это обещание священно, если только вообще что-то может быть священным. Но что такое слово человека? Что такое обещание? Наконец, что есть такая штука, как честь? Дуновение ветра. Ничто. Как и сам человек. Весенний снег, исчезающий к полудню. Слова, начертанные на воде. Надпись, сделанная в воздухе, и все же…
И он направился в сторону своего дома.
Но когда он-сообщил эту новость Хрисее, она только пожала плечами.
– Зачем это тебе? Что это теперь меняет? – спросила она.
– Очень многое. Сократ утверждает, что души, тени, одним словом, пневма людей – бессмертны. Я не знаю, прав ли он или нет. Но если он прав, мне бы хотелось, чтобы Дан знал – я сдержал свое слово. Что я приобрел гражданство и женился на тебе, как и обещал.
Тогда она повернулась к нему, и свет вспыхнул в ее огромных глазах.
– Аристон, – прошептала она.
– Да, Хрис?
– Я думаю, что ты благороднейший из людей, живущих на этой земле, – сказала она.
В тот же день Аристон приобрел у городских властей корпус триеры и оснастил ее за свой счет. Он велел глашатаям обойти весь Пирей и объявить, что каждый, кто захочет плавать под его началом, будет получать шесть оболов в день, вдвое больше обычной платы. Он разыскал того самого старого пирата Алета, который когда-то продал Клеотеру Орхомену, и назначил его своим нуархом, или вторым человеком на корабле. Третью по рангу должность он предложил Орхомену, но тот отказался.
– Как я могу сражаться, после того как ты сделал меня хромым? – заявил Орхомен. – К тому же, когда все это закончится и на Акрополе расположится спартанский гар-мост с гарнизоном, мне не хотелось бы оказаться в роли лакедемонянина, переметнувшегося на сторону врага, мой мальчик. Скажи честно, зачем тебе все это, Аристон?
– Это мое дело, – сказал Аристон.
– Ха-ха! Значит, все это для того, чтобы наконец жениться на ней. На этой уродливой злобной маленькой ведьме, от которой тебе следовало бы бежать, как от чумы. Но ведь это вопрос чести, не так ли, о благороднейший и честнейший из всех Аристонов? Тебе не грех было бы кое-чему поучиться у меня, дружище. По крайней мере, это я помыкаю своими женщинами, а не они мной. Или ты так любишь Сократа, что хочешь подражать ему во всем – даже приобрести копию Ксантиппы? Что касается меня, то я бы предпочел оригинал. Во всяком случае, она родила ему сыновей!
– Я вижу, ты все еще зол на меня, Орхомен? – заметил Аристон.
– Вовсе нет. Как можно всерьез злиться на такого глупца, как ты? Если бы ты похитил у меня Клео для самого себя и из-за совершенно естественного желания обладать ею, вот тогда я мог бы возненавидеть тебя. Но поскольку ты разлучил меня с нею из неких философских соображений и кончил тем, что отдал ее другому, я могу только презирать тебя. И жалеть. Все, чему тебя научила твоя философия, – это новым способам стать глупцом!
– Ну хорошо, – сказал Аристон. – Пусть будет по-твоему. Прощай, Орхомен.
– Что ж, радуйся, Аристон! Вот только чему? – сказал Орхомен.
Аристон вышел из мастерской и направился к Пирею, размышляя над иронией своей судьбы. Многие богатые афиняне были полностью разорены этой войной, однако его состояние утроилось по сравнению с тем, что оставил ему Тимосфен. «А все потому, -усмехнулся он, – что я верно выбрал свое ремесло. Разве я не сеял смерть вокруг себя всю свою жизнь? Так почему бы мне не наживаться на орудиях убийства? Я говорю себе, что защищаю свободу и достоин-ств&человека, что, снабжая афинский полис средствами для ведения войны, я вношу свой вклад в отстаивание этих высоких и священных принципов.
И это правда. Но не вся. Да, в случае победы моего родного полиса он, по своему обыкновению, повсюду установит олигархические режимы. Но, защищая Афины, разве я тем самым не становлюсь соучастником скионской и ме-лосской резни? И разве я не поощряю торговую экспансию, основанную на мошенничестве и обмане, а то и на прямом разбое?
А все дело, я полагаю, в том, что войны ведутся между людьми, а не между ангелами, с одной стороны, и демонами – с другой. И да будет так! Возможно, если боги все же есть и они будут добры ко мне, я смогу наконец освободиться от всего, в том числе и от этого рабства, которое называется жизнью…»
Добравшись до порта, он поднялся на борт своей новой триеры. С его богатством ему не составило труда оснастить ее менее чем за неделю, ибо он щедро платил за то, чтобы работа продолжалась и ночью, при свете факелов. Он ввел одно новшество: нос корабля, использовавшийся как таран, был сделан из железа, а не из бронзы, как обычно. Его отлили в его собственных цехах, а его кромка была такой острой, что ею можно было бриться; это наглядно продемонстрировал своему скептически настроенному оппоненту с другого корабля один из его матросов, потеревшись о нее своей челюстью и лишившись таким образом половины своей бороды.
Но Аристон торопился отнюдь не из-за чрезмерной воинственности. Он твердо решил получить гражданство, но для этого ему необходимо было отличиться в бою. А он полностью отдавал себе отчет в том, что абсолютно ничего не смыслит в морском деле. Девятнадцать лет назад ему довелось с берега наблюдать осаду Сфактерии, но он никогда \не принимал участия в морском бою. А на учебу ему оставалось не больше месяца.
В течение этого месяца его триера возвращалась в Пирей только для того, чтобы пополнить вконец истощившиеся запасы. Она оттаскивала брошенные и гниющие корпуса судов в открытое море и упражнялась на них в искусстве тарана. Стрелки, обслуживавшие катапульты, ежедневно расходовали до тонны каменных снарядов, выпуская их по различным целям. Рулевые научились разворачивать ее на пятачке размером с обол, лучники, пелтасты и копьеметатели с ее борта пронзали соломенные чучела в человеческий рост, заблаговременно выброшенные за борт, в то время как пращники, даже во время учений, использовали дорогостоящие свинцовые ядра вместо обычных камней.
Ну а гребцы учились не только мгновенно попадать в ритм, задаваемый келевстом, по команде ударяя деревянными молотками о колоду, но и, также по команде, высоко поднимать свои длинные весла и быстро втаскивать их как можно дальше внутрь корпуса судна так, чтобы триера могла пройти впритирку к спартанскому или сиракузскому кораблю, ломая вражеские весла по эту сторону борта и в то же время сохраняя в целости свои, после чего с помощью быстрых маневров можно было легко расправиться с беспомощным противником.
Его команда, как водится, роптала и ругала Аристона за его спиной; однако ее подлинное отношение к своему три-ерарху в полной мере проявилось, когда команда с другого судна осмелилась насмехаться над ним, употребив аттическое выражение, означающее что-то вроде «тупоголового солдафона». В ходе последовавшей потасовки были разгромлены три таверны и с десяток человек были доставлены в лечебницу с переломанными челюстями, руками и ногами. Причем то, что команда Аристона вышла из этого побоища почти без потерь, явилось непосредственным результатом их суровой подготовки, а столь пылкая любовь к нему – следствием присущего ему понимания людей.
Причем дело было не только в двойной плате. Например, помимо прочих преимуществ, его людей кормили намного лучше, чем на любом другом афинском судне. Ну а медовое вино, которое они в огромных количествах поглощали каж– дый вечер после учений, было знаменитым даприйским – так называемым «тухлым» вином, которое очень высоко котировалось среди мореходов. Никто из гребцов не был прикован к скамье. Все они были рабами, но у каждого на птее висел водонепроницаемый промасленный кожаный мешочек с долговой распиской, в которой Аристон гарантировал его владельцу выплату всей суммы выкупа за него, на случай, если полис по каким-либо причинам не выполнит своих обязательств по его освобождению. Жены и дети каждого, кто находился на борту, вне зависимости от того, были ли они гражданами Афин, метеками или рабами, уже получали пособие от казначея Аристона, причем в большинстве случаев это пособие было гораздо выше, чем те доходы, которые когда-либо имели их мужья и отцы; к тому же эти пособия должны были выплачиваться в случае гибели кормильца его детям вплоть до достижения ими совершеннолетия, а его вдове – пожизненно.
В свете всего вышеизложенного не приходится удивляться тому, что триерарх Аристон отныне возглавлял лучшее судно во всем афинском флоте. Да и сам он за этот месяц столькому научился, что Алет вынужден был признать:
– Я тебе больше не нужен. Ты можешь управляться с ним без моей помощи.
– Нет, Алет, – возразил Аристон. – Всегда может произойти нечто такое, чему тебе и в голову не приходило меня обучать, что случается раз в двадцать лет; это столь же верно, как то, что Зевс правит Олимпом.
– Ну если что-то такое и произойдет, то ты, я уверен, с этим справишься, – заявил Алет.
И сам того не подозревая, совершил богохульство. Ибо кто из смертных может справиться с Судьбой, Эриниями или самими богами?
«Фрина», триера Аристона, неслась по ветру, всем корпусом погружаясь в длинную узкую полосу серо-зеленой воды, уже помеченной тут и там белыми вскипающими барашками – оскаленными зубами шторма. Погода резко ухудшилась, в вое ветра появилось что-то зловещее.
– Было бы лучше, если бы мы повернули назад, триерарх, – сказал Алет. – Зевс Громовержец свидетель, что ты уже сделал достаточно, чтобы десятикратно заслужить свое гражданство.
Аристон даже не взглянул на своего нуарха.
– Там, с наветренной стороны, – спросил он, – сколько там наших разбитых кораблей, Алет?
– Более двадцати, – отозвался нуарх.
– И что будет, если мы не успеем вовремя? Алет пожал плечами. – Они утонут. А теперь, с твоего высочайшего позволения, триерарх, я задам вопрос тебе:
сколько народу может оказаться на двадцати разбитых триерах?
Теперь Аристон взглянул на него, ибо уже уловил ход рассуждений своего помощника.
– Ну, где-то тысячи две, Алет, – спокойно ответил он.
– А сколько мы могли бы взять на борт, если бы добрались до них?
– Не знаю. Может быть, с сотню…
– Вот видишь, сто человек из двух тысяч. Битва выиграна, мой триерарх. Мы отправили к Посейдону более семидесяти лакедемонских триер. И шесть из них были потоплены тобой на глазах у стратегов Фрасила и Перикла, не говоря уж о том, что триерарх Ферамен также был свидетелем твоего подвига, а его слово много значит в Афинах.
– Если он захочет произнести его, – сухо сказал Аристон. – Этому «Котурну» я бы не доверил и мизинца. Послушай, Алет, даже если нам удастся спасти хотя бы одного человека, вместе с ним мы спасем его мечты, надежды, всю его будущую жизнь. Прикажи келевсту повысить темп.
– Ну а что, если мы, вместо того чтобы спасти этого одного, сами все утонем? – проворчал Алет. – Взгляни в подветренную сторону, триерарх!
Аристон обратил свой взор в сторону Аргинусских островов, которым суждено было отныне и навечно остаться в истории как месту величайшей морской победы Афин. Он увидел отряд сиракузских триер, мчавшийся на них полным бакштагом. Разумеется, у них не было парусов – триеры, идя в бой, всегда оставляли на берегу свои мачты и паруса, чтобы противник не поджег их или чтобы они не перепутались, – но даже без них ветер, дувший в корму, помогал гребцам.
Затем он улыбнулся и в свою очередь указал рукой вдаль.
Куда более внушительная группа афинских судов во главе с триерой Ферамена двигалась по длинной диагонали наперерез сиракузцам. У него будет более чем достаточно времени, чтобы спасти по крайней мере некоторых из тех, что барахтались в воде, цепляясь за обломки своих триер, и подбодрить остальных, дабы они смогли продержаться до подхода спасательных судов: транспортные корабли под командованием таксиархов, или войсковых командиров, уже приближались с юга к ним на выручку.
И тут он увидел нечто такое, что заставило его содрогнуться. Три мегарских корабля преградили ему путь, отрезав его от разбитых афинских триер. А их пелтасты, лучники и пращники с видимым удовольствием истребляли беззащитных афинян.
– Триерарх! – возопил Алет. – Ради Посейдона!
– Полный вперед! – скомандовал Аристон. – Эномо-тархам приготовиться передать сигнал.
– Ради Зевса, триерарх! Какой сигнал? Прикажи рулевому немедленно разворачиваться, иначе…
– Нет. Видишь, как близко друг от друга расположились эти два мегарских корабля? Полный вперед, Алет!
– О, моя несчастная вдова! – простонал Алет. – О, мои осиротевшие дети!
– Заткнись и отдай распоряжения! – рявкнул Аристон. Весла разом ударились о воду и вгрызлись в нее, разбрасывая во все стороны сверкающую пену. Два мегарских судна выросли перед ними, становясь все больше с каждым движением гребцов. Эти союзники Спарты так увлеклись своей кровавой забавой, что даже позабыли оставить наблюдателя на кормовом полуюте.
– Давай, – сквозь зубы произнес Аристон.
– Суши весла! – проревел Алет.
Под палубой эномотархи в один голос подхватили этот приказ. И великолепно обученные гребцы Аристона одним быстрым движением подняли свои длинные весла и втянули их внутрь. Но даже лишившись своей главной движущей силы, обтекаемый корпус триеры мчался вперед с прежней скоростью. Влекомый собственной инерцией, он ворвался в промежуток между двумя мегарскими кораблями, снеся по ходу все три ряда весел по левому борту одного и по правому борту другого. Послышался оглушительный треск ломающегося дерева, но даже он не мог заглушить крики мегарских гребцов.
Аристон остался глух к этим воплям. Сейчас жалость была неуместна. Все равно мегарские гребцы, рабы, прикованные к скамьям, были обречены. А огромные рукоятки весел, сломанных, раздавленных, расщепленных носом и корпусом «Фрины», продирающейся меж двух мегарских триер, со смертоносной силой обрушивались на этих бедняг, раскраивая черепа, вырывая руки из суставов, превращая их в кровавое месиво. Там, под палубами мегарских кораблей, бойня была ужасной, но у него не было времени думать об этом, да и его сострадание никому уже не могло помочь. Пройдя между мегарскими судами, его собственные гребцы вновь взялись за весла.
– Поворот руля, – приказал он Алету, – резко влево!
– Отлично! – ухмыльнулся Алет, взглянув на третий мегарский корабль, который несся прочь так, словно за ним гнались сам черный Аид вместе с Эриниями. – Мы перехватим их, а?
– Вот именно, – подтвердил Аристон.
И этот маневр был выполнен его командой с идеальной точностью. Развернувшись на сто восемьдесят градусов, «Фрина» рванулась вперед, как копье, выпущенное чьей-то могучей рукой. Ее железный нос прошел сквозь мегарскую древесину как нож сквозь масло ближе к корме, прокладывая дорогу бурным морским водам.
– Полный назад! – крикнул Аристон.
Гребцы налегли на весла. Его триера вытащила нос из мегарского судна, оставив ужасающую пробоину. Через нее Аристон видел, как гребцы пытаются освободиться от цепей. А на верхней палубе воины и их командиры срывали с себя доспехи и прыгали за борт, в неспокойное море. Затем вода хлынула в эту пробоину. Мегарский корабль отправился прямо в обитель Посейдона со всем своим экипажем.
– Ну а те два корабля, – спросил Алет, – может, возьмем их на буксир, триерарх? Славная добыча! Мы можем получить хороший выкуп.
Аристон взглянул на нахмурившееся небо, прислушался к вою ветра. Килевая качка усиливалась с каждой минутой, «Фрина» ходила под ним ходуном.
– Мы их утопим, – сказал он наконец. – Погода слишком мерзкая для того, чтобы тащить их за собой.
Два мегарских корабля, оставшись без единого целого весла с одного борта, были совершенно беспомощны. Но они прекрасно понимали, что ждать пощады им не приходится. Так что они привели в действие свои катапульты и собрали всех своих лучников, пращников и пелтастов на той стороне, откуда на них неотвратимо надвигалась «Фрина». Но волнение на море все усиливалось. Их искалеченные суда болтало из стороны в сторону, не давая возможности как следует прицелиться. Аристон безжалостно протаранил их один за другим, затем отвел «Фрину» в сторону и стал наблюдать за тем, как они тонут.
Именно в этот момент он и услышал отчаянный крик своего дозорного.
Обернувшись, он увидел картину, заставившую его задохнуться от бессильной ярости. Ферамен развернул свои корабли в подветренную сторону, избегая атаки сиракузцев, в результате в афинском боевом строю образовалась дыра между ним и отрядом фрасибула, в которую и устремились в поисках спасения сиракузские корабли, и теперь путь в открытое море преграждала им одна «Фрина».
Оставшись один лицом к лицу с двадцатью кораблями противника. Аристон сражался как сам Арес. Но он был бессилен что-либо изменить; спасти «Фрину» мог бы только Ферамен, если бы он пришел со своим отрядом ей на выручку. А как раз этого «Котурн» Ферамена делать отнюдь не собирался. То, что с военной, стратегической точки зрения он действовал правильно, что с его стороны было бы неблагоразумно рисковать своим отрядом в условиях надвигающегося шторма ради спасения одного корабля в тот момент, когда битва была уже выиграна, ничуть не оправдывало его в глазах Аристона. К Аиду стратегию, Ферамен был просто обязан прикрыть образовавшуюся брешь, сразиться с сира-кузцами, попытаться хоть что-то сделать для спасения афинских жизней.
Сразу четыре сиракузских корабля одновременно вре– зались во «Фрину», перевернув ее на борт. Но она не сразу затонула. Аристон проследил за тем, чтобы все его люди покинули корабль, привязав себя веревками к рукояткам весел или к каким-либо другим кускам дерева, которые они смогли раздобыть. Затем, сняв доспехи, он бросился в седые волны и поплыл туда, где Алет и двенадцать самых сильных его людей уцепились за похожий на плот обломок, оторванный от одного из потопленных ими мегарских судов железным носом их триеры. Держась за него, они ждали, когда Ферамен приведет свои корабли и подберет их. А затем, подняв головы, они увидели, что весь афинский флот стремительно удаляется в подветренную сторону к островам, бросив их на произвол судьбы.
В течение всей ночи Аристон делал все от него зависящее, чтобы поддержать дух своих уцелевших соратников. Четырежды он выпускал из рук спасительные доски, чтобы плыть на помощь к тем, у кого уже не было сил держаться, кого волна отрывала от их хрупкого прибежища. И ему удалось-таки вывести всех на берег. Но, оглядевшись вокруг, он понял, что сохранить их жизни будет нелегко.
Бесплодная пустынная местность расстилалась вокруг; Аристон решил, что они находятся где-то на берегах Фригии, одном из владений персидского царя Дария Великого. Прежде весь этот берег был ионийским, а все здешние города – эллинскими. Но теперь, после того как Спарта променяла свободу азиатских эллинов на поддержку и золото Персии, Аристон боялся вести своих людей, нагих, продрогших, мучимых жаждой и голодом, в Антандр, Ретен, Сеет или Абидос, поскольку был почти уверен, что они попадут в руки воинов сатрапии, тем более что прежних местных сатрапов, Тиссаферна и Фарнабаза, недавно сменил царевич Кир, сын Дария, который был известен как страстный поклонник спартанского наварха Лизандра.
Тем не менее Аристон решил сделать все, что только возможно. Оружие и доспехи для своих людей он снял с трупов афинян и лакедемонян, прибитых к берегу волнами; затем провел их в глубь страны, где им повстречалось какое-то селение. Там, угрожая местным жителям оружием, они вытребовали еду и питье. Спустя неделю его отряд из четырнадцати человек уже разъезжал на угнанных лошадях, а к концу года слава об этой шайке разбойников стала столь велика, что для их поимки был послан целый отряд персидской кавалерии.
Но это ни к чему не привело. Напротив, всю зиму их численность возрастала по мере того как наиболее отчаянные ионийцы убегали из своих городов и присоединялись к этой горстке храбрецов, которые осмеливались грабить караваны мулов и вообще всячески досаждать великому царю. К весне следующего года под началом у Аристона находилось уже около двухсот всадников.
Но Алет и Аристон знали, что вечно так продолжаться не может, ибо царь Дарий умирал и молодого царевича Кира призвали к его смертному одру.
Прекрасно зная склонность своих соплеменников ко взяточничеству и их весьма расплывчатые представления о чести, Кир назначил спартанца Лизандра сатрапом всего Ионического побережья. Теперь план, давно уже составленный Аристоном и Алетом – купить или украсть по крайней мере пентеконтор и отплыть со всеми, кого удастся уместить на борту, через Эгейское море в Аттику, – нужно было спешно претворять в жизнь. Ибо ускользать и отбиваться от персидских всадников – это одно, а иметь дело со спартанской кавалерией – совсем другое. В сущности, это было бы самоубийством, и они это знали.
– Послушай, триерарх, – сказал Алет. – Если позволишь, у меня есть куда лучший план…
– Разумеется, Алет, – сказал Аристон. – До сих пор твои планы, как правило, были весьма удачны. Говори.
Алет опустился на колени и стал что-то чертить на земле острием своего меча. Как и большинство профессиональных мореходов, он прекрасно знал географию. На глазах у Аристона возникла карта той части Фригии, где они находились.
– Вот где мы, – говорил Алет. – А вот побережье. Ты его уже хорошо знаешь, триерарх. Там нет ни стадия, где бы не было города, деревни или селения, а между ними еще и рыбацкие хижины. Наши шансы пробраться к морю незамеченными практически равны нулю. А когда поднимется шум, как же мы сможем украсть судно? Пусть даже триакон-тор?
– Пожалуй, ты прав, – мрачно сказал Аристон. – Ну и что ты предлагаешь?
– А мы повернем в противоположную сторону, на северо-восток, и выйдем к побережью Пропонтиды где-то между Кизиком и Кием. Это дикая местность, там очень мало поселений. В сущности, она почти необитаема.
– И соответственно, там нет и судов, – сухо заметил Аристон.
– Да поглотит меня Аид! Об этом я и не подумал! – воскликнул Алет.
– Возможно, твой план не так уж и плох, – медленно произнес Аристон. – Только мы его немного изменим. Мы выйдем к побережью Пропонтиды западнее – между Лам-псаком и Кизиком. Это рискованнее, но и шансов захватить приличное судно у нас будет больше. Триаконтор нам не подойдет. Нужно попытаться раздобыть по крайней мере бирему, ну на худой конец пентеконтор.
– А может быть, нам даже удастся захватить торговое судно, – подхватил Алет. – Ну а если нас постигнет неудача, мы сможем добраться до Византии. Ведь она еще в союзе с Афинами, не так ли?
– Кто знает, что могло случиться за это время? – сказал Аристон.
Этот план сработал безукоризненно – за исключением одной маленькой детали: как только похищенный ими пентеконтор – ибо в конце концов им все же пришлось довольствоваться пятидесятивесельным суденышком – очутился в восточной части Геллеспонта, он наткнулся на весь спартанский флот из более чем ста триер, шедших навстречу им с западного, Эгейского, конца пролива.
Им ничего не оставалось, как спасаться бегством, и они бросились наискосок через пролив к Херсонесу, но спартанские триеры сопровождали сторожевые корабли, легкие триаконторы и пентеконторы, не уступавшие им в скорости. Им удалось добраться до берега вблизи огромного замка, но спартанцы преследовали их по пятам. Оказавшись лицом к лицу с многократно превосходящими силами противника, они отбивались как могли. Но, увы, могли они немного. Их оставалось не более двадцати человек, когда отряд всадни– ков во главе с высоким воином на великолепном гнедом жеребце внезапно вылетел из ворот замка и обратил в бегство спартанских пелтастов. Разделавшись с ними, предводитель всадников подскакал к уцелевшим беглецам и воскликнул громовым голосом, в котором не осталось и следа былой шепелявости:
– Афиняне или союзники моего полиса, ибо вы, несомненно, ими являетесь! Я предлагаю вам укрыться в моей крепости! Следуйте за мной!
Аристон молча стоял и смотрел на него. «Иногда боги слишком далеко заходят в своих забавах,, – подумал он.
Затем он вздохнул.
– Благодарю тебя, Алкивиад, – сказал он. Вечером, за ужином, Алкивиад неожиданно протянул Аристону свою могучую руку.
– Я не хочу, чтобы ты ненавидел меня, Аристон, – тихо произнес он.
– С какой стати мне ненавидеть человека, который только что спас мне жизнь? – осведомился Аристон.
– Потому что я знаю женщин. Она наверняка тебе все рассказала. Она пришла ко мне, сгорая от желания отомстить тебе за то, в чем ты даже не был повинен. Поверь мне, если бы я знал, что она твоя жена, я бы вышвырнул ее из своей постели.
– Ну да, так же как ты вышвырнул царицу Тимею, – сказал Аристон.
Алкивиад улыбнулся.
– Ты же не царь Агис. Я никогда не испытывал к тебе ненависти. Кроме того…
– Хрисея – это далеко не Тимея, о чьей красоте все только и говорят. И тем не менее, Алкивиад, ты должен возместить мне ущерб. Поэтому я намерен потребовать с тебя ровно столько, сколько стоит вся эта история. Алкивиад пристально посмотрел на него.
– И сколько же? – спросил он.
– Один обол, – ответил Аристон. Алкивиад изумленно уставился на него. Затем он откинул голову назад и разразился громовым хохотом.
Они вдвоем стояли на набережной у города Сеста и смот– рели, как корабли афинского флота бесконечным потоком вливаются в Геллеспонт.
– Прекрасное зрелище! – со вздохом произнес Алкивиад.
Аристон обернулся и посмотрел на него. В голосе бывшего стратега-автократора была тоска – да, именно тоска, – безнадежная и всеобъемлющая. Ибо несмотря на все причудливые изгибы его жизни, Алкивиад любил Афины. Если бы он только мог укротить свой неистовый нрав и служить своему полису так, как его граждане готовы были ему позволить; или, с другой стороны, если бы только афинскому демосу хватило ума закрыть глаза на его вопиющие выходки, бывшие по сути всего лишь изнанкой его характера гения, которым он вне всякого сомнения являлся, то весь ход истории мог бы быть иным. И как замечательно могло бы все сложиться! Но это означало хотеть слишком многого. Кроме того, теперь было слишком поздно. «Слишком поздно – самые грустные слова, которые только есть в любом человеческом языке», – думал Аристон.
Он вновь обратил свой взор на флот. Зрелище и впрямь было великолепным: сторожевые корабли, маленькие три-аконторы и пентеконторы веером рассыпались перед величественными триерами, и они, гонимые свежим ветром, наполнявшим их паруса так, что они становились тугими, как винные меха, с ослепительно сверкающими щитами у планширов, с разноцветными вымпелами, трепещущими на ветру, шли и шли мимо них, все сто восемьдесят грозных боевых кораблей, преисполненные решимости наконец-то покончить с этим старым морским волком Лизандром.
– Лизандр захватил Лампсак на другой стороне пролива, – обеспокоенно сказал Алкивиад. – Город с отличной гаванью, не хуже, чем эта. Нет, даже лучше. Остается только надеяться, что они знают, отдают себе отчет…
– Мы им обо всем расскажем, когда они причалят сюда, – успокоил его Аристон.
Но афинский флот и не думал останавливаться у Сеста. Медленно, величественно огромные триеры проплывали мимо единственного места на этом берегу Геллеспонта, где они могли бы пребывать в относительной безопасности, где им следовало бы бросить якорь хотя бы для того, чтобы обес– печить себе надежный тыл: в гавани у города, способного снабжать их пресной водой и съестными припасами, предоставлять им лекарей для ухода за ранеными и здоровых воинов для пополнения их рядов.
– Ты знаешь, куда они направляются. Аристон? – взревел Алкивиад. – Знаешь?
– Понятия не имею, – отозвался Аристон.
– А ты подумай! Где самое худшее из всех мест, куда только можно причалить? В каком месте на этом побережье абсолютно невозможно защищаться даже от утлых челнов, набитых педерастами, женщинами и детьми! Ну, где?
– У Эгоспотама, – сказал Аристон. – О нет! Только не это! Ради Геры, не говори мне, что они собираются бросить якорь у «Козьих рек»! Я не верю!
– Я и не прошу тебя верить, – заявил Алкивиад. – Садись на коня и убедись в этом сам!
Он оказался прав. Кошмарно, до тошноты прав. Они въехали прямо в самую гущу афинян, деловито разбивавших лагерь на этом пустынном берегу, словно бы специально предназначенном природой для того, чтобы служить бойней для глупцов. Аристон сидел на своей лошади и смотрел на них. Он едва сдерживал слезы – это обреченное, обманутое войско было его единственным призрачным шансом вернуться в Афины; у него не было выбора, он должен был присоединиться к нему.
Но Алкивиад не мог молчать, он ревел, как раненый лев:
– Глупцы! Безумцы! Где ваши глаза! Что вы здесь потеряли? Ну так я скажу вам! Песок, чтобы впитывать вашу жалкую ослиную кровь! Скалы, о которые вы будете ломать ноги, пытаясь спастись бегством! Где же пресная вода? Ха-ха! Пища? Еще раз ха-ха! Врачебная помощь! Заботливые женщины? Свежее пополнение?.. О Афина, ты только взгляни на своих сыновей! Ну почему, о мудрейшая из богинь, ты не наделила каждого из них хотя бы половиной ума?
Тидей и Менанд, два стратега, руководивших обустройством лагеря, подошли к Алкивиаду в сопровождении эно-мотархии из тридцати человек. И каждый из этих тридцати держал наготове копье или обнаженный меч.
– Убирайся, – холодно сказал ему Тидей. – Изменник Афин! Богохульник! Продажный персидский пес! Или ты покинешь этот лагерь, или будешь погребен под ним! Выбирай, о Алкивиад!
Алкивиад рванулся вперед, но Аристон стиснул его огромную руку своими железными пальцами.
– Не надо, друг мой, – спокойно произнес он. – Они не стоят твоей жизни.
– Но Афины стоят! – бушевал Алкивиад.
– Да, – согласился Аристон. – Афины стоят, если твоя смерть может принести им хоть какую-то пользу. Но сейчас? Неужели ты думаешь, что твоя смерть от рук этих глупцов что-то изменит?
Алкивиад молча сидел на своем коне. Постепенно его мощные мускулы расслабились, затем он весь как-то обмяк – и это выглядело как признание своего поражения.
– Ты прав. Аристон, – сказал он наконец. – Пошли отсюда…
В ту ночь Аристон с большим сожалением сообщил своему великому, блистательному и взбалмошному другу, что он намерен покинуть его и вернуться в лагерь у Эгоспотама.
– Ты, конечно, прав, Алкивиад, – сказал он. – Они глупцы. Но как еще я могу вернуться в Афины? А у меня там важные дела – жена, в конце концов, хотя и неверная. И я имею полное право вернуться. Меня никто не изгонял. Так что…
– Присоединяясь к ним, ты рискуешь жизнью, – резко оборвал его Алкивиад, – но ты сам сделал выбор. И я не могу тебя в чем-то упрекнуть. По крайней мере, постарайся попасть в подчинение Конона. У него одного есть что-то в голове…
Выйдя на зов дозорного, стратег Конон с удивлением смотрел на вооруженных людей, стоящих по грудь в воде. Они зашли так далеко в море, чтобы их услышали на его флагманском корабле.
– Так вы были у Аргинуса? – пробурчал он.
– Да, клянусь этими шрамами! – крикнул ему в ответ Аристон.
– Тогда как вы сюда попали? – осведомился стратег.
– Как, как – шагая и сражаясь! – проревел Алет. – После того как Посейдон пощадил те корабельные обломки, на которых вы, трусливые афинские собаки, бросили нас на верную смерть!
Конон с грустью смотрел на них. Его глаза потемнели от тяжелых раздумий. Он слишком хорошо знал эту историю. А если эти люди говорят правду, значит, он в какой-то степени обязан им и собственным спасением.
Он повернулся к своему нуарху.
– Бросьте им канаты! – приказал он.
В течение всей следующей недели Аристон буквально ни на шаг не отходил от стратега. Поскольку его отнюдь не добровольное изгнание длилось уже почти два года, он жаждал разузнать как можно больше о том, что за это время произошло в Афинах, о тех, кого он любил, о Клеотере, о Хрисее, о своих друзьях. Весь первый день он расспрашивал Конона при каждом удобном случае, стремясь развеять тревогу, гнездившуюся у него в сердце.
Но, увы, многое из того, что он узнал, наполнило его сердце печалью: Еврипид и Софокл ушли в царство теней – Еврипид умер в ссылке, в Македонии, а Софокл в Афинах – говорили, что от горя, вызванного потерей своего великого друга. В то же время Аристофан был жив и здоров, так же как и Сократ. Разумеется, Аристон не мог напрямую спросить о Клеотере; из-за условностей, окружавших жизнь афинянок, стратег даже не мог быть с нею знаком – привилегией общаться с посторонними мужчинами обладали лишь падшие женщины. А поскольку отношения между Клео и Автоликом были точно такими же, как между ним и Хрисеей, то есть своего рода полузаконным браком, который спустя столетия получит название морганатического, не приходилось рассчитывать и на то, что Конон вообще когда-либо слышал о ней. Так что ему пришлось удовлетвориться расспросами об Автолике; узнав, что атлет также жив и в добром здравии, он утешал себя мыслью, что пока Автолик жив, с Клео почти наверняка ничего не случится – если, конечно, их разлука сама по себе не явилась для нее несчастьем, чем-то вроде медленной, на долгие годы растянувшейся смерти.
Он вдруг почувствовал, что стратег вопрошающе смотрит на него.
– В чем дело, великий стратег? – осведомился он.
– Признаюсь, ты озадачил меня, триерарх, – сказал Конон. – Я знаю всех, кого знаешь ты, все они уважаемые и известные граждане, принадлежащие к высшим кругам общества, и в то же время я не знаю тебя. Почему?
– Да потому, – сказал Аристон, – что я не гражданин, стратег, а всего лишь простой метек, у которого нашлось достаточно денег, чтобы за свой счет оснастить триеру, когда полис, оказавшись в безвыходном положении, наконец-то милостиво мне это разрешил. Я сделал это для того, чтобы получить афинское гражданство, имеющее огромную ценность в моих глазах. И когда я вернусь, я намерен его добиваться. В конце концов, полис обещал эту награду тем метекам, которые будут сражаться под его знаменами. А кроме того, у меня есть два прекрасных свидетеля моих подвигов во славу Афин: Перикл, сын Перикла, и Фрасил – оба стратеги, мой командующий, так что их слово должно кое-что значить…
Конон, казалось, внимательно изучал палубу у себя под ногами, затем он взглянул Аристону в глаза.
– У тебя их нет, мой мальчик, – негромко произнес он. – Они оба мертвы. Может, у тебя есть другие свидетели?
– Ну, триерарх Ферамен, – это точно, и, возможно, еще Фрасибул. Во всяком случае, Ферамен был не дальше чем в пятидесяти родах от моего левого борта, когда сиракузцы протаранили мое судно и отправили его прямиком к Посейдону. Он наверняка…
Но Конон покачал головой. Медленно и печально.
– Афина свидетель, что удача отвернулась от тебя! – сказал он.
Аристон удивленно уставился на него.
– Не хочешь ли ты сказать, что Ферамен с Фрасибу-лом…
– Тоже мертвы? Нет. Эти свиньи как раз очень даже живы.
Аристон молча смотрел на стратега. Он ждал. Ждать ему пришлось довольно долго, ибо Конон, судя по всему, никак не мог собраться с мыслями.
– Ты стал жертвой того сражения, – произнес наконец стратег, – так что я хочу прямо тебя спросить: как ты относишься к тому, что тебя и твоих людей бросили на произвол судьбы, обрекли на верную смерть? Только честно.
– Ну, – медленно сказал Аристон, – как человек я был возмущен этим. И испытываю это чувство до сих пор. Но как воин я отношусь к этому с пониманием. Ибо разве не следует жертвовать малым во имя главного? Нашей главной целью при Аргинусах было сокрушить растущую морскую мощь Спарты, уничтожить ее флот и вновь утвердить наше превосходство в той единственной области, тде мы по-настоящему уязвимы, где нас можно даже уничтожить, а именно на голубой воде. Ну а люди всегда погибают в любом сражении. Попытаться спасти нас означало поставить под угрозу нашу победу. А этого мы не могли себе позволить. Я говорю это, несмотря на то что многим храбрецам, моим товарищам, друзьям, это решение стоило жизни…
– Что же, это слова истинного моряка! – сказал Конон и с размаху хлопнул Аристона по плечу своей огромной ладонью. – Ты правильно и, более того, профессионально оценил ситуацию. Но все дело в том, что вы не были брошены на произвол судьбы из соображений стратегии. Видишь ли, триерарх, мои друзья, восемь стратегов, командовавших флотом при Аргинусах, были не только военачальниками, но и истинными афинянами. Они не могли спокойно смотреть на то, как гибнут команды двадцати пяти триер, а это более двух тысяч человек.
– Так много? – ужаснулся Аристон.
– Да, так много. И они погибли из-за двух свиней, Ферамена и Фрасибула. Хотя вина Фрасибула была все же менее тяжкой – он просто-напросто промолчал и тем самым позволил шестерым отважным людям умереть вместо себя, в то время как Ферамен прямо обвинил их.
Аристон недоуменно посмотрел на стратега.
– Боюсь, что я не понимаю, о чем ты говоришь, стратег, – сказал он.
– Разумеется. Ты и не можешь этого понять. Дело в том, триерарх, что Ферамен и Фрасибул, который был при Аргинусах только триерархом, ибо эти глупцы в Афинах лишили его должности стратега за его связь с Алкивиадом, получили приказ взять десять транспортных судов, которыми командовали не моряки, а таксиархи, и еще тридцать семь триер и прийти на помощь терпящим бедствие.
– Они этого не сделали, – мрачно произнес Аристон. – В этом я могу поклясться!
– И мне это прекрасно известно. Но когда флот вернулся в Афины и городская чернь стала требовать крови тех, кто повинен в столь ужасных потерях, Ферамен объявил восьмерых стратегов в трусости, проявленной им самим. Ну а Фрасибул промолчал и позволил шестерым из них умереть – шестерым, ибо Протомах и Аристоген вообще не вернулись – после самого несправедливого и незаконного судебного процесса за всю историю Афин! Ты ведь знаешь, что по закону должны были состояться восемь отдельных процессов? Или по крайней мере шесть, поскольку только шесть стратегов могли предстать перед судом, чтобы каждый из обвиняемых имел возможность защищаться против конкретных обвинений только в его собственный адрес?
– Конечно знаю, – подтвердил Аристон. – Ведь это один из краеугольных камней афинского права.
– И тем не менее это правило не было соблюдено, – с горечью сказал Конон. – И Фрасила, Перикла, Аристократа, Диомедона, Эрасмида и Лисия судили одновременно и вынесли приговор, представлявший собой не что иное, как судебное убийство. По существу, вся эта процедура была настолько незаконной, что Сократ, который в тот день исполнял обязанности председателя притании, категорически отказался даже ставить требование смертной казни на голосование. Ты бы его только видел, триерарх, как он стоял там, как скала, и улыбался этой толпе, беснующейся, вопящей, требующей и его крови наряду с кровью шестерых стратегов…
– Бьюсь об заклад, что он так и не поставил это на голосование, – заявил Аристон. – Насколько я знаю своего учителя, он предпочел бы смерть!
– И это едва не случилось, – подтвердил Конон. – Его спасло только то, что слишком многие из присутствовавших в свое время сидели у его ног, жадно впитывая вино его философии. А кроме того, срок его притании истекал через два дня. Поэтому они решили подождать. Председатель следующей притании, как и можно было ожидать, оказался более сговорчивым. И шестеро храбрейших и благороднейших мужей Афин были преданы смерти.
– Включая и тех двоих, кто был достаточно близко от меня, чтобы стать свидетелем моих скромных заслуг перед полисом, – прошептал Аристон, – и теперь остались…
– …только две трусливые свиньи, у которых есть все основания не свидетельствовать в твою пользу, для которых само твое существование отныне представляет угрозу, – сказал Конон. – Так что теперь твои претензии на гражданство не будут иметь под собой ничего, кроме твоих никем не подтвержденных слов и слов твоих уцелевших подчиненных, триерарх. Боюсь, что твои шансы невелики. Разумеется, я сделаю все, что от меня зависит, но…
– Благодарю тебя, стратег, – сказал Аристон. Он вновь почувствовал, что Конон очень внимательно разглядывает его.
– Все-таки странно, что я не могу узнать тебя, – произнес стратег. – Ты был метеком, причем достаточно богатым, чтобы оснастить триеру, и тем не менее…
– Я был приемным сыном благородного Тимосфена, – сказал Аристон.
– Ну конечно же! Неудивительно, что ты вращался в столь высоких сферах!
– Внезапно выражение лица Конона резко изменилось; он помрачнел. В его глазах мелькнула тревога. – Послушай, Аристон, мой мальчик, – сказал он, – Я презираю людей, которым нравится приносить дурные вести, да и Гера свидетельница, что ты и без того уже достаточно пережил! Поэтому я не стану тебе ничего говорить. Но ведь ты Аристон-оружейник, не правда ли? Я наконец-то тебя узнал?
– Да, – подтвердил Аристон. – Но в чем дело, стратег?
– Да нет, ничего. Только если ты все же попадешь домой, позволь дать тебе один совет…
– А именно?
– Следи за своей женой! – сказал Конон.
За последующие дни, прошедшие в бесплодных маневрах как афинских, так и лакедемонских сил, Конон очень привязался к Аристону. Он сокрушался, что боги не наградили его таким сыном.
– Стратег, – как-то обратился к нему Аристон во время паузы, наступившей на пятый день боевых действий, – ты позволишь мне кое-что сказать тебе?
Конон взглянул на своего младшего соратника.
– Конечно, – сказал он. – Я слушаю тебя, лохаг!
– Этот берег невозможно удержать. Все уловки Лизан-дра направлены только на одно…
– Измотать нас, заставить пристать к берегу для отдыха, а затем – перебить нас всех. Ты думаешь, я этого не понимаю, сын мой?
– И что же? – спросил Аристон.
– Мы будем держаться открытого моря, сколько бы мои люди ни ворчали. Мы не пристанем к берегу, даже если мне придется подавить бунт!
И вот на рассвете, когда весь афинский флот мирно покоился на прибрежном песке, восемь триер Конона вместе с церемониальным кораблем «Паралос» находились в одной-двух стадиях от берега. И в тот момент, когда Аристон вышел на палубу, он услышал отчаянный крик дозорного:
– Спартанцы! Клянусь Герой! Спартанцы! Весь их флот! Весь трижды проклятый лакедемонский флот! По правому борту! Вон они! Идут прямо на нас!
Аристон обернулся и встретился взглядом со своим стратегом.
– Ну, лохаг, и что же нам делать? – произнес Конон с невеселой усмешкой. – Умереть как подобает героям или спасаться бегством, как пристало обыкновенным смертным?
Аристон молча взвесил в уме оба варианта. Девять кораблей не могли доставить спартанцам ни малейших проблем. Лизандр направит против них двадцать кораблей, а остальные сто с лишним медноносых таранов беспрепятственно врежутся в беспомощный афинский флот. А мертвыми Конон и его люди ничем не смогут помочь Афинам. Если же попытаться спастись, то по крайней мере кому-то из них, возможно, и удалось бы добраться до своего полиса и предупредить его о надвигающейся опасности.
– Я бы уклонился от боя, великий стратег, – сказал он. Теперь уже Конон пристально посмотрел ему в глаза.
– Почему? – спросил стратег.
– Чтобы остаться в живых и предупредить полис. Чтобы затем защищать его стены до последней капли крови.
– Да будет так! – сказал Конон и повернулся к своему помощнику. Лицо нуарха было серым от ужаса,
– Прикажи келевсгу задать максимальный темп, – распорядился Конон. – Скажи рулевому, чтобы поворачивал резко влево. Дай остальным команду следовать за нами.
– Как влево? – возопил нуарх. – Но ведь это же…
– В противоположную сторону от Афин. Знаю. Мы идем к Лампсаку, нуарх. Ступай же и отдай распоряжения!
Аристон удивленно смотрел на своего командующего. Затем он улыбнулся. В этот момент его восхищение Кононом было безграничным.
– Ты хочешь воспользоваться парусами Лизандра, не так ли, великий стратег? – спросил он.
– Вот именно. Теми самыми парусами, которые всегда оставляют на берегу, когда назревает сражение – ведь и наши остались на этой злосчастной полоске земли, откуда нам их уже не вернуть, – чтобы вражеские катапульты не смогли поджечь их зажигательными снарядами, чтобы они не запутались в снастях другого судна, своего или неприятельского, в самый разгар битвы, что может привести к самым печальным последствиям. Итак, в путь, за парусами Лизандра. Я думаю, они нам пригодятся. Мы обретем крылья, которые помчат нас так, что никакие гребцы не смогут нас догнать.
– Сама Афина наделила тебя своей мудростью, стратег! – воскликнул Аристон.
Все вышло как нельзя лучше. Отряд Конона с попутным ветром проскочил мимо спартанского флота и как выпущенная из лука стрела устремился к беззащитному Лампсаку. Лизандр даже не оставил там гарнизона. Они захватили все спартанские паруса, отобрали девять из них для своих кораблей, а остальные сожгли. Их снасти загудели, паруса наполнились ветром; темная, как вино, вода вскипела у них за кормой белоснежной пеной. И они вышли в открытое море, оторвавшись от лакедемонского флота на пол-Геллеспонта.
Но даже на таком расстоянии они видели столбы черного дыма, поднимающегося к небесным чертогам Зевса, сквозь который то и дело прорывались тусклые языки пламени, бушевавшего на побережье у Эгоспотама, на том самом месте, где еще совсем недавно стоял афинский флот; а когда менялся ветер, до них доносился отвратительный запах горящей человеческой плоти, и от этого запаха даже боги зажимали носы, не в силах его вынести.
Так было.
И было еще: не успели они уйти, убежать от этого зловонного дыма, от этого нестерпимого запаха, как услыхали отчаянный крик, услыхали голоса афинян, взывавшие к ним:
– Помогите! Ради Зевса, спасите нас!
И Аристон увидел маленький сторожевой корабль, три-аконтор, погруженный в воду почти по самую палубу. Он увидел зияющую пробоину в самой середине корпуса судна, оставленную лакедемонской триерой. И понял, что его команда уже обречена, если только…
Он обернулся и посмотрел на Конона.
– Суши весла! Табань! – закричал великий флотоводец.
Они втащили их на борт, этих несчастных, посиневших от холода, дрожащих, окровавленных, потерявших человеческий облик. Конон лично расспрашивал их.
– Мы сдались. Стратеги поняли, что дальнейшее сопротивление бесполезно. И они…
– Сдались на милость спартанцев? – спросил Конон.
– Да, великий стратег! Только…
– Что только? – прошептал Конон, уже зная ответ, как и Аристон. – Что, ради Геры!
– Этого слова лаконцы просто не знают, мой господин, – сказал старший из спасенных, – если оно вообще есть в дорийском языке, в чем я сильно сомневаюсь.
– Нет! – воскликнул Конон. – Неужели они…
– Убивают пленных? Именно так, мой господин, по приказу Лизандра. Три тысячи человек. Тела сжигали прямо вместе с кораблями. Тут-то нам и удалось бежать. Видишь ли, нужно много времени для того, чтобы убить три тысячи человек. Целая вечность Тартара даже…
–… для таких профессиональных мясников, как спар– танцы, – закончил за него Конон. Затем он склонил голову и заплакал.
Аристон молча смотрел на него. Ярость, бушевавшую в его душе, и невыносимый, безграничный стыд за своих соотечественников не могли выразить никакие слезы.
Три ночи спустя он стоял на палубе и смотрел на звезды. С каждой минутой он все больше осознавал, что они находятся явно не на своих местах. Даже его скромных познаний в навигации было достаточно, чтобы это заметить. Кроме того, они должны были бы уже увидеть огни Афин. Он еще раз взглянул вперед, туда, где должен был быть город. Никаких огней. Одно бескрайнее темно-синее море, спокойное, что-то сонно бормочущее про себя. Он смотрел на это небо, на эти звезды. Он все понял. У него не осталось ни малейших сомнений.
Он пошел и разыскал великого Конона.
– Послушай, Аристон, – сказал ему стратег, – ты что, уже забыл о том, какая участь постигла шестерых стратегов после Аргинусского сражения? Причем одним из них был сын самого Перикла?
– Нет, я этого не забыл, – ответил Аристон.
– Тогда мне не нужно объяснять тебе, что афинская чернь сделает с побежденным стратегом, который прибудет в Пирей с подобным известием?
– Нет, – сказал Аристон.
– А я хочу жить, – заявил Конон. – Видишь ли, мой мальчик, яд никогда не был моим любимым напитком.
– И что же теперь? – спросил Аристон.
– Мы направляемся на Кипр. Прекрасный остров. А главное, царь Кипра Евагор мой друг. И я смогу спокойно провести там остаток моих дней.
– Но Афины! Их надо предупредить! – воскликнул Аристон.
– Я посылаю «Паралос», чтобы предупредить полис, мой мальчик. Много же пользы это им принесет, без флота, без денег на постройку нового, без…
– О великий Конон! – прервал его Аристон.
– Да; Аристон?
– Позволь и мне отплыть на нем! Я должен попасть домой! Понимаешь, должен! Два года… Конон с жалостью посмотрел на него.
– Не будь глупцом, Аристон, – сказал он.
– Я всегда им был, – сказал Аристон. – Прошу тебя, мой господин!
Стратег долго молча смотрел на него.
– Ну хорошо! – произнес он наконец. – Я надеялся удержать тебя подле себя, но я не могу противиться тому, что вижу в твоих глазах. Хочу сказать тебе только одно, сын мой…
– Что? – спросил Аристон.
– Пошли гонца в свой дом, чтобы объявить о твоем скором прибытии, перед тем как ты высадишься на берег, – сказал Конон.
Аристон посмотрел ему прямо в глаза.
– Зачем? – спросил он.
– Зачем? Клянусь Афиной! Чтобы лишний раз не испытывать горя. Ненужного и бессмысленного горя, Аристон. Надеюсь, теперь ты меня понял?
– Да, – прошептал Аристон.
– Тогда уходи и оставь меня в покое! – произнес великий Конон.
Глава XXIV
Аристон и Автолик возвращались домой с рыночной площади в сопровождении двух слуг, нагруженных покупками, как это обычно водилось в Афинах. Ибо здесь, как, впрочем, и в большей части Эллады, закупка всего необходимого для домашнего хозяйства входила в обязанности мужа, а не жены. Поскольку, с точки зрения эллинов, благовоспитанной женщине не подобало выходить из своего дома иначе как по особым праздникам или же по крайней необходимости вроде болезни родственника или близкой подруги, афинским мужчинам приходилось брать на себя множество мелких домашних дел, считавшихся женскими в большинстве других стран мира.
По правде говоря, в тот день они могли бы и сами донести свои покупки и даже в одной руке, если бы местные обычаи им это позволили. Ибо хотя осада уже закончилась, Афины были полностью побеждены, их длинные стены срыты, на Акрополе стоял спартанский гарнизон, ссыльные олигархи – Критий в их числе – вернулись в полис и правили железной рукой, а поставки еды в город возобновились в достаточном количестве, чтобы избежать голода; тем не менее никто из афинян не страдал от переедания. Афины были покоренным городом, и победители не упускали случая, чтобы лишний раз напомнить им эту жестокую истину.
– Я оплакивал его, – говорил Аристон, – ибо хотя я и испытывал на протяжении многих лет неприязнь к Алки-виаду, даже ненависть, он в конце концов спас мне жизнь и был по-настоящему благороден и справедлив ко мне. Да, он был распутником, насмешником, он глумился над святынями. Его пороков было не счесть, но ведь и достоинств было не меньше. Говорю тебе, Автолик, это был один из величайших мужей Афин.
– Ну не знаю, – отозвался Автолик. – По-моему, на великого он не тянул. Вот Сократ утверждает, что величие неотделимо от нравственности, Аристон. Человек, лишенный добродетели, не может быть великим.
Аристон улыбнулся.
– Иногда мой старый учитель бывает очень наивен, – сказал он. – На самом деле величие не имеет ничего общего с добродетелью. Во всяком случае, почти ничего. Я бы даже сказал, что добродетель, в сущности, служит препятствием на пути к величию. А Алкивиад поплатился жизнью не за измену Афинам, а за то, что раскаялся в ней. Когда мы его изгнали и он бежал в Спарту, стал нашим врагом, его жизни ничто не угрожало. Но затем, когда мы опять отстранили его от командования, причем виновен был не он, а один из его подчиненных, с безумной дерзостью пренебрегший его распоряжениями, у него были все основания вновь выступить против нас. Но он этого не сделал. Более того, он рисковал жизнью, пытаясь объяснить нашим военачальникам, какая страшная опасность нависла над флотом. И он оказался прав. Я стал невольным свидетелем их безумия. Если бы они только послушались Алкивиада, мы бы не были теперь рабами Спарты.
– И Тридцати, – угрюмо добавил Автолик.
– Да, и Тридцати. Так что Алкивиад погиб из-за своих добродетелей, а не пороков. Ведь это Лизандр велел его убить – правда, я слышал, что весьма неохотно. Критий – вот само воплощение зла, и посмотри, как он вознесся! – убедил Лизандра, что до тех пор, пока у демократов есть надежда на возвращение Алкивиада, будет сохраняться и угроза восстания. И Лизандр организовал его убийство.
– Но ведь того же требовал от Лизандра и царь Агис, который сидит на своем троне, смотрит на Леонтихида и не может забыть, что Алкивиад трахнул его жену.
Аристон остановился. Он с трудом сдержал приступ горького смеха, внезапно охвативший его. «И мою тоже, – подумал он. – Правда, я взял с него ровно столько, сколько все это стоит. Один обол. Но ведь тебе этого не понять, не правда ли, Автолик, друг мой, живущий в прекрасном черно-белом мире, где нет никаких других цветов и оттенков?»
– Возможно, что и это сыграло свою роль, – медленно сказал он. – В любом случае, это было в высшей степени трусливое и бесчестное убийство. Алкивиаду пришлось покинуть свой замок после того, как флот Лизандра разделался с нашим. Он не смог бы устоять против ста сорока триер. Поэтому он уехал оттуда. И мирно жил в маленькой фригийской деревушке со своей любовницей Тимандрой.
– Опять женщина! – вставил Автолик.
– Он ведь был мужчиной, – спокойно возразил Аристон. – А ты бы предпочел, чтобы он был педерастом вроде нашего обожаемого Кригия? Вспомни, до того, как Собрание изгнало нашего благородного предводителя Тридцати за ту возмутительно атеистическую пьесу, даже Сократ, обычно терпимейший из смертных во всем, что касается человеческих безумств и страстей, был вынужден публично отчитать Крития за то, что он терся об Евтидема, как свинья о камень? Я думаю, если бы Критий любил женщин, в его сердце было бы меньше зла.
– Я помню, как ты отшвырнул его, как шелудивого пса, когда он попытался приласкать тебя, – сказал Автолик. – Странно, что он до сих пор не приказал арестовать тебя. Афина свидетельница, что он никогда не прощает обид!
– Он ждет, пока я совершу еще одну ошибку. А может, я слишком ничтожен теперь, чтобы он уделял мне внимание. Впрочем, все это не имеет никакого значения. Итак, вот как погиб Алкивиад: Лизавдр отправил послание сатрапу Фар-набазу, который, зная, что Лизандр пользуется большим влиянием на царевича Кира, с готовностью выполнил его просьбу. Фарнабаз поручил это дело своему брату Магаку и своему дяде Сусамитру. Они пришли ночью с отрядом лучников, копьеметателей и пращников и подожгли дом Алкивиада. А когда он выбежал без доспехов, с мечом в руке, они убили его издалека, ибо никто из них не отважился встретиться с ним лицом к лицу. Его похоронила Тимандра, со всей почтительностью и уважением, а главное, с искренним горем любящего сердца. Да, любовь верной женщины способна возместить нам многое другое. И я рад, что хотя бы этим он не был обделен, Автолик.
– Это верно, – сказал Автолик. Он взглянул на Аристона, и его простое открытое лицо омрачилось. – Верно, если тебя в самом деле любят и если женщина, о которой идет речь, действительно верна тебе. Послушай, Аристон, я…
Аристон остановился и положил руку на плечо атлета.
– Ты хочешь рассказать мне о том, что произошло во время моего отсутствия, не так ли, друг мой? – спросил он. – Не надо. Прошу тебя. Мне посчастливилось вернуться как раз тогда, когда того, кто, возможно, пожинал плоды моей предполагавшейся смерти, не было ни в моей постели, ни даже в моем доме. Ну а впоследствии, я думаю – ибо, заметь, я ничего не знаю наверняка, – Хрисея смогла сообщить ему о моем появлении. После чего он, будучи, без сомнения, трусливой свиньей – я уверен, что он не любил ее или уж во всяком случае она привлекала его гораздо меньше, чем ее богатство, – просто исчез. Это, конечно, только предположения, Автолик. Не презирай меня, друг мой, за то, что я предпочитаю их определенности. В твоих руках огромное счастье; в моих – жалкая подделка. И все же это лучше, чем ничего. Меня считали погибшим. Горе моей вдовы оказалось недолгим. Ну что ж. Да будет так. Теперь я воскрес. А прошлое умерло. Пусть покоится с миром, хорошо?
– Хорошо, – согласился Автолик. – Пусть будет так, как ты хочешь.
– Именно так я и хочу, – заявил Аристон. В этот момент они услыхали звуки флейты. Это была погребальная песнь, медленная, торжественная, печальная. Обернувшись, они увидели похоронную процессию, направлявшуюся в их сторону, причем рабы несли не одни, а сразу двое носилок, на которых лежали два завернутых в ткань тела с закрытыми лицами, с миртовыми и оливковыми венками на груди.
– Аристон! – воскликнул Автолик. – Взгляни на рабов! Это же рабы Ницерата! Я столько раз видел их в его доме, что не могу…
Тут он сорвался с места и, как безумный, бросился навстречу этой торжественной процессии. Аристон медленно последовал за ним. Ницерат, сын Никия, полководца, который десять лет назад заплатил своей жизнью за робость и нерешительность, проявленную у стен Сиракуз, никогда не принадлежал к числу его близких друзей. Аристон находил его взгляды слишком олигархическими, да к тому же, по правде говоря, завидовал ему: ставшая притчей во языцех преданность его жены, его безмятежное семейное счастье являли собой жестокий контраст с тем вечным чередованием любви и ненависти, которое ему приходилось испытывать, живя с Хрисеей. Но Автолик, с его простой и в то же время благородной душой, был способен любить людей, чьи взгляды были диаметрально противоположны его собственным, как в случае с Ницератом.
Когда Аристон подошел к атлету, Автолик уже рыдал, рвал на себе волосы и одежду, посыпал голову землей и бил себя в грудь в знак своей скорби.
– Они убили его, Аристон! – бушевал он. – Они заставили его выпить яд в его собственном доме, на глазах его несчастной жены! Но она – какой урок она преподнесла им! Когда его члены отяжелели – ты ведь знаешь, как действует яд? Ты просто ходишь, пока твои ноги не станут тяжелыми и холодными, и тогда ложишься и умираешь – так вот, она бросилась к одному из Одиннадцати или к кому-то из их охраны, выхватила у него меч и пронзила им свою грудь прямо на глазах у этих негодяев! Да, боги наградили его женой, равной которой нет ни у кого.
– Кроме тебя, – заметил Аристон. Автолик с грустью посмотрел на него.
– Нет, Аристон, – прошептал он, – вот за тебя Клео может умереть. За тебя, которого она все еще любит, она без колебаний отдала бы свою жизнь. Но не за меня. Я знаю, какие муки Тартара ты испытываешь с Хрис, хотя ты и слишком щепетилен, чтобы говорить об этом. Но я не думаю, что они страшнее тех тихих, незаметных мучений, что я испытываю ежедневно, притворяясь, что не замечаю притворства Клео! С того самого рокового дня, когда Данай вернулся домой с войском Алкивиада, моя жизнь стала не– выносимой. О, если бы боги сделали меня таким глупцом, каким я, должно быть, выгляжу!
– Автолик, – произнес Аристон. – Мне очень жаль. Я знаю, нет таких слов, что могли бы выразить это, но мне в самом деле очень жаль. Поверь мне.
– Я верю. Что за нелегкая штука – жизнь, правда? – сказал Автолик.
И они, хотя путь их лежал в другую сторону и они могли бы миновать его, стали подниматься вверх по холму к Акрополю, чтобы взглянуть на город с этого высокого прохладного и прекрасного места. Трагическая смерть Ницерата и его жены так потрясла их, что они совершенно забыли о спартанском гарнизоне, расквартированном на этом холме.
Несмотря на то что месяц боедромион уже подходил к концу, было все еще жарко, и Каллио, спартанский гармост, то есть командующий гарнизоном, стоящим в захваченном городе, пребывал в прескверном настроении. Впрочем, по правде говоря, причиной тому была не столько жара, сколько афиняне. Дело в том, что стоило спартанцу оказаться за пределами Спарты, как с ним тут же происходила поразительная перемена. Не то чтобы он чувствовал себя как рыба, вытащенная из воды, нет, но он словно бы оказывался во власти Цирцеи, подобно спутникам Одиссея, ибо как только он переступал границы другого полиса, как тут же превращался в самую натуральную свинью.
До этой войны афиняне, как и все эллины, не переставали восхищаться доблестью, дисциплинированностью, сдержанностью и чувством собственного достоинства спартанцев. И это восхищение длилось ровно до того момента, пока они не оказались под властью этих несравненных спартанцев. Ибо если у себя дома спартанец, вынужденный придерживаться многочисленных правил, которые охватывали практически всю его повседневную жизнь, в самом деле внушал к себе уважение и даже восхищение, то вдали от Спарты, попадая в непривычную для себя обстановку, он наглядно демонстрировал все пороки спартанского воспитания – прямолинейность, зашоренность, наконец, просто неумение самостоятельно мыслить. Столкнувшись с грубостью победителей, с их косноязычием, с их ничем не оправданной жестокостью, афиняне в первое время испытали нечто вроде шока. Однако затем, поняв, с какими тупоголовыми чурбанами и безмозглыми ослами, к коим, без сомнения, можно было причислить любого среднего спартанца, они имеют дело, афиняне стали подвергать их самым изощренным насмешкам; в результате спартанцы чувствовали, что над ними все время издеваются, но в то же время никак не могли понять, в чем конкретно это издевательство состоит. И теперь, к исходу осени, афиняне и спартанцы ненавидели друг друга куда сильнее, чем во время минувшей войны; возможно, этому способствовало и то, что ни те, ни другие уже не могли отводить душу, убивая друг друга.
К тому же, как это обычно и происходит в подобных случаях, боги по своей вечной зловредности сделали все, чтобы усугубить и без того скверную ситуацию. Каллиб был один, ибо даже общество его подчиненных выводило его из себя; настроение у него было хуже не придумаешь. И вот, стоило ему только отвести свой взгляд от этого неописуемо прекрасного города, который столь возмутительно подчеркивал убогую нищету его родной Спарты, оскорбляя его этим до глубины души, от этого города, населенного до неприличия красивыми людьми, которые, все как один, и мужчины, и женщины, с порога отвергали его неуклюжие заигрывания, как на глаза ему тут же попались двое афинян, причем оба были высокими мужчинами исключительной красоты, не достигшими еще сорокалетнего возраста. И их лица выражали такое нескрываемое презрение – или постоянно терзавшее его душу ощущение собственной неполноценности перед любым афинянином заставило его увидеть там нечто подобное, – что гармост буквально зашелся от ярости.
– Эй вы, афинские собаки! – прорычал он. – Что вам здесь надо?
Внутри у Автолика все вскипело. Но усилием воли он взял себя в руки.
– Мы пришли взглянуть отсюда на наши конуры, – ледяным тоном произнес он. – У вас в Спарте есть такие, гармост? Думаю, что нет. Я слышал, что свиньи часто принимают ваши жилища за свой хлев.
После чего Каллиб поднял свой жезл и с размаху ударил им Автолика по лицу. В следующее мгновение спартанец был уже в полете и, описав в воздухе дугу, приземлился чуть ниже на склоне холма под аккомпанемент оглушительного лязга своих доспехов.
Он с трудом поднялся на ноги и, выхватив меч, стал карабкаться вверх по склону. Но внезапно остановился и поднял меч к своему шлему в спартанском приветствии.
Аристон обернулся. За их спинами стоял высокий человек со знаками различия наварха на доспехах; по его губам было видно, что он с трудом сдерживает смех.
– Это ты сбросил вниз моего гармоста? – обратился он к Автолику.
– Да, о великий Лизандр, – ответил Автолик.
– Ну а что бы ты делал, если бы я не оказался здесь и он набросился бы на тебя с мечом? – спросил Лизандр.
– Я бы отобрал у него меч и заставил бы его съесть, – заявил Автолик.
Лизандр изучающе посмотрел на него. Во всей спартанской армии не было человека, который мог бы сравниться с этими двумя афинянами по развитости мускулатуры. За всю свою жизнь ему не приходилось встречать подобного воплощенного физического совершенства. Он сразу понял, что Автолик не хвастает, что он вполне мог бы сделать именно то, что сказал.
– Ну-ну, – с серьезным видом произнес наварх. – А теперь расскажите мне, из-за чего все это началось.
Аристон, обладавший куда большим красноречием, чем Автолик, взял инициативу на себя.
– Твой гармост, о Лизандр, – заговорил он, тщательно подбирая слова, – кажется, придерживается того мнения, что граждане Афин не имеют права находиться на этом Акрополе, построенном нашими предками. Он ударил моего друга жезлом по лицу только за то, что он, как и я, великий наварх, не любит, когда его называют собакой. Ибо, судя по его обращению с нами, твой гармост в самом деле полагает, что имеет дело с этими четвероногими. Что меня, честно говоря, несколько озадачивает. Может быть, в Спарте собаки строят такие храмы?
– Боюсь, что даже людям это не под силу, – спокойно сказал Лизандр. – Они просто великолепны. И это одна из многих причин, почему я не поддался на уговоры наших союзников и не разрушил этот город. Прощайте, господа! Вас никто больше не потревожит.
– Но… но, – заикался Каллиб, – он ведь ударил меня! Он швырнул меня на землю! Он…
– Замолчи, Каллиб! Ты понятия не имеешь, как должно обращаться со свободными людьми, – сказал Лизандр.
– Ну и куда ты теперь? – спросил Автолик у Аристона, когда они спустились с холма, на котором стоял Акрополь.
– Домой, – коротко сказал Аристон.
– А потом?
– Сегодня никуда. Послезавтра – в Булевтерий, – заявил Аристон.
Автолик остановился и недовольно нахмурился.
– Опять требовать, чтобы тебе предоставили гражданство, – горячо зашептал он ему на ухо, – в чем тебе уже дважды было отказано? И все для того, чтобы жениться на ней?! Жениться на этой грязной противной маленькой пор-не…
– Автолик! – оборвал его Аристон.
– Извини! Во мне говорит только моя любовь к тебе, Аристон. Ну и кому же теперь ты намерен подать прошение, мой бедный друг?
– Критию. Или Ферамену. Или обоим сразу. Это мой последний шанс, – сказал Аристон.
– Раз так, считай, что у тебя его вовсе нет, – заявил Автолик. – Подумать только, Критий, благородный отпрыск благороднейшего рода. Правнук самого Дропида…
– Педераст. Женоненавистник. Богохульник. Атеист. Убийца многих достойных людей. Предводитель Тридцати. Кстати, ты знаешь, Автолик, как их теперь называют?
– Знаю. Тридцать Тиранов. И с чего же ты взял, что Критий пойдет тебе навстречу? Или если не он, так «Котурн» Ферамен?
– Вообще-то я не особо на это надеюсь, хотя Критий когда-то… Я ему нравился, скажем так. Но в любом случае стоит попробовать.
– Да спасет нас Гера! Неужели ты опустишься до такого? Ты готов лечь в постель с этим, этим…
– Любителем минетов, мужеложества и прочих отбор– ных извращений? Нет. Кроме того, ты упускаешь из виду одну вещь или даже две, Автолик…
– А именно? – осведомился Автолик.
– Мне уже почти сорок, это не тот возраст, что обычно нравится педерастам. К тому же когда-то я швырнул Крития в грязь точно так же, как ты сегодня поступил с гармостом.
– Ну да! Я это прекрасно помню. А эта кровожадная свинья… Ты знаешь, скольких людей он уже обрек на смерть, Аристон?
– Более трехсот, – сказал Аристон.
– А ведь он никогда не прощает обид. И тем не менее, зная все это, ты продолжаешь упорствовать?
– У меня нет другого выхода. Я принес священную клятву Данаю, – сказал Аристон.
– Понимаю. И я сочувствую тебе. Ты даже не представляешь, как я тебе сочувствую, – сказал Автолик.
Когда Аристон подошел к Булевтерию, он увидел Сократа, который как раз выходил из него. Старый философ приложил палец к губам и состроил гримасу, призванную придать всему его облику чрезвычайно заговорщицкий вид. Получилось очень смешно.
– Скажи мне, Аристон, – прошептал он, – тебе уже исполнилось тридцать?
– Да уже девять лет назад, – сказал Аристон. – А что?
– А то, что мне строжайше запрещено разговаривать с кем-либо моложе тридцати, чтобы его не развратить. Это мне запретил Критий. И Харикл тоже. Вот ты мне скажи: я развращал тебя, когда ты был молод?
– Да еще как, – заявил Аристон. – Ведь ты учил меня думать. Что может быть хуже?!
– Боюсь, что ты прав, – вздохнул Сократ. – Ведь среди тех, кого я также учил думать, были и Алкивиад, и сам Критий! И посмотри, что из этого вышло! Прощай, Аристон: я, пожалуй, пойду, фаэдон ждет меня со своими друзьями. Кстати, а почему бы тебе не присоединиться к нам?
– Сегодня я никак не смогу. Может быть, в другой раз.
Но я хотел бы кое-что передать твоему прекрасному Фаэдо-ну,учитель.
– Что именно? – спросил Сократ.
– Что я не более ответствен за то, о чем ему напоминаю, чем он – за то, о чем напоминает мне. Не беспокойся, он поймет. И еще скажи, что я хотел бы быть его другом. Больше ничего. Прощай, Сократ!
Поднимаясь по ступенькам, ведущим ко входу в Булев-терий, он размышлял о том, почему Сократ так до сих пор и не понял, где именно его учение, так сказать, не сработало. А не сработало оно в области политики. Ибо философ всю свою жизнь высмеивал основополагающую идею демократии, а именно: во главе государства должны стоять непрофессионалы. Сколько раз ему приходилось слышать от Сократа буквально следующее: «Я полагаю, ты не станешь нанимать флейтиста, чтобы изваять статую? Так как же можно путем простого подсчета голосов доверять власть тем, кто не имеет ни малейшего представления об искусстве управления другими людьми?»
«Все дело в том, о Сократ, – думал в эту минуту Аристон, – что те, кто имеет об этом представление, слишком опасны. Ибо ум, склонный к управлению людьми, к распоряжению их судьбами, почти всегда сочетается с честолюбием более ненасытным, чем голодный волк. На одного Солона или Перикла приходится тысяча Критиев. А кто причинил полису больше зла – Алкивиад или Клеон? Что бы ни говорил ты, учитель, как бы ни изощрялся в остроумии этот насмешник Аристофан, но кожевники, изготовители светильников и прочие подобные им правили нами куда лучше, чем ваши хваленые специалисты. Ну а твоя аналогия с флейтистом, исполняющим работу скульптора, не годится, ибо основана на логической посылке. А какое отношение, о всемогущие боги, может иметь логика к людям и их делам? Страсти, предрассудки, безумие, страх, даже похоть, не говоря уж о жадности – вот что правит нами, мой учитель. Твое благородство и возвышенность твоих мыслей ослепили тебя. Ты забыл, что имеешь дело со свиньями!»
– О да, – сказал Ферамен Критик». – Без всякого сомнения, он совершил все те подвиги, о которых говорит. Я был тому свидетелем. Так же как и Фрасибул из Стирии, хотя он, благодаря тебе, и не может сегодня дать показания в пользу Аристона. Триера, которую Аристон оснастил…
– И которой я командовал, – резко прервал его Аристон.
– Ну полно, Аристон! Ведь твоим помощником был этот старый пират Алет, не так ли? – вкрадчиво осведомился Ферамен.
Аристон посмотрел на бывшего триерарха. Он рассчитывал на его поддержку, ибо все знали, что в последнее время Ферамен неоднократно выступал против неограниченной и кровавой власти Крития. Соответственно у него была маленькая надежда, что Ферамен поможет ему приобрести гражданство, чтобы заполучить сторонника, который может ему пригодиться, когда вспыхнет давно всеми ожидаемая ссора между главарями этой шайки. Но теперь Аристон видел, что он просчитался. «Котурн» снова, в который раз, «сменил ногу».
– Верно, – спокойно сказал он. – Но я не только оснастил триеру, но и, хотя ты, кажется, не склонен этому верить, командовал ею в бою. По правде говоря, Алет был вне себя от моих действий. Именно потому, что он был гораздо опытнее меня, он и не одобрял чрезмерного риска и советовал мне быть осторожней.
Критий улыбнулся.
– Для метека ты мастерски владеешь диалектикой, – сказал он. – Можно даже подумать, что ты в юности частенько захаживал к Сократу.
– И захаживаю до сих пор, в чем и заключается разница между нами, Критий!
– Очень упрямый старик, Аристон, я бы даже сказал, чересчур упрямый, – сказал Критий. – Ты бы посоветовал ему отказаться от кое-каких привычек, иначе…
– Что иначе? – спросил Аристон.
– Иначе может случиться так, что я буду вынужден каким-то образом ограничить его деятельность, – ловко сформулировал Критий.
– С твоей стороны было бы умнее, – сказал Аристон, прекрасно понимая, что все уже Глава XXV
Аристон сидел у огня в маленькой харчевне, пытаясь согреть руки о большую чашу нагретого медового вина. Харчевня находилась в Беотии, у самой границы между этим государством и Пла-теей, так что здесь, естественно, было гораздо холоднее, чем на юге, на Аттическом полуострове.
Он повернул голову и окинул взглядом людей, битком набивших харчевню. Он сразу определил, что почти все они были афинянами, хотя никогда прежде ему не приходилось видеть жителей своего приемного полиса столь молчаливыми, запыленными, усталыми, забитыми, запуганными…
Он подозвал хозяина харчевни и спросил, кто эти люди.
– Кто они? – переспросил этот славный беотиец. – Ну разумеется беженцы, мой господин, бегущие от Тридцати Тиранов. Такое впечатление, что афиняне изобрели для себя новый закон: любой бедолага, чье имя не внесено в список Трех Тысяч Олигархов, сколь бы знатным и благородным он ни был, может быть в мгновение ока отправлен в тюрьму, где ему тут же предоставят возможность промочить горло глотком отборного яда. И все это без ненужной траты времени на такие глупости, как суд.
– И что, все эти люди были осуждены на смерть? – спросил Аристон.
– Нет, мой господин. Иначе они не были бы здесь.
Просто у них появились некоторые основания считать, что следующая порция яда предназначается для них. Как я слышал, теперь в Афинах заработать ее можно безо всякого труда. Может, их вина состоит в том, что они прилюдно подали милостыню нищему, или ни разу не забили до смерти своего раба, или, страшно подумать, ни разу даже не столкнули с дороги в грязь какого-нибудь фета…
– Словом, им так или иначе не удалось соответствовать высоким аристократическим принципам и в полной мере проявить надлежащие благородные чувства? – подытожат Аристон.
– Вот именно. Ну а ты, мой добрый господин, осмелюсь спросить, что привело тебя в наши края?
– Да то же, что и их. Только мне удалось выбраться оттуда немного раньше, еще до вступления в силу того закона, о котором ты говорил, друг мой. Однако судя по твоим словам, ты придерживаешься либеральных взглядов, невзирая на твой цветущий вид и весьма почтенное брюхо. Весьма редкий случай. Тем не менее, мне думается, ты мог бы мне помочь. Допустим, я хотел бы кое-что изменить в Афинах…
В глазах хозяина промелькнуло внезапное подозрение.
– Господин столь благородного вида, как ты? – осведомился он.
– Благодарю тебя за лестные слова. Но я не всадник и даже не калокагат. Я простой метек. Правда, богатый метек – точнее, был им до того, как они отобрали у меня мои мастерские и к тому же убили моего лучшего друга.
– А кто был твоим лучшим другом, мой господин? – спросил беотиец.
– Ты когда-либо присутствовал на играх? – спросил Аристон. – На Истмийских или Олимпийских?
– И на тех, и на других, – с гордостью заявил хозяин.
– Тогда ты должен знать – или, по крайней мере, должен был видеть – атлета Автолика.
– Автолика? Великого панкратиаста? Который сломал руку Промития, как тростинку, а затем зашвырнул его так далеко, что… Неужели ты хочешь сказать, что они…
– …убили его? Да, – подтвердил Аристон.
Пламя ярости вспыхнуло в глазах хозяина харчевни. Он, как и многие простые люди, всегда восхищался спортивными подвигами и боготворил могучих, бесподобно сложенных атлетов, которые их совершали.
– Я бы на твоем месте, мой господин, – сказал он, – отправился в Фивы. Там обосновался фрасибул Стирий-ский. Я слыхал, что он собрал вокруг себя немало отличных воинов.
Аристон, разинув рот, уставился на хозяина, буквально остолбенев от изумления. Подумать только, Фрасибул, молчаливый соучастник Ферамена во время позорной судебной расправы над шестью стратегами! Каким образом подобный тип мог найти в себе мужество, чтобы?..
Но он тут же спохватился и направил свои мысли в иное русло, вспомнив, уже без всякой насмешки, о более ранних событиях. Ибо шесть лет назад Фрасибул приобрел заслуженную славу, одержав, вместе с Алкивиадом, блестящую победу в морском сражении под Кизиком; опять же, через три года он с тридцатью триерами подчинил себе все фракийские города, восставшие против Афин. И даже при Ар-гинусах, несмотря на то что его самолюбию был нанесен болезненный удар, когда афиняне безо всяких видимых причин понизили его до должности триерарха – скорее всего за давние и близкие отношения с Алкивиадом, – фрасибул тем не менее проявил себя по меньшей мере достойно. Так можно ли считать трусом человека только за то, что он один-единственный раз потерял самообладание? Ибо одно дело смотреть в лицо смерти во время боя, когда кровь кипит в жилах и у тебя нет времени думать о ней. И совсем другое – встретить ее в мрачном и сыром подземелье, держа в руках чашу с ядом. Во всяком случае, мысль о такой смерти должна казаться невыносимой. Ну а теперь…
«А теперь попробуем себя в роли сикофанта, – с усмешкой подумал Аристон. – Я заставлю того, кто когда-то был блестящим и отважным полководцем и кем ныне, несомненно, движет чувство стыда, предоставить мне командную должность в рядах его войска за мое молчание, за то, что я не стану вспоминать о его прегрешениях. Да будет так! Вперед, в Фивы!»
– Благодарю тебя, мой добрый хозяин, – произнес он вслух. Он кинул монету на скамью, расплачиваясь за еду и питье, и вышел во двор, чтобы разыскать свою лошадь.
– Ты хочешь занять командную должность? – переспросил Фрасибул. – Ты, метек?
– Неужели Афины еще недостаточно пострадали от деления людей на сословия? – возразил Аристон. – Я мог бы заступиться за свой род – к слову, весьма знатный, Фрасибул, можешь мне поверить, – и объяснить, каким образом я стал метеком в Афинах, вместо того чтобы занять приличествующее мне положение в моем родном полисе. Но я не стану этого делать. Яне обязан что-либо тебе объяснять. Сейчас котурн на другой ноге, стратег! Ибо где ты был, благородный Фрасибул, когда триеру, оснащенную мною за собственный счет, протаранили и потопили у Аргинус четыре сиракузских корабля после того, как она совершила подвиги, которые моя скромность не позволяет мне даже назвать, чтобы не прослыть хвастуном? Где ты был, когда я всю ночь цеплялся за обломки моего корабля, слушая предсмертные стоны гибнущих товарищей?
– Ты был у Аргинус? Ты командовал триерой?
– Спроси у Ферамена! – заявил Аристон.
– Ты, стало быть, отправляешь меня прямо в Тартар. Ибо Ферамен мертв. Но я, кажется, припоминаю, что он рассказывал мне о доблести, проявленной неким метеком. Арестед – Аристокл – Арис…
– Аристон – это я и есть. Ибо среди всех триерархов флота я был единственным метеком. Так что же, ты принимаешь меня в свое войско, Фрасибул? Уверяю тебя, ты быстро убедишься, что я умею сражаться.
Полководец задумчиво посмотрел на высокого человека, стоящего перед ним. Он видел посеребрившиеся виски Аристона, седые пряди в его бороде цвета жженого воска, но он видел и то, что этот уже немолодой человек не имел ни грамма лишнего веса, что мускулам его рук, ног, груди мог позавидовать сам Геракл.
– Ты ведь был профессиональным атлетом, Аристон, не так ли? Мне кажется, я где-то тебя видел… Ну да! Ты боролся с Автоликом…
– …который был злодейски умерщвлен Тридцатью за то, что отплатил спартанскому гармосту Каллибу за оскорбление, швырнув его в грязь. За тем я и пришел сюда – чтобы отомстить за него. Но я никогда не был профессиональным панкратиастом. Скорее, я могу назвать себя приверженцем учения Сократа о том, что тело – это храм души и поэтому должно быть достойно ее… Ну так что, Фрасибул?
– У меня всего семьдесят человек. Анит является моим первым заместителем. Устроит ли тебя должность второго?
– Вполне. Все, чего я хочу, – это добраться до Крития, – заявил Аристон.
И вот теперь, перейдя ночью границу, они вновь оказались в Аттике. «Большая разница, нечего сказать», – подумал Аристон, чувствуя ледяное дыхание ветра на своих обнаженных руках и бедрах. Шедшие впереди него Фрасибул и Анит внезапно остановились. Фрасибул поднял руку и указал вперед.
– Что ты об этом думаешь, Анит? – спросил он.
– Бесполезно, – отозвался Анит. – Мы замерзнем среди этих каменных развалин, не говоря уж о том, что оборонять стены, находящиеся в таком состоянии, совершенно невозможно. Войска Крития снесут их ивовыми прутьями, не говоря уж о таране.
Аристон молча смотрел на развалины крепости Филы. «Он прав, – думал он.
– Клянусь Герой, удача отвернулась от нас».
Но затем одна деталь привлекла его внимание: хотя часть стены и обвалилась, камни, составлявшие ее, остались целы. Очевидно, стену подмыли грунтовые воды, вполне возможно, что весенний паводок, и в результате она плавно осела и рассыпалась. За четыре дня изнурительных работ можно было бы привести разрушенную крепость в состояние, необходимое для того, чтобы семьдесят человек могли отразить нападение целой армии, разумеется при условии, что боги сжалятся над ними и сделают вражеского военачальника достаточно безрассудным, чтобы атаковать их, вместо того чтобы просто-напросто окружить их наспех сколоченную цитадель и спокойно дожидаться, пока они все не перемрут с голоду.
«Интересно, способен ли Критий на такое безрассуд– ство?» – думал он, когда грубый голос Фрасибула прервал его размышления.
– Ну а что ты думаешь, Аристон? – прорычал командующий.
– Пока не знаю, – честно признался он, – но у меня есть к тебе просьба, великий полемарх.
– Какая? – спросил Фрасибул.
– Дай мне половину своих людей, в то время как остальные будут стоять в дозоре, готовые сменить первую группу, когда те выбьются из сил, и я посмотрю, что можно сделат» с этой стеной.
– Клянусь Аидом, – начал Анит. – Мы никогда…
– Тебе известно какое бы то ни было другое укрытие поблизости, лохаг? – осведомился Аристон. – Другое место, где у нас был бы хоть малейший шанс сдержать натиск полчищ Тридцати?
– Нет, – признался Анит. – Но…
– Никаких «но»! Он прав, – заявил Фрасибул. – Бери людей, Аристон, и приступай!
За четыре дня он восстановил стену, причем для того, чтобы подвигнуть своих людей на героические усилия, Аристон использовал простейшее средство: он сам работал в обе смены и давал при этом сто очков вперед самым сильным из них, так что остальным было просто стыдно отставать от него. Семьдесят аттических гоплитов смотрели на него с благоговением.
– Он, несомненно, сын самого Геракла! – перешептывались они. – Ни один простой смертный не смог бы ворочать такие камни!
Аристон даже не смотрел вниз, на козью тропу, на Кри-тия с его тремя тысячами воинов, с трудом взбиравшихся по этой тропе, петлявшей по неровному горному склону, чтобы приступить к штурму крепости. Он внимательно изучал лица своих соратников. Скажем прямо, зрелище было не самое обнадеживающее. Фрасибул выглядел обеспокоенным. На посеревшем лице Анита легко читалась охватившая его паника, которую ему едва удавалось сдерживать. Ос– тальные тоже были не в лучшем состоянии. Некоторые даже в худшем.
Он бросил взгляд на приближающееся воинство Крития. Пересеченная местность совершенно расстроила его боевой порядок. Он мрачно усмехнулся, повернулся к стоявшему рядом гоплиту и сказал:
– Принеси дротики. Две связки. Ты, Симонид, и ты, Гаоник, вы будете стоять здесь и подавать их мне.
С этими словами он одним прыжком взлетел на самую вершину стены.
– Клянусь Аресом! – загремел Фрасибул. – Ты что, с ума сошел? Так выставляться! Они сейчас…
– …кое-что усвоят, – подхватил Аристон. – И прежде всего, как это просто – умереть!
Он выпрямился во весь рост, поджидая своих врагов. При виде его самые молодые и шустрые воины перешли на неуклюжий бег, стараясь как можно быстрее добраться до него; он уже отчетливо слышал звон их доспехов. Это было одним из двух обстоятельств, на которые он рассчитывал: они должны были изрядно вымотаться, ведь им и без того приходилось тащить на себе весь этот груз вверх по горному склону.
Второе обстоятельство было менее очевидным. Дело в том, что он стоял намного выше их, так что каждому брошенному ими дротику предстояло преодолевать в своем полете всю неподъемную тяжесть этого мира, тогда как эта же самая тяжесть будет ускорять полет его собственных копий. Из своего богатого опыта он хорошо знал, что метательные снаряды, пущенные вниз на большое расстояние, летят гораздо дальше, чем те, которые направляются вверх, и это при том условии, что сила и искусство обоих копьеметателей примерно равны.
А это было отнюдь не так. Ни один из воинов Тридцати не мог метать дротики с той силой и точностью, коим когда-то был обучен он, бывший спартанский гоплит.
Он прикинул, что один из молодых всадников уже оказался в пределах досягаемости. Расстояние было предельным, но все же игра стоила свеч – от этого произведенный эффект будет еще более впечатляющим.
«Отлично, – подумал он. – Необходимо что-то предпринять для поднятия боевого духа наших воинов».
Почти не целясь, он метнул дротик. Тот описал в воздухе длинную свистящую дугу, желтой молнией сверкнув на фоне туманно розовеющего утреннего неба, и затем устремился вниз, с каждым мгновением набирая скорость.
Воин с разбега остановился, как будто налетел на невидимую стену. Он сделал движение руками, как будто хотел схватить себя за горло. И тогда все увидели древко дротика, торчащее из его шеи.
Все семьдесят защитников крепости замерли, не веря своим глазам. Мгновение спустя небеса задрожали от их восторженных криков.
– Подай мне еще один дротик, Гаоник! – приказал Аристон.
Менее чем за двадцать минут он метнул двадцать дротиков. К исходу этого времени восемь олигархов лежали мертвыми, а еще двенадцать были тяжело ранены его беспощадной рукой. Это было уже слишком. Доблестные молодые аристократы Крития смешались и обратились в бегство.
И тогда Аристон один, с обнаженным мечом в руке, спрыгнул со стены и бросился в погоню за ними. фрасибулу понадобилось секунд пять, чтобы вновь обрести дар речи.
– Трусливые псы! – гремел он. – За ним! Если единственный настоящий воин, который у меня есть, погибнет, я вас…
Десять аттических гоплитов также спрыгнули со стены и помчались вслед за ним, гремя доспехами, подобно рою разъяренных металлических жуков. Вместе с метеком они перебили более двадцати олигархов. И когда Аристон вернулся назад, вытирая кровь и пот со своего лица, остававшиеся в крепости люди встретили его такими бурными возгласами, что они, казалось, могли оглушить всех богов Олимпа.
– Это сын не Геракла, а Ареса! Клянусь небесным громом, он был порожден самим Богом Войны!
Фрасибул торжественно обнял его перед всем своим отрядом.
– Клянусь Зевсом, где ты научился так сражаться? – воскликнул он.
Аристон улыбнулся.
– На берегах Эврота, – ответил он.
– Так ты спартанец?!
– Точнее, – спокойно сказал Аристон, – я был им. До восемнадцати лет. Я попал в плен на Сфактерии. И были причины, по которым я не мог вернуться в Спарту после того, как пленные были выкуплены. Всю остальную свою жизнь я посвятил попыткам стать афинянином. Я оснастил ту триеру, чтобы заслужить афинское гражданство, но…
– Когда мы вернемся, ты получишь его! – заявил Фрасибул.
«Если мы вообще когда-либо вернемся», – думал Аристон, стоя на крепостном валу и окидывая взглядом войско Крития, разбившее лагерь внизу на склоне. Ветер с воем срывался с горных вершин, нависших над его головой; он поежился. Месяц Посейдона был уже на исходе, и здесь, в горах, было очень холодно. Аристон видел, как его дыхание тут же превращалось в пар, клубившийся в чистом морозном воздухе. Он плотнее закутался в гиматий, но толку от этого было мало. Холод забирался под одежду, покрывал льдом его доспехи, пронизывал до самых костей. Тут он услыхал звон металла и, обернувшись, увидел Фрасибула, направлявшегося прямо к нему.
– Как ты думаешь, Аристон, они повторят свое нападение? – спросил военачальник.
– Нет, – ответил Аристон. – В этом нет никакой необходимости, и они это знают. Критий кто угодно, но не глупец,стратег.
– Значит, ты думаешь, что они будут сидеть там, имея за своей спиной в качестве базы всю Аттику, и спокойно ждать, пока мы все перемрем с голоду, не так ли, пентекост?
– Вот именно, – подтвердил Аристон. – Правда, у нас есть один маленький шанс, и если ты позволишь мне, благородный Фрасибул…
– Говори, Аристон, – сказал полководец.
– Я возьму одного человека, проберусь сегодня ночью в их лагерь и перережу поганое горло Крития. Это их совершенно деморализует, поверь мне. Я бы справился и один, если бы не одно обстоятельство: Критий делит ложе со своим любовником. С прекрасным Никостратом, который, несмот– ря на свой женственный облик, очень отважен. Я мог бы управиться с обоими, но не так быстро, боюсь, они успеют поднять тревогу. Если же кто-либо другой заколет этого порна, я…
– Нет, – коротко отрезал Фрасибул.
– Но почему? – спросил Аристон.
– Потому что ты погибнешь, а ты нужен мне живым, – заявил Фрасибул. – Твое присутствие вдохновляет моих людей.
Аристон поднял голову и взглянул на вершины гор. Он уже не мог их различить; они скрылись за пеленой облаков, опускавшихся все ниже. Его губы что-то прошептали.
– Что ты сказал? – спросил Фрасибул.
– Я произнес молитву, – отозвался Аристон, – обращенную к тени Еврипида…
– Поэта? – удивился Фрасибул.
– Да. Я просил его спустить бога на веревках, как он это делал в своих пьесах. Чтобы он совершил чудо, Фрасибул. Ибо только оно может нас спасти, – сказал Аристон.
И не успел он произнести эти слова, как первые огромные белые хлопья закружились в воздухе.
Снег шел всю ночь, не переставая ни на минуту. А утром, когда он прекратился, они увидели с крепостных стен безжизненные заснеженные склоны, лишенные каких-либо признаков присутствия человека. Снег и северный ветер сделали свое дело. Критий и его высокородные неженки бежали перед лицом стихии.
– Благодарю тебя, о бессмертный Еврипид, – сказал Аристон.
И вот теперь горы остались позади. Они лежали, затаившись, у самого лагеря олигархов. Аристон посмотрел на лица своих людей. На их глаза. Или, если точнее, на лица и глаза тех из них, кто был рядом – ибо теперь под его началом было более трехсот воинов. С другой стороны лагеря притаился Анит примерно с таким же по численности отрядом.
Ибо произошло чудо. Разумеется, вполне объяснимое. Случилась очень простая вещь: у побежденных всадников развязались языки. И будучи простыми смертными, они, естественно, не желали признаваться в том, что виновником их бесславного поражения стал всего-навсего один отважный копьеметатель при поддержке менее половины одной из двух эномотархий, бывших в распоряжении Фрасибула у филы. В их устах неизвестный воин превратился в великана, чья голова скрывалась в облаках. И этот сверхчеловек, этот колосс, метал в них копья сразу обеими руками одновременно. Ну а в самый последний момент, когда они уже одолевали его, готовы были разрубить его на куски, он вдруг хлопнул в ладоши, и загремел гром, и весь мир исчез под непроницаемым снежным покровом…
Прямым следствием этого бессовестного вранья и стало то, что войско Фрасибула насчитывало уже более семисот пятидесяти человек. Ибо стойкие демократы, до того не знавшие, куда им податься, теперь получили все необходимые им сведения. Более того, даже самые осторожные отбросили все сомнения после столь явной демонстрации благосклонности богов. И они, группами и поодиночке, устремились в Филы, а вместе с ними пришла и надежда, так что теперь, вглядываясь в лица своих соратников, Аристон видел в них нечто такое, что наполняло его сердце гордостью.
Они были подобны охотничьим псам на привязи, завидевшим кабана. Глаза их сверкали; губы растягивались в волчьем оскале. Да, теперь он мог на них положиться. На этот счет у него не было ни малейших сомнений. И в первую очередь он мог положиться на двух своих заместителей, Симонида и Гаоника. Они рвались в бой, как молодые львы. Ему с трудом удавалось сдерживать их пыл.
– Отцепите от пояса ножны, – прошептал он. – Оставьте их здесь. Щиты тоже. Ну что, готовы?
Они кивнули, мрачная решимость читалась на их лицах. Они моментально поняли смысл этого странного приказа. Ибо ножны имели обыкновение стучать о набедренники. Щиты же часто ударялись друг о друга, да к тому же шуршали, когда их протаскивали через кустарник. А задача перед ними стояла предельно простая: они должны были всего-навсего заколоть двух часовых по эту сторону лагеря олигархов, причем сделать это так быстро и тихо, чтобы те не успели ни поднять тревогу, ни даже издать предсмертный крик, который мог бы разбудить всадников, мирно спавших в своих палатках.
Ибо если те проснутся и успеют вскочить в седла, отряд Фрасибула будет обречен. Даже семьсот пятьдесят человек не имели никаких шансов в открытом бою против двух полных подразделений кавалерии, которые охваченный ужасом Критий направил против них.
Все свершилось на удивление легко. Даже эти двое часовых были застигнуты врасплох. Гаоник подкрался сзади и зажал ладонью рот одному из них, после чего Симонид прикончил его точным ударом меча. Аристон же просто сломал другому шею, использовав свое смертоносное искусство панкратиаста. Он стоял и смотрел на свою жертву и вдруг почувствовал, что горячая влажная пелена застилает ему глаза. Убитый им часовой был, в сущности, еще мальчиком – юным и прекрасным, как бог.
Они пробрались в лагерь в сопровождении десяти воинов, вооруженных лишь мечами. У каждого в руке был хорошо просмоленный факел, готовый вспыхнуть в мгновение ока. Симонид нес железную жаровню, полную раскаленных углей.
Аристон кивнул. Все десять факельщиков разом сунули свои факелы в жаровню. Тут же они рассыпались по лагерю, оставляя за собой огненный след. Прежде всего подбежали к конюшням, которые всадники соорудили из сосновых веток и хвороста, чтобы укрыть своих коней от ночного холода, подожгли их, затем запылали палатки всадников и сопровождавших их гоплитов.
Языки пламени высоко взметнулись в ночное небо. И тогда отряды Анита и Аристона с двух концов ворвались в этот лагерь, раскинувшийся на Ахарнской равнине.
Один из воинов принес Аристону его шлем, нагрудник, ножны, наголенники, щит и помог ему вооружиться, поскольку он пробрался в лагерь в одном хитоне и с обнаженным мечом в руке. И в тот самый момент, когда он поднял меч над головой, давая сигнал к атаке, он услыхал отчаянное лошадиное ржание. Они заметались по лагерю с пылающими гривами и хвостами, крича, как роженицы, высокими пронзительными голосами, полными невыносимой боли.
Всадники и гоплиты выскакивали из горящих палаток, охваченные смятением, толком не проснувшись, без доспехов. Методично, безжалостно воины Фрасибула рубили их, как скот на бойне.
Аристон очутился лицом к лицу с молодым всадником, прекрасным, как небожитель. Лицо Аполлона, шея Ареса, плечи Геракла. Его первым побуждением было пощадить юношу, обезоружить его и отпустить. Но вскоре выяснилось, что это невозможно. Этот знатный молодой афинянин оказался первоклассным бойцом, одним из лучших, с кем ему когда-либо приходилось встречаться. Если не самым лучшим.
И Аристон хладнокровно и беспощадно расправился с ним. Он использовал все тот же старый как мир спартанский прием: с силой ударил щитом о щит противника, заставив его потерять равновесие, затем молниеносно полоснул мечом по верхней части бедра и, наконец, размашистым ударом снизу вверх вогнал клинок прекрасному юному всаднику прямо в горло.
Он стоял над поверженным врагом, глядя ему в лицо.
– Как твое имя, отважный воин? – спросил он.
– Ник… Ник… Никострат, – прошептал прекрасный юноша, и жизнь оставила его вместе с потоком крови, хлынувшей у него изо рта.
Никострат. Возлюбленный Крития. Аристон молча смотрел на безжизненное тело. Затем он тяжело вздохнул. Этот мальчик был все равно мертв. А использовать его труп для того, чтобы еще больше деморализовать Крития, значило спасти многие жизни.
И он наклонился над мертвым юношей с клинком в руке.
И когда Критий во главе афинского гарнизона лично прибыл для того, чтобы подобрать тела ста двадцати спартанских гоплитов и более шестидесяти олигархов, разбросанные не только в ахарнском лагере, но и на протяжении семи стадиев от него – настолько далеко продолжалось преследование и избиение олигархов и их лаконских союзников, – он обнаружил, что на лбу его возлюбленного острием меча вырезано кровавое изображение льва. Очевидцы говорили, что его вопль при виде этого потряс даже небесные чертоги богов.
Трудно сказать, стало ли именно это событие причиной его нового ужасного преступления. Но так или иначе, известия о нем вскоре достигли лагеря Фрасибула вместе с беженцами, потоком хлынувшими туда из Афин. Чуть менее половины этой новой группы беженцев составляли сами олигархи; они перешли на сторону своих врагов, потрясенные невиданным и неслыханным святотатством.
Ибо Критий захватил Элевсин, город, где проводились знаменитые мистерии, чтобы иметь убежище для себя и своей кровавой шайки на случай падения Афин. Элевсин был священным местом для всей Эллады, и до этого никто не смел покуситься на эту святыню. А когда жрецы и жители этого священного города стали протестовать против столь вопиющего беззакония, этот педераст с ледяным взглядом, не признающий ни богов, ни законов, хладнокровно перебил около трехсот человек.
Теперь у них была тысяча хорошо вооруженных воинов. Фрасибул призвал к себе двух своих лохагов. Он произнес только одно слово:
– Пирей?
– Да, стратег. Пирей! – отозвались Анит и Аристон. Той же ночью они двинулись на Пирей и заняли этот афинский порт. Сопротивления они не встретили. Тогда они встали в Пирее лагерем, зная, что олигархам все равно придется атаковать их. Другого выхода у Тридцати Тиранов просто не было.
В то утро Аристон увидел прорицателя Фрасибула, отрешенно сидевшего в стороне от остальных. Он подошел к провидцу, ибо захотел проверить его возможности.
– Так что же нас ожидает, мой добрый прорицатель? – спросил он. – Одержим ли мы победу?
– О да, – печально произнес провидец, – мы победим.
– Тогда почему же ты столь печален, о ясновидящий? – осведомился Аристон.
– Потому что завтра нить моей жизни оборвется, – заявил прорицатель. – Я должен погибнуть в этом сражении. Так пожелали боги. Мне нет спасения. Благородный Аристон, наш командующий прислушивается к твоим советам. Скажи ему, чтобы никто из наших воинов не вступал в бой, пока один из нас не погибнет. А затем он должен всеми силами ударить на врага – и победа будет нашей.
Та серьезность, с какой были произнесены эти слова, передалась и Аристону. Правду он говорил или нет, может ли вообще существовать такая вещь, как дар предвидения, – в любом случае этот человек несомненно верил в свои предсказания. Аристон пристально посмотрел на него. Затем, тоже будучи, в конце концов, сыном своего века, он положил руку на плечо провидца.
– Ну а я, великий прорицатель, – суждено ли мне завтра умереть? – спросил он.
И прорицатель, «читающий книгу судеб», ответил ему сразу, без колебаний и без того глубокомысленного кривля-ния, которым обычно пытаются произвести впечатление на легковерных:
– Нет, благородный Аристон. Твоя жизнь будет долгой. Тебе суждено прожить вдвое дольше, чем ты уже прожил. И ты покинешь этот мир в покое, убеленный сединами, в окружении сыновей и внуков, среди всеобщей любви и уважения. И ты познаешь великое счастье – но только если откажешься от того, к чему ты сейчас стремишься. Если же ты будешь упорствовать, то достигнешь своей цели,но этим ты отравишь всю свою последующую жизнь. А если ты перестанешь искать то, что ищешь, то обретешь свое счастье – во всем, за исключением одной великой неизбежной печали, которую ты разделишь со многими другими. И еще одно, сын мой…
– Что? – спросил Аристон.
– Научился ли ты прощать? Ибо от этого многое зависит…
– Прощать – кого? – спросил Аристон.
– Тех, кто причинил тебе зло. И в первую очередь – себя самого!
На следующее утро Аристон стоял в первых рядах своего отряда на холме у Мунихия, возле храмов Артемиды и фракийской богини Бендиды, и наблюдал за тем, как Тридцать Тиранов лично вели за собой свои войска вверх по горному склону. Что наглядно свидетельствовало об охватившем их отчаянии. Но ни он, ни кто-либо из его воинов не сдвинулся с места, не поднял щита и не взмахнул копьем. По приказу Фрасибула, который в свою очередь следовал совету прорицателя, они стояли неподвижно, как статуи, ожидая приближения врагов.
Затем, когда олигархи были уже совсем близко, ясновидящий издал отчаянный крик и в одиночестве бросился вниз по склону. Дюжина вражеских копий пронзила его, и тут же все воины Фрасибула взялись за оружие. Полководец расположил своих пелтастов, копьеметателей, пращников и лучников выше по склону так, чтобы они могли метать снаряды через головы своих тяжеловооруженных соратников. И вот, когца Критий с ревом бросился вперед, увлекая за собой своих воинов, они моментально превратили его в некое подобие дикобраза. Аристон взметнул было над головой свое тяжелое копье, с дикой и ужасной радостью в сердце намереваясь пригвоздить умирающего Крития к земле. Но тут он вспомнил слова погибшего провидца и опустил руку.
– Я прощаю тебя, Критий! – воскликнул он. – Будьте свидетелями, о бессмертные боги!
В этот момент практически все уже было кончено, хотя после гибели Крития сражение продолжалось еще около часа. Гиппомах, ставший заместителем Крития после убийства Ферамена, пал вскоре после своего вождя. Племянник Крития Хармид, сын Глаукона, погиб, храбро сражаясь за олигархические принципы, в которые свято верил Тот самый Хармид, кто, в свою очередь, был дядей юного Аристок-ла, прозванного Платоном за ширину плеч, которому в будущем суждено было стать гордостью и славой эллинской философии. Тот самый благородный, до кончиков ногтей аристократичный Хармид, которого Аристон всегда причислял к своим друзьям. Семьдесят олигархов пали в этот день. Войска Тридцати дрогнули и обратились в бегство.
Аристон стоял над трупом Хармида и плакал.
Аристон лежал на носилках, крепко стискивая зубы, чтобы не закричать. У него была резаная рана в нижней части живота, прямо над пахом. Она была не очень глубокой, поскольку спартанский гоплит наносил удар, уже будучи пронзенным насквозь мечом самого Аристона, но зато она получилась широкой, кровоточащей и чрезвычайно болезненной.
Однако те слезы и стоны, которые ему приходилось сдерживать, вызывались отнюдь не болью, а куда худшей мукой, терзавшей его сердце. И имя ей было – отчаяние.
«И это после того, как мы уже победили, – думал он, чуть не плача. – Когда Тридцать были уже низложены, когда к власти пришло правительство Десяти, все еще состоящее из олигархов, но олигархов умеренных, считавшихся людьми достойными и благоразумными, кто мог подумать, что они сделают то, что сделали – пошлют гонца в Спарту просить помощи у Лизандра».
Он горько усмехнулся, прижимаясь спиной к носилкам и чувствуя, как швы, наложенные хирургом на его зияющую рану, впиваются в плоть как раскаленные иглы.
«А я-то поверил, что боги на стороне правого дела, или, по крайней мере, начал в это верить, – думал он. – Это надо же, допустить само существование богов! Предположить, что Вселенная имеет какое-то разумное начало! Ха-ха! Если боги и существуют, то они находятся в рядах ла-кедемонских фаланг; боги даровали попутный ветер и спокойное море сорока триерам Лизандра! И вот теперь…»
И вот теперь он валяется здесь с этой опасной и мучительной раной в животе, он, не получивший даже царапины за всю кампанию против Тридцати. Но ведь на этот раз ему противостояли не изнеженные афинские аристократы, а грозные фаланги спартанских гоплитов, обученных точно так же, как и он, и к тому же, увы, гораздо моложе его.
И все же, благодаря своему огромному опыту, своему несравненному мастерству, он остановил их, превзошел в бою и обратил в бегство. Но его воины не прошли, подобно ему, суровую спартанскую школу. И вот Гаоник и Симонид уже мертвы. Анит ранен, правда легко. И теперь лакедемонянам и их афинским союзникам, которые вообще-то были не в счет, достаточно предпринять еще одну атаку на Пирей и…
Он склонил голову и заплакал. Он оплакивал утраченную свободу. И свои несбывшиеся надежды. Он плакал о Клеотере, которую он больше никогда не увидит, о своем сыне, который так никогда и не полюбит его, о приемной дочери, уже успевшей его полюбить, о Хрисее, которую он теперь не сможет хотя бы простить – ибо ничего из того, что ему было известно о своих бывших соотечественниках, не давало ему каких-либо оснований полагать, что они намерены отказаться от своего утонченного и милого обычая убивать пленных.
« Если бы только я мог встать, сразиться с ними, – думал он, – умереть в бою с мечом в руке, с высоко поднятой головой, как подобает воину! Если бы только…»
Дверь распахнулась, и вошел Анит. Его рука висела на перевязи. Его глаза были широко открыты от изумления.
– Аристон, – прошептал он, – это был не Лизандр! Это был…
– Кто? – прохрипел Аристон.
– Павсаний! Царь Павсаний! Лаконцы отстранили Ли-зандра от командования! Они не…
–… не доверяют ему, -сказал Аристон. -Они никогда ему не доверяли. И у них были на то все основания, Анит. Лизандр слишком умен, слишком отважен – и слишком честолюбив! Это плохое сочетание, даже по моим понятиям. Он мог бы стать тираном, от власти которого Спарта – да и, в конечном счете, вся Эллада – могла бы избавиться только после его смерти. Но не хочешь ли ты сказать, что они отстранили Лизандра до…
– …до сражения? Вот именно! Буквально за десять минут до его начала. Павсаний появился в тот самый момент, когда Лизандр уже собирался отдать приказ о наступлении, построив свою армию в боевой порядок! Клянусь Аидом, Аристон! Неужели ты думаешь, что кто-либо из нас остался бы в живых, если бы во главе спартанских гоплитов находился Лизандр!
– Нет, – прошептал Аристон. – Полагаю, что нет…
– Погоди! – ликующим голосом прервал его Анит. – Это еще не все! Ты, я думаю, знаешь, что Павсаний никогда не разделял взглядов своего соправителя, царя Агиса. В отличие от Агиса, у него не было никаких оснований ненавидеть все афинское.
– Ты хочешь сказать, что его жена не привлекала благосклонного внимания Алкивиада? – вяло сострил Аристон.
– Этого я не знаю. Зато я знаю, что, по словам фрасибу-ла, царь Павсаний придерживается демократических воз– зрений, что он любитель философии, поклонник Сократа и даже почитатель Афин.
– Ха! – фыркнул Аристон.
– Да-да. Это именно так! Он отозвал гарнизон, стоявший в Афинах. Он отказался от всех претензий к нам. Он согласился решать все взаимные споры через третейский суд. И он поклялся, что, если афиняне изберут демократическое правительство, он лично проследит за тем, чтобы оно беспрепятственно приступило к исполнению своих обязанностей. Говорят, он публично заявил, что олигархии приносят слишком много вреда!
Аристон молча уставился на лохага. Затем его губы медленно растянулись в улыбке, и он тихо рассмеялся.
– Чему ты смеешься, несчастный? – возопил Анит.
– У богов очень плоское чувство юмора, Анит, – прошептал Аристон, – и они самые скверные драматурги, каких только можно себе представить. Еврипид, мой старый друг, теперь ты полностью оправдан! Никто больше не посмеет насмехаться над твоими спускаемыми машиной богами, когда История…
– О чем это ты? – обеспокоенно спросил Анит.
– …сама История использует это убогое устройство, к которому ты столь часто прибегал, спуская бога на сцену на столь грубых, скрипящих и отчетливо видимых веревках! Ну посуди сам, Анит, какому драматургу публика простила бы подобные накладки? Мы были побеждены, сломлены, мы покорно ждали, когда Лизандр прихлопнет нас своим железным кулаком и…
– Это было чудо, Аристон, – торжественно заявил Анит. – Боги…
– Послушай, Анит, шел бы ты куда подальше! – взмолился Аристон.
Спартанский царь Павсаний – единственный из двух спартанских царей, с кем отныне нужно было считаться, ибо царь Агис безвыездно сидел в Спарте, с бессильной яростью глазея на Леонтихида, на это царственное отродье, чье сходство с покойным Алкивиадом усиливалось с каждым днем, – сдержал свое слово. Он лично правил Афинами со свойственными ему мудростью, справедливостью и сдер– жанностью в течение двух месяцев, ушедших на подготовку к новым выборам, и со всем уважением отнесся к решению граждан полиса после того, как оно было вынесено. Правление Тридцати преподало Афинам тяжелый урок, но к чести полиса следует сказать, что этот урок был хорошо усвоен. Олигархи отправились в изгнание; к власти пришло демократическое правительство.
И метек Аристон мог теперь вернуться домой.
Невзирая на крайнюю усталость, на лихорадку, терзавшую его после ранения. Аристон, оказавшись в городе, первым делом отправился на могилы Автолика, Даная, Тимос-фена и принес жертвы богам.
Затем он нанес визит вдове атлета. Эта встреча была невероятно тягостной. Ибо Клеотера стояла в двух родах от него, заливаясь слезами, но упорно не позволяла себя обнять.
– Нет, Аристон, – рыдала она. – Теперь ты получишь свое вожделенное гражданство. К завтрашнему вечеру ты уже будешь гражданином и всадником – по крайней мере, мне так сказали. Разве не так?
– Так, – пробормотал Аристон. – Но Клео…
– Послушай меня, Аристон! Все эти двенадцать лет Хрисея ждала, когда ты избавишь ее от унизительного положения любовницы и сделаешь своей женой. Я не имею права… никакого права…
– Разве наш сын не дает нам этого права? – возразил Аристон.
– Нет. Ибо я не хочу, чтобы ты признал его своим такой ценой – ценой обмана. Да, Аристон, обмана, нарушения твоей священной клятвы! Я боюсь, возлюбленный мой. У нас с тобой ничего хорошего не получится, не может получиться. Совершенно ничего. Я не могу. Я просто не могу.
Аристон стоял и смотрел на нее.
– Просто ты меня не любишь, – заявил он.
– Я… я тебя не люблю?! – прошептала она. И тут же без малейшей паузы, быстрее вздоха, одного сердцебиения, вспышки светлячка, она очутилась в его объятиях. Ее губы обжигали его; они были солеными от слез. Они прижимались к его губам, терлись о них, горячие и нежные, бормочущие что-то невыразимое, беззвучное, безысходное, чего она не могла выразить словами. И она словно пыталась втиснуть, впечатать это в саму его плоть той отчаянной опустошающей нежностью.
Он отстранил ее от себя. Сделал шаг назад. Его голова буквально раскалывалась от боли. Лихорадка делала свое дело. Даже черты ее лица уже расплывались перед его глазами.
– Должен же быть какой-то выход, – простонал он. – Не может быть, чтобы его не было!
Ее голос прозвучал как флейта, смеющаяся и плачущая одновременно.
– Ей просто придется делиться тобою, только и всего! – заявила она. – Ибо я не хочу расставаться с тобой, любовь моя. Я не могу. Я знаю, это ужасно. Но это так! Иди же ко мне!
Но он медленно покачал головой. «Как часто благородное смирение порождается слабостью нашей бренной плоти, – с горькой усмешкой подумал он.
– Если не всегда. Ляг я сейчас на ложе, даже рядом с этим божественным созданием, через пару минут я храпел бы так, что дрожали бы стены. Или трясся бы от озноба и лихорадки. Или вообще бредил бы – да кто его знает, что бы со мной произошло. Но я не могу ей этого сказать. А что я могу сказать? Где мне найти слова? Пустые, напыщенные, бессмысленные слова, которые помогли бы мне скрыть от нее тот печальный факт, что сегодня ночью мое стареющее разбитое тело неспособно любить ее? Что бы мне такое сказать ей, чтобы…»
– Я не хочу делить свою жизнь между тобой и Хрис, Клео. Она этого не стоит; и я не стану отводить тебе второстепенную роль. Мне придется принять какое-то решение. Я отправлюсь в Дельфы и обращусь к оракулу. Подчинишься ли ты его приговору, зная, что он священ.
Она улыбнулась ему сквозь слезы и кивнула.
– Я-то подчинюсь, – сказала она, – а вот подчинишься ли ты?
– Что ты хочешь этим сказать, Клео?
– Да то, что оракул не дает советов, несовместимых с честью. Аристон. И безнравственных советов тоже, а ведь именно этого ты от него и ждешь. И поскольку я могу быть только твоей любовницей, тебе придется либо расстаться со мной, либо нарушить волю богов. Я думаю, тебе лучше не ехать, пусть мы согрешим сейчас, пока это только грех, а не святотатство. Так иди же ко мне, любовь моя. О Аристон, Аристон, я так хочу тебя!
– И я хочу тебя, – прошептал он, прекрасно зная, что лжет. Ибо он не хотел ее. В эту минуту. В эту кошмарную минуту, когда ему предлагалось высшее блаженство, а он был способен лишь на то, чтобы заснуть. Ему уже было сорок лет, и он прошел через все муки Тартара. Даже его могучее тело, тело Геракла, исчерпало все свои ресурсы выносливости и силы. Его сердце, его разум были полны любви к Клеотере, но все его тело представляло собою жалкое, дрожащее воплощение безмерной усталости, каждый его нерв буквально кричал, умоляя дать ему отдохнуть. Помимо всего прочего, рана в нижней части живота, нанесенная спартанским мечом и зашитая рукой неумелого хирурга прямо на поле боя, плохо зажила, так что на самом деле его состояние было гораздо хуже, чем он думал. – Клео… – начал он. Но тут же его охватил внезапный приступ страшного озноба, постоянного спутника его непрекращающейся лихорадки; он почувствовал, как дрожь волной поднимается от его ног, обутых в котурны, и разбегается по всему измученному телу. Каждый его могучий мускул затрясся, как под напором урагана. Откуда-то издалека до него доносился голос Клео, ее отчаянный крик: «Аристон! Аристон! Что.. « Но он уже не видел ее. Он не мог ее видеть. Ее просто не было. То, что возникло перед его взором, лежало за пределами человеческого понимания, это было одним из тех знаков, знамений, образов, которые, возможно, вызываются той призрачной силой, скрывающейся в душе человека, которую Сократ называл демоном, духом, направляющим или предостерегающим смертных, или же, если угодно, это было отображением усталости, лихорадки, болезни, порождением измученных нервов, непрестанной душевной борьбы, искры, на мгновение вспыхнувшей где-то в бездонных глубинах памяти и воплотившейся в образ… старого прорицателя, павшего перед рядами их войска на холме у Му-нихия.
Аристон смотрел на него, и его лицо становилось серым, как у мертвеца.
– Я не вижу тебя! – бормотал он. – Я слишком утомлен, мое воображение…
– Ты не видишь меня, – шептал ему провидец. – Ты слишком утомлен, твое воображение…
– Аристон! – рыдала Клеотера. – Твое лицо! Твое лицо!
– Прости, – это был не голос, это был отзвук прошедшего града, шелест падающего снега, звук, который тише безмолвия, – себя самого… не ищи…
– Того, чего я ищу, ибо обрету это, но при этом отравлю всю свою жизнь…
– Аристон, Аристон, любимый, ты болен! Твое лицо…
– Если же ты откажешься от этого, счастье…
– Аристон!
– …будет, будет, будет…
Он круто развернулся и бросился к выходу; ноги, казалось, сами несли его. Клео долго стояла и смотрела ему вослед. Затем она опустилась на скамью, закрыла лицо руками и заплакала. Она плакала и плакала, пока ее глаза не опухли так, что она почти ничего не видела, пока родник ее слез полностью не иссяк. Тогда, совершенно опустошенная, к тому же сильно ослабевшая за последние месяцы, когда она ни разу не ела досыта, отдавая почти всю еду, которую ей каким-то образом удавалось добыть, своим детям, как это и свойственно матерям, она уснула прямо на этой скамье.
Она не знала, как долго спала, но в конце концов проснулась с сильной болью в онемевших членах; ей почудилось, что она слышит его голос, зовущий ее по имени, и открыв глаза, она увидела его перед собой. Она тут же поняла, что от наваждения, владевшего им прежде, чем бы оно ни было вызвано – слабостью, болезнью, безумием или даже демоном, – не осталось и следа. Его взор при свете лампады был снова ясен и спокоен и при этом полон какой-то тихой радости.
– Пойдем, Клео, – сказал он. – Я хочу показать тебе нечто такое, что ты должна видеть своими глазами. Ибо, если я расскажу тебе об этом, ты мне не поверишь. Идем…
В полном недоумении она взяла его под руку. Снаружи было еще темно; был тот самый тихий, голубой, призрачный час, за которым следует рассвет. Он поднял ее хрупкую фигурку, усадил на своего коня, сам сел в седло, и они не спеша поехали по безлюдным улицам. Он остановил коня возле какого-то дома, медленно и осторожно слез с него – ибо, по правде сказать, его недолеченная рана причиняла ему сильную боль – и протянул руки, чтобы помочь ей спуститься.
– Но ведь, – заговорила Клео, не веря своим глазам, – это же, это же твой дом, Аристон! Ради Геры, что…
Идем, – сказал Аристон и снял ее с коня. Он распахнул дверь, на цыпочках пересек внутренний дворик, открыл еще одну дверь и отошел в сторону, чтобы она смогла заглянуть в глубь спальни, освещенной тусклым светом мерцающей лампады.
– О бессмертные боги! – ахнула Клео. – Ты… ты убил их!
Аристон с улыбкой покачал головой.
– За такой пустяк? Нет, Клео. Это пятна вина, а не крови. Очаровательная пара, не правда ли? Орхомен, этот Гефест, которого я сделал хромым, этот здоровенный пузатый чурбан. И эта тощая мегера, этот развратный мешок костей, предупредивший меня, что моя постель и часа не пробудет пустой после того, как я покину этот дом. И судя по всему, она сдержала свое слово. Предсказатель был прав, просто я неверно понял его. То, к чему я так долго стремился, мое гражданство…
– Аристон! – прошептала Клеотера. – Говори тише, ты их разбудишь!
После всех поглощенных ими вакхических чаш их теперь не разбудит сам Зевс Громовержец. Что ж, пусть Эрос даст им насладиться друг другом. Надеюсь, ты согласишься, что я не повинен в обмане и измене? II что этот грех не на моей совести? Ну а теперь поспешим в храм Гестии, чтобы разбудить жрицу и стать мужем и женой, пока кто-либо силой ор^ жия не принудил меня принять гражданство и тем самым не лишил нас этой возможности… пока мы оба все еще низкие метеки и закон…
Клео дрожащим голосом прервала его:
– Аристон, родной мой, ты… ты уверен? Он откинул голову назад и расхохотался.
– Но Аристон, ведь ты и она…
– …никогда не были женаты, учти. Она была знатной афинянкой, я – скромным метеком. За что ныне нам следует возблагодарить Геру и Гестию!
И она услыхала жуткое эхо, доносящееся изо всех пустынных уголков этого дома, и содрогнулась, как будто под дуновением ледяного ветра.
– Аристон, – прошептала она, – что это за ужасные звуки?
– Это смеются боги – и я, – ответил он.
Но оставалось еще одно, последнее, предсказание, которое должно было сбыться: об огромном горе, которое Аристону суждено было разделить со многими другими. И вот спустя четыре года после этого дня, он, всегда гордившийся своей сдержанностью, своим железным самообладанием, как безумный ворвался в дом Анита. Он застал своего бывшего соратника возлежащим за обеденным столом в обществе Мелета и престарелого Ликона, отца его покойного возлюбленного друга Автолика.
Но ни один из них не притрагивался к еде. Они лежали с поникшими головами, равнодушно взирая на богатые яства, как бы не замечая ничего вокруг.
Аристон молча смотрел на них, задыхаясь от ярости, пока, наконец, она не прорвалась через его перехваченное спазмом горло, чуть не разодрав его, оставив во рту вкус слез и крови.
– Вы! – загремел он. – Вы трое! Празднуете победу, клянусь Хароном и Цербером! Обвинить его! Обвинить Сократа! О бессмертные боги! Лишить его жизни! Его! Жизни, равной которой не было никогда и нигде!
Они ничего не ответили. Их лица были сумрачны и печальны.
– Мелет, я не знаком с тобою и посему понятия не имею, что заставило тебя совершить этот подлый поступок. Но ты, почтенный Ликон! Неужели мне нужно напоминать тебе о той нежной дружбе, о тех чувствах, что я и Автолик питали друг к другу? Посмеешь ли ты отрицать, что твой покойный сын горячо любил Сократа, преклонялся перед своим учителем?
– Нет, – с горечью ответил Ликон. – Ибо если бы он меньше любил этого старого болтливого глупца или нашел бы себе лучшую компанию, чем ты, метек, он был бы сейчас жив.
Аристон застыл на месте. Его буквально трясло от ярости, он чувствовал, что вот-вот сойдет с ума. Он наклонил голову и стоял, сжимая и разжимая свои могучие кулаки, вены на его горле и висках бились, как туго натянутые канаты, пока ему не удалось немного овладеть собой.
– Благодари свои седые волосы, о Ликон, – прошептал он.
Затем его громовой голос вновь зазвучал во всю мощь:
– Но ты, Анит! Мой боевой товарищ! Я, сражавшийся рядом с тобой, проливавший кровь…
– Я и не отрицаю этого. Аристон, – устало произнес Анит. – А кроме того, речь не об этом. Сократ развратил моего сына…
– Сократ никого не развращал! Тем более этого твоего вечно пьяного бездельника, неспособного даже заниматься твоим кожевенным ремеслом! Какие основания, Анит, могли быть у тебя, чтобы стать убийцей величайшего человека, когда-либо рожденного Элладой?
Тогда Анит встал, взял Аристона за руку и спокойным негромким голосом сказал:
– Давай выйдем во двор, друг мой, и я все тебе объясню. Только прошу тебя, перестань так кричать.
Они стояли во дворе лицом к лицу. И надо прямосказать, победа в этом поединке осталась за Анитом,
– Я сражался и проливал кровь за демократию, Аристон, – спокойно начал он, – так же, как и ты, друг мой. Что касается моего сына – да что там! Ты прав. Он не стоит того, чтобы из-за него ссориться. Но демократия этого стоит. Право людей, пусть бедных, необразованных, простых людей самим управлять собой. И даже управлять собой плохо, если уж на то пошло. А кто были самыми сильными и опасными врагами демократии? Я назову их тебе: Алкивиад, называвший ее «сознательным безумием»; Критий, едва не уничтоживший ее; Хармид, сын Глаукона, помощник и со– участник Крития во всех его преступлениях. Обрати внимание, все они – ученики твоего учителя!
– Он не учил их этому! – начал было Аристон. – Он…
– Неужели? А кто придумал сравнение с флейтистом, нанятым для ваяния статуи? С каменщиком, пытающимся управлять кораблем? Кто за все время правления Тридцати ни разу не возвысил свой голос…
– Как, например, в случае с Леоном Саламинским, Анит? – парировал Аристон.
– Согласен. Я готов это признать, но только в том случае, если ты, в свою очередь, признаешь, что и при демократии он точно так же бросил вызов нашей кровожадной черни во время суда над шестью стратегами. Я и не думаю отказывать ему в отваге или в благородстве. А вот в чем я ему решительно отказываю, так это в мудрости, по крайней мере политической мудрости…
Аристон молча стоял перед ним. Его тревога все усиливалась, ибо он хорошо знал, что в этом его бывший соратник прав.
– Выслушай же меня до конца, – продолжал Анит, – когда ты обвиняешь нас в том, что мы решили убить его, ты слишком далеко заходишь. Мы не хотели смерти Сократа, Аристон. Потребовав смертного приговора, мы надеялись, нет, мы были уверены, что тем самым вынудим дикастов вынести ему более мягкое наказание – изгнание. Аристон, пойми! Этот полис, который мы с тобой создали своей кровью, своим потом, ради которого мы рисковали жизнью, еще слишком слаб, чтобы вынести его безжалостные нападки на свои самые основополагающие принципы! Его язык чересчур остр, его остроумие слишком язвительно. Но я – да поможет мне Гера! – хотел добиться его молчания, а не смерти! Я хотел, чтобы он покинул Афины, поселился в каком-нибудь отдаленном полисе, где он не смог бы разрушить все то, за что мы с тобой едва не отдали жизнь, друг мой!
– И тем не менее… – пробормотал Аристон.
– Он сам себе вынес смертный приговор! Своим высокомерием, своими насмешками! Стоило ему в своей речи перед судьями попросить изгнания, и я абсолютно уверен, что вся дикастерия не задумываясь проголосовала бы за этот более мягкий приговор. Но он… Ты помнишь, чего он попросил для себя, Аристон?
– Чтобы его увенчали лавровым венком, как победителя Олимпийских игр, и кормили за счет полиса, – медленно произнес Аристон, все более убеждаясь в весомости доводов Анита. – Но ведь он просто пошутил, Анит; он вовсе не имел в виду…
– Значит, он вел себя как последний глупец! Ты обратил внимание, что во время второго голосования за его казнь было подано больше голосов, чем во время первого?
– Да, – сокрушенно сказал Аристон.
– Потом этот смехотворный штраф в триста мин! Предложи он хотя бы талант, или пять, или десять…
– Я один бы охотно заплатил за него любую из этих сумм, – заявил Аристон.
– Вот именно. А теперь слушай меня внимательно. Я вызвал тебя сюда из столовой для того, чтобы предложить тебе нечто такое, чего ни Мелет, ни Ликон не одобрили бы. Видишь ли, Критон собирает деньги. Он бросил на весы все свое состояние. Сегодня утром прибыл Симмий из Фив с мешками, полными денег. Они вместе с Цебом и многими другими готовы… Должен ли я объяснять тебе, Аристон?
– Подкупить стражу, заткнуть рты доносчикам, устроить его побег?
– Вот именно. Как ты понимаешь, я мог бы одним движением руки пресечь всю эту деятельность. Ты заметил, что я до сих пор не сделал этого? А сегодня утром Критон получил пятьсот мин от, скажем так, неизвестного доброжелателя. Ну, а ты что скажешь, старина?
– Все мое состояние до последнего обола. Хлеб изо рта Клео и моих детей. Каждую драхму, что я смогу выпросить, занять, украсть. По крайней мере за это я благодарю тебя, Анит! Прощай!
Критон сидел, уставившись на чек, выписанный Аристоном местному казначею. На усталые глаза старика навернулись слезы.
– Сто талантов. Это ведь все твое состояние, мой мальчик? – спросил он.
– Да, – ответил Аристон.
– Благодарю тебя, – сказал старик. – Я не думаю, что нам понадобится даже десятая часть этой суммы. Но все равно благодарю тебя. Я уже подкупил сикофантов, которые наверняка донесли бы о его побеге. Стража тоже подкуплена. Я приобрел лошадей. Но теперь, с твоими деньгами, можно было бы нанять корабль.
– Так найми же! – воскликнул Аристон.
– Это еще успеется. Первым делом я должен решить самую трудную задачу: получить его собственное согласие…
Аристон ошеломленно посмотрел на престарелого плу-тократора.
– Ты думаешь, он откажется бежать? – прошептал он.
– Он не боится смерти, к тому же он очень стар. Мы с ним родились в один год, Аристон. Ведь ты хорошо знаешь его принципы.
– Я пойду к нему! Я поговорю с ним, постараюсь убедить его.
– Ты не сможешь пойти к нему, – сказал Критон. – Стража пропускает к нему только членов его семьи и меня, как его советника. И так до самого дня казни. Лишь тогда, по обычаю, смогут прийти все его друзья. Подожди здесь, сын мой Аристон. Постарайся уснуть, если сможешь. Слуги приготовят для тебя комнату. На рассвете я пойду к нему. И передам тебе его ответ.
Этот ответ стал известен всему миру благодаря бессмертному перу Платона. Сократ отказался спасти свою жизнь ценой нарушения законов своего возлюбленного полиса, законов, которые обрекали его на смерть.
– Мы все приговорены к смерти со дня нашего рождения, Аристон, сын мой,
– сказал он в тот последний день. – Ибо где та земля, куда не добирается смерть? Ты хочешь, чтобы я отправился в Фессалию? А разве там никто до сих пор не умирал? Умоляю тебя, перестань плакать! Твои слезы лишают меня мужества. Видишь, Фаэдон плачет меньше тебя, а ведь он еще совсем мальчик. Я запретил ему отрезать его золотые кудри в знак скорби. Ты знал об этом, Аристон? И я запрещаю тебе отрезать свои, хотя они теперь больше седые, чем золотые. А сейчас, прошу тебя, перестань реветь, как теленок!
Но Аристон, несмотря на все усилия, не мог сдержать слез. Он сидел не произнося ни звука и слезы ручьями стекали по его щекам за все то время, пока Сократ совершал омовение, чтобы его женам не пришлось обмывать его тело после смерти, после этого пришли Ксантиппа, Мирта, старший сын Сократа от Ксантиппы и двое младших от Мирты, и он расцеловал их, благословил и отослал домой.
Теперь уже плакали все, кроме Критона. Фаэдон сидел рядом с Аристоном, обняв своего старшего друга за плечи и пытаясь утешить его. Возле них сидел Критобул, сын Критона, а чуть поодаль Аполлодор, который рыдал больше всех. Были здесь и многие другие, некоторых Аристон видел впервые. Были и жители других городов вроде Симмия из Фив. Но среди них не было Платона, величайшего из учеников Сократа, он, по всей видимости, не смог вынести этого зрелища. Не было здесь и Ксенофонта, который в это время совершал свой бессмертный поход в глубь далекой Азии.
Затем Критон спросил Сократа, есть ли у него какие-нибудь просьбы к ним, хочет ли он дать им какие-либо поручения относительно его жен и детей, и учитель ответил:
– Нет. Лучше позаботьтесь о самих себе. И эту услугу вы будете оказывать мне всю свою жизнь, вне зависимости от ваших обещаний, ибо разве вы не наследники моего разума?
– Хорошо, Сократ, – прошептал Критон. – Но все же, как – я хочу сказать, каким образом – мы должны будем похоронить тебя?
– Вы сначала поймайте меня, – усмехнулся Сократ. – Ибо меня здесь уже не будет. От меня останется лишь эта уродливая изношенная оболочка. А что вы с ней сделаете, не имеет ни малейшего значения.
И в эту самую минуту вошел слуга тюремщика; рыдая, как ребенок, он протянул ему роковую чашу.
Когда все было кончено – после того, как Аполлодор, охваченный безумным горем, по-женски завыл, заставив всех остальных устыдиться и замолчать; после того, как Сократ на мгновение открыл глаза и прошептал: «Критон, я задолжал Асклепию петуха. Не вернешь ли ты ему мой долг?» – и затем покинул их, но остался в их сердцах, мыслях, памяти, которая навечно сохранит его образ и передаст как бесценное наследие всем еще не родившимся поколениям и народам, – прекрасный Фаэдон отвел Аристона домой, ибо его друг к тому времени совершенно ослеп от слез и не смог бы сам найти дорогу. Добравшись до дома, Аристон закутал лицо в плащ, бросился на свое ложе и проплакал без перерыва четыре дня и четыре ночи. Целых восемь дней он отказывался от пищи и питья, и Клеотера, тяжелая своим четвертым – и их третьим – ребенком, уже совсем было отчаялась, посчитав, что он умрет от своей невыносимой, безутешной скорби о великом человеке, который оказал столь огромное влияние на всю его жизнь. Но на девятый день он вдруг сел на постели, спокойный и без каких-либо признаков душевной болезни, съел немного хлеба с сыром и выпил вина. Клео поразило это его спокойствие, какая-то непонятная радость, светившаяся в его глазах.
– Он явился ко мне во сне, – заявил Аристон, – и повелел мне жить. И отныне я должен жить, ибо я еще ни разу не ослушался его. Но только при одном условии, Клео: мы уедем отсюда. Я не стану жить в полисе, где убивают таких людей, как Сократ, и я не хочу, чтобы наши дети выросли здесь! Так что собирайся, ибо мы…
И ничто не могло заставить его изменить это решение. Он продал все свои мастерские – за исключением той, что он еще до того подарил Орхомену и Хрисее вместе со своим прежним домом в качестве приданого, ибо он решительно потребовал от них узаконить их отношения и даже употребил то влияние, чтоонимелнаФрасибула,длятого, чтобы Орхомен получил то самое гражданство, от которого он сам когда-то отказался, – и приобрел участок земли в Беотии, в прелестном местечке неподалеку от Фив. И там он прожил много лет с женой и детьми в мире, любви и уважении до самой глубокой старости.
И в один прекрасный день, когда он был уже старше, чем Сократ в день своей смерти, его волосы белее снегов на вершине горы Тайгет и даже его внуки уже почти достигли совершеннолетия, Клеотера вышла в сад и увидела, что Аристон медленно, с трудом что-то пишет на листе пергамента.
– Что ты пишешь, любовь моя? – спросила она.
– Историю жизни и смерти Сократа, – ответил Аристон.
– Но ведь Ксенофонт уже писал об этом, и Платон тоже, – возразила Клеотера.
Старик погладил свою белоснежную бороду и улыбнулся.
– Они не поняли его, – сказал он. – Ибо никто из них не знал его так, как я.
И он снова склонился над столом и продолжил работу. Но боги не были милосердны. И кроме маленького клочка пергамента размером менее четырех квадратных сантиметров, на котором можно прочесть лишь слова: ****
От этого труда до нас ничего не дошло.
Примечания
1
Древнегреческая мера длины. (Здесь и далее прим. пер.)
(обратно)2
Древнегреческие меры длины.
(обратно)3
Пер. С. Шервинского и Н. Позднякова.
(обратно)4
Пер. И.Ф. Анненского.
(обратно)

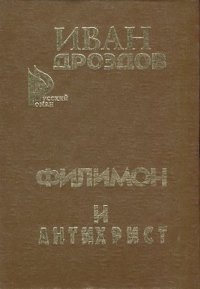
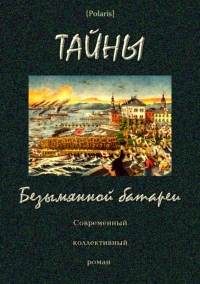

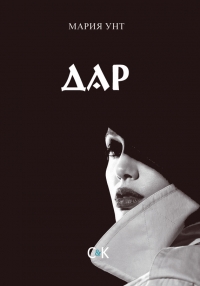
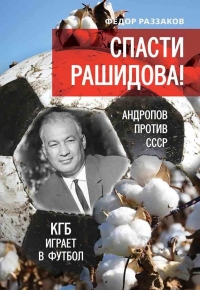


Комментарии к книге «Изгнанник из Спарты», Фрэнк Йерби
Всего 0 комментариев