ЖЮЛЬ ВЕРН Михаил Строгов • Возвращение на родину
Михаил Строгов
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава 1 ПРАЗДНИК В НОВОМ ДВОРЦЕ
— Пришло новое сообщение, Ваше Величество.
— Откуда оно?
— Из Томска.
— А дальше провод оборван?
— Оборван со вчерашнего дня.
— Каждый час, генерал, телеграфируйте в Томск, и пусть меня держат в курсе происходящего.
— Слушаюсь, Ваше Величество, — ответил генерал Кисов.
Этот диалог происходил в два часа ночи, когда бал во дворце был в самом разгаре.
Весь вечер музыканты Преображенского и Павловского полков без передышки играли самые лучшие из входивших в их репертуар полек, мазурок, экоссезов[1] и вальсов. Бесчисленные пары танцующих дам и кавалеров заполнили великолепные гостиные дворца, возведенного в нескольких шагах от «старого каменного дома», свидетеля многих ужасных драм прошлого, отзвуки которых словно пробудились этой ночью, чтобы вторить мотивам кадрилей.
Впрочем, у главного распорядителя двора нашлись помощники в выполнении его деликатных обязанностей. Великие князья и их адъютанты, дежурные камергеры и дворцовые служащие выступали в роли устроителей танцев. Великие княгини, усыпанные бриллиантами, и придворные дамы в роскошных бальных одеяниях отважно подавали пример женам высокопоставленных военных и гражданских чиновников древней «белокаменной». Вот почему, когда объявили полонез и гости всякого чина приняли участие в ритмичном шествии, которое в празднествах подобного рода обретает значительность национального танца, в сиянии сотен люстр, многократно отраженном в зеркалах, смешение длинных платьев, украшенных кружевами, и мундиров, расцвеченных знаками наград, явило собой поистине неописуемое зрелище.
Это был миг упоения и восторга.
Большая гостиная, наикрасивейшая в Новом дворце, служила достойным обрамлением великолепному параду высоких чинов и блестящих дам. На богато вызолоченных сводах, уже слегка потемневших от времени, их яркие наряды мерцали словно звезды. Занавеси и шторы, пышными складками ниспадавшие долу, пламенели жаркими красками, с резкими перепадами на сгибах плотной ткани.
Через широкие окна с закругленными арками сводов свет гостиных, несмотря на затуманенные испарениями стекла, вырывался наружу отблеском пожара и дерзко нарушал ночную тьму, вот уже несколько часов окутывавшую сверкающий дворец. Этот контраст привлекал к себе внимание некоторых гостей, не участвовавших в танцах. Останавливаясь у оконных проемов, они могли заметить величавые очертания колоколен, смутно проглядывавшие сквозь темноту. Под лепными балконами молча прохаживались часовые с ружьем на плече, и от блеска дворцовых огней на их остроконечных шлемах вспыхивали гребешки пламени. Слышался порой стук сапог патрулей, отбивавших по каменным плитам чуть ли не более ритмичный шаг, чем каблуки танцоров по паркету гостиной. Время от времени повторялся от поста к посту крик разводящего, а иногда и звук трубы, примешиваясь к аккордам оркестра, вносил в общую гармонию свои звонкие ноты.
Еще ниже, перед самым фасадом, в широких полосах света, падавших из окон дворца, угадывались какие-то темные массы. Это спускались по течению суда, и воды реки, отражая мерцающий свет фонарей, омывали нижние ступени террас.
Хозяин нынешнего бала и устроитель этого праздника, к кому генерал Кисов обращался словно к монарху, был одет в простой мундир офицера гвардейских стрелков[2]. С его стороны в этом не было ничего нарочитого — просто привычка человека, малочувствительного к внешней роскоши. Его одежда составляла резкий контраст с великолепием тех облачений, что мелькали вокруг. В таком же виде он появлялся обычно даже среди своей охраны, состоявшей из грузин, казаков и лезгин — блистательного сопровождения, разодетого в ослепительные кавказские мундиры.
Этот человек был высокого роста и приятной наружности. Со спокойным лицом, хотя лоб и выдавал озабоченность, переходил он от одной группы к другой, но говорил мало и даже, казалось, весьма рассеянно внимал как веселым возгласам молодых гостей, так и более степенным речам высоких чиновников или членов дипломатического корпуса, представлявших при нем главные государства Европы. Двое или трое из этих прозорливых политиков — физиономистов по роду занятий — заметили на лице устроителя празднества смутные признаки беспокойства, причин которого они не знали, а спросить не считали возможным. Так или иначе, но в намерения офицера гвардейских стрелков явно не входило омрачать всеобщую радость своими тайными заботами, а так как он был одним из тех редких властителей, кому почти все привыкли подчиняться даже в мыслях, то веселье бала не прерывалось ни на мгновение.
Генерал Кисов, только что вручивший офицеру депешу из Томска, ждал позволения удалиться, но тот все еще хранил молчание. Телеграмму он уже успел вскрыть, и, когда прочел, лоб его омрачился еще более. Рука невольно легла на эфес шпаги, затем поднялась и на мгновение прикрыла глаза. Казалось, блеск огней слепил его, и он искал темноты, чтобы сосредоточиться.
— Итак, — вновь заговорил он, отведя генерала Кисова к проему окна, — со вчерашнего дня мы лишены связи с моим братом — Великим князем?
— Да, Ваше Величество, связи нет, и приходится опасаться, что в скором времени мы уже не сможем отправлять депеши через границу Сибири[3].
— Но ведь войска Амурской и Якутской областей, как и Забайкалья, успели получить приказ немедля выступить в направлении Иркутска?
— Этот приказ был передан последней телеграммой, которую нам еще удалось отправить за Байкал.
— А с властями Енисейска, Омска, Семипалатинска, Тобольска связь еще сохранилась?
— Да, Ваше Величество, наши телеграммы до них доходят, и на данный момент мы уверены, что за Иртыш и Обь татары еще не перешли.
— А о предателе Иване Огареве известий никаких?
— Никаких, — ответил генерал Кисов. — Шеф полицейского ведомства не имеет сведений, перешел тот границу или нет.
— Пусть его приметы немедленно разошлют в Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Касимов, Тюмень, Ишим, Омск, Еланск, Колывань, Томск — во все телеграфные посты, с которыми еще не прервана связь!
— Приказы Вашего Величества будут выполнены незамедлительно, — ответил генерал Кисов.
— Но обо всем этом — ни слова!
После чего генерал, почтительно откланявшись, смешался с толпой и вскоре незамеченным покинул гостиные дворца.
Несколько минут гвардейский офицер стоял задумавшись, а когда вновь вернулся к военным и политикам, собиравшимся группами в разных гостиных, лицо его уже обрело обычное спокойствие.
Важная новость, вызвавшая приведенный обмен репликами, не осталась тайной, как полагали офицер гвардейских стрелков и генерал Кисов. Разумеется, официально на эту тему разговоров не велось, — и даже полуофициально, поскольку «приказа» развязать языки не давалось, — однако кое-кто из высших чинов был более или менее точно осведомлен о событиях, происходивших по ту сторону границы. И тем не менее, то, о чем они знали скорее всего лишь понаслышке и о чем не велось разговоров даже меж членами дипломатического корпуса, — об этом негромко, словно делясь вполне точной информацией, беседовали двое гостей, которые ни мундиром, ни наградами не выделялись из числа приглашенных в Новый дворец.
Как, каким путем, через какого посредника эти двое простых смертных знали то, о чем столько других лиц, причем из самых влиятельных, могли разве что подозревать, — никто не мог бы объяснить. Не было ли это у них даром предвосхищения или предвидения? Или они обладали неким особым органом чувств, позволявшим видеть дальше того узкого горизонта, коим ограничено обычное людское зрение? Или особым нюхом для выведывания самых секретных сведений? А значит, почему бы не предположить, что благодаря этой укоренившейся привычке жить информацией и для информации, привычке, ставшей второй натурой, — сама натура их стала другой?
Из этих двоих один был англичанин, второй — француз, оба долговязые и худые, первый — рыжий джентльмен из Ланкашира, второй — жгучий брюнет-южанин из Прованса. Англо-норманн, педантичный, холодный и флегматичный, сдержанный в жестах и словах, говорил и двигался словно под действием пружины, включавшейся через определенные промежутки времени. Напротив, галло-роман — живой и стремительный — объяснялся сразу и губами, и глазами, и руками, выражая свою мысль двадцатью способами, в то время как у его собеседника был всего лишь один, раз навсегда застывший в мозгу стереотип.
Это внешнее несходство тотчас бросалось в глаза даже самому ненаблюдательному из людей; а опытный физиономист, присмотревшись к иноземцам поближе, четко определил бы характерное своеобразие их физиологии: если француз был «весь зрение», то англичанин — «целиком слух».
Действительно, оптический прибор одного был доведен употреблением до совершенства. Мгновенная чувствительность его сетчатки не уступала в скорости взгляду фокусника, узнающего карту даже при быстром тасовании колоды. Иначе говоря, этот француз в высшей степени обладал тем, что называют «памятью глаз».
Англичанин, напротив, был устроен словно специально для того, чтобы слушать и слышать. Стоило его слуху однажды воспринять звук чьего-либо голоса, он уже не мог его забыть и непременно узнал бы среди тысячи других, будь то через десять или двадцать лет. Разумеется, он не умел шевелить ушами, как те животные, что наделены большими ушными раковинами: но коль скоро ученые обнаружили, что человеческое ухо неподвижно лишь «до известной степени», то, вероятно, и уши нашего англичанина, приподымаясь и настораживаясь, умели улавливать звуки способом, сходным с тем, что присущ животным.
Следует отметить, что совершенство зрения и слуха у наших новых знакомых отлично служило им в их ремесле, ибо англичанин был журналистом в «Daily-Telegraph», а француз — корреспондентом… Но какой газеты или каких газет — он не уточнял, а когда его об этом спрашивали, то отшучивался, говоря, что переписывается со своей «кузиной Мадлэн». В сущности, этот француз, при всем кажущемся легкомыслии, имел натуру весьма проницательную и очень тонкую. Даже когда он порой судил о вещах вкривь и вкось, скорее всего, чтобы скрыть желание выведать суть дела, он никогда не проговаривался. Сама эта речистость помогала ему молчать, и, возможно, он был более сдержан и скромен, чем его собрат из «Daily-Telegraph».
И если оба они присутствовали в эту ночь, с 15 на 16 июля, на балу, что давался в Новом дворце, то именно в качестве корреспондентов, для вящего удовлетворения своих читателей.
Нечего и говорить, что оба журналиста с восторгом выполняли свое назначение в этом мире, лихо устремляясь по тропе самых неожиданных открытий, ничего не страшась и ничем не гнушаясь, с невозмутимым хладнокровием и подлинной отвагой профессионалов. Настоящие жокеи этой гонки, этой охоты за информацией, они были готовы шагать через заграждения, переплывать реки и брать барьеры с несравненным пылом истинных спортсменов, решившихся либо добежать «в первой тройке», либо умереть.
Впрочем, их газеты не жалели на них гонораров — того самого надежного, быстрого и совершенного средства для получения информации, которое известно на сегодняшний день. К чести корреспондентов стоит добавить также, что ни один, ни другой никогда не позволяли себе совать нос в тайны личной жизни и включались в дело лишь тогда, когда речь шла о политических или общественных интересах. Одним словом, они занимались тем, что вот уже несколько лет называется «серьезным военно-политическим репортажем».
При всем том, как мы увидим, следуя за ними по пятам, наши репортеры подчас весьма своеобразно судили о фактах, особенно об их последствиях, причем каждый придерживался «собственной манеры» понимания и оценки. Но в конечном счете оба делали свое дело добросовестно, ни при каких обстоятельствах не щадя себя, и осуждать их было бы некрасиво.
Французского корреспондента звали Альсид Жоливэ. Имя англичанина было Гарри Блаунт. Они только что встретились в Новом дворце, на празднестве, о котором их газеты ждали от них известий. Из-за несходства характеров и профессиональной ревности у них вряд ли могла возникнуть особая взаимная симпатия. Однако они не стали избегать друг друга, почувствовав явную потребность угадывать мысли конкурента касательно новостей дня. Ведь, в конце концов, это были два охотника, привязанные к одной местности с ее общими заповедниками. То, что ускользало от одного, могло быть с выгодой ухвачено другим, и сами интересы дела требовали, чтобы они оставались в пределах взаимной видимости и слышимости.
Итак, в этот вечер оба были настороже. В воздухе и впрямь чувствовалось нечто необычное.
«Даже если это просто „утки”, — бормотал про себя Альсид Жоливэ, — то и они стоят ружейного выстрела!»
Вот почему тотчас после того, как генерал Кисов покинул бал, обоим корреспондентам пришла мысль побеседовать друг с другом, и они начали разговор с осторожного взаимного прощупывания.
— Право, сударь, этот маленький праздник просто очарователен! — приветливо произнес Альсид Жоливэ, решив завязать разговор этим чисто французским обращением.
— Я уже телеграфировал: блеск! — холодно ответил Гарри Блаунт, употребив слово, которое в устах подданного Соединенного Королевства должно было выражать необычайный восторг.
— Однако, — добавил Альсид Жоливэ, — я в то же время счел необходимым указать моей кузине…
— Вашей кузине?… — прерывая собрата, удивленно повторил Гарри Блаунт.
— Да, — продолжил Альсид Жоливэ, — моей кузине Мадлэн… Именно с ней я и состою в переписке! Ей, кузине, нравится узнавать обо всем достоверно и незамедлительно!… Вот я и счел необходимым отметить, что на этом празднике словно какое-то облачко омрачило чело государя.
— А мне оно показалось сияющим, — ответил Гарри Блаунт, возможно, желая скрыть свое подлинное мнение на этот счет.
— И, разумеется, вы оставили его сиять и на столбцах «Daily-Telegraph»?
— Именно так.
— А помните, господин Блаунт, — спросил Альсид Жоливэ, — что произошло под Вильно[4] в тысяча восемьсот двенадцатом году?
— Помню, сударь, словно сам при этом присутствовал, — ответил английский корреспондент.
— В таком случае, — продолжал Альсид Жоливэ, — вы должны знать, что императору Александру в разгар праздника, устроенного в его честь, доложили, что Наполеон с авангардом французской армии только что пересек Неман. Однако император не покинул праздника и, несмотря на крайнюю важность сообщения, которое могло стоить ему империи, проявил не больше беспокойства…
— …чем наш хозяин несколько минут назад, когда генерал Кисов сообщил ему, что между русской границей и Иркутской губернией оборваны телеграфные провода.
— А, так вы знаете и об этой мелочи?
— Да, знаю.
— Мне же было бы просто невозможно ее упустить, ведь моя последняя телеграмма дошла до Удинска[5], — заметил с явным удовлетворением Альсид Жоливэ.
— А моя только до Красноярска, — не менее довольным тоном ответил Гарри Блаунт.
— Значит, вам известно и то, что войскам в Николаевске был послан приказ о выступлении?
— Да, сударь, причем одновременно с ним казакам Тобольской губернии была направлена телеграмма с распоряжением подтянуть резервы.
— Совершенно верно, господин Блаунт, об этих мерах мне тоже известно, и — поверьте — моя милая кузина уже завтра будет извещена о случившемся!
— Точно так же, господин Жоливэ, как и читатели «Daily-Telegraph».
— Вот именно! Когда видишь все, что происходит…
— И слышишь все, что говорят…
— Назревают интересные события, господин Блаунт, за которыми стоит понаблюдать.
— И я непременно понаблюдаю, господин Жоливэ.
— Стало быть, мы, возможно, встретимся на почве уже не столь надежной, как паркет этой гостиной!
— Не столь надежной, конечно, но зато…
— Но зато и не столь скользкой! — ответил Альсид Жоливэ, как раз в эту секунду успев поддержать своего коллегу, который, отступая назад, чуть не потерял равновесие.
На этом корреспонденты расстались, в общем весьма довольные тем, что ни один не опередил другого. Игра прошла на равных.
В этот миг двери залов, смежных с большой гостиной, распахнулись, открыв взорам гостей столы, пышно уставленные дорогой посудой из фарфора и золота. На столе, что стоял посредине и предназначался для князей, княгинь и членов дипломатического корпуса, сверкала бесценная ваза, вывезенная из Лондона, а вокруг этого ювелирного шедевра поблескивали под огнями люстр тысячи приборов самого восхитительного сервиза, когда-либо покидавшего мануфактуры Севра[6].
Гости Нового дворца устремились в залы, где их ждал ужин.
Только что возвратившийся генерал Кисов быстро подошел к офицеру гвардейских стрелков.
— Что нового? — тотчас, как и в первый раз, спросил офицер.
— Телеграммы не идут дальше Томска, государь.
— Гонца, и не медля!
Офицер оставил гостиную и удалился в просторную смежную комнату. Это был рабочий кабинет, расположенный в угловой части Нового дворца и обставленный обычной мебелью из мореного дуба. На стенах висели картины, среди которых было несколько полотен с подписью Ораса Берне[7].
Офицер сразу же распахнул окно, как если бы его легким недоставало кислорода, и вышел на широкий балкон вдохнуть свежего воздуха, очищенного прохладой чудесной июльской ночи.
Перед его глазами, купаясь в лучах луны, высились округлые стены крепостного вала, внутри которых возвышались два храма, три дворца и арсенал. Вокруг этих стен вырисовывались три разных города — Китай-город, Белый город и Земляной город, с огромными европейскими, татарскими или китайскими[8] кварталами, над которыми поднимались башни, колокольни, минареты и купола трехсот церквей, чьи зеленые главы были увенчаны серебряными крестами. В неширокой речке с извилистым руслом мерцали там и сям отблески лунных лучей. А вокруг на много километров простиралась причудливая мозаика по-разному расцвеченных домов.
Этой речкой была Москва-река, этим городом — Москва, стеной укреплений — Кремль, а офицером гвардейских стрелков, что скрестив руки и с думой на челе стоял и рассеянно слушал шум, нисходивший от Нового дворца на древнее московское городище, был русский царь.
Глава 2 РУССКИЕ И ТАТАРЫ
Если царь столь внезапно покинул гостиные Нового дворца, когда праздник, устроенный им для гражданских и военных властей и для важных сановников Москвы, был в самом разгаре, — значит, по ту сторону уральских границ в это время происходили серьезные события. Уже не оставалось сомнений, что страшное нашествие грозило лишить сибирские провинции российской автономии.
Азиатская Россия, или Сибирь, занимает площадь в пятьсот шестьдесят тысяч квадратных льё[9], насчитывая около двух миллионов жителей. Она простирается от Уральских гор, отделяющих ее от Европейской России, до берегов Тихого океана. На юге по весьма условной границе ее окружают Туркестан[10] и Китайская империя, на севере сибирские земли омывает Ледовитый океан — начиная с Карского моря вплоть до Берингова пролива.
Сибирь разделена на ряд губерний, или провинций, а именно: Тобольскую, Енисейскую, Иркутскую, Омскую[11] и Якутскую[12]; в нее входят еще два округа — Охотский и Камчатский[13], а также два края — киргизов[14] и чукчей, — ныне подчиненные московскому правлению.
Эти обширные степные просторы, протянувшиеся с запада на восток более чем на сто десять градусов географической долготы, являются вместе с тем местом ссылок для преступников, страной изгнания для тех, кто указом приговорен к выселению.
Высшую царскую власть в этой огромной стране представляют два губернатора. Резиденция одного находится в Иркутске, столице Восточной Сибири; местом пребывания второго является столица Западной Сибири Тобольск. Эти две Сибири разделяет река Чула[15] — приток Енисея.
Ни одна железная дорога не пересекает пока этих бескрайних равнин, часть которых по праву славится необычайным плодородием. Ни один рельсовый путь не обслуживает знаменитых рудников, благодаря которым сибирская земля на огромных пространствах куда богаче в своих недрах, чем на поверхности. Летом по ней передвигаются в тарантасе или на телеге, зимой — на санях.
Западную и восточную границы Сибири соединяет одна-единственная связь — но зато электрическая, осуществляемая посредством провода, протянувшегося на более чем восемь тысяч верст (8536 километров)[16].
Пересекши Урал, он проходит через Екатеринбург, Касимов[17], Тюмень, Ишим, Еланск[18], Колывань, Томск, Красноярск, Нижнеудинск, Иркутск, Верхненерчинск, Сретинск, Албазин[19], Благовещенск, Орловск[20], Александровск[21], Николаевск, причем за каждое слово, отправленное в его крайнюю точку, берут по шесть рублей девятнадцать копеек. Отдельная ветвь соединяет Иркутск с Кяхтой, что на монгольской границе, и отсюда в течение четырнадцати дней почта пересылает отправления в Пекин по цене тридцать копеек за слово.
Этот-то провод, протянувшийся от Екатеринбурга до Николаевска, и был перерезан — сначала перед Томском, а через несколько часов — между Томском и Колыванью.
Вот почему на второе сообщение генерала Кисова царь ответил весьма кратко: «Гонца, и не медля!»
Государь все еще неподвижно стоял у окна кабинета, когда привратники снова открыли к нему дверь. На пороге появился шеф полицейского управления[22].
— Входи, генерал, — коротко бросил царь, — и расскажи мне все, что знаешь об Иване Огареве.
— Это весьма опасный человек, государь, — ответил шеф полиции.
— У него звание полковника?
— Да, государь.
— Это был умный офицер?
— Очень умный, но он не признавал над собой никакой власти и отличался неукротимым честолюбием, которое не отступало ни перед чем. Вскоре он ввязался в тайные интриги, за что и был лишен звания Его Высочеством Великим князем, а затем выслан в Сибирь.
— Когда это произошло?
— Два года тому назад. Помилованный Вашим Величеством, он после шести месяцев ссылки вернулся в Россию.
— И с этого времени в Сибирь не возвращался?
— Возвращался, но на этот раз по собственной воле, — ответил шеф полиции. И, чуть понизив голос, добавил: — Было такое время, государь, когда человек, отправленный в Сибирь, оттуда уже не возвращался.
— И все же, пока я жив, Сибирь есть и будет страной, откуда возвращаются!
У царя было право произнести эти слова с чувством искренней гордости, ибо своей снисходительностью он не раз доказывал, что русское правосудие умеет прощать.
Шеф полиции ничего не ответил, но было очевидно, что он не сторонник полумер. На его взгляд, всякий человек, пересекший Уральский хребет в окружении жандармов, никогда больше не должен пересекать его снова. Между тем при новом режиме дело обстояло иначе, и шеф полиции искренне об этом сожалел. Как же так! Пожизненный приговор — только за уголовные преступления?! А политические ссыльные возвращаются из Тобольска, Якутска, Иркутска! Привыкший к самодержавной силе указов, которые прежде не знали пощады, шеф полиции не мог примириться с нынешней манерой правления. Однако он смолчал, ожидая от царя новых вопросов.
Вопросы не заставили себя ждать.
— И что же, — спросил царь, — после своего путешествия по сибирским провинциям, подлинная цель которого, кстати, так и осталась неизвестной, Иван Огарев больше не возвращался в Россию?
— Нет, он вернулся.
— И с момента возвращения полиция потеряла его след?
— Нет, государь, ибо лишь с того дня, когда преступника помиловали, он и становится по-настоящему опасным!
Лоб царя на миг омрачился. Пожалуй, шефу полиции не следовало заходить так далеко, хотя его идейное упрямство было по меньшей мере равно его безграничной преданности своему государю. Однако царь, пренебрегши этими косвенными упреками в адрес своей внутренней политики, продолжил серию кратких вопросов:
— Где был Иван Огарев в последний раз?
— В Пермской губернии.
— В каком городе?
— В самой Перми.
— Чем он там занимался?
— Вроде бы ничем, его поведение не вызывало подозрений.
— И тайная полиция не следила за ним?
— Нет, государь.
— Когда он выехал из Перми?
— Ближе к марту.
— И направился?…
— Этого никто не знает.
— И что с ним с тех пор — неизвестно?
— Неизвестно.
— Так вот, мне это известно! — возразил царь. — До меня дошли анонимные сведения, миновавшие полицейское управление. Учитывая то, что происходит нынче по ту сторону границы, я имею все основания считать их точными!
— Вы хотите сказать, государь, — вскричал шеф полиции, — что Иван Огарев причастен к татарскому нашествию?
— Да, генерал, и сейчас я открою тебе, чего ты не знаешь. Покинув Пермскую губернию, Иван Огарев пересек Уральский хребет и устремился в Сибирь, в киргизские степи, где попытался, и не без успеха, взбунтовать кочевые племена. После этого он спустился еще дальше на юг, вплоть до вольного Туркестана. Там, в Бухарском, Кокандском и Кундузском[23] ханствах, он нашел правителей, которые были не прочь попытать счастья в сибирских провинциях и вторгнуться со своими ордами в азиатские земли Русской империи. Это нашествие затевалось в тайне, но вот только что разразилось раскатами грома, и теперь все пути и средства связи между Западной и Восточной Сибирью перерезаны! Более того! Иван Огарев, пылая местью, замышляет покушение на жизнь моего брата!
Говоря это, царь в волнении быстро шагал по кабинету. Шеф полиции ничего не ответил, но про себя подумал, что в те времена, когда российские императоры не прощали ссыльных, замыслам Ивана Огарева не удалось бы осуществиться.
Некоторое время он хранил молчание. Потом, приблизившись к царю, рухнувшему в кресло, спросил:
— Ваше Величество, разумеется, уже отдали распоряжение касательно скорейшего отражения нашествия?
— Да, — ответил царь. — Последняя телеграмма, успевшая дойти до Нижнеудинска, должна была привести в движение войска Енисейской, Иркутской и Якутской губерний, а также забайкальских земель. Одновременно к Уральскому хребту ускоренным маршем направляются Пермский и Нижегородский полки вместе с казаками пограничья; но, к сожалению, прежде чем они смогут встать на пути татарских полчищ, пройдет несколько недель!
— А что же брат Вашего Величества, Его Высочество Великий князь, оказавшийся ныне в изоляции, полностью лишен прямой связи с Москвой?
— Да.
— Однако из последних телеграмм он, верно, должен знать, какие меры приняты Вашим Величеством и на какую помощь от ближайших к Иркутску губерний он может рассчитывать?
— Это он знает, — ответил царь. — А не знает он того, что Иван Огарев одновременно с ролью мятежника должен сыграть и роль предателя и что мой брат имеет в нем личного и непримиримого врага. Ведь именно Великому князю Иван Огарев обязан первой немилостью, и — самое страшное — князю этот человек совершенно не знаком. План Ивана Огарева как раз в том и состоит, чтобы пробраться в Иркутск и там под ложным именем предложить Великому князю свои услуги. Затем, завоевав его доверие, он выдаст татарам окруженный город, а вместе с ним и моего брата, чьей жизни тем самым грозит теперь прямая опасность. Вот что мне известно из полученных докладов, вот чего не знает Великий князь и вот что ему нужно знать!
— Стало быть, государь, требуется умный и храбрый посланец, гонец…
— Я жду его.
— И пусть он будет поосторожнее, — добавил шеф полиции, — ибо позвольте Вам напомнить, государь, что земля эта — я говорю о Сибири — раздолье для мятежей!
— Ты хочешь сказать, генерал, что заодно с захватчиками выступят и ссыльные? — вскричал царь, не сдержав негодования перед домыслами полицейского шефа.
— Да простит меня Ваше Величество!… — пролепетал шеф полиции, ведь именно эту мысль подсказал ему его беспокойный и недоверчивый ум.
— Я считаю — у ссыльных больше патриотизма! — договорил царь.
— Помимо политических ссыльных в Сибири есть и другие преступники, — ответил шеф полиции.
— Преступники — да! И их, генерал, я оставляю на тебя! Это — отребье человеческого рода. У них вообще нет родины. Однако это восстание — а точнее, нашествие — направлено не против императора, но против России, против той страны, которую ссыльные все еще надеются увидеть вновь… и которую они увидят!… Нет, русский никогда не сойдется с иноземцем ради того, чтобы хоть на час ослабить Московскую державу![24]
Царь имел основания верить в патриотизм людей, временно отстраненных от политической жизни. Снисходительность, лежавшая в основе его правосудия и непосредственно влиявшая на судебные решения, равно как и те значительные послабления, что он допустил в применении некогда весьма жестоких указов, — служили ему гарантией его правоты. И все-таки, даже если не придавать особого значения удаче татарского вторжения, ситуация вокруг него складывалась крайне тяжелая: приходилось опасаться, как бы к захватчикам не присоединилась значительная часть киргизской народности.
Киргизы делятся на три орды — Большую, Малую и Среднюю и насчитывают около четырехсот тысяч «чумов», то есть два миллиона душ. Из этих разных племен одни независимы, а другие признают над собой власть либо России, либо одного из трех ханств — Хивинского, Кокандского или Бухарского, то есть самых грозных правителей Туркестана[25]. Средняя орда — наиболее богатая и самая значительная. Ее поселения занимают все пространство между реками Сарысу, Иртышом, верхним течением Ишима и озерами Хадисан[26] и Аксакал[27]. Большая орда, чьи земли расположены восточнее Средней, простирается вплоть до Омской и Тобольской губерний. Тем самым, если бы эти киргизские народности присоединились к восстанию, то азиатские земли России, и прежде всего та часть Сибири, что лежит восточнее Енисея, были бы для России потеряны.
Это правда, что киргизы — заведомые новички в военном искусстве и известны скорее как ночные разбойники и грабители мирных караванов, нежели как профессиональные солдаты. Как считает М. Левшин, «сомкнутый фронт или каре[28] обученной пехоты может выстоять против десятикратно большего числа киргизов, а одной пушки хватит, чтобы уничтожить их несметное множество».
Пусть так, но только и каре обученной пехоты, и пушки с их огненной пастью должны еще прибыть в восставшую страну из мест их расположения, что находятся отсюда в двух-трех тысячах верст. Между тем, если исключить прямой путь, связывающий Екатеринбург с Иркутском, то совсем не просто преодолеть тамошние бескрайние, подчас заболоченные степи, и прошло бы заведомо несколько недель, прежде чем русские войска оказались в состоянии отбросить татарские орды.
Омск являлся центром западно-сибирской военной организации, которой надлежало сдерживать порывы киргизских племен. Именно здесь лежали те окраинные земли, на которые уже не раз покушались не до конца покоренные кочевники, и у военного министерства были все основания считать, что над Омском нависла серьезная угроза. Во многих точках могла быть прорвана линия военных поселений — казацких постов, выстроенных от Омска до самого Семипалатинска. При этом приходилось опасаться, как бы «великие султаны», правящие в киргизских округах, не приняли, по своей или чужой воле, владычества татар — таких же мусульман, как и они, и как бы естественную ненависть к поработителям не усугубило противоборство православной и мусульманской религий.
И впрямь, уже издавна татары Туркестана, главным образом Бухарского, Кокандского и Кундузского ханств, пытались — силой или убеждением — подбить киргизские орды на отделение от Москвы.
Пришла пора сказать несколько слов и о татарах.
Строго говоря, татары принадлежат к двум разным расам — к кавказской и монгольской[29].
Кавказская раса, та, что согласно Абелю де Ремюза, «по типу красоты считается у нас близкой европейцам, ибо все народы этой части света вышли из нее», объединяет под этим общим названием и турок, и туземцев персидской ветви.
Чисто монгольская раса включает монголов, маньчжуров и тибетцев.
Татары, угрожавшие теперь Российской империи, относились к кавказской расе и населяли прежде всего Туркестан. Эта обширная страна распадается на несколько разных государств, управляемых ханами, откуда и само название «ханство». Главными из них являются Бухара, Хива, Коканд, Кундуз и т. д.
Самым важным и грозным ханством в это время считалась Бухара. России уже не раз приходилось воевать с ее властителями, которые из личных интересов, а также с целью навязать киргизам иное ярмо, поддерживали их в стремлении освободиться от московского господства. Нынешний правитель — Феофар-хан — шел здесь по стопам своих предшественников.
Бухарское ханство простирается с севера на юг между тридцать седьмой и сорок первой параллелями широты и шестьдесят первым и шестьдесят шестым градусами долготы[30], занимая площадь приблизительно в десять тысяч квадратных лье.
В описываемое нами время Бухара насчитывала около двух миллионов пятисот тысяч жителей и содержала армию, состоявшую из почти шестидесяти тысяч пехотинцев, число которых утраивалось в годы войны, и тридцати тысяч всадников. В этой богатой стране занимаются всем — разводят животных, выращивают фрукты и добывают сокровища из земных недр. Владения ее расширены за счет балхашских, аукойских и мейманехских земель. Среди ее девятнадцати крупных городов первый — Бухара, окруженная крепостной стеной более восьми английских миль в длину, с башнями по углам; известная тем, что здесь жил Авиценна и другие ученые X века, Бухара считается центром мусульманской науки и входит в число самых славных городов Центральной Азии; мощная крепость защищает Самарканд, где находятся могила Тамерлана и знаменитый дворец с хранящимся в нем синим камнем, на котором должен посидеть каждый новый хан, восходя на престол; город Карши расположен посреди оазиса, окруженного болотом с черепахами и ящерицами, и благодаря тройной стене извне почти неприступен; а вот Чарджоу защищают лишь его жители — их около двадцати тысяч душ; наконец, города Каттакурган, Нурата, Джизак, Пайканд, Каракуль, Хузар и прочие образуют семейство, крепкое взаимной поддержкой. Защищенное горами и окруженное степями, Бухарское ханство является поистине грозным государством, и России пришлось бы выставить против него значительные силы.
Как уже сказано, правителем этой части татарского мира был честолюбивый и злобный Феофар. Опираясь на поддержку других ханов, в первую очередь кокандского и кундузского, — людей воинственных и известных своей жестокостью и разбоем, всегда готовых ринуться в любую, милую татарскому сердцу авантюру, — Феофар при поддержке властителей всех прочих орд Центральной Азии встал во главе нашествия, душой которого был Иван Огарев. Этот предатель, побуждаемый безрассудным честолюбием, равно как и ненавистью, организовал вторжение так, чтобы перерезать Великий сибирский путь. Только явный безумец мог надеяться раздробить Московскую империю! Поддавшись его внушению, эмир — такой титул принимают бухарские ханы — перебросил свои орды через российскую границу и захватил Семипалатинскую область; казаки, которых в месте прорыва оказалось слишком мало, вынуждены были отступить. Затем войска эмира продвинулись за озеро Балхаш, по пути увлекая за собой киргизские племена. Чиня разбой и разорение, вербуя покорившихся, забирая в плен сопротивлявшихся, он двигался от города к городу в сопровождении подобающего восточному деспоту обоза, как бы его гражданского дома, с женами и рабами — и все это с бесстыдной дерзостью современного Чингисхана.
Где находился он в данный момент? Как далеко успели пройти его солдаты к тому часу, когда новость о нашествии достигла Москвы? За какой сибирский рубеж пришлось отступить русским войскам? Установить это было невозможно. Связь была прервана. Что же случилось с проводом между Колыванью и Томском — оборвали его дозорные из татарского авангарда или эмир дошел уже до Енисейской губернии? Неужели огнем полыхает уже вся Западно-Сибирская низменность? И мятеж распространился до восточных земель? Это оставалось неизвестным. Электрический ток, несущийся со скоростью молнии, — единственное средство, которому не помеха ни зимняя стужа, ни летний зной, не мог уже пересечь степь и нельзя было предупредить Великого князя, запертого в Иркутске, об опасности, которой угрожало ему предательство Ивана Огарева.
Заменить прерванный ток мог только гонец. Но чтобы одолеть пять тысяч двести верст (5523 километра), что отделяют Москву от Иркутска, этому человеку потребовалось бы какое-то время. Пробираясь сквозь ряды мятежников и захватчиков, ему пришлось бы проявить поистине сверхчеловеческую отвагу и сообразительность. Однако, имея голову и сердце, можно далеко пойти!
«Найду ли я такую голову и такое сердце?» — спрашивал себя царь.
Глава 3 МИХАИЛ СТРОГОВ
Дверь императорского кабинета отворилась, и лакей доложил о приходе генерала Кисова.
— А гонец? — живо спросил царь.
— Он здесь, государь, — ответил генерал Кисов.
— Ты нашел подходящего человека?
— Смею надеяться, Ваше Величество.
— Он нес дворцовую службу?
— Да, государь.
— Ты его знаешь?
— Знаю лично, он несколько раз успешно выполнял трудные задания.
— За границей?
— В самой Сибири.
— Откуда он?
— Из Омска. Он сибиряк.
— Хватит у него хладнокровия, ума, смелости?
— Да, государь, у него есть все, что нужно, чтобы преуспеть там, где другие, пожалуй, потерпели бы неудачу.
— Возраст?
— Тридцать лет.
— Это сильный человек?
— Государь, он может перенести самый страшный холод, голод, жажду и усталость.
— Он что — из железа?
— Да, государь.
— А сердце?…
— Сердце золотое.
— Его зовут?
— Михаил Строгов.
— Он готов отправиться в путь?
— Он ждет приказа Вашего Величества в зале охраны.
— Пусть он войдет, — сказал царь.
Несколько мгновений спустя в императорский кабинет вошел человек высокого роста, крепкий, плечистый и широкогрудый.
Прекрасные черты его лица выдавали представителя кавказской расы. Руки и ноги — поистине рычаги, прекрасно отлаженные с расчетом на наилучшее выполнение целенаправленных усилий. Такого могучего красавца, плотно стоящего на земле, было бы нелегко толкнуть на какой-либо шаг помимо его воли: когда он упирался, то ноги его, казалось, врастали в почву. Квадратную голову с широким лбом покрывала густая шевелюра, непокорными кудрями выбивавшаяся из-под надетой фуражки. И если лицо его, обычно бледное, внезапно изменялось, то объяснением могло быть лишь сильное биение сердца: от ускоренного кровообращения сквозь кожу проступала краснота артерий. Темно-синие глаза с прямым, открытым и твердым взглядом блестели из-под надбровных дуг со слегка напряженными веками — признак незаурядного мужества — «беззлобного мужества героев», как выражаются физиономисты. Крупный нос с широкими ноздрями выступал над правильно очерченным ртом со слегка припухлыми губами доброго и щедрого существа.
У Михаила Строгова был темперамент человека целеустремленного и скорого на решения, которому не приходится в раздумии грызть ногти, скрести в сомнении за ухом или в нерешительности переминаться с ноги на ногу. Сдержанный в словах и жестах, он умел застыть в неподвижности, как солдат перед офицером; но когда он шагал, в его походке чувствовалась совершенная непринужденность и поразительная четкость движений, говорившая одновременно о доверчивости и сильной воле. Он был из тех людей, чья рука никогда не упустит возможности «ухватить случайность за волосы», — сравнение несколько натянутое, но меткое.
На Михаиле Строгове был изящный военный мундир, похожий на те, что носят в походе офицеры конных стрелков, — сапоги со шпорами, полуоблегающие панталоны и коричневый полушубок, опушенный мехом и отделанный желтыми галунами.
Михаил Строгов служил в особом корпусе царских гонцов и среди этой военной элиты имел чин офицера. В его походке, в чертах лица, во всей его личности ярко чувствовался «исполнитель приказов», и царь это понял сразу. Стало быть, Михаил Строгов обладал одним из наиболее ценных в России качеств, которое, по наблюдениям знаменитого романиста Тургенева, позволяет достичь в Московской империи самого высокого положения.
И действительно, если кто и мог успешно проделать путешествие от Москвы до Иркутска через захваченные врагом земли, преодолеть все препятствия и не устрашиться никаких опасностей, то Михаил Строгов был одним из таких людей.
В высшей степени благоприятствовало успеху еще одно обстоятельство — Михаил Строгов прекрасно знал страну, которую ему предстояло пересечь, и понимал разные ее наречия — ведь ему уже доводилось проходить ее из конца в конец, а главное — он сам был родом из Сибири.
Отец его, старый Петр Строгов, умерший десять лет назад, в свое время поселился в городе Омске, центре Омской губернии, а мать, Марфа Строгова, проживала в нем и по сей день. Там-то, среди диких Омских и Тобольских степей, и взрастил суровый сибиряк своего сына Михаила, взрастил, как говорят у русских, «в строгости». По своему истинному призванию Петр Строгов был охотник. Летом и зимой, будь то в страшную жару или в мороз, доходящий порой до пятидесяти градусов, носился он по затвердевшим равнинам, по лиственничным и березовым чащам и сосновым лесам, ставя капканы, ловя мелкую дичь на мушку, а крупную подстерегая с ножом или вилами. Крупной дичью был ни много ни мало сибирский медведь — зверь дикий и свирепый, ростом со своих родичей из ледовых морей. Петр Строгов свалил более тридцати девяти медведей, стало быть, сороковой тоже пал от его руки, — а ведь из русских охотничьих легенд известно, как много охотников, удачливых вплоть до тридцать девятого медведя, на сороковом находили свой конец!
Петр Строгов переступил это роковое число без единой царапины. И с тех пор его Михаил, которому было всего одиннадцать лет, всегда сопровождал отца на охоту, неся «рогатину», то есть вилы, чтобы в случае чего прийти на помощь родителю, вооруженному лишь ножом. В четырнадцать лет Михаил Строгов уже собственной рукой убил своего первого медведя, и мало того, — ободрав добычу, дотащил шкуру гигантского зверя до отцовского дома, от которого находился за несколько верст. Все это говорило о необычайной силе мальчика
Такой образ жизни пошел ему на пользу, и к зрелым годам ни жара, ни холод, ни голод, ни жажда и никакая усталость уже не страшили его. Он стал железным человеком — подобно якуту северных окраин. Мог сутками оставаться без еды, по восемнадцать часов не спать, а если приходилось, то ночевал среди голой степи, где другие бы непременно замерзли. Наделенный необычайно тонким чутьем, ведомый инстинктом индейца делавара[31], когда среди снежной равнины туман застилал горизонт, он даже в высоких широтах, где подолгу стоит полярная ночь, отыскивал верную дорогу, всякий другой неизбежно бы сбился с пути. Все отцовские секреты были известны ему. Он научился находить правильную дорогу по признакам, почти незаметным: по отпечаткам упавших сосулек, расположению на дереве мелких сучков, по запахам, доносящимся чуть ли не с края горизонта, по примятой в лесу траве, смутным звукам, носящимся в воздухе, по далекому грохоту, шуму птичьих крыл в туманной мгле — и по тысяче других мелочей, что оказываются лишней вехой для тех, кто умеет их распознать. Более того, закаленный в снегах, как дамасская сталь[32] в водах Сирии, он имел, по словам генерала Кисова, железное здоровье и — что не менее верно — золотое сердце.
Единственной привязанностью Михаила Строгова была его мать, старая Марфа, которая так и не захотела покинуть прежний дом Строговых в Омске, на берегу Иртыша, где старый охотник и она вместе прожили долгую жизнь. Всякий раз сын покидал ее с тяжелым сердцем, обещая навестить, как представится случай, и это слово свое он держал свято.
Было решено, что, достигнув двадцати лет, Михаил поступит в личную службу к государю-императору России, в корпус царских гонцов. Молодой сибиряк с его храбростью, умом, усердием и примерным поведением успел не один раз отличиться — сначала во время путешествия по Кавказу, трудной стране, которую подбили на восстание неугомонные последователи Шамиля[33], а позднее — выполняя особо важную миссию, когда пришлось дойти до самого Петропавловска, что на Камчатке, у крайних пределов Азиатской России. В этих длительных путешествиях проявились замечательные свойства его характера: хладнокровие, благоразумие и храбрость, которые заслужили ему благосклонность и покровительство начальников, а стало быть, и быстрое продвижение по службе.
Свои отпуска, справедливо причитавшиеся ему после дальних походов, он неукоснительно посвящал старой матери, — даже если их разделяли тысячи верст и непроезжие зимние дороги. И впервые случилось так, что, выполняя крайне сложные обязанности на юге империи, Михаил Строгов вот уже целых три года — словно три столетия! — не навещал старой Марфы. Через несколько дней его ждал очередной отпуск, и он уже закончил все приготовления к отъезду в Омск, как вдруг произошли известные события. И Михаил Строгов был неожиданно доставлен к царю в полном неведении относительно того, чего ждал от него государь.
Не произнося ни слова, царь ненадолго остановил проницательный взгляд на Строгове, который застыл перед ним в полной неподвижности.
Явно удовлетворенный увиденным, царь вернулся к своему бюро и, указав шефу полиции на стул, негромким голосом продиктовал ему письмо всего в несколько строк.
Когда текст послания был составлен, царь очень внимательно перечитал его и привычным росчерком поставил подпись, предварив свое имя сакраментальной формулой императоров России «Быть по сему», что означает «Так тому и быть».
Затем письмо было вложено в конверт и запечатано штемпелем с императорским гербом.
Поднявшись, царь велел Михаилу Строгову приблизиться.
Михаил Строгов сделал несколько шагов и снова замер, готовый отвечать на вопросы.
Царь еще раз пристально посмотрел ему в лицо — глаза в глаза. Потом отрывисто спросил:
— Твое имя?
— Михаил Строгов, Ваше Величество.
— Звание?
— Капитан корпуса царских гонцов.
— Ты знаешь Сибирь?
— Я сибиряк.
— Родился?…
— В Омске.
— Есть в Омске родственники?
— Да, государь.
— Кто именно?
— Моя старая мать.
Царь чуть помедлил. Затем, показывая письмо, которое держал в руке, сказал:
— Вот письмо, которое я вручаю тебе, Михаил Строгов, для передачи в собственные руки Великого князя, и никому кроме него.
— Я передам, государь.
— Великий князь находится в Иркутске.
— Я отправлюсь в Иркутск.
— Но придется пересечь страну, объятую мятежом и полоненную татарами. Татары захотят перехватить это письмо.
— Я пересеку ее.
— Особенно следует остерегаться предателя по имени Иван Огарев, который, возможно, встретится на твоем пути.
— Я буду остерегаться его.
— Ты собираешься ехать через Омск?
— Это мой обычный путь, государь.
— Если ты навестишь свою мать, то рискуешь быть узнанным. Тебе нельзя видеться с матерью!
Михаил Строгов секунду колебался.
— Я не увижусь с нею, — сказал он.
— Поклянись, что ничто не сможет заставить тебя признаться, кто ты и куда направляешься!
— Клянусь.
— Михаил Строгов, — произнес царь, передавая пакет молодому гонцу, — возьми же это письмо, от которого зависит спасение всей Сибири и, возможно, жизнь Великого князя, моего брата.
— Письмо будет передано его Высочеству Великому князю.
— Стало быть, ты пройдешь в любом случае?
— Пройду или буду убит.
— Мне нужно, чтобы ты остался жив.
— Я останусь жив и пройду, — ответил Строгов.
Казалось, царь был удовлетворен простой и спокойной уверенностью, с какой Михаил Строгов отвечал на его вопросы.
— Ступай же, Михаил Строгов, — произнес он, — ступай ради Господа Бога, ради России, ради моего брата и ради меня!
Михаил Строгов по-военному отдал честь, тотчас покинул императорский кабинет, а спустя немного и Новый дворец.
— Мне кажется, у тебя счастливая рука, генерал, — сказал царь.
— Надеюсь, государь, — ответил генерал Кисов, — Ваше Величество может быть уверено, что Михаил Строгов сделает все, что в силах сделать мужчина.
— Он и впрямь настоящий мужчина, — заметил царь.
Глава 4 ОТ МОСКВЫ ДО НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Расстояние от Москвы до Иркутска, которое Михаилу Строгову предстояло преодолеть, составляло пять тысяч двести верст (5523 километра). Когда телеграфный провод от Уральского хребта до восточной границы Сибири еще не был протянут, служба важных отправлений осуществлялась с помощью гонцов, самым быстрым из которых для путешествия из Москвы до Иркутска требовалось восемнадцать дней. Но это в исключительных случаях, а обычно этот путь через Азиатскую Россию занимал от четырех до пяти недель, при том, что в распоряжение царских посланцев передавались все средства передвижения.
Как человек, не боявшийся ни стужи, ни снега, Михаил Строгов предпочел бы путешествовать в суровую пору зимы, когда весь путь можно проделать в санях. Передвигаясь по бескрайним заснеженным степям, не приходится пересекать водных препятствий. Все скрыто под обледенелой скатертью снегов, по которой сани скользят легко и скоро. Конечно, некоторые природные явления представляют зимою опасность, например, постоянные густые туманы, трескучие морозы или долгие свирепые метели, чьи вихри накрывают и губят порой целые караваны. Случается, всю равнину заполоняют тысячи оголодавших волков. И все же Строгов счел за лучшее такой риск — ведь в зимнюю пору татары явно предпочли бы отсиживаться в городах, а мародеры не решились рыскать по степи. Передвижение войск оказалось бы невозможным, и пройти Михаилу Строгову было бы много легче. Но выбирать время года и час отъезда не приходилось. Каковы бы ни были обстоятельства, их оставалось принять и отправляться в путь.
Четко отдавая себе отчет в сложившейся ситуации, Михаил Строгов приготовился ей противостоять.
Прежде всего, условия, в которых он теперь оказался, были для царского гонца необычны. В самом выполнении этой роли никто на всем продолжении пути не должен был его заподозрить. Страна, подвергшаяся нашествию, кишмя кишит шпионами. Опознание означало бы провал всей миссии. Поэтому, выдавая Строгову крупную сумму денег, достаточную, чтобы покрыть путевые расходы и хоть немного смягчить неизбежные лишения, генерал Кисов не снабдил его никакими письменными распоряжениями с упоминанием об императорской службе, которое словно «Сезам!» открывало все двери. И ограничился одной подорожной.
Подорожная была выписана на имя Николая Корпанова, купца, проживающего в Иркутске. Она давала владельцу право брать себе, при необходимости, одного или нескольких провожатых, а сверх того, в соответствии с особой оговоркой, сохраняла силу даже в случае, если бы для всех остальных сограждан выезд из России Москвой был запрещен.
Что же такое — подорожная? Всего лишь разрешение брать почтовых лошадей; однако и этим разрешением Строгов мог пользоваться лишь тогда, когда не опасался вызвать подозрение насчет своего настоящего дела, то есть — пока оставался в Европейской России.
Но это означало, что в Сибири, когда ему придется проезжать мятежные провинции, он не сможет ни по-хозяйски распоряжаться на почтовых станциях, ни требовать себе самых лучших лошадей, ни реквизировать для личного пользования необходимые средства передвижения. Михаилу Строгову нельзя будет забывать, что он уже не гонец, но простой купец, Николай Корпанов, направляющийся из Москвы в Иркутск, и в этом качестве подвержен всем случайностям обычной поездки.
Проехать незамеченным — более или менее быстро, но проехать, — такой ему представлялась теперь его задача.
Тридцать лет назад сопровождение знатного путешественника включало не менее двух сотен конных казаков, такое же число пехотинцев, двадцать пять конников-башкир, триста верблюдов, четыреста лошадей, двадцать пять повозок, две переносные лодки и две пушки. Для путешествия по Сибири такое снаряжение считалось совершенной необходимостью.
А у него, Михаила Строгова, не будет ни пушек, ни конников, ни пехотинцев, ни вьючных животных. Если повезет, он поедет в повозке или верхом, если нет — придется добираться пешком.
Одолеть первые четырнадцать сотен верст (1493 километра), то есть расстояние между Москвой и русской границей, не представляло трудности. Железная дорога, почтовые экипажи, пароходы, лошади на перегонах были к услугам всех, а стало быть, и царского гонца.
Так вот, в то же утро шестнадцатого июля, сменив военную форму на обычную русскую одежду — суженный в поясе кафтан, стянутый традиционным мужицким кушаком, широкие штаны и подвязанные под коленками сапоги, Михаил Строгов отправился на вокзал, чтобы выехать первым же поездом. Оружия на нем не было, во всяком случае, оно не бросалось в глаза; однако под поясом был спрятан револьвер, а в кармане — один из тех широких кинжалов, похожих сразу и на нож, и на ятаган, каким сибирский охотник ловко вспарывает брюхо медведя, не портя его ценного меха.
Толпа на московском вокзале собралась огромная. Вообще, вокзалы российских железных дорог — это места оживленных сборищ, причем зевак, глазеющих на отъезжающих, по меньшей мере столько же, сколько и самих отъезжающих. Словно бы действует малая биржа новостей.
Поезд, на который Михаил Строгов взял билет, должен был довезти его до Нижнего Новгорода. Именно там кончалась тогда железная дорога, которая связывала Москву с Санкт-Петербургом, и оттуда ее предполагалось дотянуть до самой границы России. Перегон Москва — Нижний Новгород равнялся приблизительно четыремстам верстам (426 километрам), и поезд успевал пройти их часов за двенадцать. А чтобы от Нижнего Новгорода поскорее добраться до Уральского хребта, Михаил Строгов мог в зависимости от обстоятельств либо двигаться по суше, либо плыть пароходом по Волге.
Итак, Михаил Строгов сидел, вытянувшись в своем углу, словно добропорядочный обыватель, не слишком озабоченный делами и более всего желающий убить время, забывшись сном.
Однако, оказавшись в купе не один, дремал он лишь вполглаза, зато слушал в оба уха.
Действительно, слухи о восстании киргизских орд и татарском нашествии просочились уже и сюда. Пассажиры, его случайные спутники, обсуждали эту новость, хотя и не без предосторожностей.
Как и большинство пассажиров поезда, это были торговцы, направлявшиеся на знаменитую Нижегородскую ярмарку. Публика пестрая — евреи, турки, казаки, русские, грузины, калмыки и другие, однако почти все они говорили на государственном, русском, языке.
Обсуждались в первую очередь все «за» и «против» касательно тех событий, что происходили теперь по ту сторону Урала, и собеседники, по всей видимости, опасались, как бы русскому правительству не пришлось пойти на введение таких ограничительных мер — особенно в приграничных провинциях, которые пагубно сказались бы на торговле.
Сразу поясним — эти эгоисты рассматривали войну, то есть подавление бунта и борьбу с нашествием, лишь с точки зрения своих, подвергшихся опасности, интересов. Окажись среди них хотя бы один простой солдат в мундире — известно, какая важность придается мундиру в России, — торговцы тут же прикусили бы языки. Однако в том купе, где сидел Михаил Строгов, присутствия военных подозревать не приходилось: царский гонец, обреченный на инкогнито, не собирался себя выдавать.
Он слушал.
— Говорят, что цены на чай, ввозимый караванными путями, идут вверх, — говорил один перс, которого можно было узнать по его астраханскому, подбитому мехом островерхому колпаку и вытершемуся коричневому, в широких складках, халату.
— О, чаю падение цен не грозит, — отвечал старичок-еврей с насупленным лицом. — Те сорта чая, что продаются на нижегородском рынке, легко ввозить и через Запад, чего, к сожалению, не скажешь про бухарские ковры!
— Как! Вы ожидаете завоза из Бухары? — спросил его перс.
— Нет, но возможен завоз из Самарканда, и за него тем более приходится опасаться! Вот и делай теперь ставку на вывоз из стран, что восстали по ханскому приказу, — от Хивы до китайской границы!
— Что ж, — рассудил перс, — если ковры не дойдут, то переводные векселя небось тем паче!
— А прибыль, Боже Израильский! — воскликнул маленький еврей. — Это для вас пустяк?
— Вы правы, — вмешался еще один из пассажиров, — есть опасность, что с товарами из Центральной Азии на ярмарке будет туго, будь то самаркандские ковры или восточные сладости, шерсть и шали.
— Э, поосторожней, батенька! — насмешливо произнес сосед-русский. — Если вы смешаете ваши шали со сладостями, они могут безнадежно задубеть!
— Нашли, чему смеяться! — кисло возразил торговец, не находивший в подобных шутках никакого удовольствия.
— Эва! — ответил русский. — А если рвать на себе волосы и посыпать главу пеплом, — разве от этого ход событий изменится? Да нисколько! Как и движение товаров!
— Сразу видно, что вы не торговец! — отметал маленький еврей.
— Разумеется, нет, о достойный потомок Авраама![34] Я не торгую ни медом, ни воском, ни льном, ни пенькой, ни шерстью, ни икрой, ни пушниной, ни солониной, ни лесом, ни рубином, ни модным сафьяном, ни семенем конопляным, ни породой собачьей, ни пухом гагачьим!…
— Но ведь покупаете же? — спросил перс, прервав длинный перечень.
— Самую малость, и только для собственного употребления, — ответил тот, подмигнув одним глазом.
— Он просто шутник! — сказал еврей персу.
— Или шпион! — ответил тот, понизив голос. — Поостережемся говорить лишнее! В такое время полиция нежничать не станет, а ведь никогда толком не знаешь, с кем приходится ехать!
В другом углу купе о товарах говорили чуть меньше — больше о татарском нашествии и его пагубных последствиях.
— Лошадей по всей Сибири реквизируют, — говорил один из попутчиков, — а стало быть, связь между различными провинциями Центральной Азии будет весьма затруднена!
— А правда ли, — спросил у него сосед, — что киргизы Средней орды выступают заодно с татарами?
— Поговаривают, — понизив голос ответил тот, — только кто в этой стране может похвастать, что ему хоть что-нибудь доподлинно известно!
— Я слышал, как говорили, будто на границе собираются войска. На Волгу уже прибыли донские казаки, которых как раз и хотят двинуть против взбунтовавшихся киргизов.
— Ежели киргизы спустились вниз по Иртышу, дорога на Иркутск уже небезопасна! — заметил сосед. — Кстати, вчера я хотел отправить телеграмму в Красноярск, но она не дошла. Боюсь, как бы в скором времени татарские войска не отрезали от нас Восточную Сибирь!
— В общем-то, батенька, — продолжил первый собеседник, — эта торговцы справедливо опасаются за свою торговлю и свои сделки. Ведь после реквизиции лошадей заберут, и лодки, и повозки — все средства передвижения, так что в конце концов на всем пространстве империи уже и шагу не сделаешь.
— Боюсь, Нижегородская ярмарка кончится не столь блестяще, как началась! — произнес, качая головой, второй собеседник. — И ничего тут не поделаешь — безопасность и целостность русской территории прежде всего. А торговые дела — всего лишь дела!
Тема разговоров в этом купе почти не менялась, не отличалась она разнообразием и в остальных вагонах поезда; но всюду наблюдательный человек мог заметить крайнюю сдержанность. Если собеседники и отваживались порой затронуть область фактов, — то до предположений о намерениях московского правительства или до их оценки они никогда не доходили.
Подобную осторожность, и вполне справедливо, отметил один из пассажиров головного вагона. Этот пассажир — явный иностранец — глядел во все глаза и то и дело задавал вопросы, на которые получал лишь весьма уклончивые ответы. Далеко высовываясь из дверцы с приспущенным, к вящему неудовольствию спутников, стеклом, он ни на мгновение не терял из виду правую половину горизонта. Выспрашивал названия самых незначительных поселков, интересовался: чем там занимаются; чем торгуют; что производят; сколько там жителей; какова средняя смертность мужчин и женщин — и так далее. Все это он заносил в книжку, и так уже всю исчерканную заметками.
Это был корреспондент Альсид Жоливэ, и если он задавал столько незначительных вопросов, то как раз потому, что среди множества ответов надеялся ухватить что-нибудь интересное «для своей кузины». Его, естественно, принимали за шпиона и не произносили при нем ни слова, которое касалось бы злобы дня.
Поняв, что о татарском нашествии ему ничего не удастся выспросить, он записал в свою книжку: «Пассажиры держат язык за зубами. На темы политики разговорить их крайне трудно».
В то время как Альсид Жоливэ тщательно записывал свои дорожные впечатления, его собрат, севший в тот же поезд и с той же целью, предавался тем же занятиям наблюдателя в одном из соседних купе. Ни тот, ни другой не собирались встречаться на московском вокзале и не знали, что вместе выехали из Москвы с целью добраться до театра военных действий.
Однако Гарри Блаунт, человек малоразговорчивый, но умеющий слушать, в отличие от Альсида Жоливэ, никакого недоверия у своих попутчиков не вызывал. Соседи за шпиона его не принимали, нимало не стесняясь, заходили в своих откровениях даже дальше, чем позволяла их врожденная сдержанность. И корреспондент «Daily-Telegraph» сумел выяснить, в какой мере текущие события занимали умы торговцев, направлявшихся в Нижний Новгород, и насколько серьезная опасность нависла над торговыми путями Центральной Азии. Поэтому он без колебаний внес в записную книжку следующее бесспорно справедливое наблюдение: «Пассажиры крайне обеспокоены. Говорят только о войне — и с такой откровенностью, которую меж Волгой и Вислой слышать удивительно!»
В любом случае, читателям «Daily-Telegraph» не грозила опасность оказаться менее осведомленными, чем «кузина» Альсида Жоливэ.
И все же, сидя по ходу поезда слева и наблюдая лишь свою половину местности, весьма пересеченную, Гарри Блаунт, не дав себе труда взглянуть на противоположную сторону — плоскую равнину, присовокупил с чисто британской самоуверенностью: «Меж Москвой и Владимиром местность гористая».
Однако чем дальше, тем больше чувствовалось, что перед лицом серьезных опасностей русское правительство принимает строгие меры — даже внутри империи. Мятеж еще не перешагнул сибирской границы, но в окружающих приволжских провинциях, находящихся в близком соседстве со страной киргизов, его дурные влияния уже могли сказаться.
Существенно, что полиция пока не смогла напасть на след Ивана Огарева. Что предпринял предатель, призвавший чужеземцев отомстить за свои личные обиды, — отправился ли на соединение с Феофар-ханом или же затеял поднять мятеж в Нижегородской губернии, где в это время года население состояло из людей самой разной принадлежности? Разве среди тех персов, армян и калмыков, что съезжались на ярмарку, не могло оказаться его сообщников, которые должны были подстрекать к восстанию изнутри? Все эти предположения, особенно в такой стране как Россия, имели под собой реальную почву.
Действительно, в этой огромной империи площадью в двенадцать миллионов квадратных километров невозможна та однородность, которая присуща государствам Западной Европы. Меж входящими в нее народами различие заведомо нельзя свести лишь к отдельным оттенкам. Российская территория простирается — в Европе, Азии и Америке — от пятнадцатого градуса восточной долготы до сто тридцать третьего градуса западной долготы[35], то есть почти на двести градусов[36], и от тридцать восьмой параллели до восемьдесят первой параллели северной широты, или на сорок три градуса[37].
Население насчитывает более семидесяти миллионов жителей, которые говорят на тридцати различных языках. Преобладающей, бесспорно, является славянская раса, к которой наряду с русскими относятся поляки, литовцы, курляндцы[38]. А если прибавить сюда финнов, эстонцев, лопарей[39], черемисов[40], чувашей, пермяков, немцев, греков, татар, кавказские племена, монгольские орды, калмыков, самоедов[41], камчадалов, алеутов, то легко понять, что поддерживать единство столь огромного государства весьма трудно и что создать такое единство могло лишь само время, подкрепленное мудростью сменяющихся правительств.
Как бы то ни было, но до сих пор Ивану Огареву удавалось ускользать от слежки и он, возможно, уже присоединился к татарской армии. Тем не менее на каждой остановке в поезде появлялись инспектора, которые проверяли у пассажиров документы и подвергали всех придирчивому досмотру; стало быть, по приказу шефа полиции шли розыски Ивана Огарева. Правительство и впрямь полагало, что этот предатель не мог еще покинуть Европейскую Россию. Всякого пассажира, показавшегося подозрительным, забирали для объяснений в полицейский участок, а поезд тем временем отправляли дальше, нимало не беспокоясь об отставшем.
С русской полицией, весьма решительной и бесцеремонной, вступать в рассуждения совершенно бесполезно. Ее служащие носят воинские звания и действуют по-военному. Да и можно ли не повиноваться приказам, исходящим от монарха, который вправе предварять свои указы такой формулой: «Мы, Божьей милостью император и самодержец Московской, Киевской, Владимирской и Новгородской Руси, царь Казанский и Астраханский, царь Польский, царь Сибирский, царь Херсонесский-Таврический, государь Псковский, великий князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский, князь Эстонский, Ливонский, Курляндский и Семигаллийский, Белостокский, Карельский, Угрский, Пермский, Вятский, Болгарский и прочая, государь и великий князь земли Нижегородской, Черниговской, Рязанской, Полоцкой, Ростовской, Ярославской, Белозерской, Удорской, Обдорской, Кондинской, Витебской, Мстиславской, властитель областей гиперборейских, государь страны Иверийской, Карталинской, Грузинской, Кабардинской, Армянской, наследный государь и сюзерен князей черкесских, горских и прочая, наследник Норвежский, герцог Шлезвиг-Голштейнский, Штормарнский, Диттмаршский и Ольденбургский». Поистине — велик и могуществен монарх, чей герб — двуглавый орел со скипетром и державой в когтях, в окружении гербов Новгородского, Владимирского, Киевского, Казанского, Астраханского и Сибирского, украшенный орденом св. Андрея и увенчанный царской короной!
Что касается Михаила Строгова — у него все было в порядке и, следовательно, полицейские меры его не касались.
На станции Владимир поезд на несколько минут остановился, и этого времени корреспонденту «Daily-Telegraph», похоже, хватило, чтобы составить себе исключительно полное — как в физическом, так и в моральном плане — представление об этой древней столице России.
На владимирском вокзале в поезд сели новые пассажиры. Среди них в дверях купе, где ехал Михаил Строгов, появилась молодая девушка.
Напротив царского гонца было свободное место. Девушка заняла его, поставив возле себя скромный саквояж из красной кожи, составлявший, по-видимому, весь ее багаж. После чего, потупив глаза и даже не взглянув на попутчиков, которых посылал ей случай, мысленно настроилась на предстоявшее путешествие, которое должно было продлиться еще несколько часов.
Михаил Строгов не мог не обратить на новую соседку пристального внимания. Поскольку место ее было против хода поезда, он предложил ей свое, более удобное, но она только поблагодарила его легким кивком.
Девушке было, вероятно, лет шестнадцать — восемнадцать. Ее поистине очаровательная головка являла собой славянский тип во всей его чистоте — тот несколько строгий тип, когда юному лицу, — как только, через год-другой, его черты определятся, — самой природой суждено стать не просто милым, но прекрасным. Из-под покрывавшей голову косынки выбивались пышные светло-золотистые волосы. У нее были карие глаза, излучавшие безграничную нежность. Прямой нос трепетными крыльями ноздрей смыкался с чуть опавшими бледными щеками. Губы были тонкого рисунка, но, казалось, давно уже разучились улыбаться.
Юная путешественница, насколько позволяла судить бывшая на ней широкая, простого покроя накидка, отличалась высокой и стройной фигурой. Хотя это была еще очень юная девушка, но ее высокий развитый лоб, четкие формы нижней части лица свидетельствовали о большой нравственной силе — и эта черта не ускользнула от взгляда Михаила Строгова. По всей видимости, девушке уже довелось познать страдания в прошлом, да и будущее рисовалось ей явно не в радужном свете, но не менее очевидно было и то, что она умеет бороться и полна решимости преодолевать трудности жизни. В ней чувствовались сильная, твердая воля и умение сохранять спокойствие даже в таких обстоятельствах, когда и мужчина мог пойти на попятную или не сдержать гнева.
Такое впечатление производила эта девушка на первый взгляд. Михаила Строгова, человека тоже энергичного по природе, черты эти не могли не поразить, и он, хотя и старался не докучать своей соседке навязчивым взглядом, продолжал внимательно за ней наблюдать.
Одета юная путешественница была и крайне просто, и вместе с тем очень опрятно. Богатой, по всей видимости, она не была, однако напрасно вы стали бы искать в ее одежде признаков небрежности. Весь ее багаж помещался в кожаной сумке, запертой на ключ, которую за недостатком места она держала на коленях.
На ней была длинная накидка-безрукавка темного цвета, изящно отороченная на шее синей каймой. Под накидкой такая же темная полуюбка прикрывала платье, доходившее ей до лодыжек и украшенное по подолу неброской вышивкой. Полусапожки из тщательно обработанной кожи с весьма крепкими подошвами, словно специально выбранные в предвидении долгой дороги, плотно облегали ее маленькие ножки.
Кое-какие мелочи ее одежды напомнили Михаилу Строгову покрой рижского платья, и он подумал, уж не из балтийских ли краев происходит его соседка.
И куда направлялась эта девушка — одна и в том возрасте, когда поддержка отца с матерью или покровительство брата напрашиваются как бы сами собой? И стало быть, до приезда сюда она успела проделать долгий путь из западных губерний России? Едет ли девушка только до Нижнего Новгорода или цель ее путешествия находится за восточными границами империи? Ждет ли ее там кто-нибудь из родственников или друзей? Не вернее ли, напротив, предположить, что по выходе из вагона она и в новом городе окажется столь же одинокой, как и в этом купе, где о ней — как она, конечно, считает — никто не заботится? Все это было вполне возможно.
Действительно, в манерах молодой путешественницы весьма явственно проявлялись привычки, которые обычно приобретаются в одиночестве. То, как она вошла в вагон и как устраивалась на своем месте ввиду предстоящей дороги, как мало суеты создавала вокруг, стараясь никого не стеснить и не побеспокоить, — все говорило о привычке жить одной и рассчитывать только на себя.
Михаил Строгов наблюдал за ней с большим интересом, однако, будучи сам человеком сдержанным, не стал искать повода заговорить с ней, хотя до прибытия в Нижний Новгород оставалось еще несколько часов. Лишь один раз, когда сосед девушки — тот самый торговец, что так неосмотрительно смешивал сладости и шали, — крепко заснул и его тяжелая голова, мотаясь с плеча на плечо, начала угрожать соседке, Михаил Строгов весьма резко встряхнул его и дал понять, что тому следует держаться прямо и соблюдать приличия.
Торговец, человек по природе грубый, забрюзжал было насчет «людей, которые лезут не в свое дело», но Михаил Строгов бросил на него столь недвусмысленный взгляд, что грубиян тотчас откинулся в противоположную сторону и избавил девушку от неудобного соседства.
Та па мгновение остановила на молодом человеке взгляд, и он прочел в нем тихую, сдержанную благодарность.
Но случилось событие, которое позволило Михаилу Строгову составить о характере этой девушки более полное представление.
Верст за двенадцать до Нижнего Новгорода, на крутом повороте железнодорожного пути, поезд очень резко тряхнуло. После чего он целую минуту мчался по склону насыпи.
Кубарем летящие пассажиры, вопли, всеобщее смятение и беспорядок в вагонах — вот что последовало в первый момент. Приходилось опасаться серьезной аварии, поэтому еще до полной остановки поезда дверцы распахнулись. У растерявшихся пассажиров в голове была лишь одна мысль: выбраться из вагонов и искать спасения на путях.
Михаил Строгов подумал прежде всего о своей соседке; но в то время как пассажиры купе, толкаясь и переругиваясь, устремились наружу, молодая девушка спокойно оставалась на своем месте, разве что чуть побледнев с лица.
Она ждала. Михаил Строгов тоже решил подождать.
Она даже не пошевелилась, чтобы выйти из вагона. Он тоже не двинулся с места.
Оба оставались невозмутимы.
«Какой сильный характер!» — подумал Михаил Строгов.
Однако опасность вскоре миновала. Удар, а затем и остановка поезда произошли из-за разрыва бандажа у багажного вагона; еще немного — и поезд, сойдя с рельсов, мог сорваться с насыпи в ров. Но все обошлось часовой задержкой. Наконец путь был расчищен, поезд двинулся дальше и в восемь с половиной вечера подошел к вокзалу Нижнего Новгорода.
Прежде чем кто-либо успел выйти из вагона, в дверях появились полицейские и началась проверка пассажиров.
Михаил Строгов показал свою подорожную, выписанную на имя Николая Корпанова. И никаких сложностей не возникло.
Что касается остальных пассажиров купе, которые все ехали до Нижнего Новгорода, то и они, на их счастье, подозрений не вызвали.
Девушка протянула контролерам не паспорт, поскольку его в России уже не спрашивают, а разрешение, скрепленное особой печатью и имевшее, по-видимому, специальное назначение.
Полицейский внимательно его прочел. Потом пристально посмотрел на владелицу, чьи приметы были указаны в бумаге.
— Ты из Риги? — спросил он.
— Да, — ответила девушка.
— Направляешься в Иркутск?
— Да.
— Каким путем?
— Через Пермь.
— Хорошо, — заключил полицейский. — Позаботься отметить разрешение в полицейском управлении Нижнего Новгорода.
Девушка в знак согласия кивнула.
Слыша эти вопросы и ответы, Михаил Строгов испытал сразу и удивление и жалость. Как! Эта юная девушка едет одна в далекую Сибирь! И это теперь, когда помимо обычных опасностей на страну обрушились все ужасы мятежа и нашествия! Сумеет ли она добраться? Что ее ждет?…
Когда проверка закончилась, дверцы вагонов открылись, но не успел Михаил Строгов сделать и шага, как юная рижанка, сойдя первой, исчезла в толпе, запрудившей вокзал.
Глава 5 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗ ДВУХ ПУНКТОВ
Нижний Новгород, расположенный при слиянии Волги и Оки, является главным городом губернии с тем же именем. Именно здесь Михаил Строгов собирался оставить железную дорогу, которая тогда в этом городе и заканчивалась. А значит, чем дальше лежал его путь, тем менее скорыми, а затем и менее надежными становились средства передвижения.
Население Нижнего Новгорода, обычно насчитывающее от тридцати до тридцати пяти тысяч жителей, теперь перевалило за триста тысяч, то есть удесятерилось. Этим ростом город был обязан знаменитой ярмарке, которая на три недели располагалась в его стенах. Когда-то подобными наездами торгового люда славился Макарьев, но уже с 1817 года ярмарка переместилась в Нижний Новгород.
Обычно сонный и угрюмый, город на это время становился очень оживленным. В азарте торговых сделок братскими чувствами проникались купцы, представлявшие не менее десятка разных европейских и азиатских народов.
Михаил Строгов покинул вокзал в достаточно поздний час, однако множество народа толпилось еще на улицах обоих городов, на которые делит Нижний Новгород течение Волги[42], причем верхний из них, построенный на уступе скалы, окружен одной из тех крепостей, что в России называют «кремлем».
Если бы Михаилу Строгову пришлось сделать в Нижнем Новгороде остановку, то едва ли он смог найти здесь гостиницу или даже сколько-нибудь приличный трактир. Все было переполнено. Но так как продолжать путь немедленно он все равно не мог — ведь предстояло пересесть на волжский пароход, — следовало побеспокоиться насчет хоть какого-нибудь пристанища. Однако прежде он решил выяснить точное время отправления и зашел в контору той Компании, чьи пароходы ходили между Нижним Новгородом и Пермью.
Там он, к великому своему разочарованию, узнал, что «Кавказ» — так назывался пароход, отправлялся в Пермь лишь завтра в полдень. Семнадцать часов ожидания! Какая досада для человека, который страшно спешит! Но приходится смириться. Что он и сделал — он не любил терзаться понапрасну.
К тому же в нынешних обстоятельствах никакой экипаж — телега или тарантас, дорожная карета или почтовая одноколка, — равно как и никакая верховая лошадь не смог бы доставить его быстрее, будь то в Пермь или в Казань. Оставалось дожидаться парохода — средства более скорого, позволявшего наверстать упущенное время.
И вот теперь Михаил Строгов шагал по городу и справлялся, без особого, впрочем, беспокойства, насчет какого-нибудь постоялого двора. Сам ночлег его не очень заботил, и, если бы не терзавший его голод, он, вероятно, так и прослонялся бы по городу до утра. Поиски эти имели целью скорее ужин, чем постель. И вдруг нашлось и то и другое — под вывеской «Город Константинополь».
Трактирщик предложил ему комнату хоть и бедно обставленную, но вполне приличную, где на стенах рядом с образом Божьей Матери висели изображения святых в обрамлении из позолоченной ткани. Утка с острой начинкой, тонувшая в густой сметане, ячменный хлеб, простокваша, корица в сахарной пудре, кувшин кваса, напитка вроде пива, широко распространенного в России, — все это было подано разом, хотя для утоления голода хватило бы и ужина поскромнее. Так или иначе, но он поужинал — притом куда плотнее, чем его сосед по столу, «старообрядец» из секты «раскольников», который, блюдя обет воздержания, выбрасывал из тарелки картошку и остерегался класть в чай сахар.
Отужинав, Михаил Строгов не стал подниматься к себе в комнату, а опять, без особых целей, отправился гулять по городу. Хотя долгие сумерки еще продолжались, толпа уже редела, улицы понемногу пустели, народ расходился по домам.
Почему все-таки Михаил Строгов не отправился сразу спать, как сделал бы на его месте всякий после проведенного в поезде дня? Может, он думал о юной ливонке, которая несколько часов была его соседкой по купе? За неимением других дел, он и впрямь думал о ней. Не боялся ли он, что, затерявшись в этом бурном городе, девушка может подвергнуться оскорблению? Да, боялся, и имел к тому основания. Надеялся ли встретить ее и при необходимости оказать ей покровительство? Нет. Встреча едва ли возможна. А покровительство… но по какому праву?
«Одна, — говорил он себе, — совсем одна среди этих кочевников! А ведь нынешние опасности — просто пустяки по сравнению с тем, что готовит ей будущее! Сибирь! Иркутск! То, что мне предстоит проделать ради России и царя, она собирается сделать ради… Ради кого? Ради чего? Да, ей разрешено пересечь границу! Но ведь земли по ту сторону охвачены восстанием! По степям шастают татарские банды!…»
Время от времени Михаил Строгов останавливался и погружался в раздумье.
«Вне всякого сомнения, — размышлял он, — мысль о путешествии пришла ей до нашествия! Возможно, она и не знает, что происходит!… Впрочем, едва ли, ведь торговцы в купе при ней беседовали о волнениях, охвативших Сибирь… и она вроде бы ничему не удивлялась… Даже не просила ничего объяснить… Стало быть, она знает и все-таки хочет ехать!… Бедная девочка!… Должно быть, у нее очень важные причины! Но какой бы смелой она ни была — а она бесспорно смелая, — по дороге силы могут оставить ее и, не говоря уже об опасностях и препонах, она просто не вынесет столь утомительного путешествия!… До Иркутска ей никак не добраться!»
Размышляя, Михаил Строгов шел по-прежнему наугад, однако город он знал прекрасно и найти обратную дорогу для него не составляло труда.
Прошагав так около часу, он присел на скамью, прилепившуюся к стене большого деревянного дома, который возвышался среди множества других на довольно широкой площади.
Он сидел минут пять, как вдруг на плечо ему тяжело опустилась чья-то рука.
— Ты что тут делаешь? — грубым голосом спросил его неизвестно откуда появившийся человек высокого роста.
— Отдыхаю, — ответил Михаил Строгов.
— Ты что, ночевать на этой скамье собрался? — продолжал незнакомец.
— Да, если мне понравится, — произнес Михаил Строгов тоном чуть резковатым для простого торговца, за которого он должен был себя выдавать.
— А ну, подойди-ка — я на тебя погляжу! — сказал незнакомец.
Михаил Строгов, вспомнив, что осторожность — прежде всего, инстинктивно отстранился.
— Нечего на меня глядеть, — ответил он.
И, сохраняя хладнокровие, отступил от собеседника шагов на десять.
Потом пригляделся, и ему показалось, что перед ним стоит вроде как цыган, каких немало встречается на ярмарках и столкновение с которыми ничего хорошего не сулит. Внимательно вглядевшись в сгущавшуюся тьму, он заметил возле дома большую фуру — дом на колесах, обычное жилье бродячих цыган, которых в России полным-полно — повсюду, где можно заработать хотя бы несколько копеек.
Тем временем цыган сделал два-три шага вперед, собираясь, видимо, схватиться с Михаилом Строговым врукопашную, как вдруг дверь дома отворилась. На пороге показалась едва различимая женская фигура и на весьма грубом наречии, в котором Михаил Строгов распознал смесь монгольского и сибирского русского диалекта, заговорила:
— Небось опять шпиен! Оставь его, пусть себе шпиенит, и иди ужинать. Паплука[43] остынет.
Михаил Строгов не мог сдержать улыбки, услышав, за кого его почитают, — ведь он и сам больше всего опасался шпионов.
Но тут, на том же наречии, хотя с совершенно другим акцентом, цыган произнес:
— Ты права, Сангарра! К тому же завтра нас тут уже все равно не будет!
— Разве завтра? — вполголоса спросила женщина, в тоне которой слышалось удивление.
— Да, Сангарра, — ответил цыган, — завтра. Сам отец-батюшка посылает нас… куда мы и так собирались!
Мужчина и женщина вошли в дом, тщательно притворив за собой дверь.
«Ладно, — подумал Михаил Строгов, — если цыгане разговаривают при мне и хотят, чтоб их не поняли, то я посоветовал бы им выбирать какой-нибудь другой язык!»
Сибиряк, да еще проведший детство в степи, Михаил Строгов, как уже было сказано, знал почти все наречия, на которых говорят от Татарии до Ледовитого океана. Однако что касается точного значения тех слов, которыми обменялись цыган и его подруга, — в него Строгов вникать не стал. Да и что тут могло представлять для него интерес?
Час был уже очень поздний, и Михаил Строгов решил вернуться в трактир — хоть немного отдохнуть. Уходя, он выбрал путь вдоль Волги, чьи воды заслоняла темная масса бесчисленных судов. По изгибу реки он узнал место, которое только что покинул. Беспорядочное скопище кибиток и палаток находилось как раз на той широкой площади, где каждый год устраивался главный нижегородский рынок. Этим и объяснялось скопление здесь фокусников и цыган, собиравшихся со всех концов света.
Час спустя Михаил Строгов уже забылся беспокойным сном на одной из тех русских кроватей, которые иностранцу кажутся ужасно жесткими, и на следующий день, 17 июля, он проснулся, когда только начинало светать.
Пять часов, которые оставалось провести в Нижнем Новгороде, казались ему вечностью. Чем еще занять утро, как не отправиться снова, как накануне, бродить по городским улицам. Если дожидаться завтрака, то после всех сборов и отметки подорожной в полиции как раз подошло бы время отправления. Но Михаил Строгов был не из тех людей, что просыпают восход солнца. Вскочив с постели, он оделся, старательно уложил письмо с царским гербом на дно кармана в подкладке кафтана и подпоясался кушаком; потом затянул свой дорожный мешок и забросил его за спину. Покончив со сборами и не желая возвращаться в «Город Константинополь», он расплатился с хозяином и покинул трактир, рассчитывая позавтракать на волжском берегу возле пристани.
Из пущей предосторожности Михаил Строгов отправился сначала в кассу пароходства и убедился, что «Кавказ» отходит точно в назначенный час. И тут ему впервые пришла в голову мысль, что юная ливонка, коль скоро и ей предстояла дорога на Пермь, тоже могла купить билет на «Кавказ», и тогда он снова оказался бы ее попутчиком.
Верхний город с кремлем, который имел в окружности две версты и очень походил на московский, выглядел теперь совсем заброшенным. Свою кремлевскую резиденцию оставил даже губернатор. И насколько вымершим казался верхний город, настолько же оживленным был нижний!
Перейдя Волгу[44] по мосту из судов, который охраняли конные казаки, Михаил Строгов добрался как раз до того места, где накануне вечером наткнулся на цыган. Нижегородская ярмарка располагалась почти за городом, и с этой ярмаркой не могла бы соперничать даже Лейпцигская. За Волгой[45] на широкой поляне возвышался временный дворец генерал-губернатора, и, согласно приказу, именно там этот высокий чиновник пребывал все время ярмарки, которая ввиду полной непредсказуемости своего состава требовала постоянного надзора.
Эта поляна была теперь застроена деревянными, симметрично расположенными домиками, меж которых пролегали довольно широкие улицы и аллеи, позволявшие сновать туда-сюда толпам людей. Скопления таких домиков, различных по размерам и форме, объединялись в особые ряды-кварталы, предназначенные для торговли каким-либо одним товаром — кварталы скобяных изделий и мехов, шерсти и древесины, тканей, сушеной рыбы и прочего. Высокой фантазией отличался материал, использованный для некоторых домиков, построенных то из чайных кирпичиков, то из вырубок соленого мяса, словом — из образчиков того товара, который его владельцы предлагали покупателям. Весьма своеобразная реклама, хоть и мало похожая на американскую!
К тому часу, когда солнце, вставшее в этот день ранее четырех утра, поднялось уже высоко над горизонтом, на этих улицах среди аллей собралось множество народа. Русские, сибиряки в том числе, немцы, казаки, тюрки с Урала и Алтая, персы, грузины, греки, турки из Оттоманской империи, индусы, китайцы — невероятная мешанина европейцев и азиатов — о чем-то толковали, разглагольствовали, спорили, торговались. Казалось, на площадь свезли в кучу все, что можно продать или купить. На ярмарочном поле сгрудились носильщики и лошади, верблюды и ослы, лодки и повозки — все и вся, что служит для перевоза товаров. Меха и драгоценные камни, шелковые ткани и индийский кашемир, турецкие ковры и кавказские кинжалы, ткани из Смирны[46] и Исфахана[47] и тифлисские военные доспехи, караван-чаи и европейская бронза, швейцарские часы и лионские платья из шелка и бархата, английские хлопчатобумажные ткани и оборудование экипажей, овощи-фрукты и руды Урала, малахит и лазурит[48], благовония и духи, лекарственные растения, лес и деготь, снасти и рога, тыквы и арбузы — в общем, все, что производится в Индии, Китае и Персии, в бассейнах Каспийского и Черного морей, в Америке и в Европе, оказалось собранным в этой точке земного шара.
А вокруг — бесконечная суета, всеобщее возбуждение, шумная толкотня и неумолкающая разноголосица, в которой ничего нельзя разобрать. Простолюдины из местных изощрялись в лихих выражениях, а иноземцы и не думали им в этом уступать. Были тут и торговцы из Центральной Азии, которые, преодолевая ее бескрайние просторы, уже потратили целый год на доставку товаров и не надеялись вернуться к своим лавчонкам и прилавкам ранее чем еще через год. В целом о размахе Нижегородской ярмарки можно судить по тому, что общая сумма, на которую здесь заключаются сделки, никогда не бывает ниже ста миллионов рублей.
Площадки между кварталами этого импровизированного города заполонили сборища фокусников, паяцев и акробатов, оглушавших публику воем оркестров и воплями балаганных представлений; кучи бродяг-шарлатанов, спустившихся откуда-то с гор и привлекавших своим гаданием все новых и новых зевак; толпы цыган — так русские зовут потомков древних коптов[49], исполнявших свои необычайно яркие напевы и ни с чем не сравнимые пляски; труппы актеров ярмарочных театриков, приспосабливавших шекспировские драмы к вкусам зрителей, которые на эти зрелища валили валом. А далее, по длинным проспектам прогуливали на свободе своих четвероногих эквилибристов вожаки медведей, из зверинцев раздавался хриплый рев животных, взбадриваемых тяжким кнутом или крашеной палочкой укротителя. И наконец, посреди огромной центральной площади, окруженной четверным крутом восторженных dilettanti[50], хор «Волжских матросов», рассевшись на земле словно на лодочных скамьях, изображал, как налегают на весла гребцы, повинуясь взмахам палочки дирижера — настоящего рулевого этого воображаемого судна!
Какой странный, прекрасный обычай! Над всей этой толпой взвилась вдруг целая туча птиц, выпущенных из клеток, в которых их сюда принесли. Следуя неукоснительно соблюдавшемуся на Нижегородской ярмарке правилу, за несколько копеек, из милосердия жертвуемых добросердечными людьми, тюремщики открыли своим пленникам дверцы, и те сотнями взмыли в небо, оглашая воздух радостным щебетаньем.
Так выглядела поляна, и такой она должна была оставаться на протяжении всех шести недель, пока длилась в Нижнем Новгороде знаменитая ярмарка. После этого бурного времени оглушительная разноголосица стихает словно по волшебству, верхний город вновь принимает свой официальный вид, а нижний — впадает в привычную спячку, и от этого несметного скопления купцов, представляющих все возможные края Европы и Центральной Азии, не остается ни одного продавца, кто хотел бы еще хоть что-нибудь продать, и ни одного покупателя, кто мог бы еще хоть что-нибудь купить.
Здесь уместно добавить, что, по крайней мере, Франция и Англия были на этот раз представлены на ярмарке двумя наиболее выдающимися представителями современной западной цивилизации — господами Гарри Блаунтом и Альсидом Жоливэ.
Действительно, оба корреспондента приехали сюда в поисках новых впечатлений для своих читателей и, как могли, использовали те несколько часов, которые все равно пропадали, — ведь оба они тоже собирались продолжать свой путь на «Кавказе».
Как раз на ярмарочной площади они и повстречали друг друга, не слишком этому удивившись, поскольку один и тот же инстинкт неизбежно должен был увлечь их на одну и ту же тропу; однако на этот раз они воздержались от бесед, ограничившись достаточно холодным поклоном.
Впрочем, Альсид Жоливэ, оптимист по природе, считал, видимо, что все идет нормально, и так как счастливый случай предоставил ему и стол и кров, то в своей записной книжке он набросал касательно Нижнего Новгорода несколько весьма лестных замечаний.
Напротив, Гарри Блаунт, напрасно проблуждав в поисках ужина, оказался вынужден ночевать под открытым небом. Поэтому он смотрел на вещи с совершенно противоположной точки зрения и вынашивал разгромную статью по поводу города, где владельцы гостиниц отказываются принимать путешественников, а те только и ждут, чтоб с них — «морально и физически» — содрали шкуру!
Михаил Строгов шагал, опустив одну руку в карман, а в другой держа свою длинную трубку с чубуком из дикой вишни, и выглядел самым безразличным и терпеливым из людей. Однако по судорожному подергиванию век внимательный наблюдатель легко догадался бы, что он едва сдерживает нетерпение.
Вот уже около двух часов ходил он по улицам города, неизменно возвращаясь на ярмарочную площадь. Толкаясь среди людских толп, он замечал, что на лицах негоциантов, прибывших из соседних с Азией мест, написано глубокое беспокойство. Это явно сказывалось на торговых сделках. Фокусники, паяцы и эквилибристы могли по-прежнему громко шуметь возле своих заведений: заведомые бедняки, они никакому коммерческому риску не подвергались, в отличие от торговых людей, — заключая сделки с купцами из стран Центральной Азии, на которые обрушилось татарское нашествие, эти коммерсанты испытывали серьезные колебания.
Внимательный наблюдатель отметил бы еще одно существенное обстоятельство. В России военный мундир появляется по любому поводу. Солдаты охотно смешиваются с толпой, а уж в Нижнем Новгороде, особенно во время ярмарки, полицейским обычно помогают отряды казаков: среди трехсоттысячной толпы иностранцев они поддерживают порядок с копьем на плече.
Между тем сегодня военных, в частности казаков, на рынке явно не хватало. Скорее всего, ввиду возможных неожиданностей, их безотлучно держали в казармах.
Если солдаты на улицах не показывались, то с офицерами дело обстояло иначе. Со вчерашнего дня от дворца генерал-губернатора по всем направлениям устремились войсковые адъютанты. Начинались необычные передвижения, которые можно было объяснить лишь серьезностью происходящих событий. По дорогам провинции как в сторону Владимира, так и в сторону Уральских гор скакало все больше гонцов и посыльных. Между Москвой и Петербургом шел непрерывный обмен телеграммами. Расположение Нижнего Новгорода вблизи сибирской границы несомненно требовало серьезного соблюдения предосторожностей. Не стоило забывать, что в XIV веке город дважды побывал в руках предков тех татар, которые нынче, по приказу честолюбивого Феофар-хана, двинулись через киргизские степи.
Важной персоной, не менее занятой, чем генерал-губернатор, был полицмейстер[51]. Он сам и его подчиненные, озабоченные поддержанием порядка, рассмотрением жалоб, наблюдением за тем, как выполняются предписания, без дела не сидели. Открытые днем и ночью полицейские участки подвергались непрерывной осаде как жителей города, так и иностранцев из Европы и Азии.
Михаил Строгов находился как раз на центральной площади, когда разнесся слух, что начальника полиции только что курьером вызвали во дворец генерал-губернатора. Вызов этот объясняли получением важной депеши из Москвы.
Полицмейстер направился во дворец генерал-губернатора, и тотчас, словно выражая всеобщее предчувствие, распространилась новость, будто готовится важное решение, совершенно выпадающее из круга возможных догадок и привычных представлений.
Михаил Строгов прислушивался к этим пересудам, чтобы в случае необходимости воспользоваться ими.
— Ярмарку закрыть собираются! — кричал один.
— Нижегородский полк только что приказ получил — выступать! — подхватил другой.
— Говорят, татары к Томску подошли!
— А вот и полицмейстер! — послышалось со всех сторон.
Поднявшийся было гомон понемногу улегся, наступила мертвая тишина. Все ждали какого-то важного правительственного сообщения.
Полицмейстер только что вернулся из дворца генерал- губернатора. Сопровождавшие его казаки принялись наводить в толпе порядок, раздавая увесистые тумаки, которые принимались с покорным смирением.
Полицмейстер вышел на середину площади, и все увидели в его руках депешу.
Он громко прочел: «ПОСТАНОВЛЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОГО ГУБЕРНАТОРА
1. Всякому российскому подданному запрещено по какой бы то ни было причине покидать пределы губернии.
2. Всем иностранцам азиатского происхождения приказано покинуть губернию в двадцать четыре часа».
Глава 6 БРАТ И СЕСТРА
Эти меры, гибельные для частных интересов, полностью оправдывались обстоятельствами.
Запрет всякому российскому подданному покидать пределы губернии — в случае, если Иван Огарев находился еще здесь, должен был помешать его соединению с Феофар-ханом или по меньшей мере осложнить его, тем самым татарский властелин оставался без жестокого пособника-заместителя.
Приказ всем иностранцам азиатского происхождения в двадцать четыре часа покинуть губернию означал одновременное выселение всех торговцев, прибывших из Центральной Азии, равно как и всех шаек бродяг и цыган, более или менее родственных татарскому или монгольскому племени, которых ярмарка свела друг с другом. Тут что ни человек, то и шпион, а значит, выселение их полностью оправдывалось положением дел.
Легко, однако, понять последствия этих двух громовых раскатов, обрушившихся на Нижний Новгород, который больше чем любой другой город оказался и мишенью и жертвой обоих постановлений.
Прежде всего, те из российских подданных, кто захотел бы по своим делам выехать за сибирскую границу, уже не могли, по крайней мере в ближайшее время, покинуть губернию. Содержание первой статьи постановления звучало категорично. И не допускало никаких исключений. Любые частные интересы должны были отступить перед общими.
Что до второй статьи, то содержавшийся в ней приказ тоже не допускал возражений. Он был направлен не против иностранцев вообще, а только против азиатов; и тем не оставалось ничего другого, как упаковать свои товары и отправиться обратно той же дорогой, которую они только что проделали. Что же касается бродячих акробатов, которым до ближайшей границы нужно было пройти путь почти в тысячу верст, то для них это означало неотвратимое и скорое разорение.
Вот почему эта необычная мера поначалу вызвала было ропот протеста и вопль отчаяния, но присутствие казаков и полицейских быстро охладило пыл недовольных.
И почти сразу же с этой обширной поляны началось переселение народов. Снимались натянутые перед лавками полотна; по частям исчезали ярмарочные театры; смолкли песни, прекратились пляски и балаганные представления; погасли огни; смотали канаты эквилибристы; возвратились из конюшен в оглобли старые, запыленные лошади, привыкшие возить жилье; полицейские и солдаты с хлыстом или палкой в руке поторапливали замешкавшихся и без стеснения валили палатки, не дожидаясь, пока бедняги-цыгане выберутся наружу. Было очевидно, что при таком нажиме площадь Нижнего Новгорода еще до вечера будет полностью очищена и сутолока огромного рынка сменится тишиной пустыни.
Стоит ли повторять — таково уж было неминуемое последствие принятых мер, — что для всех этих кочевников, кого указ о выселении задевал непосредственно, под запретом оказывались и степи Сибири, так что им оставалось бежать до южного побережья Каспия — в Персию, в Турцию либо в долины Туркестана. Посты по реке Урал и в горах, образующих как бы продолжение линии этой реки вдоль русской границы, не позволили бы им свернуть раньше. А значит, прежде чем ступить на свободную землю, им предстояло проделать тысячу верст пути.
В тот момент, когда полицмейстер закончил читать постановление, Михаила Строгова поразило неожиданно пришедшее на ум воспоминание.
«Как странно! — подумалось ему. — Какое странное совпадение между этим постановлением, изгоняющим иностранцев, выходцев из Азии, и словами, которыми обменялись прошлой ночью те двое бродяг, цыган и цыганка. „Ведь это сам батюшка отправляет нас туда, куда мы и так собирались!” — сказал тот старик. Но ведь батюшка — это же царь! В народе его иначе и не называют! Как же эти цыгане могли предвидеть принятые против них меры, как они узнали про них заранее и куда они и так собирались? Вот уж и впрямь подозрительные люди — губернаторское постановление им, как видно, скорее на пользу, чем во вред!»
Однако это размышление, бесспорно верное, тут же сменилось другим, перед которым в мозгу Михаила Строгова меркла любая иная мысль. Он тотчас забыл и про цыган, и про их подозрительные речи, и про странное совпадение с вышедшим постановлением… Его сознанию предстало вдруг воспоминание о юной ливонке из Риги.
«Бедное дитя! — невольно вырвалось у него. — Она ведь не сможет теперь перебраться через границу!»
И действительно, девушка была из Риги, она была ливонкой, то есть россиянкой, а значит, ей уже нельзя покинуть территорию России! Разрешение, выданное до принятия последних мер, теперь явно утрачивало силу. Все сибирские дороги безжалостно закрылись перед ней, и, какова бы ни была причина ее поездки в Иркутск, путь ей туда отныне был заказан.
Эта мысль сразу захватила сознание Михаила Строгова. Ему подумалось, вначале смутно, что он, ничего не упуская из своей важной миссии, мог бы, пожалуй, как-то помочь этой славной девочке. Идея эта пришлась ему по душе. Зная о тех опасностях, что ожидают лично его, энергичного и могучего мужчину, в краю как-никак родных ему дорог, он не мог не понимать, что для молодой девушки те же опасности будут куда страшнее. Коль скоро она направляется в Иркутск, ей придется следовать тем же путем, что и ему, а значит, пробираться меж вражеских орд, как предстоит и ему самому. И если она, что легко себе представить, располагает лишь теми средствами, которые достаточны для обычной поездки, то как удастся ей проделать этот путь в условиях, которые из-за нынешних событий могут оказаться не только опасными, но и потребовать более серьезных затрат?
«Что ж, — сказал он себе, — раз она едет через Пермь, я наверняка ее встречу. И значит, смогу незаметно присматривать за ней. А так как она, по всей видимости, тоже спешит поскорее добраться до Иркутска, то из-за нее у меня задержки не будет».
Одна мысль влечет за собой другую. До сих пор Михаил Строгов размышлял лишь с точки зрения доброго дела и полезной услуги. Тем временем в мозгу его родилась новая идея и вопрос предстал в совершенно новом свете.
«На самом-то деле, — подумал он, — мне она может оказаться даже нужнее, чем я ей. Присутствие девушки принесет большую пользу, устранив всякие подозрения, которые могут возникнуть на мой счет. В человеке, который пробирается через степь в одиночку, легче угадать царского гонца. Напротив, если меня будет сопровождать эта девушка, то в глазах всех я буду тем самым Николаем Корпановым, которым и записан в моей подорожной. Стало быть, даже нужно, чтоб она сопровождала меня! Необходимо любой ценой отыскать ее! Маловероятно, чтоб за вчерашний вечер она успела раздобыть экипаж и выехать из Нижнего Новгорода. Попытаемся разыскать ее, и да поможет мне Бог!»
Михаил Строгов покинул главную площадь города, где смятение, вызванное выполнением предписанных мер, достигло предела. Жалобы обреченных на изгнание иностранцев, крики накинувшихся на них полицейских и казаков — сумятица стояла неописуемая. Девушки, которую он разыскивал, здесь быть не могло.
Было девять часов утра. Пароход отходил только в полдень. Таким образом, на розыски той, кого он хотел сделать своей спутницей, у Михаила Строгова оставалось около двух часов.
Он снова перешел на другой берег Волги и принялся за обход здешних кварталов, где сутолоки было гораздо меньше. Обходил чуть ли не подряд улицу за улицей, в верхнем и нижнем городе. Заходил в церкви — естественное прибежище плачущих и страждущих. Юной ливонки нигде не было.
«И все же, — твердил он себе, — девушка не могла еще покинуть Нижний Новгород. Будем искать дальше!»
Так проблуждал Михаил Строгов около двух часов. Он шагал безостановочно, не зная усталости, повинуясь повелительному чувству, которое уже не позволяло ему отступать. Но все напрасно.
И тут ему пришло на ум, что девушка, возможно, даже не знает о постановлении, — хотя это и невероятно, ведь подобный удар грома, разразившись, непременно дошел до всех. Заведомо заинтересованная в малейших новостях, приходивших из Сибири, как могла она пропустить известие о мерах, принятых губернатором, — ведь они били прямо по ней!
Но в конце концов, даже не зная о них, она тем более должна через какое-то время прийти на пристань, где какой-нибудь свирепый чиновник грубо закроет ей путь! Михаилу Строгову нужно было любой ценой увидеть ее прежде, чтобы избавить от лишних унижений.
Однако его поиски оставались напрасными, и вскоре он утратил всякую надежду найти девушку.
Было уже одиннадцать часов. Михаил Строгов решил предъявить свою подорожную в управлении полиции, хотя при любых иных обстоятельствах это не имело смысла. Постановление никак его не задевало — такой случай был специально предусмотрен. Однако он хотел удостовериться, что ничто не может помешать ему выехать из города.
И Михаилу Строгову пришлось вернуться на другой берег Волги, в тот квартал, где располагалось полицейское управление.
Там собралось множество народа, так как иностранцы, даже имея приказ покинуть провинцию, все равно для отъезда должны были пройти через определенные формальности. Не будь этой предосторожности, какой-нибудь русский, так или иначе замешанный в татарском мятеже, мог бы, изменив внешность, переправиться через границу, чему постановление было призвано помешать. Вас высылали, но от вас же требовали и разрешения на выезд.
Итак, двор и конторы полицейского управления заполонили бродяги, циркачи и цыгане вперемежку с торговцами из Персии, Турции, Индии, Туркестана.
Все спешили, так как спрос на транспортные средства возрастал необычайно, и опоздавший рисковал не успеть покинуть город в предписанный срок — а это влекло за собой грубое вмешательство губернских чиновников.
Пустив в ход свои крепкие локти, Михаил Строгов пересек двор. Но пройти в контору и добраться до служебного окошечка оказалось делом тоже по-своему трудным. Однако краткое словечко, сказанное на ухо одному из чиновников, и несколько кстати предложенных рублей произвели достаточно сильное впечатление, чтобы его пропустили.
Введя его в зал ожидания, полицейский пошел предупредить более высокое начальство.
Таким образом, Михаил Строгов должен был вот-вот уладить дела с полицией и обрести свободу передвижения.
В ожидании он огляделся. И что же он увидел?
Совсем рядом, на скамье, скорее лежала, чем сидела, молодая девушка, охваченная немым отчаянием, — пусть даже он не мог видеть ее лица и один только профиль выделялся на фоне стены.
Михаил Строгов не ошибся. Он узнал молодую ливонку.
Не зная про постановление губернатора, она пришла в полицейское управление визировать свое разрешение!… И в визе ей отказали. Конечно, в свое время разрешение на поездку в Иркутск ей дали, но постановление не делало никаких исключений, оно отменяло все прежние разрешения, и дороги Сибири были для нее закрыты.
Обрадованный, что наконец-то нашел ее, Михаил Строгов подошел к девушке.
Та подняла на него глаза, и, когда узнала своего недавнего спутника, на лице ее забрезжил робкий свет. Она невольно привстала и, как утопающий хватается за соломинку, собиралась уже просить о помощи…
В этот момент вернувшийся полицейский тронул Строгова за плечо.
— Полицмейстер ждет вас, — сказал он.
— Иду, — ответил Михаил Строгов.
И, ни слова не сказав той, которую упорно разыскивал со вчерашнего дня, не ободрив ее даже жестом, который мог скомпрометировать ее и его самого, через плотную толпу последовал за полицейским.
Молодая ливонка, глядя, как исчезает единственный человек, который, возможно, сумел бы ей помочь, снова без сил опустилась на скамью.
Не прошло и трех минут, как Михаил Строгов вновь появился в зале, сопровождаемый полицейским.
В руке он держал свою подорожную, открывавшую перед ним дороги Сибири.
Подойдя к молодой ливонке и протянув ей руку, он произнес:
— Сестрица…
Она поняла! И, повинуясь внезапному озарению, поднялась ему навстречу!
— Сестрица, — повторил Михаил Строгов, — нам позволено продолжать наш путь до Иркутска. Ты идешь?
— Иду, братец, — ответила девушка, вкладывая свою ручку в ладонь Михаила Строгова.
И они вдвоем покинули полицейское управление.
Глава 7 ВНИЗ ПО ВОЛГЕ
Незадолго до полудня удары пароходного колокола созвали на волжскую пристань большую толпу — среди собравшихся были как уезжавшие, так и те, кто хотел бы уехать. Давление пара в котлах «Кавказа» находилось на должном уровне. Из его трубы теперь шел лишь легкий дымок, в то время как над концом пароотводной трубки и над крышкой клапанов стояли облака белого пара.
Само собой, отплытие «Кавказа» находилось под наблюдением полиции, беспощадной к тем из пассажиров, кто не отвечал условиям выезда из города.
По набережной взад-вперед прохаживались казаки, готовые оказать полицейским вооруженную помощь, но их вмешательство не понадобилось, до открытого сопротивления дело не дошло.
В урочный час раздался последний удар колокола, матросы отдали швартовы, под сочлененными лопастями мощных пароходных колес вскипела вода, и «Кавказ» быстро заскользил меж двух городов, из которых состоит Нижний Новгород.
Михаил Строгов и молодая ливонка уже поднялись на борт. Их посадка прошла без каких-либо сложностей. Как мы знаем, подорожная, выданная на имя Николая Корпанова, разрешала этому купцу во время путешествия по Сибири брать себе сопровождающих. И теперь под покровительством имперской полиции путешествовали брат и сестра.
Сидя на корме, оба они смотрели на уплывающий город, глубоко потрясенный постановлением губернатора.
Михаил Строгов ничего не сказал девушке и сам ни о чем ее не расспрашивал. Он ждал, что она заговорит, когда сочтет уместным. Девушка торопилась как можно скорее покинуть этот город, в котором — не позаботься Провидение о вмешательстве неожиданного покровителя — она осталась бы пленницей. Теперь она хранила молчание, но за нее благодарил ее взгляд.
Волга, эта Ра древних, считается самой большой рекой Европы, длина ее достигает около четырех тысяч верст (4300 километров)[52]. Воды, в верхнем течении весьма вредные для здоровья, в Нижнем Новгороде меняются благодаря Оке, стремительному притоку, вытекающему из центральных районов России.
Совокупность российских протоков и рек справедливо сравнивают с огромным древом, чьи ветви расходятся по всем частям империи. Волга как раз и образует ствол этого древа, а корнями его являются семьдесят устьев, веером распустившихся по побережью Каспийского моря. Волга судоходна начиная от Ржева — города в Тверской губернии, то есть на большей части своего течения.
Суда компании, обеспечивающей связь между Пермью и Нижним Новгородом, очень быстро проходят те триста пятьдесят верст (373 километра), что отделяют его от Казани. Правда, этому способствует сам спуск вниз по Волге, течение которой увеличивает их скорость еще на две мили[53]. Но когда они доплывают до Камы, впадающей в Волгу чуть ниже Казани, им приходится, войдя в этот приток, подниматься до Перми вверх по течению. Стало быть, в конечном счете, при всей мощности своего двигателя, «Кавказ» проходил не более шестнадцати верст в час. С запасом в один час на остановку в Казани путешествие от Нижнего Новгорода до Перми должно было занять шестьдесят — шестьдесят два часа.
Этот пароход, кстати, был прекрасно обустроен, и пассажиры, в зависимости от своего звания и достатка, располагались в трех разных классах. Михаил Строгов позаботился о двух каютах в первом классе, так что его юная спутница могла удаляться к себе и уединяться, когда ей заблагорассудится.
«Кавказ» был переполнен пассажирами самого разного состояния. Некоторые торговцы из Азии сочли за благо покинуть Нижний Новгород незамедлительно. В той части парохода, которая отводилась под первый класс, можно было увидеть армян в длиннополых мантиях с чем-то вроде митры на голове, евреев, легко опознаваемых по островерхим камилавкам; богатых китайцев в традиционном наряде — широченный синий, фиолетовый или черный халат, открытый спереди и сзади, поверх которого надевался второй халат с широкими рукавами, по своему покрою напоминавший поповскую рясу; турок, все еще носивших свои традиционные тюрбаны; индусов в квадратных шапочках, с простым шнурком вместо пояса, причем некоторые из них, кого называют особым именем «шикарпури», держат в своих руках всю торговлю Центральной Азии; и наконец, татар, обутых в украшенные разноцветными позументами сапоги, в вышитых передниках на груди. Всем этим негоциантам пришлось свалить в трюме и на палубе свои многочисленные тюки, перевозка которых обошлась им, вероятно, очень дорого, поскольку регламент давал им право на провоз лишь двадцати фунтов на человека.
На передней палубе «Кавказа» группы пассажиров были еще более многочисленны и состояли не только из иностранцев, но и из русских, кому постановление не запрещало возвращения в провинциальные города.
Среди этих русских попадались и мужики в треухах или картузах, одетые в клетчатые рубашки под просторными армяками, и крестьяне с Волги в синих, заправленных в сапоги портах, в рубахах из розового сатина, перехваченных веревкой, в плоских картузах или войлочных треухах на голове. Встретилось и несколько женщин в цветастых сатиновых кофтах с яркими передниками и в платках с красными узорами на голове. Это были в основном пассажиры третьего класса, которых, слава Богу, не слишком пугал долгий обратный путь домой. В общем, на этой части палубы негде было яблоку упасть. И потому пассажиры с кормы редко отваживались забредать в гущу этой людской мешанины, занимавшей места перед самыми закрылками пароходных колес.
Тем временем «Кавказ» на полной скорости своих лопастей скользил меж волжских берегов. Навстречу ему то и дело попадались суда, подымавшиеся на буксирах вверх по течению с самыми разными товарами для Нижнего Новгорода. Встречались и связки плотов сплавного леса, тянувшиеся подобно нескончаемым хвостам саргассовых трав Атлантики, и тяжело, чуть ли не до бортов груженые баржи. Так как ярмарка, едва открывшись, была внезапно распущена, перевозки эти уже не имели смысла.
Над волжскими берегами, там, где о них разбивались расходившиеся от парохода волны, с пронзительным криком носились стаи уток. Чуть дальше, среди сухих долин, окаймленных ольхой, вербой и осиной, паслись редкие коровы темно-рыжей масти, отары овец с коричневым руном, многочисленные стада белых и черных свиней и поросят. Поля, засеянные скудной гречихой и ячменем, простирались до видневшихся вдали полувозделанных холмов, не представлявших в общем ничего примечательного. Среди этих однообразных картин карандаш художника, занятого поиском живописных мест, не нашел бы ничего, что стоило бы воспроизвести.
Через два часа после отплытия молодая ливонка, обратясь к Строгову, спросила:
— Ты едешь в Иркутск, братец?
— Да, сестрица, — ответил молодой человек. — У нас с тобой одна дорога. А значит — везде, где пройду я, пройдешь и ты.
— Завтра ты узнаешь, почему я оставила берега Балтики и отправилась за Урал.
— Я ни о чем тебя не спрашиваю, сестрица.
— Ты узнаешь все, — повторила молодая девушка, и губы ее сложились в грустную улыбку. — Сестра не должна ничего скрывать от своего брата. Но сегодня у меня нет сил!… Усталость и отчаяние сломили меня!
— Хочешь отдохнуть в своей каюте? — спросил Михаил Строгов.
— Да… да… а уж завтра…
— Тогда пойдем…
Он замешкался, словно желая закончить фразу именем своей спутницы, которого еще не знал.
— Надя, — сказала она, протянув ему руку.
— Пойдем, Надя, — сказал Михаил Строгов, — и не церемонься, когда тебе понадобится помощь твоего брата, Николая Корпанова.
И он отвел девушку в каюту, заказанную для нее над кормовым салоном.
Потом Строгов вернулся на палубу и, спеша узнать новости, которые могли бы повлиять на его маршрут, замешался меж группами пассажиров, прислушиваясь к тому, что говорилось, но в разговор не вступая. Впрочем, если бы волей случая ему пришлось отвечать на заданный вопрос, он всегда мог выдать себя за негоцианта Николая Корпанова, который едет этим пароходом только до границы, — он не хотел вызывать подозрений, что на поездку в Сибирь у него есть специальное разрешение.
Иностранцы, взявшие билет на пароход, естественно, если и хотели о чем-то говорить, то лишь о сегодняшних событиях, о постановлении и его последствиях. Едва успев прийти в себя после утомительного путешествия через Центральную Азию, эти бедняги теперь не по своей воле возвращались обратно и если не выражали свой гнев и отчаяние во всеуслышание, то лишь потому, что не осмеливались. Их удерживал страх, смешанный с осторожностью. Не исключалось, что на борт «Кавказа», с заданием следить за пассажирами, скрытно подсели полицейские, и лучше было держать язык за зубами, — в конце концов, изгнание предпочтительнее заключения в крепость.
Поэтому, собираясь в группы, люди либо помалкивали, либо так сдержанно обменивались словами, что извлечь из них какое-либо полезное сведение было почти невозможно.
Но если от этой публики Михаил Строгов ничего и не ожидал, если уже не раз люди при его приближении смолкали — ведь здесь его никто не знал, — то тем более поразил его слух веселый раскованный голос, мало озабоченный тем, слышат его или нет.
Человек, которому принадлежал веселый голос, говорил по-русски, но с иностранным акцентом, а его более сдержанный собеседник отвечал тоже на русском языке и тоже ему не родном.
— Как, — удивлялся первый, — вы — и на этом судне, дорогой собрат, вы, кого я видел на императорских торжествах в Москве и лишь мельком — в Нижнем Новгороде, неужели это точно вы?
— Я самый, — сухо отвечал второй.
— По правде говоря, я никак не ожидал, что вы последуете за мной, и почти по пятам!
— Я не следую за вами, сударь, я вам предшествую!
— Предшествую, предшествую! Пусть уж лучше мы будем шествовать бок о бок, нога в ногу, как два солдата на параде, и, если угодно, давайте хоть на время условимся, что ни один не будет опережать другого!
— Напротив, я буду вас опережать.
— Это мы увидим, когда достигнем театра военных действий; а до той поры — какого черта! — будем попутчиками. Потом у нас еще будет и время и случай стать соперниками!
— Врагами.
— Пусть врагами! В ваших словах, дорогой собрат, есть точность, которая доставляет мне особое удовольствие. С вами, по крайней мере, знаешь, что почем!
— А что в этом плохого?
— Ровно ничего. Поэтому и я в свой черед хотел бы уточнить наши взаимные отношения.
— Уточняйте.
— Вы направляетесь в Пермь… как и я?
— Как и вы.
— И затем, вероятно, отправитесь в Екатеринбург, так как это самая удобная и самая надежная из дорог, держась которой можно перевалить через Уральские горы?
— Вероятно.
— Сразу после границы мы окажемся в Сибири, то есть в краю, подвергшемся нашествию.
— Окажемся!
— И вот тогда, но только тогда, наступит пора сказать: «Каждый за себя, один Бог за…»
— Бог за меня!
— Бог за вас, только за вас! Отлично! Но раз уж у нас впереди еще около восьми ничейных дней и поскольку в эти дни лавины новостей заведомо не ожидается, то давайте будем друзьями до той поры, пока снова не станем соперниками.
— Врагами.
— Да, верно! Врагами! Но до тех пор будем действовать согласованно и не будем пожирать друг друга! Кстати, обещаю вам хранить про себя все, что смогу увидеть…
— А я — все, что смогу услышать.
— Договорились?
— Договорились.
— Вашу руку!
— Вот она.
И рука первого из собеседников, то есть пять растопыренных пальцев, энергично потрясла два пальца, флегматично поданные вторым.
— Кстати, — сказал первый, — сегодня утром, к десяти часам семнадцати минутам, я успел телеграммой отправить моей кузине текст постановления.
— А я в «Daily-Telegraph» — к десяти тринадцати.
— Браво, господин Блаунт.
— Вы слишком добры, господин Жоливэ.
— Реванш не заставит себя ждать!
— Это будет трудновато!
— И все же попытаемся!
На этом французский журналист лихо распрощался с английским, который в ответ лишь кивнул с чисто британской чопорностью.
Этих двух охотников за новостями губернаторское постановление не коснулось, ибо они не были ни россиянами, ни иностранцами азиатского происхождения. Поэтому они двинулись в путь, и если покинули Нижний Новгород вместе, то только потому, что толкал их вперед один и тот же инстинкт. Естественно, они выбрали один вид транспорта и направились в сибирские степи одним и тем же путем. У обоих спутников — будь они друзьями или врагами — «до открытия охотничьего сезона» оставалась неделя. А уж тогда — удача за более ловким! Альсид Жоливэ первым назвал свои предложения, а Гарри Блаунт, пусть холодно, но их принял.
Как бы там ни было, но в тот день за обедом француз, как всегда открытый и даже чуть развязный, и англичанин, по-прежнему замкнутый и чопорный, чокались за одним столом, распивая настоящее «Клико»[54] по шесть рублей бутылка, щедро разбавленное свежим соком местных берез.
Слушая, как разговаривают Альсид Жоливэ и Гарри Блаунт, Михаил Строгов подумал про себя: «Вот они — любопытствующие празднословы, с кем мне на моем пути еще доведется небось столкнуться. Осторожность требует держать их на расстоянии».
Молодая ливонка к обеду не вышла. Она спала в своей каюте, и Михаил Строгов не захотел ее будить. Однако и вечером она на палубе «Кавказа» не появилась.
Долгие сумерки принесли с собой прохладу, столь желанную после удручающей дневной жары. Хотя час был уже поздний, большинство пассажиров даже не подумали вернуться в гостиные или в каюты. Растянувшись на скамьях, они с упоением вдыхали легкий ветерок, поднимаемый разогнавшимся пароходом. В это время года в здешних широтах небо по ночам темнело совсем ненадолго, и рулевому не составляло труда выбирать путь меж множества судов, шедших вниз и вверх по Волге.
И все-таки между одиннадцатью и двумя часами ночи тьма из-за новолуния сгустилась до черноты. Пассажиры на палубе почти все уже спали, и тишину нарушал лишь шум лопастей, равномерно взбивавших воду.
Какое-то смутное беспокойство не давало Михаилу Строгову заснуть. Он ходил взад-вперед, оставаясь, однако, на корме парохода. Один раз, впрочем, ему случилось зайти за машинный зал. И он оказался на той части палубы, которая предназначалась пассажирам второго и третьего классов.
Тут спали не только на скамьях, но и на тюках, ящиках и даже просто на полу. Стояли на полубаке одни лишь вахтенные матросы. От двух огней — зеленого и красного, что испускали фонари правого и левого борта, по бокам парохода ложились косые лучи.
Приходилось напрягать внимание, чтобы не наступить на спавших, там и сям прихотливо раскинувшихся по палубе. Это были большей частью мужики, которые привыкли спать на голой земле и кого дощатый настил устраивал вполне. И все же тому неловкому, кто разбудил бы их тяжелым каблуком, очень бы не поздоровилось.
Поэтому Михаил Строгов старался никого не потревожить. Пробираясь к носу судна, он не имел другой мысли, как долгой прогулкой стряхнуть сонливость.
Вот он добрался до носовой части палубы и уже подымался по лесенке на полубак, как вдруг услышал неподалеку разговор. Строгов застыл на месте. Похоже, голоса доносились от группы пассажиров, закутанных в шали и одеяла, так что в темноте их невозможно было разглядеть. Но порой, когда из трубы парохода сквозь клубы дыма прорывались красноватые языки пламени, по группе спящих словно пробегали искры — как будто тысячи блесток вспыхивали вдруг в зыбком свете луча.
Михаил Строгов собирался уже пройти мимо, когда вдруг явственно расслышал несколько слов, произнесенных на том странном наречии, которое однажды — глухой ночью на рыночной площади — уже поразило его слух.
Сама собой пришла мысль прислушаться. В тени полубака его нельзя было заметить. Но и сам он не мог разглядеть беседовавших. Оставалось только напрячь слух.
Первые из произнесенных слов не имели никакого значения, по крайней мере для него, но благодаря им он точно опознал оба голоса, женский и мужской, которые уже слышал в Нижнем Новгороде. Теперь он слушал с удвоенным вниманием. Ведь не было ничего невозможного в том, что те цыгане, чей обрывочный разговор ему довелось услышать в ту ночь, нынче, вместе со всеми своими сородичами, которых высылали за границу, оказались на борту «Кавказа».
И теперь ему повезло — он вполне явственно услышал и вопрос и ответ, произнесенные по-татарски:
— Говорят, из Москвы в Иркутск выехал гонец!
— Да, Сангарра, говорят. Но этот гонец прибудет либо слишком поздно, либо не прибудет вовсе!
Михаил Строгов невольно вздрогнул, услышав ответ, который целил прямо в него. Он попытался разuлядеть, действительно ли говорившие мужчина и женщина были те самые, кого он подозревал, но темнота как раз сгустилась, и он оставил попытки.
Чуть позже Строгов незамеченным вернулся на корму и, обхватив голову руками, уселся в сторонке. Могло показаться, что он спит.
Но он не спал и не думал спать. И вот какие тревожные мысли приходили ему в голову: «Кто же все-таки смог узнать о моем отъезде, и для кого он представляет интерес?»
Глава 8 ВВЕРХ ПО КАМЕ
На другой день, 18 июля в шесть сорок утра, «Кавказ» подходил к пристани города Казань, что находится в семи верстах (семи с половиной километрах) от самого города.
Казань расположена при слиянии Волги и Казанки. Это главный город губернии и православного архиепископства и вместе с тем университетский центр. Смешанное население губернии состоит из черемисов, мордвы, чувашей, калмыков, вогуличей[55] и татар, причем эта последняя раса сохранила здесь преимущественно азиатские черты.
Хотя город и отстоял далеко от пристани, на набережной толклась большая толпа. Народ ждал новостей. Ведь здешний губернатор издал такое же постановление, как и его коллега в Нижнем Новгороде. Здесь можно было увидеть татар, одетых в кафтаны с короткими рукавами и носивших на голове остроконечные малахаи с широкими полями, как у всем известного Пьеро. Были тут и другие, укутанные в длинные широкие плащи, с крохотной ермолкой на голове; они походили на польских евреев. Женщины с украшенным фольгой нагрудником и диадемой- полумесяцем на голове стояли группами и оживленно переговаривались меж собой.
Смешавшиеся с толпой полицейские, а также казаки, вооруженные копьями, поддерживали порядок и освобождали проход как пассажирам, сошедшим с «Кавказа», так и тем, кто хотел на него взойти, — однако лишь после тщательной проверки тех и других. Это касалось, с одной стороны, азиатов, подпадавших под постановление о высылке, а с другой — нескольких мужицких семей, сделавших в Казани остановку.
Михаил Строгов с весьма безразличным видом глядел на эту суету, обычную для всякой пристани в момент прибытия парохода. У «Кавказа» в Казани предполагалась остановка на один час — столько времени требуется для пополнения запасов топлива.
Спуститься на пристань Михаилу Строгову и в голову не пришло. Он не хотел оставлять на борту в одиночестве молодую ливонку, которая пока на палубе не появлялась.
Что касается обоих журналистов, то они, как и подобает заядлым охотникам, поднялись на заре. Спустились на берег и смешались с толпой — каждый со своей стороны. В одном конце Строгов заметил Гарри Блаунта, который зарисовывал в блокнот людские типы и записывал свои наблюдения, в другом — Альсида Жоливэ, который довольствовался расспросами, уверенный в своей памяти, которая никогда его не подводила.
По всей восточной границе России шли слухи, что мятеж и нашествие принимают все более широкий размах. Связи между Сибирью и империей были уже крайне затруднены. Вот что, не покидая палубы, услышал Михаил Строгов от новых пассажиров «Кавказа».
Эти разговоры по-прежнему вызывали у него серьезное беспокойство, возбуждая страстное желание поскорее оказаться по ту сторону Уральского хребта, чтобы самому оценить важность происходящего и приготовиться ко всяким случайностям. Он уже хотел было обратиться за более точными сведениями к какому-нибудь местному жителю, как вдруг внимание его привлекли новые обстоятельства. Среди пассажиров, покидавших «Кавказ», Михаил Строгов узнал цыган из того табора, что еще вчера располагался на рыночной площади Нижнего Новгорода. Здесь, на палубе парохода, находились и старый цыган, и та женщина, которая посчитала Строгова за шпиона. Вместе с ними и явно под их началом высаживалось человек двадцать плясуний и певиц пятнадцати — двадцати лет, обмотанных в драные одеяла, из-под которых виднелись яркие, в блестках, юбки.
Эти ткани, засверкавшие теперь под первыми лучами солнца, напомнили Михаилу Строгову то необычное явление, которое привиделось ему этой ночью. Именно такими блестками светился в темноте весь этот табор, когда из пароходной трубы вырывались яркие искры.
«Совершенно очевидно, — подумал он, — что эти цыгане, проведя весь день в трюме, на ночь устроились под полубаком. Значит, им хотелось как можно меньше быть на виду? Однако это никак не в обычаях их племени!»
Михаил Строгов уже не сомневался, что прямо относившиеся к нему слова о царском гонце донеслись до его слуха как раз из той темной людской массы, что светилась от бортовых огней, а обменялись ими старик цыган и женщина, которую он называл монгольским именем Сангарра.
И теперь, когда цыгане собирались покинуть пароход, чтоб больше не возвращаться, Михаил Строгов в непроизвольном порыве устремился к трапу.
Старик цыган и впрямь шагал среди них, напустив на себя смирение, плохо вязавшееся с дерзостью, естественной для его сородичей. Казалось, он старается скорее избегать чужих взглядов, нежели привлекать их. Жалкая шапчонка, прожаренная солнцем всех широт, была глубоко надвинута на морщинистое лицо. Сутулая спина выпирала из-под длинной холщовой рубахи, в которую он кутался, несмотря на жару. Под этим жалким, нелепым тряпьем угадать его рост и фигуру было весьма затруднительно.
Рядом с ним горделиво выступала цыганка Сангарра, женщина лет тридцати, смуглая, высокая, плотно сбитая, с красивыми глазами и золотистыми волосами.
Меж юных плясуний, при всем своеобразии национального типа, многие обращали на себя внимание своей красотой. Цыганки вообще очень привлекательны, и не один из тех русских вельмож, что не уступают в эксцентричности даже англичанам, ничтоже сумняшеся выбрал себе жену из таких вот цыганок.
Одна из них напевала странную по ритму песенку, первые строки которой можно было бы перевести примерно так:
На смуглой коже у меня коралл сияет, И золото заколки в волосах! Пойду искать удачи в тех краях, Где…Смешливая девушка наверняка продолжала петь и дальше, но Михаил Строгов уже не слушал ее.
Ему вдруг показалось, что цыганка Сангарра очень пристально на него смотрит. Как будто хочет прочнее запечатлеть в своей памяти его черты.
Еще немного, и она сошла на пристань, причем последней, когда старик и его труппа уже покинули «Кавказ».
«До чего нахальная цыганка! — подумал Строгов. — Ужели она узнала во мне человека, которого в Нижнем Новгороде назвала шпионом? У этих окаянных цыган глаза как у кошек! Они даже ночью все видят, и, конечно, эта женщина могла узнать…»
Михаил Строгов уже готов был последовать за Сангаррой и ее табором, но удержался.
«Нет, — решил он, — никаких необдуманных шагов! Если я потребую задержать старого гадателя с его шайкой, мое инкогнито может раскрыться. К тому же с парохода они сошли и, прежде чем пересекут границу, я буду уже далеко за Уралом. Конечно, они могут выбрать дорогу от Казани на Ишим, но она не сулит никаких выгод, и любой тарантас с упряжкой добрых сибирских лошадей всегда оставит цыганский фургон позади! Так что спокойствие, друг Корпанов!»
Впрочем, в этот момент старый цыган и Сангарра все равно уже затерялись в толпе.
Если Казань по праву называют «воротами Азии», если этот город считают перевалочным центром для всей сибирской и бухарской торговли, то это потому, что отсюда начинаются две дороги, открывающие путь через Уральские горы. Однако Михаил Строгов сделал очень разумный выбор, направившись по той, что ведет через Пермь, Екатеринбург и Тюмень. Это — большая почтовая дорога, где много станций, содержащихся за счет государства, и она идет от Ишима до самого Иркутска.
Правда, и вторая дорога — та, о которой Михаил Строгов только что упоминал, — избежав небольшого крюка в сторону Перми, тоже связывает Казань с Ишимом, следуя через Елабугу, Мензелинск, Бирск, Златоуст, где кончается Европа, а затем через Челябинск, Шадринск и Курган. Возможно даже, она чуть короче первой, однако это преимущество сводится на нет отсутствием почтовых станций, плохим содержанием дорог и редко встречающимися деревнями. Михаил Строгов по справедливости заслуживал одобрения за сделанный выбор, и если цыгане, что вполне вероятно, и впрямь предпочли эту вторую дорогу от Казани на Ишим, то у него были все шансы добраться туда раньше их.
Спустя час на носу «Кавказа» пробил колокол, приглашая на борт новых пассажиров и созывая старых. Было семь часов утра. Загрузка топлива как раз закончилась. Железные крышки котлов содрогались под давлением пара. Пароход был готов к отплытию.
Пассажиры, отправлявшиеся в Пермь из Казани, уже занимали на борту свои места. В этот момент Михаил Строгов заметил, что из двух журналистов только Гарри Блаунт поднялся на палубу парохода.
А что, если Альсид Жоливэ опоздает?
Но как раз в тот момент, когда матросы уже отвязывали швартовы, Альсид Жоливэ, запыхавшийся от бега, показался на пристани. Пароход уже отчалил, сходни были убраны, но Альсида Жоливэ такой пустяк не остановил; сделав с легкостью клоуна прыжок, он опустился на палубу чуть ли не в объятья своего собрата.
— Я уже решил, что «Кавказ» уйдет без вас, — сказал тот с кисло-сладкой миной.
— Ха! — ответил Альсид Жоливэ. — Я бы все равно сумел вас догнать, наняв за счет моей кузины судно или прокатившись на почтовых по двадцать копеек за версту и за каждую лошадь. А что прикажете делать? От пристани до телеграфа оказалось далековато!
— Вы успели сходить на телеграф? — спросил Гарри Блаунт, прикусив губу.
— Успел! — ответил Альсид Жоливэ с премилой улыбкой.
— И он все еще действует до Колывани?
— Этого я не знаю, но могу вас уверить, что от Казани до Парижа он действует!
— И вы отправили послание… вашей кузине?…
— С превеликой радостью.
— Значит, вы узнали?…
— Послушайте, батенька, — если выражаться по-русски, — ответил Альсид Жоливэ, — я малый добрый и не хочу ничего от вас скрывать. Татары с Феофар-ханом во главе уже миновали Семипалатинск и спускаются вниз по Иртышу. Можете воспользоваться моей добротой!
Как! Столь важная новость, и Гарри Блаунт о ней не знал, а его соперник, небось проведавший о ней от какого-нибудь казанца, еще и успел передать ее в Париж! Английскую газету опередили! И Гарри Блаунт, скрестив на груди руки и не сказав больше ни слова, ушел посидеть на корму парохода.
Было около десяти утра, когда из каюты на палубу вышла молодая ливонка. Михаил Строгов, подойдя к ней, протянул руку.
— Взгляни, сестрица, — обратился он к ней, приведя ее на самый нос «Кавказа».
И в самом деле — местность заслуживала внимания.
В это время «Кавказ» подплывал к слиянию Волги и Камы. Именно здесь, пройдя вниз по Волге более четырехсот верст, пароход должен был оставить великую реку, чтобы по другой большой реке подняться на четыреста шестьдесят верст (490 километров) вверх по течению.
В этом месте струи обеих рек смешивали свои чуть разные по цвету воды, и Кама оказывала своему левому берегу ту же услугу, что Ока в Нижнем Новгороде своему правому: чистым, прозрачным течением она оздоровляла его.
И вот теперь Кама открывалась во всю ширь, чаруя взгляд своими лесистыми берегами. Ее величавые воды, пронизанные солнечными лучами, оживлялись там и тут белизной парусов. Прибрежные холмы, заросшие осинником, ольхой, а то и раскидистыми дубами, волнистой линией закрывали горизонт и в ослепительном сиянии полудня сливались местами с синью неба.
Однако эти красоты природы, казалось, ни на секунду не могли отвлечь молодую ливонку от ее мыслей. Ей виделось только одно — цель, которую нужно достичь, и Кама была для нее лишь самым легким путем достижения этой цели. В глазах ее, когда они обращались на восток, вспыхивал яркий свет, словно взглядом своим она хотела пронзить непроницаемый горизонт.
Держа свою руку в ладони спутника, Надя, помедлив немного, повернулась к нему с вопросом:
— Как далеко мы уже от Москвы?
— В девятистах верстах! — ответил Михаил Строгов.
— Девятьсот из семи тысяч! — прошептала девушка.
Был час завтрака, о чем возвестило позвякивание колокола. Надя последовала за Михаилом Строговым в ресторан. Она даже не прикоснулась к таким подававшимся отдельно закускам, как икра, тонко нарезанная селедка, ячменная водка с анисом, которые — согласно обычаю, общему для всех северных стран, будь то Россия, Швеция или Норвегия, — призваны возбуждать аппетит. Надя ела мало, и скорее всего — по бедности, из-за крайней ограниченности в средствах. Поэтому и Михаил Строгов счел своим долгом удовольствоваться тем, что выбрала его спутница, взяв немножко кулебяки — пирога с яичным желтком, рисом и тертым мясом, затем красной капусты с начинкой из икры, а в качестве напитка — стакан чаю.
Тем самым на завтрак не потребовалось ни долгого времени, ни больших денег; не прошло и двадцати минут, как Михаил Строгов и Надя уже поднимались на палубу «Кавказа».
Они уселись на корме, и Надя, понизив голос, чтобы слышал только ее спутник, без каких-либо околичностей объявила:
— Брат, я дочь ссыльного. Зовут меня Надя Федорова. Мама моя умерла в Риге меньше месяца назад, а я еду в Иркутск к отцу — вместе отбывать ссылку.
— Я и сам тоже еду в Иркутск, — сказал в ответ Михаил Строгов, — и сочту за Божескую милость, если мне будет позволено передать Надю Федорову в руки ее отца живой и невредимой.
— Спасибо, братец! — ответила Надя.
Михаил Строгов добавил, что ему удалось получить на путешествие в Сибирь особую подорожную, благодаря которой власти никаких препятствий им чинить не будут.
Надя ни о чем больше не спрашивала. В той встрече, которую Провидению угодно было устроить ей с этим простым и добрым молодым человеком, она видела лишь одно — шанс добраться до своего отца.
— У меня, — сказала она, — тоже было разрешение, дававшее мне право ехать в Иркутск; но из-за постановления нижегородского губернатора оно утратило силу, и без тебя мне не удалось бы выехать из города, где я бы наверняка погибла.
— Как же ты, Надя, — ответил Михаил Строгов, — набралась смелости в одиночку отправиться в путь через сибирские степи?
— Это был мой долг, братец.
— Но разве ты не знала, что из-за мятежа и нашествия пробраться через этот край теперь почти невозможно?
— Когда я выехала из Риги, о татарском нашествии еще не было известно, — ответила молодая ливонка. — Об этой новости я узнала только в Москве!
— И несмотря на это поехала дальше?
— Это был мой долг.
В этом слове заключался весь характер этой храброй девушки. То, что Надя считала своим долгом, она выполняла без колебаний.
Потом она заговорила о своем отце, Василии Федорове. Он был уважаемым в Риге врачом. Делом своим занимался успешно и счастливо жил в кругу близких. Но когда была установлена его связь с тайным заграничным обществом, ему было приказано выехать в Иркутск, и жандармы, явившиеся с этим приказом, без промедлений препроводили его за границу.
Василий Федоров успел лишь поцеловать жену, тогда уже тяжело больную, дочь, которая могла остаться без всякой опоры, и уехал, оплакивая двух горячо любимых людей.
Вот уже два года, как он жил в столице Восточной Сибири, где смог, хотя и почти бесплатно, продолжить свою врачебную практику. Тем не менее он был бы счастлив — насколько это возможно для ссыльного, если бы жена и дочь были рядом. Но госпожа Федорова, уже очень слабая, не могла оставить Ригу. Через двадцать месяцев после высылки мужа она умерла на руках дочери, оставив ее совсем одну и почти без средств к существованию. И тогда Надя Федорова попросила у русского правительства и без труда получила разрешение приехать к своему отцу в Иркутск. Написала ему, что едет. Денег на это долгое путешествие у нее почти не было, и все же она без колебаний отправилась в путь. Она делала, что могла!… В остальном полагалась на Бога.
Тем временем «Кавказ» уже шел вверх по течению. Настала ночь, с ее упоительной свежестью. Из трубы парохода, работавшего на сосновых дровах, сыпались тысячи искр, а к журчанию разрезаемых форштевнем струй примешивался во тьме вой волков на правом берегу Камы.
Глава 9 В ТАРАНТАСЕ ДЕНЬ И НОЧЬ
На следующий день, 18 июля, «Кавказ» подошел к пермской пристани, своей последней остановке на Каме.
Эта губерния со столицей в городе Пермь — одна из самых обширных в Российской империи. Простираясь за Уральские горы, она упирается в земли Сибири. В месторождениях мрамора и соли, среди залежей платины и золота, на угольных шахтах разработки идут полным ходом. И все же Пермь пока еще не стала перворазрядным городом, выглядит она весьма непривлекательно, утопает в лужах, грязи и убожестве. Тех, кто едет из России в Сибирь, это отсутствие удобств не трогает, ибо они едут из центра и всем необходимым обеспечены; но тем, кто приезжает сюда из земель Центральной Азии, было бы, разумеется, приятней, если бы после долгой и утомительной дороги первый европейский город империи встречал их большим изобилием.
Именно в Перми возвращающиеся из Сибири продают ненужные уже повозки, у которых после долгого пути по сибирским равнинам обнаруживаются более или менее серьезные повреждения. И здесь же выезжающие из Европы в Азию, прежде чем на долгие месяцы пуститься в путь по бескрайним степям, покупают летом — повозки, а зимой — сани.
Михаил Строгов уже наметил себе план путешествия, и теперь оставалось лишь приступить к его осуществлению.
Существует служба почтовых карет — почтовая служба, позволяющая достаточно скоро пересечь Уральские горы, но при сложившихся обстоятельствах эта служба находилась в расстройстве. Однако если бы даже она действовала, Михаил Строгов, желавший передвигаться быстро и ни от кого не зависеть, все равно бы ею не воспользовался. Он справедливо предпочитал приобрести собственную повозку и двигаться на перекладных от станции к станции, подстегивая особыми чаевыми — «на водку» усердие почтарей, которых в этих краях зовут «ямщиками».
К несчастью, после мер, принятых против иностранцев азиатского происхождения, из Перми выехало уже большое число путешественников и перевозочных средств осталось крайне мало. И была опасность, что Михаилу Строгову придется довольствоваться рухлядью, оставшейся от других. Что касается лошадей, то пока царский гонец не пересек границу Сибири, он мог без опасения предъявлять свою подорожную, и хозяева почтовых станций должны были запрягать его повозку в первую очередь. Но зато потом, за пределами Европейской России, ему оставалось рассчитывать лишь на могущество рубля.
Однако в какой экипаж запрягать этих лошадей? В телегу или в тарантас?
Телега — это открытая повозка на четырех колесах, целиком сделанная из дерева. Колеса, оси, штыри, кузов, оглобли — на все это в свое время пошли растущие вокруг деревья, меж собой эти разные части скрепляются с помощью обыкновенной грубой веревки. Проще и неудобнее не придумаешь, но зато и починить легче легкого, если в дороге случится поломка. Сосен возле русской границы хватает, а оси как раз в лесах и растут. Именно телегами и обходится служба спешной доставки, известная под названием «на перекладных», для которой всякие дороги хороши. Иногда, правда, веревочные крепления лопаются, и когда задняя часть телеги застрянет, бывало, в какой-нибудь вымоине, то передняя все равно доедет до станции, хотя бы и на двух колесах, но уже и такой результат считается вполне удовлетворительным.
На такую вот телегу и пришлось бы согласиться Михаилу Строгову, если бы не повезло найти тарантас.
И дело не в том, что эта повозка — последнее слово в каретном производстве. Рессор у тарантаса тоже нет, как и у телеги; и дерева, за нехваткой железа, здесь тоже не жалеют; однако его четыре колеса, раздвинутые на восемь — десять футов к концам осей, обеспечивают ему некоторую устойчивость на тряских и часто совершенно разбитых дорогах. Закрылки защищают путников от дорожной грязи, а благодаря прочному кожаному верху, который можно опускать, почти наглухо закрывая кузов, путешествие в тарантасе в летнюю жару и при сильных порывах ветра оказывается не столь уж неприятным. К тому же тарантас так же крепок и прост в починке, как телега, но при этом не столь беспечен, чтобы оставлять свою заднюю половину в беде посреди большой дороги.
Правда, найти такой тарантас Михаилу Строгову удалось лишь после тщательных поисков, и, возможно, второго такого во всей Перми не нашлось бы. Но все же он упорно торговался насчет цены, хотя бы для формы, чтобы не выйти из роли Николая Корпанова, простого иркутского купца.
Надя сопровождала своего спутника во всех этих розысках. Хотя ехали они с разной целью, но одинаково спешили доехать, а значит — и выехать. Словно бы одна и та же воля вдохновляла обоих.
— Сестрица, — сказал Михаил Строгов, — я хотел бы найти для тебя экипаж поудобнее.
— И это, братец, ты говоришь мне, хотя я отправилась бы к отцу и пешком!
— В твоей смелости, Надя, я не сомневаюсь, но бывает такая усталость, которой женщине не вынести.
— Я вынесу любую, — ответила девушка. — Если с моих губ хоть раз сорвется жалоба, можешь оставить меня посреди дороги и продолжать путь один!
Спустя полчаса, по предъявлении подорожной, в тарантас были впряжены три почтовые лошади. Покрытые длинной шерстью, они походили на длинноногих медведей. Эти представители сибирской расы, не очень крупные, отличались пылким норовом.
Почтарь, или ямщик, запрягал их так: одну из лошадей, самую крупную, ставил меж двух длинных оглобель, к передним концам которых крепился обруч, называемый «дугой», с подвешенными кистями и колокольцами; два других конца попросту привязывал веревкой к подножкам тарантаса. И — никакой тебе сбруи, а вместо вожжей — простая бечевка.
Ни у Михаила Строгова, ни у молодой ливонки багажа не было.
Ввиду требуемой скорости, с которой должен был двигаться первый, и более чем скромных средств у второй, обременять себя тюками им не приходилось. В этих обстоятельствах отсутствие багажа было к счастью, ведь в тарантас могли поместиться либо только вещи, либо только пассажиры. Он был рассчитан лишь на два лица, не считая ямщика, который каким-то чудом держался на своем узком сиденьице — облучке.
К тому же на каждом перегоне ямщик сменялся. Ямщик, правивший тарантасом на первом перегоне, был сибиряк, как и его лошади, не менее их обросший шерстью, с длинными, обстриженными на лбу волосами под треухом с загнутыми краями, в подпоясанной красным кушаком шинели с крестообразными отворотами и выбитыми на пуговицах имперскими вензелями.
Подойдя со своей упряжкой, ямщик перво-наперво оглядел пассажиров тарантаса испытующим взглядом. Никакого багажа! Куда они его к черту запихнули? Судя по внешности, много с них не возьмешь. И ямщик выразительно скривил губы.
— Вороны, стало быть, — произнес он, нимало не заботясь, слышат его или нет, — с ворон по шесть копеек за версту!
— Нет, орлы, — возразил Михаил Строгов, прекрасно разбиравшийся в ямщицком жаргоне, — орлы, понял? По девять копеек за версту, и чаевые в придачу!
Веселое щелканье кнута было ему ответом. «Ворона» на языке русских извозчиков означает скупого или нищего пассажира, который на почтовой станции оплачивает лошадей лишь по две или три копейки за версту. «Орлом» же называют такого пассажира, который не отступает и перед высокими ценами, не говоря уже о щедрых чаевых. Потому «ворона» и не рассчитывает лететь со скоростью царской птицы.
Надя и Михаил Строгов тотчас уселись в тарантас. Кое-какие продукты, не занимавшие много места и уложенные про запас в дорожный сундук, должны были позволить им и в случае задержек спокойно добираться до почтовых станций, которые здесь очень удобно обустроены и находятся под ведомственным надзором. Ввиду невыносимой жары верх тарантаса был откинут, и в полдень, увлекаемый тремя лошадьми и окутанный облаком пыли, экипаж выкатил из Перми.
Способ, каким ямщик правил своей упряжкой, непременно привлек бы внимание чужеземных пассажиров, которые, не будучи ни русскими, ни сибиряками, к подобным приемам не привыкли. Действительно, лошадь-коренник, которая задавала темп, будучи чуть крупнее своих напарниц, при любых наклонах дороги невозмутимо шла рысью — чуть ускоренной, но без малейших сбоев. Две другие лошади, похоже, не знали иного бега, кроме галопа, и неистово предавались разным забавным фантазиям. Ямщик их, впрочем, не стегал. Самое большее — подбадривал звонким щелканьем кнута. Но зато каких только не расточал похвал, когда те вели себя послушно и разумно, — не считая уже имен святых, коими он их награждал! Веревочка, что служила ему вожжами, не произвела бы на разогнавшихся животных ровно никакого впечатления, а вот два слова — «направо» и «налево», — выкрикиваемые гортанным басом, действовали куда сильнее, чем повод или узда.
А сколько ласковых прозвищ, самых разных — смотря по обстоятельствам!
— Давай-давай, голубки вы мои! — покрикивал ямщик. — Наддай-наддай, ласточки мои! Полетели, голубушки! Смелей, братец мой слева! Поддай, мой батенька справа!
Но уж когда бег замедлялся, каких только обидных выражений не приходилось слышать, и чувствительные животные, казалось, понимали их смысл!
— Поторапливайся, улита чертова! Ох и задам я тебе, слизняк поганый! Шкуру с живой спущу, черепаха паршивая, в аду света невзвидишь!
Однако, как ни суди об этих приемах, требующих от кучера скорее луженой глотки, чем крепких рук, — тарантас просто летел по дороге, пожирая по двенадцать — четырнадцать верст в час.
Михаилу Строгову к такого рода экипажам и такой езде было не привыкать. Ни тряска, ни подскоки не причиняли ему неудобств. Он знал, что российская упряжка не объезжает ни камней, ни рытвин, ни ухабов, ни поваленных деревьев, ни даже рвов, что уродуют дорогу. Он к этому давно приноровился. Его же спутнице эти толчки грозили увечьем, но и она не жаловалась.
Первые минуты пути в экипаже, с бешеной скоростью несшем ее по дороге, Надя сидела молча. Потом, по-прежнему одержимая единственной мыслью — поскорее доехать, она сказала:
— Я высчитала, братец, что между Пермью и Екатеринбургом триста верст! Я ошиблась?
— Нет, Надя, ты не ошиблась, — ответил Михаил Строгов, — и когда мы доедем до Екатеринбурга, то окажемся у подножия Уральских гор, только уже на противоположном склоне.
— А сколько времени уйдет на переезд через горы?
— Сорок восемь часов, ведь мы будем ехать день и ночь. Я говорю «день и ночь», Надя, — добавил он, — потому что мне нельзя останавливаться ни на мгновение, я должен двигаться к Иркутску без задержек.
— Из-за меня, братец, задержек не будет ни на миг, и мы будем ехать день и ночь.
— Ну что ж, Надя, тогда, если только татарское нашествие не преградит нам путь, то не пройдет и двадцати дней, как мы будем на месте!
— Ты уже проделывал этот путь? — спросила Надя.
— Не один раз.
— Наверное, зимой можно ехать быстрей и безопаснее, правда?
— Да, главным образом быстрее, но тебе пришлось бы очень худо от морозов и метелей!
— Подумаешь, какая важность! С русскими зима дружит.
— Верно, Надя, но какая нужна выносливость, чтобы вынести такую дружбу! В сибирских степях мне частенько приходилось переносить сорокаградусный мороз! И хотя шуба на мне была из оленьего меха[56], я чувствовал, как у меня стынет сердце, как ломает суставы рук и даже в тройных шерстяных носках мерзнут ноги! Лошадей упряжки покрывал ледяной панцирь, а их дыхание застывало в ноздрях! Водка во фляжке превращалась в твердый камень — нож не брал!… Но зато сани неслись как ураган! На плоской заснеженной равнине, насколько хватает глаз, никаких препятствий! Ни тебе ручьев, где пришлось бы искать брода! Ни тебе озер — переплывать на лодке! Всюду твердый лед, открытый путь, надежная дорога! Но ценой каких страданий, Надя! Рассказать о них могли бы разве те, кто не вернулся и чьи тела замела метель!
— Но ты же вернулся, брат, — сказала Надя.
— Да, но ведь я сибиряк и к этим суровым испытаниям приучен с самого детства, когда сопровождал на охоте отца. А вот когда ты сказала мне, что тебя зима не остановит и ты поехала бы одна, готовая бороться со страшными перепадами сибирского климата, мне вдруг представилось, как ты затерялась в снегах и валишься с ног, чтоб уже не подняться!
— А сколько раз ты пересекал степь зимой? — спросила юная ливонка.
— Трижды, Надя, — когда ездил в Омск.
— А что тебе нужно было в Омске?
— Повидать мать, которая ждала меня!
— А я еду в Иркутск, где меня ждет отец! Я должна передать ему последние слова матушки! А это значит, братец, что ничто не могло помешать мне отправиться в дорогу!
— Ты смелое дитя, Надя, — ответил Михаил Строгов, — и сам Бог указал бы тебе путь!
В течение этого дня стараниями ямщиков, сменявшихся на каждой станции, тарантас быстро несся вперед. Даже горные орлы не сочли бы для себя зазорным сравнение с «орлами» больших дорог. Высокая цена, уплаченная за каждую лошадь, и щедрые «чаевые» служили нашим путешественникам совершенно особой рекомендацией. Возможно, станционные смотрители и усматривали нечто необычное в том, что после недавнего постановления молодой человек и его сестра, оба явно русские, свободно едут через Сибирь, закрытую для прочего люда, однако бумаги у них были в порядке, они имели право на проезд. И поэтому верстовые столбы быстро исчезали позади тарантаса.
Однако не одни Строгов и Надя следовали по дороге из Перми в Екатеринбург. Уже с первых станций царский гонец понял, что впереди него едет еще какая-то повозка; но коль скоро с лошадьми трудностей не возникало, повозка эта не очень занимала его.
В первый день остановки устраивались лишь для того, чтобы поесть. На почтовых станциях всегда можно найти и ночлег и еду. Впрочем, если не найдется сменных лошадей, гостеприимство окажут и в доме русского крестьянина. В этих селах с их белокаменными часовнями под зеленой крышей, как две капли воды похожих друг на друга, путник может постучаться в любую дверь. И ему откроют. Выйдет улыбающийся мужик и протянет гостю руку. Путешественнику предложат хлеб-соль, поставят на огонь «самовар», и он почувствует себя как дома. Чтобы гостя не стеснять, хозяева даже уйдут к соседям. Приехавший чужеземец становится для всех родственником. Ведь это его «Бог послал».
На очередной станции, куда приехали к вечеру, Михаил Строгов, побуждаемый каким-то инстинктом, спросил у станционного смотрителя, сколько часов назад проследовал через станцию ехавший впереди экипаж.
— Тому часа два будет, батюшка, — ответил смотритель.
— Это дорожная карета?
— Нет, телега.
— А сколько путников?
— Двое.
— И они гонят во весь опор?
— Орлы!
— Тогда велите запрягать поскорее.
Решившие не останавливаться ни на час, Строгов и Надя ехали всю ночь.
Погода по-прежнему стояла превосходная, но чувствовалось, что сгустившаяся атмосфера понемногу насыщается электричеством. Ни одно облачко не перехватывало солнечных лучей, а от земли исходил, казалось, горячий пар. Приходилось опасаться, как бы в горах не разразилась одна из тех бурь, которые в здешних местах ужасны. В сознании Михаила Строгова, привыкшего распознавать погодные приметы, жило предчувствие близящейся борьбы стихий, которое держало его в неослабном напряжении.
Ночь прошла без происшествий. Несмотря на тряску тарантаса, Надя на несколько часов забылась сном. Приподнятый верх повозки пропускал ту малость воздуха, которой так жаждали легкие, задыхавшиеся в нестерпимо душной атмосфере.
Михаил Строгов бодрствовал всю ночь, не доверяя ямщикам, которые на своем облучке слишком охотно поддаются дреме, и ни на станциях, ни в дороге не было потеряно ни часу.
На следующий день, 20 июля, около восьми часов утра на востоке показались первые контуры Уральских гор. Однако эта важная горная цепь, отделяющая Европейскую Россию от Сибири, была еще слишком далеко, чтобы можно было надеяться достичь ее до конца дня. Тем самым переход через горы предстоял на следующую ночь.
Весь этот день небо покрывали облака и переносить жару было легче, хотя погода с очевидностью предвещала грозу.
Возможно, ввиду этих примет благоразумнее было бы не ехать в горы глядя на ночь, как и поступил бы Михаил Строгов, если бы ему позволялось ждать; но когда на последней станции ямщик обратил его внимание на раскаты грома, прокатившиеся по ущельям горного массива, Михаил только спросил:
— Телега все еще впереди?
— Да.
— На сколько она опережает нас теперь?
— Примерно на час.
— Тогда — вперед, и если завтра утром мы будем в Екатеринбурге, тройные чаевые за мной!
Глава 10 БУРЯ В ГОРАХ УРАЛА
Уральские горы протянулись меж Европой и Азией почти на три тысячи верст (3200 километров)[57]. Называть ли их Уралом — именем татарского происхождения, или Поясом, — согласно русскому обозначению, названия эти одинаково точные, поскольку на том и другом языках обозначают «пояс»[58]. Рожденные на побережье Ледовитого океана, оба эти слова кончают свою жизнь на берегах Каспия.
Такова была граница, которую Михаилу Строгову предстояло пересечь, чтобы попасть из России в Сибирь; и, выбрав дорогу из Перми на Екатеринбург, расположенный на восточном склоне Уральских гор, он, как уже сказано, поступил очень мудро. Этот путь самый легкий и самый надежный, недаром как раз через него и осуществляется торговая связь с Центральной Азией.
Не произойди каких-либо осложнений, для переезда через горы хватило бы ночи. К несчастью, первые погромыхивания однозначно предвещали бурю, которая при переломном состоянии атмосферы грозила бедой. Электрическое напряжение достигло того уровня, когда разрядка не могла не обернуться мощным взрывом.
Михаил Строгов все время следил, чтобы его юной спутнице было как можно удобнее. Верх кузова, который легко могло сорвать порывом ветра, был для прочности сверху и сзади перетянут крест-накрест веревками. В упряжь продели двойные постромки и, из пущей предосторожности, забили соломой глушители у ступиц — как для упрочения колес, так и для смягчения толчков, которых в темную ночь никак не избежать. Наконец, передок и зад тарантаса, оси которых прикреплялись к кузову порознь, были соединены друг с другом деревянной перекладиной, крепившейся посредством гаек и болтов. Эта перекладина заменяла изогнутую поперечину, которая в каретах, подвешенных на гнутых трубках, скрепляет меж собой обе оси.
Надя вновь заняла свое место в глубине кузова, Михаил Строгов сел рядом. Перед опущенным верхом висели две кожаных занавеси, которые должны были хоть как-то укрыть путников от дождя и порывов ветра.
Два больших фонаря, прикрепленные слева от сидения кучера, отбрасывали косой тусклый свет, слишком слабый, чтоб освещать дорогу. Но они предупреждали о самом экипаже и могли если не рассеять тьму, то, по крайней мере, помешать наезду встречного транспорта.
В общем, все меры предосторожности были приняты, и в предвидении грозной ночи это было очень кстати.
— Мы готовы, Надя, — сказал Михаил Строгов.
— Тогда поехали, — ответила девушка.
Ямщик получил приказ трогать, и тарантас начал подъем по первым отрогам Урала.
Было восемь часов; солнце клонилось к горизонту. Однако стало уже очень темно, хотя обычно сумерки в этих широтах продолжаются долго. Тяжелые пласты испарений, словно навалившиеся на небосвод, замерли в ожидании ветра. Однако если в горизонтальном направлении они оставались недвижными, то от зенита к надиру дело обстояло наоборот: расстояние, отделявшее их от земли, заметно сокращалось. Некоторые из этих пластов испускали особого рода фосфоресцирующее свечение и на глазах стягивались в шестидесяти-, восьмидесятиградусные дуги. Захваченные ими зоны, похоже, понемногу сближались с землей, сжимали свою сеть — вот-вот задушат в своих объятиях гору — словно некий верховой ураган гнал их сверху вниз. К тому же и сама дорога шла вверх, навстречу этим набухшим тучам, очень плотным и почти достигшим степени конденсации. Еще немного — и дорога слилась бы с ними, а если бы в тот же момент тучи не разразились дождем, туман сгустился бы, и тарантас уже не мог бы продвигаться вперед, не рискуя сорваться в бездну.
Однако Уральский хребет не слишком высок. Высота самых значительных вершин не превосходит пяти тысяч футов[59]. Эти вершины не знают вечных снегов, а те снежные шапки, что нахлобучивает на них сибирская зима, полностью растапливает летнее солнце. Травы и деревья растут здесь в полный рост. Как работа в железных и медных рудниках, так и разработка залежей драгоценных камней требует рабочих рук. Поэтому здесь часто встречаются поселки, называемые «заводами», и дорога, проложенная через громадные ущелья, вполне доступна для почтовых экипажей. Но то, что легко и просто в хорошую погоду и при ярком свете, оборачивается для человека трудностями и опасностями, когда идет суровая борьба стихий.
Михаил Строгов, успевший все это испытать, знал, что такое буря в горах, и, по-видимому, справедливо считал это атмосферное явление столь же опасным, как и те страшные метели, что с необыкновенной яростью бушуют здесь зимой.
Поначалу дождя еще не было. Михаил Строгов, приподняв кожаные занавеси, защищавшие салон тарантаса, глядел перед собой, не забывая посматривать и по сторонам дороги, где от мерцающего света фонарей возникали какие-то причудливые контуры.
Надя, сложив руки на груди, тоже следила за происходящим, но оставалась неподвижной, в то время как ее спутник, наполовину высунувшись из кузова, следил за небом и землей сразу.
В атмосфере наступило полное затишье, но затишье, таившее в себе угрозу. Пока еще ни одна молекула воздуха не сдвинулась с места. Казалось, что полузадохшаяся природа уже не дышала, а ее легкие — эти угрюмые густые облака, — вдруг атрофировавшись ни с того ни с сего, перестали выполнять свое назначение. Тишина была бы полной, если бы не скрип колес тарантаса, давивших дорожный гравий, не стоны колесных ступиц и половиц экипажа, не шумное всхрапывание лошадей, которым не хватало дыхания, и не клацание их подкованных копыт по камням, сыпавшим искрами от ударов.
Между тем дорога была совершенно пустынна. В эту грозную ночь меж узких уральских ущелий тарантасу не встретился ни один пешеход, ни всадник, ни другой экипаж. Ни костра угольщика в лесу, ни шахтерского лагеря в раскрытых карьерах, ни затерявшейся в лесной поросли хижины. Чтобы в этих условиях начать переправу через хребет, нужны были веские причины, которые не оставляли бы места для колебаний или отсрочек. Михаил Строгов не колебался. Для него это было исключено; но как тогда, так и теперь его чрезвычайно занимало: кто же были те путники, чья телега шла впереди их тарантаса, и какие высшие соображения заставляли их забыть об осторожности?
Какое-то время Михаил Строгов оставался наблюдателем. К одиннадцати часам небо начало озаряться вспышками, которые затем уже не прекращались. В их мгновенном блеске то появлялись, то исчезали силуэты высоких сосен, группами — там и сям — стоявших вдоль дороги. Потом, когда тарантас оказывался у самого края дороги, внизу под вспышками туч вдруг высвечивались глубокие бездны. Временами более гулкое тарахтенье повозки означало, что она проезжала мост из плохо отесанных бревен, набросанных поверх какой-то расщелины, — из-под него-то, казалось, и слышались раскаты грома. Да и все окружающее пространство заполнилось вскоре однообразным гулом, который становился тем мощнее, чем дальше они забирались в поднебесную высь. К этим разнообразным шумам примешивались крики и междометия ямщика, то похвальные, то бранные, адресованные бедным животным, уставшим более от тяжкой атмосферы, чем от крутизны дороги. Колокольца под дугой уже не прибавляли им бодрости, и порой у них подгибались ноги.
— К какому часу мы доберемся до вершины перевала? — спросил у ямщика Михаил Строгов.
— К часу ночи… если доберемся! — ответил тот, качая головой.
— А скажи, дружище, это ведь у тебя не первая буря в горах, а?
— Нет, и даст Бог — не последняя!
— Значит, тебе страшно?
— Нет, не страшно, но еще раз скажу: зря ты в ночь поехал.
— Было бы еще хуже, если бы я остался.
— Эй вы, залетные! — вскричал ямщик, давая понять, что его дело не спорить, а повиноваться.
В этот момент вдали что-то вздрогнуло. Это походило на тысячу пронзительных и оглушительно громких свистков, пронзивших дотоле спокойную атмосферу. При свете ослепительной вспышки, за которой почти тут же последовал страшный раскат грома, Михаил Строгов заметил на одной из вершин высокие сосны, гнувшиеся под ветром. Ветер набирал силу, но пока что лишь в верхних слоях атмосферы. Послышавшийся сухой треск означал, что отдельные старые или слабо укоренившиеся деревья не смогли устоять под первыми порывами шквального ветра. Лавина треснувших стволов, с чудовищным грохотом подпрыгивая на утесах, пронеслась через дорогу и исчезла в пропасти слева, в двухстах шагах перед тарантасом.
Лошади встали как вкопанные.
— Давай-давай, голубушки! — закричал ямщик, и щелканье его кнута потерялось среди раскатов грома.
Михаил Строгов схватил Надину руку.
— Ты спишь, сестрица? — спросил он.
— Нет, брат.
— Приготовься ко всему. Вот она, буря!
— Я готова.
Михаил Строгов только-только успел задернуть кожаные занавеси тарантаса.
Шквал приближался со скоростью молнии.
Ямщик, соскочив с облучка, бросился перед лошадьми, чтобы придержать их, ибо всей упряжке грозила страшная опасность.
В самом деле, застывший на месте экипаж находился на повороте дороги, вдоль которой несся шквал. И надо было держать тарантас передком к ветру, иначе, налетев сбоку, шквал неминуемо опрокинул бы его и сбросил в глубокую пропасть слева от дороги.
Лошади, отбрасываемые порывами ветра, вставали на дыбы, и кучеру не удавалось их успокоить. Вслед за дружескими увещеваниями из уст его посыпались самые оскорбительные прозвища. Толку никакого. Несчастные животные, ослепленные грозовыми разрядами, перепуганные оглушительными раскатами грома, сравнимыми с артиллерийскими залпами, могли разорвать постромки и умчаться прочь. Ямщик больше не был хозяином своей упряжки.
И тут Михаил Строгов, одним прыжком выскочив из тарантаса, пришел ямщику на помощь. Ему с его недюжинной силой удалось, хоть и не без труда, укротить лошадей.
Однако ярость урагана успела удвоиться. Дорога в этом месте воронкообразно расширялась, и шквал врывался сюда словно в обращенные к ветру вентиляционные отдушины по бортам парохода. В это время с вершины склона обрушилась лавина камней и древесных стволов.
— Здесь нам оставаться нельзя, — сказал Михаил Строгов.
— Да мы здесь и не останемся! — закричал совершенно растерявшийся ямщик, напрягая все силы, чтобы устоять под чудовищным напором воздушных масс. — Ураган, того гляди, сбросит нас под гору — и самым коротким путем!
— Держи правую лошадь, трус! — бросил в ответ Михаил Строгов. — А я возьму на себя левую!
Новый порыв шквального ветра прервал Михаила Строгова. Чтоб не опрокинуться навзничь, ему и кучеру пришлось пригнуться чуть ли не к самой земле; однако тарантас, несмотря на усилия людей и лошадей, которым они помогали устоять под ветром, сполз назад на несколько корпусов, и если бы не ствол, подперший его, сорвался бы с дороги.
— Держись, Надя! — крикнул Михаил Строгов.
— Держусь, — ответила юная ливонка, и голос ее не выдал ни малейшего волнения.
Раскаты грома на мгновение прекратились, а грозный шквал, миновав поворот, затерялся в глубинах ущелья.
— Ты хочешь спуститься обратно? — спросил ямщик.
— Нет, нужно подниматься! Надо пройти за этот поворот! Вверху нам будет легче удержаться на склоне!
— Да ведь лошади не идут!
— Делай как я, тяни их вперед!
— Сейчас новый шквал налетит!
— Будешь ты меня слушаться?
— Ты так велишь?
— Это тебе царь-батюшка приказывает! — ответил Михаил Строгов, впервые воззвавший к имени императора, которое стало ныне всемогущим в трех частях света.
— A ну, вперед, ласточки мои! — заорал ямщик, хватая под уздцы правую лошадь, в то время как Михаил Строгов держал левую.
Лошади, удерживаемые таким способом, с трудом двинулись дальше. Они не могли теперь прянуть в сторону, и коренник, которого больше не дергали с боков, мог держаться середины дороги. Однако как людям, так и животным, которые под шквалистым ветром пытались устоять на ногах, не удавалось сделать и трех шагов, чтобы не отступить на шаг, а то и на два. Они скользили, падали, подымались вновь. От таких игр повозке могло не поздоровиться. Так, если бы верх не был накрепко прикручен, его давно бы сорвало и унесло прочь.
Михаилу Строгову и ямщику потребовалось более двух часов, чтобы одолеть тот подъем дороги, длиной всего с полверсты, который был полностью открыт хлысту урагана. Опасность представляла теперь не только эта ужасная буря, обрушившаяся на упряжку и ее двух кучеров, но главным образом лавина камней и сломанных стволов, которую горы, стряхнув с себя, сбрасывали на путников.
Внезапно, в момент яркой вспышки, они заметили один из таких камней, с нарастающей скоростью катившийся вниз прямо на тарантас.
У ямщика вырвался сдавленный вопль.
Михаил Строгов хотел сильным ударом кнута подтолкнуть упряжку вперед, но лошади заартачились.
Всего лишь несколько шагов — и камень пролетел бы сзади!…
На какую-то долю секунды Михаил Строгов представил себе и разбитый тарантас, и свою раздавленную спутницу! Он понял — у него уже не было времени, чтобы живой вырвать ее из повозки!…
И тогда, отпрянув назад и перед лицом крайней опасности ощутив в себе сверхчеловеческие силы, он уперся спиной в ось, а ногами в землю — и на несколько футов протолкнул тяжелый экипаж вперед.
Огромный обломок скалы, проносясь мимо, задел грудь молодого человека, и у него перехватило дух — как от пушечного ядра, когда оно дробит дорожный кремень, рассыпающийся снопами искр.
— Брат! — в ужасе вскрикнула Надя, увидев при вспышке молнии, что произошло.
— Надя! — крикнул в ответ Михаил Строгов. — Надя, ничего не бойся!…
— Я боялась вовсе не за себя!
— С нами Бог, сестричка!
— Со мной уж точно, братец, раз он послал мне тебя! — прошептала девушка.
Рывок, которым тарантас был обязан усилию Михаила Строгова, имел продолжение. Инерция этого толчка словно передалась обезумевшим лошадям. Стараниями Строгова и ямщика, которые буквально втаскивали их наверх, они дотащились по дороге до узкого перешейка, направленного с севера на юг, где нашли прикрытие от прямых налетов шквала. По правому склону здесь шел своего рода уступ, образованный выходом огромной скалы, оказавшейся в свое время центром мощного сдвига. Уступ гасил бешено крутившиеся вихри, и за ним можно было переждать бурю, в то время как на пути циклона ни люди, ни лошади выстоять не могли.
И в самом деле, несколько сосен, чьи верхушки выступали над скалой, были в мгновение ока обезглавлены, как если бы на уровне их ветвей склон срезало гигантским серпом.
Ураган неистовствовал. Ущелье заполнили вспышки молний, гром грохотал беспрерывно. Земля, содрогаясь от яростных ударов, тряслась так, словно дрожь охватила весь Уральский массив.
К великому счастью, тарантас удалось поставить под своего рода навес — в глубокую расщелину, куда шквал задувал лишь под углом. Но защищен он был не настолько, чтобы косые порывы шквального ветра, отраженные выступами склона, не били по нему с дикой силой. И, грохаясь о стену скалы, тарантас грозил расколоться на тысячу кусков.
Наде пришлось из него выбраться. Михаил Строгов, при свете одного из фонарей, обнаружил в скале углубление, выбитое некогда киркой рудокопа, где девушка могла прикорнуть в ожидании дальнейшего пути.
Но около часу ночи полил дождь, а вскоре порывы ветра пополам с водой уже буйствовали вовсю, не в силах, однако, загасить полыхание неба. Из-за этой новой напасти о продолжении пути не приходилось и думать.
Итак, сколь ни велико было нетерпение Михаила Строгова — а оно, как легко понять, было огромным, — самый разгул стихии приходилось пережидать. Впрочем, поскольку путники уже достигли перевала, рассекавшего дорогу Пермь — Екатеринбург, им оставалось лишь спуститься по склону Уральского хребта. Однако спускаться в сложившихся условиях, по земле, размытой тысячами горных потоков, среди воздушных вихрей и водоворотов, явно означало играть своей жизнью, рискуя свалиться в пропасть.
— Ждать — нет хуже, — сказал Михаил Строгов, — но зато это позволит нам избежать более длительных задержек. Судя по силе урагана, надолго его не хватит. Часам к трем начнет светать, и спуск, слишком рискованный в темноте, после восхода солнца станет если не легким, то хотя бы возможным.
— Подождем, братец, — отозвалась Надя, — но только никак не ради того, чтобы избавить меня от усталости или опасности!
— Я знаю, Надя, — ты решила не останавливаться ни перед чем, но, подвергая опасности нас обоих, я рисковал бы не только твоей или моей жизнью — я рисковал бы и своим делом, долгом, который мне надо выполнить прежде всего!
— Своим долгом!… — прошептала Надя.
В этот момент небо разорвала яркая вспышка, от которой дождь словно бы испарился. И тотчас раздался сухой треск. Воздух наполнился удушливым запахом серы, и от электрического разряда в двухстах шагах от тарантаса гигантским факелом вспыхнула купа высоких сосен.
Ямщик, словно рикошетом сброшенный наземь, поднялся на ноги, по счастью, невредимый.
Когда последние раскаты грома затерялись в глубине гор, Строгов почувствовал, как Надина рука с силой сдавила его ладонь, и услышал, как она шепчет ему на ухо:
— Братец, ты слышал? Кто-то кричит!
Глава 11 ПУТНИКИ, ПОПАВШИЕ В БЕДУ
И верно, в момент краткого затишья выше по дороге, неподалеку от расщелины, прикрывшей тарантас, послышались крики.
Они походили на зов отчаяния, сорвавшегося с уст путника, который попал в беду.
Михаил Строгов напряженно слушал.
Ямщик тоже прислушивался, но при этом качал головой, словно считая ненужным отвечать на этот зов.
— Какие-то путники просят о помощи! — воскликнула Надя.
— Ежели они и впрямь на нас надеются… — начал было ямщик.
— А почему бы и нет? — вскричал Михаил Строгов. — Разве не должны мы сделать для них то, что в подобных обстоятельствах они сделали бы для нас?
— Но не хотите же вы загробить повозку с лошадьми!…
— Я пойду пешком, — оборвал ямщика Михаил Строгов.
— Я последую за тобой, брат, — сказала юная ливонка.
— Нет, Надя, останься. Ямщик побудет с тобой. Я не хочу оставлять его одного…
— Хорошо, я останусь, — согласилась Надя.
— Что бы ни случилось, из укрытия не выходи!
— Ты найдешь меня на этом же месте.
Михаил Строгов пожал руку своей спутнице и, миновав поворот ущелья, исчез в темноте.
— Зря твой брат это затеял, — сказал ямщик девушке.
— Нет, не зря, — просто ответила Надя.
Тем временем Михаил Строгов быстро подымался по дороге. Он очень спешил оказать помощь людям, подававшим знаки бедствия, но одновременно ему не терпелось и узнать, кто эти путники, не побоявшиеся в бурю забраться в горы, — он не сомневался, что это те самые люди, чья телега все время ехала впереди его тарантаса.
Дождь кончился, но ветер свистел с удвоенной силой. Крики, которые он доносил, слышались все отчетливее. С того места, где Михаил Строгов оставил Надю, увидеть что-либо было невозможно. Дорога петляла, и при вспышках молний видны были только выступы склонов, разрывавших ленту дороги. От порывов ветра, разбивавшихся обо все эти углы, возникали труднопреодолимые завихрения, и Михаилу Строгову, чтобы пройти их насквозь, пришлось напрячь свою незаурядную силу.
Вскоре стало ясно, что путники, звавшие на помощь, находятся где-то неподалеку. Хотя Михаил Строгов еще не мог их видеть, — то ли оттого, что их отбросило прочь от дороги, то ли из-за темени, скрывавшей их от его глаз, — слова их, однако, явственно достигали его слуха.
Вот что он услышал — и это снова вызвало у него удивление:
— Тупица! Вернешься ты, наконец?
— Смотри, как бы тебя на ближайшей станции кнутом не отстегали!
— Слышишь, чертов ямщик! Эй!
— Вот как они здесь возят, в этой стране!…
— И вот что у них называется телегой!
— Трижды скотина! Все гонит и гонит, вроде и не замечая, что бросил нас посреди дороги!
— И так обойтись со мной! Аккредитованным англичанином! Я пожалуюсь в министерскую канцелярию, и его повесят!
Произносивший эти слова воистину пылал гневом. И тут же Строгову показалось, что у второго собеседника отношение к происшедшему иное, ибо раздался совершенно неожиданный для подобной сцены смех, сопровождаемый такими словами:
— Да нет же! Ей-ей, все это слишком смешно!
— И вы еще можете смеяться! — недовольно-кислым тоном воскликнул подданный Соединенного Королевства.
— Ну разумеется, дорогой собрат, и от всей души, — это лучшее, что мне остается делать! Призываю и вас к тому же! Честное слово, это слишком смешно, такого мы еще не видывали!…
В этот миг от мощного удара грома по ущелью прокатился ужасный грохот, многократно отраженный горным эхо. Когда последние раскаты стихли, веселый голос зазвучал вновь:
— Да, смешнее не придумаешь! Вот уж чего во Франции наверняка не увидишь!
— Да и в Англии тоже! — подхватил англичанин.
В двух десятках шагов от себя, на дороге, во всю ширину освещавшейся вспышками молний, Михаил Строгов увидел двух пассажиров, примостившихся рядышком на задней скамье странной повозки, глубоко увязшей в какой-то рытвине.
Михаил Строгов приблизился к путникам, один из которых все еще смеялся, а второй — ворчал, и узнал двух журналистов, которые, взяв билеты на «Кавказ», проделали вместе с ним путь от Нижнего Новгорода до Перми.
— О! Здравствуйте, сударь! — вскричал француз. — Рад видеть вас в такой обстановке! Позвольте представить вам моего соперника, господина Блаунта.
Английский репортер поздоровался и, строго следуя правилам вежливости, собирался в свою очередь представить французского коллегу — но Михаил Строгов опередил его:
— Нет нужды, господа, мы знакомы, ведь мы вместе плыли по Волге.
— Ах вот как! Отлично! Просто замечательно, господин?…
— Николай Корпанов, иркутский негоциант, — ответил Михаил. Строгов. — Однако не объясните ли вы мне, что за приключение с вами произошло — столь горестное для одного и забавное для другого?
— Рассудите нас, господин Корпанов, — попросил Альсид Жоливэ. — Представьте себе — наш кучер умчался на передке своей адской колесницы, оставив нас терпеть бедствие на задней половине этого немыслимого экипажа! И вот — худшая половина телеги на двоих, — ни возницы, ни лошадей! Разве это не самое смешное, что только может быть!
— Нисколько не смешно! — проворчал англичанин.
— Да конечно же смешно, собрат! Вы и впрямь не умеете видеть вещи с хорошей стороны!
— А как, позвольте, мы сможем продолжать наш путь? — спросил Гарри Блаунт.
— Нет ничего проще, — ответил Альсид Жоливэ. — Вы впряжетесь в то, что осталось от повозки; я возьму вожжи, стану, как заправский ямщик, звать вас «голубок ты мой», и вы потопаете что твоя почтовая лошадь!
— Господин Жоливэ, — вскипел англичанин, — ваши шутки переходят все границы, и…
— Успокойтесь, собрат. Когда вы вдрызг разобьете себе ноги, я вас сменю и если не поскачу дьявольским галопом, то вы получите право обзывать меня дохлой улиткой или сомлевшей черепахой!
Альсид Жоливэ говорил все это с таким добродушием, что Михаил Строгов не мог сдержать улыбки.
— Господа, — объявил он, — есть лучший выход. Ведь мы уже на самом верху перевала и, значит, остается лишь спуститься по горному склону. Моя повозка совсем недалеко, шагах в пятистах вниз по дороге. Я предоставлю вам одну из моих лошадей, ее запрягут в вашу телегу, и завтра, если ничего не случится, мы вместе прибудем в Екатеринбург.
— Господин Корпанов, — сказал Альсид Жоливэ, — такое предложение свидетельствует о щедрости вашей души!
— Хочу добавить, сударь, — если я не предлагаю вам сесть в мой тарантас, то просто потому, что в нем всего два места, которые уже заняты мной и моей сестрой.
— О чем говорить, сударь, — ответил Альсид Жоливэ, — да с вашей лошадью и задней половиной нашей полутелеги мы помчим хоть на край света!
— Сударь, — подтвердил Гарри Блаунт, — мы принимаем ваше любезное предложение. — А что до этого ямщика…
— О, поверьте, подобное приключение ему не впервой! — улыбнулся Михаил Строгов.
— Но тогда почему он не возвращается? Ведь прекрасно знает, негодяй, что бросил нас на дороге!
— Да что вы! Он об этом даже не подозревает!
— Как! Этот молодец не знает, что телега разломилась надвое?
— Не знает и с чистой совестью гонит на передке телеги в Екатеринбург!
— Это вот и есть самое забавное, дорогой собрат, как я и говорил! — воскликнул Альсид Жоливэ.
— Итак, господа, если вам угодно последовать за мной, — напомнил Михаил Строгов, — то пройдемся до моей повозки, а там…
— А как же телега? — заметил англичанин.
— Не бойтесь, не улетит, дорогой мой Блаунт, — воскликнул Альсид Жоливэ, — взгляните, она так прочно засела в грязи, что если мы ее тут оставим, то к будущей весне она оденется листвою!
— Стало быть, идемте, господа, — сказал Михаил Строгов, — и втащим сюда тарантас.
Француз и англичанин, спустившись с задней скамейки, которая стала теперь передней, последовали за Михаилом Строговым.
Дорогой Альсид Жоливэ по своему обыкновению балагурил — ничто не могло испортить его хорошего настроения.
— Право, господин Корпанов, — обратился он к Михаилу Строгову, — вы вытаскиваете нас из отчаянного положения!
— Я сделал лишь то, сударь, — ответил Михаил Корпанов, — что на моем месте сделал бы всякий. Если путешественники не станут помогать друг другу, останется только закрыть дороги!
— Мы в долгу перед вами, сударь. Но если вы направляетесь вглубь степей, то мы, возможно, еще встретимся, и уж тогда…
Альсид Жоливэ не задавал Михаилу Строгову прямого вопроса, куда тот едет, но Михаил Строгов, не желая показаться скрытным, сразу ответил:
— Я направляюсь в Омск, господа.
— А мы с господином Блаунтом, — объявил Альсид Жоливэ, — едем чуть дальше — туда, где можно схватить и пулю, но уж наверняка — какую-нибудь новость.
— В захваченные провинции? — живо спросил Михаил Строгов.
— Именно туда, господин Корпанов, — но там, наверное, нам уже не доведется встретиться с вами!
— Вы правы, сударь, — ответил Михаил Строгов. — Я не слишком охоч до ружейной пальбы или треска копий, к тому же по натуре слишком миролюбив, чтобы лезть туда, где дерутся.
— Жаль, сударь, нам и правда останется лишь сожалеть, что расстались с вами так скоро! А что, если после Екатеринбурга наша счастливая звезда благословит нас и дальше путешествовать вместе, пусть хоть несколько дней?
— Ваш путь лежит через Омск? — спросил, на мгновение задумавшись, Михаил Строгов.
— Пока еще мы этого не знаем, но, во всяком случае, через Ишим, а уж там будем действовать по обстоятельствам.
— Ну что ж, господа, — решил Михаил Строгов, — едем до Ишима вместе.
Разумеется, Михаил Строгов предпочел бы путешествовать один, но не мог — без риска показаться по меньшей мере странным — отказать в компании двум путникам, которые собирались следовать той же дорогой, что и он сам. К тому же, раз уж Альсид Жоливэ и его спутник намеревались не сразу проследовать в Омск, а остановиться в Ишиме, проделать вместе с ними столь небольшой отрезок пути не представляло особых неудобств.
— Стало быть, господа, в этом мы договорились, — сказал он. — Едем вместе.
Затем самым равнодушным тоном спросил:
— Вам что-нибудь известно о продвижении татар?
— Увы, сударь, только то, что говорили об этом жители в Перми, — ответил Альсид Жоливэ. — Татары Феофар-хана захватили всю Семипалатинскую область и вот уже несколько дней ускоренно продвигаются вниз по Иртышу. Так что если вы хотите оказаться в Омске раньше них, — вам надо поспешить.
— И в самом деле, — согласился Михаил Строгов.
— Там говорили также, что полковнику Огареву удалось переодетым перейти границу, и в ближайшее время он присоединится к татарскому военачальнику в самом центре мятежного края.
— Но как об этом могли узнать? — спросил Михаил Строгов, кого эти более или менее достоверные новости задевали непосредственно.
— Э, да как о таких вещах узнают, — ответил Альсид Жоливэ. — Они носятся в воздухе.
— И v вас есть серьезные основания полагать, что полковник Огарев уже в Сибири?
— Я даже слышал, что он выбрал дорогу от Казани на Екатеринбург.
— А, так вы и об этом прознали, господин Жоливэ? — вмешался Гарри Блаунт, выведенный из немоты осведомленностью французского корреспондента.
— Да, — ответил Альсид Жоливэ.
— А вы знали, что он был переодет цыганом?
— Цыганом? — невольно вырвалось у Михаила Строгова, который вспомнил о встрече со старым цыганом в Нижнем Новгороде, о его присутствии на борту «Кавказа» и о том, как тот высаживался с парохода в Казани.
— Я знал достаточно, чтобы посвятить этому целое послание моей кузине, — заявил, улыбаясь, Альсид Жоливэ.
— В Казани вы времени не теряли! — сухо отметил англичанин.
— Разумеется, не терял, дорогой собрат, и, пока «Кавказ» пополнял свои запасы, я пополнял мои!
Михаил Строгов уже не слушал колкостей, которыми принялись обмениваться Гарри Блаунт и Альсид Жоливэ. Он думал об этой бродячей труппе, о старике цыгане, чье лицо так и не смог разглядеть, о сопровождавшей его странной женщине, о необычном взгляде, которым она окинула его. Он пытался собрать в уме все частности этой встречи, как вдруг неподалеку грохнул выстрел.
— Поспешим, господа! — воскликнул Михаил Строгов.
«Вот тебе на! Для почтенного негоцианта, который не любит выстрелов, этот человек слишком быстро поспешает туда, где они гремят!» — подумал Альсид Жоливэ.
И вместе с Гарри Блаунтом — человеком, никогда не отстававшим от других, — он бросился вслед за Михаилом Строговым.
Несколько мгновений спустя все трое добежали до выступа у поворота дороги, за которым был укрыт тарантас.
Купа сосен, вспыхнувших от молнии, все еще полыхала огнем. Дорога была пустынна. Но ошибиться Строгов не мог. Звук выстрела все еще стоял у него в ушах.
Неожиданно послышался страшный рев, и из-за горы прогремел второй выстрел.
— Это медведь! — вскричал Михаил Строгов, кого этот рев не мог обмануть. — Надя! Надя!
И, выхватив из-за пояса клинок. Михаил Строгов огромным прыжком достиг скалы и обогнул выступ, за которым девушка обещала его ждать.
Сосны, от корней до макушки охваченные огнем, освещали всю сцену.
В тот самый момент, когда Михаил Строгов подбежал к тарантасу, оттуда в его сторону прянула огромная туша.
Это был невероятных размеров медведь. Буря выгнала его из лесов, которыми щетинился здешний склон уральского хребта, и он решил спрятаться в этой выбоине — своем, надо думать, привычном убежище, где теперь укрывалась Надя.
Две из трех лошадей, перепуганные появлением огромного зверя, умчались прочь, и ямщик, пекшийся только о своей животине, бросился за ними вдогонку, не подумав, что девушка остается с медведем одна.
Смелая Надя не растерялась. Зверь, который поначалу ее не заметил, накинулся на лошадь, оставшуюся в упряжке. Оставив углубление, где пряталась, Надя подбежала к повозке, схватила один из револьверов Михаила Строгова и, решительно шагнув к медведю, выстрелила в упор.
Зверь, легко раненный в плечо, обернулся к девушке; та попыталась было спастись от него за тарантасом, из постромок которого рвался прочь коренник. Но если бы все лошади пропали в горах, путешествие было бы обречено. Поэтому Надя снова пошла прямо на медведя и с поразительным хладнокровием, когда лапы зверя уже вскинулись над ее головой, выстрелила второй раз.
Этот-то второй выстрел и прогремел в нескольких шагах от Михаила Строгова. Но он успел вовремя. В один прыжок очутился между медведем и девушкой. Взмах руки снизу вверх — и исполинский зверь, распоротый от брюха до горла, безжизненной массой рухнул на землю.
То был великолепный образец знаменитого удара охотников-сибиряков, который позволяет им не повредить ценный медвежий мех, за который они получают изрядные деньги.
— Ты не ранена, сестричка? — спросил Михаил Строгов, бросаясь к девушке.
— Нет, братец, — ответила Надя.
В этот момент подоспели оба журналиста.
Альсид Жоливэ подбежал к морде лошади и ударом, надо полагать, крепкого кулака сумел ее усмирить. Его спутник и он хорошо видели стремительный выпад Михаила Строгова.
— Черт побери! — вскричал Альсид Жоливэ. — Для простого купца, господин Корпанов, вы весьма недурно обращаетесь с охотничьим ножом!
— Даже очень недурно, — присоединился Гарри Блаунт.
— В Сибири, господа, — ответил Михаил Строгов, — мы вынуждены заниматься понемногу всем!
И тут Альсид Жоливэ поднял на молодого человека внимательный взгляд. В ярком свете Михаил Строгов — человек высокого роста и решительного вида, с окровавленным ножом в руке попиравший ногой тулово только что поваленного медведя, производил сильное впечатление.
«Могучий парень!» — сказал себе Альсид Жоливэ.
Потом, сняв шляпу, он почтительно приблизился к девушке и поклонился.
Надя в ответ слегка склонила голову. Альсид Жоливэ обернулся к своему спутнику:
— Сестрица стоит своего брата! Если бы медведем был я, то поостерегся бы задевать эту грозную и очаровательную пару!
Гарри Блаунт, прямой как жердь, сняв шляпу, держался поодаль. Непринужденность спутника только подчеркивала его обычную чопорность.
Тут появился и ямщик, которому удалось догнать лошадей. С сожалением взглянув на поверженное великолепное животное, которое приходилось оставлять добычей хищных птиц, он занялся упряжкой.
Михаил Строгов сообщил ему о положении, в котором оказались двое путников, и о своем намерении предоставить одну из лошадей тарантаса в их пользование.
— Делай как знаешь, — ответил ямщик. — Хотя две повозки вместо одной…
— Ладно, дружище, — вмешался Альсид Жоливэ, понявший намек, — тебе заплатят вдвойне.
— Тогда трогай, голубушки! — взревел ямщик.
Надя сидела в тарантасе, Михаил Строгов и оба его спутника пешком шли следом.
Было три часа ночи. Шквальный ветер, терявший силы, уже не столь свирепо дул поперек ущелья, и они быстро поднялись вверх по дороге.
При первых проблесках зари тарантас поравнялся с телегой, прочно увязшей в грязи по самые ступицы. Очень легко было представить себе, как от сильного рывка лошадей телега разломилась пополам.
Одну из пристяжных тарантаса припрягли веревками к кузову полутелеги. Оба журналиста вновь заняли места на скамье своего необычного экипажа, и повозки тотчас тронулись. Впрочем, им оставалось лишь спуститься по склонам Урала, что не представляло никаких трудностей.
Спустя шесть часов обе повозки, на этот раз без каких-либо неприятных происшествий, одна за другой подъезжали к Екатеринбургу. Первым, кого журналисты заметили на пороге почтовой станции, был ямщик, по всей видимости их поджидавший.
Лицо этого достойного россиянина изображало поистине хорошую мину; безо всякого смущения, улыбаясь во весь рот, он устремился навстречу своим пассажирам и, протянув руку, потребовал чаевые.
В интересах истины следует сказать, что ярость Гарри Блаунта вспыхнула с чисто британской силой, и если бы ямщик не отпрянул опасливо назад, то удар кулака, нанесенный по всем правилам бокса, выдал бы ему «на водку» прямо в челюсть.
А Альсид Жоливэ, наблюдая это проявление гнева, корчился от смеха как, наверное, никогда прежде.
— Но ведь этот бедняга прав! — вскричал он. — Он требует своего, дорогой коллега! Не его вина, что мы не нашли способа за ним угнаться!
И Жоливэ, извлекши из кармана несколько копеек, протянул их ямщику:
— Получи, друг, да засунь поглубже! Если ты их и не заработал, твоей вины в том нет!
После этого возмущение Гарри Блаунта удвоилось — он решил взяться за станционного смотрителя и вчинить ему иск.
— Вчинить иск — в России! — вскричал Альсид Жоливэ. — Да коли дела, даже принятые к производству, пойдут, как прежде, своим чередом, то конца разбирательства вам, собрат, не дождаться! Вы что, не знаете истории с русской кормилицей, которая требовала от семьи младенца уплаты за двенадцать месяцев кормления грудью?
— Нет, не знаю, — ответил Гарри Блаунт.
— Она выиграла дело, но знаете, кем стал этот грудной младенец к моменту вынесения приговора?
— Кем же, прошу вас?
— Полковником гвардейских гусар!
При этих словах все покатились со смеху. А Альсид Жоливэ, в восторге от своего успеха, достал из кармана записную книжку и, не в силах сдержать улыбки, сделал запись, которая предназначалась для русского толкового словаря: «Телега — русский экипаж, четырехколесный при отъезде — и двухколесный в момент прибытия!»
Глава 12 ПРОВОКАЦИЯ
Географически Екатеринбург город азиатский, ибо расположен по ту сторону Уральских гор, на последних восточных отрогах хребта. Тем не менее относится он к Пермской губернии и, следовательно, включен в одну из обширных областей Европейской России. Такой административный сдвиг должен иметь свое обоснование: это как бы кусок Сибири, застрявший меж российских челюстей.
Ни Михаил Строгов, ни оба журналиста не встретили никаких трудностей, решив приобрести необходимые средства передвижения в столь большом городе, основанном в 1723 году. В Екатеринбурге находится первый Монетный двор всей империи; здесь сосредоточено общегосударственное управление шахт. Тем самым для страны, где много металлургических заводов, а также рудников, моющих платину и золото, — это важный промышленный центр.
К этому времени население Екатеринбурга очень выросло. Россияне и сибиряки, оказавшиеся под угрозой татарского нашествия, хлынули сюда толпами, бежав из провинций, уже захваченных ордами Феофар-хана, и главным образом — из страны киргизов, раскинувшейся на юго-запад от Иртыша вплоть до границ с Туркестаном.
Вот почему если в других местах для поездки в сторону Екатеринбурга средств передвижения не хватало, то в Екатеринбурге для выезда из города их было, напротив, более чем достаточно. Так что в сложившихся обстоятельствах попасть на сибирскую дорогу для наших путешественников не составляло никакого труда.
Благодаря такому стечению обстоятельств Гарри Блаунт и Альсид Жоливэ сумели быстро заменить целой телегой ту достославную полутележку, в которой они кое-как дотащились до Екатеринбурга. Михаил Строгов решил продолжать путь все в том же приобретенном ранее тарантасе, не слишком пострадавшем при переезде через Уральский хребет; оставалось только запрячь в него тройку добрых лошадей, которые помчали бы его по дороге на Иркутск.
Вплоть до Тюмени и даже до Ново-Заимского дорога эта грозила неприятностями, поскольку все еще пролегала по тем непредсказуемым вздутиям почвы, с которых берут начало уральские предгорья. Однако после ново-заимского перегона начиналась широкая степь, простиравшаяся до подступов к Красноярску почти на тысячу семьсот верст (1815 километров).
Как мы знаем, оба корреспондента намеревались отправиться в Ишим, отстоящий от Екатеринбурга на шестьсот тридцать верст. Там, учитывая последние события, им предстояло продолжать путь уже через захваченные области — вместе или порознь, в зависимости от того, на какую из троп выведет каждого его охотничий инстинкт.
Между тем для Михаила Строгова дорога Екатеринбург — Ишим, идущая далее на Иркутск, была единственной, какую он мог выбрать. Однако ему, не гонявшемуся за новостями и стремившемуся, напротив, обогнуть опустошенный захватчиками край, останавливаться где-либо не имело никакого смысла.
— Господа, — объявил он своим новым попутчикам, — мне будет весьма приятно проделать с вами часть моего путешествия, но должен предупредить вас: я очень спешу попасть в Омск, ибо мы с сестрой должны застать там нашу мать. Кто знает, удастся ли нам добраться туда до того, как город захватят татары! Поэтому на станциях я буду задерживаться только для смены лошадей, а ехать — день и ночь!
— Мы намерены действовать точно так же, — ответил Гарри Блаунт.
— Идет, — кивнул Михаил Строгов, — но тогда не теряйте ни секунды. Наймите или купите повозку, у которой…
— У которой задняя половина, — подхватил Альсид Жоливэ, — соблаговолила бы прибыть в Ишим одновременно с передней.
Полчаса спустя проворный француз без труда нашел тарантас, почти такой же, как у Михаила Строгова, и они с собратом тут же в него уселись.
Михаил Строгов и Надя заняли места в своем экипаже, и в полдень обе упряжки вместе покинули город Екатеринбург. Наконец-то Надя находилась в Сибири, на той длинной-длинной дороге, что вела в Иркутск! О чем же думала сейчас юная ливонка? Три быстрые лошади несли ее по земле изгнанников, где отец ее приговорен жить, быть может, долгое время, вдали от родных краев! Но едва ли она видела разворачивавшиеся перед ее глазами бескрайние степи, которые на какой-то момент чуть было не закрылись для нее, — ведь взгляд ее стремился за горизонт, где ей чудилось лицо ссыльного! Ничто не привлекало ее внимания в этом краю, проносившемся мимо со скоростью пятнадцати верст в час, ничто из тех особенностей, что отличают Западную Сибирь от Сибири Восточной. Здесь и в самом деле мало возделанных полей, ведь земля бедна, по крайней мере на поверхности, зато недра ее богаты железом, медью, платиной и золотом. Поэтому повсюду видны промышленные разработки и очень редки сельскохозяйственные угодья. Да и где найти руки возделывать почву, засевать поля, снимать урожай, если куда как выгоднее обшаривать землю киркой в рудниках? Крестьянин здесь уступил место шахтеру. Кирка тут повсюду, лопаты нет нигде.
Лишь иногда Надя отвлекалась от мыслей о далеких байкальских провинциях и возвращалась к настоящему. Образ отца бледнел, и она вновь видела своего великодушного спутника — сначала на железной дороге по пути во Владимир, где Провидению угодно было назначить их первую встречу; ей вспомнилось, с каким вниманием относился он к ней в поезде. Пришла на память и встреча в полицейском управлении Нижнего Новгорода, та сердечная простота, с которой он заговорил с нею, назвав сестрой. И как предупредителен он был во время плавания вниз по Волге. Наконец, вспомнилась та страшная ураганная ночь переезда через Урал, когда он спас ее, рискуя собственной жизнью!
В общем, Надя думала о Михаиле Строгове. Она благодарила Бога, столь кстати пославшего ей этого отважного покровителя, великодушного и скромного друга. Возле него, под его защитой она чувствовала себя в безопасности. Даже родной брат не мог сделать большего! Отныне она не страшилась никаких препятствий, была уверена, что достигнет своей цели.
Михаил Строгов — если обратиться теперь к нему — говорил мало и много размышлял. Со своей стороны и он благодарил Бога за то, что, послав ему Надю, Он помог ему не только скрыть свою подлинную личность, но и свершить благое дело. Невозмутимое бесстрашие девушки не могло не нравиться его храброму сердцу. Ну и что из того, что она ему совсем не сестра? К своей красивой и смелой спутнице он испытывал и уважение, и нежную дружбу. Он чувствовал в ней одну из тех чистых и редких душ, на которую можно положиться.
Вместе с тем, едва ступив на сибирскую землю, Строгов почувствовал приближение опасности. Если журналисты не ошибались, если Иван Огарев действительно перешел границу, следовало действовать крайне осторожно. Отныне обстоятельства изменились, ведь сибирские губернии наверняка кишат татарскими лазутчиками. Если его инкогнито будет раскрыто, а его роль царского гонца установлена, — конец его миссии, а возможно, и жизни! И Михаил Строгов еще более весомо ощутил бремя лежавшей на нем ответственности.
Если таковы были мысли и чувства, владевшие пассажирами в первой повозке, то что же происходило во второй? Здесь все шло обычным порядком. Альсид Жоливэ говорил пространными фразами, Гарри Блаунт односложно отвечал. Каждый видел вещи по-своему и делал заметки по поводу собственных дорожных приключений; впрочем, с начала движения по земле Западной Сибири особым разнообразием эти впечатления не отличались.
На каждой станции оба корреспондента выбирались из повозки и оказывались в обществе Михаила Строгова. Когда на станции никакой еды не предполагалось, Надя тарантаса не покидала. Она выходила только к столу, когда устраивался завтрак или обед; но, как всегда, была очень сдержанна и почти не принимала участия в разговоре.
Альсид Жоливэ, не выходя, разумеется, за рамки учтивости, проявлял особую услужливость в отношении юной ливонки, которую находил очаровательной. Его восхищали спокойствие и выдержка, с какими она переносила трудности путешествия, проходившего в столь суровых условиях.
Вынужденные остановки не очень устраивали Михаила Строгова. На каждой станции он спешил с отправкой, подгоняя смотрителей, подстегивая ямщиков, торопя их со сменой лошадей. Затем, быстро управившись с едой, — даже слишком быстро на взгляд Гарри Блаунта, методичного и в принятии пищи, — путешественники отправлялись дальше, причем журналистов везли тоже как орлов, ибо платили они по-княжески, или, по выражению Альсида Жоливэ, — «российскими орлами»[60].
Нечего и говорить, что в мыслях Гарри Блаунта юная девушка не занимала никакого места. Это была одна из тех редких тем, которых он в спорах со своим спутником совсем не касался. Почтенный джентльмен не имел привычки заниматься двумя делами сразу.
И когда Альсид Жоливэ как-то спросил его, сколько лет он дал бы молодой ливонке, тот, прищурившись, абсолютно серьезно переспросил:
— Какой молодой ливонке?
— Черт возьми! Да сестре Николая Корпанова!
— А она его сестра?
— Нет, его бабушка! — возопил Альсид Жоливэ, возмущенный таким безразличием. — Сколько вы ей дадите лет?
— Если бы я присутствовал при ее рождении, то знал бы! — просто ответил Гарри Блаунт с видом человека, не желающего ввязываться в дискуссию.
Местность, по которой ехали сейчас оба тарантаса, выглядела почти пустынной. Погода стояла вполне хорошая, небо было полуприкрыто облаками, и особой жары не чувствовалось. При более мягкой подвеске экипажей ничего лучшего путникам не оставалось бы и желать. Они двигались, — как и полагается почтовым каретам в России, — с отменной скоростью.
Однако, если местность и казалась заброшенной, заброшенность эта имела прямое отношение к нынешним событиям. В полях — редко или совсем не встречалось тех бледнолицых степенных сибирских крестьян, которых одна знаменитая путешественница справедливо сравнивала с кастильцами — но без их спеси. То и дело попадались брошенные деревни, что указывало на приближение татарских войск. Жители, уводившие с собой верблюдов, лошадей и отары овец, находили прибежище на равнинах севера. Отдельные племена великой орды киргизских кочевников, сохранившие верность России, тоже перенесли свои юрты за Иртыш или Обь, лишь бы избегнуть разбоя, начинавшегося с приходом захватчиков.
К счастью, почтовая служба действовала пока что без перебоев. Равно как и телеграфная — во всех пунктах, которые еще связывал провод. На каждом перегоне смотрители в установленном порядке меняли лошадей. И на каждой станции сидевшие за окошечком служащие отправляли доверенные им послания, задерживая отправку лишь из-за правительственных депеш. Так что Гарри Блаунт и Альсид Жоливэ пользовались этой возможностью в полной мере.
До сих пор поездка Михаила Строгова совершалась в сносных условиях. Царский гонец поспешал, не зная задержек, и если бы ему удалось обогнуть тот клин перед Красноярском, куда прорвались татары Феофар-хана, он мог достичь Иркутска раньше них и в кратчайшие сроки.
На другой день после выезда из Екатеринбурга оба тарантаса, проделав без каких-либо происшествий путь в двести двадцать верст, к семи часам утра доехали до маленького городка Тулугинска[61].
Полчаса ушло на завтрак. И путники тут же двинулись дальше с такой скоростью, которую можно было объяснить разве что обещанием лишних копеек. В тот же день, 22 июля, к часу дня оба тарантаса, проехав шестьдесят верст, достигли Тюмени.
В Тюмени, где обычно проживало десять тысяч человек, число жителей удвоилось. Такого оживления этот город — первый промышленный центр, созданный русскими в Сибири, известный своими прекрасными металлургическими заводами и медеплавильней, где отливали колокола, — никогда прежде не знал.
Оба корреспондента тотчас отправились за новостями. Известия, которые приносили с театра военных действий сибирские беженцы, были неутешительны. Среди прочего речь шла о том, что войско Феофар-хана быстро приближалось к долине Ишима; в частности, настойчиво повторялись слухи насчет того, что к татарскому главнокомандующему уже или вот-вот должен присоединиться полковник Иван Огарев. А следовательно, военные операции будут самым активным образом разворачиваться в направлении Восточной Сибири.
Что касается русских войск, то их приходилось вызывать главным образом из европейских губерний России, и поскольку находились они еще достаточно далеко, то противостоять нашествию не могли. Тем не менее казаки Тобольской губернии ускоренным маршем направлялись к Томску в надежде отрезать татарским отрядам путь.
К восьми часам вечера тарантасы проскочили еще сорок пять верст и подъезжали к Ялуторовску.
Быстро сменили перекладных и при выезде из города переехали на пароме реку Тобол. Ее очень спокойное течение упростило операцию, которой предстояло повторяться еще не раз и, надо думать, в условиях не столь благоприятных.
К полуночи, проехав пятьдесят пять верст (58 с половиной километров), достигли села Ново-Заимского, оставив позади поросшие лесом косогоры — последние отроги Урала.
Отсюда по-настоящему начиналось то, что называют сибирской степью, которая тянется вплоть до окрестностей Красноярска. Это — равнина без конца и края, нечто вроде обширной травянистой пустыни, на краях которой земля и небо сливаются по четкой, словно циркулем очерченной, кривой. В степи этой не на чем остановить взгляд, — разве что на телеграфных столбах, расставленных по обеим сторонам дороги и гудевших на ветру проводами, словно струнами арфы. Да и сама дорога отличалась от остальной равнины лишь мелкой пылью, вздымавшейся из-под колес тарантаса. Если бы не эта белесоватая лента, раскручивавшаяся насколько хватало глаз, могло показаться, что вокруг — сплошная пустыня.
Михаил Строгов и его спутники помчались по этой степи с еще большей скоростью. Понукаемые ямщиком лошади, не встречая никаких препятствий, стремительно оставляли за собой версту за верстой. Тарантасы неслись прямо к Ишиму, где оба журналиста, если ничто не собьет их с курса, собирались сделать остановку.
От города Ишима Ново-Заимское отделяло около двухсот верст, и если не терять ни минуты, то за следующий день, часам к восьми вечера, их нужно и можно было преодолеть. В представлении ямщиков, их пассажиры если и не были большими вельможами или важными чиновниками, то вполне заслуживали ими быть — хотя бы за щедрость чаевых. И действительно, на следующий день, 23 июля, оба тарантаса находились лишь в тридцати верстах от Ишима.
Неожиданно Михаил Строгов заметил на дороге едва различимый в клубах пыли экипаж, шедший впереди. Так как тарантас везли менее уставшие лошади, бежавшие с большей скоростью, то этот экипаж они должны были вскоре догнать.
Это не был ни тарантас, ни телега, но почтовая карета, густо покрытая пылью и проделавшая, судя по всему, долгий путь. Кучер изо всех сил нахлестывал лошадей, лишь руганью да кнутом удерживая их в темпе галопа. Через Ново-Заимское эта карета явно не проезжала и выбралась на иркутский тракт какой-то кружной дорогой, затерянной в степи.
Когда Михаил Строгов и его спутники заметили эту карету, катившую в Ишим, им в голову пришла одна и та же мысль — обогнать ее и первыми прибьггь на станцию, чтобы прежде всего обеспечить себе свободных лошадей. Одно слово ямщикам — и их тарантасы вскоре поравнялись с выбивавшейся из сил упряжкой почтовой кареты.
Первым нагнал ее Михаил Строгов.
И тут из окна кареты высунулась голова.
Михаил Строгов едва успел взглянуть на нее. И все же, при всей скорости обгона, он явственно услышал слово, произнесенное тоном приказа и обращенное к нему:
— Стойте!
Они не остановились. Скорее наоборот, так что вскоре почтовая карета осталась позади.
И началась дикая скачка, ибо лошади кареты, возбужденные появлением и скоростью обгонявших упряжек, нашли в себе силы продержаться еще несколько минут. Все три повозки исчезли в облаке пыли. Из этого белесого облака раздавалось лишь оглушительное, похожее на стрельбу, щелканье кнута вперемежку с лихим гиканьем и злобной руганью.
Преимущество осталось, однако, за Михаилом Строговым и его спутниками, — преимущество очень важное на тот случай, если бы на станции не хватило свободных лошадей. Найти упряжки для двух повозок могло оказаться смотрителю не под силу — во всяком случае за короткое время.
Спустя полчаса отставшая карета казалась едва заметной точкой на самом краю степи.
Было восемь часов вечера, когда оба тарантаса достигли почтовой станции у въезда в Ингам.
Новости о нашествии становились все более мрачными. Город находился под прямой угрозой передовых отрядов татарского войска, и вот уже два дня как властям пришлось перебраться в Тобольск. В Ишиме не осталось ни одного чиновника, ни одного солдата.
Подъехав к станции, Михаил Строгов немедленно потребовал лошадей.
Он твердо решил опередить карету. Свежих лошадей оказалось всего три. Остальные только что вернулись, усталые после большого перегона.
Станционный смотритель приказал запрягать.
Что касается обоих журналистов, которые сочли разумным сделать в Ишиме остановку, — им не нужно было заботиться о немедленной смене лошадей, и они велели поставить свою повозку в сарай.
Уже через десять минут после прибытия на станцию Михаилу Строгову дали знать, что тарантас готов в дорогу.
— Хорошо, — ответил он.
Подойдя к журналистам, сказал:
— Ну вот, господа, раз уж вы остаетесь в Ишиме — пришло время расставания.
— Как, господин Корпанов, — удивился Альсид Жоливэ, — вы не задержитесь здесь даже на часок?
— Нет, сударь, и я даже хотел бы покинуть почтовую станцию до прибытия той кареты, что мы обогнали.
— Вы, стало быть, опасаетесь, как бы ее пассажир не попытался перехватить у вас лошадей?
— Прежде всего я стараюсь избегать всяких осложнений.
— В таком случае, господин Корпанов, — сказал Альсид Жоливэ, — нам остается только еще раз поблагодарить вас за оказанную услугу и за удовольствие путешествовать в вашей компании.
— Не исключено, впрочем, что через несколько дней мы встретимся в Омске, — добавил Гарри Блаунт.
— Это и впрямь не исключено, — ответил Михаил Строгов, — ведь я прямо туда и направляюсь.
— Ну что ж, доброго пути, господин Корпанов, — сказал тогда Альсид Жоливэ, — и да убережет вас Бог от телег.
Оба корреспондента протянули Михаилу Строгову руки с намерением как можно сердечнее с ним распрощаться, когда с улицы донесся шум подъехавшего экипажа.
Почти тут же дверь станции резко распахнулась, и в проеме показался человек.
Это был пассажир почтовой кареты — человек лет сорока, с военной выправкой, высокий, сильный, крепкоголовый, широкоплечий, с густыми усами, переходившими в рыжие бакенбарды. На нем был офицерский мундир без знаков различия. На поясе висела кавалерийская сабля, а в руке он держал кнут с коротким кнутовищем.
— Лошадей! — потребовал он повелительным тоном человека, привыкшего отдавать приказы.
— Свободных лошадей у меня больше нет, — с поклоном ответил начальник станции.
— Мне нужно немедленно.
— Это невозможно.
— А что за лошадей вы только что запрягли в тарантас, который я видел у ворот станции?
— Они принадлежат этому пассажиру, — ответил станционный смотритель, указывая на Михаила Строгова.
— Пусть их выпрягут!… — заявил вошедший не допускающим возражения тоном.
Тут выступил вперед Михаил Строгов.
— Этих лошадей взял я, — сказал он.
— Не важно! Они нужны мне. Ну же! Пошевеливайтесь! У меня нет лишнего времени!
— У меня тоже нет лишнего времени, — возразил Михаил Строгов, стараясь сохранить спокойствие, дававшееся ему с трудом.
Надя стояла рядом, тоже спокойная, но в глубине души встревоженная возможным развитием событий, которого лучше было бы избежать.
— Хватит болтать! — рявкнул пассажир кареты. После чего, подступая к станционному смотрителю и угрожающе потрясая кулаком, перешел на крик: — Пусть выпрягут лошадей из тарантаса и запрягут в мою карету!
Станционный смотритель, смешавшись, не знал, кого слушать, и смотрел на Михаила Строгова, за кем заведомо оставалось право воспротивиться необоснованным требованиям пассажира.
Михаил Строгов мгновение колебался. Он не хотел пускать в дело свою подорожную, которая привлекла бы к нему внимание, не хотел и задерживаться, уступая лошадей, но при всем том не хотел ввязываться в драку, из-за которой могла сорваться его миссия.
Оба журналиста следили за ним, готовые, разумеется, поддержать своего спутника, если бы он обратился к ним за помощью.
— Мои лошади останутся при моей повозке, — сказал Михаил Строгов, не подымая голоса выше, чем позволительно простому иркутскому купцу.
Тогда пассажир ринулся на Михаила Строгова и, грубо схватив ого за плечо, закричал раскатистым голосом:
— Ах так! Ты не хочешь уступить мне лошадей?
— Нет, — ответил Михаил Строгов.
— Ну так вот, они достанутся тому, у кого достанет сил уехать! Защищайся, ибо пощады тебе не будет!
Произнеся эти слова, пассажир выхватил из ножен саблю и принял боевую стойку.
Надя кинулась к Михаилу Строгову.
Гарри Блаунт и Альсид Жоливэ тоже устремились к нему.
— Драться я не стану, — просто сказал Михаил Строгов и, чтобы сдержать гнев, скрестил на груди руки.
— Не станешь драться?
— Нет.
— Даже после этого? — вскричал пассажир.
И прежде чем его успели удержать, рукояткой кнута ударил Михаила Строгова по лицу.
От такого оскорбления Строгов страшно побледнел. Раскрытые ладони его вскинулись вверх, словно собираясь в порошок стереть негодяя. Но высшим усилием воли он сумел овладеть собой. Поединок означал бы не только задержку, но и, возможно, провал всего дела!… Лучше уж потерять несколько часов!… Да! Но терпеть такое бесчестье!…
— Ну, теперь-то ты будешь драться, трус? — повторил пассажир, усугубляя насилие грубостью.
— Нет! — ответил Михаил Строгов, не двинувшись с места, но в упор глядя на пассажира.
— Лошадей, и немедленно! — рявкнул тот.
И с этими словами вышел из зала.
Станционный смотритель тотчас последовал за ним, успев, однако, пожать плечами и окинув Михаила Строгова неодобрительным взглядом.
Впечатление, произведенное этим инцидентом на журналистов, не могло быть в пользу Михаила Строгова. Они и не скрывали своего разочарования. Такой крепкий молодой человек — и дать себя ударить, не потребовав удовлетворения за подобное бесчестье! И они, ограничившись поклоном, удалились. При этом Альсид Жоливэ сказал Гарри Блаунту:
— Вот уж чего никак не ожидал от человека, который столь умело вспарывает брюхо уральским медведям! Неужели все-таки правда, что у мужества есть свой час и свой способ? Просто уму непостижимо! Пожалуй, остается только пожалеть, что нам не довелось побыть рабами!
Минутой позже скрип колес и щелканье бича дали понять, что почтовая карета, запряженная упряжкой тарантаса, стремительно покинула станцию.
Надя, казавшаяся безучастной, и Михаил Строгов, которого все еще била дрожь, остались в зале станции одни.
Царский гонец, не разнимая скрещенных на груди рук, опустился на скамью. И застыл словно каменное изваяние. Однако бледность на его мужественном лице сменилась багрянцем, никак не похожим на краску стыда.
Надя не сомневалась, что заставить этого человека стерпеть подобное унижение могли только высочайшие соображения.
И, приблизившись теперь к нему как в свое время он к ней — в полицейском управлении Нижнего Новгорода, — произнесла:
— Твою руку, брат!
И одновременно почти материнским движением стерла слезу, навернувшуюся на глаза своего спутника.
Глава 13 ДОЛГ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Надя догадалась, что всеми поступками Михаила Строгова двигал некий тайный мотив, по какой-то неведомой причине Строгов не принадлежал себе, не имел права располагать собой и в силу этих обстоятельств только что героически принес в жертву долгу даже боль смертельного оскорбления.
Однако спрашивать у Михаила Строгова объяснений она не стала. Разве рука, которую она ему подала, не была уже ответом на все, что он мог ей сказать?
За весь этот вечер Михаил Строгов не произнес ни слова. Поскольку предоставить ему лошадей станционный смотритель мог лишь на следующее утро, предстояло провести на станции целую ночь. Надя могла воспользоваться этим, чтобы хоть немного отдохнуть, и для нее приготовили комнату.
Девушка предпочла бы, разумеется, не оставлять своего спутника, но она чувствовала, что ему нужно побыть одному, и собиралась удалиться в отведенную ей комнату.
Уже уходя, она не смогла, однако, удержаться, чтобы не попрощаться с ним.
— Братец… — прошептала она.
Но Михаил Строгов жестом остановил ее. И, глубоко вздохнув, девушка вышла из зала.
Михаил Строгов не стал ложиться. Все равно он не смог бы заснуть даже на час. На том месте, которого коснулся кнут наглого пассажира, щеку саднило словно от ожога.
«За отечество и царя-батюшку!» — прошептал он наконец, заканчивая вечернюю молитву.
Однако теперь он испытывал непреодолимую потребность узнать, кто же был этот ударивший его человек, откуда он ехал, куда направлялся. Что до его лица, то черты эти настолько четко запечатлелись в памяти, что забыть их опасений не возникало.
И он велел позвать смотрителя станции.
Смотритель, сибиряк старого закала, явился тотчас и, глядя чуть свысока на молодого человека, ждал вопросов.
— Ты из этих краев? — спросил Михаил Строгов.
— Да.
— Тебе знаком человек, забравший моих лошадей?
— Нет.
— И ты никогда прежде не видел его?
— Никогда!
— Кто, по-твоему, это мог быть?
— Господин, который умеет заставить себя слушать!
Взгляд Михаила Строгова кинжалом пронзил сердце сибиряка, но тот даже и глазом не моргнул.
— Ты позволяешь себе судить меня! — вскричал Михаил Строгов.
— Да, — ответил сибиряк, — потому как есть вещи, которые даже простой купец, получив, не может не вернуть!
— Удар кнутом?
— Да, удар кнутом, молодой человек! Я достаточно стар и слаб, чтобы прямо сказать тебе это!
Михаил Строгов подошел к смотрителю, положил ему на плечи свои сильные руки. И необычайно спокойным голосом произнес:
— Уходи, друг, уходи! А то как бы я тебя не убил!
На этот раз станционный смотритель понял.
— Вот так-то оно лучше, — прошептал он.
И вышел, не прибавив ни слова.
На другой день, 24 июля, в восемь часов утра в тарантас была запряжена тройка крепких лошадей. Михаил Строгов и Надя заняли в нем места, и Ишим, о котором у обоих должно было остаться крайне мрачное воспоминание, вскоре исчез за поворотом дороги. На станциях, где в этот день пришлось останавливаться, Михаил Строгов смог установить, что почтовая карета ехала перед ним, не сворачивая с иркутской дороги, и что ее пассажир, спешивший через степь, как и он сам, не терял ни минуты.
В четыре часа вечера, еще через семьдесят пять верст, у почтовой станции Абатская пришлось переправляться через реку Ишим, один из главных притоков Иртыша.
Переправа эта оказалась посложнее, чем через Тобол. Течение Ишима здесь действительно очень сильное. Во время сибирской зимы степные реки, промерзающие на глубину нескольких футов, не создают никаких помех, и путешественник пересекает их, сам того не замечая, — русла теряются под широкой белой скатертью, однообразно устилающей степь. Зато летом переправа через них сопряжена со значительными трудностями.
Действительно, на переезд через Ишим было потрачено два часа, и это привело Михаила Строгова в отчаяние, тем более что от перевозчиков он узнал о татарском нашествии весьма тревожные новости.
Вот о чем шла речь.
В южных землях Тобольской губернии по обоим берегам нижнего течения Ишима уже сновали лазутчики Феофар-хана. Под прямой угрозой находился Омск. Поговаривали о стычке между сибирскими и татарскими войсками на границе с Великой киргизской ордой — стычке не в пользу русских, у которых оказалось там слишком мало сил. Отсюда — их отступление и, как следствие, всеобщий исход крестьян из губернии. Рассказывали об ужасных жестокостях, чинимых захватчиками, — грабежах, кражах, поджогах, убийствах. Таково было татарское понятие о войне. И при подходе передовых отрядов Феофар-хана население разбегалось в разные стороны. Так что теперь, когда поселки и деревушки пустели, Михаил Строгов более всего боялся остаться без средств передвижения. И поэтому очень спешил добраться до Омска. Быть может, при выезде из этого города ему удастся опередить татарских дозорных, спускавшихся долиной Иртыша, и вновь выбраться на дорогу, свободную до самого Иркутска.
Как раз вблизи мест, где тарантас только что перебрался через реку, заканчивались сооружения, которые у военных известны как «ишимская цепь», — цепь деревянных башен и фортов, протянувшаяся от южной границы Сибири верст на четыреста (427 километров). В свое время здесь размещались казацкие отряды, и тогда эти башни и форты использовались для защиты края как от киргизов, так и от татар. Позднее московское правительство сочло, что отношения с ордами налажены. Форты были заброшены и утратили свои боевые качества как раз теперь, когда могли бы оказаться весьма полезными. От большей части этих укреплений захватчики оставили одни пепелища, и те клубы дыма, что столбом поднимались над южной частью горизонта и на которые перевозчики обратили внимание Михаила Строгова, свидетельствовали о приближении татарских передовых частей.
Как только паром высадил упряжку с тарантасом на правый берег Ишима, лошади вновь бешено понеслись по степной дороге.
Было семь часов вечера. Небо обложили густые тучи. Они уже не раз проливались грозовым дождем, пыль прибивало к земле и дорога становилась плотнее.
С момента выезда из Ишима Михаил Строгов не проронил ни слова. Однако по-прежнему следил, чтобы эта гонка без отдыха и срока не слишком утомляла Надю, хотя та и не жаловалась. Девушке хотелось, чтобы у лошадей выросли крылья. Она все отчетливее понимала, что достичь Иркутска ее спутник спешит даже больше, чем она сама, а до цели оставалось еще так много верст!
Ей приходила в голову и другая мысль: если Омск захвачен татарами, то матери Николая Корпанова, живущей в этом городе, грозит опасность, и это должно страшно тревожить ее сына. Этим полностью объяснялось нетерпение, с каким он спешил ее увидеть.
Вот почему в какой-то момент Надя сочла нужным поговорить с ним о старой Марфе, об одиночестве, которое ожидало ее среди этих мрачных событий.
— Ты после начала нашествия никаких известий о матери не получал?
— Никаких, Надя. Последнее ее письмо написано два месяца назад, но в нем были добрые вести. Марфа очень сильная женщина, храбрая сибирячка. Несмотря на возраст, полностью сохранила ясность ума и силу духа. Умеет переносить страдания.
— Я непременно навещу ее, братец, — с живостью отозвалась Надя. — Раз уж ты называешь меня сестрой, значит, Марфе я дочь!
И так как Михаил Строгов не отвечал, добавила:
— А может, твоей матери удалось все же выехать из Омска?
— Такое возможно, — ответил Михаил Строгов, — и я даже надеюсь, что она добралась до Тобольска. Татарский ад[62] она на дух не переносит. Она знает степь, ничего не боится, и я очень желал бы, чтоб она, взяв свой посох, спустилась вниз долиной Иртыша. Во всей провинции нет места, которого бы она не знала. Сколько уж раз она с моим старым отцом прошла весь этот край из конца в конец, и сколько раз, еще ребенком, я сопровождал их в странствиях по сибирской пустыне! Да, Надя, я надеюсь, что матушка успела покинуть Омск!
— И когда ты с нею увидишься?
— Я увижусь с ней… по возвращении.
— Но ведь, если твоя матушка в Омске, у тебя найдется часок — зайти обнять ее?
— Я не зайду обнять ее!
— Ты не повидаешься с ней?
— Нет, Надя!… — ответил Михаил Строгов и тяжело вздохнул, понимая, что больше не в силах отвечать на вопросы девушки.
— Ты говоришь «нет»! Ах, братец, но если твоя матушка в Омске, то почему ты должен отказываться от свидания с ней?
— Почему, Надя? Ты спрашиваешь, по какой причине? — с такой болью в голосе воскликнул Михаил Строгов, что девушка вздрогнула. — Да по той же самой, что вынудила меня быть терпеливым до трусости в стычке с тем негодяем, который…
Он не смог закончить фразу.
— Успокойся, братец, — произнесла Надя своим самым нежным голосом. — Я знаю только одно — скорее не знаю, а догадываюсь! Вероятно, какое-то чувство диктует тебе, как себя вести; и это — чувство долга, еще более святого — если такое возможно, — чем сыновний долг перед матерью!
Надя замолкла и с этого момента стала избегать тем, которые могли иметь отношение к необычному поведению Михаила Строгова. Тут была некая тайна, которой не следовало касаться. И Надя больше не касалась ее.
На следующий день, 25 июля, в три часа утра тарантас прибыл на почтовую станцию Тюкалинск, покрыв после переправы через Ишим расстояние в сто двадцать верст.
Лошадей сменили быстро. Однако впервые ямщик тянул с отъездом, утверждая, что по степи рыщут отряды татар; путешественники, лошади и повозки — лакомая добыча для этих грабителей.
Отлынивание ямщика удалось пресечь лишь ценой серебра: в этом случае, как и во многих других, Строгов не захотел воспользоваться своей подорожной. О последнем указе, переданном по телеграфу, в сибирских губерниях уже знали, и тот россиянин, для кого делалось специальное исключение, как раз поэтому и мог обратить на себя всеобщее внимание, чего царскому гонцу следовало избегать пуще всего. Что же до высказанных ямщиком опасений, то, возможно, шутник просто рассчитывал нажиться на нетерпении пассажира. А что, если у него и в самом деле были основания для опасений?
Наконец тарантас тронулся, и ямщик проявил такое усердие, что к трем часам вечера, проделав восемьдесят верст, путники подъезжали к Куладзинску, а затем, еще через час, достигли уже берега Иртыша. До Омска оставалось не более двадцати верст.
Иртыш — очень широкая река, одна из главных сибирских артерий, несущих свои воды на север Азиатского материка. Беря начало в горах Алтая, он течет по кривой с юго-востока на северо-запад и впадает в Обь, проделав путь примерно в семь тысяч верст.
В это время года, когда вода в реках всего сибирского бассейна прибывает, уровень Иртыша чрезвычайно высок. А если принять во внимание еще и неистово-бурное течение реки, то переправа через нее представлялась достаточно трудным делом. Пловец, пусть даже самый опытный, не смог бы ее переплыть, и даже переправа на пароме была сопряжена с определенным риском.
Но эти опасности, как и любые другие, даже на миг не могли остановить Михаила Строгова и Надю, решившихся не отступать ни перед чем.
Все же Михаил Строгов предложил своей юной спутнице, чтобы сначала реку пересек он один, погрузившись на паром с тарантасом и лошадьми, так как опасался, как бы из-за этого тяжелого груза паром не потерял устойчивости. А когда лошади с повозкой оказались бы уже на другом берегу, он вернулся бы за Надей.
Надя не согласилась. Это означало бы потерять целый час, и она не хотела ради собственной безопасности стать причиной задержки.
Погрузка прошла не без трудностей, так как прибрежные откосы были частично затоплены и паром не удавалось подтянуть достаточно близко к берегу.
Тем не менее после получасовых усилий паромщик разместил на пароме и тарантас, и всех трех лошадей. Михаил Строгов, Надя и ямщик поднялись следом, и паром отчалил.
Первые минуты все шло гладко. Стремнины Иртыша, выше по течению разбитые длинной береговой косой, образовали противоток, одолеть который не составило большого труда. Двое паромщиков отталкивались длинными баграми, орудуя ими с необыкновенной ловкостью; но по мере того, как паром выходил на открытый простор, речное дно понижалось, и, чтобы упираться в багор плечом, длины его не хватало. Концы багров выступали над водой не более чем на фут, и обращение с ними, стоившее тяжких мук, приносило очень мало пользы.
Михаил Строгов и Надя сидели на корме и, опасаясь задержки, с тревогой следили за действиями паромщиков.
— Поберегись! — закричал один из них своему товарищу.
Крик был вызван тем, что паром вдруг начал стремительно менять направление. Течение захватило его и быстро потащило вниз по реке. Речь теперь шла, естественно, о том, чтобы, умело применяя багры, поставить паром наискосок к струе. И паромщики, наваливаясь на концы багров и мелкими толчками подгребая воду под борт, сумели-таки повернуть паром наискось, и он начал медленно приближаться к правому берегу.
Можно было точно высчитать, что берега он достигнет в пяти- шести верстах ниже места погрузки, но это, в конце концов, не имело значения, лишь бы без приключений высадить животных и людей.
Впрочем, оба перевозчика, люди крепкие и вдохновленные к тому же обещанием высокой оплаты, не сомневались в благополучном конце этой трудной переправы.
Но они упустили из виду случайность, которую были бессильны предупредить, и тут уж ни их усердие, ни их ловкость ничего не могли изменить.
Паром, втянутый в стремнину примерно на одинаковом расстоянии от обоих берегов, тащило вниз по течению со скоростью двух верст в час, когда Михаил Строгов, привстав, внимательно посмотрел вверх по реке.
Там он заметил несколько лодок, которые река несла с большой скоростью, так как к течению добавлялись рывки лодочных весел.
И вдруг лицо Строгова исказилось, и из уст вырвался сдавленный крик.
— Что случилось? — спросила девушка.
Но прежде чем Строгов успел ответить, один из паромщиков в панике закричал:
— Татары! Это татары!
Это и в самом деле были лодки с солдатами, быстро спускавшиеся вниз по Иртышу, и через несколько минут они могли настичь паром, слишком тяжело груженный, чтобы от них уйти.
В ужасе от происходящего паромщики издали вопль отчаяния и бросили багры.
— Смелее, друзья! — воскликнул Михаил Строгов. — Не падать духом! Получите пятьдесят рублей, если доберемся до правого берега раньше лодок!
Ободренные этими словами, паромщики вновь взялись за багры, удерживая паром под углом к течению, но вскоре стало ясно, что уйти от татар не удастся.
Проплывут ли татары мимо, оставят ли их в покое? Маловероятно! От этих разбойников можно было ждать чего угодно!
— Не бойся, Надя, — сказал Михаил Строгов, — но будь готова ко всему!
— Я готова, — ответила Надя.
— Даже броситься в реку, как только скажу?
— Как только скажешь.
— Доверься мне, Надя.
— Я тебе верю!
Татарские лодки были уже не более чем в ста футах. Это был отряд бухарских солдат, направлявшихся разведать путь на Омск.
Парому до берега оставалось два собственных корпуса. Паромщики подналегли на багры. Михаил Строгов присоединился к ним, вооружившись багром и действуя им со сверхчеловеческой силой. Если бы ему удалось выгрузить тарантас и пустить упряжку в галоп, то еще оставался бы какой-то шанс уйти от татар, не имевших лошадей.
Но все усилия были, по-видимому, напрасны!
— Сарынь на кичку! — завопили солдаты из первой лодки.
Михаил Строгов узнал военный клич татарских пиратов, единственным ответом на который было — упасть пластом на живот.
И так как ни паромщики, ни он приказу не подчинились, прогремел залп, и две из лошадей были сражены наповал.
В тот же момент раздался треск… Это лодки уткнулись в середину парома.
— Надя, ко мне! — крикнул Михаил Строгов, готовый выпрыгнуть за борт.
Девушка уже собиралась последовать за ним, когда удар копья сбросил Михаила Строгова в реку. Течение подхватило его, на какой-то миг над водой показалась его рука — и он исчез.
Надя вскрикнула, но прежде чем она успела броситься следом, ее схватили, стащили с парома и бросили в одну из лодок.
Тут же были заколоты копьями паромщики, паром поплыл по течению, а татары в лодках продолжили свой путь вниз по Иртышу.
Глава 14 МАТЬ И СЫН
Омск — официальная столица Западной Сибири. Это не самый большой город губернии того же названия, Томск значительнее и по населению, и по величине, но именно в Омске находится генерал-губернатор первой половины Азиатской России[63].
Омск, собственно, состоит из двух разных городов, в одном из которых — верхнем — размещаются исключительно представители властей и чиновничества, а в другом живут в основном сибирские купцы, хотя торговым его едва ли можно назвать.
Город насчитывает приблизительно 12 — 13 тысяч жителей. Его защищают крепостные стены с опорными бастионами, но стены эти сделаны из глины и по-настоящему надежным укреплением служить не могут. И поэтому татары, хорошо об этом осведомленные, решились взять город приступом, и после нескольких дней осады им это удалось.
Гарнизон Омска, насчитывавший всего две тысячи человек, мужественно сопротивлялся. Но под напором войск эмира был шаг за шагом вытеснен из нижнего — торгового — города и вынужден укрыться в верхнем.
Здесь генерал-губернатор, его офицеры и солдаты укрепились по-настоящему. Верхний квартал Омска они превратили в своего рода крепость, пробив в домах и церквах бойницы, надстроив зубцы, и стойко держались в этом самодельном кремле, даже без особых надежд на своевременную помощь. Откуда ее ждать, если татарские отряды, спускавшиеся по Иртышу, получали каждый день все новые подкрепления, и — что еще важнее — командовал ими офицер, предавший свою страну, но человек заслуженный и известный своей отвагой.
Это был полковник Иван Огарев.
Иван Огарев, личность столь же страшная, как и тот татарский военачальник, кого он подбивал идти вперед и вперед, был профессиональный военный. Унаследовав от своей матери, азиатки по происхождению, толику монгольской крови, он любил хитрить, ему нравилось придумывать ловушки и не претили никакие уловки, если надо было выведать секрет или устроить западню. Коварный по природе, он охотно прибегал к самому низкому притворству, прикидываясь при случае нищим и искусно перенимая любые обличья и повадки. Сверх того, он был жесток и при нужде мог сделаться палачом. В его лице Феофар-хан обрел заместителя, достойного представлять хана в этой варварской, дикой войне.
К тому времени, когда Михаил Строгов достиг берегов Иртыша, Иван Огарев уже хозяйничал в Омске и тем настойчивее торопил с захватом верхнего города, чем скорее спешил попасть в Томск, где как раз собралось ядро татарской армии.
Действительно, Томск вот уже несколько дней как был взят Феофар-ханом, и именно отсюда, став хозяевами Центральной Сибири, захватчики должны были двинуться на Иркутск.
Иркутск и был настоящей целью Ивана Огарева.
План предателя состоял в том, чтобы под ложным именем добиться приема у Великого князя, снискать его доверие, а затем, в условленный час, сдать город татарам и выдать самого Великого князя.
После захвата такого города и такого заложника вся Азиатская Сибирь должна была пасть к ногам захватчиков.
Между тем, как мы знаем, царю стало известно об этом заговоре, — как раз чтобы расстроить его и было доверено Михаилу Строгову то важное письмо, которое теперь при нем находилось. Отсюда же и строжайшие предписания молодому гонцу — пройти через захваченную местность инкогнито, не раскрывая себя.
До сих пор ему удавалось неукоснительно выполнять этот наказ, но мог ли он по-прежнему следовать ему и теперь?
Удар, нанесенный Михаилу Строгову, оказался не смертельным. Продолжая плыть, не показываясь над водой, он добрался до правого берега, где и упал без сознания в камыши.
Придя в себя, он обнаружил, что лежит в лачуге мужика, который, вероятно, подобрал его и выходил, а значит, ему он обязан тем, что еще жив. Как долго уже гостит он у этого славного сибиряка? Этого знать он не мог. Но когда вновь открыл глаза, то увидел склонившееся над ним доброе бородатое лицо — хозяин участливо смотрел на него. Строгов собирался уже спросить, где он, но мужик опередил его:
— Помолчи, батюшка, помолчи! Очень ты еще слабый. Сейчас я расскажу тебе и где ты, и что приключилось с той поры, как я принес тебя в избу.
И мужик поведал Михаилу Строгову о том, как происходила та стычка, свидетелем которой он оказался, — и о нападении на паром татарских лодок, и о разграблении тарантаса, и о кровавой расправе с паромщиками!…
Но Михаил Строгов уже не слушал его, — проведя рукой по своему кафтану, он нащупал письмо императора, по-прежнему спрятанное на груди.
И облегченно вздохнул, но успокоиться еще не мог.
— Со мной была девушка! — сказал он.
— Ее они убивать не стали! — ответил мужик, упредив тревогу, сквозившую в глазах гостя. — Взяли в свою лодку и поплыли по Иртышу дальше! Для них это еще одна пленница в придачу к той толпе, что гонят в Томск!
Михаил Строгов ничего не сказал в ответ. Приложил руку к груди — унять сердцебиение.
И все же, несмотря на пережитые испытания, душа его была целиком во власти долга.
— Где я? — спросил он.
— На правом берегу Иртыша и всего в пяти верстах от Омска, — ответил мужик.
— От какой же это раны я такой разбитый? Не от пули?
— Нет, от удара копьем по голове, и рана уже зарубцевалась, — сказал мужик. — Еще несколько дней, батюшка, и ты сможешь снова отправиться в путь. Ты упал в реку, но татары не стали тебя подбирать, обыскивать… Твой кошелек так и лежит у тебя в кармане.
Михаил Строгов пожал мужику руку. И, вдруг резким усилием выпрямившись, спросил:
— Дружище, а сколько времени я у тебя в избе?
— Три дня.
— Я потерял три дня!
— Эти три дня ты пролежал без сознания!
— Нет ли у тебя лошади? Я бы купил.
— Ты что, ехать хочешь?
— Прямо сейчас.
— Нет у меня, батюшка, ни лошади, ни телеги! Где прошли татары, не остается ничего!
— Что ж, тогда пойду в Омск пешком — лошадь искать…
— Отдохнул бы еще несколько часиков, все легче в путь пускаться!
— Ни часу!
— Ну что ж, ступай, — сказал мужик, поняв, что перебороть решимость гостя — труд напрасный. — Я сам отведу тебя, — добавил он. — К тому же русских в Омске еще изрядно, глядишь — удастся и незамеченным пройти.
— Дружище, — произнес Михаил Строгов, — да вознаградит тебя небо за все, что ты для меня сделал!
— Вознаградит… Наград на земле одни дураки ждут, — отвечал мужик.
Михаил Строгов вышел из избы. Зашагал было по дороге, но в глазах вдруг так потемнело, что, не поддержи его мужик, он грохнулся бы наземь; однако свежий воздух быстро привел его в чувство. И тут он как бы вновь пережил тот удар, что в свое время пришелся ему по голове и силу которого, по счастью, смягчила его меховая шапка. При его могучем здоровье, в чем читатель успел убедиться, он был не тот человек, кого могла бы сразить такая малость. Перед глазами его стояла одна-единственная цель — далекий Иркутск, до которого предстояло добраться! Но Омск следовало миновать без задержки.
— Сохрани Бог мою матушку и Надю! — прошептал он. — Я пока еще не имею права думать о них!
Вскоре Михаил Строгов и мужик добрались до торгового квартала в нижнем городе, и, хотя он был занят войсками, они вошли без труда. Глинобитная крепостная стена была во многих местах разрушена, и в образовавшиеся проломы проникали мародеры, следовавшие за полчищами Феофар-хана.
В самом Омске, на его улицах и площадях толпились татарские солдаты, однако чувствовалось, что чья-то железная рука держит их в узде дисциплины, весьма для них непривычной. Ходили они не в одиночку, но вооруженными группами, способные противостоять любому нападению.
На большой площади, превращенной в лагерь, охранявшийся множеством часовых, располагались биваком две тысячи татар в полной боевой готовности. Лошади, привязанные к копьям, но взнузданные, были готовы выступить в любой момент. Для татарской конницы Омск был не более чем временной стоянкой, которую она торопилась сменить на богатые равнины Восточной Сибири, где куда как пышнее города, плодороднее поля, а стало быть, и добыча богаче.
За торговым городом возвышался верхний квартал, покорить который, несмотря на неоднократные попытки штурма, лихо начатые, но смело отбитые, Ивану Огареву пока не удалось. Над зубчатыми стенами развевался трехцветный национальный флаг России.
Не без чувства гордости Михаил Строгов и его провожатый в душе склонились перед ним.
Михаил Строгов прекрасно знал город и, следуя за своим провожатым, слишком людных улиц старался все-таки избегать. Но не из-за боязни, что его узнают. В этом городе одна лишь старуха мать могла назвать его настоящим именем, но он поклялся не видеться с ней и с ней не увидится. К тому же — и он желал этого всем сердцем — она, быть может, укрылась в степи, в каком-нибудь безопасном месте.
По счастливой случайности мужик был знаком с одним станционным смотрителем, который, по его словам, не отказался бы за хорошую плату дать напрокат или продать повозку или лошадей. Единственная трудность — выехать из города, однако проломы в крепостной стене могли облегчить и эту задачу.
Мужик вел своего гостя прямиком на станцию, как вдруг, посреди узкой улочки, Михаил Строгов, резко застопорив, укрылся за выступом стены.
— Что с тобой? — живо спросил мужик, очень удивленный этой стремительностью.
— Тихо, — поспешно бросил в ответ Михаил Строгов, приложив к губам палец.
Со стороны главной площади как раз показался отряд татар, который затем свернул на ту улочку, куда уже успели углубиться Михаил Строгов и его спутник.
Во главе отряда, состоявшего из двух десятков конников, ехал офицер, одетый в очень простой мундир. Хотя он то и дело бросал по сторонам быстрые взгляды, заметить Михаила Строгова, быстро отпрянувшего в сторону, он не мог.
Отряд двигался по улочке крупной рысью. Ни офицер, ни его сопровождение не обращали на жителей ровно никакого внимания. Несчастные едва успевали отскочить в сторону. Послышался чей-то сдавленный крик, за которым тут же последовали удары копий, и улочка мгновенно опустела.
Когда отряд умчался, Михаил Строгов, обернувшись к мужику, спросил:
— Кто этот офицер?
Лицо его в эту минуту было бледным, как у мертвеца.
— Иван Огарев, — ответил сибиряк хриплым от ненависти голосом.
— Он! — вскричал Михаил Строгов в порыве ярости.
В офицере он узнал пассажира, который ударил его на почтовой станции в Ишиме!
И словно при свете внутреннего озарения ему тут же вспомнился — пусть даже виденный мельком — старый цыган, чьи слова поразили его на рыночной площади в Нижнем Новгороде.
Михаил Строгов не ошибался. Эти двое были одним и тем же лицом. Да, именно в одежде цыгана, замешавшись в труппу Сангарры, Иван Огарев смог выбраться из Нижегородской губернии, куда явился, чтобы среди толпы иностранцев, съехавшихся на ярмарку из Центральной Азии, найти себе сообщников и вовлечь их в выполнение своего дьявольского замысла. Сангарра и ее цыгане, настоящие платные шпионы, были ему полностью преданы. Это он на рыночной площади произнес в ту ночь необычную фразу, смысл которой Михаил Строгов смог понять лишь теперь; это он плыл на борту «Кавказа» с целой ватагой бродяг; это он, по той, другой дороге — от Казани до Ишима, — перевалив через Урал, доехал до Омска, где теперь чувствовал себя властелином.
Иван Огарев прибыл в Омск едва ли три дня назад, и если бы не та мрачная встреча с ним в Ишиме, не происшествие, на три дня задержавшее Строгова на берегах Иртыша, — Михаил Строгов заведомо опередил бы его на пути в Иркутск!
И как знать, скольких несчастий удалось бы избежать в будущем!
В любом случае и более чем когда-либо Михаилу Строгову следовало избегать Ивана Огарева и не попадаться ему на глаза. А уж когда придет время для встречи лицом к лицу, он сумеет встретиться с ним — будь тот даже властителем всей Сибири!
Вдвоем с мужиком-провожатым они продолжили свой путь через город и добрались до почтовой станции. Выехать среди ночи из Омска через какой-нибудь пролом в крепостной стене трудности не представляло. А вот купить взамен прежнего тарантаса повозку оказалось делом невозможным. Их не было ни в продаже, ни в прокате. Но какая нужда в повозке была у него теперь? Разве не остался он — увы — один? Нужна была только лошадь, и, к великому счастью, такую лошадь ему повезло заполучить. Это было сильное животное, способное вынести длительное напряжение и сослужить Михаилу Строгову, опытному всаднику, добрую службу. За лошадь были заплачены хорошие деньги, и через несколько минут можно было тронуться в путь.
Было четыре часа вечера. Чтобы воспользоваться проломом в крепостной стене, Михаилу Строгову пришлось дожидаться ночи, и, не желая лишний раз показываться на улицах Омска, он остался на почтовой станции, велев подать себе какой-нибудь еды.
В общем зале набралось много людей. Как и на российских вокзалах, встревоженные жители заходили сюда узнать последние новости. Кто-то говорил о скором прибытии корпуса русских солдат — только не в Омск, а в Томск, — которому приказано освободить этот город от татар Феофар-хана.
Михаил Строгов внимательно прислушивался к тому, что говорилось, но сам в разговоры не вступал.
И вдруг он вздрогнул от крика, который проник ему в душу, а произнесенное слово застыло у него в ушах:
— Сынок!
Перед ним стояла его мать, старая Марфа! Охваченная трепетом, она улыбалась ему! Протягивала к нему руки!…
Михаил Строгов поднялся. И уже хотел броситься к ней…
Но мысль о долге, о серьезной опасности, таившейся для его матери и его самого в этой нежданной встрече, остановила его столь внезапно и властно, что ни один мускул не успел дрогнуть на его лице.
Народу в общем зале собралось человек двадцать. Среди них могли оказаться шпионы, да и разве в городе не знали, что сын Марфы Строговой нес службу в корпусе царских курьеров?
И Михаил Строгов не двинулся с места.
— Мишенька! — воскликнула его мать.
— Кто вы, добрая женщина? — спросил Михаил Строгов, скорее пробормотав, чем произнеся эти слова.
— Кто я? Ты спрашиваешь, кто я? Дитя мое, разве ты уже не узнаешь свою мать?
— Вы ошиблись!… — холодно ответил Михаил Строгов. — Случайное сходство ввело вас в заблуждение…
Старая Марфа подошла к нему вплотную и взглянула прямо в глаза:
— Разве ты не сын Петра и Марфы Строговых?
Михаил Строгов отдал бы жизнь за возможность открыто обнять свою мать!… Но если бы он уступил чувству, все было бы кончено и для него, и для нее, и для той миссии, выполнить которую он поклялся!… Преодолевая себя, он закрыл глаза, чтобы не видеть невыразимой боли, исказившей дорогое лицо; убрал за спину руки, чтобы не сжать в них дрожащие ладони, искавшие его.
— Я в самом деле не знаю, что вы хотите сказать, добрая женщина, — выговорил он, отступая назад.
— Мишенька! — еще раз воскликнула старуха мать.
— Меня зовут не Миша! Я никогда не был вашим сыном! Я Николай Корпанов, иркутский купец!…
И, резко повернувшись, он покинул общий зал, в последний раз услышав жалобный возглас:
— Сынок! Сынок!
Собрав остатки сил, Михаил Строгов зашагал прочь. Он не видел, как его старая матушка почти без чувств упала на скамью. Но в тот момент, когда смотритель станции бросился помочь ей, старая женщина выпрямилась. Внезапная догадка озарила ее сознание. Чтобы ее сын не признал ее? Этого не могло быть! Но и сама ошибиться, приняв за сына чужого человека, она тоже не могла. Это конечно же был ее сын, и если он ее не узнал, значит, не захотел, не должен был узнать, стало быть, у него были на это какие-то страшные причины! И тут она, отринув материнские чувства, сосредоточилась на единственной мысли: «А что, если я, того не желая, погубила его?»
— Я, верно, сошла с ума! — объяснилась она с теми, кто ее спрашивал. — Мои глаза подвели меня! Этот молодой человек мне вовсе не сын! У него другой голос! Забудем об этом! А то он, не дай Бог, будет всюду мерещиться мне!
Не прошло и десяти минут, как на почтовой станции появился татарский офицер.
— Марфа Строгова? — спросил он.
— Это я, — ответила старая женщина так спокойно и с таким умиротворенным лицом, что даже очевидцы только что слупившейся встречи ее просто бы не узнали.
— Пошли, — сказал офицер.
Марфа Строгова твердым шагом последовала за офицером и покинула почтовую станцию.
Через некоторое время Марфа Строгова оказалась на биваке посреди большой площади пред Иваном Огаревым, которому уже успели доложить обо всех подробностях случившегося.
Подозревая, что произошло на самом деле, Иван Огарев захотел самолично допросить старую сибирячку.
— Твое имя? — грубо начал он.
— Марфа Строгова.
— У тебя есть сын?
— Да.
— Где он?
— В Москве.
— У тебя нет от него известий?
— Нет.
— С каких пор?
— Уже два месяца.
— А кто же тот молодой человек, которого ты на почтовой станции только что назвала своим сыном?
— Один молодой сибиряк, которого я приняла за него, — ответила Марфа Строгова. — Это уже десятый, кто показался мне сыном — с той поры, как город заполонили иноземцы! Он видится мне повсюду!
— Значит, этот молодой человек был не Михаил Строгов?
— Нет, это был не Михаил Строгов.
— А знаешь, старая, — я ведь могу приказать пытать тебя, пока ты не скажешь мне правду?
— Я сказала правду, и пыткой тут ничего не изменишь. Я не откажусь от своих слов.
— Так этот сибиряк был не Михаил Строгов? — еще раз спросил Иван Огарев.
— Нет! Это был не он, — второй раз повторила Марфа Строгова. — Уж не думаете ли вы, что я просто так откажусь от сына, которого даровал мне Бог?
Иван Огарев злобно посмотрел на старую женщину, которая откровенно не боялась его. Он не сомневался, что в молодом сибиряке она узнала сына. А значит, если сначала сын отрекся от своей матери, а в свой черед и его мать отреклась от него, то причиной тому могло быть нечто очень серьезное.
Теперь у Ивана Огарева не оставалось никаких сомнений, что мнимый Николай Корпанов — это Михаил Строгов, царский гонец, скрывающийся под фальшивым именем и выполняющий задание, о котором крайне важно узнать. Поэтому он тотчас отдал приказ выслать за Михаилом Строговым погоню. Потом, обернувшись к Марфе Строговой, сказал:
— А эту женщину пусть отправят в Томск.
И пока солдаты грубо оттаскивали ее прочь, злобно процедил сквозь зубы:
— Придет время, и я заставлю тебя говорить, старая ведьма!
Глава 15 БАРАБИНСКИЕ БОЛОТА
Слава Богу, что Михаил Строгов сразу же покинул почтовую станцию. Приказы Ивана Огарева были незамедлительно переданы всем постам на выездах из города, а на все почтовые станции разосланы приметы Михаила Строгова, чтобы не дать ему выехать из Омска. Но к этому моменту он уже выбрался через один из проломов крепостной стены, и лошадь помчала его по степи. Немедленной погони не последовало, и он несся все дальше и дальше.
Строгов покинул Омск 29 июля в восемь вечера. Этот город находится примерно на полпути от Москвы до Иркутска, куда ему следовало добраться уже через десять дней, если он хотел опередить татарские отряды. Не приходилось сомневаться, что несчастный случай, столкнувший его с матерью, раскрыл его инкогнито. Иван Огарев уже не мог не знать, что через Омск только что проехал царский гонец, направляющийся в Иркутск. Послания, которые он вез, представляли, несомненно, чрезвычайную важность. И Михаил Строгов понимал, что его любой ценой постараются перехватить.
Но чего он не знал, чего не мог знать, — так это того, что Марфа Строгова попала в руки Ивана Огарева, и за тот порыв, который она, оказавшись вдруг рядом с сыном, не смогла сдержать, ей придется заплатить, возможно — собственной жизнью! И хорошо, что он этого не знал! Смог ли бы он вынести это новое испытание!
И теперь Михаил Строгов торопил своего коня, заражая его своим лихорадочным нетерпением и требуя от него лишь одного — побыстрее доставить его до новой станции, где он мог бы сменить лошадь на более быструю упряжку.
К полуночи он проехал семьдесят верст и остановился на станции Куликово. Но там — чего он так боялся — не нашлось ни лошадей, ни повозок. Какие-то отряды татар успели пересечь большую степную дорогу. Все было разграблено или реквизировано — как в деревнях, так и на почтовых станциях. Михаилу Строгову с трудом удалось раздобыть немного еды для коня и для себя.
Получалось так, что коня этого нужно было отныне беречь, ведь теперь Строгов не знал, когда и как сможет найти ему замену. И все-таки, стремясь как можно больше оторваться от преследователей, которых Иван Огарев, надо думать, пустил по его следу, он решил ехать дальше. И после часового отдыха продолжил свой путь через степь.
До сих пор погода, слава Богу, благоприятствовала продвижению царского гонца. Было не слишком жарко. Ночами, в эту пору очень короткими и освещенными мягким светом луны, пробивавшимся сквозь облака, следить за дорогой было легко. К тому же Михаил Строгов не сомневался в избранном пути, держался уверенно и спокойно. Невзирая на мучительные думы, неотвязно обуревавшие его, он сохранил полную ясность мысли и двигался к своей цели так, словно она уже виднелась на горизонте. Когда он ненадолго останавливался на каком-нибудь повороте дороги, то лишь для того, чтобы дать лошади перевести дух. Тогда он спешивался, на минуту снимая с нее тяжесть, потом прикладывал ухо к земле и прислушивался — не дойдет ли степной поверхностью стук копыт бегущих коней. Не услышав ничего подозрительного, он опять устремлялся вперед.
Эх, вот бы эту сибирскую землю да объяла долгая, в несколько месяцев, полярная ночь! Он готов был и на это — лишь бы вернее проскочить эту местность.
Тридцатого июля в девять часов утра Михаил Строгов миновал станцию Турумов и оказался в болотистом Барабинском краю.
Здесь на пространстве в триста верст природные особенности могли обернуться чрезвычайными трудностями. Это он знал, но знал и то, что он их все равно одолеет.
Обширные барабинские болота, протянувшиеся с севера на юг между шестидесятой и пятьдесят второй параллелью[64], служат резервуаром для всех дождевых вод, не находящих стока ни в сторону Оби, ни в сторону Иртыша. Почва в этой обширной котловине исключительно глинистая, а значит, водонепроницаемая, и вода здесь застаивается, отчего в летнее время места эти труднопроходимы.
Именно здесь, однако, лежит дорога на Иркутск и, пролегая среди болот, прудов, озер и трясин, с их нездоровыми испарениями, рождает у путника крайнее утомление, которое часто оборачивается большой бедой.
Зимой, когда на морозе все жидкое затвердевает, когда снег выравнивает неровности почвы и поглощает все миазмы, по твердой корке Барабинской степи можно легко и безопасно скользить на санях. В эту пору здешнюю, богатую дичью, местность усердно посещают охотники, выслеживая куниц, соболей[65] и тех ценных лис, чей мех пользуется особым спросом. Однако летом болота становятся топкими, тлетворными, а когда уровень воды резко повышается, то и вообще непролазными.
Михаил Строгов направил коня в торфяные луга, на которых не осталось уже даже вытоптанного травяного покрова — главной пищи бесчисленных сибирских стад и табунов. Это были уже не бескрайние прерии, но обширные заросли древовидных растений.
Растительный покров достигал пяти-шести футов высоты. Траву сменили болотные растения, из-за влажности и летней жары выраставшие до гигантских размеров. Росли здесь главным образом камыши и тростники, образовавшие сплошную сеть, непроницаемое решето, покрытое тысячами удивительно ярких цветов, меж которых сверкали лилии и ирисы, чей упоительный аромат смешивался с жаркими испарениями почвы.
Скакавшего меж зарослей тростника Михаила Строгова уже нельзя было заметить со стороны болот, тянувшихся вдоль дороги. Трава здесь была ему выше головы, и движение его выдавали разве что стаи бесчисленных водоплавающих птиц, что взмывали над кромкой дороги и крикливыми группами разлетались в синеве неба.
И все же сама дорога выделялась очень четко. Она то прямой линией вытягивалась меж густых чащ болотных растений, то огибала извилистые берега широких прудов, которые, протянувшись вдаль и вширь на многие версты, заслужили названия озер. В иных местах обогнуть стоячие воды было невозможно, и дорога шла через них, но не по мостам, а по шатким щитам с балластом из толстого слоя глины, и тогда брусы щитов дрожали как непрочная доска, переброшенная через пропасть. Кое-где щиты достигали в длину до двухсот — трехсот футов, и пассажирам тарантасов, а уж пассажиркам тем более, не раз доводилось испытывать здесь недомогание, похожее на морскую болезнь.
Что до Михаила Строгова, то он — тверда ли была почва или прогибалась под ногами — все скакал и скакал, перелетая через провалы между сгнившими брусами щитов; но сколь быстро ни мчались конь и всадник, они не могли избежать укусов тех двукрылых насекомых, что тучами вьются над этим болотистым краем.
Путешественники, вынужденные летом пересекать Барабинскую степь, пытаются защитить себя волосяными масками, к которым крепится кольчуга из очень тонкой проволоки, прикрывающая плечи. Но, несмотря на такие предосторожности, мало кому удается выбраться из этих болот без того, чтобы лицо, шея и кисти рук не покрылись красноватой сыпью. Кажется, тонкими иглами ощетинился сам воздух, и не было бы преувеличением утверждать, что от этих двукрылых всаднику даже в латах спастись невозможно. Это действительно гиблое место, и человеку дорого обходятся попытки отвоевать его у комарья, мошкары, долгоножек, слепней, не говоря уже о тех бесчисленных микроскопических насекомых, которых невооруженным взглядом и не разглядеть; но, и невидимые, они дают о себе знать нещадными укусами, к которым никак не привыкнут даже закаленные охотники-сибиряки.
Под укусами этих ядовитых двукрылых конь Михаила Строгова вскидывался так, словно в пах ему всаживали тысячу шпор. В диком бешенстве он закусывал удила, вставал на дыбы, хлестал себя хвостом по бокам и, ища облегчения от невыносимых мук в безумной скачке, со скоростью экспресса оставлял позади версту за верстой.
Не вылететь из седла при этих взбрыкиваниях, резких остановках и прыжках коня, спасавшегося от жала двукрылых, мог лишь такой опытный всадник, как Михаил Строгов. Словно потеряв, под действием какой-то постоянной анестезии[66], чувствительность к физической боли и живя единственным желанием любой ценой достичь своей цели, он видел в этой сумасшедшей скачке только одно — что дорога быстро убегала назад.
Кто бы мог подумать, что Барабинский край, столь нездоровый в жаркое время, мог служить для кого-то приютом?
И тем не менее это было так. Время от времени меж гигантских тростников показывались поселки сибиряков. Мужчины, женщины, дети, старики, одетые в звериные шкуры, натянув на лицо смазанный смолой мочевой пузырь, пасли отары тощих овец; а чтобы укрыть животных от посягательств мошкары, разводили с наветренной стороны костры из сырых, день и ночь подбрасываемых поленьев, терпкий дым от которых медленно расходился над бескрайним болотом.
Когда Строгов чувствовал, что его измученный конь вот-вот рухнет наземь, он останавливался возле какого-нибудь из этих убогих селений и там, забыв о собственной усталости, сам натирал укусы бедного животного горячим жиром — как заведено у сибиряков; потом подбрасывал ему добрую охапку сена и лишь после этого, как следует перевязав и накормив его, вспоминал о себе, восстанавливал силы куском хлеба с мясом, запивая его кружкой кваса. Через час, самое большее два, он снова на полной скорости продолжал нескончаемый путь к Иркутску.
Так одолел он, после Турумова, еще девяносто верст. И 30 июля в четыре часа вечера уже бесчувственный к усталости Михаил Строгов подъезжал к Еланску.
Коню пришлось дать отдых на всю ночь. Иначе, при всем его мужестве, животного не хватило бы надолго.
Как и в других местах, никаких средств передвижения в Еланске не было. По тем же причинам, что и прежде, здесь не осталось ни повозок, ни лошадей.
Маленький городок, куда татары еще не наведались, Еланск был, однако, покинут жителями — ведь его легко было захватить с юга и трудно прикрыть с севера. Поэтому все почтовые станции, полицейские участки и местную гостиницу власти приказали оставить, после чего чиновники и жители посостоятельнее перебрались в Каинск, центр Барабы[67].
Михаилу Строгову пришлось скрепя сердце остаться на ночь в Еланске — предоставить своему коню двенадцатичасовую передышку. Он вспомнил о рекомендациях, данных ему в Москве: ехать через Сибирь инкогнито, в любом случае добраться до Иркутска, однако не жертвовать успехом миссии ради быстроты; а значит, следовало беречь то единственное средство передвижения, которое у него оставалось.
На следующий день, когда Михаил Строгов выезжал из Еланска, в десяти верстах от городка на барабинской дороге были замечены первые татарские разведчики. И снова он устремился вперед через болотистую местность. Дорога была ровной и потому не трудной, но очень извилистой и тем самым более длинной. Однако оставить ее и двигаться напрямик непроходимой сетью прудов и озер — об этом не могло быть и речи.
Через день, 1 августа, одолев еще сто двадцать верст, Михаил Строгов к полудню въехал в поселок Спасское, а в два часа сделал остановку в местечке Покровское.
Конь его, измотанный дорогой от Еланска, не мог больше сделать ни шагу.
Ради необходимой передышки Михаилу Строгову пришлось потерять здесь конец дня и всю ночь; и все же, выехав на следующее утро, 2 августа, и продолжив путь по полузатопленной дороге, он к четырем часам вечера совершил перегон в семьдесят пять верст и достиг Каинска.
Местность стала другой. Расположенный посреди опасного для здоровья края, городишко Каинск выглядит чистым, обитаемым островком. Находится он в самом центре Барабы. Благодаря канализации и очистке реки Оми, притока Иртыша, что протекает через Каинск, тлетворные болота превратились в богатейшие пастбища. Однако эти мелиоративные работы не привели еще к победе над лихорадкой, из-за которой пребывание здесь в осеннее время небезопасно. Но по-прежнему ищут здесь прибежища туземцы Барабы, когда болотные испарения изгоняют их из других мест провинции.
Бегство, вызванное татарским нашествием, не привело еще к запустению городка. Его жители, возможно, считали, что в центре Барабы опасность им не угрожает, или хотя бы утешались мыслью, что в случае прямой угрозы у них будет еще время бежать.
Поэтому, как ни нуждался в том Михаил Строгов, каких-либо новостей он получить здесь не смог. Это скорее к нему обратился бы местный правитель, если бы узнал, кем на самом деле является мнимый иркутский купец. Из-за своего расположения Каинск словно и впрямь выпадал из сибирского мира и тех тяжких событий, которые его сотрясали.
К тому же Михаил Строгов показывался на людях очень мало или не показывался совсем. Оставаться незамеченным для него было уже мало, он хотел бы стать просто невидимкой. Прошлый опыт научил его, теперь и на будущее, проявлять максимальную осторожность. Вот он и держался в стороне от людей и, не говоря уж о прогулках по городу, не пожелал даже выглянуть из корчмы, где остановился.
В Каинске Михаил Строгов мог бы найти карету и заменить более удобным средством передвижения того коня, который вез его от самого Омска. Но по зрелом размышлении побоялся, как бы покупка тарантаса не привлекла к нему внимания: он не хотел давать повод для подозрений, пока занятая татарами линия, расчленявшая Сибирь примерно по долине Иртыша, не останется позади.
К тому же для завершения трудного переезда через Барабинскую степь для бегства — в случае явной опасности — прямо через болота, для отрыва от преследующих всадников или, при необходимости, для укрытия в густых зарослях камыша — верховая лошадь была, разумеется, лучше повозки. Позднее, за Томском или даже за Красноярском, в каком-нибудь важном центре Восточной Сибири, станет яснее, как поступать дальше.
Что же касается его коня, то у Строгова даже в мыслях не было заменить его на другого. Он привязался к этому храброму животному. Знал, чего от него ждать. В Омске при покупке ему просто повезло, — приведя его к знакомому станционному смотрителю, великодушный хозяин-мужик оказал ему неоценимую услугу. К тому же если сам Михаил Строгов успел привязаться к животному, то и оно, похоже, приспособилось к тяготам подобного путешествия: заботливо выкраивая для своего четвероногого друга несколько часов отдыха, всадник мог надеяться, что тот вынесет его за пределы захваченных провинций.
Итак, весь вечер и ночь со 2 на 3 августа Михаил Строгов оставался в четырех стенах корчмы у самого въезда в город; от редких ее посетителей ни навязчивости, ни любопытства опасаться не приходилось.
Убедившись, что у коня всего в достатке, измученный хозяин улегся спать; но заснуть по-настоящему так и не смог — слишком много воспоминаний и тревог будоражили его душу. Образы его старухи матери, его юной и бесстрашной спутницы, совсем беззащитных, оставшихся позади, сменяли в его сознании друг друга, сливаясь подчас воедино.
Потом он вернулся к мыслям о той миссии, которую поклялся выполнить. То, что он видел после отъезда из Москвы, все больше убеждало его, насколько она важна. Мятеж представлял серьезную опасность, а из-за соучастия Огарева становился еще более страшным. И когда взгляд его останавливался на письме, запечатанном императорской печатью, — а в нем несомненно содержалось лекарство от многих бед, спасение всего края, истерзанного войной, — Михаил Строгов ощущал в себе какое-то дикое желание ринуться через степь, птицей преодолеть расстояние, отделявшее его от Иркутска, орлом воспарить над возможными препонами, ураганом пронестись по небу со скоростью ста верст в час и, представ наконец перед Великим князем, громким голосом возвестить: «Ваше Высочество, гонец от его Величества царя!»
На следующее утро, в шесть часов, Михаил Строгов вновь пустился в путь с намерением покрыть за этот день расстояние в восемьдесят верст (85 километров), отделяющее Каинск от Убинска[68]. Верст через двадцать он вновь оказался в болотистой Барабинской степи, где никакой канализации уже не было и почва скрывалась порой под слоем воды в целый фут глубиной. Дорога угадывалась с трудом, но благодаря его исключительной осторожности переход обошелся без приключений.
Прибыв в Убинск, Михаил Строгов дал коню отдохнуть ночь, ибо на следующий день хотел без остановки проскакать те сто верст, что лежат меж Убинском и селом Икульское. В путь отправился с первыми лучами солнца, но, как нарочно, почва Барабы на этом перегоне становилась все более и более мерзкой.
Действительно, воды проливных дождей, прошедших несколькими неделями раньше, скопились в узком котловане между Убинском и Колмаковом словно в водонепроницаемом корыте. И в бесконечной сети болот, прудов и озер почти не осталось перемычек. Вдоль одного из таких озер — достаточно значительного, чтобы его, под китайским названием Чан[69], удостоили включения в перечень географических имен, — пришлось с невероятными муками пробираться около двадцати верст. Этим объясняются задержки, которых при всем своем нетерпении Михаил Строгов не мог избежать. И все же, не купив в Каинске повозки, он поступил дальновидно, проскочив на коне там, где с повозкой застрял бы непременно.
Добравшись к девяти вечера до Икульского, Михаил Строгов остановился здесь на всю ночь. В этом затерянном посреди Барабы поселке новостей о войне не слышали вовсе. По самому своему расположению, оказавшись внутри вилки из двух татарских колонн, двигавшихся одна — на Омск, вторая на Томск, эта часть провинции оставалась пока в стороне от кошмаров нашествия.
Природные неприятности пошли наконец на убыль, и при отсутствии новых задержек Михаил Строгов надеялся уже завтра выбраться за пределы Барабинской степи. Стоит ему одолеть еще сто двадцать верст (133 километра), отделяющих его от Колывани, и перед ним вновь откроется хорошая дорога.
От этого важного пункта до Томска ему останется ровно столько же. И с учетом складывающихся обстоятельств он, вероятнее всего, объедет этот город, по слухам, занятый Феофар- ханом.
Однако если в таких селениях как Икульское или Каргинск[70], которые Строгов проехал на следующий день, было сравнительно спокойно — ведь они находились еще в Барабе, где продвижение татарских колонн было бы крайне затруднено, — то не следует ли опасаться, что на более богатых берегах Оби, где особых физических препятствий уже не будет, гораздо больших бед придется ждать от человека? Такое казалось вполне возможным. Во всяком случае, при необходимости Строгов без колебаний оставил бы иркутскую дорогу. Правда, двигаясь через степь, он рисковал остаться без пропитания. Ведь там не проложено дорог, не встречается ни городов, ни деревень — разве что редкие одинокие хутора или лачуги бедняков, пусть даже гостеприимные, но у них не слишком-то разживешься! И все же колебаться не приходилось.
Наконец, к трем с половиной вечера, миновав почтовую станцию Каргатск[71], Михаил Строгов оставил позади последние низины Барабы, и под копытами его коня вновь зазвенела твердая и сухая сибирская земля.
Из Москвы он выехал 15 июля. Значит, нынче, 5 августа, с учетом более семидесяти часов, потерянных на берегах Иртыша, со времени отъезда прошел 21 день.
До Иркутска ему оставалось еще 1500 верст.
Глава 16 ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ
У Михаила Строгова были основания опасаться роковой встречи среди равнин, лежащих за Барабинской степью. Истоптанные копытами поля говорили о том, что татары здесь уже побывали, — к этим варварам вполне подходили слова, сказанные о турках: «Там, где прошел турок, трава уже не взойдет!»
Понятно, что, проезжая эту местность, Михаил Строгов старался соблюдать мельчайшие предосторожности. Поднимавшиеся над горизонтом завитки дыма указывали на догоравшие деревни и поселки. Кто поджег их — дозорные отряды, или границ провинции достигла уже армия эмира? Вошел ли в Енисейскую губернию сам Феофар-хан? Этого Михаил Строгов не знал и потому не мог принять какого-либо решения. Неужели в здешних местах не осталось ни одного сибиряка, чтобы ответить ему?
Две версты Михаил Строгов проехал среди полного безлюдья. По обеим сторонам дороги искал взглядом какое-нибудь обитаемое жилье. Но все избы, куда он заходил, были пусты.
За деревьями он заметил, однако, еще одну догоравшую хижину. Подъехав ближе, увидел в нескольких шагах от пепелища старика в окружении плачущих детей. Молодая еще женщина, вероятно его дочь, мать малышей, опустившись на колени, блуждающим взором озирала горестную картину. Она прижимала к груди двухмесячного младенца, которому молока ее скоро могло не хватить. А вокруг — одни руины и запустение!
Михаил Строгов подошел к старику.
— Ты можешь ответить мне? — спросил он тихо.
— Говори, — сказал старик.
— Татары здесь проходили?
— Да, коли мой дом в огне!
— То была армия или только отряд?
— Армия, коли поля наши истоптаны вдоль и поперек!
— Под командой эмира?
— Эмира, коли воды Оби покраснели от крови!
— А Феофар-хан уже в Томске?
— В Томске.
— Не знаешь, захватили татары Колывань?
— Нет, коли город еще не горит!
— Спасибо, друг. Могу я что-нибудь сделать для тебя и твоих?
— Ничего.
— До свиданья.
— Прощай.
И Михаил Строгов, положив двадцать пять рублей на колени несчастной женщины, у которой даже недостало сил поблагодарить его, тронул коня и продолжал прерванный было путь.
Теперь он знал одно: проезда через Томск надо избежать любой ценой. Остается двигаться на Колывань, куда татары пока не дошли. И хорошо бы запастись там провизией на долгий переход. А затем сойти с Иркутского тракта и, переправившись через Обь, обогнуть Томск — другого выхода не было.
Выбрав этот маршрут, Строгов уже ни минуты не колебался. Пустив коня быстрой и ровной рысью, он устремился по прямой дороге, кончавшейся на левом берегу Оби, от которой его отделяло еще сорок верст. Найдет ли он паром, или же все суда разрушены татарами и придется перебираться вплавь? Там будет видно.
Что касается коня, изможденного до предела, то Михаил Строгов надеялся — только бы у животного хватило сил! — одолеть с его помощью этот последний перегон, — а уж в Колывани обменять его на новую лошадь. Строгов чувствовал, что бедняга может свалиться под ним в любой момент. Тем самым Колывань становился как бы новой точкой отсчета — начиная с этого города путешествие должно проходить в новых условиях. Пока путь его пролегает по разоренным землям, его по-прежнему ждут серьезные трудности, но если, обогнув Томск, он смог бы вернуться на иркутскую дорогу через Енисейскую губернию, захватчиками еще не тронутую, то достичь цели ему удалось бы за несколько дней.
После достаточно жаркого дня на землю опустилась ночь. К полуночи степь окутала густая мгла. Ветер, стихший с заходом солнца, не нарушал более окружающей безмятежности. На пустынной дороге слышались лишь конский топот да те немногие слова, которыми подбадривал коня всадник. В наступившей темноте требовалось исключительное внимание, чтобы не сбиться с дороги, вдоль которой тянулись пруды с ручейками, бежавшими в Обь.
Поэтому Михаил Строгов продвигался вперед насколько возможно быстро, соблюдая, однако, необходимую осторожность. И полагался при этом не только на остроту собственного зрения, пронзавшего тьму, но и на чутье своего коня, в чьей осмотрительности успел убедиться.
В какой-то момент, спешившись, Михаил Строгов пытался поточнее установить направление дороги, как вдруг ему почудился смутный гул, доносившийся с запада. Это походило на далекий стук копыт по сухой земле. Сомнений не было — сзади, в одной или двух верстах, раздавался топот копыт, ритмично ударявших о землю.
Приложив ухо к самой середине колеи, Строгов чутко прислушался.
«Это отряд конников, движущийся по Омской дороге, — сказал он себе. — Скачут они быстро, так как звук усиливается. Кто же это — русские или татары?»
Он прислушался снова.
«Да, — сказал он, — эти конники несутся во весь опор! Не пройдет и десяти минут, как они будут здесь! Моему коню от них не уйти. Если это русские, то я к ним присоединюсь. А если татары, встречи надо избежать! Но как? Где тут спрячешься в этой степи?»
Михаил Строгов огляделся вокруг и своим острым глазом в сотне метров впереди, левее дороги, обнаружил смутное, расплывавшееся в темноте пятно.
«Там какой-то лесок, — пробормотал он. — Если эти конники вздумают его прочесать, то прятаться там — значит отдаться им в руки, — но у меня нет выбора! А вот и они, вот и они!»
Несколько мгновений спустя Михаил Строгов, таща коня за уздечку, добрался до зарослей лиственницы, к которым можно было подойти со стороны дороги. До и после этого места вдоль дороги не росло ни деревца, одни рытвины да пруды, с карликовыми кустиками утесника и вереска между ними. Тем самым местность с обеих сторон была совершенно непроходимой, и отряд, следовавший большой Иркутской дорогой, неминуемо должен был проехать перед этим леском.
Строгов устремился под укрытие лиственниц, но, углубившись в заросли шагов на сорок, вдруг уперся в ручей, который замыкал их полукругом.
Впрочем, тьма была очень густой, и он мог не бояться, что его увидят, — разве что весь лесок будет тщательно прочесан. Поэтому он провел своего коня до самого ручья и привязал к дереву, а сам, вернувшись к кромке зарослей, залег в кустах — установить, с кем имеет дело.
Едва Михаил Строгов устроился за купой лиственниц, как заметил какой-то тусклый свет, на котором там и сям выделялись яркие, перемещавшиеся во мгле пятна.
«Да это факелы!» — догадался он.
И быстро подался назад, дикарем-туземцем проскользнув в самую чащу.
По мере приближения к лесу шаг лошадей начал замедляться. А может быть, конники освещали дорогу, чтобы следить за малейшими ее изгибами?
Этого следовало опасаться, и Строгов инстинктивно отполз к крутому берегу ручья, готовый при необходимости в него погрузиться.
Доехав до края леса, отряд остановился. Всадники спешились. Их было человек пятьдесят. Десятеро держали в руках факелы, бросавшие на дорогу широкий круг света.
По некоторым приготовлениям Михаил Строгов понял, что всадники, слава Богу, вовсе не имели намерения заходить в лес, но просто остановиться лагерем — дать роздых лошадям, а людям возможность подкрепиться.
И точно, лошади со снятыми уздечками принялись щипать густую траву, плотным ковром устилавшую землю. А всадники разлеглись вдоль дороги и принялись делить меж собой провизию из своих заплечных мешков.
Строгов, сохраняя хладнокровие, скользил в высокой траве, стараясь все увидеть, а затем и услышать.
Это был отряд, посланный из Омска. Он состоял из узбеков — преобладающего в Татарии народа, по типу заметно приближающегося к монголам[72]. Эти люди, хорошо сложенные, выше среднего роста, с грубыми и дикими чертами лица, на голове носили «тальпак» — папаху из шкуры черного барана, а на ногах желтые сапоги с высокими каблуками и острым, загнутым кверху носком, на манер средневековых башмаков. Их ситцевые халаты, подбитые ватой из неотбеленного хлопка, были подхвачены кожаными поясами с красным галуном. Они были вооружены: щитом — для защиты, а для нападения — кривой саблей, длинным тесаком и кремневым ружьем, подвешенным к луке седла. С плеч их широкими складками ниспадал плащ из яркой ткани.
Лошади, свободно разбредшиеся по кромке леса, принадлежали к одной из степных пород — вероятнее всего, башкирской. Это было хорошо заметно при свете факелов, бросавших под кроны лиственниц яркие блики. Чуть поменьше туркменских коней, но наделенные необычайной силой, эти животные не признают иного бега, кроме галопа.
Отрядом командовал «пенджа-баши», то есть главный над пятьюдесятью воинами, у кого в подчинении находится «дех-баши», командующий десятью солдатами. На обоих были шлемы и кольчужные полусвитки; маленькие трубы, привязанные к луке их седел, служили отличительным знаком их чина.
Пенджа-баши был вынужден дать отдых своим людям, уставшим за долгий перегон. Переговариваясь меж собой и покуривая «бенг»[73] — конопляный лист, составляющий основу «гашиша», который у азиатов в большом ходу, оба офицера прогуливались взад-вперед по лесу, так что Михаил Строгов, оставаясь незамеченным, мог уловить и понять, о чем они говорят, ибо объяснялись они по-татарски.
С первых слов разговора Михаил Строгов испытал крайнее возбуждение.
Еще бы, ведь речь шла о нем.
— Этот гонец вряд ли мог обогнать нас намного, — говорил пенджа-баши, — а с другой стороны, он не мог выбрать другой дороги, кроме барабинской.
— А выехал ли он вообще из Омска? — усомнился дех-баши. — Может, все еще прячется где-нибудь в городе?
— Если бы так! Тогда полковник Огарев мог бы не опасаться, что те послания, которые гонец, без сомнения, везет, дойдут по назначению!
— Говорят, он из местных, сибиряк, — снова заговорил дех-баши.
— Стало быть, хорошо знает местность и мог сойти с Иркутской дороги, уверенный, что сможет потом на нее вернуться!
— Но тогда мы обогнали бы его, — ответил пенджа-баши, — ведь мы выехали из Омска меньше чем через час после его отъезда, и по этой самой короткой из дорог наши лошади неслись во весь опор. Значит, он или остался в Омске, или мы будем в Томске раньше него, отрезав ему путь, и в любом случае до Иркутска ему не добраться.
— А крепкая женщина — та старуха сибирячка, конечно же его мать! — сказал дех-баши.
При этих словах у Строгова бешено заколотилось сердце.
— Да, — согласился пенджа-баши, — как упорно она стояла на том, будто этот купец не ее сын, но было слишком поздно. Полковник Огарев на это не поддался, и, как он сказал, в нужный момент он заставит старую ведьму заговорить.
Каждое слово ударом кинжала вонзалось Михаилу Строгову в сердце! Значит, в нем опознали царского гонца! Отряд всадников, посланных ему вдогонку, непременно перережет ему путь! А самая страшная боль — его мать в руках татар, и беспощадный Огарев похваляется, что при желании заставит ее заговорить!
Михаил Строгов прекрасно знал, что отважная сибирячка будет молчать, и это может стоить ей жизни!…
Он не предполагал, что сможет ненавидеть Ивана Огарева сильнее, чем до сих пор, однако жгучая волна нового приступа ненависти подкатила к сердцу. Нечестивец, предавший свою страну, грозился теперь подвергнуть пыткам его мать!
Разговор между двумя офицерами продолжался, и у Михаила Строгова сложилось впечатление, что в окрестностях Колывани не избежать столкновения меж татарами и московскими войсками, идущими с севера. Небольшой русский корпус из двух тысяч человек, замеченный в низовьях Оби, ускоренным маршем приближался к Томску. Если это правда, то в схватке с ядром армии Феофар-хана русскому корпусу грозит неминуемое уничтожение, и вся дорога на Иркутск окажется в руках захватчиков.
А что касается его самого, то из слов пенджа-баши Михаил Строгов узнал, что за его голову назначена высокая цена и отдан приказ захватить его живым или мертвым.
Тем самым возникала спешная необходимость, продолжая путь на Иркутск, опередить узбекских конников и оторваться от них, перебравшись на правый берег Оби. Но для этого надо было исчезнуть до того, как лагерь снимется с места.
Придя к такому решению, Михаил Строгов приготовился к его выполнению.
Остановка конников и в самом деле не могла длиться долго, пенджа-баши не собирался давать своим людям на отдых более часа, хотя с самого Омска их лошади не сменялись и были утомлены настолько же и по тем же причинам, что и конь Михаила Строгова.
Нельзя было терять ни секунды. Был час ночи. Пока рассвет не разогнал тьму, следовало выбраться из зарослей на дорогу; и все же, хотя ночь благоприятствовала бегству, успех такой попытки представлялся почти невероятным.
Не желая полагаться на авось, Михаил Строгов какое-то время раздумывал и тщательно взвешивал шансы «за» и «против», прежде чем остановиться на самом верном.
Из оценки местного ландшафта сам собой напрашивался вывод: нельзя бежать дальней стороной леса, которую замыкала дугообразная полоса лиственниц, стянутая хордой-дорогой. Ручей, окаймлявший эту дугу, был не только глубоким, но к тому же широким и топким. Перейти через него мешали и мощные кусты утесника. Под взмученной водой угадывалось вязкое болото, где не на что опереться ноге. Помимо всего прочего, заросшая кустарником поляна за ручьем не очень-то годилась для бросков стремительного бегства. Стоило раздаться сигналу тревоги, и Михаил Строгов, после жестокого преследования, был бы вскоре окружен и неизбежно попал в руки татарских конников.
Возможным был поэтому лишь единственный путь — большая дорога. Попробовать достичь ее, обогнув кромку леса, и, не привлекая внимания, пройти незамеченным хотя бы четверть версты, выжать из своего коня всю оставшуюся крепость и силу — даже если тот замертво падет на берегах Оби, а затем, будь то на пароме или вплавь — если ничего другого не останется, — пересечь эту важную реку — вот какая попытка предстояла Михаилу Строгову.
Перед лицом опасности мужество и силы его удесятерились. Речь шла о его жизни, о его миссии, о чести его страны, а возможно, и о спасении его матери. Колебаться не приходилось, и он взялся за дело.
Нельзя было терять ни секунды. В отряде среди солдат уже началось какое-то шевеление. Несколько человек уже прохаживались по обочине дороги у кромки леса. Остальные пока лежали под деревьями, но лошади их понемногу собирались к центру лесочка.
У Михаила Строгова мелькнула было мысль завладеть одной из этих лошадей, но он здраво рассудил, что устали они небось не меньше его коня. Поэтому лучше было довериться тому, в ком он был уверен и кто оказал ему столько добрых услуг. Смелое животное, укрытое в высоких кустах, ускользнуло от глаз узбеков. Впрочем, они в глубь зарослей и не заходили.
Под прикрытием травы Строгов подполз к своему коню, лежавшему на земле. Потрепал ему холку, тихо поговорил с ним, и ему удалось без шума поднять его на ноги.
По счастью, выгоревшие факелы уже потухли, а тьма оставалась еще достаточно густой, по крайней мере под покровом лиственниц.
Прикрепив удила, подтянув подпруги и проверив ремни стремян, Михаил Строгов легонько потянул коня за узду. И умное животное, словно поняв, чего от него хотят, послушно последовало за хозяином, не издав даже легкого ржания.
И все же некоторые из узбекских лошадей подняли головы и мало-помалу потянулись к кромке леса.
В правой руке Михаил Строгов держал револьвер, готовый раскроить голову первому же татарскому солдату, подойди тот достаточно близко. Но, к великому счастью, побудка не прозвучала, и он смог дойти до угла, где лесок сворачивал вправо, смыкаясь с дорогой.
Чтобы его не заметили, Михаил Строгов намеревался вскочить в седло как можно позже и только миновав поворот, находившийся в двухстах шагах от леска.
Но, как назло, в тот самый момент, когда он собирался пересечь кромку леса, лошадь одного из узбеков, почуяв его, заржала и устремилась по дороге вперед.
Хозяин побежал вернуть ее назад, но, заметив силуэт, смутно угадывавшийся в первых лучах зари, закричал:
— Тревога!
Услышав крик, все солдаты лагеря повскакали с мест и бросились к дороге.
Михаилу Строгову ничего не оставалось, как вскочить на коня и пустить его галопом.
Оба офицера вынеслись вперед и заторопили своих людей.
Но Строгов был уже в седле.
В этот момент прогремел выстрел, и он почувствовал, как пуля пробила его кафтан.
Не оборачиваясь и не отвечая, он пришпорил коня и, вырвавшись в огромном прыжке из зарослей, во весь опор понесся в сторону Оби.
Узбекские лошади еще не были взнузданы, и Строгов поначалу чуть опережал конников; но последние не могли долго медлить с преследованием, и действительно, не прошло и двух минут после выхода из леса, как он услышал топот множества лошадей, понемногу настигавших его.
Занималась заря, и предметы различались уже на большом расстоянии.
Обернувшись, Михаил Строгов заметил всадника, который быстро приближался.
Это был дех-баши. Верхом на великолепной лошади, офицер мчался в голове отряда и мог вот-вот настичь беглеца.
Не замедляя скачки, Строгов направил в его сторону револьвер и тотчас выстрелил. С пулей в груди узбекский офицер покатился на землю.
Но остальные всадники следовали за ним вплотную и, не задерживаясь возле упавшего, возбуждая друг друга дикими воплями и вонзая шпоры в бока лошадей, мало-помалу сокращали расстояние, отделявшее их от Михаила Строгова.
И все же около получаса тот еще мог продержаться вне досягаемости для татарских ружей, хотя чувствовал, как конь его заметно слабеет и каждый миг, споткнувшись о какой-нибудь камень, может рухнуть, чтобы уже не подняться.
Все светлее разгоралась заря, хотя солнце еще не показалось.
Самое большее в двух верстах отсюда ширилась бледная полоса, окаймленная отдельными деревьями, далеко отстоявшими друг от друга.
Это была Обь, которая текла с юго-запада на северо-восток почти на уровне окружавшей равнины, так что долиной ее была сама степь.
По Строгову несколько раз стреляли из ружей, ни разу не попав, но и ему самому тоже пришлось разрядить револьвер в ближайших всадников, которые вот-вот могли настигнуть его. И всякий раз кто-то из узбеков валился наземь под дикие вопли спутников.
Но все равно в этой гонке Михаил Строгов должен был проиграть. Его конь выбивался из сил. И все же успел доскакать до обрыва реки.
Узбекский отряд в этот момент находился от него в каких-нибудь пятидесяти шагах.
На совершенно пустынной Оби — ни парома, ни лодки для переправы.
— Держись, мой верный конь! — воскликнул Михаил Строгов. — Вперед! Еще одно, последнее, усилие!
И он направил коня в реку, которая в этом месте достигала в ширину полверсты.
Преодолевать стремительное течение было невероятно трудно. Конь Михаила Строгова не доставал до дна. Потеряв опору, он должен был вплавь пересекать струи реки, быстрые, как на стремнине. И он принял этот вызов, проявив в глазах Михаила Строгова чудеса храбрости.
Татарские всадники остановились на берегу, не решаясь броситься в воду.
И тогда пенджа-баши, схватив ружье, тщательно прицелился в беглеца, находившегося уже на середине реки. Раздался выстрел, и конь Михаила Строгова, пораженный в бок, ушел из-под хозяина в глубину.
Тот едва успел высвободить из стремян ноги, когда животное уже исчезало под водой. Затем, вовремя нырнув среди града пуль, он сумел добраться до правого берега и исчез в камышах, которые густой щетиной покрывали берег Оби.
Глава 17 СТИХИ И ПЕСНИ
Михаил Строгов находился в относительной безопасности. Однако положение его оставалось ужасным.
Теперь, когда верное животное, столь самоотверженно служившее ему, нашло смерть в водах Оби, как мог он продолжать путь?
Он оказался пешим, без пропитания, в стране, разоренной нашествием, вытоптанной дозорными эмира, а до конечной цели было еще далеко.
«Клянусь небом, я доберусь! — воскликнул он, отвечая этим на все мрачные доводы, представшие вдруг его рассудку. — Да защитит Бог святую Русь!»
Для узбекских конников Михаил Строгов был теперь недосягаем. Они не осмелились последовать за ним через реку, а возможно, решили, что он утонул, ведь после его погружения под воду не могли уже видеть, как он достиг правого берега.
Однако Михаил Строгов, продравшись через густые прибрежные камыши, добрался до более высокой части побережья, хотя и не без труда — из-за густой грязи, принесенной в свое время разливом.
Оказавшись на твердой земле, Михаил Строгов определил для себя, что теперь делать. Прежде всего он хотел обойти стороной Томск, занятый татарскими войсками. И все же хорошо бы дойти до какого-нибудь поселка и, по возможности, до почтовой станции — заполучить лошадь. Раздобыв лошадь, он мог бы свернуть с битых дорог и вернуться на Иркутскую лишь в окрестностях Красноярска. Отсюда, если поспешить, можно найти пока еще свободный путь и спуститься на юго-восток по землям, примыкающим к озеру Байкал.
В первую очередь Михаил Строгов попытался определить, где он.
В двух верстах впереди по течению Оби, на небольшой возвышенности несколькими ступенями живописно устремлялся вверх небольшой городок. На фоне серого неба вырисовывалось несколько церквей с византийскими куполами, окрашенными в золотой и зеленый цвета.
Это был Колывань, куда чиновники и служащие Каинска и других городов переселяются на лето, спасаясь от нездорового климата Барабинской степи. Как успел узнать царский гонец, Колывань еще не попал в руки захватчиков. Разделившиеся на две группы татарские войска левой колонной двигались на Омск, правой на Томск, не интересуясь местностью, лежавшей посредине.
Простой и логичный план, сложившийся у Михаила Строгова, состоял в том, чтобы достичь Колывани прежде, чем доскачут туда узбекские конники, поднимавшиеся левым берегом Оби. Там, пусть за десятикратную цену, он приобретет себе одежду, лошадь и через южную степь вернется на Иркутскую дорогу.
Было три часа утра. Дышавшие покоем окрестности Колывани казались совершенно безлюдными. Сельское население, спасаясь от захватчиков, которым оно не могло противостоять, скорее всего, перебралось на север, в Енисейскую губернию.
Михаил Строгов быстро шагал к Колывани. когда до него донеслись звуки далеких выстрелов.
Остановившись, он четко различил сотрясавшие воздух глухие раскаты, а выше — суховатые потрескивания, в происхождении которых не мог обмануться.
«Да это же пушка! А это ружейная стрельба! — сообразил он. — Тот двухтысячный русский корпус сошелся, стало быть, с татарской армией! Эх! Да поможет мне небо войти в Колывань раньше них!»
Михаил Строгов не ошибался. Грохот постепенно усилился, позади, левее Колывани, над горизонтом сгустились густые клубы, — не обычные облака дыма, а те беловатые, четко очерченные спиральные завитки, которые образуются при разрывах артиллерийских снарядов.
Узбекские конники на левом берегу Оби остались ждать исхода сражения.
С этой стороны Михаилу Строгову бояться было уже нечего. И он ускорил шаг.
Тем временем грохот нарастал и заметно приближался. Это были уже не глухие раскаты, но четко различимые пушечные залпы. Подхваченный ветром дым подымался в воздух, и теперь стало очевидно, что сражение быстро смещается к югу. Нападение на Колывань явно ожидалось с северного предместья. Но что же русские — защищали они город от татар или пытались отбить его у солдат Феофар-хана? Установить истину было невозможно. И это приводило Строгова в замешательство.
Он находился уже в полуверсте от города, когда меж домами сверкнула длинная струя огня, и колокольня одной из церквей рухнула, потонув в клубах пыли и пламени.
Значит, бой шел в самой Колывани? Эта мысль сразу пришла Строгову в голову. Но в таком случае русские и татары сражались уже на улицах города. Подходящее ли время искать там убежища? Не могут ли его схватить, и удастся ли ему бежать из Колывани, как он бежал из Омска?
Все эти мысли молниеносно пронеслись в его мозгу. Он заколебался и на миг остановился. Не лучше ли, пусть даже пешком, пройти на юг или на восток до какого-нибудь поселка, до Дьячинска или какого другого, и там за любую цену раздобыть себе лошадь?
Это было единственное решение, и тут же, оставив берега Оби, Михаил Строгов решительно повернул от Колывани направо.
Пальба достигла необычайной силы. Вскоре пламя перекинулось в левую часть города. Огонь пожирал целый квартал Колывани.
Михаил Строгов бежал через степь, пытаясь найти укрытие под разбросанными там и сям деревьями, как вдруг справа показался отряд татарской кавалерии.
Бежать и дальше в том же направлении Михаил Строгов уже явно не мог. Всадники быстро приближались к городу, и ему было бы трудно от них скрыться.
Возле густой купы деревьев он заметил вдруг одиноко стоявший дом, до которого можно было добежать незамеченным.
Добежать, спрятаться, попросить или в крайнем случае найти там чем подкрепить силы, — ведь он изнемогал от голода и усталости, — ничего другого Михаилу Строгову не оставалось.
И он бросился к дому, который находился от него самое большее в полуверсте. Подбегая, он понял, что это — телеграфная станция. Два провода шли от него на запад и восток, а третий тянулся в сторону Колывани.
В сложившейся обстановке станцию могли оставить, такое предположение напрашивалось само собой, — но в любом случае Михаил Строгов мог здесь укрыться и, если потребуется, дождаться ночи, а затем снова двинуться через степь, по которой рыскали татарские разведчики.
Он добежал до двери дома и с силой толкнул ее.
В зале, где отправляют телеграммы, находился лишь один человек.
Это был служащий, человек спокойный, флегматичный и, видимо, безразличный к тому, что творилось снаружи. Верный своим обязанностям, он сидел за своим окошечком и ждал посетителей, нуждающихся в его услугах.
Михаил Строгов подбежал к нему и разбитым от усталости голосом спросил:
— Какие у вас новости?
— Никаких, — с улыбкой ответил служащий.
— Это там русские сражаются с татарами?
— Говорят.
— А кто побеждает?
— Не знаю.
Такое благодушие, даже безразличие в столь жуткой обстановке казались просто невероятными.
— И провод не обрезан?
— Он обрезал между Колыванью и Красноярском, но между Колыванью и русской границей пока действует.
— Для нужд правительства?
— Для правительства, когда тому потребуется, и для гражданских лиц, когда те платят. Десять копеек слово. Когда вам будет угодно, сударь?
Михаил Строгов уже собирался ответить странному служащему, что отправлять ему нечего, что хотелось бы немного хлеба и воды, как дверь дома вдруг распахнулась.
Решив, что станция захвачена татарами, Михаил Строгов приготовился уже выпрыгнуть в окно, когда увидел, что в зале появилось всего два человека, выражением лиц менее всего походивших на татарских солдат.
Один из них держал в руке написанный карандашом текст. Обогнав второго, он ринулся к окошечку, за которым сидел безучастный служащий.
С удивлением, которое легко понять, Михаил Строгов узнал в этих двоих тех людей, о которых забыл и думать и кого никак не рассчитывал когда-либо увидеть вновь.
Это были журналисты Гарри Блаунт и Альсид Жоливэ, уже не спутники, а соперники, враги, — именно теперь, когда пришла пора действовать непосредственно на поле сражения.
Они выехали из Ишима всего через несколько часов после отъезда Михаила Строгова, и если, следуя той же дорогой, смогли раньше него оказаться у Колывани, то лишь потому, что тот три дня потерял на берегах Иртыша.
И вот теперь, став свидетелями схватки русских с татарами на подступах к городу и оставив Колывань, лишь когда сражение перешло на его улицы, они примчались на телеграфную станцию отправить в Европу свои разноречивые послания и перехватить друг у друга самые свежие сообщения.
Строгов отступил в угол, в тень, и, оставаясь незамеченным, сам мог видеть и слышать все. Без сомнения, уж сейчас-то он узнает интересные подробности и поймет, стоит или нет заходить в Колывань.
Гарри Блаунт, опередивший коллегу, захватил окошечко и уже протягивал свою корреспонденцию, в то время как Альсид Жоливэ, вопреки своим привычкам, в нетерпении переминался с ноги на ногу.
— Десять копеек слово, — объявил служащий, принимая депешу.
Гарри Блаунт выложил на столик столбик рублевых монет, на которые его собрат воззрился в явном замешательстве.
— Хорошо, — сказал служащий.
И с абсолютным хладнокровием принялся выстукивать следующее сообщение:
«„Daily Telegraph”, Лондон.
Из Колывани, Омской губернии, Сибирь, 6 августа. Схватка между русскими и татарскими войсками…»
Так как служащий читал текст во весь голос, Михаил Строгов слышал все, что отправлял в свою газету английский журналист.
«Русские войска отброшены с большими потерями. Татары в тот же день вступили в Колывань…»
Этими словами послание заканчивалось.
— Теперь моя очередь, — воскликнул Альсид Жоливэ, собиравшийся отправить послание, адресованное кузине из монмартрского предместья.
Однако это не отвечало намерениям английского корреспондента, который вовсе не желал покидать окошечка, чтобы сохранить за собой возможность передавать новости по мере их появления. Поэтому он и не подумал уступать место своему собрату.
— Но вы ведь закончили!… — вскричал Альсид Жоливэ.
— Нет, не закончил, — просто ответил Гарри Блаунт.
И продолжал дописывать строчку слов, которую затем передал служащему, и тот своим безучастным голосом прочел:
«Вначале Бог сотворил небо и землю!…»
Это Гарри Блаунт отправлял телеграммой стих из Библии — лишь бы занять время и не уступить место сопернику. Его газете это могло обойтись в тысячу рублей, но зато она получила бы информацию первой. А Франция подождет!
Легко представить себе ярость Альсида Жоливэ, который в любых других обстоятельствах оправдал бы подобные действия законами военного времени. Он даже хотел было заставить служащего принять свою депешу, оказав ей предпочтение перед посланием своего собрата.
— Право за господином, — спокойно возразил служащий, указывая на Гарри Блаунта и любезно ему улыбаясь.
И продолжал побуквенно передавать в «Daily Telegraph» первый стих священной книги.
Пока тот делал свое дело, Гарри Блаунт спокойно отошел к окну и, приложив к глазам лорнет, принялся наблюдать, что происходит в окрестностях Колывани, намереваясь пополнить передаваемую информацию.
Минуту спустя он вновь занял свое место у окошечка и добавил к своей телеграмме следующий текст:
«Пламенем охвачены две церкви. Пожар, похоже, смещается вправо. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною…»
У Альсида Жоливэ возникло дикое желание взять да и задушить почтенного корреспондента «Daily Telegraph».
Он еще раз воззвал к служащему, который, оставаясь столь же бесстрастным, ответил ему очень просто:
— Это его право, сударь, его право… по десять копеек слово.
И он отстучал следующую новость, которую принес ему Гарри Блаунт:
«Русские солдаты бегут из города. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет…»
Альсид Жоливэ буквально кипел от бешенства.
Тем временем Гарри Блаунт вернулся к окну, но на этот раз, поглощенный, надо думать, интересным зрелищем, развернувшимся у него перед глазами, задержался там чуть дольше. И тут, как только служащий кончил передавать третий стих Библии, Альсид Жоливэ без лишнего шума занял место у окошечка и, по примеру своего собрата, тихонько выложив на столик приличный столбик монет, протянул служащему свое послание, которое тот громко прочел:
«Мадлэн Жоливэ,
10, Предместье Монмартр (Париж)
Из Колывани, Омская губерния, Сибирь, 6 августа. Бегущие солдаты покидают город. Русские разбиты. Их яростно преследует татарская кавалерия…»
Возвратившись, Гарри Блаунт услышал, как Альсид Жоливэ дополняет свою телеграмму, насмешливо напевая:
Живет один чудак, Одетый во все рыжее, В Париже!…Считая неприличным смешивать священное с суетным, как осмелился его собрат, Альсид Жоливэ использовал вместо стихов Библии веселый куплет из Беранже[74].
— Ну и ну! — только и мог вымолвить Гарри Блаунт.
— Вот так-то, — отозвался Альсид Жоливэ.
А ситуация вокруг Колывани все осложнялась. Сражение приближалось, выстрелы гремели с невероятной силой.
Вдруг здание станции содрогнулось.
Снаряд пробил стену, и зал приема телеграмм застлало облако пыли.
Альсид Жоливэ как раз заканчивал писать такие стихи:
Щекастый словно яблочко, А за душой ни су…Однако остановиться, подбежать к снаряду, схватить его в охапку, выбросить, пока не взорвался, в окно и вновь вернуться к окошечку было для него делом одной секунды.
Спустя пять секунд снаряд разорвался снаружи.
Продолжая с невозмутимым хладнокровием составлять текст, Альсид Жоливэ записал:
«Снаряд шестого калибра снес стену телеграфной станции. В ожидании других того же калибра…»
У Михаила Строгова уже не было сомнений — русских от Колывани отбросили. У него оставалась одна, последняя возможность — бежать через южную степь.
Но тут у самой станции поднялась ожесточенная стрельба и градом пуль разнесло оконные стекла.
Гарри Блаунт, раненный в плечо, упал наземь.
Альсид Жоливэ собирался уже передать такой дополнительный текст: «Гарри Блаунт, корреспондент „Daily Telegraph”, падает рядом со мной, раненный осколком картечи…», когда бесстрастный телеграфист с неизменным благодушием сообщил ему:
— Провод оборван, сударь.
Затем, покинув окошечко, спокойно взял свою шляпу, почистил ее рукавом и, не переставая улыбаться, вышел через маленькую дверцу, которой Михаил Строгов прежде не замечал.
На станцию ворвались татарские солдаты, и как Михаилу Строгову, так и журналистам отступать было уже некуда.
С бесполезной депешей в руке Альсид Жоливэ еще успел броситься к лежавшему на полу Гарри Блаунту и, следуя велению своей доброй души, взвалить его на плечи с намерением бежать вместе… Но было слишком поздно!
Оба были взяты в плен. Михаил Строгов, застигнутый при попытке выпрыгнуть в окно, тоже оказался в руках татар!
Конец первой части
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава 1 ТАТАРСКИЙ ЛАГЕРЬ
В одном дне пути от Колывани, за несколько верст до селения Дьячинск, лежит обширная равнина, над которой возвышается лишь несколько больших деревьев, главным образом сосны и кедры.
В жаркое время года эту часть степи занимают обычно сибирские пастухи, и ее трав хватает для прокорма бесчисленных стад. Но в это лето напрасно было бы искать здесь хоть одного из кочевых скотоводов. И не потому, что равнина обезлюдела. Напротив, на ней царило необычайное оживление.
По всему ее пространству были разбросаны татарские шатры, здесь лагерем стоял Феофар-хан, свирепый бухарский эмир, и сюда же 7 августа привели захваченных в Колывани пленных — тех, что остались в живых после уничтожения малого русского корпуса и провели ночь на поле сражения. От двух тысяч солдат, которые оказались зажаты меж двух вражеских колонн, пришедших сразу с двух сторон — из Омска и из Томска, осталось лишь несколько сотен человек. События принимали скверный оборот, имперское правительство, видимо, терпело за уральской границей неудачи, во всяком случае временные, ибо рано или поздно русская армия все равно должна была отбросить захватнические орды. Однако сейчас нашествие достигло центра Сибири и, двигаясь через охваченный мятежом край, могло распространяться либо на западные, либо на восточные губернии. Связь Иркутска с Европой оказалась полностью прерванной. Если войска с Амура или из Якутской области не подоспеют вовремя и не поддержат его, эта столица Азиатской России, с ее слишком малыми силами, попадет в руки татар и, прежде чем ее успеют освободить, Великий князь, брат императора, станет жертвой мести Ивана Огарева.
Как чувствовал себя Михаил Строгов? Дрогнул ли он, наконец, под тяжестью стольких испытаний? Считал ли себя побежденным чередой неудач, которые, начиная с Ишима, становились все более тяжкими? Считал ли партию проигранной, миссию проваленной, а наказ невыполнимым?
Михаил Строгов был одним из тех людей, остановить которых может только смерть. А он был жив, его даже не ранило, письмо императора по-прежнему находилось при нем, его инкогнито не раскрыто. Правда, он оказался в числе тех пленников, кого татары волокли с собой как презренный скот; однако, двигаясь к Томску, он тем самым приближался и к Иркутску. Наконец, он все еще опережал Ивана Огарева.
«Я доберусь!» — твердил он себе.
И начиная с Колывани весь смысл его жизни сосредоточился на одной-единственной мысли: вновь обрести свободу! Как ускользнуть от солдат эмира? В нужный момент он найдет способ.
Лагерь Феофара являл собой яркое зрелище. Множество шатров из кожи, войлока или шелковых тканей сверкало на солнце. Высокие султаны, венчавшие их остроконечные верхушки, покачивались среди многоцветных флажков, знамен и штандартов. Самые богатые из этих шатров принадлежали шейхам и ходжам[75] — первым лицам ханства. Особый штандарт, украшенный конским хвостом, с древком, выступавшим из целой связки искусно переплетенных красных и белых жезлов, указывал на высокое положение татарских вождей. А дальше, насколько хватал глаз, равнину покрывали тысячи туркменских шатров, называемых юртами, привезенных на верблюжьих горбах.
В лагере находилось самое малое сто пятьдесят тысяч солдат — пехотинцев и конников, собранных аламами[76]. Среди них выделялись прежде всего таджики — главные представители Туркестана[77] — с правильными чертами лица, белой кожей, хорошим ростом, с черными глазами и волосами; таджики составляли ядро татарской армии, и их ханства — Кокандское и Кундузское[78] — поставляли почти такой же контингент войск, что и Бухара. Кроме таджиков здесь встречались особые образцы разных других народов, населяющих Туркестан или смежные с ним страны. Среди них узбеки — низкорослые, рыжебородые, похожие на тех, что бросились в погоню за Михаилом Строговым; киргизы с плоским, как у калмыков, лицом, носившие кольчужные халаты, вооруженные одни — копьем, луком и стрелами азиатского изготовления, другие — саблями, кремневыми ружьями и «чаканами» — маленькими топорами на короткой ручке, раны от которых всегда смертельны. Были здесь и монголы — среднего роста, с черными косами, висевшими вдоль спины, с круглыми бронзовыми лицами, живыми, глубоко посаженными глазами, редкой бородой, в халатах из синей китайки, отделанных черным мехом и подхваченных кожаными поясами с серебряными застежками; в сапогах с яркими галунами и в шелковых, отороченных мехом малахаях с тремя лентами, болтавшимися позади. Наконец, встречались тут и афганцы с темно-коричневой кожей, и арабы, сохранившие изначальный тип красивых семитских племен, и туркмены с узкими, словно лишенными век глазами. Все эти народы оказались под знаменем эмира, знаменем поджигателей и разрушителей.
Наряду с вольнонаемными солдатами насчитывалось некоторое количество солдат-рабов, главным образом персов, под командованием офицеров того же происхождения, и в армии Феофар-хана они были отнюдь не из числа презираемых.
Если добавить к этому перечню еще и слуг-евреев в подпоясанных веревкой халатах, с камилавками из темного драпа вместо запретных тюрбанов на голове, сотню-другую «каландеров» — богомольных нищих в рваном тряпье, прикрытом леопардовой шкурой, — то вы получите почти полное представление об этих огромных разноплеменных толпах, объединенных под общим названием татарской армии.
Из собранных солдат пятьдесят тысяч были верховые, и лошади их не уступали в разнообразии людям. Среди этих животных, по десятеро привязанных к двум параллельно натянутым веревкам, с их подвязанными хвостами и крупом, накрытым сеткой из черного шелка, выделялись туркменские кони — тонконогие, с вытянутым туловищем, блестящей шерстью и благородной осанкой; узбекские — скаковые; кокандские, которые, кроме всадника, несут на себе еще два шатра и кухонное снаряжение; киргизские — светлой шерсти, пришедшие с берегов Эмбы, где их ловят «арканом», татарским лассо, — и еще много иных сородичей из смешанных рас, более низкой породы.
Вьючные животные насчитывались тысячами. Тут были и низкорослые, но хорошо сложенные верблюды, с длинной шерстью и густой, ниспадавшей на шею гривой, — скотина послушная, запрягать которую куда легче, чем дромадеров; и одногорбые «нары» с ярко-рыжей шерстью, завивающейся в локоны; и наконец, ослы, злые в работе, чье весьма ценное мясо татары употребляют в пищу.
Над всем этим скоплением людей и животных, над бескрайней россыпью шатров широко раскинулись кроны кедров и сосен, отбрасывая прохладную тень, местами разорванную солнечными лучами. Невозможно представить ничего живописнее этой картины, для изображения которой самый смелый колорист очень скоро исчерпал бы все краски своей палитры.
Когда пленные из-под Колывани оказались перед шатрами Феофар-хана и главных сановников ханства, в лагере забили барабаны, загудели трубы. К этим и без того жутким звукам присоединилась пронзительная пальба из мушкетов и более низкий гул пушек четвертого и шестого калибра, составлявших артиллерию эмира.
Стоянка эмира была чисто военной. Гаремы его и его союзников — то есть их гражданское жилье — находились в Томске, теперь уже захваченном татарами.
После ухода из лагеря резиденцией эмира должен был стать Томск, — до поры, пока эмир не подчинил бы себе наконец столицу Восточной Сибири.
Шатер Феофар-хана господствовал над шатрами соседей. Его покрывали широкие складки блестящей шелковой ткани, подхваченной вервием с золотыми кистями, а венчали пышные султаны, которыми ветер играл, словно веерами; шатер занимал центр обширной поляны, окруженный занавесом из великолепных берез и высоченных сосен. Перед шатром, на лакированном и инкрустированном драгоценными камнями столе была раскрыта священная книга Коран; ее страницы из тончайшего листового золота были покрыты изящной гравировкой. Наверху полоскалось татарское знамя, украшенное четырехчастным гербом эмира.
Вокруг поляны полукругом выстроились шатры главных сановников Бухары: главного конюшего, имевшего право сопровождать эмира до самого въезда во дворец; главного сокольничего; «хуш-беги» — хранителя ханской печати; «топчи-баши» — командующего артиллерией; «ходжи» — главного советника, удостаиваемого поцелуя принца и права появляться перед ним с расстегнутым поясом; «шейх-уль-ислама» — главы законоведов и представителя священников; «кази-аскева», который в отсутствие эмира разбирает все споры, возникающие меж военными чинами, и, наконец, главного астролога, чье дело — обращаться к звездам за советом всякий раз, как только хан задумает сменить место своего пребывания.
Когда в лагерь привели пленных, эмир находился в своем шатре. Наружу он не показался. И разумеется, к счастью. Любое его слово или жест могли бы оказаться сигналом к кровавой расправе. Но он замкнулся в одиночестве, которое и составляет отчасти величие восточных королей. Тот, кто не показывается людям, вызывает у них восхищение, а пуще всего — страх.
Для пленников должны были отгородить место, где им, терпевшим скверное обращение и полуголодное существование, страдавшим от капризов местного климата, оставалось ожидать волеизъявления Феофар-хана.
Самым послушным, если не самым терпеливым из них, был, конечно, Михаил Строгов. Он шел, куда его вели, ведь вели его туда, куда он и сам стремился, да еще в условиях такой безопасности, о какой на этом пути от Колывани до Томска ему — будь он свободен — нечего было и мечтать. Бежать, не дойдя до этого города — значило обречь себя на риск попасть в руки дозорных, сновавших по степи. Восточная граница уже захваченных татарами земель располагалась не далее восемьдесят второго меридиана, проходящего через Томск. Стало быть, перейдя этот меридиан, Михаил Строгов мог уже оказаться за пределами вражеских зон и без опасения пересечь Енисей и, прежде чем губернию захватит Феофар-хан, достичь Красноярска.
«Как только я попаду в Томск, — твердил он, подавляя приступы нетерпения, которыми не всегда мог управлять, — я в считанные минуты выберусь за передовые посты, и тех двенадцати часов, что я выиграю у Феофар-хана и Огарева, мне хватит, чтобы попасть в Иркутск раньше них!»
Чего Михаил Строгов и впрямь боялся больше всего, и не без причин, так это прибытия в татарский лагерь Ивана Огарева. Помимо опасности быть узнанным он каким-то чутьем сознавал, что именно этого предателя важно было опередить. Он понимал также, что соединение войск Ивана Огарева с войсками Феофар-хана довело бы численность захватчиков до того предела, когда их объединенная армия всей своей мощью двинулась бы на столицу Восточной Сибири. Поэтому он то и дело прислушивался, не зазвучат ли фанфары, возвещая прибытие первого заместителя эмира.
С этой мыслью связывалось и воспоминание о матери, которую задержали в Омске, а также о Наде, которую увезли в лодках по Иртышу, такой же пленницей, как и Марфа Строгова! И он бессилен им помочь! Увидит ли он их когда-нибудь? От этого вопроса, на который он не смел ответить, у него мучительно сжималось сердце. Среди прочих пленников привели в татарский лагерь и Гарри Блаунта с Альсидом Жоливэ. Михаил Строгов — их бывший спутник, захваченный вместе с ними на телеграфной станции, знал, что корреспондентов, как и его, держали за той же загородкой, охранявшейся множеством часовых, но вовсе не пытался к ним подойти. Его мало интересовало, по крайней мере сейчас, что могли они думать о нем после случившегося на почтовой станции в Ишиме. К тому же он хотел быть сам по себе, чтобы при случае действовать независимо. Поэтому и держался в стороне.
С того момента, как раненый англичанин упал у его ног, Альсид Жоливэ заботился о нем как мог. На переходе от Колывани до лагеря, то есть в течение многочасового марша, Гарри Блаунту, опиравшемуся на руку своего соперника, удалось не отстать от колонны пленных. Вначале он хотел было потребовать к себе, как к английскому подданному, особого отношения, но для варваров, на все отвечавших лишь ударом копья или сабли, подданство не имело никакого значения. И корреспонденту «Daily Telegraph» пришлось разделить общую судьбу, а свое требование и получение сатисфакции за подобное обращение отложить на потом. Так или иначе переход этот стоил ему тяжких мучений — он жестоко страдал от раны и без поддержки Альсида Жоливэ, возможно, не дошел бы до лагеря.
Альсид Жоливэ, никогда не изменявший своей практической философии, физически и морально поддерживал своего собрата всеми доступными средствами. Когда он увидел, что их окончательно упрятали за загородку, его первой заботой было обследовать рану Гарри Блаунта. Он очень умело стянул с него верхнюю одежду и обнаружил, что плечо было лишь слегка задето картечью.
— Ничего страшного, — объявил он. — Пустяковая царапина! Две-три перевязки, дорогой собрат, — и раны как не бывало!
— А эти перевязки?… — спросил Гарри Блаунт.
— Я вам их сделаю сам!
— Вы что, немножко врач?
— Все французы немножко врачи!
И в подкрепление своих слов Альсид Жоливэ, разорвав носовой платок, из одного куска надергал корпию, из другого сделал тампоны. Затем набрал воды из колодца, оказавшегося внутри ограды, промыл рану, к великому счастью несерьезную, и весьма искусно наложил на плечо Гарри Блаунта смоченную ткань.
— Я лечу вас водой, — объявил он. — Эта жидкость, помимо прочих свойств, — самое действенное болеутоляющее при лечении ран, к которому в наше время прибегают чаще всего. Чтобы сделать это открытие, медикам потребовалось шесть тысяч лет! Да! Шесть тысяч — если слегка округлить!
— Благодарю вас, господин Жоливэ, — ответил Гарри Блаунт, вытягиваясь на подстилке из сухих листьев, которую его спутник устроил в тени березы.
— Э, не за что! Вы на моем месте поступили бы так же!
— Вот уж не знаю… — с некоторой наивностью ответил Гарри Блаунт.
— А вы шутник, однако! Да ведь все англичане великодушны!
— Оно конечно, но французы?…
— Ну что ж, французы добры, даже глупы, если угодно! Но зато они французы! Однако хватит об этом, и вообще, поверьте мне хоть сейчас, довольно разговоров. Вам совершенно необходимо отдохнуть.
Но Гарри Блаунту молчать вовсе не хотелось. Если раненому, из предосторожности, и следовало подумать об отдыхе, то корреспонденту «Daily Telegraph» терять собеседника было немыслимо.
— Господин Жоливэ, — спросил он, — как вы думаете, наши последние телеграммы успели пересечь границу России?
— А почему бы нет? — ответил Альсид Жоливэ. — Уверяю вас, как раз сейчас моя счастливая кузина уже знает, что ей думать насчет драмы Колывани!
— А в каком количестве экземпляров тиражирует эти послания ваша кузина? — спросил Гарри Блаунт, впервые задав этот вопрос в лоб своему собрату.
— Ладно уж! — рассмеялся в ответ Альсид Жоливэ. — Моя кузина — особа весьма скромная и не любит, когда о ней говорят. Она пришла бы в отчаяние, если бы вспугнула сон, в котором вы так нуждаетесь.
— Не хочу я спать, — возразил англичанин. — А что должна думать ваша кузина о российских делах?
— Что покамест они оставляют желать лучшего. А вообще — о чем речь! Могущества правительству Москвы не занимать, всерьез о нашествии варваров ему беспокоиться нечего, и Сибирь от него не уйдет.
— Чрезмерное тщеславие сгубило не одну великую империю, — возразил Гарри Блаунт, не чуждый известной «английской» ревности касательно русских притязаний в Центральной Азии.
— О! Ни слова о политике! — воскликнул Альсид Жоливэ. — Медицинским факультетом это запрещено! Для ран в плечо нет ничего хуже!… Разве что это нагонит на вас сон!
— Тогда поговорим о том, что нам предстоит сделать, — сменил тему Гарри Блаунт. — Господин Жоливэ, я вовсе не намерен оставаться вечным пленником татар.
— Равно как и я, черт побери!
— Не попробовать ли при первой возможности бежать?
— Да, если нет другого средства обрести свободу.
— А вы знаете другое? — спросил Гарри Блаунт, устремив взгляд на своего спутника.
— Разумеется, знаю! Мы не являемся воюющей стороной, мы нейтралы, и мы заявим протест!
— Этому тупице Феофар-хану?
— Нет, ему таких вещей не понять, — ответил Альсид Жоливэ, — но его первому помощнику Ивану Огареву.
— Да ведь он мерзавец!
— Конечно, но этот мерзавец — русский. Он знает, что с правами человека не шутят, и задерживать нас у него нет никакого интереса, даже наоборот. Хотя обращаться к этому господину с просьбой мне не очень улыбается!
— Но этого господина нет в лагере, по крайней мере, я его тут не видел, — заметил Гарри Блаунт.
— Появится. Это уж непременно. Ему нужно соединиться с эмиром. Сибирь теперь разрезана надвое, и, чтобы двинуться на Иркутск, армия Феофар-хана ждет, надо думать, только его.
— А что мы станем делать, получив свободу?
— Получив свободу, мы продолжим нашу кампанию и будем следовать за татарами до тех пор, пока события не позволят нам перейти в противоположный лагерь. Нельзя же, черт возьми, бросать партию! Мы ведь только начинаем. Вам, дорогой собрат, уже повезло получить рану на службе у «Daily Telegraph», тогда как мне пострадать на службе у кузины еще не довелось. Ага, еще немного… Ну, вот и все, — прошептал Альсид Жоливэ, — вот он уже и засыпает! Несколько часов сна и несколько компрессов на свежей воде — этого вполне хватит, чтобы поставить на ноги любого англичанина. Эти люди сделаны из листового железа!
И пока Гарри Блаунт отдыхал, Альсид Жоливэ бодрствовал рядышком, достав записную книжку и заполняя ее записями, полный, однако, решимости поделиться ими с собратом, для вящего удовольствия читателей «Daily Telegraph». Происшедшие события сблизили журналистов. У них уже не было повода ревновать друг к другу.
Таким вот образом — то, чего больше всего боялся Михаил Строгов, оказалось предметом живейшей заинтересованности обоих журналистов. Появление Ивана Огарева явно могло пойти им на пользу, ведь как только их признают английским и французским журналистами, их скорее всего отпустят на свободу. Первый заместитель эмира сумеет образумить Феофара, иначе тот непременно обошелся бы с журналистами как с простыми шпионами. Стало быть, интересы Альсида Жоливэ и Гарри Блаунта оказались противоположны интересам Михаила Строгова. Тот правильно оценил сложившуюся ситуацию, и это оказалось лишним поводом избегать всякой близости с прежними попутчиками. И теперь он старался не попадаться им на глаза.
Прошло четыре дня, но все оставалось по-прежнему. До пленников не доходило никаких известий о снятии татарского лагеря с места. За ними строго следили. Невозможно было выйти за оцепление, состоявшее из пехотинцев и конников, которые сторожили их денно и нощно. Пищи, что они получали, хватало едва-едва. Дважды в сутки им бросали по куску овечьих потрохов, зажаренных на углях, или несколько порций сыра под названием «крут», изготовляемого из кислого овечьего молока; после того как его вымачивают в кобыльем молоке, оно сквашивается, и получается киргизское блюдо, что обычно зовут «кумысом». И это все. Стоит добавить также, что погода наступила отвратительная. В атмосфере произошли резкие потрясения, приведшие к шквалистым ветрам пополам с дождями. Несчастные, лишенные какого-либо укрытия, вынуждены были терпеть эту гнилую непогодь под открытым небом, без надежд на смягчение суровых лишений. Несколько раненых, женщин и детей умерло, и, так как охрана не удостоила их погребения, зарывать трупы пленникам пришлось самим.
Во время этих жестоких испытаний Альсид Жоливэ и Михаил Строгов, каждый со своей стороны, буквально разрывались на части. Они старались помочь окружающим, чем только могли. Пострадав меньше других, сохранив здоровье и силы, они держались стойко и своими советами и заботами сумели быть полезными измученным и отчаявшимся людям.
Как долго это могло продолжаться? Не решил ли Феофар-хан, довольный своими первыми успехами, повременить с походом на Иркутск? Такая вероятность существовала, однако неожиданно все изменилось. Событие, которого так желали Альсид Жоливэ и Гарри Блаунт и так опасался Михаил Строгов, произошло утром 12 августа.
В этот день запели трубы, забили барабаны, загремели залпы. Над дорогой со стороны Колывани вздымалось огромное облако пыли.
В сопровождении многотысячного войска Иван Огарев входил в татарский лагерь.
Глава 2 ПОЗИЦИЯ АЛЬСИДА ЖОЛИВЭ
Иван Огарев привел эмиру целый армейский корпус. Эти кавалеристы и пехотинцы составляли часть той колонны, которая захватила Омск. Так и не овладев верхним городом, где — как все помнят — нашли укрытие губернатор и гарнизон, Иван Огарев решил проследовать дальше, не желая откладывать действий, Целью которых было покорение Восточной Сибири. В Омске он оставил достаточный гарнизон. А сам во главе своих орд, усиленных по дороге отрядами победителей под Колыванью, прибыл на соединение с армией Феофара.
Солдаты Ивана Огарева остановились у передовых постов лагеря. Приказа расположиться биваком не последовало — командующий решил, очевидно, не делать остановки, но продолжать путь вперед и в кратчайший срок войти в Томск, очень важный город, самой природой предназначенный стать центром дальнейших операций.
Вместе с солдатами Иван Огарев привел и конвой с российскими и сибирскими пленниками, захваченными в Омске или в Колывани. Этих несчастных не отвели за ограждение, слишком тесное и для прежних пленников, так что им пришлось остаться возле передовых постов, без крова и почти без пищи. Какую судьбу уготовил этим людям Феофар-хан? Собирался ли он поселить их в Томске или частично извести, выбрав какой-нибудь привычный для татарских властителей способ кровавой расплаты? Свои намерения своенравный эмир хранил в секрете.
По пятам за этим армейским корпусом из Омска и Колывани притащилась и огромная толпа нищих, мародеров, торговцев и цыган, что всегда образует арьергард любой армии на марше. Весь этот сброд жил за счет захваченных земель, и после него грабить было уже нечего. Отсюда и необходимость нового броска вперед — хотя бы для того, чтобы обеспечить питанием экспедиционные войска. Вся местность между Иртышом и Обью, уже полностью разоренная, не могла предложить ровно ничего. Татары оставляли за собой настоящую пустыню, и пересечь ее стоило бы русским тяжких трудов.
Среди бродяг, что сбежались из западных губерний, находилась и та труппа цыган, которая ехала вместе с Михаилом Строговым до Перми. Была здесь и Сангарра. Эта шпионка — дикарка, беззаветно преданная Ивану Огареву, — не оставляла своего господина. Вдвоем они плели свои интриги еще в самой России, в Нижегородской губернии. Перебравшись за Урал, они расстались всего на несколько дней. Иван Огарев поспешил в Ишим, в то время как Сангарра и ее труппа направились в Омск через южные земли Тобольской губернии.
Легко представить себе, какую помощь оказывала эта женщина Ивану Огареву. Через своих цыганок она проникала всюду, слушая и передавая ему все услышанное. Сангарра держала Ивана Огарева в курсе всего, что творилось даже в глубине захваченных провинций. Это были сотни глаз и ушей, всегда настороже в интересах его дела. К тому же он щедро оплачивал их шпионские услуги, извлекая из них большую пользу.
Когда-то русский офицер спас Сангарру, пойманную с поличным в очень серьезном деле. Она не забыла этого и отдалась ему душой и телом. А Иван Огарев, встав на путь предательства, тотчас сообразил, какую из этой женщины можно извлечь выгоду. Что бы он ни повелел, Сангарра неукоснительно исполняла. Какой-то необъяснимый инстинкт, еще более властный, чем чувство признательности, подвиг ее сделаться рабой этого человека, к которому она привязалась с первых месяцев его ссылки в Сибирь. Став его наперсницей и сообщницей, Сангарра, не имевшая ни родины, ни семьи, с радостью отдала свою бродячую жизнь на службу захватчикам, которых Иван Огарев подбил на завоевание Сибири. С неистощимой хитростью, свойственной ее расе, сочеталась в ее натуре свирепая энергия, не знавшая ни снисхождения, ни жалости. Это была дикарка, достойная делить вигвам какого-нибудь апачи[79]. Прибыв в Омск, Сангарра вместе со своими цыганками вновь присоединилась к Ивану Огареву и больше не покидала его. Обстоятельства встречи Михаила и Марфы Строговой были ей известны. Она знала и разделяла опасения Ивана Огарева насчет возможного проезда царского гонца. Доведись ей иметь дело с Марфой Строговой, Сангарра, с ее изощренностью краснокожей женщины, не остановилась бы ни перед какими пытками — лишь бы вырвать у пленницы нужную тайну. Но еще не пришел час, когда Иван Огарев собирался заставить старую сибирячку заговорить. Сангарре пришлось ждать, и она ждала, не спуская глаз с той, за кем незаметно шпионила, подстерегая малейшие жесты, случайные высказывания, следя за ней денно и нощно в надежде услышать, как сорвется с ее уст слово «сын», — однако — увы! — Марфа Строгова оставалась неизменно бесстрастной.
Тем временем с первым звуком фанфар командующий артиллерией и главный конюший эмира в сопровождении блистательного эскорта узбекских конников направились к аванпостам навстречу Ивану Огареву.
Приблизившись на подобающее расстояние, они оказали ему высочайшие почести и пригласили следовать за ними к шатру Феофар-хана.
Иван Огарев, как всегда невозмутимый, холодно ответил на почтительные излияния сановников. Одет он был очень просто, но при этом, из какого-то бесстыдного молодечества, по- прежнему носил форму русского офицера.
Когда он уже тронул коня, собираясь пересечь лагерное ограждение, к нему, проскользнув меж всадников эскорта, приблизилась Сангарра и замерла в ожидании.
— Ничего нового? — спросил Иван Огарев.
— Ничего.
— Потерпи еще.
— Близок ли час, когда ты заставишь старуху заговорить?
— Близок, Сангарра.
— И когда же старуха заговорит?
— Когда мы будем в Томске.
— А мы там будем?…
— Через три дня.
Большие черные глаза Сангарры ярко сверкнули, и она неспешно удалилась.
Иван Огарев пришпорил коня и в сопровождении своего штаба, состоявшего из офицеров-татар, направился к шатру эмира.
Феофар-хан ждал своего первого заместителя. Совет, куда входили хранитель монаршьей печати, ходжа и несколько высоких сановников, занял в шатре свои места.
Иван Огарев спешился, вошел в шатер и оказался перед эмиром.
Феофар-хан был мужчина сорока лет, высокого роста, весьма бледный, со злобным взглядом и свирепым выражением лица. Черная, завитая борода рядами спускалась ему на грудь. В своем военном одеянии — кольчуге из золотых и серебряных колец, с перевязью, блиставшей драгоценными каменьями, и с кривыми, как ятаган[80], сабельными ножнами в оправе из ослепительных бриллиантов, в сапогах с золотыми шпорами и в шлеме с султаном, искрившимся россыпью огней, — Феофар-хан являл взору не столько внушительный, сколько странный вид татарского Сарданапала[81], безраздельного владыки, который по собственному усмотрению распоряжается жизнью и состоянием своих подданных; чья власть не имеет пределов и кому, в силу особой привилегии, дан в Бухаре титул эмира.
При появлении Ивана Огарева высокие сановники остались сидеть на своих подушках с золотыми гирляндами; однако Феофар-хан, возлежавший на роскошном диване в глубине шатра, где землю скрывал густой ворс бухарского ковра, поднялся навстречу.
Подойдя к Ивану Огареву, эмир запечатлел на его щеке поцелуй, в значении которого невозможно было ошибиться. Этот поцелуй возвышал первого заместителя до главного лица в совете и временно ставил его над ходжой.
Затем, обращаясь к Ивану Огареву, Феофар произнес:
— Мне не к чему задавать тебе вопросы. Говори, Иван. Ты найдешь здесь уши, готовые выслушать тебя.
— Такшир[82], — отвечал Иван Огарев, — вот что хочу я поведать тебе.
Иван Огарев выражался по-татарски и украшал свои фразы пышными оборотами, отличающими речь жителей Востока.
— Такшир, теперь не время бесполезных слов. То, чего я достиг во главе твоих войск, тебе известно. Рубежи Ишима и Иртыша ныне под нашей властью, и туркменские всадники могут купать своих лошадей в их водах, отныне ставших татарскими. Киргизские орды поднялись по слову Феофар-хана, так что главная сибирская дорога от Ишима до Томска принадлежит тебе. Теперь ты можешь посылать свои войска как на восток, где солнце всходит, так и на запад, где оно заходит.
— А если я отправлюсь вместе с солнцем? — спросил эмир, слушавший с совершенно бесстрастным лицом.
— Отправиться вместе с солнцем, — ответствовал Иван Огарев, — это значит направиться в сторону Европы, то есть быстро покорить сибирские края от Тобольска до Уральских гор.
— А если я двинусь навстречу небесному светилу?
— Двинуться навстречу — значит подчинить татарскому владычеству вместе с Иркутском еще и богатейшие земли Центральной Азии.
— А как же армии петербургского султана? — спросил Феофар-хан, обозначив этим странным титулом императора России.
— Его тебе нечего бояться — ни на восходе, ни на закате, — ответил Иван Огарев. — Нападение было внезапным, и прежде чем русская армия сможет прийти на помощь, Иркутск или Тобольск уже падут к твоим ногам. Царские войска раздавлены у Колывани, и так они будут раздавлены везде, где твои солдаты вступят в бой с безрассудными солдатами Запада.
— А какую мысль подсказывает тебе твоя преданность татарскому делу? — помолчав немного, спросил эмир.
— Моя мысль, — живо отозвался Иван Огарев, — идти навстречу солнцу! Отдать травы восточных степей на съедение туркменским коням! Взять Иркутск, столицу восточных владений царя, а вместе с ней — заложника, захват которого стоит целой страны. Пусть, за отсутствием царя, в твои руки попадет Великий князь, его брат.
В этом заключалась главная цель, которую преследовал Иван Огарев. Слушая эти речи, можно было подумать, что перед вами один из жестоких потомков Степана Разина, знаменитого разбойника, опустошавшего в XVII веке Южную Россию. Захватить Великого князя и беспощадно с ним расправиться — значило бы полностью удовлетворить свою ненависть! Кроме того, взятие Иркутска вело к незамедлительному переходу под татарское господство всей Восточной Сибири.
— Так тому и быть, Иван, — ответил Феофар.
— Каковы твои повеления, такшир?
— Уже сегодня наша штаб-квартира будет перенесена в Томск.
Иван Огарев поклонился и, сопровождаемый хуш-беги, удалился — распорядиться о выполнении приказов эмира.
Когда он уже собирался сесть на коня, чтобы вернуться к аванпостам, неподалеку, в той части лагеря, которая была отведена для пленных, поднялась неожиданно какая-то суматоха. Послышались крики, прогремело два или три выстрела. Что это — попытка бунта или побега, которую следовало незамедлительно пресечь?
Иван Огарев и хуш-беги сделали несколько шагов вперед, и почти тут же перед ними появились два человека, которых солдатам не удалось удержать.
Хуш-беги, не дожидаясь разъяснений, сделал жест, означавший предание смерти, и головы двух пленников должны были вот-вот скатиться наземь, но Иван Огарев произнес несколько слов, и занесенные сабли замерли.
Русский — он понял, что эти пленники были иностранцы, и приказал подвести их ближе.
Это были Гарри Блаунт и Альсид Жоливэ.
Как только Иван Огарев прибыл в лагерь, они потребовали, чтобы их к нему провели. Солдаты отказались. Отсюда и драка, и попытка побега, выстрелы, которые лишь по счастливой случайности не задели журналистов. Однако — не вмешайся первый заместитель эмира — их казнь была бы неминуема.
Какое-то время Иван Огарев разглядывал пленников, которые были ему совершенно незнакомы. Они, как все помнят, присутствовали при известной сцене на ишимской почтовой станции, когда Иван Огарев ударил Михаила Строгова; однако на этих путников, находившихся в тот момент в общем зале, он тогда никакого внимания не обратил.
Гарри Блаунт и Альсид Жоливэ, напротив, сразу же его узнали, и француз вполголоса произнес:
— Вот те на! Похоже, полковник Огарев и ишимский грубиян — одно и то же лицо!
Затем, на ухо своему спутнику, он добавил:
— Изложите ему наше дело, Блаунт. Вы окажете мне услугу. Этот русский полковник в татарском стане вызывает у меня омерзение, и, хотя благодаря ему голова моя все еще цела, глаза мои, боюсь, с презрением отвернутся, не захотят его лицезреть!
И, сказав это, Альсид Жоливэ изобразил полное, высокомерное безразличие.
Понял ли Иван Огарев, насколько оскорбительной была для него позиция, занятая пленником? Во всяком случае, он никак этого не обнаружил.
— Кто вы, господа? — спросил он по-русски и очень холодно, но без привычной для него грубости.
— Корреспонденты из английской и французской газет, — лаконично ответил Гарри Блаунт.
— У вас, конечно, есть бумаги, удостоверяющие личность?
— Вот письма, аккредитующие нас в России при английской и французской государственных канцеляриях.
Иван Огарев взял письма, которые протягивал ему Гарри Блаунт, и внимательно их прочел. Потом спросил:
— Вы требуете разрешения следить за нашими военными операциями в Сибири?
— Мы требуем свободы, вот и все, — сухо ответил английский корреспондент.
— Вы свободны, господа, — объявил Иван Огарев. — И я с интересом почитал бы ваши заметки в «Daily Telegraph».
— Это будет вам стоить, сударь, — сообщил Гарри Блаунт с самым невозмутимым равнодушием, — шесть пенсов номер плюс почтовые расходы.
После чего он повернулся к своему компаньону, который, по всей видимости, полностью одобрил его ответ.
Иван Огарев, не моргнув глазом, сел на коня, занял место в голове своего эскорта и вскоре исчез в облаке пыли.
— Итак, господин Жоливэ, что вы думаете о полковнике Иване Огареве, главнокомандующем татарскими войсками? — спросил Гарри Блаунт.
— Я думаю, дорогой собрат, — с улыбкой ответил Альсид Жоливэ, — что у этого хуш-беги получился очень красивый жест, когда он приказывал отсечь нам головы!
Как бы там ни было и каков бы ни был мотив, побудивший Ивана Огарева проявить к журналистам сдержанность, оба они были теперь свободны и могли посещать театр военных действий по своему усмотрению. А намерение их состояло как раз в том, чтобы не бросать начатую партию. Антипатия, которую они некогда испытывали друг к другу, уступила место искренней дружбе. После того как обстоятельства сблизили их, они уже не думали расставаться. Мелочное соперничество утратило всякий смысл. Гарри Блаунт уже не мог забыть, чем он обязан своему спутнику, а тот вовсе не хотел об этом вспоминать. К тому же, облегчая репортерскую деятельность, это сближение должно было обернуться и к пользе читателей.
— А теперь, — спросил Гарри Блаунт, — что нам делать с нашей свободой?
— Злоупотребить ею, черт возьми, — ответил Альсид Жоливэ, — и преспокойно отправиться в Томск — поглядеть, что там происходит.
— До той поры — и, я надеюсь, очень близкой — когда мы сможем присоединиться к какому-нибудь русскому корпусу, не так ли?…
— Как скажете, дорогой Блаунт! Не хотелось бы слишком отатариться! Пока что благую роль играют в этой жизни те, кто своим оружием служит цивилизации. Ведь очевидно, что для народов Центральной Азии это нашествие обернулось бы одними потерями без какой-либо пользы, но русские, слава Богу, сумеют его остановить. Это лишь вопрос времени!
Между тем прибытие Ивана Огарева, благодаря которому Альсид Жоливэ и Гарри Блаунт только что обрели свободу, представляло, напротив, серьезную опасность для Михаила Строгова. Стоило случаю свести царского гонца с Иваном Огаревым, как тот непременно узнал бы в нем путника, с которым грубо обошелся на станции в Ишиме, и, хотя Михаил Строгов не ответил тогда на оскорбление, как поступил бы в любых иных обстоятельствах, это все равно привлекло бы к нему внимание — и очень затруднило бы осуществление его планов.
В этом состояла опасная сторона присутствия Ивана Огарева. Благоприятным же следствием его приезда был приказ эмира в тот же день сняться с места и перенести штаб-квартиру в Томск.
Это отвечало самому страстному желанию Михаила Строгова. Его намерение состояло, как известно, в том, чтобы добраться до Томска в общей толпе с другими пленниками, не рискуя попасть в руки лазутчиков, которыми кишели подступы к этому важному городу. Опасаясь, однако, что Иван Огарев его опознает, он задумался: не стоит ли отказаться от первоначального плана и не попытаться ли по дороге бежать.
По всей вероятности, Михаил Строгов собирался уже остановиться на последнем решении, когда узнал, что Феофар-хан и Иван Огарев во главе нескольких тысяч всадников отправились в город.
«Что ж, подожду, — сказал он себе, — разве что для побега представится совсем уж исключительный случай. По эту сторону от Томска опасность неудачи слишком велика, зато потом счастливых шансов будет куда больше — ведь за несколько часов я успею миновать даже самые выдвинутые к востоку посты. Итак, еще три дня терпения — а там, да поможет мне Бог!»
И действительно, под надзором большого отряда татар, пленникам предстояло проделать трехдневный переход через степь. Ведь от города лагерь отделяло сто пятьдесят верст. Переход нетрудный для ни в чем не нуждавшихся солдат эмира, но мучительный для несчастных, ослабленных лишениями людей. Не одному трупу суждено было остаться вехой на этом отрезке сибирского тракта!
В два часа пополудни все того же 12 августа в самую жару при безоблачном небе топчи-баши отдал приказ выступать.
Альсид Жоливэ и Гарри Блаунт, купив лошадей, уже ехали по дороге в Томск, где сама логика событий собирала главных героев этой истории.
Среди пленников, приведенных Иваном Огаревым в татарский лагерь, была одна старая женщина, уже своей молчаливостью отличавшаяся от прочих женщин, разделявших ее судьбу. Ни одной жалобы не слетело с ее губ. Она казалась скульптурным изваянием боли. Эта женщина почти все время пребывала в неподвижности, и стерегли ее строже, чем остальных; она-то и была, о том, видимо, не подозревая и не думая, предметом пристального внимания цыганки Сангарры. Несмотря на возраст, ее заставляли следовать пешком за конвоем пленных, никак не снисходя к ее страданиям.
И все же, волей Провидения, рядом оказалось смелое и милосердное существо, способное понять ее и поддержать. Среди ее спутниц по несчастью одна юная девушка, выделявшаяся своей красотой, а невозмутимостью никак не уступавшая старой сибирячке, сочла, по-видимому, своим долгом заботиться о ней. Меж ними не было произнесено ни слова, но в нужный момент, когда помощь ее могла оказаться полезной, девушка всегда оказывалась рядом со старой женщиной. Первое время та принимала молчаливое участие незнакомки с некоторым недоверием. Но понемногу открытый взгляд девушки, ее сдержанность и то таинственное сочувствие, что возникает при общем горе у равно обездоленных судьбой, взяли верх над высокомерной холодностью Марфы Строговой. И не будучи с нею знакома, Надя — ибо это была она — смогла таким образом отплатить матери за те заботы, которые некогда ее сын проявлял к ней самой. Неосознанная, инстинктивная доброта внушила девушке вдвойне удачный выбор. Отдаваясь служению старухе пленнице, Надя обеспечивала своей молодости и красоте покровительство мудрого возраста. Среди толпы обездоленных и озлобленных страданием людей обе молчаливые женщины, одна из которых казалась бабкой, а вторая внучкой, внушали окружающим почтительное уважение.
После похищения при переправе через Иртыш татарскими разведчиками Надя была отвезена в Омск. Оказавшись в городе пленницей, она разделила участь всех тех, кого колонна Ивана Огарева уже полонила ранее, а значит, и участь Марфы Строговой.
Если бы не сила духа, девушка не выдержала бы двойного удара, который нанесла ей судьба. Прерванный путь и смерть Михаила Строгова отозвались в ее душе бессилием отчаяния и взрывом возмущения. После стольких успешных усилий, приближавших ее к отцу, оказаться вдруг отрезанной от него, и, возможно, навсегда, а в довершение всего потерять бесстрашного спутника, словно самим Богом ниспосланного ей, чтобы довести до цели, — она разом лишилась всего. Образ Михаила Строгова, на ее глазах сраженного копьем и утонувшего в водах Иртыша, не шел у нее из головы. Неужели такой человек и впрямь мог так просто погибнуть? Для кого же тогда Бог приберегает свои чудеса, если этот праведник, кого уверенно вела вперед благородная судьба, мог потерпеть в своем стремлении столь нелепый провал? Порой в ее душе гнев брал верх над горем. На память приходила обидная стычка в Ишиме, когда ее спутник странным образом стерпел нанесенное оскорбление. При этом воспоминании кровь вскипала в ее жилах.
«Кто же отомстит за погибшего, который уже не может отомстить за себя сам?» — задавалась она вопросом.
И в сердце своем взывала к Богу: «Господи, сделай так, чтобы это была я!»
Эх, если бы еще Михаил Строгов успел перед смертью доверить ей свою тайну, если бы, при всей своей женской, даже детской натуре, она могла довести до конца незавершенное дело брата, которого Бог не должен бы ей и дарить, коли собирался тотчас забрать назад!…
Погруженная в эти мысли, Надя — и это можно понять — оставалась словно бесчувственной даже к мучениям плена.
Вот тогда-то случай и свел ее, ничего о том не подозревавшую, с Марфой Строговой. Откуда девушке было знать, что эта старая женщина, такая же пленница, как и она сама, приходится матерью ее спутнику, который всегда был для нее только купцом Николаем Корпановым? А с другой стороны — как Марфа могла догадаться, что узы признательности связывают юную незнакомку с ее сыном?
С самого начала Надю поразило в Марфе Строговой какое-то таинственное сходство их натур, проявлявшееся в том, как каждая из них переносит удары судьбы. И стоическое безразличие старой женщины к материальным лишениям повседневной жизни, и презрение к телесным мучениям — все это Марфа могла черпать только в моральных страданиях, сходных с ее собственными. Вот что думала Надя, и она не ошибалась. Именно инстинктивное сочувствие тем горестям, которые Марфа Строгова от всех скрывала, и привлекло к ней Надю на первых порах. Такое умение переносить горе нашло живой отклик в гордой душе девушки. Она не стала предлагать Марфе своих услуг, она их оказывала. Марфе не пришлось ни отклонять их, ни принимать. В трудные моменты пути девушка оказывалась рядом и своей рукой помогала ей. В часы раздачи пищи старая женщина не двинулась бы с места, но Надя делилась с ней своей жалкой порцией, и таким вот образом все трудности этой мучительной дороги они переносили вместе. Благодаря своей юной спутнице Марфа Строгова смогла не отстать от солдат, конвоировавших толпу пленных, и избежала участи многих несчастных, которых привязывали к луке седла и волокли по дороге страданий.
— Бог да вознаградит тебя, доченька, за заботы о моей старости! — сказала как-то Марфа Строгова, и то были первые слова, которые за все это время были произнесены между спутницами.
За эти несколько дней, которые показались им долгими как столетия, старая женщина и молодая девушка должны бы, казалось, завести разговор об их общей участи. Но Марфа Строгова, из-за вполне понятной осторожности, рассказала, причем очень кратко, лишь о самой себе, ни словом не обмолвившись ни о сыне, ни о роковой встрече с ним лицом к лицу.
Надя тоже очень долго если и не молчала, то, по крайней мере, не произносила праздных слов. И все же как-то раз, почувствовав перед собою душу простую и возвышенную, не смогла удержаться и, ничего не скрывая, поведала обо всем, что произошло с ней после отъезда из Владимира — вплоть до гибели Николая Корпанова. И то, что она рассказала о своем молодом спутнике, живо заинтересовало старую сибирячку.
— Николай Корпанов! — повторила она. — Расскажи мне еще об этом Николае! Среди нынешней молодежи я знаю лишь одного человека, для которого такое поведение было бы естественным и меня бы не удивило. Его точно зовут Николай Корпанов? Ты уверена, дочка?
— А зачем бы ему обманывать меня на этот счет? — спросила Надя. — Ведь он со мной во всем был открыт и честен.
Тем не менее, движимая странным предчувствием, Марфа Строгова расспрашивала Надю еще и еще.
— Ты говорила, дочка, что он не знал страха! И ты убедила меня, что он бесстрашен.
— Да, он был бесстрашен! — ответила Надя.
«Так вел бы себя и мой сын», — повторила про себя Марфа Строгова.
И продолжила расспросы:
— Ты еще говорила, что ничто не могло его ни остановить, ни удивить, и даже силу свою он проявлял с такой нежностью, что ты видела в нем столько же сестру, сколько и брата, и что он смотрел за тобой, словно мать?
— Да, да! — согласилась Надя. — Он был для меня всем — и братом, и сестрой, и матерью!
— И львом, чтобы защищать?
— И львом, само собой!
«Это мой сын, мой сын!» — повторяла про себя старая сибирячка.
— И все же он, как ты говоришь, стерпел ужасное оскорбление на станции в Ишиме?
— Да, стерпел, — ответила Надя, потупившись.
— Неужели стерпел? — прошептала, задрожав, Марфа Строгова.
— Матушка! Матушка! — воскликнула Надя. — Не осуждайте его. Тут была какая-то тайна, тайна, в которой один Бог ему судья!
— И что же ты — в тот миг унижения, — продолжала Марфа, подняв голову и поглядев на Надю так, словно хотела проникнуть ей в самую душу, — ты стала этого Николая Корпанова презирать?
— Я не могла его понять, но почувствовала восхищение, — ответила девушка. — Он никогда не казался мне более достойным уважения!
Старая женщина секунду помолчала.
— Он был высокого роста? — спросила она.
— Очень высокого.
— И очень красив, не так ли? Да отвечай же, дочка.
— Да, очень красив, — ответила Надя, заливаясь румянцем.
— Это был мой сын! Говорю тебе — это был мой сын! — воскликнула старая женщина, обнимая Надю.
— Твой сын, — повторила ошеломленная Надя, — твой сын!
— Послушай, дитя мое, — сказала Марфа, — расскажи все до конца! У твоего спутника, друга и покровителя, была мать! Разве он никогда не говорил тебе о своей матери?
— О своей матери? — переспросила Надя. — Он говорил о своей матери, как и я о моем отце, очень часто, постоянно! Свою мать он обожал!
— Ох, Надя, Надя! Ты только что поведала мне историю моего сына, — сказала старая женщина.
И порывисто добавила:
— А разве, проезжая через Омск, он не должен был повидать ее, свою старую матушку, которую, по твоим словам, так любил?
— Нет, — ответила Надя, — нет, не должен.
— Нет? — вскричала Марфа. — Ты посмела сказать мне «нет»?
— Я сказала «нет», но мне осталось еще добавить, что по каким-то соображениям, — которые были для него превыше всего, но которых я не знаю, — Николай Корпанов вроде как должен был пересечь страну в полнейшей тайне. Для него это был вопрос жизни и смерти, даже более того — вопрос долга и чести.
— Долга, именно так — настоятельного долга, — согласилась старая сибирячка, — того долга, ради которого жертвуют всем, отказываются от всего — даже от радости зайти и поцеловать — возможно, в последний раз — свою старую мать! Все, чего ты, Надя, не знаешь и чего не знала и я сама, — теперь я это знаю! Благодаря тебе я поняла все! Но, увы, того света, которым ты осветила самый потаенный мрак моего сердца, я не могу тебе вернуть. Тайну моего сына, Надя, раз он сам ее тебе не открыл, я должна сохранить! Прости меня, Надя! За добро, которое ты для меня сделала, я не могу ответить тем же!
— Матушка, я вас ни о чем и не прошу, — ответила Надя.
Теперь старой сибирячке стало понятно все — вплоть до необъяснимого по отношению к ней поведения сына на омском постоялом дворе, в присутствии свидетелей их встречи. Конечно же спутником девушки был Михаил Строгов, и некая секретная миссия, какое-то важное послание, которое надлежало пронести через захваченную врагом страну, вынуждали его скрывать, что он — царский гонец.
«Ах, славный мой мальчик, — подумала Марфа Строгова. — Нет, я не выдам тебя, даже пытками им не вырвать у меня признания, что это тебя я видела в Омске!»
Марфа Строгова могла одним словом отблагодарить Надю за ее преданность, сообщив ей, что ее спутник, Николай Корпанов, а точнее — Михаил Строгов, не погиб в водах Иртыша, ведь она встретила его и говорила с ним через несколько дней после этого происшествия!…
Но она сдержалась, замолчала и ограничилась лишь словами ободрения:
— Не теряй надежды, дитя мое! Несчастье не вечно будет преследовать тебя! Ты повидаешь своего отца, я это предчувствую, и, быть может, тот, кто называл тебя сестрой, не погиб! Бог не может допустить, чтобы твой славный спутник погиб!… Не теряй надежды, дочка! Поступай как я! Траур, который я ношу, еще не траур по моему сыну!
Глава 3 УДАРОМ НА УДАР
В таком вот состоянии и пребывали теперь Марфа Строгова и Надя. Старая сибирячка уже все поняла, а молодая девушка если и не знала, что ее незабвенный спутник еще жив, то хотя бы выяснила, кем он является для той, кого считала отныне своей матерью, и благодарила Бога за счастливую возможность заменить пленнице потерянного сына.
Но чего ни та, ни другая знать не могли, так это того, что Михаил Строгов, захваченный под Колыванью, находится с ними в одном конвое и вместе с ними направляется в Томск.
Пленных, приведенных Иваном Огаревым, объединили с теми, кого уже держал в татарском лагере эмир. Этих несчастных — россиян и сибиряков, военных и гражданских — насчитывалось много тысяч, и их колонна растянулась на несколько верст. Тех, кого считали наиболее опасными, прикрепили наручниками к длинной цепи. Даже некоторых женщин и детей привязали или подвесили к лукам седел и безжалостно волокли по дорогам! Людей гнали вперед, словно скотину. Конники, надзиравшие за ними, заставляли их сохранять определенный порядок, и отставали лишь те, кто упал, чтобы уже не подняться.
Вследствие этого распорядка Михаил Строгов, поставленный при выходе из лагеря в первых рядах колонны, то есть среди пленников Колывани, не должен был попадаться меж пленных, приведенных в последний момент из Омска. Поэтому он не мог и предположить, что в том же конвое находятся его мать и Надя, так же как и они не подозревали о нем.
Переход от лагеря до Томска в таких условиях — под угрозой солдатских кнутов — оказался смертельным для многих и страшным для всех. Люди шли через степь по дороге, над которой после прохождения эмира с его авангардом пыль стояла столбом. Двигаться было приказано ускоренным маршем. Даже короткие остановки устраивались редко. И те сто пятьдесят верст, которые предстояло пройти под палящим солнцем, сколь быстро ни шагай, все равно казались нескончаемыми!
Совершенно бесплодная местность тянется по правому берегу Оби вплоть до подножия отрогов Саян, идущих с юга на север. Разве что чахлые и выжженные солнцем кустарники нарушают местами однообразие обширной равнины. Из-за отсутствия влаги здесь не увидишь возделанных полей. Воды не хватало прежде всего пленным — из-за тяжелых переходов их постоянно мучила жажда. Чтобы выйти к какому-нибудь притоку, пришлось бы отклониться верст на пятьдесят восточнее — к самому подножию отрогов, создающих водораздел меж бассейнами Оби и Енисея. Там течет Томь, малый приток Оби, пересекающий Томск, перед тем как раствориться в одной из могучих артерий севера. Там в изобилии вода, не страдает от засухи степь, не такая уж жаркая стоит погода. Но начальники конвоя получили жесткое предписание следовать до Томска кратчайшим путем, ибо эмир все еще опасался, как бы какая-нибудь русская колонна, появившись с севера, не ударила с фланга и не отрезала ему путь. Между тем Великий сибирский тракт, во всяком случае на отрезке между Колыванью и крохотным поселком Забедьево, проходил вдали от берегов реки Томь, но именно этим большим сибирским трактом и надо было двигаться.
Нет смысла задерживаться долее на страданиях обездоленных пленников. Многие сотни их погибли в степи, и трупам оставалось лишь ждать, пока волки, вернувшись с приходом зимы, не сожрут их забытые кости.
Подобно тому как Надя всегда была рядом, готовая прийти на помощь старой сибирячке, так и Михаил Строгов, движимый состраданием, оказывал более слабым товарищам по несчастью всяческие услуги, какие только были возможны в его положении. Подбадривал одних, поддерживал других, не щадил себя, появляясь то тут, то там, — пока копье всадника не вынуждало его вернуться на место в указанном ряду.
Почему он не пытался бежать? Потому, что окончательно решил: пускаться напрямик через степь имеет смысл лишь тогда, когда она станет для него безопасной. Он укрепился в мысли дойти до Томска «за счет эмира», и в общем был прав. Наблюдая многочисленные отряды, что проносились по обеим сторонам конвоя то на юг, то на север, он убеждался, что не успел бы пройти и двух верст, как был бы схвачен. Равнина просто кишела татарскими конниками — порой казалось, будто они появляются прямо из-под земли наподобие тех вредных насекомых, что после ливня полчищами вылезают на поверхность. Кроме того, побег в нынешних условиях оказался бы неимоверно трудным, если не невозможным. Солдаты охраны проявляли необычайную бдительность, ведь любая оплошность стоила бы им головы.
Наконец 15 августа к концу дня конвой достиг поселка Забедьево, что в тридцати верстах от Томска. В этом месте дорога подходила к берегу Томи.
Первым движением пленников было броситься в воды реки; но надсмотрщики не позволили им выйти из рядов, пока не будет разбит лагерь. Хотя в это время года течение Томи очень бурное, какой-нибудь смельчак или отчаявшийся безумец мог им воспользоваться и устроить побег; поэтому и были приняты самые строгие меры бдительности. По реке установили на якорях реквизированные в Забедьево лодки, которые образовали сплошную цепь непреодолимых препятствий. А границу лагеря, подходившую вплотную к околице поселка, охранял надежный караул.
Михаил Строгов, который с этой минуты вновь мог прийти к мысли о побеге в степь, после тщательной оценки ситуации понял, что в этих условиях задуманный план осуществить почти невозможно, и, не желая рисковать понапрасну, решил ждать.
Всю эту ночь пленникам пришлось стоять лагерем на берегу Томи. Эмир и в самом деле отложил размещение своих войск в Томске на следующий день. Открытие в этом важном городе штаб-квартиры татар было решено отметить военным праздником. Городскую крепость Феофар-хан уже занял, однако, в ожидании торжественного вступления в город, основные силы татарского войска стояли биваком под стенами Томска.
Иван Огарев оставил эмира в Томске, куда оба прибыли накануне, а сам вернулся в лагерь Забедьево. Вместе с арьергардом татарской армии он собирался выступить отсюда на следующий день. Ему приготовили дом, где бы он мог провести ночь. А на восходе солнца конники и пехотинцы должны были под его командованием двинуться к Томску, где эмир хотел принять их с пышностью, как это свойственно азиатским самодержцам.
Когда остановка была организована, пленники, изможденные тремя днями перехода и томимые нестерпимой жаждой, смогли наконец напиться и немного перевести дух.
Солнце уже село, но горизонт еще пылал в лучах заката, когда Надя, поддерживая Марфу Строгову, спустилась на берег Томи. Им долго не удавалось пробиться сквозь ряды людей, столпившихся на берегу, и лишь теперь они пришли в свой черед утолить жажду.
Старая сибирячка наклонилась над свежей струей, и Надя, зачерпнув в пригоршню воды, поднесла ее к губам Марфы. Потом освежилась и сама. Вместе с этой благотворной влагой старая женщина и юная девушка вновь обрели жизнь.
Отходя от берега, Надя, выпрямившись, вдруг застыла на месте. Из горла ее вырвался невольный крик.
В нескольких шагах от нее стоял Михаил Строгов!… Это был он!… Девушка ясно видела его лицо в последних отблесках заката!
Услышав Надин крик, Михаил Строгов вздрогнул… Но он достаточно владел собой, чтобы не произнести слова, которое могло бы его выдать.
И тут же, рядом с Надей, он узнал свою мать!…
Пораженный неожиданной встречей и боясь не совладать с собой, Михаил Строгов прикрыл рукой глаза и тотчас удалился.
Надя инстинктивно метнулась было к нему, но старая сибирячка прошептала ей на ухо:
— Не двигайся, дочка!
— Но ведь это он! — возразила Надя прерывающимся от волнения голосом. — Он жив, мама! Это он!
— Это мой сын, — ответила Марфа Строгова, — это Михаил Строгов, а я, как видишь, ни шагу не сделала ему навстречу! Следуй моему примеру, дочка!
Михаил Строгов пережил одно из самых сильных потрясений, которые только выпадают на долю человека. Его мать и Надя здесь. Обе пленницы, слившиеся в его сердце почти воедино, по Божьей воле нашли друг друга в общей беде! Стало быть, Надя знает, кто он. Нет, ибо он заметил жест Марфы Строговой, удержавшей ее, когда та хотела броситься к нему! Значит, Марфа Строгова все поняла и сохранила свою тайну.
Ночью Михаил Строгов раз двадцать был на грани того, чтобы рискнуть подойти к матери, но подавил в себе горячее желание обнять ее и еще раз пожать руку своей юной спутнице! Малейшая неосторожность могла погубить его. К тому же он поклялся не видеться с матерью… И по своей воле он с нею не увидится! Как только он доберется до Томска — раз уж нельзя бежать этой ночью, — он тотчас уйдет в степь, даже не поцеловав этих двух женщин, в которых сосредоточилась для него вся жизнь и которых он оставлял под угрозой бессчетных напастей!
Итак, Михаил Строгов надеялся, что эта новая встреча в лагере Забедьево не будет иметь нежелательных последствий ни для его матери, ни для него самого. Но он не знал, что кое-какие подробности этой сцены, сколь мимолетной она ни была, успела перехватить Сангарра, шпионка Ивана Огарева.
Цыганка находилась тут же на берегу, в нескольких шагах, следя, как всегда, за старой сибирячкой, которая об этом не подозревала. Она не заметила Михаила Строгова, успевшего скрыться как раз в тот миг, когда она обернулась в его сторону; однако движение, которым его мать удержала Надю, не ускользнуло от ее внимания, а блеск в глазах Марфы все ей сразу объяснил.
Теперь она не сомневалась, что сын Марфы Строговой, царский гонец, находится здесь, в Забедьеве, среди пленников Ивана Огарева!
Самого его Сангарра не знала, но она знала, что он здесь! Поэтому она не стала его разыскивать, ибо в темноте, среди несметной толпы, это было невозможно.
Не имело смысла и продолжать шпионить за Надей и Марфой Строговой. Обе эти женщины будут теперь заведомо настороже, и застигнуть их на чем-либо, что могло бы скомпрометировать царского гонца, представлялось невозможным.
Теперь цыганка думала лишь об одном: предупредить Ивана Огарева. И поэтому тотчас покинула лагерь.
Через четверть часа она дошла до Забедьева и была проведена в избу, которую занимал первый помощник эмира.
Иван Огарев принял цыганку незамедлительно.
— Чего тебе, Сангарра? — спросил он.
— Сын Марфы Строговой в лагере, — ответила Сангарра.
— Пленный?
— Пленный!
— Ага, — вскричал Иван Огарев, — теперь-то я выясню…
— Ничего ты не выяснишь, Иван, — перебила его цыганка, — ведь ты его даже не знаешь!
— Но ведь его знаешь ты! Ты ведь видела его, Сангарра!
— Его я не видела, но я видела его мать. Она выдала себя жестом, который мне все объяснил.
— Ты не ошибаешься?
— Я не ошибаюсь.
— Ты знаешь, как мне важно арестовать этого гонца, — сказал Иван Огарев. — Если письмо, которое ему вручили в Москве, дойдет до Иркутска, если оно будет передано Великому князю, тот будет начеку и я не смогу к нему попасть! Это письмо любой ценой должно быть у меня! Теперь ты пришла сказать, что обладатель этого письма в моей власти! Еще раз, Сангарра: ты не ошиблась?
Иван Огарев пришел в сильное возбуждение. Оно свидетельствовало о чрезвычайной важности, которую он придавал обладанию этим письмом. Сангарру нисколько не смутила настойчивость, с какой Иван Огарев еще раз задал свой вопрос.
— Я не ошиблась, Иван, — ответила она.
— Но ведь в лагере, Сангарра, пленников много тысяч, а по твоим словам выходит, что ты не знаешь Строгова в лицо!
— Да, — ответила цыганка, и в ее глазах сверкнула дикая радость, — я его не знаю, но его знает его мать! Иван, надо заставить ее заговорить!
— Завтра она у меня заговорит! — вскричал Иван Огарев.
При этих словах он протянул цыганке руку, которую та поцеловала, и в этом знаке почтения, привычном для северных народов, не было никакой угодливости.
Сангарра возвратилась в лагерь. Она нашла то место, где приютились Надя и Марфа Строгова, и провела ночь, не спуская с них глаз. Старая женщина и девушка так и не смогли заснуть, хотя обе изнемогали от усталости. Слишком много беспокойных мыслей держали их в напряжении. Михаил Строгов жив, но пленник, как и они! Знает ли об этом Иван Огарев, а если нет, то не может ли как-нибудь узнать? Надя думала лишь о том, что ее спутник, которого она считала погибшим, жив! Но Марфа Строгова смотрела в более далекое будущее и если недорого ценила собственную жизнь, то имела основания во всем усматривать опасности для сына.
Сангарра, воспользовавшись темнотой, устроилась чуть ли не рядом с обеими женщинами, и провела здесь несколько часов, напрягая слух… Но так ничего и не смогла, услышать. Инстинктивно опасаясь неосторожности, Надя и Марфа Строгова не обменялись ни словом.
На следующий день, 16 августа, к 10 часам утра у входа в лагерь раздались громкие звуки фанфар. Татарские солдаты немедленно выстроились.
Иван Огарев, покинув Забедьево, подъезжал к лагерю в окружении множества татарских офицеров, составлявших его штаб. Лицо его было мрачнее обычного, искаженные черты выдавали глухую ярость, искавшую лишь повод для взрыва.
Затерявшись в толпе пленников, Михаил Строгов видел, как этот человек проехал мимо. У него возникло предчувствие приближающейся катастрофы, ведь Иван Огарев теперь знал, что Марфа Строгова — мать Михаила Строгова, капитана из корпуса царских курьеров.
Доехав до центра лагеря, Иван Огарев спешился, а всадники из его сопровождения образовали широкий круг.
Сангарра, подойдя к нему, сказала:
— У меня нет для тебя ничего нового, Иван!
В ответ Иван Огарев отдал краткий приказ одному из офицеров.
Тотчас по рядам, грубо расталкивая людей, пробежали солдаты. Подгоняя пленных ударами кнутов или подталкивая древками копий, они заставили их поспешно подняться с земли и выстроиться по окружности лагеря. Четверной кордон пехотинцев и конников, поставленный позади, исключал всякую возможность побега.
Воцарилась тишина, и по знаку Ивана Огарева Сангарра направилась к группе пленных, среди которых находилась Марфа Строгова.
Старая сибирячка увидела ее. И поняла, что сейчас последует. На губах ее появилась презрительная улыбка. Наклонившись к Наде, она тихо сказала:
— Мы больше с тобой не знакомы, дочка! Что бы ни случилось и каким бы тяжким ни оказалось испытание — ни слова, ни жеста! Речь идет не обо мне, а о нем!
И в этот момент Сангарра, на миг задержав на Марфе взгляд, положила руку ей на плечо.
— Тебе чего? — спросила Марфа Строгова.
— Пошли! — ответила Сангарра.
И, подтолкнув ее, вывела на середину свободного пространства, подвела к Ивану Огареву.
Михаил Строгов, чтобы не выдать себя блеском глаз, опустил веки.
Остановившись перед Иваном Огаревым, Марфа Строгова выпрямилась и, скрестив на груди руки, замерла.
— Ты действительно Марфа Строгова? — спросил Иван Огарев.
— Да, — спокойно ответила старая сибирячка.
— Помнишь, что ты ответила мне, когда три дня назад я допрашивал тебя в Омске?
— Нет.
— Стало быть, ты не знаешь, что твой сын, Михаил Строгов, царский гонец, прибыл в Омск?
— Не знаю.
— А тот человек на почтовой станции, в котором ты вроде как признала своего сына, был не твой сын?
— Это был не мой сын.
— И ты не видела его потом среди этих пленных?
— Нет.
— А если бы тебе его показали, ты узнала бы его?
— Нет.
При этом ответе, означавшем непоколебимую решимость ни в чем не признаваться, по толпе пробежал ропот.
Иван Огарев не мог сдержать угрожающего жеста.
— Послушай, — сказал он Марфе Строговой, — твой сын здесь, и ты нам сейчас его укажешь.
— Нет.
— Все эти люди, захваченные в Омске и в Колывани, пройдут перед тобой, и если ты не укажешь Михаила Строгова, то получишь столько ударов кнутом, сколько людей пройдет перед тобой!
Иван Огарев понял, что, чем бы он ни грозил, каким бы пыткам ее ни подвергал, непокорная сибирячка не заговорит. И обнаружить царского гонца он рассчитывал не с ее помощью, а с помощью самого Михаила Строгова. Он считал невероятным, чтобы мать и сын, оказавшись друг перед другом, не выдали себя невольным жестом. Разумеется, если бы он хотел только перехватить письмо императора, он просто приказал бы обыскать всех пленников подряд; но Михаил Строгов, познакомившись с содержанием письма, мог уже уничтожить его, и если Строгова не опознать и ему удастся добраться до Иркутска, то планы Ивана Огарева будут сорваны. А значит, предателю нужно было не только письмо, но и его обладатель.
Надя все слышала; теперь она знала, кто такой Михаил Строгов и почему ему было так важно неузнанным пересечь захваченные губернии Сибири!
По приказу Ивана Огарева пленных по одному проводили перед Марфой Строговой, которая, словно окаменев, замерла в неподвижности, и взгляд ее не выражал ничего, кроме полнейшего безразличия.
Сын ее находился в последних рядах. И когда он в свой черед проходил перед матерью, Надя, чтоб не видеть, закрыла глаза!
Михаил Строгов оставался внешне бесстрастным, но на его ладонях из-под вонзившихся ногтей выступила кровь.
Сын и мать одержали над Иваном Огаревым победу!
Сангарра, стоявшая возле Огарева, произнесла одно лишь слово:
— Кнут!
— Да! — вскричал Иван Огарев, уже не владея собой. — Кнута этой старой шельме, и хлестать, пока не окочурится!
К Марфе подскочил татарский солдат, держа в руках это жуткое орудие пыток.
Кнут состоит из нескольких узких кожаных ремешков, к концам которых привязана перекрученная железная проволока. Считается, что приговоренный к ста двадцати ударам кнута приговорен к смерти. Марфа Строгова прекрасно понимала, что ее ждет, но она знала и то, что никакая пытка не заставит ее заговорить, и была готова пожертвовать жизнью.
Двое солдат схватили ее и поставили на колени. Под разорванным платьем обнажилась спина. К груди приставили саблю — всего на расстоянии нескольких дюймов. Если бы Марфа от боли качнулась вперед, острие сабли пронзило бы ей грудь.
Татарин стоял перед нею. Он ждал.
— Начинай! — произнес Иван Огарев.
И кнут со свистом рассек воздух…
Но не успел он опуститься, как могучая длань вырвала его из рук татарина.
Это был Михаил Строгов. Не вынеся ужасного зрелища, он ринулся вперед. Если на почтовой станции в Ишиме, когда кнут Ивана Огарева ударил его в плечо, Михаил сумел сдержаться, то сейчас, при виде матери, над которой уже свистел кнут, он не мог совладать с собой.
Иван Огарев добился своего.
— Михаил Строгов! — вскричал он.
Потом, подавшись вперед, воскликнул:
— Ба-а! Ишимский знакомец?
— Он самый! — ответил Михаил Строгов.
И, подняв кнут, полоснул им по лицу Ивана Огарева.
— Ударом на удар! — произнес он.
— Заплачено сполна! — раздался возглас одного из зрителей, который, к счастью, успел затеряться в толпе.
Человек двадцать солдат набросились на Михаила Строгова и, конечно, убили бы его…
Но Иван Огарев, издав вопль ярости и боли, жестом остановил их.
— Этого человека ждет суд эмира! — сказал он. — Обыскать его!
Письмо с императорским гербом было найдено на груди у Михаила Строгова, который не успел его уничтожить, и передано Ивану Огареву.
Зрителем, что произнес слова «Заплачено сполна!», был не кто иной, как Альсид Жоливэ. Он и его собрат, сделавшие остановку в лагере Забедьево, присутствовали при этой сцене.
— Черт возьми! — обратился он к Гарри Блаунту. — Суровые люди эти северяне! Признайтесь, нельзя не отдать должного нашему спутнику! Корпанов или Строгов — они стоят один другого! Достойная расплата за оскорбление в Ишиме!
— Да уж, воистину расплата, — согласился Гарри Блаунт, — но Строгову конец. В его интересах, пожалуй, было бы лучше не вспоминать лишний раз о прошлом!
— И оставить свою мать погибать под кнутом!
— Вы думаете, своей горячностью он уготовил ей лучшую участь — ей и своей сестре?
— Я ничего не думаю, ничего не знаю, — отвечал Альсид Жоливэ, — разве что сам я на его месте не мог бы сделать лучше! Какой шрам! И вообще — какого черта! Надо же вскипать иногда! Если бы Бог хотел сделать нас всегда и во всем невозмутимыми, то влил бы нам в вены воды вместо крови!
— Недурной эпизод для хроники! — заключил Гарри Блаунт.
— Если бы еще Иван Огарев пожелал сообщить нам содержание письма!…
Взяв письмо и кое-как остановив кровь, заливавшую лицо, Иван Огарев сломал на конверте печать. Долго читал и перечитывал послание, словно желая получше вникнуть в его смысл.
Затем, приказав скрутить Михаила Строгова и отправить вместе с другими пленными в Томск, принял командование войсками, стоявшими лагерем в Забедьево, и под оглушительный гром барабанов и труб направился к городу, где его ждал эмир.
Глава 4 ТРИУМФАЛЬНОЕ ВСТУПЛЕНИЕ
Томск, основанный в 1604 году почти в самом сердце сибирских земель, является одним из наиболее важных городов Азиатской России. Он вырос, в частности, за счет Тобольска, расположенного выше шестидесятой параллели, и Иркутска, выстроенного за сотым меридианом.
Как уже было сказано, Томск не стал столицей этой богатой области. Резиденцией генерал-губернатора и официальных лиц Западной Сибири является Омск. И все же Томск — самый значительный город на этой территории, примыкающей к Алтайским горам, то есть к границе китайской страны халхов[83]. По склонам этих гор в долину реки Томи непрерывно поступают платина, золото, серебро, медь и золотоносные свинцовые руды. Благодаря богатствам края разбогател и город, находящийся в центре прибыльных разработок. По роскоши своих зданий, своего убранства и своих экипажей он может поспорить с блеском главных столиц Европы. Это город миллионеров, разбогатевших с помощью кирки и заступа, и пусть ему не выпала честь служить резиденцией царского наместника, зато может утешаться тем, что в первом ряду своих именитых граждан числит главу городских купцов, главного концессионера рудников имперского правительства.
Когда-то считалось, что Томск расположен на самом краю света. Попасть туда — значило предпринять целое путешествие. Теперь, если дорогу не топчет сапог захватчиков, это всего лишь прогулка. Вскоре будет даже построена железная дорога, которая через Уральский хребет соединит город с Пермью.
Красив ли Томск? Приходится признать, что на этот счет мнения путешественников расходятся. Для мадам де Бурбулон, которая во время своего путешествия из Шанхая в Москву провела там несколько дней, место это не очень живописное. Судя по ее описанию, это малозначительный городок со старыми кирпичными и каменными домами, с очень узкими улочками, резко отличающимися от улиц большинства крупных сибирских городов, с грязными кварталами, где ютятся главным образом татары и толкутся тихие пьяницы, «которые апатичны даже в опьянении, как и все народы Севера!».
А вот путешественник Генри Рассел-Киллоу от Томска просто в восхищении. Не связано ли это с тем, что он видел город среди зимы, укутанный снежным покрывалом, тогда как мадам Бурбулон проезжала через него в разгар лета? Такое объяснение не лишено смысла и могло бы служить подтверждением бытующего мнения, что некоторые холодные страны по-настоящему можно оценить лишь в холодное время года, так же как жаркие — в жару.
Как бы там ни было, г-н Рассел-Киллоу положительно утверждает, что Томск не только самый красивый город Сибири, но и один из красивейших городов мира, с его домами, украшенными колоннадой и перистилем, с его деревянными тротуарами, широкими и правильными улицами, с его пятнадцатью великолепными церквами, отражающимися в водах Томи, которая шире любой реки Франции.
Истина находится посредине. Томск с его двадцатью пятью тысячами жителей живописными уступами подымается по склонувытянутого холма с весьма крутыми откосами.
Однако даже красивейший город мира становится самым уродливым, если он захвачен врагом. Кто в такую годину захотел бы им восторгаться? Оставшись под защитой немногих батальонов пеших казаков, несших свою службу бессменно, город не смог противостоять напору колонн эмира. Некоторая часть его населения, татары по происхождению, оказала его ордам, татарам как и они, совсем недурной прием, и теперь Томск мог показаться сколько-нибудь русским или сибирским, только если бы очутился в центре Кокандского или Бухарского ханства.
Именно в Томске и собирался эмир устроить прием своей победоносной армии. В ее честь устраивался настоящий праздник — с песнями, танцами, джигитовкой и буйной оргией в заключение.
Театром для этой чисто азиатской церемонии было выбрано широкое плато в той части холма, которая на сто футов возвышалась нал течением Томи. Отсюда открывалась панорама с бесконечной перспективой изящных домов и увенчанных пузатыми куполами церквей, с бесчисленными извивами реки, а дальше, на заднем плане, — лесами, тонувшими в дымке горячего воздуха. Замыкала эту картину великолепная зеленая рамка из чудесно сочетавшихся друг с другом сосен и огромных кедров.
Слева от плато на широких площадках была временно возведена ослепительная декорация, изображавшая дворец удивительной архитектуры, явный образчик бухарских — полумавританских, полутатарских — монументов. Над этим дворцом, меж остриями минаретов, которыми он ощетинился, и верхушками дерев, что затеняли плато, кружили сотни прирученных аистов, привезенных татарами из Бухары.
Площадки были предназначены для двора эмира — ханов-союзников, высоких должностных лиц, а также для гаремов каждого из этих властителей Туркестана.
Султанши — это обычно всего лишь рабыни, купленные на рынках Закавказья и Персии; у одних лица были открыты, другие скрывали их от чужих взглядов под чадрой. Одеяния ханских жен отличались невероятной роскошью. Изящные накидки с рукавами, подобранными сзади и скрепленными на манер европейского пуфа, позволяли видеть их обнаженные до плеч прекрасные руки с браслетами на запястьях и соединявшими их цепочками из драгоценных камней; ноготки на тонких пальчиках были подкрашены соком «хенны»[84]. При малейшем движении накидок, сшитых из шелка, по тонкости сравнимого с паутинкой, или из мягкой «алачи» — хлопковой ткани в узкую полоску — слышалось легкое «фру-фру», столь приятное восточному уху. Под верхним одеянием сверкали парчовые юбки, прикрывавшие шелковые шаровары, которые были подвязаны чуть выше мягких сапожков с изящным вырезом и жемчужной вышивкой. Султанши, не носившие покрывал, позволяли любоваться своими длинными косичками, которые тонкими нитями выбивались из-под ярких тюрбанов, восхитительными глазками, великолепными зубками и ослепительным цветом кожи, который подчеркивали чернота насурмленных бровей, соединенных над переносицей легкой волнистой линией, и чуть оттененные графитом веки.
У подножия площадок, укрытых стягами и знаменами, дежурили стражники из личной охраны эмира, носившие на боку изогнутую саблю, кинжал за поясом, с двухметровым копьем в руках. Некоторые из солдат держали белые жезлы, другие — огромные алебарды, украшенные султанами из серебряных и золотых нитей.
Вокруг, вплоть до задних планов этого широкого плато, на крутых склонах, которые ниже омывала Томь, гомонила разноязыкая толпа, собравшая представителей всех народностей Центральной Азии. Были тут и рыжебородые, сероглазые узбеки с высокими малахаями из шкуры черного барана и в «архалуках» — коротких кафтанах татарского покроя. Толклись туркмены, одетые в национальный костюм — яркие широкие шаровары, куртку и плащ из верблюжьей ткани, рыжую шапку в форме конуса или раструба, который дополняли высокие русские кожаные сапоги и кривой тесак или нож, на узком ремешке висевший у пояса. Всюду, рядом с их хозяевами, можно было видеть и туркменских женщин, удлинявших косы шнурками из козьей шерсти, в кофтах с открытым воротом под «джубой» (шубкой) в синюю, красную и зеленую полоску; ноги их сверху вниз до кожаных сандалий были перевязаны крест-накрест цветными ленточками. И здесь же — словно на клич эмира сошлись все народности, живущие по русско-китайской границе, — можно было встретить маньчжуров с выбритым лбом и висками, с заплетенными в косицы волосами, в длинных халатах и шелковых, перехваченных поясом рубахах, в круглых тюбетейках из вишневого сатина с черной кромкой и рыжей бахромой; а рядом с ними — замечательные типы женщин Маньчжурии, чьи головки кокетливо обвивали искусственные цветы, державшиеся на золотых шпильках, и бабочки, нежно льнувшие к черным волосам. И наконец, эту толпу приглашенных на татарский праздник дополняли монголы, бухарцы[85], персы и туркестанские китайцы.
Отсутствовали на приеме у захватчиков лишь жители Сибири. Те, кто не смог бежать, закрылись в своих домах, страшась грабежей, которые Феофар-хан мог объявить и тем достойно завершить торжественную церемонию.
Эмир соблаговолил появиться на площади только в четыре часа, под гром фанфар, треск тамтамов и залпы мушкетов и пушек.
Феофар восседал на своем любимом коне, чью холку украшал султан из бриллиантов. Сам эмир был по-прежнему облачен в военный костюм. Слева и справа выступали ханы Коканда и Кундуза и их высокие сановники, за ними следовал весь его многочисленный штаб.
На площади появилась первая из жен Феофара — королева, если позволительно так называть султанш бухарских государств. Впрочем — королева или рабыня, — персианка была изумительно красива. В нарушение магометанского обычая и явно по капризу эмира лицо ее было открыто. Волосы, разделенные на четыре косы, нежно касались ослепительно белых плеч, которые едва прикрывала шелковая, расшитая золотом накидка, прикрепленная сзади к островерхой шапочке, усыпанной бриллиантами самого высокого достоинства. Из-под юбки синего шелка с широкими темными полосами ниспадали на ноги «зирджамэ»[86] из шелковой дымки, а грудь мягко облегала «пирахан»[87] — кофта из той же ткани, изящным вырезом открывавшая шею. При этом вся она, с головы до самых ног, обутых в персидские туфли, была столь обильно усыпана драгоценностями — золотыми туманами[88], нанизанными на серебряные нити, четками из бирюзы, камнями «фирузе» из знаменитых рудников Эльбурса[89], ожерельями из сердоликов[90], агатов, изумрудов, опалов и сапфиров, что ее корсаж и юбка казались целиком сотканными из драгоценных каменьев. Что касается тысяч алмазов, сверкавших на ее шее, руках, запястьях, поясе и ногах, то миллионов рублей не хватило бы, чтобы покрыть их стоимость, а яркость блеска создавала впечатление, будто в центре каждого из них под сильным током пылала вольтова дуга, сотканная из солнечного света.
Эмир и ханы спешились, как и сановники, сопровождавшие их. Все уселись под роскошным шатром, раскинутым в центре первой площадки. Перед шатром на священном столике лежал, как всегда, Коран.
Первый заместитель Феофара не заставил себя ждать, и около пяти часов оглушительные фанфары возвестили о его прибытии.
Иван Огарев — «Меченый», как его уже прозвали из-за шрама, наискось пересекавшего лицо, одетый на этот раз в форму татарского офицера, подъехал к шатру эмира. Его сопровождала часть солдат из лагеря Забедьево, которые затем выстроились по краю площади, оставив лишь место для зрелищ.
Иван Огарев представил эмиру своих главных офицеров, и Феофар-хан, не изменяя той холодности, что составляла суть его достоинства, принял их так, что они остались довольны.
Во всяком случае, именно так истолковали это событие Гарри Блаунт и Альсид Жоливэ, двое неразлучных, которые отныне объединили свои усилия для охоты за новостями. Покинув Забедьево, они быстро достигли Томска. Их продуманный план состоял в том, чтобы незаметно оторваться от татар, присоединиться как можно раньше к какому-нибудь русскому корпусу и, если удастся, направиться вместе с ним к Иркутску. Все, что они повидали на захваченной земле — пожары, грабежи, убийства, — потрясло их до глубины души, и они спешили оказаться в рядах сибирской армии.
И все же Альсид Жоливэ дал понять своему собрату, что не может покинуть Томск, не сделав зарисовки триумфального вступления татарских войск — хотя бы ради удовлетворения своей любопытной кузины, и Гарри Блаунт согласился на несколько часов задержаться в городе; однако уже в тот же вечер оба должны были продолжить свой путь на Иркутск; обзаведясь добрыми лошадьми, они надеялись обогнать разведчиков эмира.
Итак, Альсид Жоливэ и Гарри Блаунт, смешавшись с толпой, наблюдали происходящее, стараясь не упустить ни одной мелочи празднества, сулившего им материал на добрых сто строк хроники. Они отдали дань восхищения великолепию Феофар-хана, его женщинам, офицерам, стражам и всей этой восточной пышности, о которой церемонии европейских дворов не могут дать ни малейшего представления. Но с презрением отвернулись, когда перед эмиром предстал Иван Огарев, и не без некоторого нетерпения ждали начала празднества.
— Видите ли, дорогой Блаунт, — сказал Альсид Жоливэ, — мы пришли слишком рано, подобно тем добропорядочным буржуа, которые за свои денежки хотят получить сполна! Ведь это не более чем поднятие занавеса, а хорошим тоном было бы явиться точно к началу балета.
— Какого балета? — спросил Гарри Блаунт.
— Да непременного, черт возьми, балета! Но мне кажется, что занавес сейчас подымется.
Альсид Жоливэ выражался так, словно и впрямь был в Опере; вынув из футляра лорнет, он с видом знатока приготовился смотреть «первые вариации труппы Феофара».
Но дивертисмент был упрежден мрачной церемонией.
И в самом деле, триумф победителя не мог быть полным без публичного унижения побежденных. Вот почему солдатский кнут согнал сюда сотни пленных. Перед тем как растолкать по городским тюрьмам, их должны были провести пред лицом Феофар-хана и его союзников.
В первом ряду среди пленных шел Михаил Строгов. Согласно приказу Ивана Огарева, к нему был приставлен специальный взвод солдат. Здесь же находились его мать и Надя.
У старой сибирячки, сохранявшей силу духа, пока речь шла только о ней самой, теперь было смертельно бледное лицо. Она предчувствовала, что готовится нечто страшное. Не без причины привели к шатру эмира ее сына. И она дрожала за него. Иван Огарев, прилюдно получивший удар кнутом, предназначавшийся ей, был не из тех, кто умеет прощать. Месть его будет беспощадной. Михаилу Строгову наверняка уготованы те мучительные пытки, которые в обычае у варваров Центральной Азии. И если в тот момент, когда на Строгова набросились солдаты, Иван Огарев сохранил ему жизнь, то лишь потому, что прекрасно знал, чем обернется для того предание суду эмира.
К тому же со времени роковой сцены в лагере Забедьево мать с сыном даже не могли поговорить. Их безжалостно оторвали друг от друга. И тем усугубили страдания обоих — ведь каким облегчением явилась бы для них возможность побыть вместе эти несколько дней плена! Марфе Строговой так хотелось попросить у сына прощения за все зло, которое она невольно ему причинила, и она казнила себя за то, что не смогла совладать с материнскими чувствами! Если бы там, в Омске, когда она лицом к лицу столкнулась с сыном на почтовой станции, у нее хватило сил сдержаться, Михаил Строгов прошел бы неузнанный мимо и скольких бед удалось бы тогда избежать!
Со своей стороны, Михаил Строгов думал о том, что если мать его здесь, если Иван Огарев позволил им увидеться, то лишь для того, чтобы она мучилась его муками, а может, еще и потому, что ей уготована такая же ужасная смерть, как и ему!
Что касается Нади, то ей хотелось понять, что могла бы она сделать для спасения своих спутников, как помочь сыну и его матери. Она не знала, что придумать, но смутно чувствовала, что прежде всего нельзя привлекать к себе внимания, надо уйти в тень, сделаться маленькой-маленькой! Может, тогда ей удастся перегрызть цепь, сковавшую льва. В любом случае, если ей представится случай действовать, она будет действовать, даже если ради сына Марфы Строговой ей пришлось бы пожертвовать собой.
Большинство пленников уже прошли перед эмиром, и, проходя, каждый, в знак рабской покорности, должен был пасть ниц, лбом в пыль. Ведь с унижения и начинается рабство! Когда несчастные склонялись слишком медленно, жестокая рука охранника швыряла их наземь.
Альсид Жоливэ и его спутник, присутствовавшие при этом зрелище, не могли не испытывать искреннего возмущения.
— Какая подлость! Уйдем отсюда! — вскипел Альсид Жоливэ.
— Нет! — ответил Гарри Блаунт. — Надо увидеть все!
— Увидеть все!… Ох! — вскрикнул вдруг Альсид Жоливэ, хватая своего спутника за руку.
— Что с вами? — спросил тот.
— Взгляните, Блаунт! Это она!
— Кто «она»?
— Сестра нашего попутчика! Одна и в плену! Надо ее спасать…
— Возьмите себя в руки, — холодно возразил Гарри Блаунт. — Наше заступничество скорее повредит ей и уж никак не спасет.
Альсид Жоливэ, уже готовый броситься на выручку, удержался, и Надя прошла, не заметив их из-под пряди волос, падавшей на лицо, прошла в свой черед перед эмиром, не обратив на себя его внимания.
Вслед за Надей подошла и Марфа Строгова, и, так как она недостаточно скоро опустилась в пыль, стражники грубо толкнули ее.
Женщина упала.
Сын в диком порыве рванулся к ней — приставленные к нему солдаты с трудом смогли его удержать.
Старая Марфа меж тем поднялась, ее хотели уже оттащить прочь, когда Иван Огарев, вмешавшись, произнес:
— Эта женщина пусть останется!
Надю уже затолкнули в толпу пленников. Взгляд Ивана Огарева не успел на ней остановиться.
Затем перед эмиром предстал Михаил Строгов. Он остался стоять, не опуская глаз.
— Пади ниц! — крикнул ему Иван Огарев.
— Нет! — отозвался Михаил Строгов.
Двое стражников хотели заставить его согнуться, но сами оказались на земле, отброшенные могучей рукой.
К Строгову ринулся Иван Огарев.
— Ты умрешь! — крикнул он.
— Умру, — гордо ответил Михаил Строгов, — но и тогда, Иван, на твоем лице предателя навсегда останется позорный след кнута!
При этих словах Иван Огарев страшно побледнел.
— Кто этот пленник? — спросил эмир голосом тем более страшным, чем спокойнее он был.
— Русский шпион, — ответил Иван Огарев.
Объявляя Михаила Строгова шпионом, он знал, что вынесенный ему приговор будет ужасен.
Михаил Строгов молча двинулся на Ивана Огарева.
Солдаты удержали его.
Тогда эмир сделал знак, перед которым вся толпа склонила головы.
Потом он указал рукой на Коран, который ему тотчас поднесли. Он раскрыл священную книгу и коснулся пальцем одной из страниц.
Теперь только случай, а вернее, по понятиям людей Востока, сам Аллах должен был решить судьбу Михаила Строгова. У народов Центральной Азии этот суд носит имя «фал»[91]. Дав смыслу стиха, которого коснулся палец судьи, определенное толкование, они исполняют приговор, каков бы он ни был.
Эмир держал палец на странице Корана. Главный богослов-законовед, приблизившись, громко прочел стих, который кончался такими словами: «И не увидит он впредь ничего на земле».
— Русский шпион, — объявил Феофар-хан, — ты пришел увидеть, что происходит в татарском лагере! Так гляди же во все глаза, гляди!
Глава 5 ГЛЯДИ ВО ВСЕ ГЛАЗА, ГЛЯДИ!
Михаила Строгова, чьи руки были связаны, оставили стоять перед троном эмира у подножия площадки.
Его мать, сломленная наконец бесконечными муками, физическими и душевными, опустилась на землю, уже не смея ни глядеть, ни слушать.
«Так гляди же во все глаза, гляди!» — произнес Феофар-хан, грозно вытянув руку в сторону Михаила Строгова.
Иван Огарев, знакомый с татарскими нравами, понял, разумеется, значение этих слов, ибо губы его на мгновение разжались в злобной улыбке. Затем он занял место возле Феофар-хана.
Тотчас раздался призывный звук труб. То был сигнал к началу увеселений.
— Вот и балет, — сказал Альсид Жоливэ Гарри Блаунту, — однако, в нарушение всех правил, эти варвары дают балет перед драмой!
Михаилу Строгову приказано было глядеть. И он стал глядеть.
На площадь выпорхнула стайка танцовщиц в живописных национальных костюмах. Звуки разных татарских инструментов: «дутара» — мандолины с длинным грифом из тутового дерева и двумя струнами из скрученных шелковых нитей с отступом в кварту; «кобыза» — своеобразной виолончели, открытой спереди, со струнами из конского волоса, вибрирующими от касания смычка; «чибызги» — длинной флейты из тростника; труб, тамбуринов и тамтамов вместе с гортанными голосами певцов — слились в странную гармонию. К основному тону добавились аккорды воздушного оркестра: дюжина бумажных змеев, притянутых струнами к своему центру, звучала на ветру как эолова арфа[92].
Сразу начались танцы.
Танцовщицы были родом из Персии. Отнюдь не рабыни, они свободно занимались своим искусством. Прежде они официально принимали участие в церемониях при тегеранском дворе; однако с восшествием на трон нынешней царствующей семьи их изгнали из страны, вынудив искать счастья за ее пределами. На танцовщицах сверкали богатые украшения. В ушах трепетали маленькие золотые треугольнички с длинными сережками; шею обвивали оправленные в черную эмаль серебряные обручи, а запястья рук и лодыжки ног — браслеты из двойного ряда бриллиантов; на концах длинных косичек подрагивали подвески, богато украшенные жемчугом, бирюзой и сердоликом. Пояс, сжимавший их талии, застегивался блестящей пряжкой, похожей на планку европейских орденов «Большого креста».
То в одиночку, то группами танцовщицы с большим изяществом исполняли разнообразные танцы. Лица их были открыты, но временами они набрасывали на голову легкую вуаль — казалось, будто на их сверкающие глазки опускалось газовое облачко, словно туман на усыпанное звездами небо. Некоторые из персиянок носили через плечо расшитую жемчугом кожаную перевязь с висевшей на ней острым концом вниз треугольной подушечкой, которую они в нужный момент раскрыли. Из этих подушечек, сотканных из золотой филиграни, они выхватили длинные узкие ленты алого шелка с вышитыми стихами из Корана; растянув эти ленты меж собой, танцовщицы образовали пояс, под которым, не прерывая своих па, заскользили другие танцовщицы, и, оказываясь под тем или иным стихом, в зависимости от содержавшегося в нем завета, они либо падали ниц, либо в легком прыжке взлетали вверх, словно спеша занять места среди небесных гурий Магомета.
Но что было странно и что поразило Альсида Жоливэ, — персиянки казались скорее вялыми, чем пылкими. Им не хватало неистовства. И по характеру танцев, и по исполнению они напоминали скорее спокойных и пристойных баядер Индии, нежели страстных плясуний Египта.
Когда первый дивертисмент закончился, раздался низкий голос:
— Гляди во все глаза, гляди!
Человек, повторявший слова эмира, татарин высокого роста, был палачом, исполнявшим важные повеления Феофар-хана. Он занял место позади Михаила Строгова, держа в руке саблю с коротким, широким клинком из дамасской стали, одним из тех, что подвергались закалке у знаменитых оружейников Карши или Гиссара.
Рядом с палачом стражники поставили треножник с маленькой печкой, где бездымно пылали угли. Легкая дымка, курившаяся над ними, возникала от сжигания ароматного смолистого вещества, которым, смешав с камедью и ладаном, эти угли посыпали.
Тем временем сразу вслед за персиянками появилась новая группа танцовщиц совершенно другой расы, которых Михаил Строгов узнал тотчас.
Надо думать, их признали и оба журналиста, так как Гарри Блаунт сказал своему собрату:
— Да это же цыганки из Нижнего Новгорода!
— Они самые! — воскликнул Альсид Жоливэ. — Но кажется мне: глаза приносят этим шпионкам больше денег, чем ноги!
Считая их агентами на службе эмира, Альсид Жоливэ, как мы знаем, не ошибался.
В первом ряду цыганок выступала Сангарра, величественная в своем странном и живописном одеянии, подчеркивавшем ее красоту.
Сама Сангарра не танцевала, исполняя среди своих танцовщиц роль мима, зато их невероятные па напоминали танцы всех тех стран, где цыгане кочуют, будь то в Европе — Богемии[93], Италии, Испании — или в Египте. Они приходили в трепет в такт цимбалам, что бряцали в их руках, и «дайре» — бубнам вроде баскских барабанов, шумно всхрапывавшим под их пальцами.
Один из таких бубнов дрожал меж ладоней Сангарры, приводя этих истинных служительниц культа Кибелы[94] в совершенное неистовство.
Вот вперед выступил цыган, которому было никак не больше пятнадцати лет; из дутара, что был у него в руках, он извлекал рыдающие звуки, ногтями скользя по двум его струнам. Потом запел. Когда он исполнял первый куплет этой весьма причудливой по ритму песни, к нему приблизилась одна из плясуний и замерла на месте; но всякий раз, когда юный певец доходил до припева, она возобновляла прерванную пляску, тряся перед ним бубен и оглушая его треском кастаньет.
К концу последнего припева танцовщицы буквально обвили цыгана тысячами складок своих взвившихся в пляске юбок.
Тут же из рук эмира и его союзников, из рук офицеров разного чина просыпался золотой дождь, и со звоном монет, застучавших по цимбалам плясуний, смешались последние вздохи дутаров и тамбуринов.
— Расточительны как грабители! — произнес Альсид Жоливэ на ухо своему спутнику.
Сыпавшиеся дождем деньги были и впрямь краденые, ибо меж персидских туманов и татарских цехинов мелькали российские червонцы и рубли.
В наступившей на мгновение тишине раздался голос палача. Положив свою руку на плечо Михаила Строгова, он повторил все те же слова, которые с каждым разом звучали все более зловеще:
— Гляди во все глаза, гляди!
Но на этот раз Альсид Жоливэ заметил, что обнаженной сабли в руке палача уже не было.
Тем временем солнце опускалось за горизонт. Задние планы окружающей местности уже терялись в полумраке. Чаща кедров и сосен становилась все чернее, а воды Томи, вдали совсем темные, тонули во мгле опускавшегося тумана. И эта мгла уже подбиралась к плато, обступавшему город.
Как раз в этот миг площадь заполнили сотни рабов с зажженными факелами в руках. Увлекаемые Сангаррой цыганки и персиянки вновь явились пред троном эмира для участия в общем танце, чтобы дать публике возможность сравнить и оценить столь разные манеры исполнения. Инструменты татарского оркестра разразились еще более неистовыми звуками, сопровождавшимися гортанными выкриками певцов. Воздушные змеи, спущенные было на землю, вновь поднялись в воздух, унося с собой целое созвездие разноцветных фонариков. Под легким ветром с реки посреди небесной иллюминации их арфы зазвенели еще более звучно.
Целый эскадрон татар в военной форме тоже включился в пляску, она накалялась все больше и больше, пока не превратилась в неистовую пешую скачку, производившую самое странное впечатление.
Солдаты с саблями наголо и длинноствольными пистолетами в руках, исполняя своего рода вольтижировку, разорвали воздух оглушительными залпами и продолжительной пальбой из мушкетов, которая наложилась на грохот тамбуринов, бряцанье бубнов и скрежет дутаров. Их пистолеты и ружья, заряженные порохом, подкрашенным, по китайской моде, какой-то металлической примесью, выбрасывали — длинные красно-сине-зеленые струи; казалось, все эти группы солдат мечутся внутри фейерверка. В каком-то смысле это увеселение напоминало цибистику древних, нечто вроде военного танца, когда главные исполнители извивались меж остриями мечей и кинжалов; возможно, традиция эта передалась и народам Центральной Азии; однако татарской цибистике особую странность придавали разноцветные огни, сыпавшиеся на головы танцовщиц, когда огненная вспышка превращалась в пылающий дождь. Это было что-то вроде калейдоскопа искр, сочетания которых при каждом движении танцовщиц множились до бесконечности.
Сколь ни был журналист-парижанин пресыщен подобными, давно превзойденными в современной постановке эффектами, он то и дело невольно кивал головой, что от бульвара Монмартр до площади Мадлэн означало: «Недурно! Недурно!»
Вдруг, словно по сигналу, все огни джигитовки потухли, пляски прекратились, танцовщицы исчезли. Церемония закончилась, и одни лишь факелы освещали помост, только что светившийся множеством огней.
По знаку эмира на середину площади вывели Михаила Строгова.
— Блаунт, — спросил Альсид Жоливэ у своего компаньона, — вы решительно настаиваете на том, чтобы досмотреть все до конца?
— Ни в коей мере, — ответил Гарри Блаунт.
— Надеюсь, ваши читатели «Daily Telegraph» не столь уж охочи до подробностей казни на татарский манер?
— Не более, чем ваша кузина.
— Бедный парень! — добавил Альсид Жоливэ, глядя на Михаила Строгова. — Такой храбрый солдат заслуживал бы смерти на поле брани!
— И мы ничего не можем сделать, чтоб его спасти? — спросил Гарри Блаунт.
— Мы не можем ничего.
Оба журналиста помнили, с какой великодушной щедростью Михаил Строгов вел себя по отношению к ним; понимали, через какие испытания ему, невольнику долга, пришлось пройти. И вот теперь, в окружении татар, не знавших, что такое жалость, они ничем не могли ему помочь!
Не испытывая желания присутствовать при казни, уготованной несчастному, журналисты возвратились в город.
Часом позже они уже поспешали по дороге на Иркутск, намереваясь теперь уже среди русских следить за тем, что Альсид Жоливэ заранее окрестил «кампанией реванша».
А тем временем Михаил Строгов стоял с высоко поднятой головой, устремив гордый взгляд на эмира и презрительный — на Ивана Огарева. Он готовился к смерти, но напрасно было искать на его лице признаков слабости.
Зрители, что остались на площади, как и весь штаб Феофар-хана, для кого предстоявшее зрелище было лишь новым развлечением, ждали свершения казни. Насытив свое любопытство, эта дикая орда собиралась предаться пьянству.
Эмир подал знак. Михаил Строгов, подталкиваемый стражниками, приблизился к площадке, и Феофар-хан на татарском языке, понятном пленнику, сказал:
— Русский шпион, ты пришел, чтобы видеть. Ты видел в последний раз. Еще миг, и твои глаза навсегда закроются для света!
Итак, Михаила Строгова собирались покарать не смертью, а ослеплением. Потерять зрение — это, пожалуй, даже страшнее, чем потерять жизнь! Несчастный был приговорен к вечной слепоте.
И все-таки, узнав, какую казнь уготовил ему эмир, Михаил Строгов не дрогнул. По-прежнему стоял с бесстрастным лицом, широко открыв глаза, словно этим последним взглядом хотел охватить всю свою жизнь. Молить этих жестоких людей о пощаде не имело смысла, да и было недостойно его. Об этом он даже не думал. Вся мысль его сосредоточилась на безвозвратно проваленном деле, на матери, на Наде, которых ему никогда больше не увидеть! Но внешне он ничем не выдал своих переживаний.
Потом все существо его охватила вдруг жажда мести, которую, несмотря ни на что, надо было свершить. И он обернулся к Ивану Огареву.
— Иван, — произнес он сурово. — Иван-предатель, последний мой взгляд будет угрозой тебе!
Иван Огарев пожал плечами.
Но Михаил Строгов ошибался. Угаснуть навсегда его глазам суждено было отнюдь не при взгляде на Ивана Огарева.
Перед ним стояла Марфа Строгова.
— Матушка! — воскликнул он. — Да! Да! Тебе мой последний взгляд, никак не этому ничтожеству! Останься здесь, передо мной! Дай посмотреть на дорогое лицо твое! И пусть глаза мои закроются, глядя на тебя!…
Старая сибирячка, не говоря ни слова, подходила все ближе…
— Прогоните эту женщину! — крикнул Иван Огарев.
Двое солдат оттолкнули Марфу Строгову. Она отступила назад и остановилась в нескольких шагах от сына.
Появился палач. На этот раз оголенная сабля была у него в руке, и саблю эту, раскаленную добела, он тол ько что вынул из печки, где пылали благовонные угли.
Михаила Строгова собирались ослепить по татарскому обычаю — пылающим клинком, пронесенным перед глазами!
Михаил Строгов не пытался сопротивляться. На целом свете для его глаз не существовало уже ничего, кроме матери, и он неотрывно глядел на нее! Вся жизнь его была в последнем этом взгляде!
Марфа Строгова, широко раскрыв глаза и протягивая к сыну руки, тоже не отрывала от него глаз!…
Раскаленное лезвие прошло перед глазами Михаила Строгова.
Раздался вопль отчаяния. Старая Марфа без чувств рухнула наземь!
Михаил Строгов был слеп.
После выполнения своих приказов эмир со всем своим окружением удалился. И вскоре на площади остались лишь Иван Огарев и факельщики.
Хотел ли негодяй еще как-нибудь оскорбить свою жертву и добить ее последним ударом?
Иван Огарев медленно приблизился к Михаилу Строгову, и тот, почувствовав врага радом, выпрямился.
Иван Огарев извлек из кармана письмо императора и, развернув его, с дьявольской усмешкой поднес к потухшим глазам царского гонца.
— А теперь читай, Строгов. Читай и отправляйся в Иркутск — пересказать прочитанное! Настоящий гонец царя — я, Иван Огарев!
Сказав это, предатель спрятал письмо у себя на груди и, не оборачиваясь, покинул площадь. Факельщики последовали за ним.
Михаил Строгов остался один, в нескольких шагах от матери, лежавшей бездыханной, может быть — мертвой.
Издалека доносились крики, дикие песни — это бушевала оргия. Томск сверкал огнями, как в праздник.
Михаил Строгов прислушался. На безлюдной площади было тихо.
И тогда, осторожно ступая, он пошел к тому месту, где упала мать. На ощупь отыскал ее, склонился над телом, коснулся щекой ее щеки, прислушался к биению сердца. И заговорил с ней, совсем тихо.
Была ли старая Марфа еще жива, слышала ли, что говорит ей сын?
Во всяком случае, она не шевельнулась.
Михаил Строгов поцеловал мать в лоб, в седые волосы. Потом выпрямился и, ощупывая землю ногой, пытаясь вытянуть перед собой связанные руки, медленно пошел с площади.
И вдруг на площади появилась Надя.
Она бросилась к своему спутнику. Кинжалом, который был у нее в руках, разрезала веревки на руках Михаила Строгова.
Тот не знал, кто развязывает его, ведь Надя не произнесла ни звука.
И только окончив дело, произнесла:
— Братец!
— Надя! — прошептал он. — Надя!
— Идем, братец, — поторопила Надя. — Отныне мои глаза будут твоими глазами, я поведу тебя в Иркутск!
Глава 6 ДРУГ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
Через полчаса Михаил Строгов и Надя покинули Томск.
Этой ночью еще нескольким пленникам тоже удалось бежать, так как татары — и офицеры и солдаты, — одурев от пьянящих напитков, невольно ослабили суровую бдительность, строго соблюдавшуюся до той поры, будь то в Забедьеве или при конвоировании пленных на марше. Только поэтому Наде, которую сначала увели вместе с другими пленными, повезло ускользнуть от стражников и вернуться на площадь, как раз когда Михаила Строгова поставили перед эмиром.
Там, смешавшись с толпой, она увидела все. И не издала ни звука, когда раскаленное добела лезвие прошло перед глазами ее спутника. У девушки хватило сил замереть и смолчать. Какое-то озарение свыше повелело ей, пока она свободна, беречь себя, чтобы довести сына Марфы Строговой до цели, которую тот поклялся достичь. На какой-то момент, когда старая сибирячка упала без чувств, у нее самой остановилось сердце, но присутствие духа вернулось к ней вместе с неожиданной мыслью.
«Я стану собакой-поводырем слепого!» — сказала она себе.
После ухода Ивана Огарева Надя, спрятавшись в тени, дождалась, когда разойдется толпа. Михаил Строгов, брошенный как никчемное ничтожество, которого уже нечего бояться, остался один. Она видела, как он дотащился до своей матери, склонился над ней, поцеловал в лоб, потом поднялся и наугад пытался уйти…
Некоторое время спустя она и он, держась за руки, спустились по крутому склону и, пройдя берегом Томи до окраины города, удачно пробрались сквозь пролом в крепостной стене.
На восток, в сторону Иркутска, шла только одна дорога. Ошибиться было невозможно. И Надя быстро повлекла за собой Михаила Строгова. Оставалась опасность, что назавтра, после затянувшейся оргии, дозорные эмира, снова выехав в степь, перекроют всякое сообщение. Важно было их опередить, раньше добраться до Красноярска, находившегося от Томска в пятистах верстах (533 километрах), чтобы как можно дольше держаться большака. Двигаться по бездорожью означало ненадежность, неизвестность и скорую гибель.
Как удалось Наде вынести тяжкую усталость этой ночи с 16 на 17 августа? Как достало сил одолеть этот долгий переход? Как ноги ее, кровоточившие после форсированного марша, смогли донести ее до места? Все это остается загадкой. Так или иначе, спустя двенадцать часов после выхода из Томска Михаил Строгов и она, одолев пятьдесят верст, добрались до села Семилужское.
Михаил не проронил ни слова. Всю эту ночь не Надя держала его руку, а он держался за руку своей спутницы; и, верно, благодаря этой руке, уже одной своей дрожью направлявшей его, прошел этот путь обычным своим шагом.
Семилужское было почти безлюдно. В страхе перед татарами жители бежали в Енисейскую губернию. Люди оставались разве что в двух-трех домах. Все, что имелось в селе полезного или ценного, уже увезли на телегах.
И все-таки не только Наде требовалась передышка хотя бы на несколько часов. Они оба нуждались в еде и отдыхе. И девушка повела своего спутника на окраину поселка. Там стояла пустая изба с распахнутой дверью. Они вошли. Посреди комнаты возле высокой печки, обычной для любого сибирского жилья, стояла разбитая деревянная скамья. На нее они и присели.
Только теперь Надя посмотрела своему слепому спутнику прямо в лицо, как никогда не смотрела прежде. И во взгляде ее угадывалось нечто большее, чем признательность или жалость. Если бы Михаил Строгов мог видеть, то прочел бы в этом милом, безутешном взгляде выражение бесконечной преданности и нежности.
Веки слепого, покрасневшие от раскаленного клинка, лишь наполовину прикрывали совершенно сухие глаза. Белки глаз слегка съежились и словно ороговели, необычно расширились зрачки; радужная оболочка синего цвета казалась более темной, чем прежде; ресницы и брови опалены; и все же — во всяком случае, так могло показаться, проницательный взгляд молодого человека не претерпел вроде бы никаких изменений. Если он совсем ничего не видел, если слепота была полной, то это потому, что жгучий жар металла полностью разрушил чувствительность сетчатки и зрительного нерва.
Михаил Строгов вытянул перед собой руки.
— Ты здесь, Надя? — спросил он.
— Да, — ответила девушка, — я рядом, Миша, и больше никогда тебя не оставлю.
Услышав свое имя, произнесенное Надей впервые, Михаил Строгов вздрогнул. Он понял, что его спутница знает все — и кто он, и какие узы связывают его со старой Марфой.
— Надя, — возразил он, — нам, однако, придется расстаться!
— Расстаться? Но почему, Миша?
— Я не хочу быть препятствием на твоем пути! В Иркутске тебя ждет твой отец! И ты должна быть вместе с ним!
— Мой отец проклял бы меня, Миша, если бы после всего, что ты для меня сделал, я тебя бросила!
— Но Надя! Надя! — воскликнул Михаил Строгов, сжимая руку, которую девушка положила ему на ладонь. — Тебе надо думать только об отце!
— Миша, — возразила Надя, — тебе я нужна сейчас больше, чем отцу! Неужели ты отказываешься идти в Иркутск?
— Вот уж нет! — воскликнул Михаил Строгов тоном, не оставлявшим сомнения, что духовных сил у него никак не убавилось.
— Но ведь у тебя уже нет письма!…
— Письма, украденного Иваном Огаревым!… Ну что ж, Надя! Я смогу обойтись и без него! Они поступили со мной как со шпионом! Вот я и буду действовать как шпион! Я дойду до Иркутска и расскажу все, что я видел и слышал, и, клянусь Богом, живым — предатель еще столкнется со мной лицом к лицу! Но для этого я должен добраться до Иркутска раньше него.
— И ты говоришь, что нам надо расстаться?
— Надя, эти негодяи отняли у меня все!
— У меня осталось несколько рублей и мои глаза! Я могу видеть за тебя, Миша, и привести тебя туда, куда один ты уже не можешь дойти!
— И как же мы пойдем?
— Пешком.
— А чем будем жить?
— Просить милостыню.
— Ну что ж, Надя, пошли!
— Пошли, Миша.
Молодые люди больше не называли друг друга братом и сестрой. Общая беда еще теснее связала их. С часок отдохнув, они покинули избу. Обежав улочки поселка, Надя раздобыла несколько кусков «черного хлеба» — того особого хлеба, что пекут из ржаной муки, и немного сладости, которая в России известна под названием «мед». Все это не стоило ей ни копейки, она и впрямь попробовала стать попрошайкой. Этот хлеб и мед в какой-то мере утолили голод и жажду Михаила. Надя приберегла для него большую часть убогой милостыни. Он ел хлеб кусочками, которые протягивала ему спутница. И пил из фляги, которую она подносила к его губам.
— А ты сама-то ешь, Надя? — то и дело спрашивал он.
— Да, Миша, — неизменно отвечала девушка, довольствуясь тем, что оставалось.
Выйдя из Семилужского, Михаил и Надя вновь продолжили свой мучительный путь на Иркутск. Девушка из последних сил боролась с усталостью. Если бы Михаил Строгов мог ее видеть, он, наверное, не решился бы идти дальше. Но Надя не жаловалась, и он, не слыша вздохов, шагал с той поспешностью, которую не в его власти было себе запретить. Да и зачем? Может, он надеялся еще больше оторваться от татар? Правда, идет он пешком, без денег, слепой, и если бы не Надя, его единственный поводырь, ему только и осталось бы, что улечься на обочине дороги и умереть жалкой смертью! И все же если, собрав все силы, добраться до Красноярска, то не все еще потеряно, ведь губернатор, которому он представится, тут же распорядится предоставить ему повозку до самого Иркутска.
И Михаил Строгов шел, почти не разговаривая, погруженный в свои мысли. Он держался за Надину руку. И тем самым они непрерывно общались друг с другом. Обоим казалось, что для обмена мыслями слова уже не нужны. Время от времени Михаил Строгов просил:
— Поговори со мной, Надя.
— Зачем, Миша? Мы и так думаем вместе! — отвечала девушка, стараясь не выдать голосом своего изнеможения.
Но порой, словно вдруг на миг сдавало сердце, у нее подкашивались ноги, замедлялся шаг, опускалась рука, и она отставала от спутника. Тогда Михаил Строгов останавливался, устремлял на бедную девушку незрячие глаза, будто пытаясь различить ее сквозь тьму, которую нес в себе. Грудь его высоко вздымалась; затем, стараясь заботливо поддерживать спутницу под руку, снова шагал вперед.
Однако в этот день, среди непрестанных мучений, случилось счастливое событие, которое помогло им обоим сберечь свои силы.
После выхода из Семилужского прошло часа два, как вдруг Михаил Строгов замер на месте.
— На дороге никого нет? — спросил он.
— Ни души, — ответила Надя.
— Ты не слышишь позади никакого шума?
— И в самом деле.
— Если это татары, нужно спрятаться. Посмотри как следует.
— Постой здесь, Миша! — сказала Надя и прошлась назад по дороге, которая через несколько шагов круто заворачивала вправо.
Михаил Строгов, оставшись один, напряг слух. Почти тут же Надя вернулась и сообщила:
— Это повозка. Правит молодой парень.
— Он один?
— Один.
Михаил Строгов на миг заколебался. Прятаться? Или, напротив, попытать счастья и попросить в этой повозке места — если не самому, то хотя бы для Нади? Самому ему достаточно держаться за повозку рукой, если понадобится, он мог бы ее и подтолкнуть, ведь ему-то ноги пока что служат. Зато он отчетливо представлял, что у Нади, которая после переправы через Обь бредет пешком вот уже более недели, силы на исходе.
И он решил подождать.
Вскоре повозка доехала до поворота.
Повозка эта, по-местному «кибитка», имела весьма плачевный вид и едва-едва могла вместить троих.
Обычно в кибитку запрягают трех лошадей, но эту тащила всего одна, длинношерстая и длиннохвостая, чья монгольская кровь давала ей силу и напористость.
Правил ею молодой парень, рядом с ним сидела собачонка.
Надя сразу поняла, что парень — русский. У него было добродушное, флегматичное, внушавшее доверие лицо. К тому же он, казалось, никуда не спешил. Щадя лошадь, ехал спокойным шагом, и, глядя на него, трудно было представить, что на дороге, по которой он едет, могут с минуты на минуту появиться татары.
Держа Михаила Строгова за руку, Надя сошла на обочину. Кибитка остановилась, и возница с улыбкой посмотрел на девушку.
— Куда же это вы так вот бредете? — спросил он у нее, и добрые глаза его округлились от удивления.
Михаилу Строгову показалось, что он где-то слышал этот голос. И видимо, по голосу он сразу же опознал возницу кибитки, ибо напряженная складка на его лбу тотчас разгладилась.
— Так куда же вы идете? — повторил вопрос парень, обращаясь теперь прямо к Михаилу Строгову.
— Мы идем в Иркутск, — ответил тот.
— Эх, батюшка, ты, видать, не знаешь, сколько еще верст да верст до Иркутска?
— Знаю.
— И идешь пешком?
— Пешком.
— Сам-то уж ладно! А барышня?…
— Это моя сестра, — сказал Михаил Строгов, сочтя благоразумным вновь называть Надю этим именем.
— А хоть бы и сестра, батюшка! Только поверь мне — ей до Иркутска нипочем не дойти!
— Дружище, — отвечал, подходя ближе, Михаил Строгов. — Нас обобрали татары, и у меня нет ни копейки заплатить тебе; но если бы ты подсадил к себе мою сестру, то я пошел бы за повозкой пешком, даже побежал бы, коли надо, и ни на час не задержал бы тебя…
— Братец, — воскликнула Надя, — я не хочу!… Не хочу! Сударь, ведь мой брат слепой!
— Слепой! — повторил парень с волнением в голосе.
— Татары выжгли ему глаза! — продолжала Надя, протягивая руки, словно моля о жалости.
— Выжгли глаза? Ох, бедный ты мой батюшка! Сам я в Красноярск еду. Так почему бы и тебе с сестрицей в кибитку не сесть? Ежели немного потесниться, мы и втроем уместимся. А моя собачка не прочь и пробежаться. Только я не очень быстро поеду — коня жалко.
— Как зовут-то тебя, дружище? — спросил Михаил Строгов.
— Николаем Пигасовым зовут.
— Теперь твоего имени я уж вовек не забуду, — сказал Михаил Строгов.
— Ну так садись, батюшка. Сестрица твоя рядом усядется, в глубине повозки, там береста и солома есть, вроде как в гнезде, а я впереди править буду. — Ну-ка, Серко, освободи место!
Собачка, не заставив себя упрашивать, спрыгнула на землю. Это существо было сибирской породы, с серой шерстью, небольшого роста, с широкой доброй и ласковой мордой, очень, судя по всему, привязанное к своему хозяину.
Михаил Строгов и Надя тут же уселись в кибитку. Михаил Строгов протянул руки, как будто искал руки Николая Пигасова.
— Это ты мне руку пожать хочешь! — догадался Николай. — Вот тебе, батюшка, мои руки! Жми, сколько нравится!
Кибитка покатила дальше. Лошадь, которую Николай и не думал хлестать, шла иноходью. Если Михаил Строгов и не выигрывал ничего в скорости, то, по крайней мере, Надя теперь не устав ала, как прежде.
Девушка была настолько измождена, что, укачиваемая однообразной тряской кибитки, вскоре погрузилась в сон, походивший на беспамятство. Михаил Строгов и Николай как могли удобнее уложили ее на березовых листьях. Полный сочувствия паренек был глубоко взволнован, а если глаза Михаила Строгова не увлажнила ни одна слезинка, то конечно же лишь потому, что раскаленный металл выжег последнюю!
— Она очень славная, — сказал Николай.
— Да, — согласился Михаил Строгов.
— Им, батюшка, и сильными хочется быть, и храбрятся-то они, а, по сути, ведь слабенькие, голубушки! Вы издалека идете?
— Да, из очень далекого далека.
— Бедные вы мои! Небось очень больно было, когда они глаза тебе выжигали?
— Очень, — ответил Михаил Стогов, обернувшись, как будто мог видеть Николая.
— Ты не заплакал?
— Заплакал.
— Я бы тоже заплакал. Подумать только — ведь больше никогда не увидишь тех, кого любишь. Но хотя бы они тебя видят. Может, в этом и есть какое-то утешение!
— Да, может, и есть! А скажи мне, дружище, — ты меня нигде не мог видеть?
— Тебя, батюшка? Нет, нигде.
— А то голос твой мне вроде как знаком.
— Смотри-ка! — улыбнулся Николай. — Мой голос ему знаком! Может, ты хотел узнать, откуда я еду? Так я тебе скажу: из Колывани.
— Из Колывани? — переспросил Михаил Строгов. — Тогда, значит, там я с тобой и встречался. Ты был на телеграфной станции?
— Такое возможно, — ответил Николай. — Я там жил. Был служащим, занимался отправкой телеграмм.
— И оставался там до последнего момента?
— А как же! Как раз тогда-то там и нужно быть!
— Это случилось в тот день, когда англичанин и француз с рублевыми монетами в руках ссорились из-за места у твоего окошечка; англичанин еще отправил телеграмму с первыми стихами из Библии, ведь так?
— Возможно, батюшка, хоть я этого и не помню!
— Как? Совсем не помнишь?
— Я никогда не читаю депеш, которые передаю. Ведь мой долг — забывать их, а самое простое — не знать.
В этом ответе был весь Николай Пигасов.
Тем временем кибитка катила себе неспешным ходом, который Михаилу Строгову хотелось бы ускорить. Однако Николай и его лошадь привыкли к такому ритму, и ни тот, ни другая не желали его менять. Лошадь три часа шла, а час отдыхала — и так днем и ночью. Во время остановки она паслась, а пассажиры перекусывали в компании верного Серко. Еды в кибитке было запасено самое малое человек на двадцать, и Николай щедро предоставил свои запасы в распоряжение гостей, которых считал братом и сестрой.
После целого дня отдыха Надя отчасти восстановила силы. Николай следил, чтобы ей было как можно удобнее. Путешествие протекало в сносных условиях, — конечно, медленно, но заведенным порядком. Иногда случалось, что среди ночи Николай, продолжая править, засыпал и истово храпел, что говорило о его спокойной совести. Быть может, в такие вот минуты, напрягши зрение, можно было увидеть, как рука Михаила Строгова перехватывает вожжи, побуждая лошадь ускорить шаг, — к великому удивлению Серко, который, однако, помалкивал. Но как только Николай просыпался, рысь снова сменялась иноходью, однако кибитка уже успевала пройти несколько верст на повышенной скорости.
Так миновали они речку Ишимку, селение Ишимск[95], Берикыльск[96] и Кюск, реку Мариинку, село того же названия[97], потом Богословск[98] и, наконец, Чулу, маленькую речушку, которая отделяет Западную Сибирь от Восточной[99]. Дорога шла то через обширные песчаные равнины, открывавшие взгляду широкий обзор, то средь густых еловых чащ, которым, казалось, не будет конца.
Нигде ни души. Поселки почти полностью обезлюдели. Крестьяне бежали за Енисей, в надежде, что широкая эта река, быть может, остановит татар.
Двадцать второго августа кибитка доехала до городка Ачинска, что от Томска в трехстах восьмидесяти верстах. До Красноярска оставалось еще сто двадцать верст. Пока ничего чрезвычайного не произошло. Все шесть дней, что они были вместе, Николай, Михаил Строгов и Надя оставались прежними: одному ни на миг не изменило его спокойствие, остальных не оставляло беспокойство при мысли о том часе, когда их спутник должен будет с ними расстаться.
Местность, которую они проезжали, Михаил Строгов видел — если можно так сказать — глазами Николая и девушки. Они поочередно живописали ему места, через которые ехала кибитка. Он знал, лес ли вокруг или равнина, не виднеется ли в степи избушка и не показался ли в поле зрения местный житель-сибиряк. Николай был неистощим. Он любил поговорить, и, сколь бы своеобразно ни виделись ему вещи, слушать его было приятно.
Как-то днем Михаил Строгов спросил у него о погоде.
— Вполне пригожая, батюшка, — отвечал тот, — однако это последние дни лета. Осень в Сибири короткая, и первые зимние холода скоро уже дадут о себе знать. Быть может, татары решат привести холодное время на зимних квартирах?
Михаил Строгов в сомнении покачал головой.
— Стало быть, ты, батюшка, в это не веришь, — отметил Николай. — Думаешь, они пойдут на Иркутск?
— Боюсь, что так, — ответил Михаил Строгов.
— Да… ты прав. С ними один скверный тип, который не даст им застыть по дороге. Слышал об Иване Огареве?
— Да.
— Знаешь, ведь предавать свою страну нехорошо?
— Да… это нехорошо… — отвечал Михаил Строгов, желая остаться бесстрастным.
— Послушай, батюшка, — заметил Николай, — тебя, мне кажется, не очень-то возмущает, когда при тебе заводят речь об Иване Огареве! При этом имени русская душа не может не содрогнуться!
— Поверь, дружище, твоей ненависти к нему никогда не сравниться с моей, — сказал Михаил Строгов.
— Быть того не может, — ответил Николай, — нет, не может! Когда я думаю об Иване Огареве, о том зле, которое он содеял нашей святой Руси, меня охватывает ярость, и попадись он мне в руки…
— И попадись он тебе в руки, дружище?…
— Мне кажется, я убил бы его.
— А я в этом уверен, — спокойно ответил Михаил Строгов.
Глава 7 ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ
Двадцать пятого августа к концу дня показался Красноярск. Путь от Томска занял восемь дней. И если, несмотря на все старания Михаила Строгова, быстрее доехать не удалось, то это объяснялось тем, что Николай мало спал. А значит, не было возможности подстегнуть его лошадь, которая, попади она в другие руки, проделала бы тот же путь всего за шестьдесят часов.
К великому счастью, о татарах пока речи не возникало. Ни одного разведчика не встретилось на дороге, которой только что проехала кибитка. Это казалось необъяснимым, и, по-видимому, должно было произойти какое-то очень серьезное событие, помешавшее войскам эмира без промедления двинуться на Иркутск.
И это важное событие действительно произошло. Чтобы отбить Томск, на город был брошен новый русский корпус, наскоро собранный в Енисейской губернии. Слишком слабый, однако, сравнительно с объединившимися ныне войсками эмира, он вынужден был отступить. Под началом у Феофар-хана, включая его собственных солдат и солдат Кокандского и Кундузского ханств, состояло теперь двести пятьдесят тысяч человек, против которых русское правительство не могло пока выставить достаточных сил. Сдержать нашествие в ближайшее время казалось невозможным, и татары всей своей массой могли вот-вот двинуться на столицу Сибири.
Сражение под Томском произошло — о чем Михаил Строгов не знал — 22 августа, и именно поэтому к 25 августа авангард эмира еще не появился под Красноярском.
И все же, если Михаил Строгов и не мог знать о последних событиях, случившихся после его ухода, он твердо был уверен в одном: ему удалось на несколько дней опередить татар, и, стало быть, оставалась надежда раньше них попасть в Иркутск, от которого теперь отделяли восемьсот пятьдесят верст (900 километров).
К тому же в Красноярске, городе с населением примерно в двенадцать тысяч душ, он рассчитывал легко найти транспорт. Коль скоро Николаю Пигасову предстоит в этом городе остановиться, придется найти проводника и заменить кибитку каким-нибудь другим, более быстрым средством передвижения. Михаил Строгов не сомневался, что после обращения к губернатору и установления его личности царского гонца — с чем трудностей не возникнет — он получит возможность достичь Иркутска в самый короткий срок. И тогда останется лишь поблагодарить славного Николая Пигасова и немедленно вместе с Надей продолжить путь: Михаил Строгов не хотел расставаться с девушкой, не передав ее в руки отца.
Однако Николай хотел остановиться в Красноярске лишь, как он выразился, «при условии найти там себе должность». Этот образцовый служащий, до последней минуты остававшийся на своем посту в Колывани, намеревался вновь предложить себя в распоряжение администрации.
— Зачем мне получать жалованье, если я его не заработаю? — повторял он.
Если бы его услуги не потребовались в Красноярске, где телеграфная связь с Иркутском поддерживалась всегда, то он хотел ехать либо до станции Удинск, либо до самой сибирской столицы. И в таком случае мог продолжить путешествие с братом и сестрой. А в ком еще смогли бы они найти более надежного проводника и более преданного друга?
Кибитка находилась уже в полуверсте от Красноярска. Справа и слева видны были бесчисленные деревянные кресты, которые обычно ставят вдоль дорог в городском предместье. Было семь часов вечера. На высоком утесе над Енисеем на фоне ясного неба вырисовывались силуэты церквей и контуры домов. Последние отблески заходящего солнца, рассеянные в атмосфере, отражались в водах реки.
Кибитка остановилась.
— Где мы, сестрица? — спросил Михаил Строгов.
— Самое большее в полуверсте от первых домов, — ответила Надя.
— А что, город уже спит? — продолжал спрашивать Михаил Строгов. — До моих ушей не доносится ни звука.
— А я не вижу ни блеска огней в темноте, ни дыма, уходящего в небо, — добавила Надя.
— Странный город, — произнес Николай. — Здесь не шумят и рано ложатся спать.
Душу Михаила Строгова пронзило недоброе предчувствие. Он еще не рассказывал Наде о своих планах, которые связывал с Красноярском, рассчитывая найти здесь средства для надежного завершения своего путешествия. И очень боялся, как бы его расчеты не рухнули еще раз! Но Надя угадала его мысль, хотя уже не понимала, зачем ее спутнику спешить в Иркутск теперь, когда у него уже нет письма императора. Как-то она уже заводила об этом разговор.
«Я поклялся достигнуть Иркутска!» — только и ответил он ей.
Но для выполнения своей миссии ему требовалось еще и найти в Красноярске какое-нибудь быстрое средство передвижения.
— Послушай, дружище, — обратился он к Николаю, — отчего мы стоим?
— Да вот боюсь разбудить жителей окраины скрипом моей телеги!
Николай чуть тронул лошадь кнутом. Серко несколько раз тявкнул, и кибитка мелкой рысью стала спускаться по дороге, вползавшей в Красноярск.
Десять минут спустя кибитка въезжала на главную улицу.
Красноярск был пуст! Ни одного афинянина в этих «Северных Афинах», как величает город мадам Бурбулон. Ни одного из экипажей в блестящей упряжке не катилось по его чистым, широким улицам. Ни одного прохожего не видно было на тротуарах, что тянулись вдоль великолепных деревянных домов, видом своим напоминающих монументы! Ни одной элегантной сибирячки, одетой по последней французской моде, не прогуливалось по этому замечательному парку, выкроенному из березовой рощи и тянувшемуся до самого берега Енисея! Немотствовал массивный колокол собора, молчали куранты на церквах, а ведь нечасто случается, чтобы русский город не полнился звоном колоколов! Но здесь царило полное запустение. В городе, еще недавно столь оживленном, не было ни одного живого существа!
Последняя телеграмма, пришедшая из царской канцелярии до того, как провод был оборван, содержала приказ губернатору, гарнизону и жителям, кто бы они ни были, покинуть Красноярск, забрать все, что имело хоть какую-нибудь ценность или могло представлять хоть какую-то пользу для татар, и укрыться в Иркутске. Предписание относилось и ко всем жителям губернии. Московское правительство хотело, чтобы глазам захватчиков предстала пустыня. Эти приказы в духе Ростопчина[100] ни у кого ни на миг не вызвали желания обсуждать. Они были выполнены, поэтому-то в Красноярске не осталось теперь ни одной живой души.
Михаил Строгов, Надя и Николай молча проехали по городским улицам. Невольно рождалось впечатление внезапной летаргии. Лишь гулкий стук колес кибитки да цоканье копыт нарушали тишину этого мертвого города. Михаил Строгов ничем не выдал обуревавших его чувств, но ему пришлось пережить острый приступ ярости против злого рока, который неотступно преследовал его, — ведь надежды его снова оказались обмануты.
— Боже милостивый! — воскликнул Николай. — В этой пустыне мне нипочем не удастся заработать!
— Друг, — сказала Надя, — вам стоит ехать с нами до Иркутска.
— И впрямь, стоит! — решил Николай. — Между Удинском и Иркутском телеграф еще действует, и уж там-то… Мы едем, батюшка?
— Подождем до завтра, — ответил Михаил Строгов.
— Ты прав, — согласился Николай. — Нам ведь через Енисей переезжать, осмотреться надо!…
— Осмотреться! — прошептала Надя, думая о своем слепом спутнике.
Николай услышал ее и повернулся к Михаилу Строгову:
— Извини, батюшка, я и забыл — для тебя что день, что ночь — увы! — одно и то же!
— Не терзайся, дружище, — ответил Михаил Строгов, проведя рукой по глазам. — С таким проводником, как ты, я еще кое-что могу. Отдохни несколько часиков. Пусть и Надя отдохнет. Завтра снова рассвет!
Долго искать места для отдыха им не пришлось. Первый же дом, куда они толкнулись, оказался пуст — как и все остальные. Там лишь ворохами валялись листья. За неимением лучшего лошади пришлось довольствоваться этой скудной едой. Запасов провизии в кибитке пока хватало, и каждый взял свою долю. Затем, преклонив колени перед скромным образком Девы Марии, что висел на стене, освещенный последним пламенем лампы, Николай и девушка уснули; бодрствовал только Михаил Строгов, над которым сон не имел власти.
На другой день, 26 августа, еще до света, вновь запряженная кибитка спускалась через березовый парк к обрывистому берегу Енисея.
Михаил Строгов был весьма озабочен. Как переправиться через реку, ведь лодки и паром, вероятнее всего, уничтожены — лишь бы приостановить продвижение татар! Енисей он знал, так как не раз уже пересекал его. Знал, что река очень широка, и в том двойном русле, которое она пробила меж островами, бурлят мощные стремнины. При обычных обстоятельствах на паромах, специально оборудованных для пассажиров, повозок и лошадей, переправа через Енисей занимает около трех часов, и правого берега они достигают лишь ценой неимоверных усилий. А как переправиться на другой берег в кибитке при полном отсутствии плавучих средств?
«И все же я переберусь!» — твердил Михаил Строгов.
Уже занималась заря, когда кибитка выехала на берег, как раз там, где кончалась одна из главных парковых аллей. В этом месте берег возвышался на сто футов над уровнем воды. И взгляду открывался широкий обзор.
— Вы видите паром? — спросил Михаил Строгов, лихорадочно водя глазами — явно в силу машинальной привычки, как будто мог что-то увидать.
— Еще только-только светает, брат, — ответила Надя. — Над рекой густой туман, воды за ним не видно.
— Но я слышу ее рев! — настаивал Михаил Строгов.
И в самом деле, из-под нижних слоев тумана слышалось глухое кипенье сталкивающихся потоков и противотоков. Речные воды, уровень которых в это время года очень высок, неслись, судя по шуму, стремительно и бурно. Все трое слушали и ждали, когда же наконец подымется туманная завеса. Над горизонтом быстро поднималось солнце, и его первые лучи вот-вот должны были рассеять предрассветную мглу.
— Ну как? — спросил Михаил Строгов.
— Туман понемногу редеет, братец, — ответила Надя, — и сквозь него уже пробивается свет.
— А уровня воды, сестрица, еще не видно?
— Еще нет.
— Потерпи немного батюшка, — заговорил Николай. — Всю эту мглу сейчас развеет! Слышь, вот и ветром подуло! Теперь-то уж туман рассеется! На том берегу уже и деревья на холмах показались! Все расходится! Разлетается! От добрых солнечных лучей пелена в клубы собирается! Ах, что за красота, бедный ты мой слепец, какое несчастье, что ты не можешь насладиться этим зрелищем!
— А судна какого-нибудь не видно? — спросил Михаил Строгов.
— Нет, не видно, — ответил Николай.
— Осмотри получше берега, дружище, и этот, и противоположный — насколько у тебя глаз хватит! Хоть какое-нибудь судно — лодка или челнок из коры!
Николай и Надя, держась за крайние березы утеса, склонились над течением реки. Взгляду их предстала неохватная ширь. В этом месте Енисей достигал не менее полутора верст в ширину и образовывал два рукава неравной величины, по которым вода неслась стремительным потоком. Меж рукавов застыли острова — заросшие ольхой, вербой и тополями, они казались зелеными кораблями, вставшими на якорь. За ними, на восточном берегу, громоздились друг над другом высокие холмы, покрытые лесом, верхушки которого уже розовели в свете зари. Выше и ниже, насколько хватало глаз, струился Енисей. Вся эта великолепная панорама представала взгляду в виде обширного круга с периметром в полсотни верст.
Но — ни одной лодки ни на левом, ни на правом берегу, равно как и на островных откосах. Все они были уведены или уничтожены в соответствии с приказом. И конечно, если татары не доставят с юга необходимый для понтонных судов материал, эта водная преграда на какое-то время задержит их поход на Иркутск.
— Я припоминаю, — сказал вдруг Михаил Строгов. — Выше, напротив последних городских домов, находится небольшая гавань. Как раз там и причаливают паромы. Давай-ка, дружище, подымемся по течению, и ты посмотришь, не валяется ли на берегу какой-нибудь забытой лодки.
Николай пошел в указанном направлении. Надя взяла Михаила Строгова за руку и быстрым шагом повела следом. Только бы найти лодку, пусть даже простой челнок, способную удержать кибитку или хотя бы тех, кого она довезла до этих мест, — и Михаил Строгов не стал бы мешкать с переправой!
Через двадцать минут все трое дошли до гавани, где крайние дома спускались к самой реке. Это было что-то вроде деревеньки под самым Красноярском.
Но не было ни лодки на песчаном берегу, ни челнока на сваях, служивших причалом, ни даже чего-либо такого, что годилось бы для постройки плота на троих.
Михаил Строгов выспросил у Николая все, что хотел, и тот дал ему неутешительный ответ: переправа кажется невозможной.
— Мы все равно переправимся, — ответил Михаил Строгов.
И поиски продолжались. Они обыскали на откосе все дома, брошенные, как и всюду в Красноярске. Стоило лишь толкнуться в дверь. Это были совершенно пустые бедняцкие хижины. Николай заходил в одну, Надя осматривала другую. Михаил Строгов и сам заходил туда и сюда, пытаясь на ощупь отыскать предмет, который мог бы ему пригодиться.
Но тщетно шарили они по избам. Николаи и девушка уже собирались бросить поиски, как вдруг услышали, что их зовут.
Оба вернулись на берег и на пороге одной хижины заметили Михаила Строгова.
— Сюда! — крикнул он.
Николай и Надя тотчас подошли и вслед за ним вошли в хижину.
— Что это? — принялся спрашивать их Михаил Строгов, касаясь рукой разных предметов, сваленных в глубине подвала.
— Это бурдюки, — ответил Николай, — и их тут, ей-ей, с полдюжины!
— Они полны?…
— Да, полны кумыса, и это нам очень кстати — пополним наши запасы!
Кумыс — напиток из кобыльего или верблюжьего молока, он укрепляет и даже пьянит, поэтому Николай мог только поздравить себя с этой находкой.
— Отложи один в сторону, а все остальные опорожни.
— Сей момент, батюшка.
— Вот что поможет нам пересечь Енисей.
— А как же плот?
— Плотом послужит сама кибитка, она достаточно легка, чтобы держаться на плаву. К тому же ее, как и лошадь, мы будем поддерживать бурдюками.
— Здорово придумано, батюшка! — воскликнул Николай. — Так, с Божьей помощью, глядишь, и переберемся… хотя, может, и не по прямой, очень уж сильное теченье.
— Это не важно! — ответил Михаил Строгов. — Главное переправиться, а уж там, за рекой, дорогу на Иркутск найти сумеем.
— Тогда за дело, — произнес Николай и начал опоражнивать бурдюки и перетаскивать их к кибитке.
Один бурдюк, полный кумыса, оставили про запас, а остальные, надув воздухом и тщательно заткнув, использовали как плавучие средства. Чтобы поддерживать на поверхности лошадь, два бурдюка следовало подвязать к ее бокам. Два других, прикрепленные меж колес к оглоблям кибитки, должны были поддерживать на нужном уровне кузов, который тем самым превращался в плот.
Вскоре работа была закончена.
— Ты не побоишься, Надя? — спросил Михаил Строгов.
— Не побоюсь, братец, — ответила девушка.
— А ты, дружище?
— Я-то? — вскричал Николай. — Да ведь сбывается наконец моя заветная мечта: поплавать в телеге!
Берег, в этом месте достаточно отлогий, благоприятствовал спуску кибитки. Лошадь дотащила ее до кромки воды, и вскоре все сооружение вместе с его живым мотором уже неслось по течению реки. Серко храбро пустился вплавь.
Пассажиры, стоя в кузове, из предосторожности разулись. Однако благодаря бурдюкам вода поднялась им не выше щиколоток.
Михаил Строгов держал вожжи и, следуя подсказкам Николая, направлял лошадь наискось, стараясь, однако, щадить животное — он не хотел изнурить его в борьбе с течением. Пока кибитка плыла по течению, все шло хорошо, и через несколько минут она уже миновала набережные Красноярска. Ее сносило к северу, и было ясно, что другого берега она достигнет гораздо ниже города. Но это не имело значения.
Переправа через Енисей прошла бы без особых трудностей даже на этом несовершенном сооружении, если бы в смене течений была хоть какая-то постепенность. Но, к большому несчастью, на бурлившей поверхности сталкивалось сразу несколько водоворотов, и вскоре, несмотря на все усилия Михаила Строгова выправить кибитку, ее втянуло в одну из таких воронок.
Опасность резко возросла. Кибитка уже не шла наискосок к берегу, ее уже не сносило течением — она начала с огромной скоростью вращаться, накреняясь к центру водоворота, как наездник на цирковой дорожке. Скорость ее достигла предела. Лошади едва удавалось удерживать над водой голову, и в водовороте она легко могла захлебнуться. Серко пришлось найти точку опоры на крыше кибитки.
Михаил Строгов понял, что происходит. Он почувствовал, что его тащит по кругу, который постепенно сужается и из которого уже не выбраться. Он не произнес ни слова. Ему хотелось бы увидеть опасность, чтобы верней ее избежать… Но в глазах его было темно!
Надя тоже молчала. Вцепившись руками в решетку повозки, она еще сопротивлялась беспорядочным рывкам сооружения, все более кренившегося к центру впадины.
А что же Николай — разве он не понимал серьезности ситуации? Что руководило им — флегматичность или презрение к опасности, смелость или безразличие? Ужели жизнь не имела в его глазах никакой цены, а была, по выражению людей Востока, «гостиницей на пять дней», которую волей-неволей приходится покидать на шестой? Во всяком случае, улыбка ни на мгновение не покидала его лица.
Кибитку по-прежнему крутило водоворотом, и лошадь теряла последние силы. Внезапно Михаил Строгов, скинув те из одежд, которые могли его стеснить, бросился в воду; затем, крепкой рукой ухватив выбивавшуюся из сил лошадь за узду, рванул с такой силой, что сумел отбросить ее от сферы притяжения, и кибитку, тотчас подхваченную быстрым течением, с новой скоростью понесло вниз по реке.
— Ур-ра! — закричал Николай.
Только через два часа после отплытия от причала кибитка пересекла главный рукав реки и пристала к откосу острова — более чем в шести верстах ниже отправной точки.
Здесь лошадь вытащила повозку на берег, и храброму животному дали час отдохнуть. Затем, пройдя поперек всего острова под пологом великолепных берез, кибитка оказалась на берегу малого рукава Енисея.
Здесь переправа прошла легче. Ни один водоворот не нарушал в этом русле течения воды, но оно было столь стремительным, что кибитка смогла пристать к правому берегу лишь пятью верстами ниже по течению. Всего ее отнесло на одиннадцать верст.
Эти огромные, пересекавшие сибирскую землю потоки, через которые не переброшено пока ни одного моста, представляют серьезные препятствия для нормального сообщения. И все они оказались для Михаила Строгова в той или иной степени гибельны. На Иртыше перевозивший их с Надей паром подвергся нападению татар. На Оби, после того как коня сразила пуля, ему лишь чудом удалось спастись от настигавших конников. Без особых несчастий обошлась разве что последняя переправа — через Енисей.
— Все было бы не столь забавно, — воскликнул, потирая руки, Николай, выходивший на правый берег реки, — когда бы не было так трудно!
— То, что для нас, дружище, было просто трудным, — ответил Михаил Строгов, — окажется, быть может, невозможным для татар!
Глава 8 ЗАЯЦ, ПЕРЕБЕЖАВШИЙ ДОРОГУ
Наконец-то Михаил Строгов имел основания считать, что дорога до самого Иркутска свободна. Он опередил татар, задержанных в Томске, а когда солдаты эмира дойдут до Красноярска, они увидят лишь покинутый город. И никаких средств прямого сообщения меж енисейскими берегами. Это означает задержку на несколько дней, пока мост из лодок, который не так-то легко поставить, не откроет им путь.
Впервые после роковой встречи с Иваном Огаревым в Омске царский гонец почувствовал себя спокойнее и мог надеяться, что новых препятствий на пути к цели у него не возникнет.
Кибитка, спустившись на пятнадцать верст наискосок к юго-востоку, вновь вышла на дорогу и продолжила долгий путь, пролегавший через степь.
Дорога была хорошей, да и вообще тот отрезок тракта, что тянется от Красноярска до Иркутска, считается самым лучшим на всем сибирском пути. Меньше тряски для пассажиров; широкий полог тенистой листвы укрывает от солнечного зноя. Это уже не бескрайняя степь, сливающаяся на горизонте с куполом неба, — сосновые или кедровые боры покрывают порой стоверстовые пространства. Но этот богатый край теперь был пуст. Повсюду брошенные деревни. Не встречалось больше и крестьян-сибиряков со славянским типом лица. Кругом лежала пустыня, и, как мы знаем, пустыня, созданная по приказу.
Погода стояла ясная, однако остывший за ночь воздух уже с трудом прогревался солнечными лучами. На пороге стоял сентябрь, а в краю высоких широт дневной путь солнца над горизонтом в это время заметно сокращается. Осень здесь продолжается недолго, хотя эта часть сибирских земель расположена отнюдь не севернее пятьдесят пятой параллели, на которой лежат Эдинбург и Копенгаген. Бывает и так, что зима чуть ли не сразу следует за летом. Они и должны быть ранними — зимы Азиатской России, когда температурный столбик опускается до точки замерзания ртути[101] и температура в двадцать градусов ниже нуля по стоградусной шкале считается терпимой. Итак, погода путешественникам благоприятствовала. Не случалось ни ливней, ни гроз. Жара стояла умеренная, ночами бывало свежо. Надя и Михаил Строгов чувствовали себя неплохо, и с той поры как покинули Томск успели понемногу прийти в себя от изнеможения.
Что до Николая Пигасова, то он никогда не чувствовал себя лучше. Путешествие было для него прогулкой, приятной экскурсией, на которую он тратил свой отпуск служащего, потерявшего службу.
— Ей-богу, — говаривал он, — это куда лучше, чем отсиживать по двенадцать часов на стуле, выстукивая телеграммы!
К этому времени Михаил Строгов уже уговорил Николая, чтобы тот настроил свою лошадку на более резвый бег. Для этого пришлось доверительно сообщить ему, что он и Надя едут повидаться с отцом, сосланным в Иркутск, и очень спешат добраться до места. Разумеется, переутомлять лошадь нельзя, ведь не исключено, что поменять ее на другую не удастся; но если почаще устраивать для нее остановки — например, через каждые пятнадцать верст, то можно с легкостью одолевать по шестьдесят верст в сутки. К тому же лошадь у них крепкая, в самой породе ее заложено не бояться длительного напряжения сил. Тучных пастбищ вдоль дороги ей хватает, сочная трава растет в изобилии. А значит, можно требовать от нее и сверхотдачи.
Николай внял этим доводам. Его очень взволновала история молодых людей, собиравшихся разделить с отцом долю ссыльных. Ничего трогательнее он и представить не мог. И с добрейшей улыбкой сказал Наде:
— Вот это по-божески! Уж как рад-то будет господин Корпанов, когда увидит вдруг своих детей, — руки сами раскроются обнять вас! Если я поеду до Иркутска, — а теперь это очень даже возможно, — вы ведь позволите мне быть при этой встрече, правда?
Потом, хлопнув себя по лбу, спохватился:
— Но ведь и боль какую испытает, когда увидит, что старший сын, бедняга, — слепой! Ох, как все перемешалось на этом свете!
Так или иначе, но кибитка покатила быстрее, делая теперь, по подсчетам Михаила Строгова, от десяти до двенадцати верст в час. И уже 28 августа путешественники миновали Балайск[102], находящийся от Красноярска в восьмидесяти верстах, а 29-го — Рыбинск[103], что в сорока верстах от Балайска.
На следующий день, еще через тридцать пять верст, они подъезжали к Каинску, селению покрупнее, стоявшему на речке того же названия — мелком притоке Енисея, стекающем с Саянских гор. Поселок этот ничем не примечателен, однако его деревянные избы весьма живописно сходились к площади, над которой поднималась высокая колокольня собора, сверкавшая на солнце золотым крестом.
Пустые избы, в церкви ни души. То же безлюдье и на почтовой станции, и на постоялом дворе. Ни одной лошади в конюшнях. Ни одного домашнего животного в степи. Приказы московского правительства выполнялись неукоснительно. Все, что нельзя захватить с собой, было уничтожено.
При выезде из Каинска Михаил Строгов сообщил Наде и Николаю, что теперь до самого Иркутска из сколько-нибудь значительных городов им встретится только Нижнеудинск. Николай ответил, что это ему известно — хотя бы потому, что в городе есть телеграфная станция. И стало быть, если Нижнеудинск окажется таким же безлюдным, как и Каинск, то ему придется искать себе занятие в самой столице Восточной Сибири.
Путникам удалось вброд и без особых передряг перебраться через маленькую речушку, что пересекала дорогу сразу за Каинском. Впрочем, между Енисеем и одним из его главных притоков — рекой Ангарой, на которой и стоит Иркутск, уже не приходилось опасаться серьезных водных преград, разве что реки Динки[104]. И значит, с этой стороны путешествию задержка не грозила.
От Каинска до ближайшего поселка перегон оказался очень длинным, около ста тридцати верст. Разумеется, были соблюдены все регулярные остановки, «в противном случае, — как выразился Николай, — со стороны лошади мог бы последовать справедливый протест». Уже перед этим с мужественным животным договорились, что через каждые пятнадцать верст ему предоставляется отдых, а когда заключают договор, пусть даже с лошадьми, справедливость требует придерживаться его условий.
Утром 4 сентября, переехав речку Бирюсу, кибитка достигла Бирюсинска.
Здесь Николаю, чьи запасы таяли на глазах, повезло обнаружить в брошенной печи дюжину «погачей» — пирогов, испеченных на бараньем жире, и много вареного риса. Эту добавку присоединили к кумысу, в достатке имевшемуся в кибитке еще с Красноярска.
После подобающей случаю остановки путь был продолжен 8 сентября, после обеда. До Иркутска оставалось не более пятисот верст. Позади ничто не предвещало появления татарского авангарда. У Михаила Строгова было достаточно оснований полагать, что путешествию уже ничто не помешает и через неделю, самое большее — десять дней, он предстанет перед Великим князем.
Когда выезжали из Бирюсинска, в тридцати шагах перед кибиткой дорогу перебежал заяц.
— Ох, — вырвалось у Николая.
— Что с тобой, дружище? — живо отозвался Михаил Строгов; его, слепого, настораживал малейший звук.
— Ты не видел?… — спросил Николай, улыбчивое лицо которого вдруг сразу помрачнело.
И добавил:
— Да, конечно! Ты не мог видеть, и это, батюшка, для тебя к счастью!
— Но и я ничего не видела, — сказала Надя.
— Тем лучше! Тем лучше! А вот я… Я видел!…
— Что же это было? — спросил Михаил Строгов.
— Нам только что перебежал дорогу заяц! — ответил Николай.
В России, когда дорогу путнику перебегает заяц, то вскоре, по народному поверью, должно произойти несчастье.
Николай, суеверный как большинство русских, остановил кибитку.
Михаил Строгов понял нерешительность своего спутника, хотя сам его суеверия насчет пробегающих зайцев никак не разделял; он попытался успокоить Николая.
— Тут нечего бояться, дружище, — сказал он.
— Тебе, батюшка, нечего, и ей тоже нечего, это верно, — ответил Николай, — а вот мне есть чего!
Помолчав, добавил:
— Это — судьба.
И пустил лошадь рысью.
Тем не менее вопреки мрачному прогнозу день прошел без каких-либо приключений.
Назавтра, 6 сентября, в полдень кибитка сделала остановку в Альсальевске[105], столь же безлюдном, как и вся окружающая местность.
На пороге одной избушки Наде на глаза попалась пара тех ножей с крепким лезвием, которыми пользуются сибирские охотники. Один она передала Михаилу Строгову, который спрятал его под одеждой, а второй оставила себе. От Нижнеудинска кибитка находилась всего в семидесяти пяти верстах.
За эти два дня к Николаю так и не вернулось его привычное благодушное настроение. Дурная примета задела его больнее, чем можно было думать, и теперь этот весельчак, который до сих пор не мог и часу провести без разговоров, впадал порой в длительную немоту, и Наде с большим трудом удавалось его разговорить. То были, по-видимому, симптомы умственного расстройства, вполне объяснимого, когда речь идет о людях нордических корней, чьи суеверные предки считаются создателями гиперборейской[106] мифологии.
Поначалу от Красноярска дорога на Иркутск идет почти параллельно пятьдесят пятому градусу северной широты, однако после Бирюсинска явно отклоняется к юго-востоку, наискосок пересекая сотый меридиан. И устремляется к столице Восточной Сибири кратчайшим путем — через последние отроги Саян. Сами эти горы — не более чем ответвления большого Алтайского хребта, который виден с расстояния в двести верст.
По этой-то дороге и неслась кибитка. Именно неслась! Чувствовалось, что Николай уже не стремился сберечь силы лошади, обуреваемый, как и все, желанием доехать поскорее. Несмотря на все свое смирение и покорность судьбе, ощутить себя в безопасности он мог теперь лишь за стенами Иркутска. Многие русские, перебеги им дорогу заяц, чувствовали бы себя точно так же, а иные, заворотив лошадей, тут же вернулись бы назад!
Из сделанных Николаем наблюдений, которые Надя, убеждаясь в их истинности, передавала Михаилу Строгову, напрашивался, однако, вывод, что цепь испытаний для них, пожалуй, еще не кончилась.
И в самом деле, если первую часть пути после Красноярска природа и ее плоды оставались нетронуты, то теперь леса носили явные следы железа и огня, придорожные луга были опустошены; не оставалось сомнений, что здесь прошло большое войско.
За тридцать верст до Нижнеудинска признаки недавнего набега уже бросались в глаза, и приписать их кому-либо, кроме татар, было невозможно.
Действительно, это были уже не только вытоптанные конскими копытами поля или порубленные топором леса. Те немногие избы, что изредка попадались вблизи дороги, были не просто пусты: одни — частично разрушены, другие — наполовину сожжены. На стенах видны были следы пуль.
Легко представить себе беспокойство Михаила Строгова. Уже не приходилось сомневаться, что недавно этот участок дороги пересек корпус татарских войск. Однако едва ли это были солдаты эмира — они не могли обогнать кибитку незамеченными. Но тогда кто же они, эти новые захватчики, и какой кружной степной дорогой удалось им выйти на большой иркутский тракт? С какими новыми врагами предстоит еще столкнуться царскому гонцу?
Михаил Строгов не стал делиться своими опасениями ни с Николаем, ни с Надей, не желая их беспокоить. Он был полон решимости продолжать путь, пока какое-нибудь непреодолимое препятствие не остановит его. А уж там будет видно, что делать.
В течение следующего дня следов недавнего прохождения значительного отряда конников и пехотинцев становилось все больше и больше. Над горизонтом стали заметны дымки. Пассажирам кибитки пришлось соблюдать предосторожности. В брошенных поселках некоторые избы еще горели, и подожгли их, судя по всему, менее чем сутки назад.
Наконец днем 8 сентября кибитка встала. Лошадь отказывалась идти дальше. Серко жалобно лаял.
— Что случилось? — спросил Михаил Строгов.
— Труп! — ответил выпрыгнувший из кибитки Николай.
На дороге лежал труп мужика, страшно изувеченный и уже окоченевший.
Николай перекрестился. С помощью Михаила перенес труп на обочину. Ему хотелось бы похоронить несчастного подобающим образом, закопать поглубже, чтобы степные хищники не сожрали жалкие останки, но Михаил Строгов не дал ему времени.
— Поехали, дружище, поехали! — крикнул он. — Нам нельзя задерживаться даже на час!
И кибитка покатила дальше.
Впрочем, если бы Николай захотел отдать последний долг всем мертвецам, которые теперь все чаще попадались на большой сибирской дороге, ему бы просто не управиться! Вблизи Нижнеудинска трупы валялись на земле уже десятками.
И все-таки надо было продолжать путь — до тех пор, пока риск попасть в руки захватчиков не вынудит искать другой дороги. Маршрут поэтому остался прежним, хотя опустошений и развалин от поселка к поселку становилось все больше. Деревни эти, основанные, судя по названиям, ссыльными поляками, подверглись кошмару грабежей и поджогов. Кровь мертвецов еще не успела застыть. Установить, при каких обстоятельствах совершились эти злодеяния, не представлялось возможным. Никого, кто мог бы о том рассказать, не осталось в живых.
К четырем часам вечера Николай крикнул, что видит на горизонте высокие колокольни нижнеудинских церквей. Над ними поднимались огромные белые клубы, которые трудно было принять за облака.
Николай и Надя сообщали Михаилу Строгову обо всем, что видели. Надо было принимать решение. Если город пуст, через него можно ехать без опасений, но если, по необъяснимой прихоти, татары все еще в городе, его любой ценой следует обогнуть.
— Будем двигаться осторожно, — сказал Михаил Строгов, — но все-таки двигаться!
Проехали еще версту.
— Это не облака, — воскликнула Надя, — это дым! Братец, они жгут город!
Это и впрямь было слишком очевидно. Сквозь клубы дыма пробивались коптящие языки пламени. Вихри бушующей копоти, сгущаясь, поднимались в небо. Однако беженцев видно не было. Вероятно, поджигатели предавали огню уже покинутый город. Но татары ли это? Или русские, действовавшие по приказу Великого князя? Неужели царское правительство хотело, чтобы начиная с Красноярска, с Енисея вообще, для солдат эмира не нашлось убежища ни в одном городе, ни в одном поселке? И что теперь делать Михаилу Строгову — остановиться или продолжать путь?
Он пребывал в нерешительности. И однако, взвесив все «за» и «против», пришел к мысли: как бы ни было трудно двигаться через степь, по бездорожью, — риска еще раз угодить в руки татар допустить нельзя. Он уже собирался предложить Николаю съехать с тракта, чтобы затем — в случае крайней необходимости — вернуться на него, обогнув Нижнеудинск, как вдруг справа раздался выстрел. Просвистела пуля, и лошадь, пораженная в голову, рухнула наземь.
В тот же момент на дорогу выехало с дюжину конников. Они окружили кибитку. Михаил Строгов, Надя и Николай, не успев прийти в себя, уже оказались пленниками, которых тут же погнали в Нижнеудинск.
Несмотря на внезапность нападения, Михаил Строгов не утратил хладнокровия. Слепой, он и думать не мог о сопротивлении. И даже если бы прозрел, все равно не стал бы и пытаться. К чему торопить расправу? Однако, не видя солдат, он мог слышать и понимать, о чем те говорят.
По языку он установил, что это татары, а по их речам — что армия захватчиков шла следом.
Вот, кстати, что он узнал — как из высказываний, которые слышал теперь, так и из обрывков разговоров, подслушанных позднее.
Солдаты не были в прямом подчинении у эмира, который пока оставался за Енисеем. Они входили в состав третьей колонны, специально образованной из татар Кокандского и Кундузского ханств, с которой в скором времени армии Феофара предстояло соединиться под Иркутском.
Перейдя границу Семипалатинской области и обойдя с юга озеро Балхаш, эта колонна, по совету Ивана Огарева и с целью обеспечить успех вторжения в восточные провинции, проследовала вдоль подножия Алтайских гор. Грабя и опустошая все на своем пути, она под водительством одного из военачальников кундузского хана, достигла верхнего течения Енисея. Предвидя, каким станет по приказу царя Красноярск, и стремясь облегчить войскам эмира переправу через Енисей, этот военачальник спустил вниз по реке целую флотилию лодок: как готовое плавучее средство или как материал для моста, лодки давали Феофару возможность, достигнув правого берега, продолжить путь на Иркутск. Обогнув подножие гор, третья колонна спустилась долиной Енисея к Иркутской дороге на уровне Алсальевска. С этого городка и началось то жуткое нагромождение развалин, которое составляет сущность татарских войн. Общую судьбу только что разделил и Нижнеудинск, а татары числом в пятьдесят тысяч человек уже двинулись дальше — для захвата исходных позиций перед Иркутском. Вскоре с ними должны были соединиться войска эмира.
Такая ситуация сложилась к этому дню — самая опасная для этой части Восточной Сибири, полностью отрезанной от всей остальной территории, как и для относительно немногочисленных защитников ее столицы.
Итак, к Иркутску выходит особая — третья — колонна татар; скоро эмир с Иваном Огаревым соединятся с основным ядром этих войск. А значит, окружение Иркутска и последующая его сдача — лишь дело времени, быть может совсем недолгого.
Легко представить себе, какие мысли осаждали Михаила Строгова, узнавшего эти новости! Кто бы удивился, если бы в этом состоянии он утратил наконец все свое мужество, потерял всякую надежду? Но ничего похожего не произошло, его губы упрямо шептали все те же слова:
— Я дойду!
Спустя полчаса после нападения татарских конников Михаил Строгов, Николай и Надя входили в Нижнеудинск. Верный пес бежал следом, чуть поотстав. Их не собирались оставлять в городе, который весь полыхал огнем и откуда уходили последние мародеры.
Пленников бросили на спины коней и быстро повлекли дальше — Николая, безучастного как всегда, Надю, непоколебимо верившую в Михаила Строгова, и самого Михаила Строгова, который внешне казался равнодушным, но был готов использовать для побега малейшую возможность.
Татары тотчас заметили, что один из пленников слеп, и по природной своей дикости решили поразвлечься за счет калеки. Двигались конники быстро. Лошадью под Михаилом Строговым никто не управлял, и она шла наугад, очень часто сбиваясь с дороги и нарушая общий порядок. Отсюда ругань и грубые выходки, разрывавшие сердце девушки и возмущавшие Николая. Но что могли они поделать? На татарском языке они не говорили, и протесты их подавлялись беспощадно.
И тут солдатам, в порыве изощренной жестокости, пришло вдруг в голову заменить лошадь, которая везла Михаила Строгова, другой — ослепшей. Поводом для такой замены послужило подозрение одного из конников, чьи слова Михаил услышал:
— А что, если этот русский — зрячий?
Происходило это в шестидесяти верстах от Нижнеудинска, между селами Татан и Шибарлинское[107]. Строгова посадили на слепую лошадь, в насмешку сунув ему в руки повод. И до тех пор подгоняли животное кнутом, камнями и дикими воплями, пока оно не пустилось галопом.
Лошадь, которую ее всадник, такой же слепой, как и она, не мог удержать на прямой, то натыкалась на дерево, то теряла под ногами дорогу. Неизбежные толчки, а то и паденья могли оказаться для всадника роковыми.
Михаил Строгов не стал возмущаться. Ни разу не вскрикнул. Если его лошадь падала — ждал, когда ее поднимут. Ее поднимали, и жестокая игра продолжалась.
Николай, видя эти издевательства, не мог сдержаться. Пытался прийти своему спутнику на помощь. Его хватали и били.
Игра эта, к вящей радости татар, продолжалась бы, наверное, долго, если бы более серьезное происшествие не положило ему конец.
В какой-то момент — это было 10 сентября днем — слепая лошадь взбеленилась и, закусив удила, понеслась прямиком к случившейся у дороги яме, в тридцать — сорок футов глубиной.
Николай хотел броситься вдогонку. Его удержали. И лошадь, не чувствуя узды, рухнула в яму вместе со своим всадником.
У Нади и Николая вырвался крик ужаса!… Они, естественно, решили, что их несчастный спутник разбился!
Когда его подняли, то оказалось, что он, успев выброситься из седла, совсем не пострадал, но у лошади были сломаны две ноги и для службы она больше не годилось.
Не проявив сострадания и не прикончив бедное животное, солдаты бросили его подыхать у дороги, а Михаила Строгова привязали к седлу одного из конников — пусть-де пешком поспевает за отрядом.
И опять — ни единой жалобы, ни звука протеста! Строгов шел быстрым шагом, почти не натягивая веревки, которой был привязан. Это был все тот же «железный человек», о котором говорил царю генерал Кисов!
На другой день, 11 сентября, отряд проезжал через село Шибарлинское.
И тут случилось происшествие, которое должно было иметь весьма серьезные последствия.
Наступила ночь. Татарские конники, устроив остановку, уже успели слегка захмелеть. Но собирались ехать дальше.
С Надей, которая до сих пор каким-то чудом держала солдат на почтительном расстоянии, вдруг грубо обошелся один из них.
Михаил Строгов не мог видеть ни грубости, ни грубияна, но за него это увидел Николай.
Совершенно спокойно, не раздумывая и, быть может, даже не сознавая, что делает, Николай пошел прямо на солдата и, прежде чем тот успел сделать движение и остановить его, выхватил из-под его седла пистолет и разрядил прямо в грудь обидчику.
На звук выстрела тотчас подбежал офицер, командовавший отрядом.
Еще немного — и конники, набросившиеся на несчастного Николая, зарубили бы его, но, по знаку офицера, связали его по рукам и ногам, бросили поперек седла на лошадь, и отряд взял с места в карьер.
Веревка, которой был привязан Михаил Строгов и которую он успел перегрызть, от неожиданного рывка лошади порвалась, а ее уносимый галопом полупьяный всадник этого даже не заметил.
Михаил Строгов и Надя остались на дороге одни.
Глава 9 В СТЕПИ
Михаил Строгов и Надя вновь были свободны, как и на пути от Перми до берегов Иртыша. Но как изменились их дорожные условия! Тогда скорость путешествия обеспечивали удобный тарантас, часто сменявшиеся упряжки, опрятные почтовые станции. Теперь они шли пешком, лишенные возможности раздобыть хоть какое-нибудь средство передвижения. Шли голодные, не зная, как удовлетворить даже минимальные жизненные потребности, а ведь им предстояло пройти еще четыреста верст! И сверх того, Михаил Строгов видел теперь глазами одной только Нади.
А что касается доброго друга, которого послал им случай, его они только что потеряли, и при самых зловещих обстоятельствах.
Михаил Строгов опустился на обочину. Надя осталась стоять и ждала только слова, чтобы снова двинуться в путь.
Было десять часов вечера. Прошло уже три с половиной часа, как скрылось за горизонтом солнце. Ни избы, ни лачуги вокруг. Последние из татар исчезали вдали. Михаил Строгов и Надя были совсем одни.
— Что сделают они с нашим другом? — воскликнула девушка. — Бедный Николай! Встреча с нами может стать для него роковой!
Михаил Строгов промолчал.
— Миша, — снова заговорила Надя, — ты не знаешь, — ведь он заступался за тебя, когда ты был игрушкой татар, а из-за меня рисковал жизнью!
Михаил Строгов по-прежнему молчал. Неподвижный, опустив голову на руки — о чем он думал? Если он и не отвечал, то хоть слышал ли, что Надя обращается к нему?
Да! Он слышал ее, потому что на очередной ее вопрос: «Куда мне вести тебя, Миша?» — В Иркутск! — отвечал он.
— По большаку?
— Да, Надя.
Михаил Строгов остался человеком, давшим клятву в любом случае достичь своей цели. Держаться большака — значило идти кратчайшим путем. А если покажется авангард войск Феофар-хана, то можно успеть перейти на проселочную дорогу.
Надя взяла Михаила за руку, и они пошли.
На следующее утро, 12 сентября, пройдя двадцать верст, они сделали короткую остановку у городка Тулун[108]. Городок был сожжен и безлюден. Всю ночь Надя проискала труп Николая — не бросили ли его на дороге. Но напрасно она шарила среди развалин и высматривала меж мертвецов. Наверное, его пока что щадили. Не затем ли, чтобы по прибытии в лагерь под Иркутском подвергнуть какой-нибудь жестокой казни?
Обессилев от голода, от которого ужасно страдал и ее спутник, Надя была счастлива найти в одном из домов городка кое-какие запасы сушеного мяса и «сухарей» — ломтиков хлеба, которые после сушки очень долго сохраняют свои питательные свойства. Михаил и девушка нагрузились всем, что только могли унести. Таким образом, пищей они себя на несколько дней обеспечили, а что до воды, то в краю, изборожденном тысячами мелких притоков Ангары, она всегда была под рукой.
Путники отправились дальше. Михаил Строгов мог шагать быстрее, но ради спутницы умерял свой шаг. Надя, не желая отставать, выбивалась из последних сил. К счастью, ее спутник не мог видеть, как она измождена и устала.
Однако Михаил Строгов это чувствовал.
— Бедное дитя, ты совсем ослабела, — вздыхал он.
— Да нет же, — возражала она.
— Надя, когда ты не сможешь больше идти, я понесу тебя.
— Ладно, Миша.
В этот день пришлось пересекать небольшую речку Оку, но нашелся брод и переход не составил большого труда.
Небо обложили тучи, но погода стояла теплая. Мог собраться дождь, и это усугубило бы и без того бедственное положение путников. Ливни разражались уже не раз, но не надолго.
Они шли все так же, рука в руке, разговаривали мало. Надя следила за дорогой впереди и сзади. Два раза в день делали остановку. Ночью отдыхали по шесть часов. В придорожных хижинах Надя нашла еще немного бараньего мяса — столь обычного для этих мест, что стоит оно не дороже двух с половиной копеек за фунт.
Но вопреки надеждам, которые, верно, лелеял Михаил Строгов, во всем краю не осталось ни одного вьючного животного. Ни лошадей, ни верблюдов. Их либо поубивали, либо увели с собой. И путникам ничего не оставалось, как шагать через эту нескончаемую степь пешком.
По-прежнему встречались на дороге следы третьей колонны татар, двигавшейся на Иркутск: то мертвая лошадь, то брошенная повозка. По обочинам дороги — тела несчастных сибиряков, особенно у деревенских околиц. Подавляя ужас, Надя всматривалась в лица трупов!…
По всей видимости, опасность была не впереди, она грозила сзади. Авангард основной армии эмира, находившейся под командованием Ивана Огарева, мог появиться с минуты на минуту. Стоит только лодкам, спущенным с пристаней Верхнего Енисея, доплыть до Красноярска — и путь для захватчиков открыт. От Красноярска до озера Байкал его не преградит ни один русский корпус. И Михаил Строгов напряженно прислушивался, ожидая появления татарских дозоров.
Поэтому и Надя всякий раз во время остановки взбиралась на какой-нибудь пригорок и внимательно глядела на запад — не видно ли облаков пыли, возвещающих о появлении конного войска.
Затем они снова пускались в путь. Как только Михаил чувствовал, что бедная Надя не поспевает за ним, он тут же умерял шаг. Разговаривали они мало и только о Николае. Девушка вспоминала, чем был для них этот временный попутчик. В ответ Михаил Строгов пытался внушить ей хоть какую-то надежду, которой, впрочем, и сам уже не питал, прекрасно понимая, что бедняге не избежать смерти.
Как-то он напомнил девушке:
— Ты совсем не говоришь со мной о моей матушке, а, Надя?
Поговорить о его матери! Этого Наде не хотелось. К чему бередить его раны? Разве старая сибирячка не умерла? Разве ее сын не отдал прощальный поцелуй мертвому телу, распростертому на площади Томска?
— Расскажи, Надя, что ты о ней думаешь, — повторил свою просьбу Строгов. — Расскажи! Мне было бы так приятно!
И тогда Надя рассказала обо всем, что произошло между Марфой и ею с момента их встречи в Омске, где они впервые увидели друг друга. Вспомнила, как необъяснимый порыв толкнул ее к незнакомой старухе пленнице, какие услуги оказала она старой женщине и какую поддержку получила взамен. В то время Михаил Строгов был для нее всего лишь Николаем Корпановым.
— Им я и должен был всегда оставаться, — вставил, помрачнев, Михаил Строгов.
Помедлив, он добавил:
— Я нарушил свою клятву, Надя. Я ведь поклялся не видеться с моей матерью!
— Но ведь ты и не пытался увидеться с ней, Михаил! — отвечала Надя. — Это же случай свел вас!
— Я поклялся, что бы ни случилось, не выдавать себя!
— Миша, Миша! Разве мог ты сдержаться, увидев занесенный над матерью кнут? Не мог! Нет такой клятвы, которая могла бы помешать сыну прийти на помощь матери!
— Я не сдержал своей клятвы, Надя, — повторил Михаил Строгов. — И да простят мне это Бог и царь-батюшка!
— Миша, — сказала тогда девушка, — я хочу спросить тебя. Не отвечай, если не сочтешь нужным. Я не обижусь.
— Говори, Надя!
— Почему и теперь, когда царское письмо у тебя отняли, ты так спешишь дойти до Иркутска?
Михаил Строгов лишь крепче сжал руку спутницы, но ничего не ответил.
— Значит, ты знал о содержании письма еще до отъезда из Москвы? — продолжала Надя.
— Нет, не знал.
— Должна ли я считать, Миша, что в Иркутск тебя влечет только желание передать меня в руки отца?
— Нет, Надя, — серьезно отвечал Михаил Строгов. — Оставить тебя при таком мнении означало бы обмануть. Я иду, куда велит мне долг! А что касается желания доставить тебя в Иркутск, то разве не ты сама ведешь меня туда? Разве не твоими глазами я вижу, разве не твоя рука направляет меня? Разве не отплатила ты многократно за те услуги, что когда-то я смог оказать тебе? Не знаю, перестанет ли преследовать нас судьба, но в тот день, когда ты скажешь мне спасибо за воссоединение с отцом, я буду благодарить тебя за то, что ты довела меня до Иркутска!
— Бедный мой Миша! — взволнованно ответила Надя. — Не говори так! Я не об этом тебя спрашивала. Ответь, почему ты и теперь так спешишь добраться до Иркутска?
— Да потому, что я должен попасть туда раньше Ивана Огарева! — вскричал Михаил Строгов.
— Даже теперь?
— Даже теперь, и я там буду!
Надя поняла, что спешить в Иркутск заставляет Михаила не только ненависть к предателю, он не все говорит ей, и сказать всего он не может.
Через три дня, 15 сентября, они дошли до села Куйтун[109], что в семидесяти верстах от Тулуна. Каждый шаг давался девушке ценой неимоверных усилий. Натруженные ноги едва держали ее. Но она крепилась, преодолевала усталость, и единственной ее мыслью было:
«Раз он меня не видит, буду идти, покуда не упаду!»
Впрочем, на этом отрезке пути, за все время после ухода татар, совсем не было ни препятствий, ни опасностей. Только страшная усталость.
Так продолжалось три дня. Было ясно, что третья колонна захватчиков быстро движется на восток. Это было видно по развалинам, которые они оставляли, по золе, что уже не дымилась, по валявшимся на земле, уже разложившимся трупам.
На западе по-прежнему ничего. Авангард эмира не появлялся. Пытаясь объяснить себе эту задержку, Михаил строил самые невероятные предположения. А ну как к Томску и Красноярску подошли серьезные силы русских? И тогда третья колонна, оторвавшаяся от двух других, может оказаться от них совсем отрезанной? И если так, то Великому князю удастся без труда отстоять Иркутск, а выиграть у противника время — значит сделать шаг к его изгнанию.
В своих упованиях Михаил Строгов заходил порой далеко, но вскоре понимал, насколько они беспочвенны. И снова приходил к мысли, что рассчитывать следует лишь на самого себя, как если бы только от него зависело спасение Великого князя!
Шестьдесят верст отделяют Куйтун от Кимильтейска[110] — маленькой деревеньки, расположенной неподалеку от реки Динки, притока Ангары. Михаил Строгов с опаской подумывал о препятствии, каким может оказаться на его пути этот весьма широкий приток. О паромах и лодках не могло быть и речи, а судя по опыту переправ через Динку в более счастливые времена, перейти ее вброд не так-то просто. Зато когда эта река останется позади, уже ни одна речка, ни один поток не преградят дороги на Иркутск, до которого оставалось двести тридцать верст.
На переход до Кимильтейска потребовалось около трех дней. Надя еле плелась. При всей силе духа физические силы уже изменяли ей, и Михаил Строгов слишком хорошо это понимал!
Если бы он не был слеп, Надя, конечно, сказала бы ему: «Слушай, Миша, оставь меня в какой-нибудь хижине! Дойди до Иркутска! Выполни свой долг! Повидай моего отца! Скажи ему, где я! Скажи, что я его жду, вдвоем вы легко отыщете меня! Ступай! Я не боюсь! От татар я спрячусь! Сберегу себя для отца, для тебя! Ступай, Миша! У меня нет больше сил!…»
Уже несколько раз Надя была вынуждена останавливаться. Тогда Михаил Строгов брал ее на руки и, уже не думая о ее усталости, ускорял свой шаг.
К десяти часам вечера 18 сентября они добрались наконец до Кимильтейска. С вершины холма Надя заметила у горизонта чуть менее темную полоску. Это была река Динка. В водах ее отражались вспышки беззвучных молний, озарявших местность.
Надя провела своего спутника через разрушенный поселок. Пепел пожарищ уже остыл. Последние татары прошли здесь, по крайней мере, пять-шесть дней назад.
Дойдя до крайних домов поселка, Надя рухнула на каменную скамью.
— Мы что — делаем остановку? — спросил Михаил Строгов.
— Уже ночь, Миша! — сказала Надя. — Ты не хочешь отдохнуть несколько часиков?
— Я хотел бы перебраться через реку, — ответил Михаил Строгов, — надо бы хоть ею отгородиться от татарского авангарда. Но ведь ты уже и шагу ступить не можешь, бедная моя Надя!
— Идем, Миша, — сказала Надя и, взяв его за руку, повлекла дальше.
Дорогу на Иркутск река пересекала в двух или трех верстах отсюда. Девушка решила сделать последнее усилие, о котором просил ее спутник. И при свете молний они пошли дальше. Перед ними лежала бескрайняя пустыня, посреди которой затерялась маленькая речка. Ни деревца, ни холмика не возвышалось над этой широкой равниной, с которой вновь начиналась сибирская степь. Ни малейшего ветерка над притихшей землей, и самый слабый звук достигал бесконечных далей.
Вдруг Михаил Строгов и Надя застыли на месте, словно ноги им зажало в узкой расселине.
Из степи донесся лай.
— Слышишь? — спросила Надя.
Вслед за лаем послышался жалобный, полный отчаянья крик, словно последний зов умирающего.
— Николай! Николай! — вскрикнула девушка, охваченная мрачным предчувствием.
Михаил Строгов, прислушиваясь, покачал головой.
— Идем, Миша, идем, — позвала Надя.
К ней, едва волочившей ноги, от чрезмерного возбуждения вдруг возвратились силы.
— Мы сошли с дороги? — спросил Михаил Строгов, почувствовав, что ступает не по пыльной почве, а по травяному ковру.
— Да… так нужно!… — ответила Надя. — Крик шел вон оттуда, справа!
Через несколько минут они были уже в полуверсте от реки.
Снова послышался лай, хотя и не такой громкий, но доносившийся с явно более близкого расстояния.
Надя остановилась.
— Да! — согласился Михаил. — Это Серко!… Он не бросил своего хозяина!
— Николай! — позвала девушка.
Ее зов остался без ответа.
Только несколько хищных птиц взмыли в небо и исчезли в вышине.
Михаил Строгов прислушивался. Надя всматривалась в ровную даль, над которой, мерцая словно лед, светились испарения, но ничего не заметила.
Однако голос возник снова, на этот раз жалобно прошептав: «Михаил!…»
И тут к Наде выпрыгнула собака, вся в крови. Это был Серко.
Николай не мог быть далеко! Только он мог прошептать это имя — Михаил! Где же он? Позвать его у Нади уже не было сил.
Михаил Строгов, опустившись на колени, шарил по земле рукой.
Серко вдруг снова залаял и кинулся к огромной птице, которая низко летела над землей.
Это был степной орел. Когда Серко бросился к нему, орел взмыл было вверх, но тут же упал на собаку, ударил ее клювом! Пес снова прыгнул на хищника!… И вновь на голову его обрушился удар мощного клюва, и на этот раз Серко упал наземь без признаков жизни.
И в тот же миг у Нади вырвался крик ужаса.
— Здесь… Сюда! — звала она.
Из земли торчала голова! Если бы не свет, падавший на равнину с неба, Надя задела бы ее ногой.
Девушка опустилась на колени.
Зарытый, следуя жестокому татарскому обычаю, по самую шею, Николай был оставлен в степи умирать от голода и жажды, а быть может, от волчьих зубов или клювов хищных птиц. Ужасная пытка для жертвы, которую цепко держит грунт и тяжко давит земля, — и ее не стряхнешь, ибо руки связаны и прижаты к телу словно у трупа в гробу! Тому, кого подвергли такой казни, — пока он жив в этой глиняной форме и не в силах ее разбить, остается лишь призывать свою смерть, которая слишком медлит с приходом!
Здесь-то и зарыли татары своего пленника три дня назад!… И все эти дни Николай ждал помощи, но она пришла слишком поздно!
Торчавшую из земли голову заметили хищники, и вот уже несколько часов пес защищал хозяина от кровожадных птиц!
Михаил принялся скрести землю ножом, пытаясь вырыть живого еще человека.
Глаза Николая, до тех пор закрытые, приоткрылись.
Он узнал Михаила и Надю.
— Прощайте, друзья, — прошептал он. — Я рад, что еще раз повидал вас! Помолитесь за меня!…
Эти слова были последними.
Михаил Строгов снова начал скрести землю. Основательно утоптанная, твердостью она напоминала скалу, однако ему удалось извлечь тело несчастного. Приложив ухо к его груди, он послушал, не бьется ли сердце. Сердце не билось.
Надо было похоронить друга, чтобы не лежать ему беззащитным в степи; ту яму, куда Николая зарыли живьем, он расширил и углубил, чтобы в нее можно было уложить его мертвого. А рядом с хозяином поместить и верного Серко.
В этот момент на дороге, которая осталась в полуверсте, послышался сильный шум.
Михаил Строгов прислушался.
По звуку он понял, что в сторону реки двигался отряд верховых.
— Надя! Надя! — негромко позвал он.
На его голос Надя, забывшаяся в молитве, выпрямилась.
— Посмотри! Что там? — спросил он.
— Татары! — прошептала она.
Это и в самом деле был авангард эмира, стремительно двигавшийся по дороге на Иркутск.
— Похоронить его они мне не помешают! — сказал Михаил Строгов.
И продолжал свое дело.
Вскоре тело Николая со сложенными на груди руками было уложено в вырытую могилу. Опустившись на колени, Михаил Строгов и Надя помолились в последний раз за бедного юношу, безобидного и доброго человека, заплатившего за свою преданность жизнью.
— Теперь уж степным волкам его не сожрать! — сказал Михаил Строгов, засыпав могилу землей.
Потом погрозил кулаком проходившему конному войску.
— Надя, в путь!
Идти по дороге, захваченной татарами, было уже нельзя. Оставалось двигаться через степь, огибая Иркутск. Тем самым необходимость переправы через реку Динку отпадала.
Надя окончательно выбилась из сил, она могла только видеть за своего спутника. И тот снова понес ее на руках, направившись на юго-запад губернии.
Пройти оставалось более двухсот верст. Как ему это удалось? Как не свалился он от крайнего изнеможения? Ценой каких сверхчеловеческих усилий смог перевалить через первые отроги Саян? Ни Надя, ни сам он не сумели бы на это ответить!
Но так или иначе, спустя двенадцать дней, 2 октября в шесть часов вечера у ног Михаила Строгова расстилалась бесконечная водная гладь.
Это было озеро Байкал.
Глава 10 БАЙКАЛ И АНГАРА
Озеро Байкал расположено на высоте тысяча семьсот футов над уровнем моря[111]. Длина его около девятисот верст, ширина — сто[112]. Глубина озера никому не известна[113]. Мадам де Бурбулон, наслушавшись моряцких рассказов, сообщает, что к нему следовало бы обращаться со словами «господин океан». Когда его называют «господин озеро», оно тотчас приходит в ярость. И все же, если верить легенде, ни один русский в Байкале не утонул.
Этот огромный бассейн пресной воды, питаемый более чем тремястами рек, окружен живописным кольцом вулканических гор[114]. Водосливом ему служит только Ангара, которая, миновав Иркутск, впадает в Енисей чуть выше города Енисейска. Опоясывающие Байкал горы представляют собой ответвление Тунгусского хребта[115] и относятся к обширной горной системе Алтая[116].
Уже заявили о себе холода. В здешнем краю, зависящем от особых климатических условий, осень словно бы растворяется в ранней зиме. Стояли первые дни октября. Солнце уходило теперь за горизонт в пять часов вечера, и за долгую ночь температура успевала упасть до нулевой отметки. От первых снегов — а они держатся до лета — уже побелели вершины соседствующих с Байкалом гор. Всю сибирскую зиму по этому внутреннему морю, скованному льдом толщиной в несколько футов, снуют сани почтовых служб и торговых караванов[117].
То ли оттого, что люди недостаточно почтительны и называют-таки Байкал «господином озером», то ли по какой иной, скорее всего метеорологической причине, но озеро часто штормит. Его валы, хоть и не более высокие, чем на Средиземноморье, очень опасны для плотов, плоскодонных барж и пароходов, бороздящих озеро в течение лета.
Михаил Строгов только что добрался до юго-западного конца озера, неся на руках Надю, вся жизнь которой сосредоточилась теперь в одних глазах. Что могло ожидать их в этом диком углу губернии — разве что смерть от истощения и лишений? И все же — сколько еще оставалось от долгой дороги в шесть тысяч верст, чтобы царский гонец достиг своей цели? Всего шестьдесят верст вдоль байкальского побережья до устья Ангары и восемьдесят — от этого устья до Иркутска; стало быть, сто сорок верст. Для здорового, крепкого человека даже пешком — лишь три дня пути.
Но считал ли себя Михаил Строгов по-прежнему таким человеком?
Небо, по-видимому, не захотело посылать ему нового испытания. Жестокая судьба словно бы тоже решила на время пощадить его. Юго-западная оконечность Байкала и прилегающий участок степи[118], которые Михаил считал безлюдными и которые обычно и впрямь безлюдны, на этот раз таковыми не были.
На побережье собралось человек пятьдесят народу. Надя заметила этих людей сразу, как только Михаил Строгов, держа ее на руках, выбрался из горного ущелья. В первую секунду девушка испытала страх — не татарский ли это отряд, посланный разведать местность по берегам Байкала, — ведь тогда путь для бегства им был бы отрезан.
Но страх тут же сменился радостью.
— Да ведь это русские! — воскликнула Надя.
И на этом последнем усилии веки ее сомкнулись, голова безжизненно упала Михаилу Строгову на грудь.
Но их уже заметили, и несколько человек из этих русских, подбежав, отвели слепого и девушку на край небольшого песчаного мыса, к которому был пришвартован плот.
Плот должен был вот-вот отчалить.
Все эти русские были беженцы, причем разного звания- состояния, которых в этой точке Байкала объединила одна цель. Отброшенные татарскими разведчиками, они решили укрыться в Иркутске, но, отчаявшись добраться туда по суше, — после того как захватчики расположились по обоим берегам Ангары, — задумали достичь города, спустившись по течению реки.
Когда Михаил Строгов узнал об их намерении, сердце его встрепенулось. В его игре это был последний шанс. Но он не подал виду, решив сохранять свое инкогнито еще строже, чем прежде.
План беженцев был очень прост. Одна из стремнин Байкала движется вдоль левого берега вплоть до истока Ангары. Держась ее, они и рассчитывали достичь байкальского водослива. А уж оттуда стремительные воды реки помчат их со скоростью десяти — двенадцати верст в час. И значит, через полтора дня они смогут оказаться в виду города.
Лодок в этих местах не было. Их отсутствие требовалось восполнить. Был сооружен плот, точнее — вереница мелких плотов, напоминавших те связки бревен, что обычно сплавляют по сибирским рекам. На сооружение этого плавучего средства пошла прибрежная сосновая рощица. Из бревен, связанных ивовыми прутьями, получился помост, на котором свободно могли разместиться человек сто.
На этот плот и переправили Михаила Строгова и Надю. Девушка уже пришла в себя. И ей, и ее спутнику дали поесть. После чего, улегшись на подстилку из листьев, Надя тут же забылась глубоким сном.
На расспросы о событиях, происшедших в Томске, Михаил Строгов ничего не отвечал. Он выдал себя за жителя Красноярска, не успевшего попасть в Иркутск до появления войск эмира на левом берегу Динки, и добавил, что, по всей вероятности, основные силы татар заняли позиции перед столицей Сибири.
В любом случае нельзя было терять ни секунды. К тому же холод становился все ощутимее. Ночью температура падала ниже нуля. На поверхности Байкала появились уже отдельные льдинки[119]. И если на озере плот легко мог менять направление, то меж берегов Ангары, стоит льдинам загромоздить течение[120], это едва ли будет возможно.
Стало быть, беженцам следовало немедленно отправляться в путь.
В восемь часов вечера отдали швартовы, и подхваченный течением плот поплыл вдоль побережья. Чтобы исправлять отклонения от курса, длинных шестов в руках могучих мужиков оказалось достаточно.
Командовать на плоту взялся старый байкальский матрос. Этому человеку, обветренному всеми здешними штормами, было лет шестьдесят пять. Густая седая борода падала ему на грудь. Из-под меховой шапки смотрело суровое, степенное лицо. Просторный, длинный, перехваченный поясом плащ доходил ему до пят. Сидя на корме, этот молчаливый старик отдавал команды мановением руки, не произнеся за десять часов и десятка слов. Впрочем, весь маневр сводился к удержанию плота на струе, бежавшей вдоль берега, избегая выхода в открытые воды.
На плоту, как уже сказано, собрались русские люди разного звания. И в самом деле, к местным — мужчинам, женщинам, старикам и детям — прибились два-три странника, застигнутых нашествием в дороге, несколько монахов и один поп. У странников были дорожные посохи, а к поясам подвязаны фляги; плаксивыми голосами они читали псалмы. Один шел с Украины, другой с Желтого моря, третий из финских краев. Этот последний, человек уже пожилой, носил на поясе маленькую, запиравшуюся висячим замком кружку, какую обычно подвешивают к колонне храма. Из того, что он собирал во время своего долгого и утомительного странствия, для себя он не оставлял ничего, у него не было даже ключа от замка, который отпирался только по возвращении.
Монахи пришли с севера империи. Три месяца миновало с тех пор, как они покинули тот самый город Архангельск, в облике которого некоторые путешественники справедливо находили нечто от городов Востока. Они посетили у берегов Карелии Соловецкие (Святые) острова, Соловецкий и Троицкий монастыри[121], монастыри Святого Антония и Святого Феодосия в Киеве[122], Симонов монастырь в Москве, монастырь в Казани, равно как и казанскую старообрядческую церковь. И вот теперь, облаченные в рясу, капюшон и порты из саржи, направлялись в Иркутск.
Что касается попа, то это был простой деревенский священник, один из тех шестисот тысяч народных пастырей, что отправляют службы в Российской империи. Одет он был так же бедно, как и мужики, в сущности сам такой же мужик, не имевший в церкви ни чина, ни власти, он, как всякий крестьянин, обрабатывал свой надел — крестя, венчая и отпевая. Избавить своих детей и жену от татарских зверств ему удалось, переселив их в северные губернии. Сам же он оставался в своем приходе до самого последнего дня. Когда решил бежать, дорога на Иркутск была уже перекрыта, и пришлось добираться до Байкала.
Эти разные служители веры, собравшись на носу плота, время от времени совершали молитвы, возвышая голос в безмолвной ночи, и после каждого стиха с уст их слетали слова «Господи, помилуй!».
Никаких происшествий за время плавания не случилось. Надя по-прежнему спала глубоким сном. Михаил Строгов бодрствовал рядом. Сон овладевал им лишь через длительные промежутки времени, мысль же работала непрерывно.
К рассвету плот, запаздывавший из-за сильного встречного ветра, находился еще в сорока верстах от истока Ангары. И по всей вероятности, должен был достичь его не раньше трех- четырех часов вечера. Путешественникам это было даже на руку — ведь тогда спуск по реке пришелся бы на ночь, а при подходе к Иркутску темнота была им на пользу.
Единственное опасение, которое неоднократно высказывал старый матрос, касалось появления на воде льда. Ночь выдалась необычайно морозная. Было видно, как ветром гнало на запад множество льдин. Их можно было не опасаться — вход в Ангару они уже миновали и попасть в нее не могли. Но течение могло захватить и втянуть в реку те льды, что шли из восточных районов озера[123]. Возрастала вероятность осложнений и задержек, а быть может, и непреодолимых заторов, в которые может упереться плот.
Поэтому Михаилу Строгову крайне интересно было знать, каково состояние озера и много ли появляется льда. Надя уже проснулась, он то и дело задавал ей вопросы, и она давала ему полный отчет обо всем, что делалось на поверхности воды.
Пока льдины несло течением, на поверхности Байкала происходили любопытные явления. Это были великолепные выбросы кипящей воды, извергавшейся из артезианских колодцев, которые природа пробурила в самом ложе озера. Мощные струи взлетали на большую высоту и разлетались клубами пара, которые, блеснув на солнце радугой, тут же застывали на морозе. Это удивительное зрелище несомненно восхитило бы туриста, который в мирной обстановке и для собственного удовольствия отправился в путешествие по великому сибирскому морю.
В четыре часа вечера старый матрос указал на вход в Ангару, открывавшийся меж высоких гранитных скал побережья. На правом берегу виднелась маленькая гавань Лиственичная с церковью и несколькими избами на береговом откосе.
Но тут обнаружилось весьма досадное обстоятельство: первые принесенные с востока льдины уже неслись меж берегов Ангары и, стало быть, спускались вниз, к Иркутску. Правда, пока не в таком количестве, чтобы закупорить реку, да и мороз стоял пока не такой сильный, чтобы они смерзлись в сплошную корку.
Плот доплыл до гавани и тут остановился. Старый матрос решил устроить часовую передышку — произвести необходимый ремонт. Могли разойтись развязавшиеся кое-где бревна, и, чтобы плот выдержал стремительное течение Ангары, требовалось связать их покрепче.
В теплое время года гавань Лиственичная служит пристанью для посадки и высадки путешествующих по озеру Байкал — едут ли они в Кяхту, последний город перед русско-китайской границей, или возвращаются обратно. Поэтому здесь часто останавливаются пароходы и более мелкие каботажные суда с озера.
Однако теперь Лиственичная была безлюдна. Ее жители не захотели терпеть грабительские наезды татар, захвативших уже оба берега Ангары. Флотилию судов и лодок, обычно зимовавшую в гавани, они отправили в Иркутск и, забрав все, что могли унести, вовремя укрылись в столице Восточной Сибири.
Понятно, что новых беженцев старый матрос в гавани не ждал, и, однако, не успел плот причалить, как из одной брошенной избы выскочили два человека и со всех ног припустили к берегу.
Сидевшая на корме Надя рассеянно смотрела по сторонам.
И вдруг, чуть не вскрикнув от неожиданности, схватила Михаила Строгова за руку. Тот поднял голову.
— Что случилось, Надя? — спросил он.
— Миша, тут двое наших попутчиков.
— Как — те самые француз и англичанин, которых мы встретили еще в ущельях Урала?
— Да.
Михаил Строгов вздрогнул, ибо строгому инкогнито, которого он никоим образом не хотел открывать, грозило разоблачение.
И в самом деле, Альсид Жоливэ и Гарри Блаунт сразу узнают в нем уже не Николая Корпанова, но именно Михаила Строгова, царского гонца. Оба журналиста, после того как оставили Строгова на станции в Ишиме, уже дважды сталкивались с ним — сначала в лагере Забедьево, когда он кнутом рассек лицо Ивану Огареву, а затем в Томске, когда эмир вынес ему приговор. Стало быть, они знали, как к нему относиться и кто он на самом деле.
И Михаил быстро принял решение.
— Надя, — сказал он, — как только француз и англичанин взойдут на плот, попроси их подойти ко мне!
Это и впрямь были Гарри Блаунт и Альсид Жоливэ, которых, как и Михаила Строгова, привела в гавань Лиственичную не случайность, а логика событий.
Как мы помним, побывав на торжестве по случаю вступления татар в Томск, они ушли, не дожидаясь жестокой казни, которой закончился праздник. И разумеется, они были уверены, что их давний попутчик предан смерти, так как не знали, что по приказу эмира он только ослеплен.
Раздобыв лошадей, журналисты в тот же вечер покинули Томск с твердым намерением отправлять отныне свои корреспонденции из русских лагерей Восточной Сибири.
Не теряя времени, Альсид Жоливэ и Гарри Блаунт помчались к Иркутску. Они надеялись достичь его раньше Феофар-хана, и это им несомненно удалось бы, если бы не третья колонна, пришедшая долиной Енисея из южных краев. Как и Михаилу Строгову, путь им был отрезан, прежде чем они достигли реки Динки. Отсюда и решение спускаться вниз до озера Байкал.
Прибыв в Лиственичную, они обнаружили, что гавань пуста. Теперь они не могли ехать в Иркутск, окруженный татарскими войсками. И вот уже третий день в полном замешательстве торчали здесь, когда вдруг увидели подошедший к берегу плот.
Им рассказали о намерениях беженцев. У тех явно имелся шанс, незаметно проплыв среди ночи рекой, проникнуть в Иркутск. И журналисты решили попытать счастья.
Альсид Жоливэ тут же вступил в переговоры со старым матросом и попросил у него для себя и своего спутника разрешения пройти на плот, соглашаясь заплатить любую цену, какую только тот запросит.
— Здесь не платят, — степенно ответил ему старый матрос, — здесь рискуют жизнью — и только.
Оба журналиста взошли на плот, и Надя видела, как они устраиваются на носу.
Гарри Блаунт по-прежнему оставался тем холодным англичанином, который за весь переход через Уральские горы едва ли хоть раз заговорил с нею.
Альсид Жоливэ казался серьезнее, чем обычно, и нельзя не признать, что серьезность эту оправдывали весьма серьезные обстоятельства.
Итак, француз уже расположился на носу плота, когда почувствовал, как кто-то тронул его за руку.
Он обернулся и, узнав Надю, сестру Михаила Строгова, царского гонца, чуть было не вскрикнул от удивления, но сдержался, видя, что девушка поднесла к губам палец.
— Пойдемте, — сказала Надя.
И Альсид Жоливэ, подав Гарри Блаунту знак идти следом, с видом полнейшего безразличия пошел за девушкой.
Но если встреча с Надей на плоту журналистов очень удивила, то удивлению их не было границ, когда они увидели Михаила Строгова, которого никак не ожидали найти живым.
Михаил Строгов при их приближении не шевельнулся.
Альсид Жоливэ повернулся к девушке.
— Он вас не видит, господа, — сказала Надя. — Татары выжгли ему глаза! Мой бедный брат слеп!
Чувство горячей жалости отразилось на лицах Альсида Жоливэ и его спутника.
Минуту спустя оба они, подсев к Михаилу Строгову, жали ему руку и ждали, когда он с ними заговорит.
— Господа, — вполголоса произнес Михаил Строгов, — вы не должны знать, ни кто я, ни зачем я приехал в Сибирь. Прошу вас сохранить мой секрет. Вы обещаете?
— Слово чести, — ответил Альсид Жоливэ.
— Слово джентльмена, — присоединился Гарри Блаунт.
— Хорошо, господа.
— Не могли бы мы быть вам полезны? — спросил Гарри Блаунт. — Хотите, мы поможем вам выполнить вашу задачу?
— Я предпочитаю действовать один, — ответил Михаил Строгов.
— Но ведь эти негодяи выжгли вам глаза, — сказал Альсид Жоливэ.
— У меня есть Надя, и ее глаз для меня достаточно.
Через полчаса плот, покинув малую гавань Лиственичную, вошел в реку. Было пять часов вечера. Наступала ночь. Она обещала быть очень темной и очень морозной, ибо уже сейчас температура опустилась ниже нуля.
Альсид Жоливэ и Гарри Блаунт, пообещав Михаилу Строгову хранить секрет, остались подле него. Меж ними завязался тихий разговор, и слепой, узнав новые сведения, смог составить себе точное представление о состоянии дел.
Было очевидно, что в настоящее время татары брали Иркутск в кольцо, причем все три их колонны объединились. Тем самым не приходилось сомневаться, что эмир и Иван Огарев находились вблизи столицы. Но чем объяснить стремление царского гонца поскорее попасть в город — теперь, когда он уже не мог передать Великому князю письмо императора и не знал его содержания? Этого Альсид Жоливэ и Гарри Блаунт не понимали, как не понимала и Надя.
Впрочем, речь о прошлом зашла лишь тогда, когда Альсид Жоливэ счел своим долгом сказать Михаилу Строгову:
— Мы должны принести вам наши извинения за то, что в Ишиме перед расставанием не пожали вам руки.
— Нет, вы были вправе счесть меня трусом!
— В любом случае, — добавил Альсид Жоливэ, — вы великолепно огрели этого негодяя кнутом по лицу, он долго еще будет носить эту отметину!
— Нет, не долго! — спокойно ответил Михаил Строгов.
Спустя полчаса после отплытия из Лиственичной Альсид Жоливэ и его компаньон были в курсе тех жестоких испытаний, через которые прошли Михаил Строгов и его спутница. Им оставалось лишь восхищаться силой духа девушки, сравниться с коей могла только ее преданность. А касательно Михаила Строгова у обоих возникла та же самая мысль, которую высказал в Москве Царь: «Это настоящий мужчина!»
Плот быстро плыл среди льдин, увлекаемых течением Ангары. По обеим сторонам реки раскрывалась движущаяся панорама, и в силу оптического обмана казалось, будто на месте остается сам плот, перед которым под разными углами разворачивается галерея живописных картин. То это были высокие гранитные скалы странных очертаний, то горловина дикого ущелья, откуда изливалась бурная речка; иногда проплывала широкая поляна с дымившейся еще деревней, потом шли густые сосновые боры с рвавшимися наружу яркими языками пламени. Но если следы татарского присутствия бросались в глаза повсюду, то самих татар пока не было видно, ибо основные их силы сошлись на подступах к Иркутску.
Все это время странники продолжали громко читать свои молитвы, а старый матрос, отталкивая багром слишком близко прижимавшиеся льдины, неизменно удерживал плот посредине стремительного течения Ангары.
Глава 11 МЕЖ ДВУХ БЕРЕГОВ
В восемь часов вечера, как и предвещало мрачневшее небо, всю местность окутала глубокая тьма — в часы новолуния появляться над горизонтом ночное светило не собиралось. Берегов с середины реки не было видно. Прибрежные скалы скрывались за тяжелыми, почти застывшими на месте облаками. Временами с востока долетали порывы ветра, словно испускавшего дух над узкой долиной Ангары.
Планам беженцев темнота могла только способствовать, и очень существенно. В самом деле, хотя татарские аванпосты и располагались скорее всего по обоим берегам реки, у плота оставались серьезные шансы пройти незамеченным. Сомнительным казалось и то, что осаждающие захотят перегородить реку выше Иркутска, ведь они уверены, что русские не ждут помощи с юга. К тому же в ближайшее время такое заграждение может поста вить сама природа, сковав морозом громоздившиеся между берегами льды.
Теперь на плоту царила полная тишина. С той поры, как он поплыл вниз по реке, странники, продолжая молитвы, перешли на шепот, который не мог достичь берегов. Вытянувшись на настиле плота, беженцы силуэтами своих тел почти слились с ровной горизонталью вод. Старый матрос, улегшийся на носу вместе со своими людьми, только отталкивал шестом льдины, а это не создавало шума.
Само движение льдин могло считаться благоприятным обстоятельством, если бы не грозило превратиться в непреодолимое препятствие на пути плота. И в самом деле, пока тот плыл одиноко по свободной воде, его легко было разглядеть даже сквозь густую тьму, в то время как теперь он сливался с другими движущимися массами разной величины и формы, а грохот сталкивающихся льдин перекрывал любые иные подозрительные звуки.
Все вокруг пронизывал жуткий холод. Беженцы, не имевшие иного укрытия, кроме нескольких вязанок березовых сучьев, страшно мерзли. Они жались друг к другу, чтобы хоть как-то согреться. Этой ночью температура должна была упасть до десяти градусов мороза. Даже слабые порывы ветра, долетавшие сюда через заснеженные вершины восточных гор, больно кусали щеки.
Михаил Строгов и Надя, улегшиеся на корме, безропотно переносили новые страдания. Альсид Жоливэ и Гарри Блаунт, устроившиеся по соседству, как могли сопротивлялись первым наскокам сибирской зимы. Никто уже не разговаривал, даже шепотом. Да и мысли людей целиком занимала сложившаяся ситуация. В любую минуту могла случиться неожиданность, возникнуть опасность — вплоть до катастрофы, когда им вряд ли удалось бы остаться невредимыми.
Для человека, который рассчитывал вскоре достичь заветной цели, Михаил Строгов казался необычайно спокойным. Впрочем, присутствие духа даже в самой трудной обстановке никогда не покидало его. Он уже смутно предвкушал тот миг, когда у него будет наконец возможность подумать о своей матери, о Наде, о себе самом! И боялся лишь последней и скверной случайности — как бы плот не уткнулся в ледовый затор, не успев доплыть до Иркутска. Лишь об этом он думал, полный, однако, решимости, если потребуется, пойти на отчаянный шаг.
Надя, после нескольких часов отдыха пришедшая в себя, вновь обрела ту энергию и силу, которую тяжкие страдания могли порой подавить, но ни разу не сломили ее стойкого морального духа. Ей тоже не давала покоя мысль — когда для Михаила Строгова придет пора решающих действий, ей необходимо быть рядом, показывать ему путь. Но, по мере того как Иркутск приближался, сознанию ее все четче представал образ отца. Она видела его в окруженном городе, вдали от тех, кого он так нежно любил, и все же — в чем она не сомневалась — сражающимся против захватчиков со страстью истинного патриота. Еще несколько часов, и, если небо наконец будет к ним благосклонно, она очутится в его объятьях, передаст последние слова матери, и ничто их больше не разлучит. А если ссылке Василия Федорова не суждено окончиться, его дочь останется ссыльной вместе с ним. Затем, по естественному ходу мысли, она вернулась к тому, кому будет обязана встречей, — к своему благородному спутнику, к «брату», который после изгнания татар отправится обратно в Москву и кого она, быть может, никогда больше не увидит!…
Альсид Жоливэ и Гарри Блаунт были оба поглощены одной-единственной мыслью: события принимают крайне драматичный оборот и при умелой подаче их можно воплотить в интереснейший материал. При этом англичанин думал о читателях «Daily Telegraph», а француз — о читателях кузины Мадлэн, но в глубине души оба переживали необъяснимое волнение.
«Что ж, тем лучше! — думал Альсид Жоливэ. — Чтобы волновать, надо волноваться! Мне даже кажется — на эту тему есть прекрасные стихи, но, черт возьми, не могу вспомнить…»
И своим обостренным зрением он пытался пронзить густую тьму, что окутывала реку.
Время от времени тьму разрывали яркие вспышки света, выхватывая из мглы отдельные, фантастически преображенные куски прибрежного пейзажа. То лес, охваченный огнем, то догоравшую деревню — мрачные репродукции дневных картин, усугубленные контрастом ночи. И тогда вся Ангара, от берега до берега, словно воспламенялась. Льды превращались в зеркала, которые отражали это пламя под разными углами во всем многообразии цветов и перемещались, повинуясь капризам течения. Смешавшись с этими льдами-зеркалами, плот шел вперед, оставаясь незамеченным.
Опасность, стало быть, еще не появилась.
Однако над беженцами нависла новая угроза. Ее они предвидеть не могли, а главное — не могли предотвратить. Только случай дал знать о ней Альсиду Жоливэ, и вот при каких обстоятельствах.
Лежа на правом краю плота, он свесил в воду руку. И его поразило впечатление, возникшее от соприкосновения с водной поверхностью: вода была вязкой, словно растопленное масло.
Понюхав испачканную руку, Альсид Жоливэ понял, что не ошибся. Это и впрямь была нефть, которая всплыла в верхние слои Ангары и текла теперь вместе с речной водой!
Неужели плот и в самом деле плыл по этой крайне огнеопасной жидкости? Откуда здесь взялась нефть? То ли природные силы вынесли ее на поверхность Ангары, то ли использовали в разрушительных целях татары? И не собирались ли они разжечь пожар до самого Иркутска с помощью средств, которые у цивилизованных наций запрещены правилами ведения войны?
Такими вопросами задавался Альсид Жоливэ, однако поделиться ими он счел нужным лишь с Гарри Блаунтом, и оба согласились, что не стоит пугать новой опасностью спутников.
Известно, что почва Центральной Азии все равно что губка, пропитанная жидким углеводородом. В бакинской гавани, на границе с Персией, на Апшеронском полуострове, в Каспийском море из земли бьют тысячи источников минерального масла. Это «нефтяная страна» вроде той, что носит это имя в Северной Америке[124].
Во время некоторых религиозных праздников, и прежде всего в бакинской гавани, поклоняющиеся огню туземцы выливают в море нефть, которая, уступая воде по плотности, всплывает наверх. С наступлением ночи, когда слой нефти успевает разойтись по поверхности Каспийского моря, они поджигают его и любуются бесподобным зрелищем целого океана огня, который вскипает и бушует под ветром.
Но то, что в Баку — развлечение, для вод Ангары обернулось бы настоящей катастрофой. Стоило только — по злому умыслу или по неосторожности — поднести к ним огонь, как вспыхнувшее пламя в один миг распространилось бы за Иркутск.
Опасаться такой неосторожности со стороны ехавших на плоту заведомо не приходилось; но от тех пожаров, что пылали по обоим берегам Ангары, можно было ожидать всего: достаточно было упасть в реку одной головешке или даже искре, чтобы поток нефти тут же вспыхнул огнем.
То, чего опасались Альсид Жоливэ и Гарри Блаунт, легче понять, чем наглядно представить. Не лучше ли было, ввиду этой новой напасти, пристать к одному из берегов, высадиться и подождать? Такой встал перед ними вопрос.
— В любом случае, — сказал Альсид Жоливэ, — какова бы ни была опасность, я знаю одного человека, который ни за что не высадится!
Он имел в виду Михаила Строгова.
Тем временем течение несло плот меж льдин, ряды которых теснились все плотнее.
До сих пор на откосах Ангары не было замечено ни одного татарского отряда, из чего следовало, что плот не доплыл еще до их аванпостов. И однако, около десяти часов вечера, Гарри Блаунту показалось, что по поверхности льдин перемещается множество черных теней. Эти тени, перепрыгивая с льдины на льдину, быстро приближались.
«Татары!» — подумал он.
И, подползши к старому матросу, находившемуся на носу плота, обратил его внимание на подозрительное движение.
Старый матрос пристально вгляделся.
— Это всего лишь волки, — сказал он. — По мне, уж лучше они, чем татары. Но защищаться придется, и без шума!
Беженцам и в самом деле предстояло вступить в схватку с этими свирепыми хищниками, которые, спасаясь от холода и голода, рыскали по всей губернии[125]. Волки учуяли плот и теперь подбирались к нему, готовые напасть. Беженцам пришлось защищаться, не прибегая, однако, к огнестрельному оружию, так как поблизости могли оказаться татарские посты. Женщин и детей собрали в центре плота, а мужчины — кто с шестом, кто с ножом, а большинство с палками — приготовились отбиваться от нападавших. Люди не издавали ни звука, но воздух дрожал от воя волков.
Михаил Строгов не захотел оставаться в стороне. Вынув свой нож, он лег на тот край плота, куда устремилась волчья стая. И всякий раз, когда очередной хищник оказывался в пределах досягаемости, умело вонзал нож ему в горло. Гарри Блаунт и Альсид Жоливэ тоже не остались безработными, приняв участие в жестоком труде. Их спутники мужественно помогали им. Вся эта кровавая бойня проходила в полном безмолвии, хотя кое-кто из беженцев уже пострадал от сильных укусов.
Судя по всему, схватка могла длиться еще долго. Волчья стая постоянно обновлялась, правый берег Ангары, должно быть, просто кишел зверьем.
— Этому, выходит, и конца не будет! — возмущался Альсид Жоливэ, орудуя красным от крови кинжалом.
И верно, с начала нападения прошло уже полчаса, а волки все еще сотнями перекатывались через льдины.
Изнемогающие беженцы слабели на глазах. Схватка оборачивалась не в их пользу. И вот уже новая стая из десяти рослых волков, осатаневших от злобы и голода, сверкая в темноте раскаленными угольями глаз, ворвалась на площадку плота. Альсид Жоливэ и его компаньон бросились в гущу свирепых хищников, ползком устремился к ним и Михаил Строгов, как вдруг ход борьбы резко переменился.
В считанные секунды волки покинули не только плот, но и рассеянные по реке льдины. Черное полчище бросилось врассыпную и вскоре в отчаянной спешке скрылось на правом берегу реки.
Дело в том, что волки, как правило, действуют в темноте, а как раз в этот миг все течение Ангары залил яркий свет.
То был отблеск гигантского пожара. Пылало огнем целое селение Пошкавск. На сей раз можно было видеть и татар, вершивших свое дело. Начиная с этого места они занимали оба берега до Иркутска и дальше. И значит, беженцы в своем плаванье достигли опасной зоны, а до столицы оставалось еще тридцать верст.
Была половина двенадцатого ночи. Плот продолжал скользить в темноте среди льдин, с которыми сливался неразличимо; но иногда отсвет пожарища дотягивался и до него. Поэтому беженцы, плашмя лежавшие на настиле, не позволяли себе лишних движений, которые могли их выдать.
Пожар в поселке бушевал с необычайной силой. Сложенные из елей избы полыхали как смола. Все сто пятьдесят домов пылали одновременно. К треску огня примешивались дикие вопли татар. Старый матрос, упершись в ближайшую льдину, сумел оттолкнуть плот к правому берегу, и от пылавших откосов Пошкавска его отделяло теперь расстояние в триста — четыреста футов.
Тем не менее беженцев, на которых падал порой отсвет пожара, можно было заметить, если бы поджигатели не были слишком увлечены разрушением. С другой стороны, нетрудно понять, чего опасались теперь Альсид Жоливэ и Гарри Блаунт, когда думали о той горючей жидкости, по которой скользил плот.
В самом деле, от изб, превратившихся в огромные раскаленные печи, летели яркие снопы искр. Среди клубов дыма эти искры взлетали в воздух на высоту от пятисот до шестисот футов. Деревья и скалы, расположенные на правом берегу как раз напротив пожарища, были, казалось, тоже охвачены огнем. Между тем хватило бы одной искорки — упади она в Ангару, — чтобы пожар метнулся наперерез потокам вод и бедствие перекинулось с одного берега на другой. А это означало незамедлительную гибель плота и всех тех, кого он нес.
К счастью, слабые порывы ночного ветерка дули не в эту сторону. Они по-прежнему шли с востока, сбивая пламя влево. И оставалась надежда, что этой новой опасности беженцам удастся избежать.
Объятая пламенем деревня осталась наконец позади. Зарево пожара понемногу ослабело, треск стих, и последние отблески скрылись за высокими скалами, вздымавшимися над крутой излучиной Ангары.
Было около полуночи. Сгустившаяся тьма вновь укрывала плот. Татары по-прежнему находились поблизости — сновали туда-сюда по обоим берегам реки. Их не было видно, но зато хорошо слышно. Ярко пылали костры передовых постов.
Теперь, однако, возникала необходимость все более точного маневра среди теснившихся льдин.
Старый матрос поднялся на ноги, и мужики вновь взялись за шесты. Им предстояло сделать самое тяжелое, а управлять плотом становилось все труднее, ибо русло реки все заметнее забивало льдом.
Михаил Строгов пробрался на нос.
Альсид Жоливэ последовал за ним.
Оба слушали, о чем говорят старый матрос и его люди.
— Поглядывай направо.
— Льдины влево забирают!
— Толкайся! Толкайся шестом!
— Не пройдет и часа, как нас запрет!…
— На все воля Божья! — отвечал старик матрос. — Против Его воли не пойдешь.
— Вы поняли, о чем они? — обратился к Михаилу Строгову Альсид Жоливэ.
— Да, — ответил тот, — но Бог нас не оставит.
Однако положение осложнялось все больше. Если плот упрется в ледяной затор, то беженцам не только не добраться до Иркутска, но придется бросить свое сооружение, и плот, раздавленный льдами, тут же начнет распадаться. Разорвутся ивовые прутья, разрозненные еловые бревна затянет под смерзшуюся ледовую корку, и у несчастных не останется иного прибежища, кроме самих льдин. И с приходом дня татары заметят их и безжалостно всех перебьют!
Михаил Строгов вернулся на корму, где его ждала Надя. Подошел к ней, взял за руку и задал все тот же вопрос: «Ты готова, Надя?», на который она ответила как всегда:
— Я готова!
Еще несколько верст плот продолжало тащить меж плавучих льдов. Если русло Ангары сузится, образуется затор — и тогда плыть по течению станет невозможно. Движение и так уже намного замедлилось. Плот то и дело толкало или разворачивало. Приходилось то пропускать наезжавшую льдину, то проскакивать в открывшийся проход. И наконец задержки стали угрожающе частыми.
В самом деле, ночного времени оставалось лишь несколько часов. Если беженцы не успеют достичь Иркутска до пяти часов утра, они не смогут попасть туда вообще.
И вот, в час тридцать ночи, несмотря на все предпринятые усилия, плот уткнулся в плотную преграду и окончательно стал. Льдины, спускавшиеся по течению следом, уперлись в него, прижали к преграде, и он застыл на месте, словно сел на риф.
В этом месте Ангара сужалась, сократившись наполовину против обычной ширины. Отсюда и скопление льдин, которые постепенно смерзались под двойным воздействием — значительного сжатия и вдвое покрепчавшего мороза. В пятистах шагах ниже по течению русло реки снова расширялось, и льдины, понемногу отрываясь от нижней кромки образовавшегося поля, продолжали свой дрейф на Иркутск. Так что, если бы не это сближение берегов, затора бы наверняка не возникло и плот мог плыть по течению дальше. Однако поправить беду было невозможно, и беженцы утратили всякую надежду достичь цели.
Будь в их распоряжении орудия, которыми обычно пользуются китобои, когда пробивают каналы в ледовых полях, они могли прорубить ледовое поле до того места, где река вновь расширялась, и тогда, быть может, успели. Но не было ни пилы, ни кирки — ничего, что помогло бы справиться с ледяной коркой, на морозе превратившейся в гранит.
На что решиться?
В этот момент на правом берегу Ангары раздались выстрелы. На плот посыпался град пуль. Значит, несчастных заметили. Сомнений не оставалось, так как стрельба поднялась и на левом берегу. Оказавшись меж двух огней, беженцы стали мишенью для татарских стрелков. Хотя в такой темноте пули могли найти цель разве что случайно, несколько человек были ранены.
— Идем, Надя, — прошептал Михаил Строгов на ухо девушке.
Не рассуждая, готовая на все, Надя взяла Михаила Строгова за руку.
— Надо пройти через затор, — тихо сказал он. — Веди меня, но чтоб никто не видел, как мы покинули плот!
Надя послушалась. В кромешной тьме, которую там и сям раздирали выстрелы, они быстро соскользнули на поверхность ледового поля.
Надя ползла впереди Михаила Строгова. Вокруг частым градом сыпались пули, постукивая по льду. От неровной поверхности льда, изборожденного острыми закраинами, они в кровь ссадили себе руки, но продолжали ползти.
Минут через десять они достигли нижней кромки затора. В этом месте воды Ангары вновь вырывались на свободу. Отдельные льдины, понемногу отрываясь от ледового поля, устремлялись к городу, набирая скорость.
Надя поняла, что задумал Михаил. Она заметила льдину, которую удерживала лишь узкая перемычка.
— Пойдем, — сказала Надя.
Они оба легли на этот кусок льда, и тот, слегка покачнувшись, оторвался от кромки поля.
Льдина поплыла по течению. Русло реки расширилось — путь был свободен.
Михаил и Надя слышали доносившиеся сзади выстрелы, крики отчаяния, вопли татар… Потом, мало-помалу, эти звуки тяжкой тревоги и свирепой радости затихли вдалеке.
— Бедные наши попутчики! — прошептала Надя.
В течение получаса река быстро несла льдину с Михаилом и Надей. Всякую секунду можно было опасаться, как бы она не проломилась под их тяжестью. Попав в струю, льдина плыла по середине реки, и необходимость направить ее наискосок к течению могла возникнуть только тогда, когда наступит время пристать к иркутским набережным.
Михаил Строгов, сжав зубы и настороженно прислушиваясь, не произносил ни слова. Никогда еще не был он так близок к цели. И чувствовал, что вот-вот достигнет ее!…
Около двух часов утра на темном горизонте, где сливались оба берега Ангары, замерцал двойной ряд огней.
Справа светились огни Иркутска, слева — костры татарского лагеря. Михаил Строгов находился всего в полуверсте от города.
— Наконец-то! — прошептал он.
Но вдруг Надя вскрикнула.
Услышав этот крик, Михаил Строгов выпрямился во весь рост на раскачавшейся льдине. Рука его вытянулась в сторону ангарских верховий. Лицо, освещенное синеватыми бликами, страшно исказилось, и он, как если бы глаза его снова открылись свету, воскликнул:
— Увы! Сам Бог, как видно, тоже против нас!
Глава 12 ИРКУТСК
В Иркутске, столице Восточной Сибири, в обычное время проживало тридцать тысяч жителей. На взгорье правого берега Ангары высилось несколько церквей с высоким храмом посредине и множеством домов, разбросанных в живописном беспорядке.
Если смотреть с некоторого расстояния — например, с вершины горы, что возвышается верстах в двадцати по большому сибирскому тракту, — то город с его башнями, колоколенками, островерхими, как минареты, крышами, пузатыми, как у японских ваз, куполами обнаруживает в своем облике нечто восточное. Но это впечатление исчезает, как только путешественник оказывается внутри городских стен. Полувизантииский-полукитайский, город вновь становится европейским, о чем свидетельствуют и покрытые щебенкой улицы, окаймленные тротуарами, пересеченные каналами и обсаженные высоченными березами, и кирпичные и деревянные дома порой в несколько этажей, и множество бороздящих улицы экипажей — не только тарантасов и телег, но и двухместных карет и колясок, и, наконец, большая прослойка жителей, весьма преуспевших по части достижений цивилизации и вовсе не чуждых самой последней парижской моде.
В описываемую пору Иркутск, укрывший сибиряков со всей губернии, поражал изобилием. Всяческих запасов было полным-полно. Ведь Иркутск — это перевалочный пункт для бесчисленных товаров, которыми обмениваются Китай, Центральная Азия и Европа. Поэтому власти не побоялись собрать сюда крестьян из ангарской долины, халха-монголов, тунгусов и бурят, оставив меж захватчиками и городом огромную безлюдную пустыню.
Иркутск — место пребывания генерал-губернатора Восточной Сибири. Под его началом несут службу вице-губернатор по гражданским делам, в чьих руках сосредоточено управление губернией, полицмейстер, которому хватает дел в городе, где полно ссыльных, и, наконец, городской голова — предводитель купечества, лицо весьма значительное как по своему огромному состоянию, так и по влиянию, которым он пользуется у своих подопечных.
Гарнизон Иркутска состоял в это время из полка пеших казаков, насчитывавшего около двух тысяч человек, и местного корпуса жандармов в касках и синих, обшитых серебряным галуном мундирах.
Кроме этого, в силу известных читателю причин, а также ввиду особых соображений, в городе с начала нашествия оставался брат царя.
Последнее обстоятельство требует некоторых уточнений.
В эти далекие края Восточной Азии Великого князя привели дела большой политической важности.
Путешествуя скорее как военный чин, нежели князь, — безо всякой помпы, в окружении приближенных офицеров и в сопровождении отряда казаков, — Великий князь, посетив главные сибирские города, доехал до Забайкалья. Его визита удостоился и Николаевск, последний русский город на побережье Охотского моря.
Объехав границы обширной Московской империи, Великий князь возвращался в Иркутск, откуда собирался продолжить свой путь в Европу, когда до него дошло известие о нашествии, столь же грозном, сколь и внезапном. Он поспешил вернуться в сибирскую столицу, но почти тут же сообщение с Россией прервалось. Он успел получить еще несколько телеграмм из Петербурга и Москвы, на которые тут же ответил. Затем телеграфный провод был оборван — при обстоятельствах, читателю известных.
Иркутск оказался отрезанным от остального мира.
Великому князю ничего не оставалось, как взяться за организацию сопротивления, и он сделал это с присущими ему твердостью и хладнокровием, которые, хотя и при других обстоятельствах, уже имел случай проявить.
В Иркутск одна за другой поступали сообщения о взятии Ишима, Омска, Томска. И нужно было любой ценой удержать столицу Сибири. На быструю помощь рассчитывать не приходилось. Те немногие воинские части, что были разбросаны по берегам Амура и в Якутской области, не могли прибыть в количестве, достаточном для отпора татарским колоннам. Между тем поскольку Иркутску неминуемо грозило окружение, то важнее всего было подготовить город к продолжительной осаде.
Работы были начаты в тот день, когда татары захватили Томск. Вместе с этим известием Великий князь узнал, что вторжением руководили лично эмир Бухары и ханы-союзники, однако для него осталось неизвестным, что правой рукой властителей-варваров был Иван Огарев, русский офицер, которого он сам лишил всех чинов, хотя и не знал его лично.
Первым делом, как читателю уже известно, жителям Иркутской губернии было приказано покинуть все города и деревни. Те, кто не нашел убежища в столице, должны были перебираться еще дальше — за Байкал, куда опустошительное нашествие не должно было докатиться. Урожай зерновых и кормов был реквизирован в пользу города, и теперь этот последний оплот Московской державы на Дальнем Востоке мог какое-то время продержаться.
Основанный в 1611 году, Иркутск расположен на правом берегу Ангары при слиянии ее с рекой Иркут. Два деревянных моста на сваях, переброшенные таким образом, чтобы не мешать проходу судов по всей ширине фарватера, соединяют город с его предместьями на левом берегу. С этой стороны оборона не представляла трудностей. Жители из предместий были выселены, мосты снесены Переход через Ангару, в этом месте очень широкую, под огнем осажденных был невозможен.
Но реку можно было перейти выше и ниже города, а тем самым существовала опасность нападения на Иркутск с его восточной окраины, крепостными стенами не защищенной.
Именно фортификационными[126] работами население и было занято в первую очередь. Жители трудились день и ночь. В свой первый приезд Великий князь нашел здесь люд, усердный на работе, а возвратясь, обрел народ, бесстрашный в час борьбы. Солдаты, купцы, ссыльные, крестьяне — все отдавали себя делу общего спасения. За восемь дней до появления татар на Ангаре были возведены земляные валы. Между двумя скатами — эскарпом[127] и контрэскарпом[128] — вырыли ров, затопив его водами Ангары. Город уже нельзя было взять с ходу, его пришлось бы окружить и подвергнуть осаде.
Третья татарская колонна — та, которая только что поднялась вверх по долине Енисея, — появилась в виду Иркутска 24 сентября. Она немедленно заняла оставленные предместья, где были даже снесены дома, чтобы повысить эффективность артиллерии Великого князя, к сожалению весьма малочисленной.
В ожидании подхода двух других колонн — во главе с эмиром и его союзниками — татары встали лагерем.
Соединение армий произошло 25 сентября в лагере на Ангаре, и теперь все войска, за исключением гарнизонов, оставленных в главных захваченных городах, сосредоточились под рукой Феофар-хана.
Поскольку, на взгляд Ивана Огарева, переход через Ангару в виду Иркутска был невозможен, значительная часть войск переправилась через реку несколькими верстами ниже по течению, используя лодочные мосты, специально для этого установленные. Великий князь не пытался воспрепятствовать этой переправе. Он мог лишь затруднить ее, но всерьез помешать не мог, так как в его распоряжении не было полевой артиллерии; и, оставшись под защитой крепостных стен, он поступил разумно.
Итак, татары заняли правый берег реки; затем они поднялись к городу, спалив по пути летнюю резиденцию генерал-губернатора, расположенную в лесах высоко над Ангарой. И, только полностью окружив Иркутск, окончательно заняли позиции для осады.
Иван Огарев, умелый инженер, мог, разумеется, руководить операциями последовательной осады; однако для ускорения действий ему не хватало подручных средств. И поэтому предмет всех своих усилий — Иркутск — он надеялся захватить хитростью.
Как мы видим, события развернулись иначе, чем он рассчитывал. С одной стороны, задержка татарской армии из-за сражения под Томском; с другой — проявленная Великим князем расторопность в создании оборонительных сооружений; двух этих причин оказалось достаточно, чтобы планы Огарева провалились. Огарев оказался перед необходимостью приступить к осаде по всем правилам.
Между тем, по его наущению, эмир дважды пытался захватить город в лоб, не считаясь с людскими потерями. Он бросил своих солдат на захват земляных укреплений, где имелись уязвимые места; но оба приступа были отражены иркутянами с исключительным мужеством. Великий князь и его офицеры не щадили себя. Проявляя личное мужество, они увлекали на городские валы гражданское население. Мещане и мужики с честью исполняли свой долг. Во время второго приступа татарам удалось высадить одни из крепостных ворот. И в устье главной улицы под названием Большая — длиной в две версты со спуском к Ангаре — завязалось сражение. Но казаки, жандармы, горожане оказали столь упорное сопротивление, что татарам пришлось вернуться на исходные позиции.
Тогда-то, ничего не добившись силой, Иван Огарев и задумал достичь своей цели с помощью вероломства. Его план, как известно, состоял в том, чтобы проникнуть в город, найти доступ к Великому князю, втереться к нему в доверие и в условленное время открыть осаждающим какие-нибудь из городских ворот; после чего утолить свою жажду мести, учинив расправу над братом царя.
Цыганка Сангарра, сопровождавшая предателя и в лагере на Ангаре, подбила его привести этот план в исполнение.
Следовало и впрямь действовать без промедления. К Иркутску двигались русские войска из Якутской области. Они сосредоточились в нижнем течении Лены и по ее долине поднимались вверх. Через шесть дней они могли выйти к городу. Значит, Иркутск нужно было выдать татарам до этого времени.
Иван Огарев больше не колебался.
Вечером 2 октября в большой гостиной генерал-губернаторского дворца состоялся военный совет. На нем присутствовал Великий князь.
Дворец, воздвигнутый в конце Большой улицы, господствовал над длинной полосой прибрежного откоса. Из окон его главного фасада был виден татарский лагерь, и если бы артиллерия осаждающих обладала большей дальнобойностью, дворец уже был бы необитаем.
Великий князь, генерал Воронцов и городской голова — предводитель купечества, к которым присоединились также некоторые из высших чинов, уже вынесли несколько решений.
— Господа, — произнес Великий князь, — вы четко представляете себе наше положение. Я твердо надеюсь, что нам удастся продержаться до подхода частей из Якутска. И тогда уж мы сможем, конечно, изгнать эти варварские орды, которые, надо думать, дорого заплатят за свое покушение на российские земли.
— Ваше Высочество может твердо рассчитывать на все население Иркутска, — заверил генерал Воронцов.
— Хорошо, генерал, — ответил Великий князь, — я воздаю должное патриотизму горожан. Слава Богу, иркутянам не довелось испытать ужасов эпидемий или голода, и у меня есть основания надеяться, что их удастся избежать и впредь. А на городском валу мне оставалось только восхищаться их мужеством. Господин городской голова, вы слышали мои слова. Прошу вас так их всем и передать.
— От имени города я благодарю Ваше Высочество, — ответил предводитель купечества. — Осмелюсь спросить, каков, по мнению Вашего Высочества, крайний срок прибытия армии поддержки?
— Шесть дней — самое большее, сударь, — ответил Великий князь. — Сегодня утром в город сумел пробраться их посланец, человек очень храбрый и удачливый. Он сообщил мне, что пятьдесят тысяч русских под командой генерала Киселева движутся к нам ускоренным маршем. Два дня назад они достигли у Киренска берегов Лены, и теперь уже ни снег, ни мороз не помешают их прибытию. Зайдя татарам во фланг, пятьдесят тысяч солдат из отборных частей сумеют быстро снять осаду.
— Я хочу добавить, — заявил предводитель купечества, — что в тот день, когда Ваше Высочество прикажет выступить, мы будем готовы выполнить приказ.
— Хорошо, сударь, — ответил Великий князь. — Подождем, пока русские передовые части появятся на ближних высотах, и разгромим захватчиков.
Затем он обратился к генералу Воронцову:
— Завтра мы проверим состояние работы на правом берегу. По Ангаре несет лед, она вот-вот встанет, и в этом случае татары, наверное, смогут ее перейти.
— Да позволит мне Ваше Высочество обратить его внимание на одно обстоятельство, — вставил слово городской голова.
— Прошу, сударь.
— Я не раз замечал, как температура падала до тридцати и сорока градусов ниже нуля, но Ангара все равно несла лед, не замерзая полностью. Это объясняется, конечно, скоростью ее течения. И если у татар нет иного способа перейти реку, то я могу ручаться Вашему Высочеству, что таким путем они в Иркутск не войдут.
Генерал-губернатор подтвердил слова городского головы.
— Это весьма счастливое обстоятельство, — согласился Великий князь. — Тем не менее надо быть готовым к любому повороту событий.
Обратившись затем к полицмейстеру, он спросил:
— А вы, сударь, ничего не имеете сказать мне?
— Я имею сообщить Вашему Высочеству, — ответил полицмейстер, — о челобитной, направленной ему через меня.
— Направленной… кем?
— Людьми, сосланными в Сибирь, которых, как известно Вашему Высочеству, в городе насчитывается пятьсот человек.
Политические ссыльные, расселенные по всей провинции, после начала нашествия были действительно собраны в Иркутске. Они подчинились приказу переехать в город и покинуть поселки, где занимались различной деятельностью: кто врачевал, кто учительствовал — будь то в гимназии, в японской школе или в Школе навигации. С самого начала Великий князь, полагаясь, как и царь, на патриотизм ссыльных, дал им в руки оружие и нашел в них храбрых защитников.
— И чего же просят ссыльные? — спросил Великий князь.
— Они просят у Вашего Высочества, — ответил полицмейстер, — позволения объединиться в особый батальон и при первом же выступлении быть в головном отряде.
— Хорошо, — сказал Великий князь, даже не пытаясь скрыть волнения, — ведь эти ссыльные — русские люди и сражаться за свою родину — их неотъемлемое право!
— От себя могу заверить Ваше Высочество, — добавил генерал- губернатор, — что у него не будет более достойных солдат.
— Но им нужен командир, — заметил Великий князь. — Кто им будет?
— Они хотели бы представить Вашему Высочеству, — ответил полицмейстер, — одного из них, отличавшегося уже не раз.
— Он русский?
— Да, русский из балтийских губерний.
— Его зовут?…
— Василий Федоров.
Этим ссыльным был отец Нади.
Василий Федоров, как мы знаем, занимался в Иркутске врачеванием. Человек образованный и наделенный чувством сострадания, он отличался незаурядным мужеством и искренним патриотизмом. Все свободное от посещения больных время он отдавал организации сопротивления. Это он объединил своих товарищей по ссылке вокруг общего дела. Своим поведением ссыльные, до сих пор считавшиеся просто частью населения, обратили на себя внимание Великого князя. В ходе нескольких операций они кровью оплатили свой долг святой Руси — воистину святой и обожаемой ее сынами! Василий Федоров вел себя как герой. Имя его не раз упоминалось в реляциях, но он никогда не просил ни снисхождения, ни милостей. И когда у ссыльных Иркутска возникла мысль образовать ударный батальон, он даже не знал об их намерении выбрать его своим командиром.
Когда полицмейстер произнес это имя в присутствии Великого князя, тот ответил, что оно ему знакомо.
— И в самом деле, — пояснил генерал Воронцов, — Василий Федоров человек достойный и храбрый, пользующийся огромным влиянием у своих собратьев.
— Как давно он в Иркутске? — спросил Великий князь.
— Два года.
— И его поведение?…
— Его поведете, — ответил полицмейстер, — соответствует требованиям особых законов, на сей случай предусмотренных.
— Генерал, — сказал Великий князь, — извольте немедленно представить его мне.
Приказание Великого князя было исполнено: не прошло и получаса, как Василия Федорова ввели в Большую гостиную.
Это был человек лет сорока, не более, высокого роста, со строгим и грустным лицом. Чувствовалось, что вся его жизнь определяется одним словом — борьба: он боролся и страдал. Чертами лица он удивительно походил на свою дочь — Федорову Надю.
Татарское нашествие потрясло его более чем кого-либо другого, поразив его любящую душу, разрушив последние надежды отца, сосланного за восемь тысяч верст от родного города. Из одного письма он узнал о смерти жены и тут же об отъезде его дочери, получившей от правительства разрешение приехать к нему в Иркутск.
Надя должна была выехать из Риги 10 июля. Нашествие началось 15 июля. Если к этому времени Надя уже пересекла границу, — что может ждать ее в захваченной стране? Легко представить себе, какая тревога терзала душу несчастного отца, не получившего с тех пор никаких известий.
Представ перед Великим князем, Василий Федоров поклонился и стал ждать вопросов.
— Василий Федоров, — обратился к нему Великий князь, — твои товарищи по ссылке обратились с просьбой образовать ударный батальон. Известно ли им, что в подобных войсках погибают, но не сдаются?
— Им это известно, — ответил Василий Федоров.
— Командиром они хотят видеть тебя.
— Меня, Ваше Высочество?
— Ты согласен встать во главе их?
— Да, если того требует благо России.
— Майор Федоров, — объявил Великий князь, — с этого дня ты больше не ссыльный.
— Благодарю, Ваше Высочество, но могу ли я командовать людьми, которые продолжают оставаться ссыльными?
— Они больше не ссыльные!
Тем самым брат государя объявлял помилование всем его товарищам по ссылке, отныне его боевым соратникам!
Василий Федоров с чувством пожал поданную Великим князем руку. И покинул гостиную.
Обернувшись к присутствовавшим при разговоре должностным лицам, Великий князь с улыбкой произнес:
— Государь не откажется подписать акт о помиловании, который я ему направлю! Для защиты сибирской столицы нам нужны герои, и я только что создал их.
Великодушное помилование ссыльных Иркутска и в самом деле явилось актом подлинной справедливости и мудрой политики.
На город уже опустилась ночь. В окнах дворца мерцали отблески костров татарского лагеря, пылавших за Ангарой. Вдоль берегов тащило множество льдин, утыкавшихся порой в первые сваи снесенных деревянных мостов. А те, что удерживались течением в фарватере, неслись с огромной скоростью. Подтверждались слова городского головы, заметившего, что едва ли всю поверхность Ангары затянет сплошной коркой льда. Так что опасность нападения с этой стороны защитникам Иркутска не угрожала.
Только что пробило десять часов вечера. Великий князь собирался уже отпустить должностных лиц и удалиться в свои апартаменты, когда перед дворцом послышалось какое-то волнение.
Почти тотчас дверь гостиной отворилась, появился один из адъютантов и, подойдя к Великому князю, произнес:
— Ваше Высочество, прибыл царский гонец!
Глава 13 ЦАРСКИЙ ГОНЕЦ
В едином порыве члены совета обратили взгляды к приоткрытой двери. В Иркутск прибыл посланец царя! Если бы у них было хоть мгновение подумать над возможностью такого события, они, конечно, сочли бы его невероятным.
Великий князь поспешил навстречу адъютанту.
— Пригласите! — сказал он.
Вошел человек. Вид у него был изможденный. На поношенном, местами рваном зипуне сибирского крестьянина, в который он был одет, виднелись следы пуль. Голову прикрывала высокая русская шапка. Лицо обезображивал плохо зарубцевавшийся шрам. По всей видимости, этот человек проделал долгий и мучительный путь. А разбитая обувь говорила о том, что часть этого пути ему пришлось проделать пешком.
— Его Высочество Великий князь? — воскликнул он, входя.
Великий князь шагнул ему навстречу.
— Ты царский гонец? — спросил он.
— Да, Ваше Высочество.
— И ты прибыл?…
— Из Москвы.
— А покинул Москву?…
— Пятнадцатого июля.
— Тебя зовут?…
— Михаил Строгов.
Это был Иван Огарев. Он присвоил имя и должность того, кого считал абсолютно беспомощным. В Иркутске его не знали ни Великий князь, ни кто-либо другой, и ему не пришлось даже изменять внешность. А поскольку у него имелась возможность доказать, что он именно тот, за кого себя выдает, то никто бы в этом не усомнился. И вот, ведомый железной волей, он явился сюда, чтобы через предательство и убийство ускорить развязку драмы нашествия.
После ответов Ивана Огарева Великий князь подал знак, и его советники удалились.
Мнимый Михаил Строгов и брат государя остались в гостиной одни.
Несколько мгновений Великий князь с чрезвычайным вниманием разглядывал Ивана Огарева. Потом спросил:
— Пятнадцатого июля ты был в Москве?
— Да, Ваше Высочество, а в ночь с четырнадцатого на пятнадцатое я видел его Величество государя в Новом дворце.
— У тебя есть от царя письмо?
— Вот оно.
И Иван Огарев протянул Великому князю письмо императора, уменьшенное до почти микроскопических размеров.
— Письмо было вручено тебе в таком виде? — спросил Великий князь.
— Нет, Ваше Высочество, но мне пришлось разорвать конверт, чтобы легче утаить содержимое от солдат эмира.
— Значит, ты был у татар в плену?
— Да, Ваше Высочество, несколько дней, — ответил Иван Огарев. — Этим объясняется, почему я, выехав из Москвы пятнадцатого июля, как указано датой письма, до Иркутска добрался лишь второго октября, после семидесяти девяти дней пути.
Великий князь взял письмо. Развернув его, различил подпись царя, которую предваряла привычная формула, написанная той же рукой. Тем самым отпадали какие-либо сомнения насчет подлинности письма, а значит, и личности самого гонца. Если его свирепая физиономия поначалу внушала недоверие, которого, впрочем, Великий князь никак не обнаружил, то теперь это недоверие полностью рассеялось.
Некоторое время Великий князь молчал, медленно читая письмо и стараясь глубже проникнуть в его смысл.
Затем, возвращаясь к разговору, спросил:
— Михаил Строгов, тебе известно содержание этого письма?
— Да, Ваше Высочество. Я мог оказаться перед необходимостью уничтожить его, чтобы оно не попало в руки татар, и я хотел, если удастся, передать Вашему Высочеству его точный текст.
— Ты знаешь, что письмо предписывает нам даже погибнуть в Иркутске, но города не сдавать?
— Знаю.
— Тебе известно также, что в нем указаны пути передвижения войск, согласованные с целью остановить нашествие?
— Да, Ваше Высочество, но эти передвижения не удались.
— Что ты хочешь сказать?
— Я хочу сказать, что Ишим, Омск, Томск — если говорить лишь о главных городах той и другой Сибири — один за другим захвачены солдатами Феофар-хана.
— Но сражения были? Наши казаки сталкивались с татарами?
— Не раз, Ваше Высочество.
— Но были отброшены?
— У них не хватало сил.
— Где произошли стычки, о которых ты говоришь?
— В Колывани, в Томске…
До этого Иван Огарев говорил только правду; однако, желая раздуть успехи войск эмира, чтобы подорвать дух защитников Иркутска, он добавил:
— И в третий раз перед Красноярском.
— И в этой последней стычке?… — спросил Великий князь, сжав губы так, что слова проходили с трудом.
— Это была более чем стычка, Ваше Высочество, — ответил Иван Огарев, — это была битва.
— Битва?
— Двадцать тысяч русских, прибывших из приграничных уездов и Тобольской губернии, сошлись со ста пятьюдесятью тысячами татар и, несмотря на проявленную храбрость, были уничтожены.
— Ты лжешь! — вскричал Великий князь, безуспешно пытавшийся сдержать свой гнев.
— Я говорю правду, Ваше Высочество, — холодно ответил Иван Огарев. — Я присутствовал при этой битве под Красноярском, как раз там я и попал в плен!
Великий князь успокоился и знаком дал Ивану Огареву понять, что не сомневается в его правдивости.
— Какого числа произошла битва под Красноярском? — спросил он.
— Второго сентября.
— И теперь все татарские войска сосредоточены вокруг Иркутска?
— Все.
— И ты их оцениваешь?…
— В четыреста тысяч человек.
Новое преувеличение, допущенное Иваном Огаревым в оценке численности татарских армий, преследовало все ту же цель.
— Значит, мне нечего ждать помощи из западных губерний? — задал вопрос Великий князь.
— Никакой, Ваше Высочество, во всяком случае — до конца зимы.
— Так вот, слушай, Строгов. Даже если ни с востока, ни с запада мне не придет никакой помощи, а этих варваров окажется шестьсот тысяч, Иркутска я не сдам!
Злые глаза Ивана Огарева чуть прищурились. Предатель словно хотел сказать, что в своих расчетах брат царя забыл о предательстве.
Слушая эти убийственные новости, Великий князь, человек вспыльчивый, с трудом сохранял спокойствие. Он мерил шагами гостиную в присутствии Ивана Огарева, который не спускал с него глаз, словно предвкушая скорое удовлетворение своей мести. Великий князь задерживался у окон, смотрел на костры татарского лагеря, прислушивался к шуму, который производили сталкивающиеся льдины, подгоняемые течением Ангары.
Прошло четверть часа; князь не задал ни одного нового вопроса. Потом, снова взяв письмо, он прочел из него отрывок и спросил:
— Тебе известно, Строгов, что в письме идет речь о предателе, которого мне следует остерегаться?
— Да, Ваше Высочество.
— Он попытается проникнуть в Иркутск под чужой личиной, войти ко мне в доверие, а затем, в урочный час, предать город в руки татар.
— Все это я знаю, Ваше Высочество, как и то, что Иван Огарев поклялся лично отомстить брату царя.
— За что?
— Говорят, этот офицер был приговорен Великим князем к унизительному разжалованию.
— Да… припоминаю… Но он заслуживал его — этот негодяй, который собирался в недалеком будущем выступить против своей страны и возглавить нашествие варваров!
— Его Величество государь, — повторил Иван Огарев, — особенно настаивал на том, чтобы предостеречь Ваше Высочество насчет преступных планов Ивана Огарева касательно вашей личности.
— Да… в письме об этом говорится…
— И Его Величество сказал мне об этом сам, предупредив, чтобы по пути моего следования через Сибирь я особенно остерегался этого предателя.
— Ты встретил его?
— Да, Ваше Высочество, после красноярской битвы. Если бы у него возникло подозрение, что при мне находится письмо, адресованное Вашему Высочеству, и в этом письме раскрываются все его планы, он не пощадил бы меня.
— Да, тебя ждал бы конец! — согласился Великий князь. — А как тебе удалось бежать?
— Бросившись в Енисей.
— А в Иркутск ты проник?…
— Благодаря вылазке, которая была предпринята как раз сегодня вечером с целью отбросить отряд татар. Мне удалось замешаться меж защитников города, потом я назвался, и меня тотчас отвели к Вашему Высочеству.
— Ладно, Михаил Строгов, — сказал Великий князь. — Выполняя эту трудную миссию, ты выказал мужество и усердие. Я тебя не забуду. Хочешь просить у меня какой-нибудь милости?
— Никакой, разве что сражаться рядом с Вашим Высочеством, — ответил Иван Огарев.
— Будь по-твоему, Михаил Строгов. С сегодняшнего дня ты будешь находиться при мне и жить в этом дворце.
— А если, как предполагают, Иван Огарев и впрямь вознамерится явиться под фальшивым именем к Вашему Высочеству?
— Мы разоблачим его — с твоей помощью, раз ты его знаешь, и он у меня умрет под кнутом. Ступай.
Иван Огарев, не забыв, что он капитан корпуса царских курьеров, по-военному отдал Великому князю честь и вышел.
Итак, Иван Огарев успешно сыграл свою гнусную роль. Доверие Великого князя было завоевано им целиком и полностью. Он может злоупотребить этим доверием в любой момент по своему усмотрению. Его поселят в том же дворце. Посвятят в секреты оборонительных операций. А значит, вся ситуация теперь под его контролем. В Иркутске его никто не знает, никто не сможет сорвать с него маску. И Огарев решил незамедлительно приступить к делу.
Время и впрямь не ждало. Город надо было выдать татарам до прихода русских с севера и востока, а это вопрос нескольких дней. А когда татары станут хозяевами Иркутска, отбить его будет нелегко. В любом случае, если впоследствии им и придется его отдать, они не оставят от города камня на камне, а голова Великого князя скатится к ногам Феофар-хана.
Получив полную возможность видеть, наблюдать и действовать, Иван Огарев уже на следующий день занялся посещением оборонительных укреплений.
Офицеры, солдаты и гражданское население встречали его с сердечной благодарностью. Посланец царя был для них своего рода связующим звеном с империей. В свой черед Иван Огарев с обычной самоуверенностью, которая никогда ему не изменяла, рассказывал о мнимых злоключениях, случившихся на его пути. Затем весьма ловко, не слишком на этом настаивая, заговаривал о серьезности положения, преувеличивая, как и в рассказе Великому князю, и успехи татар, и те силы, которыми варвары располагали. Из его слов вытекало, что ожидаемая помощь, даже если она и придет, будет недостаточной, и следует опасаться, как бы сражение под стенами Иркутска не оказалось столь же гибельным, как и под Колыванью, Томском и Красноярском.
С этими мрачными измышлениями Иван Огарев, однако, не перебарщивал. Ненавязчиво внедряя их в сознание защитников города, он проявлял известную осмотрительность. Казалось, будто на вопросы он соглашается отвечать, лишь когда на него слишком наседают, и как бы сожалеет о сказанном. Во всяком случае, он непременно добавлял, что биться надо до последнего и скорее взорвать город, чем согласиться на его сдачу!…
Действия его могли, разумеется, обернуться злом. Но гарнизон и жители Иркутска были слишком искренними патриотами, чтобы дать себя обескуражить. Ни одному из солдат и граждан, которые оказались заперты в изолированном городе на окраине азиатского мира, и в голову не пришло заводить речь о капитуляции. Презрение русских к жестокости варваров не имело границ.
Так или иначе, но никто и не подумал заподозрить Ивана Огарева в бесчестной игре, предположить, что мнимый царский гонец был просто предателем.
Вследствие совершенно естественных обстоятельств у Ивана Огарева с момента его появления в Иркутске установились частые контакты с одним из наиболее храбрых защитников города — Василием Федоровым.
Легко понять, какие тревожные мысли обуревали бедного отца. Если его дочь, Надя Федорова, покинула Россию в тот день, которым было помечено последнее письмо из Риги, то что с ней сталось? Пытается ли она еще и теперь пересечь захваченные провинции или давно уже была пленницей? От своих мучительных дум Василий Федоров отвлекался, лишь когда случалось сражаться с татарами, а случалось это, на его взгляд, слишком редко.
Вот почему, когда Василий Федоров узнал о неожиданном прибытии царского гонца, у него возникло предчувствие, что тот может что-то сообщить ему о дочери. Надежда эта была, скорее всего, химерическая, но он крепко за нее держался. А вдруг этот посланец побывал в плену в то же время, что и Надя?
Василий Федоров разыскал Ивана Огарева, который, пользуясь случаем, общался с майором каждый день. Уж не рассчитывал ли отступник найти единомышленника? Не по себе ли судил он о людях? Не считал ли, что русский человек, пусть даже политический ссыльный, может оказаться настолько низок, чтобы предать родину?
Как бы там ни было, Иван Огарев с притворной поспешностью ответил на обращение бедного отца. И тот уже на следующий день после прибытия мнимого гонца отправился во дворец генерал-губернатора. Там он поведал Огареву о тех обстоятельствах, при которых его дочери пришлось выехать из Европейской России, и рассказал о своих теперешних беспокойствах.
Нади Иван Огарев не знал, хотя и встречался с нею на ишимской почтовой станции в тот день, когда она была там вместе с Михаилом Строговым. Но тогда он обратил, на нее не больше внимания, чем на двух журналистов, находившихся на станции в это же время. И поэтому сообщить Василию Федорову каких-либо сведений о его дочери он не мог.
— А когда ваша дочь должна была выехать из России? — спросил Иван Огарев.
— Примерно в то же время, что и вы, — ответил Василий Федоров.
— Я выехал из Москвы пятнадцатого июля.
— В это же время должна была выехать из Москвы и Надя. В ее письме прямо так и сказано.
— Значит, в Москве она была пятнадцатого июля? — переспросил Иван Огарев.
— Да, как раз этого числа.
— Ну что ж!… — задумался Иван Огарев.
Потом, спохватившись, сказал:
— Нет, я ошибся… Я чуть не перепутал числа, — добавил он. — К несчастью, слишком велика вероятность, что ваша дочь успела пересечь границу, и вам остается надеяться лишь на то, что, узнав о татарском нашествии, она не поехала дальше!
Василий Федоров опустил голову. Он знал Надю и вполне отдавал себе отчет, что если она приняла решение ехать, то ничто не могло остановить ее.
Итак, безо всякого повода, Иван Огарев совершил поистине жестокий поступок. Ведь он мог одним-единственным словом успокоить Василия Федорова. Хотя Надя, при известных читателю обстоятельствах, действительно пересекла сибирскую границу, Василий Федоров, сличив дату пребывания дочери в Нижнем Новгороде с датой указа, запрещавшего выезд из города, пришел бы, естественно, к единственному заключению: Наде беды нашествия не угрожают, ибо она, вопреки своему желанию, все еще находится на европейской территории империи.
Однако Иван Огарев, следуя своей природе — природе человека, которого чужие страдания волновать уже не могли, хотя и мог произнести это слово, но… не произнес.
Василий Федоров ушел с разбитым сердцем. После этого разговора он утратил последнюю надежду.
В последующие два дня — 3 и 4 октября — Великий князь несколько раз вызывал к себе мнимого Михаила Строгова и просил повторить все, что тот слышал в императорском кабинете Нового дворца. Заранее приготовившийся ко всем возможным вопросам, Иван Огарев отвечал без колебаний. Он намеренно не скрывал, что для царского правительства нашествие было совершенно неожиданным, что мятеж готовился в полнейшей тайне, что к тому моменту, когда новость дошла до Москвы, татары уже вышли на линию Оби и, наконец, что в русских губерниях не были готовы для отправки в Сибирь войск, достаточных для отражения нашествия.
Совершенно свободный в своих перемещениях, Иван Огарев изучал Иркутск, интересовался состоянием его укреплений, их слабыми местами, — чтобы воспользоваться своими наблюдениями впоследствии, если в силу каких-либо обстоятельств предательство оказалось бы невозможным. Его особое внимание привлекли ворота на Большой улице — их он и намеревался распахнуть перед осаждавшими.
Дважды по вечерам выходил он на площадку перед этими воротами. Прогуливался по ней, не боясь подставить себя под выстрелы осаждающих, чьи передовые посты находились не далее чем в версте от укреплений. Он знал, что стрелять не будут, более того — что его должны искать. Он успел заметить тень, проскользнувшую к самому подножию земляной насыпи.
Это Сангарра, рискуя жизнью, пыталась связаться с Иваном Огаревым.
Между прочим, вот уже два дня, как осажденные наслаждались покоем, от которого с начала татарской осады успели основательно отвыкнуть.
Таков был приказ Ивана Огарева. Первый помощник Феофар-хана пожелал, чтобы все попытки захватить город силой были приостановлены. Вот почему с момента его появления в Иркутске артиллерия хранила гробовое молчание. Быть может, — так он, по крайней мере, надеялся, — это ослабит бдительность осажденных? Во всяком случае, тысячи татар на аванпостах были готовы ринуться в оставленные без защитников ворота, как только Иван Огарев даст знать о часе вторжения.
Впрочем, откладывать вторжение надолго не приходилось. С делом следовало покончить до подхода к Иркутску русских частей. Решение свое Иван Огарев уже принял, и в этот вечер с высоты насыпи в руки Сангарры упала записка.
В ближайшие сутки — именно в ночь с 5 на 6 октября, в два часа утра Иван Огарев решил сдать город.
Глава 14 НОЧЬ С 5 НА 6 ОКТЯБРЯ
План Ивана Огарева был составлен с особой тщательностью и, не случись чего-либо невероятного, обещал полный успех. Главное — чтобы ворота Большой улицы, когда наступит момент их открыть, были свободны. Вот почему было необходимо, чтобы внимание осажденных целиком захватил какой-нибудь другой объект города. Для этого с эмиром был согласован отвлекающий маневр.
Этот маневр намечалось предпринять со стороны иркутского предместья на правом берегу реки, выше и ниже по течению. Наступление на оба эти пункта должно было вестись с полной серьезностью и в то же самое время предполагалось разыграть мнимую попытку перехода через Ангару с левого берега. В этом случае ворота Большой улицы были бы скорее всего оставлены без охраны, тем более что чуть оттянутые отсюда назад татарские аванпосты могли показаться вообще снятыми.
Было 5 октября. Менее чем через сутки столица Восточной Сибири должна была перейти в руки эмира, а Великий князь — оказаться во власти Ивана Огарева.
Весь этот день в лагере на Ангаре совершались непривычные передвижения. Из окон дворца и других правобережных домов было отчетливо видно, как на противоположном откосе ведутся какие-то важные приготовления. К лагерю стекались многочисленные татарские отряды, с каждым часом усиливая армию эмира все новыми подкреплениями. В этом и заключалась подготовка к условленному отвлекающему маневру, и велась она с подчеркнутой откровенностью.
Впрочем, Иван Огарев вовсе и не скрывал от Великого князя, что опасность нападения с этой стороны не исключается. Ему известно, — говорил он, — что татары собираются пойти на штурм выше и ниже города, и он посоветовал бы Великому князю укрепить оба эти пункта, которым угрожала непосредственная опасность.
Поскольку наблюдавшиеся приготовления подтверждали точку зрения Ивана Огарева, осажденным следовало принять незамедлительные меры. И после состоявшегося во дворце военного совета были отданы распоряжения сосредоточить силы обороны на правом берегу Ангары и на двух городских окраинах, где земляная насыпь упиралась прямо в реку.
Именно этого и хотел Иван Огарев. Разумеется, он не рассчитывал, что ворота Большой улицы останутся вовсе без защитников, но число их заведомо свелось бы к минимуму. К тому же Огарев собирался придать отвлекающему маневру такой размах, что Великий князь был бы вынужден выставить против него все наличные силы.
Мощной поддержкой выполнения этих планов должно было стать некое исключительно важное, задуманное Иваном Огаревым предприятие. Даже если бы Иркутск и не подвергся атакам по правому берегу в местах, удаленных от Большой улицы, одного этого события оказалось бы достаточно, чтобы отвлечь все силы защитников туда, куда нужно было Ивану Огареву. Он замыслил вызвать страшное стихийное бедствие.
Все шансы были, таким образом, в пользу того, что ворота, оставшиеся к назначенному часу без защитников, будут открыты тем тысячам татар, которые пока что выжидали, укрывшись в густых лесах на востоке.
Весь день гарнизон и население Иркутска держались настороже. Были приняты все меры, чтобы отразить неизбежное, по словам Огарева, нападение на те пункты, которые до сих пор не вызывали опасений. Великий князь и генерал Воронцов навестили усиленные по их приказу посты. Ударный батальон Василия Федорова занимал северную часть города, но с условием переброски туда, где опасность окажется наиболее серьезной. На правом берегу сосредоточили весь тот минимум артиллерии, которым располагал гарнизон. После быстрого принятия всех этих мер по столь своевременным рекомендациям Ивана Огарева можно было надеяться, что готовящийся приступ не достигнет цели. И татары, на время обескураженные, наверняка должны будут на несколько дней отложить попытку нового штурма. А тем временем подойдут русские войска, которые с часу на час ожидал Великий князь. В общем, спасение или потеря Иркутска висели на волоске.
В этот день солнце, взошедшее в шесть часов двадцать минут, заходило в семнадцать часов сорок минут, за одиннадцать часов прочертив свой дневной путь над горизонтом. Еще часа два должен был тянуться спор сумерек с ночью. После чего на землю, над которой нависли тяжелые облака, опустится густая тьма, а значит, луне уже не суждено появиться.
Непроглядная тьма как нельзя более благоприятствовала замыслам Ивана Огарева.
Уже несколько дней жуткий холод предвещал наступление сибирских морозов, и в этот вечер они с особой силой дали о себе знать. Солдаты, охранявшие посты на правом берегу Ангары, чтобы не выдать себя, не разводили костров. И жестоко страдали от резкого понижения температуры. Внизу в нескольких шагах под ними, плыли по течению льдины. Весь этот день можно было видеть, как они, целыми грядами напирая друг на друга, быстро проносились меж двух берегов. Это обстоятельство, отмеченное Великим князем и его советниками, было сочтено счастливым. И в самом деле, если бы русло Ангары оказалось запружено льдами, то переправа на другой берег стала бы невозможной. Татары не смогли бы воспользоваться ни плотами, ни лодками. А перейти реку по льдинам, даже скованным морозом, казалось немыслимым. Только что смерзшемуся ледовому полю не выдержать колонну идущих на штурм.
Казалось бы, раз это обстоятельство играло на руку защитникам Иркутска, Иван Огарев должен был о нем сожалеть. Но ничего подобного! Ведь предателю было хорошо известно, что татары и не собираются переходить Ангару и что, по крайней мере с этой стороны, такая попытка была заведомым притворством.
И все же к десяти часам вечера состояние реки ощутимо изменилось, к крайнему изумлению иркутян, и теперь уже не в их пользу. Переход через реку, до сих пор нереальный, внезапно стал возможен. Русло Ангары очистилось. Льдины, которые все эти дни дрейфовали в несметном количестве, ниже по реке исчезли, и на всем пространстве меж берегами их оставалось едва ли пять-шесть штук. Они и формой своей не походили на те, что образуются в обычных условиях, под воздействием крепчающих морозов. Это были просто куски льда, оторвавшиеся от какого-то ледового поля, и их четко обрезанные края уже не торчали бугристыми валами.
Русские офицеры, отметившие изменение в состоянии реки, тотчас дали знать об этом Великому князю. Впрочем, оно вполне объяснялось тем, что у какого-то сужения Ангары льды, скопившись, образовали затор.
Читатель помнит, что так оно и было.
Теперь переход через Ангару для осаждающих был открыт. И русским приходилось усилить бдительность.
До полуночи ничего особого не случилось. На восточной стороне, за воротами Большой улицы, стояла мертвая тишина. В лесных массивах, сливавшихся на горизонте с низко нависшими тучами, не было видно ни огонька.
В лагере за Ангарой чувствовалась суета, о чем свидетельствовало частое перемещение огней.
В одной версте вверх и вниз от моста, где откос спускался к самому берегу реки, слышался глухой шум, означавший, что татары были наготове и только ожидали какого-то сигнала.
Прошел еще час. Ничего нового.
На колокольне иркутского собора вот-вот должно было пробить два часа утра, но осаждающие ни одним движением не выдали пока своих враждебных намерений.
Великий князь и его окружение задавались вопросом, не ввели ли их в заблуждение и действительно ли в планы татар входила попытка застать город врасплох. Предыдущие ночи далеко не были столь спокойными. Тогда со стороны передовых постов слышалась стрельба, небо бороздили снаряды, теперь же — ничего.
Великий князь, генерал Воронцов и их адъютанты ждали развития событий, готовые в зависимости от обстоятельств отдать соответствующий приказ.
Как известно, Ивану Огареву была предоставлена комната во дворце. Это была весьма просторная зала, расположенная в первом этаже, с окнами, выходившими на боковую площадку. Несколько шагов по площадке — и вы оказывались над Ангарой.
В зале царила полная темнота.
Стоя у окна, Иван Огарев ждал, когда наступит время действовать. Сигнал мог исходить лишь от него одного. По этому сигналу, когда большинство защитников Иркутска будет отвлечено к местам открытого нападения, он, в соответствии со своим планом, должен оставить дворец и отправиться выполнять свой коварный замысел.
И теперь, в темноте, он выжидал — как хищник, готовый броситься на добычу.
Вдруг в дверь постучали. За несколько минут до двух часов Великий князь потребовал, чтобы Строгова — а он только так мог называть Ивана Огарева — привели к нему. Посланный адъютант подошел к комнате Строгова, дверь которой была закрыта. Он позвал его…
Иван Огарев, замерший у окна и незаметный в темноте, отвечать не стал.
И Великому князю было доложено, что царского гонца во дворце пока нет.
Пробило два часа. Это был момент начала отвлекающего маневра, как было условлено с татарами, занявшими позиции для штурма.
Иван Огарев открыл окно своей комнаты и направился к северному углу боковой площадки.
Под ним во тьме бежали воды Ангары, с ревом разбиваясь об опоры моста.
Огарев вынул из кармана фитиль, запалил его, поджег кусок пакли, обвалянный в пороховой пыли, и швырнул его в реку…
Это по приказу Ивана Огарева были выпущены на поверхность Ангары потоки нефти!
Выше Иркутска на правом берегу реки, между поселком Пошавском и городом, велись разработки нефтяных залежей. Это ужасное средство и задумал употребить Иван Огарев, чтобы запалить пожар, который дойдет до Иркутска. Для этого он захватил огромные резервуары, где хранилась эта горючая жидкость. Стоило пробить в их стенке отверстие, чтобы нефть хлынула оттуда мощной струей.
Это и было осуществлено нынешней ночью несколькими часами раньше, и вот почему плот, на котором спускались настоящий посланец царя, Надя и беженцы, плыл по слою нефти. Через проломы этих резервуаров объемом в миллионы кубометров нефть устремилась потоком и, сбежав вниз по естественному уклону, влилась в реку, где и, как менее плотная, всплыла на поверхность.
Вот как понимал войну Иван Огарев! Союзник татар, он действовал в их духе, но против своих же соотечественников!
Пакля достигла вод Ангары. В тот же миг, выше и ниже по течению, вся река, словно она состояла из спирта, вспыхнула со скоростью электрического разряда[129]. Между берегами неслись клубы синеватого пламени. Над ними, все в копоти, раскручивались густые облака пара. Захваченные огненной жидкостью проплывавшие льдины таяли как воск на плите, а испарявшаяся вода взвивалась в воздух с оглушительным свистом.
В тот же момент севернее и южнее города загремели выстрелы. Грянули залпы расположенных за Ангарой батарей. Несколько тысяч татар устремились на штурм земляных укреплений. Деревянные дома на берегу запылали сразу со всех сторон. Огромное зарево рассеяло тьму ночи.
— Наконец-то! — вскричал Иван Огарев.
И мог по праву наградить себя аплодисментами! Придуманный им отвлекающий маневр был страшен. Защитники Иркутска оказались зажаты между атакующими полчищами татар и кошмаром пожара. Зазвонили колокола, и вся здоровая часть населения бросилась к местам, подвергшимся штурму, и к домам, которые пожирал огонь, грозивший перекинуться на весь город.
Ворота Большой улицы остались почти без охраны. Разве что с горсткой иркутян, несших караул. И более того — по подсказке предателя и с целью объяснить свершившийся факт не его злой волей, а политической местью, — немногие эти защитники были выбраны из малочисленного батальона ссыльных.
Иван Огарев вернулся в свою комнату, ярко освещенную пламенем Ангары, взлетавшим выше балюстрады площадок. Затем направился к выходу.
Но едва он открыл дверь, как в комнату вбежала женщина в промокшей одежде, с растрепанными волосами.
— Сангарра! — воскликнул в изумлении Иван Огарев, не в состоянии вообразить себе, чтоб это могла быть иная женщина, нежели цыганка.
Но это была не Сангарра, это была Надя.
В тот момент, когда спасавшаяся на льдине девушка вскрикнула, увидев, как по Ангаре разбегается пламя, Михаил Строгов схватил ее на руки и вместе с нею погрузился в воду — искать спасения от огня в самых глубинах реки. Читатель знает, что льдина, на которой они плыли, находилась в это время саженях[130] в тридцати от первой набережной, в верхней части Иркутска.
Проплыв под водой, Михаил Строгов сумел выбраться с Надей на набережную.
Наконец-то он достиг своей цели. Он был в Иркутске!
— Теперь — во дворец губернатора! — сказал он Наде.
Менее чем через десять минут оба они были уже у входа во дворец, чье каменное основание уже лизали длинные языки речного пламени, хотя до самого дворца пожар добраться не мог.
За дворцом все дома на откосе пылали.
Михаил Строгов и Надя без труда вошли во дворец, открытый для всех. Посреди всеобщего смятения на них никто не обратил внимания, хотя одежда их промокла насквозь.
Огромную залу на первом этаже заполняло множество офицеров, прибывших за получением приказов, и толпа солдат, спешивших их выполнять. И там, в неожиданном водовороте безумной суматохи, Михаил Строгов и девушка оказались оторваны друг от друга.
Растерявшаяся Надя бежала через низкие залы, призывая своего спутника и прося, чтобы ее провели к Великому князю.
Вдруг перед ней открылась дверь в залитую светом комнату. Вбежав, она внезапно оказалась лицом к лицу с тем, кого видела в Ишиме, видела в Томске, — лицом к лицу с тем, чья злодейская рука собиралась через минуту выдать город врагу.
— Иван Огарев! — вырвалось у нее.
Услышав свое имя, негодяй вздрогнул. Если его подлинное имя станет известно, все его планы обречены на провал. Ему оставалось только одно: убить человека — кто бы он ни был, — который только что это имя произнес.
Иван Огарев набросился на Надю; но девушка, зажав в руке нож, прислонилась к стене, полная решимости защищаться.
— Иван Огарев! — еще раз крикнула Надя, уверенная, что на звук этого ненавистного имени к ней придут на помощь.
— Черт возьми! Я заставлю тебя замолчать! — взорвался предатель.
— Иван Огарев! — в третий раз вскричала бесстрашная девушка голосом, сила которого от ненависти удесятерилась.
Обезумев от ярости, Иван Огарев выхватил из-за пояса кинжал, устремился к Наде и оттеснил ее в угол комнаты.
Она поняла, что ей конец, как вдруг негодяй, приподнятый неодолимой силой, грохнулся наземь.
— Михаил! — воскликнула Надя.
Это был Михаил Строгов.
Он услышал Надин зов. Спеша на ее голос, он добежал до комнаты Ивана Огарева и ворвался через оставшуюся открытой дверь.
— Ничего не бойся, Надя, — сказал он, вставая между ней и Иваном Огаревым.
— Ой, — воскликнула девушка, — берегись, братец!… Предатель вооружен!… И он хорошо видит!…
Иван Огарев поднялся на ноги и, уверенный, что легко справится со слепым, ринулся на Михаила Строгова.
Но слепой одной рукой ухватил зрячего за запястье, а другой, отстранив кинжал, снова швырнул наземь.
Побледнев от бешенства и стыда, Иван Огарев вспомнил, что он при шпаге. Выхватив ее из ножен, он возобновил попытку.
Он тоже узнал Михаила Строгова. Слепой! Теперь он имел дело всего-навсего со слепым! Партия была в его пользу!
Надя, в ужасе от опасности, грозившей ее спутнику, бросилась к двери, призывая на помощь.
— Закрой дверь, Надя! — велел Михаил. — Никого не зови и предоставь действовать мне! Сегодня царскому гонцу этот негодяй не страшен! Пусть приблизится, если хватит смелости! Я жду!
Иван Огарев, весь подобравшийся как тигр, не произносил ни слова. Он хотел бы утаить от слуха слепца звук своих шагов и даже дыхания. Хотел поразить его прежде, чем тот догадается о его приближении, и поразить наверняка. Предатель и не думал сражаться, ему нужно было убить того, чье имя он присвоил.
Исполненная ужаса и веры одновременно, Надя созерцала эту страшную сцену в состоянии непонятного восхищения. Казалось, спокойствие Михаила передалось вдруг и ей. Единственным оружием Строгова был его сибирский нож, он не видел своего противника, который был вооружен шпагой, — все это так. Но какой небесной милостью он словно бы возвышался над ним, и столь безмерно? И каким образом, почти не двигаясь, всегда был обращен лицом к острию его шпаги?
Иван Огарев следил за своим странным противником с явной тревогой. Это сверхчеловеческое спокойствие завораживало его. Взывая к разуму, тщетно пытался он убедить себя, что в столь неравной борьбе преимущество было за ним. От этой неподвижности слепого кровь стыла у него в жилах. Взглядом он искал, куда поразить свою жертву… И нашел!… Кто же удерживал его от решающего удара?
Наконец в стремительном броске он поразил Михаила Строгова шпагой прямо в грудь. Неуловимым движением ножа слепой отвел удар. Шпага не задела Михаила Строгова, и он, казалось, хладнокровно ждал второй атаки, даже не пытаясь ее упредить.
По лбу Ивана Огарева струился холодный пот. Он отступил на шаг и снова сделал выпад. Но, как и в первый раз, бросок не достиг цели. Простое встречное движение широкого ножа — и беспомощная шпага предателя прошла мимо.
Обезумев от ужаса и злобы перед лицом этой живой статуи. Огарев полным ужаса взглядом уставился в широко открытые глаза слепого. Глаза эти, словно читавшие в глубинах его души, хотя не видели и видеть не могли, — держали его в состоянии какого-то кошмарного гипноза.
И вдруг у Ивана Огарева вырвался крик. Внезапное озарение пронизало его мозг.
— Он видит! — вскричал Огарев. — Он же видит!
И подобно хищнику, стремящемуся вернуться в свою пещеру, он в ужасе, шаг за шагом отступал в глубь залы.
Лишь теперь статуя ожила, слепой двинулся прямо на Ивана Огарева и, остановившись перед ним, произнес:
— Да, я вижу! Вижу шрам от кнута, которым я отметил тебя, предатель и трус! И вижу место, куда нанесу удар! Защищай же свою жизнь! Я хочу удостоить тебя поединка! Против твоей шпаги мне хватит и ножа!
Иван Огарев понял, что это конец. Неимоверным усилием воли собрал все свое мужество и, выставив вперед шпагу, устремился на своего бесстрастного противника. Клинки скрестились, но от удара ножа, который направляла рука сибирского охотника, шпага разлетелась на куски, и негодяй, пораженный в сердце, замертво рухнул наземь.
В этот момент дверь, которую толкнули снаружи, отворилась. На пороге стоял Великий князь в сопровождении нескольких офицеров.
Великий князь вошел в комнату. Увидел на полу труп того, кого считал посланцем царя.
И угрожающим тоном спросил:
— Кто убил этого человека?
— Я, — ответил Михаил Строгов.
Один из офицеров приставил к его виску револьвер, готовясь выстрелить.
— Твое имя? — спросил Великий князь, прежде чем отдать приказ размозжить ему голову.
— Ваше Высочество, — ответил Михаил Строгов, — спросите лучше имя человека, что лежит у Ваших ног!
— Этого человека я знаю! Это слуга моего брата! Царский гонец!
— Этот человек, Ваше Высочество, не царский гонец! Это Иван Огарев!
— Иван Огарев! — вскричал Великий князь.
— Да, Иван-предатель!
— Но кто же тогда ты?
— Михаил Строгов!
Глава 15 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Михаил Строгов не был, никогда не был слепым. Чисто человеческий фактор, моральный и физический одновременно, нейтрализовал действие раскаленного лезвия, которым палач эмира провел перед его глазами.
Вспомним, что в момент казни рядом, протягивая к сыну руки, стояла Марфа Строгова. Михаил Строгов глядел на нее, как может сын глядеть на свою мать, зная, что видит ее в последний раз. Невольные слезы, которые он из гордости тщетно пытался сдержать, волнами набегавшие от сердца на глаза, скопились под веками и, испаряясь с роговой оболочки глаз, спасли ему зрение. Слоя пара, что образовался из этих слез и оказался между пылающим клинком и зрачками, хватило, чтобы смягчить действие жара. Нечто подобное происходит, когда рабочий-литейщик, смочив в воде руку, безнаказанно рассекает ею струю расплавленного чугуна.
Михаил Строгов тотчас понял опасность, которая нависла бы над ним, открой он кому-нибудь свой секрет. И, с другой стороны, осознал то преимущество, которое он мог извлечь из этой ситуации для осуществления своих планов. На свободе его могли оставить, только сочтя слепым. Значит, он должен стать слепым, слепым для всех, даже для Нади, одним словом — слепым всегда и везде, никогда ни одним движением не давая никому повода усомниться в подлинности принятой им роли. И он решился. Предъявляя всем доказательство своей слепоты, он должен был даже рисковать жизнью, и мы знаем, как он ею рисковал.
Правду знала только его мать, Марфа Строгова, которой он сказал об этом шепотом, когда на той же площади в Томске, склонившись над нею в темноте, покрывал ее лицо поцелуями.
Теперь понятно, что когда Иван Огарев с изощренным цинизмом поднес к его, — навсегда потухшим, как он считал, — глазам письмо императора, Михаил Строгов мог прочесть и прочел это письмо, в котором разоблачались гнусные намерения предателя. Отсюда и та настойчивость, которую он проявлял всю вторую половину пути. Отсюда и та непреклонная воля дойти до Иркутска и устно, от собственного лица, довести свою миссию до конца. Он знал, что город хотят выдать врагу. Знал, что жизнь Великого князя под угрозой! А значит, спасение царского брата и Сибири по-прежнему в его руках.
Вся эта история была пересказана Великому князю в нескольких словах, при этом Михаил Строгов тут же поведал — и с каким волнением! — об участии, которое принимала в этих событиях Надя.
— Кто эта девушка? — спросил Великий князь.
— Дочь ссыльного Василия Федорова, — ответил Михаил Строгов.
— Дочь майора Федорова, — поправил Великий князь, — уже перестала быть дочерью ссыльного. В Иркутске нет больше ссыльных!
Надя, которая в радости оказалась менее сильной, чем в горе, упала перед Великим князем на колени; тот поднял ее одной рукой, протягивая Михаилу Строгову другую.
Час спустя Надю заключил в объятия ее отец.
Михаил Строгов, Надя и Василий Федоров были теперь вместе. И вне себя от счастья.
Татары и при первом, и при повторном штурме были отброшены. Со своим немногочисленным батальоном Василий Федоров разбил первые группы атакующих, что подступили к воротам Большой улицы в расчете, что те тотчас распахнутся пред ними, и, движимый внутренним предчувствием, упорно оборонял эти ворота до конца.
Продолжая отражать татарские атаки, осажденные взяли верх и над пожаром. После того как нефть на поверхности Ангары быстро догорела, огню, охватившему прибрежные дома, на остальные кварталы города перекинуться не дали.
Не дожидаясь рассвета, войска Феофар-хана возвратились на свои стоянки, оставив на крепостных валах немало трупов.
Среди мертвых была и цыганка Сангарра, тщетно пытавшаяся пробраться к Ивану Огареву.
В течение двух следующих дней осаждавшие пойти на новый приступ не решались. Узнав о гибели Ивана Огарева, они пали духом. Этот человек был душой нашествия, и только он благодаря давно затевавшимся козням имел на ханов и ханские орды достаточно влияния, чтобы увлечь их на захват Азиатской России.
Тем не менее защитники Иркутска оставались настороже — ведь осада города продолжалась.
Но вот 7 октября с первыми лучами зари на окружавших Иркутск высотах загрохотали пушки.
Это подходила армия поддержки под командованием генерала Киселева, таким способом извещая Великого князя о своем прибытии.
Татары не заставили себя долго упрашивать. Пытать счастья в бою под городскими стенами им не захотелось, и лагерь за Ангарой незамедлительно снялся с места.
Иркутск был вызволен из окружения. Вместе с первыми русскими солдатами вошли в город и два друга Михаила Строгова — неразлучные Блаунт и Жоливэ. Дойдя по ледовой плотине до правого берега Ангары, они, как и остальные беженцы, успели выбраться на берег до того, как пламя Ангары охватило плот. Что в записной книжке Альсида Жоливэ было отмечено следующим образом: «Чуть-чуть не уподобились лимону в чашке пунша!»
Велика была их радость вновь увидеть Надю и Михаила Строгова здоровыми и невредимыми, особенно когда они узнали, что их отважный друг не слепой. Что подвигло Гарри Блаунта отразить этот факт в такой форме: «Чтоб поразить чувствительность зрительного нерва, порой и раскаленного железа недостаточно. Внести поправку!»
После чего оба журналиста, удобно устроившись в Иркутске, занялись приведением в порядок своих путевых впечатлений. И вот в Лондон и Париж были отправлены две интересные хроникальные статьи на темы татарского нашествия, причем — явление небывалое — статьи эти почти ни в чем не противоречили друг другу, разве что в мелочах.
В конце концов для эмира и его союзников военная кампания закончилась плохо. Попытка нашествия, бессмысленная, как и все прочие, когда-либо затевавшиеся против русского колосса, оказалась для них роковой. Пути к возвращению им вскоре перерезали войска царя, которые затем, шаг за шагом, вызволили все захваченные города. Помимо прочего — зима в тот год выдалась студеная, и из вражеских полчищ, редевших от мороза, до татарских степей добралась лишь малая часть.
Итак, дорога от Иркутска до Уральских гор была теперь свободна. Великий князь спешил вернуться в Москву, но отложил отъезд ради трогательной церемонии, которая состоялась через несколько дней после прихода русских войск.
Михаил Строгов, придя навестить Надю, обратился к ней в присутствии ее отца:
— Надя, по-прежнему сестра моя, когда ты, собравшись в Иркутск, покидала Ригу, оставляла ли ты там иную печаль, кроме как о матери?
— Нет, — отвечала девушка, — никакой и ни в каком смысле.
— Значит, там не осталось ни единой частицы твоего сердца?
— Ни частицы, братец.
— В таком случае, Надя, — произнес Михаил Строгов, — я не верю, чтобы Бог, сведя нас вместе и отправив вдвоем переживать тяжкие испытания, хотел соединить нас иначе, чем навсегда.
— Ах, — прошептала Надя, падая в объятия Михаила Строгова.
И, заливаясь румянцем, оборотилась к отцу:
— Ты слышал, батюшка?
— Надя, — отвечал Василий Федоров, — я буду счастлив называть своими детьми вас обоих!
Свадебная церемония состоялась в кафедральном соборе Иркутска. Она была совсем простою в мелочах и очень пышной из-за множества народа — военных и гражданских лиц, пожелавших засвидетельствовать свою глубокую признательность двум молодым людям, чья одиссея стала уже легендой.
Естественно, что Альсид Жоливэ и Гарри Блаунт тоже присутствовали на свадьбе, о которой хотели поведать своим читателям.
— И это не рождает в вас желания последовать их примеру? — спросил собрата Альсид Жоливэ.
— Пф-ф! — отозвался Гарри Блаунт. — Вот если б у меня была кузина, как у вас!…
— Моей кузине уже не до замужества! — ответил, смеясь, Альсид Жоливэ.
— Тем лучше, — сказал Гарри Блаунт, — ведь поговаривают о трениях которые вот-вот заявят о себе в отношениях меж Лондоном и Пекином. — Разве у вас нет желания пойти взглянуть на тамошние дела?
— Черт возьми, дорогой Блаунт, — вскричал Альсид Жоливэ, — я как раз собирался пригласить туда вас!
Вот так пара неразлучных двинулась в Китай!
Несколько дней спустя Михаил и Надя Строговы вместе с отцом Нади Василием Федоровым отправились обратно в Европу. Дорога страданий на пути в Иркутск обернулась стезею счастья по возвращении. С необычайной скоростью катили они в тех санях, что экспрессом летят по обледеневшим степям Сибири.
И все же, домчавшись до берегов Динки у поселка Бирск, они сделали остановку.
Михаил Строгов отыскал место, где они похоронили беднягу Николая. Там поставили крест, и Надя в последний раз помолилась на могиле скромного и отважного друга, которого никогда не смогут забыть.
В Омске, в маленьком домике Строговых, их ждала старая Марфа. Она горячо обняла ту, кого в душе своей уже давно называла дочерью. В этот день храбрая сибирячка вновь обрела право признать своего сына и сказать, что гордится им.
Проведя в Омске несколько дней, Михаил и Надя Строговы возвратились в Европу. После того, как Василий Федоров выбрал местом жительства Санкт-Петербург, у них не было уже причин покидать его, — кроме как для того, чтобы навещать свою старую мать.
Молодой гонец был принят царем. Государь, вручив ему Георгиевский крест, оставил служить при своей особе.
Впоследствии Михаил Строгов достиг в империи высокого положения. Но повествования заслуживала не его счастливая карьера, а история его суровых испытаний.
Конец второй, и последней, части
Возвращение на родину
Глава I
Меня зовут Наталис Дельпьер. Я родился в 1761 году в деревне Гратпанш, в Пикардии[131]. Отец мой день-деньской гнул спину на пашне у маркиза[132] д’Эстреля. Мать по мере сил помогала ему, я и сестры тоже. Никакого состояния у нас не было. Не надеялись мы разбогатеть и в будущем. Кроме земледельческих забот, отец еще и пел в церковном хоре, имея мощный голос, хорошо слышный даже за пределами примыкавшего к храму кладбища. Так что он вполне мог бы стать приходским священником[133] (как у нас говорится — крестьянином, понюхавшим чернил), если бы умел хоть мало-мальски читать и писать. Единственное, что я от него унаследовал, — это громкий голос.
Недаром говорится: от трудов праведных не наживешь палат каменных.
Родители мои всю жизнь тяжко трудились и умерли в один и тот же год, в 1779-м. Царство им небесное!
В ту пору, когда произошли события, о которых я хочу рассказать, старшей из моих сестер, Фирминии, исполнилось сорок пять лет, Ирме — сорок, а мне — тридцать один год[134]. Когда родители скончались, Фирминия была замужем за уроженцем Эскарботена Бенони Фантомом, простым слесарем. Он так и не смог прочно встать на ноги, хотя знал толк в своем ремесле. Что касается детей, то их в 1781 году у них уже было трое, а через несколько лет появился и четвертый ребенок. Ну а Ирма так и осталась старой девой. А потому я не мог рассчитывать ни на нее, ни на Фантомов и должен был самостоятельно позаботиться о своей жизни. И мне удалось устроить ее и на старости лет даже помогать сородичам.
Но обо всем по порядку.
Сначала умер отец, а за ним, через полгода, и мать. Тяжелый удар, ничего не скажешь. Да, такова судьба! Приходится терять как тех, кого любишь всем сердцем, так и тех, к кому не испытываешь особой привязанности. И все же, когда и нам суждено будет уйти из жизни, давайте постараемся оказаться среди тех, кого любят.
Родительское наследство, за вычетом расходов на погребение, не превысило и ста пятидесяти ливров[135] — и это накопления после шестидесяти лет неустанных трудов! Все было честно поделено между мной и сестрами. То есть каждому досталось с гулькин нос.
Итак, я в свои восемнадцать лет очутился сиротой с какими-то двадцатью пистолями[136] в кармане. Но я был сильным, крепко сбитым парнем, готовым взяться за любую тяжелую работу. К тому же еще и с громким голосом! Однако я не умел ни читать, ни писать, этому я выучился позднее, как вы узнаете ниже. Если сызмальства не научишься грамоте, она потом дается с большим трудом. И это всегда сказывается на умении излагать свои мысли. Читайте мое повествование — сами убедитесь!
Что мне было делать? Продолжить труд отца? До седьмого пота работать на других, взращивая на своем клочке поля лишь нищету? Незавидная перспектива, ради которой не стоило и стараться. Неожиданные обстоятельства все изменили.
Однажды в Гратпанш приехал кузен[137] нашего маркиза, граф[138] де Липуа. Офицер в чине капитана[139], служил в Лаферском полку[140]. Ему полагался двухмесячный отпуск, который он решил провести у своего родственника. По случаю его приезда устроили грандиозные охоты на кабанов, на лис с гончими псами и облавами. На празднествах веселились знатные кавалеры и великосветские красавицы, не говоря уже о самой маркизе д’Эстрель, которая была очень хороша собой.
Сам я, правда, видел только капитана де Линуа. Этот офицер держался с нами просто и охотно вступал в разговор. Вот тогда-то у меня и зародилась мысль стать солдатом. Право, что может быть лучше — жить трудом своих рук, когда руки эти прилажены к внушительному торсу! Впрочем, если отличаешься примерным поведением, храбростью и имеешь немного везения в придачу, если начинаешь маршировать с левой ноги и хорошо чеканишь шаг, нет причин не продвинуться на этом поприще.
Многие думают, что до 1789 года[141] простой солдат (сын горожанина или крестьянина) никогда не мог стать офицером. Они заблуждаются.
Сначала, при решимости и умении держать себя, можно было без особого труда стать унтер-офицером[142]. Потом, при условии, что находился в этом чине десять лет в мирное время и пять лет — в военное, добивались офицерских эполет[143]. И вот так — из сержантов в лейтенанты, из лейтенантов в капитаны. Затем… стоп! Дальше хода не было. Однако и это уже хорошо.
Граф де Линуа во время охоты с облавами часто отмечал мое усердие и ловкость. Я, конечно, не обладал нюхом и понятливостью собаки. Однако в дни большой охоты никто не мог состязаться со мною как с загонщиком — я несся так, словно у меня горели пятки.
— Ты кажешься мне смелым и выносливым парнем, — сказал мне однажды граф де Линуа.
— Да, господин граф.
— И руки у тебя сильные?..
— Я выжимаю триста двадцать.
— Поздравляю!
Вот и весь был разговор. Но, как вы скоро увидите, дело на этом не кончилось. В то время в армии существовали особые порядки. Известно, как в нее проводился набор новых солдат. Каждый год вербовщики начинали рыскать по стране. Они больше накачивали вас вином, чем убеждали. Если парни учились грамоте, они подписывали бумагу. А нет — так и две скрещенные палочки годились. Это тоже означало подпись. Потом они получали положенные две монеты по сто ливров, которые пропивались прежде, чем попадали к ним в карман, собирали свою котомку и отправлялись умирать за отечество.
Устраивало ли это меня? Никоим образом! Я хотел служить, но не хотел продавать себя. Думаю, это понятно всякому, кто имеет хоть какое-то достоинство и самоуважение.
Итак, в те времена, когда офицер получал отпуск, он должен был но истечении срока вернуться, завербовав одного или двух рекрутов[144]. Унтер-офицеры тоже имели такое обязательство. Стоимость вербовки составляла тогда 20–25 ливров.
Это было мне хорошо известно, и я задумал кое-что. Когда отпуск графа де Линуа подошел к концу, юнец с громким голосом набрался смелости и предложил себя офицеру в качестве новобранца.
— Вот как? — удивился он. — Сколько же тебе лет?
— Восемнадцать.
— И ты решил стать солдатом?
— Если вам угодно.
— А! Тебя прельщает плата в двадцать ливров?..
— Нет, хочу служить родине. А поскольку мне стыдно продавать себя, я не возьму ваших двадцати ливров.
— Как тебя зовут?
— Наталис Дельпьер.
— Хорошо, Наталис, ты мне подходишь.
— Буду рад отправиться с вами, господин капитан.
— И если ты решительно настроен следовать за мной, ты далеко пойдешь!
— Я буду следовать с барабанным боем и зажженным фитилем!
— Но я собираюсь покинуть Ла-ферский полк и отплыть на корабле. Тебя не страшит море?
— Ничуть.
— Это хорошо. Тебе предстоит его переплыть. Знаешь ли ты, что там, за морем, сражаются[145], чтобы прогнать из Америки англичан?
— А что такое — Америка? — Я и вправду никогда ничего не слыхал об Америке.
— Такая страна у черта на куличках, — ответил капитан де Линуа, — страна, которая борется за независимость! Именно там два года назад заставил говорить о себе генерал Лафайет[146]. И еще в прошлом году Людовик Шестнадцатый обещал ему военное содействие, пожелав прийти американцам на помощь. Сейчас туда должны отправиться граф Рошамбо[147] с адмиралом де Грассом[148] и шеститысячным войском. Я планирую отплыть с ним на пароходе в Новый Свет. Желаешь сопровождать меня? Тогда поедем вместе освобождать Америку!
«Поедем освобождать Америку!» Вот так, без лишних проволочек, я попал в экспедиционный корпус графа Рошамбо, высадившегося в 1780 году в Ньюпорте. Три года вдали от Франции… Я видел генерала Вашингтона[149] — гиганта ростом пять футов одиннадцать дюймов. Ноги, руки — как у великана! Он был в голубом мундире с замшевыми отворотами, с черной кокардой. Видел я и знаменитого моряка Поля Джонса[150] на борту «Добряка Ришара». И генерала Энтони Вайна, прозванного Бешеным. Я сражался во многих боях. Помню, как осенил себя перед первым выстрелом крестным знамением… Участвовал в сражении при Йорктауне[151], в Вирджинии, где наголову разбитый лорд Корнуоллис[152] и сдался Вашингтону. Я возвратился во Францию в 1783 году. С какими достижениями? Я не получил в боях ни единой царапины, но остался простым солдатом, как и прежде. Что вы хотите от не умеющего читать!
Граф де Линуа вернулся из Америки вместе со всеми. Он хотел зачислить меня в Ла-ферский полк, где сам собирался продолжить службу. Но меня вдруг потянуло в кавалерию: с детства любил лошадей. Однако, чтобы получить чин офицера кавалерии, мне понадобится подняться на множество ступеней.
Я прекрасно знаю, что у пехотинцев очень завидная и выигрышная форма — напудренная косица, голубиные крылья и белые кожаные ремни крест-накрест на груди. Да что там говорить? Лошадь она есть лошадь, и, поразмыслив как следует, я обнаружил в себе призвание кавалериста.
Итак, поблагодарив графа де Линуа, порекомендовавшего меня своему другу полковнику де Лостанжу, я поступил на службу в Королевский пикардийский полк.
Я очень его люблю, свой замечательный полк, и да простят мне, если я буду говорить о нем с нежностью, быть может, смешной! Я сделал в этом полку почти всю свою военную карьеру, меня ценили начальники. В чем-чем, а в благоволении их ко мне я не испытывал недостатка, они буквально тянули меня за уши, как говорят у нас в деревне.
Кстати, через несколько лет, в 1792 году, Ла-ферскому полку судьбою было суждено повести себя столь странно в отношении австрийского генерала Болье[153], что я никак не могу сожалеть о своем уходе из него. Больше я говорить об этом не буду.
Итак, возвращусь к Королевскому пикардийскому. Невозможно было найти ничего великолепнее. Он сделался моей семьей, вплоть до его расформирования. Я был там счастлив. Высвистывал все его уставные сигналы и позывные, ибо у меня была дурная привычка — постоянно свистеть сквозь зубы. Но мне это сходило с рук, вы же понимаете.
За восемь лет службы в полку я только и делал, что перебирался из одного гарнизона в другой. Мне ни разу не представилось случая вступить в перестрелку с неприятелем. Да! Есть своя прелесть в походной жизни, когда не приходится рисковать головой. И потом, познакомиться с новыми местами совсем неплохо для дремучего парня из Пикардии, а я таким и был. После Америки, прежде чем пройти семимильными шагами через всю Европу, не мешало познать и собственную страну. В 1785 году мы стояли гарнизоном в Саррлуи[154], в 1788 и 1791 годах — в Анжере, в 1792 году — в Бретани, Жосслене, Понтиви, Плоермеле и Нанте под началом полковников Серр де Гра, де Варднера, де Лостенда и Ла Рока, а в 1793 году — Ле Конта.
Однако я забыл сказать, что по закону, вступившему в силу 1 января 1791 года и видоизменившему структуру армии, Королевский пикардийский полк стал 20-м линейным кавалерийским. Такая организация просуществовала до 1803 года. Тем не менее полк не утратил своего прежнего наименования. Он остался Королевским пикардийским, хотя уже несколько лет, как во Франции больше не было короля.
Именно при полковнике Серр де Гра меня произвели в капралы[155], к величайшему моему удовольствию. При де Варднере парень из Пикардии стал сержантом[156], — счастье, да и только! Я имел тогда на своем счету тринадцать лет службы, одну кампанию и ни одного ранения. Всякий согласится: неплохое продвижение по службе! Однако выше я подняться не мог, так как, повторяю, не умел ни читать, ни писать. К тому же я постоянно насвистывал, а унтер-офицеру мало пристало состязаться с дроздами.
Сержант Наталис Дельпьер! Разве тут нечем похвастать и погордиться? А потому я хранил в душе глубокую признательность полковнику де Варднеру, несмотря на его грубость и любовь к крепкому словцу! В день производства в сержанты эскадронные[157] солдаты расстреляли мой солдатский ранец, а я нашил на обшлага мундира галуны[158], которым, увы, никогда не суждено было дойти до локтя.
Мы стояли гарнизоном в Шарлевиле[159], когда я попросил и получил положенный мне двухмесячный отпуск. Вот историю этого отпуска я как раз и хочу изложить вам во всех подробностях, на что имеются свои причины.
С тех пор как я вышел в отставку, в Гратпанше по вечерам мне часто приходилось рассказывать о военных походах. Мои деревенские друзья или понимали все шиворот-навыворот, или не понимали ничего вовсе. То один заявлял, что я находился справа, когда я был слева, то другой утверждал, что я был слева, когда я находился справа. И тогда, между двумя стаканами сидра[160] или двумя чашками кофе, возникали нескончаемые споры. Особенно не могли прийти ни к какому согласию относительно того, что произошло со мной во время пребывания в Германии. Но поскольку я освоил грамоту, то решил сам взяться за перо и рассказать историю этого своего отпуска. Вот таким образом я и взялся за свои записки, хотя мне сейчас семьдесят лет. Но память у меня хорошая, и, когда я мысленно переношусь назад, в прошлое, я вспоминаю все достаточно четко. Так что этот рассказ я посвящаю своим друзьям из Гратпанша — Тернизьенам, Беттембо, Ирондахам, Пуантеферам, Кенненам и многим другим и надеюсь, что они не будут более спорить на мой счет.
Итак, я получил отпуск 7 июня 1792 года. Разумеется, тогда уже ходили кое-какие, правда еще очень неопределенные, слухи о войне с Германией. Говорили, что Европа, хотя это ее никоим образом не касалось, косо посматривает на то, что происходит во Франции. Король, правда, все еще находился в Тюильри[161]. Однако в воздухе уже ощущалось 10 августа[162] и над страной начинали дуть республиканские ветры.
А потому я из предосторожности не счел нужным говорить, для какой цели взял отпуск. В действительности у меня было одно дело в Германии[163], точнее — в Пруссии[164]. И в случае войны мне стоило бы большого труда оказаться на боевом посту. Но что вы хотите? Нельзя одновременно и в колокола звонить, и в шествии шагать.
Впрочем, я принял решение, если понадобится, сократить свой двухмесячный отпуск. Однако все же надеялся, что дела не примут самого плохого оборота.
Теперь же, в довершение того, что касается меня и моего славного полка, я должен в нескольких словах сказать вам следующее. Прежде всего вы узнаете, при каких обстоятельствах я научился читать, а потом и писать, что, в принципе, давало мне возможность стать офицером, генералом, маршалом Франции, графом, герцогом, принцем — совсем как Ней, Даву или Мюрат[165]. Однако на самом деле мне не удалось подняться выше чина капитана, что все же весьма и весьма неплохо для крестьянского сына и тоже крестьянина. Что же касается Королевского пикардийского полка, то достаточно будет нескольких строк, чтобы кончить его историю.
В 1793 году, как я уже говорил, нашим полковником был господин Ле Конт. В том же году полк, согласно декрету от 21 февраля, стал полубригадой. До 1797 года он принимал участие в походах Северной армии и армии из Самбр-и-Мез. Полк отличился в сражениях при Ленселе и Куртре — тогда я был произведен в лейтенанты. Затем, после пребывания в Париже с 1798 по 1890 год, он входил в состав итальянской армии и отличился в битве при Маренго. Шесть батальонов австрийских гренадеров были окружены и сложили оружие после разгрома венгерского полка. В этом бою я был ранен пулей в бедро, на что, впрочем, грех жаловаться, так как я получил вскоре после того чин капитана.
Когда в 1803 году Королевский пикардийский полк был расформирован, я поступил в драгуны, принял участие во всех войнах Империи и в 1815 году вышел в отставку[166].
Вот теперь я буду говорить исключительно о том, что видел и что делал во время своего отпуска в Германии. Но прошу не забывать, что я — человек неученый и совсем не владею искусством повествования. Это всего лишь впечатления, вдаваться же в рассуждения я вовсе не собираюсь. Особенно прошу извинить, если в моем незатейливом рассказе будут проскальзывать пикардийские словечки или обороты речи: иначе я говорить не умею. Впрочем, постараюсь, как говорится, не тянуть кота за хвост. Расскажу все как есть, а поскольку испрашиваю вашего разрешения выражаться вольно, то надеюсь в ответ услышать: «Извольте, господин капитан!»
Глава II
В то время[167], как я узнал потом из исторических книг, Германия делилась на десять земель. Позднее, в 1806 году, в результате нововведений была учреждена Рейнская конфедерация[168] под протекторатом[169] Наполеона. Потом, в 1815 году, — Германская конфедерация. Одной из таких земель, включавшей курфюрства Саксонское и Бранденбургское, являлась земля под названием Верхняя Саксония.
Впоследствии Бранденбургскому курфюрству[170] суждено было превратиться в одну из прусских провинций, делившуюся на два округа — Бранденбургский и Потсдамский.
Говорю все это для того, чтобы было понятно, где находится городок Бельцинген, расположенный в юго-западной части Потсдамского округа, в нескольких милях[171] от границы.
Вот на эту самую границу я и прибыл из Франции 16 июня, преодолев расстояние в сто пятьдесят миль. На этот путь было затрачено целых девять дней! Причиной тому — дорожные трудности. Я больше стер гвоздей на подметках, чем подков у лошадей и колес у экипажей (лучше уж сказать — повозок). К тому же в карманах моих гулял ветер, как говорят пикардийцы, — так, жалкие крохи от моего жалованья, — и я хотел как можно меньше тратиться. К счастью, во время своей службы в гарнизоне на границе я научился кое-каким немецким словам, что помогало мне выходить из затруднительных положений. Тем не менее мне было нелегко скрыть, что я француз, и я ловил на себе в пути немало косых взглядов. А потому — остерегался говорить, что я сержант Наталис Дельпьер. Такая предусмотрительность вполне понятна в условиях, когда можно было опасаться начала войны с Пруссией и Австрией — а то и всей Германией![172]
На границе округа меня ожидал приятный сюрприз. Шел я пешком. Я держал путь к одной корчме[173] под названием «Этквенде» («Обойди-угол» — по-французски), чтобы там позавтракать. После довольно свежей ночи вставало чудесное утро. Погодка была славной! Раннее солнышко купалось в покрытых росой лугах. В ветвях буков, дубов, вязов и берез сновало множество птиц. Жнивья на полях было мало. Многие стояли под парами. Кстати, климат в этих краях суровый.
У дверей «Этквенде» кого-то ждала тележка, запряженная худой клячей. Такая едва способна протащиться две мили в час, и то — под гору!
Рядом стояла женщина — высокая, крепкая, хорошо сложенная. А уж нарядная! В лифе с бретельками, обшитыми позументом, в соломенной шляпе с желтыми лентами, в юбке с красными и фиолетовыми полосами. Все это хорошо сидело на ней, было опрятным и привлекательным, как подобает воскресному или праздничному платью.
И в самом деле день этот был хоть и не воскресным, но праздничным для женщины!
Она смотрела на меня, а я смотрел, как она на меня смотрит.
Вдруг она, недолго раздумывая, бросилась ко мне с распростертыми объятиями, крикнув:
— Наталис!
— Ирма!
Да, это была она, моя сестра! Она узнала меня.
Воистину у женщин глаз острее, чем у нас, мужчин, когда надобно узнать скорее сердцем, тут они мастерицы. Дело в том, что мы с сестрой не виделись почти тринадцать лет, ясное дело, как я по ней соскучился!
Ирма, казалось, нисколько не постарела и очень хорошо выглядела! Она напомнила мне мать большими, живыми глазами и черными волосами, начинавшими седеть на висках.
Я покрыл поцелуями ее добрые, покрытые смуглым деревенским загаром щеки, а она, уж прошу поверить, облобызала мои.
Это ради нее, ради того, чтобы повидаться с нею, я и попросил отпуск. Меня начинало беспокоить, что она останется за пределами Франции в такой момент, когда сгущаются тучи. Француженке оказаться среди немцев, если объявят вдруг войну, — дело небезопасное. В таком случае ей лучше находиться на родине. И если сестра захочет, я заберу ее с собой. Но тогда ей пришлось бы покинуть свою хозяйку, госпожу Келлер, а я сомневался, что она пойдет на это. Во всяком случае, попробовать стоило.
— Какое это счастье — снова увидеться, Наталис, — сказала мне она, — снова найти друг друга, и так далеко от нашей Пикардии! Ты точно принес с собой оттуда частицу родного воздуха! Сколько же времени мы не виделись?
— Тринацать лет, Ирма!
— Да, тринадцать лет! Тринадцать лет разлуки! Как это много, Наталис!
— Милая Ирма! — сказал я в ответ. И мы вдвоем с сестрой, взявшись под руку, стали прохаживаться вдоль дороги.
— Как ты поживаешь? — спросил я.
— Как всегда, хорошо, Наталис. А ты?..
— Я тоже!
— Кроме того, ты теперь сержант! Это ведь честь для нашей семьи!
— Да, Ирма, и большая! Кто бы мог подумать, что маленький погонщик гусей из Гратпанша станет сержантом! Однако не следует слишком громко говорить об этом.
— Но почему?.. Объясни мне!..
— Потому что в этой стране нельзя сейчас рассказывать, что я солдат. В такой момент, когда кругом ходят слухи о войне, французу опасно находиться в Германии. Так вот! Я всего лишь твой брат, господин Некто, приехавший повидаться со своей сестрой, ясно?
— Ясно, Наталис. Теперь я буду молчать как рыба, обещаю тебе.
— Да, так будет лучше, у немецких ищеек уши всегда навострены.
— Не беспокойся!
— И еще, если хочешь, послушай моего совета, Ирма, давай я заберу тебя с собой.
В глазах сестры появилось выражение глубокой печали, и я услышал ответ, которого ожидал:
— Покинуть госпожу Келлер, Наталис? Когда ты ее увидишь, ты поймешь, что я не смогу оставить ее!
Я и так все понимал, а потому отложил этот разговор на другое время.
Ирма обрадовалась, видя, что я не настаиваю, глаза ее снова стали лучистыми, а голос ласковым. Она стала дотошно расспрашивать меня о родной деревне, о людях.
— Как там Фирминия? — спросила она.
— В полном здравии. Я получил от нее весточку через нашего соседа Летокара. Он два месяца тому назад приезжал в Шарлевиль. Ты помнишь Летокара?
— Сына тележника?
— Да! Знаешь ли ты, Ирма, что он женился на одной из Матифас?
— На дочери этого старикашки из Фуанкана?
— Его самого. Он сказал мне, что наша сестра на здоровье не жалуется. О! Им там, в Эскарботене, приходится вкалывать, и вкалывать как следует! И потом, у них уже четверо детей, последний дался ей тяжело. Этакий сорвиголова! К счастью, муж ее — честный человек, хороший работник и не пьет горькую, разве что по понедельникам. Но, конечно, ей в ее годы приходится не сладко!
— Да-а, ведь она уже немолода!
— Черт возьми! На пять лет старше тебя, Ирма, и на четырнадцать — меня! Это дает себя знать!.. Что тут поделаешь? Но она мужественная женщина, как и ты!
— Ну — как я, Наталис! Если мне и знакомо горе, то не свое, а лишь чужое! После отъезда из Гратпанша я не знаю нужды! Однако видеть, как возле тебя страдают другие, а ты не можешь ничего поделать…
Лицо сестры снова омрачилось, и она переменила разговор.
— Как ты добрался? — спросила она.
— Все обошлось благополучно. Погода стоит довольно хорошая для этой поры! Да и ноги у меня, как видишь, крепкие. А потом, что такое усталость, если в конце дороги тебя ждет хороший прием!
— Верно говоришь, Наталис, тебя в семействе Келлер очень хорошо встретят и полюбят, как любят меня.
— Добрая госпожа Келлер! Знаешь, сестрица, наверно, я не узнаю ее! Ведь я помню ее девушкой, дочерью господина и госпожи Аклок, славных жителей Сен-Софлье. В ту пору, когда она вышла замуж, целых двадцать пять лет тому назад, я был еще мальчишкой. Но наши отец и мать говорили о ней столько хорошего, что это навсегда осталось у меня в памяти.
— Бедная женщина! — заметила Ирма. — Теперь она так изменилась, очень сдала! Какой хорошей женой она была, Наталис, и какая она хорошая мать!
— А как ее сын?
— О, он лучший из сыновей! Когда их семья осиротела, лишившись кормильца, он отважно принялся за работу и продолжил дело отца.
— Славный господин Жан!
— Он обожает мать, он живет только ради нее, как и она — ради него!
— Я никогда не видел его, Ирма, но горю желанием познакомиться с ним. Мне кажется, я уже люблю этого молодого человека!
— Это неудивительно, Наталис. Ведь дружеские чувства к нему передались тебе от меня.
— Ну что ж, в дорогу, сестрица?
— В дорогу!
— Минуточку! А далеко ли отсюда до Бельцингена?
— Целых пять миль.
— Ба, — ответил я, — будь я один, я прошел бы их за два часа! Но с тобой…
— Да что ты, Наталис, я еще обгоню тебя!
— С твоим-то шагом?
— Нет, не с моим, а моей лошадки. — И Ирма показала мне на запряженную тележку, стоящую у дверей корчмы.
— Так ты, — спросил я, — приехала за мной на этой тележке?
— Да, Наталис, чтобы отвезти тебя в Бельцинген. Я выехала рано утром и была здесь ровно в семь часов. Если бы письмо, которое ты нам написал, пришло раньше, я смогла бы проехать тебе навстречу еще дальше.
— О! Не стоило, сестрица! Что ж, в путь! Тебе не надо платить в корчме? У меня есть несколько крейцеров…[174]
— Спасибо, Наталис, все уже улажено. Теперь остается только ехать.
Пока мы разговаривали, хозяин корчмы «Этквенде», прислонясь к двери, похоже, слушал нас не подавая виду.
Это мне как-то не понравилось. Может, нам лучше было болтать, держась от него подальше?
У корчмаря, этого жирняги величиною с гору, было омерзительное лицо: глаза как щелки, под набрякшими веками, сплюснутый нос и большой рот до ушей, словно ему еще в детстве было впору завязочки пришивать. Словом, урод уродом — совершенно отвратительная морда!
Впрочем, мы не сказали ничего предосудительного. Может, он ничего и не слышал из нашего разговора! Кстати, если он не знает французского языка, то как ему понять, что я прибыл из Франции!
Мы уселись в тележку. Корчмарь не шевельнувшись смотрел на наш отъезд.
Я взял вожжи и быстро погнал лошаденку. Нас затрясло, как от январского ветра. Но это не помешало нам продолжить разговор, и Ирма смогла посвятить меня во все домашние дела.
А потому из того, что мне уже было известно, и того, что она мне поведала, вы сейчас узнаете все касательно семейства Келлер.
Глава III
Госпоже Келлер, родившейся в 1747 году, было в ту пору сорок пять лет. Уроженка Сен-Софлье, как я уже говорил, она происходила из семьи мелких собственников. Ее родители, господин и госпожа Аклок, люди весьма скромного достатка, ощущали, как из года в год из-за расходов на жизнь уменьшается их небольшое состояние. Умерли они почти один за другим, в 1765 году. Молоденькая девушка осталась на попечении старой тетушки, кончина которой в скором времени совсем ее осиротила.
Таковы были обстоятельства, когда ее заметил господин Келлер, приехавший в Пикардию по своим торговым делам. Он уже полтора года занимался коммерцией в Амьене и его окрестностях, осуществляя транспортировку товаров. Это был видный, серьезный, умный и деятельный человек. В ту пору мы еще не питали того отвращения к немецкой расе[175], порожденного национальной враждой, которое возникло в результате Тридцатилетней войны.
Господин Келлер обладал приличным состоянием, которое благодаря его трудолюбию и умению вести дела непрерывно росло. В итоге он спросил барышню Аклок, не согласится ли она стать его женой.
Барышня Аклок колебалась, поскольку ей пришлось бы покинуть Сен-Софлье и свою родную Пикардию, к которой она была привязана всем сердцем. Кроме того, этот брак лишал ее права называться француженкой. Но к тому времени у нее уже не было никакого состояния, кроме небольшого дома, который пришлось бы в конце концов продать. Что же станется с нею, если она лишится последнего? А потому старая ее тетушка, госпожа Дюфрене, чувствуя приближение скорой смерти и беспокоясь о будущем своей племянницы, стала настаивать на том, чтобы та решилась.
Барышня Аклок дала свое согласие. Свадьбу отпраздновали в Сен-Софлье. И несколько месяцев спустя молодая госпожа Келлер, покинув родные места, уехала со своим мужем за границу, в Германию.
Ей не пришлось раскаиваться в своем выборе. Муж был к ней добр. Она отвечала ему тем же. Всегда предупредительный, он постарался сделать так, чтобы его жена не слишком ощущала потерю родины. Этот брак по расчету и обоюдному согласию оказался счастливым — явление, редкое во все времена.
Через год в Бельцингене, где жила теперь госпожа Келлер, у нее родился мальчик. Она решила всецело посвятить себя воспитанию сына, о котором и пойдет речь в нашем рассказе.
Спустя некоторое время после его рождения, то есть в 1771 году, с семейством Келлеров связала свою судьбу моя сестра Ирма. Тогда ей было девятнадцать лет. Госпожа Келлер знала ее ребенком, когда сама была еще девочкой. Отец наш иногда работал у господина Аклока, жена и дочь которого проявляли интерес к его судьбе. От Гратпанша до Сен-Софлье было недалеко. Барышня Аклок часто виделась с моей сестрой, целовала ее при встрече, делала ей небольшие подарки, словом, выказывала ей дружбу — дружбу, на которую сестра ответит потом самой бескорыстной преданностью.
А потому, узнав о смерти наших отца и матери и зная, что мы остались почти без всяких средств к существованию, госпожа Келлер решила пригласить к себе в услужение Ирму, уже нанявшуюся к кому-то в Сен-Софлье. Сестра с радостью согласилась на это предложение, в чем никогда не раскаивалась.
Я сказал, что господин Келлер был благодаря своим предкам французской крови. И вот каким образом. Немногим более ста лет тому назад Келлеры жили во французской части Лотарингии[176]. Это были умелые коммерсанты, уже тогда обладавшие довольно солидным, честно добытым капиталом. И конечно, дела их процветали бы и дальше, если бы не одно важное событие, повлиявшее на будущность нескольких тысяч самых трудолюбивых семейств Франции.
Келлеры были протестантами[177]. Они глубоко почитали свою религию, и никакие интересы не могли бы заставить их отречься от нее. Это стало очевидно после отмены в 1685 году Нантского эдикта[178]. Они, как и многие другие, встали перед выбором: или покинуть родину, или отказаться от веры. Как и многие другие, они предпочли изгнание.
Фабриканты, ремесленники, рабочие разных специальностей, земледельцы уехали из Франции, обогатив тем самым Англию, Нидерланды, Швейцарию, Германию, особенно — Бранденбург. Курфюрст прусский и потсдамский радушно принял их в Берлине, Магдебурге, Баттене и Франкфурте-на-Одере. Между прочим, французы — уроженцы Меца — в количестве двадцати пяти тысяч человек, как мне говорили, основали цветущие колонии Штеттина и Потсдама.
Вот и Келлеры, бросив налаженное торговое дело, покинули Лотарингию, надеясь обязательно вернуться.
Да! Они говорили себе, что возвратятся на родину, когда это позволят обстоятельства. А пока обустраивались за границей. Там завязывались новые связи, появлялись новые интересы. Шли годы, и изгнанники так и остались там навсегда! И все это — к великому ущербу для Франции!
В то время Пруссия, ставшая королевством только в 1701 году, владела на Рейне лишь герцогством Клевским, графством Ла-Маркским и частью Гельдерна.
Вот в этой, почти на границе с Нидерландами, провинции и нашло прибежище семейство Келлеров. Они открыли здесь промышленные предприятия, возобновили свои торговые дела, порушенные несправедливой и прискорбной отменой эдикта Генриха IV. Из поколения в поколение здесь заново создавались связи и заключались брачные союзы с новыми соотечественниками, так что бывшие французы в конце концов превратились в немцев.
Около 1760 года один из Келлеров покинул Гельдерн и поселился в небольшом городке Бельцинген. Это — самый центр земли Верхняя Саксония, включавшей часть Пруссии. Упомянутый Келлер весьма преуспел в торговых делах, что и позволило ему предложить барышне Аклок благосостояние, которого она не могла иметь в Сен-Софлье. В Бельцингене у него на свет появился сын, по отцу — пруссак, хотя по материнской линии — с французской кровью в жилах.
Но, в сущности (говорю об этом с волнением, заставляющим биться сердце), он был истинным французом, этот славный молодой человек! Любовь к Франции он впитал с молоком матери. Свои первые слова в детстве он лепетал по-французски. Не «мутер», а «маман»! Это и неудивительно, ибо в бельцингенском доме принято было разговаривать на французском языке, хотя госпожа Келлер и моя сестра Ирма вскоре по приезде овладели немецким.
Так что в детстве маленького Жана баюкали песни нашей родины. Его отец не собирался противиться этому. Наоборот. Разве он, этот французский язык, не был языком его предков из Лотарингии?
Госпожа Келлер не только вскормила сына своим молоком, но и заронила в его душу помыслы о Франции. Она глубоко любила свой родной край. Никогда она не теряла надежды когда-нибудь вернуться туда. Она не скрывала того, каким счастьем было бы для нее увидеть свою старую Пикардию. Господин Келлер не имел ничего против. Сколотив приличное состояние, он и сам с удовольствием покинул бы Германию, чтобы поселиться на родине своей жены. Но для этого ему требовалось еще несколько лет упорного труда, чтобы обеспечить супруге и сыну достойное положение. К несчастью, год и три месяца тому назад его внезапно настигла смерть.
Вот о каких вещах поведала мне по дороге моя сестра, пока тележка наша катилась к Бельцингену. Эта неожиданная кончина прежде всего задержала возвращение семейства Келлер во Францию, а сколько еще бедствий она повлекла за собою!
Действительно, к моменту, когда господин Келлер умер, он был втянут в крупную тяжбу с прусским правительством. Будучи в течение двух или трех лет правительственным подрядчиком, господин Келлер вложил в это дело не только свое состояние, но и средства, которые были доверены ему другими. Первой полученной им прибылью он сумел расплатиться с пайщиками, но никак не мог получить от правительства причитавшиеся ему за проведенные операции деньги, составлявшие почти все его состояние. Урегулирование этого вопроса все время откладывалось. Господину Келлеру предъявляли уйму претензий, его, как говорится, всего общипали. Эта волынка тянулась бесконечно, так что в конце концов ему пришлось обратиться в берлинский суд.
Однако известно, что в любом государстве тяжба с правительством — дело весьма непростое. Прусские судьи явно не проявляли доброй воли. А ведь господин Келлер, будучи честным человеком, выполнил все свои обязательства до единого. Ему причиталась от правительства сумма в двадцать тысяч флоринов[179] (целое состояние по тем временам), и ее потеря означала бы для него полное разорение.
Если бы не эта загвоздка, повторяю, положение бельцингенского семейства поправилось бы. К чему, кстати, изо всех сил и стремилась госпожа Келлер после смерти мужа, поскольку самым настоятельным ее желанием было вернуться во Францию, что вполне понятно.
Вот что поведала мне сестра по дороге в Бельцинген. Касательно же положения Ирмы, то оно легко угадывалось. Она нянчилась с Жаном почти со дня его рождения, присовокупив свои заботы о нем к заботам матери. Она любила его поистине материнской любовью. Вот почему в доме Келлеров на нее смотрели не как на прислугу, а как на компаньонку, как на простого и скромного друга. Она была настоящим членом семьи (с ней и обращались как с таковой), бесконечно преданным этим славным людям. Если Келлеры покинут Германию, для нее будет огромной радостью последовать за ними. Если они останутся в Бельцингене, то и Ирма останется здесь.
— Расстаться с госпожой Келлер!.. Да, мне кажется, я бы умерла с горя! — сказала она мне.
Я понял, что ничто не убедит сестру вернуться со мной, раз ее хозяйка вынуждена оставаться в Бельцингене, пока не устроятся дела. Вместе с тем мысль о том, что сестра останется в этой стране, готовой пойти войной на Францию, не переставала вызывать у меня большую тревогу. И было из-за чего!
Потом, закончив свой рассказ о Келлерах, Ирма спросила:
— Ты весь свой отпуск проведешь с нами?
— Да, весь отпуск, если можно.
— Прекрасно, Наталис, тогда ты наверняка побываешь на свадьбе.
— А кто женится?.. Господин Жан?
— Да.
— И на ком же?.. На немке?..
— Нет, Наталис, и именно это больше всего радует нас. Если мать его вышла за немца, то он берет в жены француженку.
— Красивую?..
— Красивую, как мадонна!
— То, что ты сообщила, — большая радость для меня, Ирма.
— Для нас тем более! А ты, Наталис, еще не надумал найти себе жену?
— Я?
— Не оставил ли ты ее там, у себя?
— Да, это так, Ирма.
— И кто же она?..
— Родина, сестрица! Разве солдату нужен кто-нибудь еще?
Глава IV
Городок Бельцинген, находящийся менее чем в двадцати милях от Берлина, был построен близ деревни Гагельберг, где в 1813 году[180] французы вступили в сражение с «ландвером»[181] пруссаков. Он довольно живописно расположился у подножия возвышающегося над ним хребта Фламенго. Занимаются здесь продажей лошадей, скота, льна, клевера и зерна.
Вот сюда мы и прибыли с сестрой около десяти часов утра. Тележка остановилась у очень чистенького, приветливого, хотя и скромного, домика. Это было жилище госпожи Келлер.
Можно было подумать, что мы попали в Голландию. Крестьяне здесь носили длинные, синеватого цвета рединготы[182], пунцовые жилеты с высоким тугим воротником, вполне способным защитить от удара сабли. Женщины в своих двойных и тройных юбках и белых чепцах с остроугольными отворотами вполне походили бы на монахинь, если бы не яркие разноцветные платки на талии и черные бархатные корсажи[183], в которых не было ничего монашеского. Это я, по крайней мере, заметил по дороге к дому Келлеров.
Что касается оказанного мне приема, то его легко себе вообразить. Как же, родной брат Ирмы! Я вполне убедился в том, что ее положение в семье было именно таким, как она рассказывала. Госпожа Келлер встретила меня ласковой улыбкой. Господин Жан — крепким двойным рукопожатием. Как легко догадаться, большую роль здесь сыграло то, что я был французом.
— Господин Дельпьер, — сказал он, — моя мать и я рассчитываем, что вы проведете здесь весь ваш отпуск. Побыть с сестрой несколько недель не будет слишком, поскольку вы не видели ее тринадцать лет!
— Побыть не только с сестрой, но и с вашей матушкой и с вами, господин Жан, — ответил я. — Я помню все то добро, которое ваша семья сделала для нашей семьи и для Ирмы, это такое счастье, что вы приняли в ней участие!
Признаюсь, я заранее заготовил эти комплименты, чтобы не ударить в грязь лицом. Но это оказалось излишним. С такими славными людьми можно говорить все, что чувствуешь сердцем.
Глядя на хозяйку дома, я узнавал девические черты, запечатленные в моей памяти. Ее красота, казалось, совсем не изменилась с годами. Еще в пору юности лицо госпожи Келлер поражало своей серьезностью, и я снова увидел его почти таким же. Черные волосы местами поседели, зато глаза ничуть не утратили прежней живости. В них еще горел огонь, несмотря на слезы, пролитые из-за смерти мужа. Она была очень сдержанна. Госпожа Келлер умела слушать, поскольку не принадлежала к тем женщинам, что трещат как сороки или жужжат как мухи. Откровенно говоря, я таких болтушек не люблю. В ней же чувствовались наличие здравого смысла и привычка сначала думать, а потом уж говорить или действовать. В ней чувствовалось умение вести дела.
Кроме того, как я вскоре убедился, она редко выходила из дому. Не посещала соседей. Избегала новых знакомств. Ей было хорошо у себя. Вот это мне нравится в женщине. Я не жалую таких, что, словно бродячие музыканты, чувствуют себя хорошо только на улице.
Еще меня порадовало то, что госпожа Келлер, не пренебрегая немецкими обычаями, сохранила и некоторые наши, пикардийские, привычки. Так, внутреннее убранство ее комнат напоминало убранство домов в Сен-Софлье. Расстановка мебели, весь домашний уклад, кулинарные привычки — все совсем как в Пикардии, как это запечатлелось у меня в памяти.
В ту пору господину Жану исполнилось двадцать четыре года. Это был молодой человек выше среднего роста, брюнет с черными усами и темными глазами, почти карими. В этом немце совсем не было тевтонской[184] грубости, напротив, он отличался изяществом манер. Его непосредственный, открытый нрав вызывал симпатии людей. Жан очень походил на мать. Как и она серьезный по натуре, сосредоточенный, он к тому же очаровывал любезностью и обходительностью. Молодой человек понравился мне, как только я увидел его. И если когда-нибудь ему понадобится преданный друг, то он найдет его в лице Наталиса Дельпьера!
Добавлю, что господин Жан владел нашим языком так, словно вырос у нас на родине. Знал ли он немецкий? Конечно, и очень хорошо. Но, по правде говоря, спрашивать у него об этом было бы излишне, — так же как я уже не помню у какой прусской королевы, которая разговаривала обычно только по-французски. Вдобавок он особо интересовался всем, что касалось Франции. Он любил наших соотечественников, искал встречи с ними, оказывал им помощь. Собирал все касавшиеся Франции новости и материалы, и они являлись излюбленной темой его разговора.
Впрочем, господин Жан принадлежал к классу промышленников и коммерсантов и, понятно, страдал от заносчивости чиновников и военных. Обычный удел всех начинающих деловых людей, которые не имеют связи непосредственно с правительством.
Какая жалость, что Жан Келлер был только наполовину, а не Целиком французом! Что вы хотите? Я, не впадая в умные рассуждения, говорю то, что чувствую. И если не особенно восторгаюсь немцами, так это потому, что близко столкнулся с ними во время службы в пограничных гарнизонах. У представителей высших классов, даже если они, как это и должно быть, вежливы со всеми, всегда проявляется природная надменность характера. Я не отрицаю их достоинств, но у французов они другие. Во всяком случае, эта моя поездка в Германию вряд ли заставит меня переменить свое мнение.
После смерти отца господину Жану, тогда еще студенту Геттингенского университета[185], пришлось вернуться домой. Госпожа Келлер нашла в нем умного, деятельного и трудолюбивого помощника. Однако хозяйственной сметкой его способности не ограничивались. Он был очень образован, и не только в области коммерции, как говорила сестра, ибо сам я не мог судить об этом. Он любил книги. Любил музыку. У него был красивый голос, хотя не такой сильный, как у меня, зато приятный. Впрочем, каждому свое. Когда я, например, командовал своим солдатам: «Вперед!.. Шире шаг!.. Стой!..» — никто не жаловался на зычность моего голоса. Но вернемся к господину Жану. Ведь если бы я дал себе волю, то только бы и делал, что нахваливал его. Пусть лучше о нем судят по его делам. Надо учесть, что после смерти отца на него легла вся тяжесть ведения дел. Ему пришлось сильно потрудиться, так как состояние их оказалось весьма запутанным. Жан преследовал одну цель — наладить во всем порядок и привести торговые дела к завершению. К сожалению, тяжбе, которую он вел с правительством, казалось, не будет конца. Важно было постоянно следить за ходом процесса и, чтобы не упустить чего-либо, часто ездить в Берлин. Ведь от исхода этого дела зависело будущее семьи Келлер. В конце концов, права семейства были столь неоспоримы, что оно не могло не выиграть процесс, несмотря на все недоброжелательство судей.
В день моего приезда, в полдень, мы обедали за общим столом. Мы сидели совсем по-семейному. Вот как отнеслись ко мне в этом доме. Я устроился рядом с госпожой Келлер. Моя сестра Ирма занимала свое обычное место около господина Жана, напротив меня.
Говорили о моем путешествии, о перенесенных дорожных трудностях, о положении в стране. Я догадывался, что беспокоит госпожу Келлер и ее сына: возможное передвижение войск, будь то прусских или австрийских, к границе Франции. В случае возникновения войны дела Келлеров могли надолго осложниться.
Но лучше было за этим первым обедом не касаться таких грустных вещей. А потому господин Жан переменил тему разговора, и я оказался в центре внимания.
— Ну как ваши походы, Наталис? — спросил он меня. — Вам ведь довелось сражаться в Америке. Встречали ли вы там героя-француза маркиза де Лафайета, пожертвовавшего свое состояние и посвятившего жизнь делу борьбы за независимость?
— Да, господин Жан.
— А видели вы Вашингтона?
— Как теперь вижу вас, — отвечал я. — Он — высоченного роста, с руками и ногами гиганта!
Помнится, именно это больше всего поразило меня в американском генерале.
Пришлось рассказать все, что я знал о битве при Йорктауне, и о том, как граф де Рошамбо буквально «отделал» лорда Корнуоллиса.
— А после возвращения во Францию, — спросил меня господин Жан, — вам не приходилось участвовать в кампаниях?
— Ни разу, — ответил я. — Наш Королевский пикардийский постоянно передислоцировался[186] из одного гарнизона в другой. Мы были очень заняты…
— Верю, Наталис. Настолько заняты, что ни разу не имели времени черкнуть сестре хотя бы пару строк о себе!
При этих словах я невольно покраснел. Ирма тоже слегка смутилась. Наконец я собрался с духом. В конце концов, тут нет ничего стыдного.
— Господин Жан, — ответил я, — если я не писал сестре, то только потому, что мне это дело не под силу.
— Вы не умеете писать, Наталис? — изумился господин Жан.
— Не умею, к моему большому сожалению.
— А читать?
— И читать! В пору моего детства, даже если бы, предположим, родители и могли израсходовать немного денег на мое обучение, ни в нашей деревне Гратпанш, ни в округе не было ни одного учителя. Ну а потом, я не расставался с солдатским ранцем на спине и ружьем на плече. А обучаться грамоте в перерыве между двумя походами — где уж там! Так и получилось, что тридцатилетний сержант не умеет ни писать, ни читать…
— Ну так мы вас научим, Наталис, — сказала госпожа Келлер.
— Вы, мадам?..
— Да, — добавил господин Жан, — и моя мать, и я, мы все займемся этим… У вас отпуск два месяца?..
— Да, два месяца.
— И вы, надеюсь, думаете провести его здесь?
— Да, если я вас не стесню.
— Брат Ирмы не может нас стеснить, — заметила госпожа Келлер.
— Дорогая госпожа, — промолвила сестра, — когда Наталис узнает вас получше, у него не будет подобных мыслей!
— Располагайтесь, как у себя дома, Наталис, — сказал господин Жан.
— У себя дома!.. Но, господин Келлер… У меня никогда не было дома…
— Ну, располагайтесь, если вам угодно, как дома у сестры. Оставайтесь здесь, повторяю, сколько понравится. И в течение вашего двухмесячного отпуска я берусь научить вас читать и писать.
Я не знал, как и благодарить его.
— Но, господин Жан, — вымолвил я, — есть ли у вас свободное время для этого?
— Два часа утром и два часа вечером — вполне достаточно. Я буду задавать вам каждодневные уроки.
— Я помогу тебе, Наталис, — сказала мне Ирма, — поскольку немного умею читать и писать.
— Из нее получится прекрасная помощница, — отозвался господин Жан, — ведь она была лучшей ученицей моей матери!
Что ответить на такое предложение, сделанное от всего сердца?
— Что ж, я согласен, господин Жан, я согласен, госпожа Келлер, и спрашивайте с меня уроки по всей строгости!..
Господин Жан снова заговорил:
— Видите ли, дорогой Наталис, человеку необходимо уметь читать и писать. Подумайте о том, сколь многого не знают бедные люди, не выучившиеся грамоте! Какие они темные! Это такое же несчастье, как не иметь глаз! Вдобавок вы не сможете продвинуться в чинах. Сейчас вы сержант, это прекрасно, но как вам подняться выше? Как вам стать лейтенантом, капитаном, полковником? Вы так и останетесь тем, кем вы есть, а ведь негоже, чтобы неграмотность стала для вас камнем преткновения.
— Меня остановит не неграмотность, господин Жан, — ответил я, — но существующие правила. Нам, простолюдинам, не положено подниматься выше чина капитана.
— Возможно, что так оно и было до сих пор, Наталис. Но революция восемьдесят девятого года провозгласила во Франции равенство, и она рассеет старые предрассудки. У вас теперь все равны. Будьте же равным тем, кто образован, чтобы прийти к тому, к чему может привести образование. Равенство! Этого слова Германия еще не знает! Итак, решено?
— Решено, господин Жан.
— Ну так начнем сегодня же, и через неделю вы уже дойдете до последней буквы алфавита. Обед окончен, сейчас идемте на прогулку, а по возвращении примемся за дело!
Вот так в доме Келлеров я и стал учиться чтению. До чего же славные бывают на свете люди!
Глава V
Мы с господином Жаном совершили отличную прогулку по дороге, которая подымается к Гагельбергу со стороны Бранденбурга. Мы больше беседовали, чем глядели по сторонам. Да и ничего особенно любопытного вокруг не было.
Тем не менее я отметил, что люди меня внимательно разглядывают. Что вы хотите? Появление в маленьком городке нового человека — это всегда событие.
Сделал я также и другое наблюдение: господин Келлер, похоже, пользовался всеобщим уважением. В числе встречавшихся нам людей было очень мало таких, кто не знал семейства Келлер. А потому я счел своим долгом весьма вежливо отвечать на все поклоны, хотя они ко мне и не относились. Ведь никак не следовало отступать от старинной французской вежливости!
О чем говорил со мной господин Жан во время этой прогулки? О, конечно же о том, что сейчас сильно волновало его семью, — об этом нескончаемом процессе.
Он подробно изложил мне дело. Поставки, на которые брался подряд, были выполнены в назначенные сроки. Как истинный пруссак, господин Келлер аккуратно выполнил все условия, оговоренные в требованиях, и барыш, вырученный им законно и честно, должны были выплатить ему безоговорочно. Совершенно очевидно, что если и есть на свете какой-то наверняка выигрышный процесс, так именно этот. Ясно, что в данном случае правительственные чиновники повели себя как последние жулики. И все-таки — сколько проволочек!
— Но постойте, — вставил я. — Эти чиновники ведь не судьи! Дело будет решаться в суде, и я никак не могу поверить, что вы его проиграете…
— Всегда можно проиграть процесс, даже самый верный! Если здесь вмешается чья-нибудь злая воля, разве я смогу надеяться, что дело решат в нашу пользу? Я видел наших судей, они до сих пор так и стоят у меня перед глазами. И я чувствую, что они предубеждены против семьи, имеющей какие-то связи с Францией. Особенно теперь, когда между нашими двумя странами натянутые отношения. Год и три месяца тому назад, когда умер отец, никто не сомневался в благоприятном исходе нашего дела. Теперь же я не знаю, что и думать. Если мы проиграем процесс, для нас это будет почти полное разорение!.. У нас едва останется на что жить!
— Этого не будет! — воскликнул я.
— Можно опасаться всего, Наталис! О, я беспокоюсь не за себя, — добавил господин Жан. — Я молод, могу работать. Но моя мать!.. Сердце разрывается при мысли, что она целые годы будет терпеть лишения, пока я снова наживу состояние!
— Добрая госпожа Келлер! Сестра так расхваливала мне ее!.. Вы ее очень любите?
— Еще бы не любить! — Господин Жан помолчал с минуту. Потом снова заговорил: — Если бы не этот процесс, Наталис, я бы уже сколотил целое состояние и, поскольку у матери моей одно-единственное желание — возвратиться во Францию, которую за двадцать пять лет разлуки она так и не смогла забыть, я устроил бы наши дела так, чтобы через год, быть может — через несколько месяцев, доставить ей эту радость!
— Но, — спросил я, — разве госпожа Келлер не может покинуть Германию независимо от того, будет выигран или проигран этот процесс?
— О, Наталис! Вернуться в свою страну, в свою любимую Пикардию и не иметь возможности пользоваться скромным комфортом, к которому она привыкла, было бы для нее слишком тяжело! Я, конечно, буду работать, и тем более усердно, что это для нее! Но преуспею ли я? Кто может знать это, особенно ввиду осложнений, которые я предвижу и от которых сильно пострадает коммерция.
Слушая такие речи господина Жана, я испытывал волнение, которое отнюдь не старался скрыть. В разговоре он не раз порывисто сжимал мне руку. Я отвечал ему тем же: он должен был без слов понять, что я чувствую. Ах! Чего бы я только не сделал, чтобы отвратить беду от его матери и от него!
Порой он прерывал свою речь, устремив пристальный взгляд вдаль, как человек, всматривающийся в будущее.
— Наталис, — сказал он мне в одну из таких минут с каким-то странным выражением в голосе, — замечали ли вы, как плохо все складывается в этом мире? Мать моя благодаря своему браку стала немкой, а я, если даже женюсь на француженке, все равно останусь немцем!
Это был единственный намек на тот план, о котором Ирма поведала мне в двух словах сегодня утром. Но так как господин Жан более об этом не распространялся, то я не счел себя вправе настаивать. Надо быть деликатными с людьми, питающими к вам дружеские чувства. Когда господин Келлер сочтет нужным заговорить со мной об этом откровеннее, он всегда найдет во мне участливого слушателя.
Прогулка продолжалась. Беседа шла о разных вещах, но преимущественно о том, что касалось меня. Мне пришлось рассказать еще кое-какие эпизоды из своего американского похода. Господин Жан находил прекрасным то, что Франция оказала поддержку и помощь американцам в завоевании свободы. Он завидовал нашим соотечественникам, великим и малым, отдавшим жизнь или состояние на службу этому правому делу. Конечно, имей господин Жан возможность поступить так же, он бы не колебался! Поступил бы в солдаты к графу Рошамбо. Не жалел бы патронов в бою при Йорктауне. Сражался бы за освобождение Америки от английского владычества.
И по тому, как он говорил это, по его дрожащему голосу, по его волнению, проникавшему мне в душу, можно было утверждать, что господин Жан смело исполнил бы свой долг. Но редко кто бывает хозяином собственной судьбы. Сколько великих поступков не сделано и не могло быть сделано! В конце концов, такова жизнь, и надо принимать ее такой, какая она есть.
Мы уже возвращались в Бельцинген, спускаясь по идущей к нему дороге. Первые его дома сверкали на солнце белизной. Их красные крыши рдели среди зелени, как цветы, хорошо различимые между деревьев. Мы были от них на расстоянии двух выстрелов, когда господин Жан сказал мне:
— Сегодня после ужина мы с матерью должны сделать один визит.
— Я вам нисколько не помешаю, — ответил я. — Я побуду со своей сестрой Ирмой.
— Нет, напротив, Наталис, я попрошу вас пойти с нами к этим людям.
— Как вам будет угодно!
— Это господин и мадемуазель де Лоране. Они давно живут в Бельцингене и будут рады такому гостю, поскольку вы прибыли с их родины. Мне очень хочется познакомить вас с соотечественниками.
— Как пожелаете. — Я понял, что господин Жан хочет посвятить меня в свои семейные тайны. «Но, — думал я, — не явится ли этот брак препятствием для возвращения во Францию? Не привяжет ли он еще крепче госпожу Келлер и ее сына к этой стране, если господин и барышня де Лоране обосновались здесь, не имея в мыслях возвращаться?» Потом-то мне довелось узнать, как обстояли дела на самом деле. Но немного терпения! Не надо торопиться, а то поспешишь — людей насмешишь.
Мы подошли к первым домам Бельцингена. Господин Жан уже поворачивал на главную улицу, как вдруг я услышал вдали барабанную дробь.
В то время в Бельцингене стоял пехотный полк — лейб-полк[187] под командованием полковника фон Граверта. Впоследствии я узнал, что полк этот нес здесь гарнизонную службу уже пять или шесть месяцев. Весьма вероятно, что ввиду наблюдавшегося передвижения войск на запад Германии он не замедлит присоединиться к основным силам прусской армии.
Солдату всегда любопытно посмотреть на других солдат, тем более на иностранных. Хочется подметить, что у них хорошо, что плохо. Профессиональная привычка. Разглядеть их форму от плюмажа[188] на голове до последней пуговицы на гетрах[189], увидеть, как они маршируют. Это небезынтересно.
Так что я остановился. Господин Жан остановился тоже.
Барабанщики отбивали один из типично прусских маршей — с безостановочным ритмом. Позади них печатали шаг четыре роты лейб-полка. Однако они не уходили из города, просто это была военная прогулка. Мы с господином Жаном сошли с дороги, чтобы дать им пройти.
Барабанщики уже маршировали мимо нас, когда я почувствовал, что господин Жан крепко сжал мою руку, словно стараясь силой заставить себя стоять на месте.
Я взглянул на него.
— Что с вами? — спросил я.
— Ничего! — Вначале господин Жан побледнел. Теперь кровь прилила к его щекам. Можно было подумать, что у него закружилась голова и, как говорится, искры из глаз посыпались. Потом взгляд его сделался таким пристальным, что, казалось, никакая сила не сможет заставить его потупить взор.
Во главе первой роты, с левой стороны, и, следовательно, с той стороны, на которой мы стояли у дороги, шагал лейтенант.
Это был типичный немецкий офицер, каких и тогда и потом мы столько видели. Довольно красивый рыжеватый блондин, с глазами цвета голубого фарфора, холодными и жесткими; вид он имел самодовольный, походку развязно-фатоватую. Вопреки его претензиям на элегантность, в нем было нечто тяжеловесное. Что касается меня, то подобные щеголи внушают мне антипатию, даже отвращение.
По-видимому, то же чувство — пожалуй, даже больше, чем отвращение, — он вызывал и у господина Жана. К тому же я заметил, что и офицер питает по отношению к нему не лучшие чувства. По крайней мере, взгляд, брошенный им на господина Жана, был отнюдь не приветливым.
Оба они были всего в нескольких шагах друг от друга, когда поравнялись. Молодой офицер, проходя мимо, намеренно презрительно пожал плечами. Господин Жан в бешенстве крепко стиснул мою руку. Мне показалось: сейчас он бросится на него, но ему удалось совладать с собой.
Очевидно, между двумя этими людьми существовала ненависть, причин которой я не знал, но очень скоро должен был узнать.
Потом рота прошла, и батальон скрылся за поворотом дороги.
Господин Жан не произнес ни слова. Он молча смотрел на удалявшихся солдат. Его словно пригвоздило к этому месту, он стоял неподвижно до тех пор, пока не перестал слышаться бой барабанов. Тогда, повернувшись ко мне, господин Жан промолвил:
— Идемте-ка, Наталис, в школу! — И мы вернулись к госпоже Келлер.
Глава VI
Учитель у меня был хороший. Делал ли ему честь ученик? Не знаю. Учиться читать в тридцать один год заведомо нелегко. Здесь нужен детский мозг, податливый как воск, без труда воспринимающий всякое впечатление. А мой мозг был так же тверд, как покрывающий его череп.
Однако я решительно принялся за дело, действительно вознамерившись быстро научиться грамоте. В тот первый урок я познакомился со всеми гласными. Господин Жан проявил терпение, за которое я сумел быть ему благодарным. Чтобы лучше запечатлеть эти буквы в моей памяти, он заставил меня тут же и выводить их карандашом — десять, двадцать, сто раз подряд. Таким образом, я одновременно с чтением учился и письму. Способ этот рекомендую всем ученикам моего — немолодого — возраста.
В усердии и внимании с моей стороны не было недостатка. Я был готов просидеть над азбукой целый вечер, если бы в семь часов не пришла служанка сказать, что нас ждет ужин. Я поднялся к себе в комнатку, находившуюся рядом с комнатой сестры, вымыл руки и снова сошел вниз.
Ужин занял не более получаса. Поскольку идти к господину де Лоране нужно было чуть позже, я попросил разрешения подождать на улице. Мне это было позволено. Стоя на пороге дома, я с удовольствием закурил, как говорим мы, пикардийцы, добрую, мирную трубочку.
Когда я вернулся в комнаты, госпожа Келлер с сыном были уже готовы. Ирма, имевшая какие-то дела по дому, не пошла с нами. Мы втроем вышли. Госпожа Келлер попросила меня подать ей руку. Я сделал это, по всей вероятности, довольно неловко. Зато был очень горд сознанием, что такая великолепная дама опирается на мою руку. Это было для меня немалой честью.
Идти нам пришлось недолго, так как господин де Лоране жил в верхнем конце той же самой улицы. Он занимал хорошенький домик, свежевыкрашенный и привлекательный на вид, с цветничком перед фасадом и двумя большими буками[190] по краям, а позади находился довольно обширный сад с лужайками. Судя по жилищу, владелец его был человек состоятельный. И в самом деле, финансовое положение господина де Лоране было вполне благополучным.
Когда мы выходили, госпожа Келлер сообщила мне, что барышня де Лоране приходится господину де Лоране не дочерью, а внучкой. Так что большая их разница в возрасте меня не удивила.
Господину де Лоране было тогда семьдесят лет. Это был человек высокого роста, которого еще не согнула старость. Его волосы, скорее серые, чем седые, обрамляли красивое и благородное лицо. Глаза смотрели на вас ласково. По манерам легко угадывался человек с положением в обществе. Обхождение его было из самых приятных.
Одна только приставка «де»[191], не сопровождаемая никаким титулом, говорила о том, что происходил он из сословия, среднего между аристократией и буржуазией, не гнушающегося заниматься производством или коммерцией — с чем его можно было только поздравить. Если господин де Лоране сам лично никогда не занимался делами, то потому, что до него это делали его дед и отец. Так что несправедливо было бы упрекать его за то, что он при рождении получил готовое состояние.
Члены семейства де Лоране были выходцами из Лотарингии и протестантами по вероисповеданию, как и семейство господина Келлера. Однако если предки де Лоране вынужденно покинули французскую землю после издания Нантского эдикта, то оставаться на чужбине у них не было намерений. А потому они вернулись в свою страну, как только это позволили обстоятельства (возвращение во Франции к идеям либерализма)[192], и с того времени никогда ее не покидали.
Что касалось самого господина де Лоране, то он жил в Бельцингене только потому, что в этом уголке Пруссии он получил в наследство от дяди довольно неплохие поместья, которыми надо было заниматься. Конечно, он предпочел бы продать их и вернуться в Лотарингию. К сожалению, подходящего случая не представлялось. Келлер-отец, поверенный в делах господина де Лоране, находил желающих купить лишь за ничтожно малую цену, так как Германия не изобиловала деньгами. Господину де Лоране, не желавшему продавать поместья за бесценок, пришлось оставить свое имущество за собой.
Деловые отношения между господином Келлером и господином де Лоране вскоре переросли в дружеские отношения, крепко связавшие обе семьи. Они длились уже двадцать лет. И ни разу никакое облачко не омрачило взаимного расположения, основанного на сходстве взглядов и привычек.
Господин де Лоране овдовел еще совсем молодым человеком. От его брака у него остался сын, которого Келлеры знали очень мало. Сын этот, женившийся во Франции, приезжал в Бельцинген всего один или два раза. А вот отец навещал его каждый год, это доставляло господину Лоране удовольствие провести несколько месяцев на своей родине.
У де Лоране-младшего была дочь, рождение которой стоило жизни ее матери. И сам он, глубоко потрясенный этой потерей, тоже вскоре после жены умер. Дочь почти не знала отца, так как сделалась круглой сиротой в пятилетнем возрасте. С тех пор из всей семьи у нее остался лишь дедушка.
Последний не преминул исполнить свой долг. Он поехал за малюткой, привез ее в Германию и всецело посвятил себя ее воспитанию. Скажем сразу, что в этом ему очень помогла госпожа Келлер, сильно привязавшаяся к девочке и проявившая о ней материнскую заботу. Нечего и говорить о том, как господин де Лоране был счастлив, что мог положиться на дружбу и преданность такой женщины, как госпожа Келлер.
Сестра моя Ирма, как и следовало ожидать, от всей души помогала своей хозяйке. Сколько раз, я уверен, она нянчила девчушку или укачивала ее на руках, за что дедушка был ей от всей души благодарен. Ну а со временем это дитя превратилось в прелестную девушку, на которую я и смотрел сейчас, впрочем, украдкой, чтобы не слишком смущать ее.
Марта де Лоране родилась в 1772 году. Стало быть, тогда ей было двадцать лет. Довольно высокого для женщины роста, блондинка с темно-синими глазами, прелестными чертами лица, с грациозными движениями и непринужденной манерой поведения, она совсем не походила на тех обитательниц Бельцингена, которых мне довелось увидеть. Я любовался открытым, ласковым выражением лица, ее счастливой улыбкой. У нее были таланты, доставлявшие удовольствие не только ей самой, но и другим. Она премило играла на клавесине[193], хотя полагала, что не слишком сильна в этом деле. Однако мне, простому сержанту, она казалась первостатейной музыкантшей. Кроме того, она рисовала очень хорошенькие букетики на бумажных экранах.
Нисколько не удивительно, что господин Жан влюбился в эту особу, как и то, что барышня де Лоране, в свою очередь, по достоинству оценила все, что было хорошего и привлекательного в этом молодом человеке. Обе семьи с радостью замечали, как дружба детей, выросших друг подле друга, понемногу превращается в более глубокое чувство. Они очень подходили друг другу и смогли друг друга оценить. И если их брак еще не свершился, то причиной тому была излишняя деликатность господина Жана — деликатность, понятная всем людям с благородным сердцем.
Действительно, как вы помните, положение дел семейства Келлер было весьма неопределенно. Господин Жан хотел, чтобы судебный процесс, от которого зависело все его будущее, был окончен до женитьбы. Если он его выиграет, — тем лучше. Тогда он сможет дать барышне де Лоране определенное состояние. Однако если процесс будет проигран, господин Жан останется без гроша. Разумеется, Марта де Лоране богата и будет по смерти деда еще богаче, но господину Жану претила мысль воспользоваться хотя бы частицей ее богатства. И такие чувства, по-моему, можно только приветствовать.
Между тем обстоятельства складывались так, что господину Жану нужно было поторопиться с разрешением вопроса о браке. Препятствий к тому не было никаких: господин Жан и его невеста исповедовали одну и ту же религию и происхождения были одинакового, по крайней мере в прошлом. Если молодые супруги поселятся во Франции, то дети, которые у них родятся, разве не будут натурализованными[194] французами? Одним словом, как говорится, все было при них.
Итак, важно было решиться на этот шаг, и не мешкая, чтобы предотвратить какие бы то ни было поползновения со стороны соперника господина Жана.
Не то чтобы господин Жан имел основания ревновать, нет! Да и как мог он ревновать, если ему стоило сказать только слово, чтобы барышня де Лоране стала его женой?
Но он испытывал если не чувство ревности, то, во всяком случае, глубокое и совершенно естественное раздражение по отношению к этому молодому офицеру, которого мы повстречали вместе с лейб-полком во время нашей прогулки по бельцингенской дороге.
В самом деле, лейтенант фон Граверт вот уже несколько месяцев как заприметил барышню Марту де Лоране. Принадлежа к богатой и влиятельной семье, он не сомневался, что его знаки внимания почтут за большую честь.
А потому этот Франц надоедал барышне Марте своими ухаживаниями. Он так настойчиво преследовал ее на улице, что она стала выходить из дому только в случае крайней необходимости.
Господин Жан знал это. Уже не однажды он собирался проучить щеголя, пускавшего пыль в глаза в высшем обществе Бельцингена. Но всякий раз его удерживало нежелание впутывать в это дело имя барышни Марты. Вот коли она станет его женой и этот тип не прекратит своих преследований, — тут уж он сумеет поставить его на место! До той поры не следовало обращать внимания на его ухаживания. Лучше было избегать инцидента, который мог бы ранить хрупкую девушку.
Однако недели три тому назад руки барышни Марты для лейтенанта Франца уже просили. Его отец, полковник, явился к господину де Лоране и представился ему. Причем не преминул упомянуть о большом состоянии, титулах и блестящем будущем Франца. Человек он был грубый, вояка, привыкший командовать (все хорошо знают, что это такое), не допускающий ни колебаний, ни отказа, то есть настоящий пруссак от плюмажа до кончика шпор.
Господин де Лоране поблагодарил полковника фон Граверта за оказанную честь, сказал, что весьма польщен его выбором, но что ранее данные обязательства делают этот брак невозможным.
Получив вежливый отказ, полковник удалился, раздосадованный неудачей своей миссии[195]. Лейтенант Франц был глубоко уязвлен. Ему было небезызвестно, что Жан Келлер, такой же немец, как и он, принят в доме господина де Лоране в том качестве, в каком ему, Францу фон Граверту, отказано. Отсюда возникла ненависть, и даже больше чем ненависть — желание отомстить, для чего, несомненно, ожидался лишь подходящий случай.
Тем временем молодой офицер, движимый ревностью, а может быть и злобой, не перестал докучать барышне Марте. Вот почему с того дня девушка решила больше не выходить на улицу не только одна, что допускалось немецкими обычаями, но даже и с дедушкой, и с госпожой Келлер, и с моей сестрой.
Вот все, что стало мне потом известно. Однако вам я решил рассказать это сейчас.
Что касается приема, оказанного мне в доме семейства де Лоране, то трудно было желать лучшего.
— Брат моей милой Ирмы не может не быть нашим другом, — сказала мне барышня Марта, — и я рада, что могу пожать ему руку!
И представьте себе, я не нашелся что ответить! Право, в тот день я был глупее, чем когда-либо. Страшно стесняясь и смущаясь, я молчал. А она так дружески протягивала мне руку!.. Наконец я взял ее и едва пожал, словно боялся сломать. Что же вы хотите! Бедный сержант!
Потом все пошли прогуляться в сад. За разговором я немного пришел в себя. Говорили о Франции. Господин де Лоране спрашивал меня о надвигавшихся событиях. Он, похоже, опасался, как бы они не обернулись совсем плохо и не причинили больших неприятностей его соотечественникам, живущим в Германии. Он и сам подумывал о том, не покинуть ли ему Бельцинген и не вернуться ли навсегда к себе на родину, в Лотарингию!
— Вы собираетесь уехать? — с живостью спросил господин.
— Боюсь, нам придется сделать это, дорогой Жан, — ответил господин де Лоране.
— Но нам не хотелось бы ехать одним, — добавила барышня Марта. — Сколько времени продлится ваш отпуск, господин Дельпьер?
— Два месяца, — отвечал я.
— Так как же, милый Жан, — продолжила она, — надеюсь, господин Дельпьер до отъезда побывает на нашей свадьбе?
— Да, Марта… Да! — Господин Жан не знал, что ответить.
Рассудок в нем боролся с сердцем.
— Барышня, — промолвил я, — право, я был бы так счастлив…
— Милый Жан, — снова сказала она, подходя к нему, — неужели мы не предоставим господину Дельпьеру такого счастья?
— Да… дорогая Марта!.. — повторил господин Жан, и этого коротенького «да» было вполне достаточно для всеобщей радости.
В тот момент, когда мы все трое собирались уже уходить, поскольку становилось поздно, госпожа Келлер, с чувством поцеловав Марту, сказала:
— Дочь моя, ты будешь счастлива!.. Он тебя достоин!
— Я это знаю, ведь он ваш сын, — ответила барышня Марта.
Мы вернулись домой. Ирма ожидала нас. Госпожа Келлер сообщила ей, что теперь осталось только назначить день свадьбы. Потом все отправились спать. Никогда я не спал так превосходно, беспробудным сном, как в ту ночь в доме госпожи Келлер, несмотря на то, что мне без конца снились гласные алфавита.
Глава VII
Проснулся я на следующее утро позднее обычного. Было, по крайней мере, уже семь часов. Я поспешил одеться, чтобы идти «готовить уроки» и повторить все гласные, пока очередь не дошла до согласных.
На нижних ступеньках лестницы я встретил шедшую наверх сестру Ирму.
— Я собиралась будить тебя, — сказала она мне.
— Да, сегодня я припозднился!
— Нет, Наталис, еще только семь часов. Но тебя уже кое-кто спрашивает.
— Кое-кто?
— Да… агент.
— Агент? Черт возьми, не люблю я таких визитеров! Что им от меня нужно?
Сестра казалась взволнованной. В эту минуту появился господин Жан.
— Это полицейский агент, — сказал он мне. — Будьте осторожны, Наталис, не скажите ничего такого, что может вам повредить.
— Вот это будет штука, если он знает, что я солдат! — воскликнул я.
— Это маловероятно!.. Вы приехали в Бельцинген повидать сестру, вот и все!
Впрочем, это было истинной правдой, но я решил проявить крайнюю осторожность.
Я подошел к двери и увидел агента: морда конечно же противная, весь какой-то кривой, несуразный, ноги колесом, лицо пьяницы, как говорится, непросыхающая глотка!
Господин Жан спросил по-немецки, что ему нужно.
— У вас остановился человек, прибывший вчера в Бельцинген?
— Да. Что дальше?
— Начальник полиции приказывает ему явиться в канцелярию.
— Хорошо. Он придет.
Господин Жан перевел мне этот короткий разговор. Я получил отнюдь не приглашение, а приказание явиться. Стало быть, следовало повиноваться.
Ноги колесом ушли. Так-то лучше. Мне вовсе не улыбалось шествовать по улицам Бельцингена в сопровождении этой отвратительной ищейки. Мне скажут, где находится начальник полиции, и я сумею сам найти дорогу.
— Что за тип этот начальник полиции? — спросил я господина Жана.
— Человек, не лишенный известного чутья. Вы должны остерегаться его, Наталис. Фамилия его Калькрейт. Этот Калькрейт всегда старается делать нам гадости, потому как считает, что мы слишком интересуемся Францией. Вот мы и держим его на расстоянии, и он это знает. Я не удивлюсь, если он втянет нас в какую-нибудь нехорошую историю. Так что вы следите за каждым словом.
— Отчего бы вам не пойти со мной в канцелярию, господин Жан? — спросил я.
— Калькрейт меня не вызывал, и, возможно, ему вовсе не понравится мое присутствие.
— Лопочет ли он, по крайней мере, по-французски?
— Он прекрасно говорит по-французски. Но не забывайте, Наталис, хорошенько подумать, прежде чем ответить, и не говорите Калькрейту ничего лишнего.
— Будьте покойны, господин Жан.
Мне указали дом вышеназванного Калькрейта. До него оказалось всего несколько сотен шагов. Через минуту я уже был там. Агент, стоявший в дверях, тотчас проводил меня в кабинет начальника полиции. Похоже, этот тип хотел встретить посетителя Улыбкой, ибо его губы при моем появлении растянулись от уха до уха. Затем Калькрейт пригласил меня сесть — жестом, который, по его понятию, был как нельзя более изящным.
А сам в то же время продолжал листать разложенные на столе бумаги.
Я воспользовался этим, чтобы получше разглядеть моего Калькрейта. Это был здоровый верзила ростом в пять футов восемь дюймов. Сюртук с бранденбургскими застежками[196] болтался на длинном туловище, какое мы называем пятнадцатиреберным. Худой, костлявый, с невероятной длины ногами!.. У него было пергаментное[197] лицо, которое всегда кажется грязным, даже если помыто, огромный рот, желтые зубы, приплюснутый нос, морщинистый лоб, глаза как плошки, сверкавшие из-под густых бровей; одним словом, не лицо, а прямо какая-то маска! Меня предупредили не доверять ему — рекомендация совершенно излишняя. Недоверие рождалось само собой, как только вы оказывались в его присутствии.
Кончив возиться с бумагами, Калькрейт оторвал от них нос, как свинья — от желудей, и, заговорив на чистейшем французском языке, стал допрашивать меня. Однако, желая выиграть время для обдумывания ответов, я притворился, что с трудом понимаю его. Мне даже удалось заставить его повторять каждую фразу дважды.
Вот вкратце что спрашивалось и что отвечалось во время этого, допроса:
— Ваше имя?
— Наталис Дельпьер.
— Француз?
— Француз.
— Каково ваше ремесло?
— Ярмарочный торговец.
— Ярмарочный… Ярмарочный?.. Объясните… Я не понимаю, что это значит!
— Ну… Я объезжаю ярмарки, рынки… чтобы купить… чтобы продать! Короче — ярмарочный, и все!
— Теперь вы прибыли в Бельцинген?
— Как видите.
— С какой целью?
— Повидаться с сестрой, Ирмой Дельпьер, которую я не видел тринадцать лет.
— Ваша сестра — француженка, которая служит в семействе Келлер?..
— Именно так, как вы говорите!
Тут в вопросах начальника полиции наступила небольшая пауза. Затем Калькрейт продолжил:
— Итак, ваше путешествие в Германию не имеет другой цели?
— Никакой.
— А как вы собираетесь возвращаться?..
— Я просто-напросто отправлюсь тем же путем, которым прибыл.
— И прекрасно сделаете. А через какой примерно срок вы намереваетесь уехать отсюда?
— Когда сочту это нужным. Разве иностранец не может приехать в Пруссию и уехать, когда ему заблагорассудится?
— Не всегда! — При этих словах Калькрейт метнул в меня злой взгляд. Мои ответы, несомненно, казались ему более вольными, чем это полагалось. Однако взгляд его был лишь молнией, гром же еще не грянул.
«Стой-ка! — подумал я про себя. — У этого малого вид плута, который, как говорят наши пикардийцы, собирается тебя нагреть! Теперь-то надо быть настороже!»
Спустя минуту Калькрейт снова принялся за допрос и, заговорив слащавым голосом, спросил:
— За сколько дней вы добрались из Франции в Пруссию?
— За девять дней.
— А каким путем следовали?
— Кратчайшим и в то же время лучшим.
— Могу ли я поточнее узнать, где именно вы проследовали?
— Сударь, — спросил тут я, — к чему все эти вопросы?
— Господин Дельпьер, — сухо ответил Калькрейт, — мы, в Пруссии, имеем обыкновение допрашивав всех посещающих нас иностранцев. Это полицейская формальность, от которой вы, разумеется, не намереваетесь уклониться?
— Ладно! Я следовал вдоль границы Нидерландов, через Брабант, Вестфалию, Люксембург, Саксонию…[198]
— Вы, стало быть, сделали большой крюк?
— Почему?
— Потому что прибыли в Бельцинген по тюрингской дороге.
— Верно, по тюрингской. — Я понял, что в своем любопытстве он хорошо знал, куда клонит. Надо было не попасться.
— Не могли бы вы мне сказать, в каком пункте вы перешли французскую границу? — спросил он.
— В Турне.
— Странно.
— Что же тут странного?
— А то, что вас заметили следовавшим по цербстской дороге.
— Это объясняется крюком, который я сделал.
По всей видимости, за мной следили, и шпионом, конечно, был хозяин постоялого двора «Этквенде». Помнится, этот человек видел, как я прибыл, когда сестра поджидала меня на дороге. В общем, было как нельзя более ясно, что Калькрейт хочет выудить у меня сведения, касающиеся Франции. Так что я насторожился еще больше.
Он снова заговорил:
— Стало быть, вы не встретили немцев со стороны Тионвиля?
— Нет.
— И вам ничего не известно о генерале Дюмурье?[199]
— Не имею понятия.
— И ничего о движении французских войск, собранных на границе?
— Ничего.
Тут выражение лица Калькрейта изменилось, и голос его стал повелительным.
— Берегитесь, господин Дельпьер! — сказал он.
— Чего? — осведомился я.
— Сейчас неблагоприятное время для путешествий иностранцев по Германии, особенно если они французы; мы не любим, когда к нам являются смотреть, что у нас тут делается…
— Но сами вы не прочь узнать о том, что делается у других? Я не шпион, сударь!
— Надеюсь, это в ваших же интересах, — ответил Калькрейт угрожающим тоном. — Я буду наблюдать за вами. Вы француз. Вы уже нанесли визит в дом француза господина де Лоране. Вы остановились в доме семейства Келлер, сохранившего связи с Францией. При нынешних обстоятельствах этого достаточно, чтобы находиться под подозрением.
— Разве я не волен был приехать в Бельцинген?
— Вполне.
— Разве Германия и Франция воюют между собой?
— Еще нет. Скажите, господин Дельпьер, у вас, похоже, хорошее зрение?
— Превосходное!
— Ну так я вам советую не слишком им пользоваться!
— Это почему?
— Потому что, когда смотрят — видят, а когда видят, появляется искушение рассказать об увиденном!
— Еще раз повторяю вам, сударь, я не шпион!
— А я еще раз вам отвечаю, что надеюсь, иначе…
— Иначе?..
— Вы вынудите меня препроводить вас обратно на границу, если только…
— Если только?..
— Если только мы, дабы избавить вас от тягот путешествия, не сочтем нужным сами обеспечить вас пищей и жилищем на более или менее длительный срок!
С этими словами Калькрейт жестом дал мне понять, что я могу уходить. На этот раз жест этот был сделан не ладонью, а кулаком. Не имея ни малейшего желания оставаться дольше в полицейской канцелярии, я круто повернулся на каблуках, сделав это, пожалуй, слишком по-военному. И я отнюдь не уверен, что эта скотина не заметила этого.
Я вернулся в дом госпожи Келлер. Теперь я был предупрежден. Меня не будут выпускать из пиля зрения.
Господин Жан ждал меня. Я подробно передал ему свой разговор с Калькрейтом, и он нашел, что мне угрожает опасность.
— Это меня ничуть не удивляет, — заметил господин Жан, — и вы на этом не покончили с прусской полицией! Не только для вас, Наталис, но и для нас я опасаюсь в будущем осложнений.
Глава VIII
Между тем в работе и прогулках дни проходили очень приятно. Мой молодой учитель имел возможность убедиться в моих успехах. Гласные уже крепко засели у меня в голове. Мы принялись за согласные. Некоторые из них доставили мне порядочно хлопот — особенно последние по алфавиту. Но в общем и целом дело шло на лад. Скоро я должен был начать составлять буквы в слова. Похоже, у меня были неплохие способности… для тридцатилетнего!
От Калькрейта ничего нового не было. Никаких приказов мне явиться в канцелярию не поступало. За нами, по всей вероятности, следили, особенно за вашим покорным слугой, хотя мой образ жизни не давал никакого повода для подозрений. Таким образом, я полагал, что отделаюсь первым предупреждением и что начальник полиции не будет брать на себя заботу ни о моем жилье, ни о моем выдворении.
На следующей неделе господину Жану понадобилось отлучиться на несколько дней. Он должен был съездить в Берлин из-за своего проклятого процесса. Он хотел покончить с ним во что бы то ни стало, так как этого требовали обстоятельства. Как его примут в Берлине? Не вернется ли он обратно, даже не добившись назначения срока судебного разбирательства? Не стараются ли там выиграть время? Именно этого и приходилось опасаться.
По совету Ирмы я во время отсутствия господина Жана взялся наблюдать за поведением Франца фон Граверта. Впрочем, так как Марта вышла из дому лишь однажды, чтобы сходить в церковь, то ей не пришлось столкнуться с лейтенантом. Тот несколько раз в день показывался возле дома господина де Лоране, то вразвалку проходя мимо и поскрипывая сапогами, то гарцуя на лошади. Великолепное животное, как, впрочем, и его хозяин! Однако всегда решетки ограды бывали закрыты, как и двери дома… Воображаю, как это его злило! Вот потому-то и следовало поторопиться со свадьбой.
Именно ради этого господин Жан в последний раз поехал в Берлин. Он решил, что бы там ни случилось, назначить день свадебной церемонии тотчас по возвращении в Бельцинген.
Господин Жан уехал 18 июня. Он должен был вернуться только 21-го. Я тем временем продолжал усердно работать. Госпожа Келлер заменила на уроках сына. Она проявляла ко мне завидную снисходительность. Можно себе представить, с каким нетерпением мы ожидали возвращения уехавшего! Действительно, обстоятельства поджимали. Читатель сможет судить об этом из тех подробностей, которые я узнал уже потом и которые изложу сейчас, не давая своей оценки, ибо когда речь заходит о политических тонкостях, я (охотно признаюсь в этом) ничего здесь не смыслю.
В 1790 году французские эмигранты нашли убежище в Кобленце[200]. В прошлом, 1791-м, году король Людовик XVI, приняв Конституцию, объявил об этом иностранным державам. Англия, Австрия и Пруссия в ответ торжественно объявили о своих дружественных намерениях. Но можно ли было доверять им! Эмигранты же не переставали подталкивать дело к войне. Они закупали оружие, готовили кадры. Вопреки приказанию короля вернуться во Францию они не прекращали своих военных приготовлений. Несмотря на то, что Законодательное собрание потребовало от выборщиков Трира, Майнца и от других принцев Империи рассеять скопления эмигрантов на их границе, последние все же оставались там, готовые повести за собой захватчиков.
И тогда на востоке сформированы были три армии и организованы таким образом, чтобы они могли иметь постоянную связь между собой.
Граф де Рошамбо, бывший мой генерал, отправился во Фландрию принять командование Северной армией, Лафайет — командование Центральной армией в Меце, а Люкнер — Эльзасской армией, составивших вместе примерно двести тысяч человек, как сабель, так и штыков. Что же касается эмигрантов, то у них не было оснований отказываться от своих планов и подчиняться требованиям короля, поскольку им на помощь собирался прийти Леопольд Австрийский.
Так обстояло дело в 1791 году. В 1792 же году произошло следующее.
Во Франции якобинцы[201] во главе с Робеспьером[202] горячо выступали против войны. Их поддерживали кордельеры[203], боявшиеся учреждения военной диктатуры; жирондисты[204] же, напротив, в лице Луве и Бриссо требовали этой войны во что бы то ни стало, с тем чтобы вынудить короля раскрыть свои намерения.
Тогда-то на сцене и появился Дюмурье, осуществлявший командование войсками в Вандее и Нормандии. Его призвали послужить стране своим военным и политическим гением. Он принял предложение и тотчас же составил план кампании: это будет наступательная и оборонительная война одновременно. С ним можно было быть уверенным, что дела пойдут без проволочек.
Однако Германия пока еще не шевелилась. Ее войска не угрожали французской границе, а власти даже неоднократно утверждали: нет ничего, что нанесло бы больший ущерб интересам Европы, чем война.
Леопольд Австрийский тем временем умер. Что станет делать его преемник? Будет ли он сторонником умеренности? Нет, в Вене появилась нота, требовавшая восстановления монархии на основе Королевской декларации 1789 года.
Как и следовало ожидать, Франция не могла подчиниться подобному требованию, переходившему всякие границы. Реакция во Франции на эту ноту оказалась бурной. Людовик XVI вынужденно предложил в Национальном собрании объявить войну Франциску I, королю Венгрии и Богемии. Этот вопрос решили положительно, собираясь нанести удар Франциску I прежде всего в его владениях в Бельгии.
А потому Бирон не замедлил захватить Киеврен, и уже можно было надеяться, что ничто не остановит порыва французских войск, как вдруг под Монсом случилась паника, изменившая всю ситуацию. Солдаты, крича об измене, расправились с двумя офицерами — Дильоном и Бертуа.
Узнав об этом трагическом происшествии Лафайет счел нужным остановить продвижение войск на Живе.
Все это происходило в конце апреля, до моего отъезда из Шарлевиля. Как видите, в тот момент Германия еще не находилась в состоянии войны с Францией.
Тринадцатого июня Дюмурье был назначен военным министром. Мы узнали об этом в Бельцингене до возвращения господина Жана из Берлина. Известие чрезвычайной важности! Теперь легко было предположить, что события изменят свой характер и положение дел прояснится. Действительно, если Пруссия до сих пор соблюдала строгий нейтралитет, то теперь можно было опасаться, как бы она не нарушила его с минуты на минуту. Уже шли толки о восьмидесятитысячном войске, двигающемся к Кобленцу.
В то же время в Бельцингене распространился слух, что командование этими старыми верными солдатами Фридриха Великого[205] будет поручено генералу, пользовавшемуся в Германии определенной известностью, — герцогу Брауншвейгскому.
Понятно, какое впечатление произвело подобное известие еще до того, как оно подтвердилось. Вдобавок всюду постоянно осуществлялось движение войск.
Я многое бы отдал, чтобы увидеть, как лейб-полк, полковник фон Граверт, его сын Франц отправятся к границе. Что избавило бы нас от этих особ. К несчастью, полк не получал такого приказа. А потому лейтенант продолжал разгуливать по улицам Бельцингена, преимущественно перед запертым домом господина де Лоране.
Что касается меня, то мое положение заставляло призадуматься.
Правда, я был в законном отпуске, и притом в стране, еще не разорвавшей отношения с Францией. Но разве мог я забыть, что принадлежу к Королевскому пикардийскому полку и что мои товарищи стоят гарнизоном в Шарлевиле, почти на самой границе?
Разумеется, в случае столкновения с войсками Франциска Австрийского или Фридриха-Вильгельма Прусского Королевский пикардийский окажется одним из первых под неприятельскими выстрелами. И я буду в отчаянии, если не окажусь там вовремя, чтобы отплатить врагу сторицей.
Таким образом, я начинал серьезно беспокоиться. Однако держал тревожные мысли при себе, не желая огорчать ни госпожу Келлер, ни сестру, хотя не знал, на каком решении остановиться.
И наконец, в этих условиях положение французов в Германии оказывалось сложным. Сестра понимала это и в отношении себя самой. Конечно, по своей воле она никогда бы не согласилась расстаться с госпожой Келлер. Но ведь могло статься, что против иностранцев примут меры? А вдруг Калькрейт предложит нам в двадцать четыре часа покинуть Бельцинген?
Вполне понятно поэтому, как велико было наше беспокойство. Но оно было не меньшим, когда мы думали о положении господина де Лоране. Если его обяжут выехать с немецкой территории, то какое опасное путешествие предстоит ему с внучкой по воюющей стране! А свадьба, которая еще не состоялась, — где и когда она состоится? Успеют ли отпраздновать ее в Бельцингене? Право, теперь ни на что нельзя было рассчитывать.
Тем временем каждый день через город, направляясь в Магдебург[206], проходили войска: пехота, кавалерия, преимущественно уланы; за войсками следовали обозы с порохом и снарядами, целые сотни экипажей. Слышались несмолкаемый грохот барабанов, звуки труб. Тем временем на главной площади города часто устраивались многочасовые привалы. И тогда начинались хождения взад и вперед, возлияния целыми стаканами шнапса и киршвассера[207], так как жара уже стояла невыносимая.
Понятно, что я не мог удержаться, чтобы не ходить туда и не смотреть, хотя это могло не понравиться господину Калькрейту и его агентам. Если я был свободен, то, заслышав сигналы или барабанный бой, непременно выбегал из дома. Я сказал — «если был свободен», так как если бы госпожа Келлер давала мне в это время урок чтения, я ни за что на свете не прервал бы его.
Только в часы перерывов я выскальзывал за дверь, шел, ускоряя шаг, туда, где проходили войска, следовал за ними до главной площади и там смотрел… смотрел, хотя Калькрейт предписывал мне ничего не видеть.
Короче говоря, если войсковые передвижения вызывали мор любопытство как солдата, то как француз я вправе был сказать: «Да! Не к добру все это!» Было очевидно, что враждебные действия не замедлят начаться.
Двадцать первого июня господин Жан вернулся из Берлина. Как и следовало ожидать, поездка оказалась напрасной! Процесс все еще не двигался с места. И невозможно было предугадать, ни каков будет его результат, ни даже когда он завершится вообще. Дело безнадежное.
Относительно остального господин Жан по тем разговорам, что ему довелось слышать, вынес убеждение, что Пруссия вот-вот объявит Франции войну.
Глава IX
На другой день, как и во все последующие дни, мы с господином Жаном жили в ожидании новостей. Все должно было разрешиться через неделю или чуть больше. 21, 22 и 23 июня через Бельцинген все еще проходили войска, и с ними даже один генерал со своим штабом, про которого мне сказали, что это граф Кауниц. Вся эта масса солдат направлялась в сторону Кобленца, где их ждали эмигранты. Пруссия, подавшая руку помощи Австрии, больше не скрывала, что она выступает против Франции.
Итак, было очевидно, что мое положение в Бельцингене с каждым днем становится все тревожнее. Положение семейства де Лоране, равно как и моей сестры, в случае войны было бы, конечно, не лучше. Проживание в Германии в подобных условиях создавало им не только неудобства, но реальную опасность, и нужно было готовиться к любым неприятностям.
Я часто говорил с сестрой об этом. Доброе создание тщетно старалось скрыть свое беспокойство. Страх разлучиться с госпожой Келлер не давал ей покоя. Покинуть эту семью?! Ей никогда не приходило на ум, что будущее может сулить такое несчастье! Расстаться со своими любимыми людьми, подле которых, как ей казалось, должна пройти вся ее жизнь, представить себе, что она, возможно, никогда больше не сможет увидеть их, если обстоятельства сложатся плохо, — эта мысль огорчала ее до глубины души.
— Я этого не переживу, — повторяла она, — нет, Наталис, я не переживу этого!
— Я понимаю тебя, Ирма, — отвечал я, — положение очень трудное, но нужно сделать все, чтобы выйти из него. Посмотрим, нельзя ли уговорить госпожу Келлер покинуть Бельцинген, ведь теперь у нее нет причин держаться за эту страну? Я даже считаю благоразумным принять такое решение, пока ситуация окончательно не ухудшилась.
— Это было бы благоразумно, Наталис, но госпожа Келлер ни за что не согласится уехать без сына.
— А почему бы господину Жану не отправиться с нею? Что удерживает его в Пруссии? Дела, которые надо устроить?.. Он устроит их потом! Этот бесконечный процесс?.. Да ведь при нынешних обстоятельствах исхода его придется ждать еще месяцы и месяцы!
— Вероятно, так, Наталис.
— Впрочем, меня беспокоит главным образом то, что брак господина Жана и барышни Марты еще не заключен! Кто знает, какие препятствия, какие проволочки могут возникнуть? Как только французов начнут изгонять из Германии (что весьма вероятно), господину де Лоране с внучкой придется выехать в двадцать четыре часа! И тогда какой тяжелой станет для этих молодых людей разлука! Если же брак будет заключен, то господин Жан либо увезет жену во Францию, либо, если он будет принужден остаться в Бельцингене, она, по крайней мере, останется здесь с ним вместе!
— Ты прав, Наталис.
— На твоем месте, Ирма, я обратился бы с этим к госпоже Келлер, она поговорит с сыном, со свадьбой поторопятся, и тогда можно будет спокойно ожидать дальнейшего развития событий.
— Да, — отвечала Ирма, — надо, чтобы этот брак был заключен без промедления. Впрочем, возражений со стороны барышни Марты не предвидится!
— Разумеется нет! Она замечательная девушка! И потом, иметь такого мужа, как господин Жан, — это для нее надежная опора! Ты только представь себе, Ирма, что ей придется оставить Бельцинген и проехать через кишащую войсками Германию одной со своим уже старым дедушкой! Что с ними обоими станется?.. Нет, что ни говори, а надо скорее кончить дело, не дожидаясь, пока это станет невозможным!
— А этот офицер, — спросила меня сестра, — ты его встречаешь где-нибудь?
— Почти каждый день, Ирма. Это просто несчастье, что его полк все еще стоит в Бельцингене! Я бы хотел, чтобы о свадьбе барышни Марты узнали только после их отъезда!
— В самом деле, так было бы лучше.
— Я боюсь, что, узнав о свадьбе, этот Франц выкинет какую-нибудь штуку! Господин Жан — такой человек, который не преминет поставить его на место, и тогда… Одним словом, я беспокоюсь!
— И я тоже, Наталис! Надо как можно скорее обвенчать их. Придется еще выполнить кое-какие формальности, а я все время боюсь, как бы не пришли плохие вести.
— Так поговори с госпожой Келлер.
— Сегодня же!
— Да, важно поспешить, возможно, что уже и так слишком поздно!
Действительно, в эти самые дни произошло событие, которое, несомненно, могло заставить Пруссию и Австрию ускорить вторжение. Речь идет о покушении, совершенном 20 июня в Париже, слух о котором намеренно широко распространялся агентами обеих союзных держав.
Двадцатого июня был захвачен дворец Тюильри. Чернь под предводительством Сантерра, продефилировав перед Законодательным собранием, ринулась во дворец Людовика XVI. Разрубленные топором двери, выломанные железные решетки, пушки, втащенные на второй этаж, — все говорило о том, до какого насилия могут дойти мятежники. Спокойствие короля, его хладнокровие и смелость спасли его самого, жену, сестру и двоих детей. Но какой ценой? Королю пришлось надеть на голову красный колпак[208].
Разумеется, среди сторонников монархии, как и среди сторонников конституции, это нападение на дворец рассматривалось как преступление. Однако король все же оставался королем. Ему еще оказывались кое-какие почести. Но то были все равно что мертвому припарки. И долго ли это продлится? Самые легкомысленные люди не дали бы ему и двух месяцев правления — после всех этих угроз и оскорблений. И, как известно, они бы не ошиблись, так как шесть недель спустя, 10 августа, Людовик XVI был изгнан из Тюильри, низложен с престола и заключен в замок Тампль, откуда ему суждено было выйти, лишь чтобы сложить голову на площади Революции!
Если впечатление от этого посягательства на власть как в Париже, так и во всей Франции было велико, то трудно себе представить, как огромно оно было за границей. В Кобленце раздались вопли отчаяния, ненависти и мести, и немудрено, что отзвук их дошел даже до того уголка Пруссии, в котором томились мы. И стоило эмигрантам подняться в поход, а сторонникам Империи (как их тогда назвали) выступить в их поддержку, как разразилась бы кровопролитная война.
В Париже думали об этом. А потому были приняты энергичные меры, чтобы приготовиться к любым событиям. В короткий срок образовалась организация федералистов. Так как патриоты считали короля и королеву ответственными за угрожавшее Франции нашествие, комиссия Собрания приняла решение, что вся нация вооружится и будет действовать самостоятельно, без вмешательства властей.
А что нужно, чтобы возник такой всеобщий подъем? Воодушевляющий клич, обращение Законодательного собрания: «Отечество в опасности!»[209]
Это мы с необычайным волнением узнали через несколько дней после возвращения господина Жана.
Новости распространились по городу утром 23 июня. Теперь в любое время можно было ожидать сообщения, что Пруссия ответила Франции объявлением войны. По всей стране происходило чрезвычайное движение. Во весь опор мчались нарочные, курьеры. Шел постоянный обмен депешами между войсковыми корпусами, шедшими маршем на запад Германии, и теми, что шли с востока. Поговаривали также, что к войскам сторонников Империи должны присоединиться сардинцы[210], что они уже выступили и угрожают границе. Вот несчастье! Это было слишком похоже на правду!
Происходившее повергало семейства Келлер и де Лоране в глубочайшую тревогу. Лично мое положение становилось все более сложным. Все это чувствовали, и если я не распространялся об этом, то исключительно потому, что не хотел усугублять тревоги, и без того мучившей оба семейства.
Короче говоря, времени терять не стоило. Поскольку со свадьбой все решили, надо было сыграть ее без промедления.
В тот день все обговорили, причем спешно. По общему согласию остановились на дате 29 июня. Этого срока было вполне достаточно, чтобы выполнить формальности, в ту пору весьма простые. Обряд должен был совершиться в церкви, в обязательном присутствии свидетелей из числа лиц, связанных тесными отношениями с семействами Келлер и де Лоране. Мне надлежало быть одним из таких свидетелей. Какая большая честь для сержанта!
Договорились действовать как можно более скрытно. О том, что должно произойти, не будет сказано никому, кроме свидетелей, присутствие которых необходимо. В эти смутные времена надо было стараться не привлекать к себе внимания. Калькрейт сразу бы сунул нос в это дело. Кроме того, существовал лейтенант Франц, способный от злости выкинуть любой номер. Так что могли возникнуть осложнения, а их следовало во что бы то ни стало избегать.
Что касается приготовлений к свадьбе, то они заняли бы немного времени. Все будет очень просто, без всяких торжеств, которые в другое, менее тревожное, время, конечно, устроили бы с большим удовольствием. Теперь же состоится только обряд венчания, свадебного угощения не будет.
И поспешать, не теряя ни часа! Не то было время, чтобы применять нашу старую пикардийскую поговорку «тише едешь — дальше будешь». Угроза нависла такая, что, если ехать тише, проезд вообще мог оказаться закрытым!
Тем временем, несмотря на принятые меры предосторожности, наша тайна выплыла наружу. Конечно же соседи (ох уж эти провинциальные соседи!) весьма интересовались происходившим в обоих домах. Разумеется, больше обычного было туда и сюда визитов. Это возбудило любопытство.
Кроме того, Калькрейт также не упускал нас из поля зрения. Его агенты, несомненно, получили приказ зорко следить за нами. Теперь, возможно, все не так-то легко устроится.
Но огорчительнее всего было то, что слух о свадьбе дошел до лейтенанта фон Граверта.
Ирма случайно узнала это от служанки госпожи Келлер. Офицеры лейб-полка толковали о свадьбе на главной площади.
Когда лейтенант услыхал новость, он страшно разъярился и заявил своим товарищам, что свадьба не состоится; для него все средства будут хороши, чтобы помешать этому!
Я надеялся, что господин Жан ничего не узнает. К несчастью, слова офицера были ему переданы. Говоря со мною об этом, он не мог сдержать гнева. Мне стоило большого труда успокоить его. Он намерился пойти к лейтенанту Францу, потребовать от него объяснений, хотя было сомнительно, чтобы армейский офицер дал их какому-то штатскому!
Наконец мне удалось успокоить его, дав ему понять, что такой поступок может все испортить.
Господин Жан сдался. Он обещал мне больше не обращать внимания на речи лейтенанта, каковы бы они ни были, и занялся исключительно приготовлениями к свадьбе.
День 25 июня прошел спокойно. Оставалось ждать всего четыре дня. Я считал часы и минуты. Заключив этот союз, можно было бы приняться за решение другого важного вопроса — об окончательном отъезде из Бельцингена.
Но над нашими головами уже собиралась гроза, и гром грянул вечером того же дня. Около девяти часов пришло ужасное известие.
Глава X
Пруссия объявила Франции войну. Это был первый нанесенный нам тяжелый удар, за ним последуют другие, еще более тяжкие. Но не будем забегать вперед и подчинимся воле Провидения, как говорит наш кюре[211] с высоты своей ступки (так издевательски называют церковную кафедру пикардийцы).
Итак, Франции объявлена война, и я, француз, оказался во вражеской стране! Если пруссаки не знали о том, что я солдат, то я лично сознавал всю тяжесть своего положения. Долг предписывал мне тайно или открыто, не важно — каким способом, покинуть Бельцинген и как можно скорее занять свое место в рядах полка. Теперь уж не могло быть и речи ни об отпуске, ни о тех шести неделях, которые мне еще оставались. Королевский пикардийский полк стоял в Шарлевиле, всего в нескольких милях от французской границы. Он, вероятно, примет участие в самых первых схватках. Мне надлежало быть там.
Но что станет с моей сестрой, господином де Лоране и барышней Мартой? Ведь их национальность может повлечь очень серьезные последствия. Немцы грубы от природы и, когда разгораются страсти, не церемонятся. Я содрогаюсь от ужаса при мысли о том, что Ирма, барышня Марта и ее дедушка отправятся в путь через Верхнюю и Нижнюю Саксонию[212] в момент, когда по ним движутся прусские войска.
Им оставалось одно: отправиться вместе со мною, воспользоваться случаем, чтобы вернуться во Францию, причем немедленно и самым кратчайшим путем. На мою преданность им можно было рассчитывать. Если к нам, сопровождая свою мать, присоединится и господин Жан, то, как мне кажется, нам все же удастся выбраться из пекла.
Вот только примут ли такое решение госпожа Келлер с сыном? Мне все представлялось вполне просто. Разве госпожа Келлер не являлась француженкой? Разве господин Жан не был наполовину француз — по матери? Он мог не опасаться, что им окажут плохой прием по ту сторону Рейна[213], особенно когда его как следует узнают. Итак, по-моему, колебаться было нечего. Сегодня 26 июня. Свадьба должна состояться 29-го. Больше не будет причины оставаться в Пруссии, и мы на другой же день сможем покинуть Бельцинген. Правда, нужно было подождать еще три дня — целых три столетия, на которые мне следовало запастись терпением. Ах, как жаль, что господин Жан и барышня Марта еще не обвенчаны!
Все это так! Однако этот брак, которого все мы так желали, который я видел в своих мечтах… был ли этот брак немца с француженкой возможен теперь, когда между двумя государствами объявлена война?..
Честно говоря, я не осмеливался взглянуть правде в глаза, да и не я один сознавал всю серьезность ситуации. В данный момент в обеих семьях тщательно избегали говорить на эту тему. Все чувствовали навалившуюся на нас давящую тяжесть. Что-то будет?.. Теперь я не мог представить себе, какой оборот примут события, и изменить их ход было не в нашей власти!
Двадцать шестого и двадцать седьмого июня ничего нового не произошло. Через город по-прежнему проходили войска. Только мне показалось, что полиция усилила наблюдение за домом госпожи Келлер. Несколько раз я повстречал агента Калькрейта — ноги колесом. Он бросал на меня взгляды, за которые непременно получил бы хорошую оплеуху, если бы я не боялся осложнить наши дела. Это наблюдение не давало мне покоя. Его объектом являлся главным образом я. Поэтому я был как на иголках, да и семью Келлер тревожили те же переживания, что и меня.
Было заметно, что барышня Марта частенько плачет. Что касается господина Жана, то чем больше он сдерживался, тем больше страдал. Я наблюдал за ним. Он становился все мрачнее. Молчал в нашем присутствии. Держался в стороне. Во время визитов к господину де Лоране его словно угнетала какая-то мысль, которую он не решался высказать, иногда казалось, что он вот-вот заговорит, но он только еще плотнее сжимал губы.
Вечером 28 июня мы сидели в гостиной господина де Лоране.
Собраться нас всех попросил господин Жан. Он хотел, как он сказал, сообщить нам нечто, не терпящее отлагательства.
Мы пробовали говорить о том о сем, но разговор не клеился. В воздухе висело тяжелое предчувствие — предчувствие, которое всех нас томило, как я уже заметил, с момента объявления войны.
В самом деле, объявление войны усугубило и без того существовавший барьер между двумя нациями. В глубине души мы все хорошо понимали это, но больше всех это обстоятельство задевало господина Жана.
Хотя то был канун свадьбы, никто не заговаривал о ней.
Тем не менее, если ничего не изменится, Жан Келлер и барышня Марта завтра отправятся в церковь, чтобы войти туда женихом и невестой, а выйти мужем и женой, связанными брачными узами на всю жизнь!.. Но обо всем об этом — ни единого слова!
Марта встала, подошла к господину Жану, стоявшему в углу комнаты, и с волнением в голосе, которое тщетно старалась скрыть, спросила:
— Так что же случилось?
— Марта! — воскликнул господин Жан с таким глубоким отчаянием, что ранил мне сердце.
— Говорите, Жан, говорите, — продолжала Марта, — как бы горько ни было то, что вы собираетесь сказать!
Господин Жан поднял голову. Он почувствовал себя заранее понятым.
Нет! Проживи я сто лет, я и тогда не забуду этой сцены во всех подробностях!
Господин Жан, стоя перед невестой и держа ее руку в своей, сделал над собой усилие и промолвил:
— Марта! Пока между Германией и Францией не была объявлена война, я мог мечтать сделать вас своей женой. А сегодня мое отечество и ваше вот-вот вступят в борьбу друг с другом, и теперь отрывать вас от вашей родины, от вашей французской нации женитьбой на вас… я уже не смею… я не имею на это права!.. Я бы потом всю жизнь каялся в этом!.. Вы понимаете меня… Я не могу…
Как это уразуметь? Бедный господин Жан! Он не находил слов! Но ему необходимо было говорить, чтобы заставить себя понять!
— Марта, — продолжил он, — скоро нас будет разделять пролитая кровь — ваша, французская, кровь!..
Госпожа Келлер, выпрямившись в кресле и опустив глаза, не осмеливалась взглянуть на сына. Легкое дрожание губ, судорожно сжатые пальцы — все говорило о том, что ее сердце готово разорваться.
Господин де Лоране уронил голову на руки. Из глаз моей сестры текли слезы.
— Те, к кому я принадлежу по национальности, — снова заговорил господин Жан, — пойдут на Францию, на страну, которую я так люблю!.. И, кто знает, не буду ли и я вскоре призван встать в их ряды…
Он не докончил. Его грудь вздымалась от душивших его рыданий, которые он сдержал нечеловеческим усилием, ибо мужчине не подобает плакать.
— Говорите, Жан, — сказала барышня де Лоране, — говорите, пока я еще в силах вас слушать!
— Марта, — отвечал он, — вы знаете, как я люблю вас!.. Но вы француженка, и я не имею права сделать вас немкой, сделать вас противницей…
— Жан, — промолвила барышня Марта, — я тоже люблю вас! И что бы ни случилось в будущем, чувства мои не изменятся! Я люблю вас… и всегда буду вас любить!
— Марта, — воскликнул господин Жан, упав к ее ногам, — дорогая Марта, слышать от вас это и не мочь сказать вам: «Да, завтра мы идем в церковь! Завтра вы будете моею женой, и ничто уже не разлучит нас!» Нет… это невыносимо!..
— Жан, — сказал ему господин де Лоране, — то, что кажется невозможным теперь…
— …станет возможным потом! — воскликнул господин Жан. — Да, господин де Лоране!.. Эта отвратительная война кончится! Тогда я вновь обрету вас, Марта!.. И смогу с чистой совестью назваться вашим мужем!.. О, как я страдаю!..
И, поднявшись с колен, несчастный закачался, готовый рухнуть.
Марта приникла к нему и голосом, преисполненным нежности, проговорила:
— Жан, я могу сказать вам только одно! Когда бы мы ни встретились, вы найдете меня такой же, как сейчас!.. Я понимаю чувства, заставляющие вас поступить таким образом!.. Да, я вижу: между нами в данную минуту — пропасть!.. Но, клянусь Богом, если я не буду вашей, то никогда не буду ничьей… Никогда!
Госпожа Келлер в неудержимом порыве привлекла Марту в свои объятья.
— Марта, — сказала она, — поступок моего сына делает его еще более достойным тебя! Да… потом… уже не в этой стране, из которой я хотела бы уехать, а во Франции… мы снова увидимся! Ты станешь мне дочерью… моей настоящей дочерью! И если сын мой — немец, то ты заставишь его простить мне это!
Госпожа Келлер произнесла эти слова с таким отчаянием в голосе, что господин Жан прервал ее, бросившись к ней и воскликнув:
— Мама!.. Мама!.. Мне не в чем упрекнуть тебя!.. Разве я изверг…
— Жан! — сказала Марта. — Ваша мать — это и моя тоже!
Госпожа Келлер открыла свои объятия, прижав к сердцу их обоих. Если обстоятельства помешали свершиться браку в глазах людей, поскольку сделали его невозможным, то перед Богом, по крайней мере, он был заключен. Теперь оставалось только сделать последние приготовления, чтобы отправиться в путь.
И действительно, в тот вечер было окончательно решено, что мы покинем Бельцинген, Пруссию и эту Германию, где объявление войны делало положение французов невыносимым. Процесс теперь уже не мог удерживать семейство Келлер. Впрочем, очевидно, что судебное разбирательство затянется до бесконечности, а ждать мы не могли.
Порешили еще вот что. Господин и барышня де Лоране, моя сестра и я — мы будем возвращаться на родину. На этот счет — никаких колебаний, поскольку все мы являемся французами. А вот госпоже Келлер с сыном обстоятельства диктовали, пока длится эта гнусная война, пребывание за границей. Ведь во Франции они могли, в случае если наша страна будет захвачена союзниками, столкнуться с пруссаками. Так что они решили найти прибежище в Нидерландах и там ожидать исхода событий. Но само собой разумеется, что выехать мы должны все вместе и расстаться только на французской границе.
Договорившись обо всем этом, мы назначили отъезд на 2 июля, поскольку приготовления к нему требовали нескольких дней.
Глава XI
С этого момента обе семьи почувствовали некоторое облегчение. У проглоченного куска, как говорится, уже нет вкуса. Господин Жан и барышня Марта находились в положении супругов, вынужденных временно расстаться. Самую опасную часть путешествия, то есть переезд через Германию, кишащую войсками на марше, они совершат вместе. Потом расстанутся до самого окончания войны. Тогда никто еще не предвидел, что война эта была началом долгой борьбы со всей Европой, борьбы, которую потом в течение нескольких лет со славой продолжала Французская империя и которой суждено было окончиться победой соединившихся в коалицию против Франции держав!
Что касается меня, то я наконец получил возможность вскоре присоединиться к своему полку и надеялся поспеть вовремя, чтобы сержант Наталис Дельпьер оказался на посту, когда придется сражаться с солдатами Пруссии и Австрии.
Приготовления к отъезду должны были также, насколько возможно, производиться в секрете. Очень важно было не привлекать к себе внимания, особенно полицейских агентов. Лучше было покинуть Бельцинген так, чтобы никто не узнал об этом — береженого Бог бережет, как говорится.
Я полагал, что уже никакие препятствия не могут нас задержать, но не принял во внимание нашего гостя. Я сказал «нашего гостя», однако сам-то я ни за что не дал бы ему приют, даже за два флорина за ночь, ибо речь идет о лейтенанте Франце.
Как я уже сказал выше, несмотря на все предосторожности, слухи о свадьбе господина Келлера и барышни Марты распространились по городу; но то, что свадьба прямо накануне отложена на неопределенное время, никому еще не было известно.
А потому лейтенант продолжал думать, что свадьба скоро состоится, и нам следовало опасаться, как бы он не привел своих угроз в исполнение.
В сущности, у Франца фон Граверта был только один способ помешать браку — это спровоцировать господина Жана, вызвать на дуэль и либо ранить, либо убить его.
Но была ли его ненависть настолько сильна, чтобы побудить прусского офицера, забыв свое положение и знатность происхождения, унизиться до дуэли с господином Жаном Келлером?
Однако пусть читатель не беспокоится: если дело дойдет до этого, господин Жан сумеет ответить как подобает. Только вот в тех обстоятельствах, в которых мы находились, готовясь покинуть прусскую территорию, следовало опасаться последствий такой дуэли. Я не переставал беспокоиться по этому поводу. Мне передавали, что лейтенант все еще никак не может успокоиться. А потому я боялся, как бы он чего-нибудь не выкинул.
Какое несчастье, что лейб-полк до сих пор не получил приказа покинуть Бельцинген! Тогда полковник с сыном были бы уже далеко, где-нибудь под Кобленцем или Магдебургом. Я бы тогда вздохнул свободнее, моя сестра — тоже, ибо она разделяла мои опасения. Десять раз на дню проходил я мимо казармы, чтобы увидеть, нет ли каких-нибудь приготовлений к предстоящему маршу. Мне в глаза бросился бы даже мельчайший признак. Однако до сих пор ничто не говорило о скорой отправке…
Все оставалось без изменений и 29 и 30 июня. Я с облегчением думал о том, что нам остается пробыть здесь, по эту сторону границы, только сутки.
Как я уже сказал, мы должны были совершить переезд все вместе. Однако чтобы не возбуждать подозрений, мы договорились, что госпожа Келлер с сыном не станут выезжать из Бельцингена одновременно с нами. Они присоединятся к нам в нескольких милях от города. Оказавшись за пределами прусских провинций, мы сможем уже не так сильно опасаться происков Калькрейта и его ищеек.
В течение того дня лейтенант несколько раз проходил мимо дома госпожи Келлер. Раз он даже остановился, словно хотел войти… Незаметно для него я наблюдал за ним из-за опущенной шторы. Губы его были стиснуты, пальцы постоянно сжимались в кулаки, короче, — по всему было видно, что он пребывает в крайнем возбуждении. Право, если бы он отворил дверь и спросил господина Жана Келлера, я бы нисколько не удивился.
Но то, чего не сделал в тот день лейтенант, сделали за него другие.
Около четырех часов явился солдат лейб-полка и спросил господина Жана Келлера.
И тот, а мы с ним были дома одни, взял в руки письмо, поданное солдатом.
Каково же было негодование господина Жана, когда он прочел его до конца!
Письмо было написано в крайне вызывающем тоне не только по отношению к господину Жану, но содержало брань и в адрес господина де Лоране. Да! Офицер фон Граверт опустился до того, что не погнушался оскорбить человека преклонных лет! В то же время в письме подвергалась сомнению смелость Жана Келлера, «полуфранцуза, а потому и храбреца лишь наполовину»! Если его соперник не трус, добавлялось далее, он докажет это тем, что примет двух его товарищей, когда те явятся к нему вечером с визитом.
Для меня было несомненно, что лейтенанту Францу стало известно о намерении господина де Лоране покинуть Бельцинген и о том, что Жан Келлер последует за ним, и он, принеся самолюбие в жертву своей прихоти, стремился помешать его отъезду.
Я полагал, что теперь, по причине оскорбления, нанесенного не только лично ему, но и семейству де Лоране, мне не удастся сдержать господина Жана и он даст волю своему гневу.
— Наталис, — сказал он мне изменившимся от негодования голосом, — я должен наказать этого наглеца! Я не уеду с таким пятном на репутации! Это гнусно — оскорбить то, что у меня есть самого дорогого! Я покажу ему, этому офицеру, что полуфранцуз, как он меня называет, ни в чем не уступает немцу!
Я хотел урезонить господина Жана. Какие могут быть последствия его стычки с лейтенантом? Если господин Жан его ранит, — можно ожидать репрессивных мер, которые создадут нам массу препятствий; а если лейтенант ранит господина Жана, то как же нам тогда осуществить свой отъезд?
Однако господин Жан ничего не желал слушать. В глубине души я понимал его. В своем письме лейтенант переходил всякие границы. Нет, подобные вещи писать непозволительно никому! Ах, если бы я мог взять это дело на себя, какое бы я получил Удовлетворение! Встретиться с этим негодяем, вызвать его, драть-с я с ним любым оружием, какое его только устроит, драться до тех пор, пока один из нас не рухнет замертво! И если падет он, то, право же, я не полезу в карман за аршинным платком, чтобы его оплакивать!
Что ж, раз о визите товарищей лейтенанта было объявлено, то следовало ожидать их.
Оба они явились около восьми часов вечера. К счастью, госпожа Келлер находилась в это время в гостях у господина де Лоране. Уж лучше ей не знать о том, что должно произойти.
Моя сестра Ирма, в свою очередь, ушла из дому расплатиться с лавочниками по последним счетам, так что все должно было остаться между господином Жаном и мною.
Два офицера, лейтенанты по званию, представились со свойственной им развязностью, что меня ничуть не удивило. Они всячески стремились подчеркнуть, что драться с простым коммерсантом соглашается дворянин и офицер… Но господин Жан сразу осадил их, коротко объявив, что он к услугам господина Франца фон Граверта и потому совершенно излишне прибавлять новые оскорбления к тем, которые уже содержались в письме с вызовом на дуэль. Атака была отбита, и отбита блестяще.
Так что офицерам пришлось несколько поубавить спеси.
Тогда один из них заметил, что необходимо не мешкая обговорить условия дуэли, так как время не ждет. Господин Жан ответил, что заранее принимает все условия. Он только просит, чтобы в это дело не вмешивали посторонних, и выразил пожелание, чтобы все произошло без лишней огласки.
Против этого офицеры не возражали. Да им и нечего было возражать, так как, в конце концов, господин Жан предоставил им полную свободу действий в отношении условий дуэли.
Было 30 июня. Поединок назначили на следующий день, в 9 часов утра. Он должен состояться в лесочке, что по левой стороне дороги, идущей из Бельцингена в Магдебург. В этом не возникло никаких разногласий.
Противники должны сражаться на саблях и прекратить дуэль только тогда, когда один из них окажется не в состоянии драться.
Это также было принято. На все предложения господин Жан отвечал лишь кивком головы.
Тут один из офицеров — наглость все же взяла свое — сказал, что господин Жан Келлер, по-видимому, будет на месте в условленное время, ровно в 9 часов…
На это господин Жан Келлер ответил, что если господин Франц фон Граверт не заставит себя долго ждать, то все может быть окончено уже в девять с четвертью.
После такого ответа офицеры встали, довольно развязно поклонились и вышли из дома.
— Вы умеете владеть саблей? — тотчас спросил я господина Жана.
— Да, Наталис. Теперь займемся моими секундантами. Вы согласны быть одним из них?
— Горжусь оказанной мне честью. Что касается второго секунданта, то ведь у вас в Бельцингене найдется какой-нибудь товарищ, который не откажется оказать вам такую услугу?
— Я предпочитаю обратиться к господину де Лоране; он, я уверен, мне не откажет.
— Конечно же нет!
— Но только совершенно необходимо, чтобы моя мать, Марта и ваша сестра, Наталис, об этом не узнали. К чему лишние тревоги — их и без того достаточно.
— Ваша мать и Ирма сейчас вернутся, господин Жан, и так как они до утра уже не выйдут из дома, то ничего и не смогут узнать…
— Я на это и рассчитываю, Наталис, и, поскольку нам никак нельзя терять времени, идемте к господину де Лоране.
— Идемте, господин Жан. Ваша честь не могла быть вручена более достойному человеку.
Как раз тогда, когда мы собирались выходить, вернулись домой г-жа Келлер и Ирма в обществе барышни Марты. Господин Жан сказал матери, что нам надо отлучиться примерно на час в город по делам, мол, предстоит окончательно договориться насчет лошадей для нашего путешествия, и что, если мы задержимся с возвращением, он просит ее проводить барышню Марту домой.
Ни госпожа Келлер, ни Ирма ничего не заподозрили, но Марта взглянула на господина Жана с беспокойством.
Десять минут спустя мы уже входили к господину де Лоране. Он был дома один, беседа могла вестись совершенно свободно. Господин Жан ввел его в курс дела. Он показал ему письмо лейтенанта фон Граверта. Читая его, господин де Лоране дрожал от негодования. Нет! Жан не должен уехать, не отплатив за подобное оскорбление! И он вполне может рассчитывать на него.
Потом господин де Лоране изъявил желание отправиться к госпоже Келлер и проводить домой свою внучку.
Мы вышли втроем. Когда мы шли вниз по улице, нам повстречался агент Калькрейта. Он бросил на меня взгляд, показавшийся мне странным. А так как шел он от дома Келлеров, то у меня возникло предчувствие, что этот мерзавец выкинул какую-нибудь скверную штуку.
Госпожа Келлер и барышня Марта с моей сестрой находились внизу, в маленькой гостиной. Они, казалось, были взволнованны. Неужели им что-то стало известно?
— Жан, — сказала госпожа Келлер, — агент Калькрейта принес тебе письмо!
На конверте стояла печать военного ведомства. В письме было сказано следующее: «Все молодые люди прусского происхождения в возрасте до двадцати пяти лет призываются на действительную службу. Нижепоименованный Жан Келлер зачислен в лейб-полк, стоящий гарнизоном в Бельцингене. Ему надлежит явиться в полк завтра, 1 июня, к одиннадцати часам утра».
Глава XII
Какой удар! Указ прусского правительства о всеобщей воинской повинности! Жан Келлер, не достигший еще двадцатипятилетнего возраста, подпадает под его действие! Он должен идти в поход вместе с врагами Франции! И никакой возможности уклониться от этой обязанности!
Да и может ли он изменить своему долгу? Разве он не пруссак? Дезертировать? Нет, это невозможно!.. Это невозможно!
И в довершение несчастья господин Жан должен идти служить как раз в тот лейб-полк, которым командует полковник фон Граверт, отец лейтенанта Франца, его соперника, а теперь и командира!
Что хуже этого могла преподнести злая судьба семейству Келлер и столь близким ей людям?
Как хорошо, право, что свадьбу отложили! Ведь на другой день после венца господин Жан был бы вынужден явиться в полк, чтобы сражаться против соотечественников своей жены!
Подавленные горем, мы сидели в полном молчании. По щекам барышни Марты и Ирмы катились слезы. Госпожа Келлер не плакала, у нее уже не было слез. Она была неподвижна, словно мертвая. Господин Жан сидел, скрестив руки, с блуждающими глазами, чувствуя ожесточение против своей судьбы. Я был сам не свой. Неужели люди, сделавшие нам столько зла, рано или поздно не ответят за это?
Тут господин Жан заговорил:
— Друзья мои, не меняйте своих планов! Завтра вы должны были ехать во Францию, так езжайте. Ни минуты не оставайтесь в этой стране. Я с матерью думал удалиться в какой-нибудь уголок за пределами Германии… Теперь это невозможно. Наталис, вы увезете свою сестру с собою…
— Жан, я останусь в Бельцингене!.. — воскликнула Ирма. — Я не покину вашей матери!
— Но это невозможно…
— Мы тоже останемся! — заявила Марта.
— Нет! — произнесла госпожа Келлер, стряхнув с себя оцепенение. — Вы все поезжайте. А я останусь! Мне нечего бояться пруссаков!.. Я ведь немка!..
И она направилась к двери, словно ее присутствие могло оскорбить нас.
— Мама!.. — вскричал, бросившись к ней, господин Жан.
— Что ты хочешь, сын мой?
— Я хочу… — отвечал Жан, — я хочу, чтобы ты тоже уехала! Я хочу, чтобы ты отправилась вместе с ними во Францию, на свою родину! А я — солдат! Полк мой может быть со дня на день переведен в другое место!.. Тогда ты останешься здесь одна, совершенно одна, а этого не должно случиться…
— Я останусь, сын мой!.. Останусь… раз ты уже не можешь сопровождать меня.
— А если я покину Бельцинген?.. — возразил господин Жан, схватив мать за руку.
— Я последую за тобою, Жан!.. — Это было сказано таким решительным тоном, что господин Жан замолчал. Сейчас было не время спорить с госпожой Келлер. Позднее, завтра, он поговорит с матерью и постарается внушить ей более трезвый взгляд на вещи. Разве может женщина сопровождать армию в походе? Какие только опасности не будут ее подстерегать! Но, повторяю, в данную минуту перечить не следовало. Она потом сама поразмыслит хорошенько и позволит переубедить себя.
Пребывая во власти сильнейших переживаний, мы разошлись. Госпожа Келлер даже не поцеловала барышню Марту, которую еще час назад называла своей дочерью! Я вернулся к себе в комнату. Спать не лег. Да разве мог бы я уснуть? Я даже забыл думать о нашем отъезде. А ведь надо было, чтобы он состоялся в намеченный срок. Думал же я только о Жане Келлере, которого зачислили в этот самый полк и, возможно, даже под команду лейтенанта Франца! В моем воображении рисовались картины грубого произвола со стороны этого офицера. Как-то снесет все это господин Жан? А придется сносить!.. Ведь он будет солдатом!.. Он больше не сможет ни лишнего слова сказать, ни лишнего жеста сделать!.. Над ним будет довлеть беспощадная прусская дисциплина!.. Это ужасно!
«Солдатом? Нет, он пока еще не солдат, — говорил я себе. — Он станет солдатом только завтра, когда займет свое место в полковых рядах. А до тех пор он сам себе хозяин!»
Рассуждая таким образом, я дошел до невероятных мыслей, а вернее — до бессмыслицы! От этих мыслей кровь ударила мне в голову! Меня совсем занесло!
«Да, — повторял я себе, — завтра в одиннадцать часов он явится в свой полк, он сделается солдатом!.. А до тех пор он имеет право драться с этим Францем!.. И он убьет его!.. Нужно, чтобы он убил его, иначе потом у лейтенанта будет слишком много возможностей отомстить ему!..»
Какую ночь я провел! Да! Злейшему врагу не пожелаю такой ночи!
Около трех часов я, не раздеваясь, повалился на кровать. В пять я уже встал и тихонько подошел к дверям спальни господина Жана.
Он тоже поднялся. Я затаил дыхание. Прислушался. Мне послышалось, что господин Жан пишет. Вероятно, какие-нибудь последние распоряжения на случай, если дуэль явится для него роковой! Иногда он делал два-три шага по комнате, потом снова садился, и перо опять начинало скрипеть. В доме не было слышно никаких других звуков.
Мне не хотелось тревожить господина Жана, и я вернулся к себе в комнату, а в шесть часов вышел и спустился на улицу.
Весть о призыве в армию уже распространилась по городу.
Она произвела необычайное впечатление. Эта мера касалась почти всех молодых людей Бельцингена, и, должен сказать, судя по моим наблюдениям, она была принята со всеобщим неудовольствием. Как ни говори, тяжело, ведь в семьях к этому оказались совершенно не готовы. Никто ничего подобного не ожидал. Через какие-то считанные часы новобранцам предстояло отправиться с ружьем на плече и ранцем за спиною.
Я сделал не одну сотню шагов перед домом. Условлено было, что господин Жан и я около восьми зайдем за господином де Лоране, чтобы затем вместе с ним отправиться на место поединка. Если бы господин де Лоране сам зашел за нами, это возбудило бы подозрения.
Я прождал до половины восьмого. Господин Жан все еще не спускался вниз. Госпожа Келлер также еще не появлялась в гостиной первого этажа.
В эту самую минуту ко мне подошла Ирма.
— Что делает господин Жан? — спросил я ее.
— Я его не видела, — ответила она. — Но он, должно быть, еще не выходил. Может, ты бы взглянул…
— Не стоит, Ирма, я слышал его шаги в комнате!
И мы с ней стали разговаривать, но не о дуэли (сестра, должно быть, не знала о ней), а о серьезном положении, которое создавал для Жана Келлера приказ о его зачислении в полк. Ирма была в отчаянии, а сердце ее разрывалось при мысли о разлуке со своей хозяйкой при подобных обстоятельствах.
На верхнем этаже послышался легкий шум. Сестра сходила туда и вернулась сказать мне, что господин Жан сейчас у матери.
Вполне понятно. Он пожелал обнять и поцеловать ее, как обычно по утрам. И наверняка подумал: быть может, это его последнее прости, его последний поцелуй.
Около восьми часов на лестнице послышались шаги, и на пороге дома появился господин Жан.
Ирма как раз ушла. Господин Жан подошел и протянул мне руку.
— Господин Жан, — сказал я ему, — уже восемь часов, нам пора идти…
Он лишь кивнул в ответ головой, словно ему было слишком тяжело говорить. Пора было идти за господином де Лоране. Итак, мы стали подниматься вверх по улице и прошли шагов примерно триста, когда перед господином Жаном неожиданно вырос солдат лейб-полка.
— Вы Жан Келлер? — спросил он.
— Да.
— Это вам. — И он подал ему конверт.
— Кто вас послал? — спросил я.
— Лейтенант фон Мелис.
Это был один из секундантов лейтенанта Франца. Меня так и пробрала дрожь. Господин Жан распечатал конверт. И вот что он прочел:
«Ввиду изменившихся обстоятельств поединок между лейтенантом Францем фон Гравертом и солдатом Жаном Келлером состояться не может.
Лейтенант фон Мелис».
Кровь во мне так и вскипела! Офицер не может драться с солдатом, что ж! Но «солдатом» Жан Келлер пока еще не являлся! Он еще несколько часов может распоряжаться сам собой!
Боже правый! Мне кажется, ни один французский офицер не поступил бы подобным образом. Он непременно дал бы удовлетворение человеку, которого смертельно оскорбил.
Но довольно об этом. А то я наговорю лишнего! Ведь если прикинуть хорошенько, была ли такая дуэль возможна?..
Господин Жан, порвав письмо, с возмущением бросил его на землю, с его губ слетело только одно слово: «Презренный!» Потом он сделал мне знак следовать за ним, и мы медленно направились обратно к дому.
Гнев душил меня до такой степени, что мне пришлось остаться на улице. Я даже удалился от дома, сам не замечая того, в какую сторону направляюсь. Мозг сверлила мысль о сложностях, которые нам уготовило будущее. Помню только, что я сходил к гос подину де Лоране сообщить об отмене дуэли.
В то утро я, надо полагать, совершенно утратил представление о времени, так как вернулся я в дом госпожи Келлер в десять часов, тогда как мне казалось, что я только что покинул господина Жана.
Господин и барышня де Лоране были уже там. Господину Жану предстояло расставание с ними.
Я пропускаю сцену, которая последовала. Описать ее в подробностях я не в состоянии. Скажу только, что госпожа Келлер держала себя очень стойко, не желая показывать сыну своей слабости. Господин Жан, со своей стороны, достаточно хорошо владел собой, чтобы не пасть духом в присутствии матери и невесты.
В момент разлуки барышня Марта и он в последний раз бросились в объятия госпожи Келлер… И дверь дома закрылась за ним.
Господин Жан ушел!.. Ушел прусским солдатом!.. Удастся ли нам свидеться когда-нибудь?!
В тот же вечер лейб-полк получил приказ двинуться в Борну — деревушку, расположенную в нескольких милях от Бельцингена, почти на границе Потсдамского округа.
Теперь скажу, что, несмотря на все доводы, которые только мог привести господин де Лоране, несмотря на наши горячие убеждения, госпожа Келлер настаивала на своем желании следовать за сыном. Раз полк идет в Борну, и она отправится в Борну. Даже самому господину Жану не удалось отговорить ее.
Наш отъезд должен был состояться на следующий день. Какой душераздирающей сцены ожидал я при прощании Ирмы с госпожой Келлер! Ирма так хотела остаться и сопровождать свою хозяйку, куда бы та ни отправилась… А у меня не хватило бы духу увезти ее против воли!.. Но госпожа Келлер наотрез отказалась взять ее с собой. Сестре пришлось покориться.
Во второй половине дня наши приготовления были уже закончены, когда все вдруг оказалось под вопросом.
В пять часов к господину де Лоране собственной персоной явился Калькрейт.
Начальник полиции объяснил, что, узнав о предполагаемом отъезде, он вынужден потребовать отложить его — по крайней мере, в настоящий момент. Необходимо подождать, какие меры примет правительство в отношении французов, проживающих в данное время в Пруссии. А до тех пор он, Калькрейт, не может выдать паспортов, без которых никакое путешествие невозможно.
Что же касается Наталиса Дельпьера, то тут дело было особого рода! Попадание в яблочко, как говорится. Похоже, кто-то донес ему, что брат Ирмы замечен в шпионаже. А Калькрейт только и мечтал о том, чтобы уличить меня как шпиона. Вдобавок, возможно, стало известно, что я принадлежу к Королевскому пикардийскому полку? Для успеха сторонников Империи, конечно, важно было, чтобы во французской армии стало хотя бы на одного солдата меньше! В военное время совсем нелишне сократить численность неприятеля!
А потому меня в тот же день, несмотря на мольбы и просьбы сестры и госпожи Келлер, арестовали, затем препроводили по этапу до Потсдама и наконец заключили в крепость.
Не могу выразить, что я чувствовал! Меня насильно разлучили со всеми дорогими моему сердцу людьми! Лишили возможности бежать, чтобы занять свое место в родном полку на границе, когда раздадутся первые выстрелы!
Но к чему распространяться об этом, замечу только, что меня даже не допросили. Посадили в одиночную камеру. Я не мог общаться с кем бы то ни было в течение шести недель, не имел никаких известий извне. Подробное описание заключения завело бы меня слишком далеко. Мои друзья в Гратпанше подождут, пока я сам расскажу им обо всем этом в подробностях. Теперь же пусть узнают только, что время для меня тянулось нестерпимо долго! Тем не менее я, вероятно, должен был радоваться, что не пошел под суд, так как, по словам Калькрейта, «дело мое совершенно ясно». Зато благодаря этому же обстоятельству я рисковал остаться узником до конца военной кампании.
Однако этого не случилось. Через полтора месяца, 15 августа, комендант крепости освободил меня, и я был препровожден в Бельцинген, причем мне даже не потрудились сообщить, чем мотивировался мой арест.
Нечего и говорить, как я был счастлив вновь увидеть госпожу Келлер, сестру и господина и барышню де Лоране, которые не смогли покинуть Бельцинген. Так как лейб-полк господина Жана не ушел дальше Борны, госпожа Келлер еще оставалась в Бельцингене. Господин Жан, конечно, писал ей иногда, когда мог. Несмотря на сдержанный тон его писем, в них чувствовался весь ужас его положения.
Хотя я был уже на свободе, мне не дали права оставаться в Пруссии, на что я — прошу мне поверить — отнюдь не жаловался.
Действительно, правительством было принято постановление о выдворении французов за пределы Пруссии. Что касалось нас, то мы должны были в двадцать четыре часа выехать из Бельцингена и в двадцать дней покинуть Германию.
А за две недели до этого появился Брауншвейгский манифест, угрожавший Франции нашествием союзников!
Глава XIII
Нельзя было терять ни дня. Нам предстояло проделать около ста пятидесяти миль, прежде чем мы достигнем границы Франции. Сто пятьдесят миль по неприятельской стране, по дорогам, запруженным двигающимися войсками, кавалерией и пехотой, не считая всего того, что всегда тянется за действующей армией! Хотя мы и обеспечили себя средствами передвижения, вполне могло случиться так, что мы будем лишены их по дороге. Если так, то нам придется идти пешком. Во всяком случае, предстояло учесть все трудности такого продолжительного путешествия. Кто мог бы поручиться, что везде, от этапа к этапу, мы встретим постоялые дворы, где можно будет поесть и отдохнуть? Никто, разумеется. Мне, привычному к лишениям, к долгим переходам, все нипочем, но ведь я не один! От господина де Лоране, семидесятилетнего старика, и двух женщин — барышни Марты и моей сестры — нельзя было требовать невозможного.
Разумеется, я приложу все усилия, чтобы доставить их во Францию целыми и невредимыми, причем я знал, что каждый из них тоже будет стараться по мере сил.
Как я уже сказал, лишним временем мы не располагали. К тому же полиция собиралась теперь зорко следить за нами. Двадцати четырех часов на выезд из Бельцингена и двадцати дней, чтобы выехать с немецкой территории, будет достаточно, если ничто не задержит нас в пути. Паспорта, выданные нам Калькрейтом в тот же вечер, были действительны лишь на этот срок. По его истечении нас могли арестовать и заключить в тюрьму до самого окончания войны! Что касается паспортов, то в них обозначили маршрут, уклоняться от которого мы не имели права, и нам надлежало визировать их во всех городах и селах, указанных в нашем маршруте.
Кроме того, было весьма вероятно, что события станут разворачиваться с необычайной быстротой. Возможно, в настоящий момент на границе уже идет обмен пулями и картечью?
На манифест герцога Брауншвейгского французская нация, устами своих депутатов, ответила так, как и подобало, а председатель Законодательного собрания обратился к Франции с громогласным призывом: «Отечество в опасности!»
Ранним утром 16 августа мы были готовы к отъезду. Все дела уладили. Дом господина де Лоране оставался на попечении старого слуги, служившего у него многие годы, на преданность которого можно было положиться. Этот славный человек костьми ляжет, но заставит уважать собственность своего хозяина.
Что касалось дома госпожи Келлер, то, пока на него не найдется покупатель, в нем будет жить горничная-немка.
Утром в день отъезда мы узнали, что лейб-полк покинул Борну, направившись в Магдебург.
Господин де Лоране, барышня Марта, сестра и я попробовали в последний раз уговорить госпожу Келлер отправиться с нами.
— Нет, друзья мои, не настаивайте! — отвечала она. — Я сегодня же поеду в Магдебург. У меня предчувствие какого-то большого несчастья, и я хочу находиться там!
Мы поняли, что все наши старания тщетны перед решением непреклонной госпожи Келлер. Нам оставалось только проститься с нею, сообщив ей, через какие города и села нам предписано проезжать.
Нашему путешествию предстояло совершиться следующим образом.
У господина де Лоране имелась старая дорожная карета, которой он уже давно не пользовался. Эту карету я нашел вполне подходящей, чтобы преодолеть расстояние в сто пятьдесят миль. В обычное время путешествовать, используя лошадей, имеющихся на почтовых станциях при дорогах конфедерации, нетрудно. Но теперь все они реквизированы для армейских нужд, перевозки боеприпасов и продовольствия. Рассчитывать на перекладных не приходилось.
Чтобы устранить это препятствие, господин де Лоране попросил меня подыскать, не останавливаясь перед ценой, пару хороших коней. Мне, как знатоку этого дела, удалось отлично выполнить его поручение. Я нашел пару лошадей, может, несколько тяжеловатых, зато очень выносливых. Затем, сообразив, что нам придется обходиться без почтовых кучеров, я предложил для этого дела свою особу, на что, конечно, получил согласие. Разумеется, кавалериста Королевского пикардийского полка не надобно учить, как править упряжкой!
Пятнадцатого августа в восемь часов утра все было готово. Мне оставалось лишь влезть на козлы. Мы как будто обо всем позаботились. Так, у нас имелась пара хороших седельных пистолетов[214], с которыми можно было держать мародеров[215] на почтительном расстоянии. А в наших дорожных сундуках — достаточно провизии на первое время. Решили, что господин и барышня де Лоране будут сидеть в глубине кареты, сестра же моя займет переднюю скамейку, напротив барышни. Сам я, одетый в добротную одежду и снабженный вдобавок толстым балахоном, смогу не бояться плохой погоды.
И вот состоялось наше последнее прощание. Мы расцеловались с госпожой Келлер, тоска сжимала сердце: свидимся ли мы когда-нибудь?
Погода стояла довольно хорошая, но к полудню могла наступить большая жара. А потому я решил выбрать именно это время — между полуднем и двумя часами, — чтобы дать отдых лошадям. Ведь дорога-то нам предстояла длинная!
Наконец тронулись в путь, и я, свистом подгоняя лошадей, лихо защелкал в воздухе кнутом.
По выезде из Бельцингена ехали, не слишком страдая от скопления войск, шедших в Кобленц.
От Бельцингена до Борны — не более двух миль, и мы через час уже приехали в это местечко.
Уже несколько недель здесь стоял гарнизоном лейб-полк. Именно отсюда он и направился в Магдебург, куда собиралась госпожа Келлер.
Марта в сильном волнении проезжала по улицам Борны. Она представляла себе господина Жана, следующего под началом лейтенанта Франца по этой дороге, которую предписанный маршрут вынуждал нас теперь покинуть и взять юго-западное направление.
Я не стал задерживаться в Борне, предполагая сделать остановку через четыре мили, на границе нынешней провинции Бранденбург; но в то время, согласно прежнему территориальному делению Германии, нам предстояло добраться до дорог Верхней Саксонии.
Пробило полдень, когда мы подъехали к этому месту у границы, где расположились бивуаком[216] несколько кавалерийских отрядов. У дороги стоял одинокий кабачок. Там я смог задать корм лошадям.
Мы пробыли здесь целых три часа. В течение первого дня путешествия казалось благоразумнее поберечь лошадей, чтобы не слишком утомить их с самого начала.
В этом местечке нам надо было завизировать наши паспорта. То, что мы являлись французами, стоило нам нескольких косых взглядов. Ну, да эка важность! Ведь у нас все было в порядке. Впрочем, принимая во внимание, что нас выдворяли из Германии в «такой-то» срок, самое лучшее было не задерживать нас в пути.
Мы намеревались переночевать в Цербсте. Вообще решили ехать только днем, если этому не помешают какие-нибудь исключительные обстоятельства. Дороги представлялись настолько небезопасными, что благоразумнее было не рисковать ездить по ним в темную пору. Слишком много малоприятных шалопаев шныряло по стране.
Прибавлю, что в здешних северных местностях ночи в августе короткие. Солнце встает около трех часов утра и заходит не ранее девяти вечера. Так что остановки будут длиться всего несколько часов[217] — только-только чтобы дать отдых нам самим и лошадям. А если возникнет необходимость поднатужиться, что ж, поднатужимся!
От границы (где наша карета остановилась в полдень) до Цербста — семь-восемь миль, не более. Следовательно, мы могли проехать это расстояние за время от трех часов дня до восьми часов вечера.
Тем не менее я прекрасно знал, что нам не раз придется столкнуться с препятствиями и задержками.
В тот день на дороге у нас вышла стычка с человеком, похожим на лошадиного барышника[218], длинным и сухощавым, худым, как пятничный пост[219], и совсем завравшимся, который решительно хотел реквизировать[220] нашу упряжку. Как он утверждал — для нужд государства. Вот подлец! Я думаю, что он сам и был этим государством, как говаривал Людовик XIV[221], и что реквизицию он производил в свою собственную пользу.
Но не тут-то было! Ему пришлось спасовать перед нашими паспортами и подписью начальника полиции. Тем не менее мы потратили целый час на препирательства с этим мошенником. В конце концов карета наша тронулась в путь, и довольно быстро, чтобы наверстать упущенное время.
Мы находились на территории нынешнего герцогства Ангальтского. Дороги здесь были менее запруженными, так как основные силы прусской армии двигались севернее, в направлении Магдебурга.
Без всяких затруднений достигли Цербста — малозначительного городка, почти лишенного всяких ресурсов; приехали мы туда около девяти часов вечера. Видно было, что тут прошли мародеры, не стеснявшиеся поживиться за счет края. Можно иметь очень скромные потребности и все-таки желать приличного пристанища на ночь. Но среди этих наглухо запертых из предосторожности домов найти такое пристанище оказалось трудным делом. Я уже подумывал, не придется ли нам остаться до утра в карете. Для нас это было еще сносно, но наши лошади? Ведь им были нужны корм и подстилка! Я заботился прежде всего о них, содрогаясь при одной только мысли о возможности лишиться нашего средства передвижения!
Итак, я предложил ехать дальше, чтобы добраться, например, до Аккена, в трех с половиной милях юго-западнее Цербста. Мы могли прибыть туда еще до полуночи — с расчетом выехать оттуда на другой день не ранее десяти часов утра, чтобы не отнимать у лошадей положенного отдыха.
Однако господин де Лоране заметил мне, что нам предстоит переправиться через Эльбу, переправа через нее осуществляется на пароме, и лучше сделать это в дневное время.
Господин де Лоране не ошибался. На нашем пути в Аккен лежала Эльба. И при переправе через нее могли встретиться трудности. Должен упомянуть, пока не забыл, следующее: господин де Лоране очень хорошо знал Германию от Бельцингена до французской границы. При жизни сына он много лет во всякое время года проезжал по этой дороге и легко на ней ориентировался, сверяясь со своей картой. А я следовал этим путем всего второй раз. Стало быть, господин де Лоране был прекрасным гидом[222], и благоразумие требовало положиться на него.
Наконец после усиленных поисков с кошельком в руках по всему Цербсту я нашел конюшню и корм для лошадей, а для нас пищу и кров. Тем самым мы экономили свои дорожные припасы и провели ночь в этом городке лучше, чем можно было предположить.
Глава XIV
Прежде чем достигнуть Цербста, наша карета проехала по княжеству Ангальт с его тремя герцогствами. На следующий день мы должны были снова пересечь княжество с севера на юг, чтобы попасть в небольшой саксонский городок Аккен, расположенный в теперешнем Магдебургском уезде. Затем, когда мы возьмем направление на Бернсбург, столицу одноименного герцогства, нам опять придется проезжать через Ангальт. А оттуда, через Мерзебургский уезд, мы в третий раз попадем в Саксонию. Вот что представляла собой в те времена германская конфедерация, состоявшая из нескольких сотен маленьких государств или анклавов[223], которые Людоед из «Мальчика с пальчик» мог бы преодолеть одним махом!
Понятно, что я говорю все это со слов господина де Лоране. Он разворачивал передо мной свою карту и пальцем показывал местонахождение основных городов и направление течения рек. Разумеется, в полку я не мог пройти курса географии. И потом, если бы я умел читать!
О, бедная моя азбука, изучение которой было так внезапно прервано! И как раз в то время, когда я уже начинал складывать гласные и согласные! А мой славный учитель, господин Жан, теперь шагает с солдатским ранцем за плечами, взятый в армию вместе со всей студенческой и торговой молодежью Пруссии!
В конце концов, не будем долго останавливаться на этих грустных вещах и вернемся к нашему путешествию.
Начиная со вчерашнего вечера сделалось тепло, небо стало предгрозовым, матовым, с редкими клочками голубого полотна между облаками, — этого небесного полотна едва хватило бы, чтобы скроить пару жандармских брюк. В тот день я как следует погонял лошадей, так как было очень важно до ночи прибыть в Бернсбург, преодолев расстояние в двенадцать миль. Почему бы и нет, при условии, однако, что погода не испортится и особенно — если не возникнет никаких препятствий.
В частности, путь нам пересекала река Эльба, и я боялся, как бы мы не задержались при переправе.
Покинув Цербст в шесть часов утра, через два часа мы были уже на правом берегу Эльбы — довольно красивой, широкой реки, окаймленной высокими берегами с густым кустарником. К счастью, удача сопутствовала нам. Паром для перевозки экипажей и пассажиров находился на правом берегу, и, поскольку господин де Лоране не жалел ни флоринов, ни крейцеров, паромщик не заставил нас долго ждать. Через четверть часа карета и лошади были уже погружены.
Переправа прошла без приключений. Если так будет на всех реках во время нашего путешествия, то жаловаться не придется.
Затем мы въехали в городок Аккен, который наша карета проехала не останавливаясь, взяв направление на Бернсбург. Я старался ехать как можно быстрее. Разумеется, тогда дороги были не то, что теперь. Они тянулись едва заметной лентой по волнистой, неровной почве, проторенные скорее колесами экипажей, чем сделанные руками человека. В дождливое время дороги эти, вероятно, были совершенно непригодны и даже летом оставляли желать лучшего. Однако не следовало быть Святым Брюзгою.
Все утро мы ехали без приключений, но около полудня (к счастью, это было во время нашего отдыха) нас обогнал полк пандуров на марше. Я впервые увидел этих австрийских кавалеристов, смахивавших на варваров[224]. Они скакали во весь опор. К небу поднялось огромное облако пыли, и в его вихре виднелись лишь красные блики накидок и черные пятна барашковых шапок этих дикарей.
Мы вовремя свернули с дороги и укрылись на опушке березовой рощицы, где я и поставил экипаж. Благо, они нас не заметили. Ведь от этих чертовых вояк всего можно ожидать. Солдатам могли приглянуться наши лошади, а офицерам — карета. Наверняка, окажись мы на их пути, они смели бы нас, не дожидаясь, пока им дадут дорогу.
Около четырех часов я заприметил довольно возвышенное место, на расстоянии около одной мили к западу от нас.
— Должно быть, это Бернсбургский замок, — сказал мне господин де Лоран. В самом деле, замок этот, расположенный на вершине холма, виден издалека отовсюду. Я подстегнул лошадей. Полчаса спустя мы миновали Бернсбург, где наши бумаги были завизированы. Затем, утомленные душной предгрозовой атмосферой, мы переехали на пароме реку Сааль, которую нам предстояло потом пересечь еще раз, и около десяти часов вечера въехали в Альтслебен. Ночь выдалась тихой. Мы разместились в довольно приличной гостинице, где не оказалось прусских офицеров (что обеспечило нам спокойствие), и на следующий день ровно в десять часов утра снова тронулись в путь.
Я не буду подробно описывать встречавшиеся нам города, села и деревни. Мы мало что видели в них, путешествуя не ради удовольствия, а как люди, изгоняемые из страны, которую они, кстати, покидали без сожаления.
Самым важным для нас во всех этих населенных пунктах было не нарваться на неприятности, чтобы мы могли беспрепятственно передвигаться от одного к другому.
Восемнадцатого августа, в полдень, мы оказались в Гетштадте. Предстояло переехать реку Виппер (которую мы у нас в полку всегда называли Змеею), что протекала близ медных рудников. Около трех часов наша карета въехала в Леймбах, находящийся при слиянии Виппера с Тальбахом (еще одно наименование, служившее предметом шуток для балагуров Королевского пикардийского). Миновали Мансфельд с его высоким холмом, вершину которого, несмотря на дождь, ласкали лучи солнца. Потом — Сангергаузен, стоящий на реке Жена. И вот наш экипаж покатился по местности, богатой рудниками, с узорчатыми зубцами Гарца[225] на горизонте. Уже в сумерки достигли Артерна, построенного на реке Унстрют.
День выдался поистине утомительным — почти пятнадцать миль всего лишь с одной остановкой. Так что по приезде я должен был как следует позаботиться о лошадях — хорошем корме и хорошей подстилке для них на ночь. Это стоило недешево. Но господин де Доране не пожалел нескольких лишних крейцеров и был прав. Коли у лошадей не стоптаны копыта, путешествующие не подвергаются риску стоптать ноги.
На следующий день, из-за пререканий с трактирщиком, мы отправились только в восемь часов. Я очень хорошо знаю, что даром никогда ничего не получишь. Но тут я убедился, что хозяин гостиницы в Артерне — самый наглый разбойник Германской империи[226].
Весь этот день погода была отвратительной. Разразилась сильная гроза. Нас ослепляли молнии. Сильные раскаты грома пугали лошадей, измокших под проливным дождем, — тут-то я вообще убедился, как верно выражение «льет как из ведра».
На следующий день, 19 августа, погода была получше. Утром поля, умытые росою, колыхались от предрассветного ветерка. Дождя не было. Но небо дышало грозой, жара предстояла утомительная. Местность была гористой. Лошади уставали. Скоро, предвидел я, придется дать им суточный отдых. Однако я надеялся прежде достичь Готы.
Дорога тут пересекала довольно хорошо обработанные земли, тянущиеся до Гельдмунгена, что на реке Шмуке, где мы со своей каретой и встали на отдых.
В общем, наше четырехдневное путешествие, с тех пор как мы покинули Бельцинген, протекало до сих пор довольно благополучно. И я подумал: «Если бы могли ехать все вместе, то с какой радостью мы потеснились бы в карете для госпожи Келлер и ее сына! Но увы!»
Наш маршрут пролегал по участку Эрфуртского округа, одного из трех округов земли Саксония. Благодаря довольно хорошим дорогам мы подвигались быстро. Не будь небольшого повреждения колеса, которое в Вайссензее починить не удалось, я гнал бы лошадей еще быстрее. Оно было починено лишь в Теннстедте одним не слишком ловким каретником. Что не переставало беспокоить меня в течение всей дороги.
Переезд был долгим, но нас поддерживала надежда прибыть к вечеру в Готу. Там можно будет отдохнуть — при условии если удастся найти приличный кров.
Не для меня, великий Боже! Крепко скроенный, я мог перенести еще и не такие испытания. Но господин де Лоране и барышня, хотя они не жаловались, казались мне очень уставшими. Сестра Ирма переносила путешествие несколько легче. И потом, ведь обитателям нашего маленького дома на колесах было отнюдь не весело!
С пяти до девяти часов вечера мы покрыли расстояние в восемь миль. Переправились через реку Шамбах, покинули Саксонию и въехали на территорию Кобургской Саксонии. Наконец в одиннадцать часов вечера наша карета остановилась в городе Готе. Мы запланировали пробыть здесь целые сутки. Наши бедные лошади вполне заслужили отдых в течение ночи и всего дня. Право, при их выборе я не промахнулся. Вот что значит разбираться в деле и не стоять за ценой!
Я уже сказал, что мы прибыли в Готу только к одиннадцати часам. Произошло это вследствие кое-каких формальностей, задержавших нас при въезде в город. Конечно, не будь наши документы в порядке, нас бы задержали. Агенты, как гражданские, так и военные, проявляли при проверке бумаг необычайную строгость. Счастье еще, что прусское правительство, распорядившись о нашем выдворении, снабдило нас и средством выполнить свое распоряжение. Из чего я заключил, что, если бы мы собрались выехать, как это предполагалось вначале, до призыва господина Жана в полк, Калькрейт не выдал бы нам паспортов и мы так и не смогли бы достичь границы. Так что следовало благодарить, во-первых, Бога, а во-вторых, Фридриха-Вильгельма[227], облегчивших нам наше путешествие. Но… не надо говорить «гоп», пока не перепрыгнешь. Это одна из наших пикардийских пословиц, и она стоит многих других.
В Готе хорошие гостиницы. Я без труда нашел для нас в «Прусском гербе» четыре приличные комнаты и конюшню для обеих лошадей. Как ни жаль мне было терять столько времени, я понимал, что с этим надо смириться. К счастью, из двадцати дней, которые нам отвели на наше путешествие, мы потратили всего лишь четыре, а уже проделана почти треть пути. Так что, сохранив такой же темп, мы сумели бы добраться до границы Франции в нужный срок. Я молил лишь об одном: чтобы Королевский пикардийский полк не вступил в военные действия раньше конца месяца.
На следующий день, около восьми часов утра, я спустился в вестибюль гостиницы, где ко мне подошла сестра.
— А как там господин де Лоране и барышня Марта? — спросил я.
— Они еще не выходили, — ответила Ирма. — Не следует беспокоить их до завтра.
— Ну разумеется, Ирма! А куда ты направляешься?
— Пока никуда, Наталис. Но после обеда я пойду сделать кое-какие покупки и пополнить наши припасы. Не хочешь отправиться со мною?
— Охотно. Я буду наготове. А пока пойду поброжу по улицам. — И я отправился бродить наугад.
Что сказать вам о Готе? Я мало что видел в этом городе. Тут было много войск — пехота, артиллерия, кавалерия, повозки обоза. Кругом слышались сигналы. Сменялись караулы. При мысли о том, что все эти солдаты направляются против Франции, сердце мое сжималось. Как больно думать, что родная земля будет вдруг захвачена этими чужеземцами! Сколько наших товарищей падет, чтобы защитить ее! Да! Мне надо быть с ними, чтобы сражаться на своем посту! Сержант Наталис Дельпьер отнюдь не оловянный солдатик и не боится огня!
Я прошел несколько кварталов, заметив несколько церквей, колокольни которых вырисовывались в тумане. Решительно здесь было слишком много солдат, словно это не город, а большая казарма.
Предусмотрительно завизировав, как нам это предписывалось, наши паспорта, я вернулся домой в одиннадцать часов.
Господин де Лоране и барышня Марта еще не покидали своих комнат. Бедной девушке было совсем не до прогулок, и это понятно.
Да и что бы она увидела? Все явилось бы лишним напоминанием о печальном положении господина Жана! Где он сейчас? Смогла ли госпожа Келлер быть рядом с ним? Или хотя бы следовать за полком от этапа к этапу? На чем передвигалась эта отважная женщина? Что она сможет сделать, если несчастья, которые она предчувствовала, сбудутся? А каково господину Жану в качестве прусского солдата идти против страны, которую он любит, которую был бы счастлив иметь право защищать, за которую он с готовностью пролил бы свою кровь!
Завтрак наш был, конечно, невеселым. Господин де Лоране пожелал, чтобы нам его подали к нему в комнату. И действительно, в гостиницу «Прусский герб» приходили столоваться немецкие офицеры, и нам лучше было их избегать.
После завтрака господин и барышня де Лоране вместе с сестрой остались в гостинице. Я же отправился взглянуть, не нуждаются ли в чем наши лошади. Хозяин гостиницы сопроводил меня в конюшню. Я прекрасно видел, что этот малый хочет выпытать у меня лишнее о господине де Лоране, о нашей поездке и вообще о вещах, совершенно его не касавшихся. Я имел дело с болтуном, но каким болтуном!.. Который ни одного слова зря не скажет. Так что я был настороже, и он остался с носом.
В три часа мы вдвоем с сестрой отправились за покупками. Поскольку Ирма говорила по-немецки, она не испытывала никаких затруднений ни на улице, ни в лавках. Тем не менее в нас очень легко было узнать французов, вследствие чего прием нам оказывался не слишком радушный.
С трех до пяти часов мы ходили по городу, и в итоге получилось, что я познакомился со всеми основными кварталами Готы.
Я жаждал услышать что-нибудь о Франции, о ее внутренних и внешних делах. А потому посоветовал Ирме прислушиваться к разговорам на улице и в лавках. Мы даже, не смущаясь, подходили к оживленно разговаривавшим группам людей, чтобы послушать речи, которыми они обменивались, хотя это было неосторожно с нашей стороны.
Откровенно говоря, все, что мы слышали, не могло быть приятно для французов. Но, во всяком случае, лучше иметь даже дурные вести, чем совсем никаких.
Еще я увидел, что на стенах расклеено множество афиш. Большая часть их сообщала о передвижениях войск или о поставках провианта в армию. Однако иногда сестра останавливалась, чтобы прочесть первые строчки.
Одна из таких афиш особенно привлекла мое внимание. Она была напечатана большими черными буквами на желтой бумаге. Я до сих пор так и вижу ее, прикрепленную к навесу будки башмачника.
— Ну-ка, Ирма, — сказал я, — посмотри на эту афишу. Тут, кажется, какие-то цифры вначале?
Сестра подошла к будке и стала читать… Вдруг она как вскрикнет! К счастью, мы были одни. Ее никто не услышал. Вот что гласила эта афиша: «1000 флоринов награды тому, кто разыщет солдата Жана Келлера из Бельцингена, приговоренного к смертной казни за оскорбление действием офицера лейб-полка, временно стоящего в Магдебурге».
Глава XV
Как мы с сестрой вернулись в гостиницу «Прусский герб», о чем говорили по дороге, я совершенно не могу вспомнить! Может, мы вообще не обменялись ни словом? Мы постарались скрыть волнение — незачем было обращать на себя внимание. Не хватало только, чтобы нас препроводили к местным властям. Стали бы допрашивать и, возможно, арестовали бы, если бы узнали, какие отношения связывают нас с семейством Келлер!..
Наконец мы вернулись к себе, не встретив никого по дороге. Нам с сестрой хотелось до того, как мы увидим господина и барышню де Лоране, все обсудить наедине и решить, что нам следует делать.
Мы стояли молча, удрученно глядя друг на друга.
— Несчастный! Просто несчастный! Что он сделал? — наконец воскликнула сестра.
— Что сделал? — ответил я. — Он сделал то, что и я бы сделал на его месте! Господин Жан, наверно, терпел издевательства и оскорбления от этого Франца!.. И ударил его… Рано или поздно это должно было случиться!.. Да, я поступил бы точно так же!
— Бедный наш Жан!.. Бедный наш Жан!.. — шептала сестра, и слезы лились у нее из глаз.
— Ирма, бодрись, — сказал я, — это так необходимо!
— Приговорен к смерти!
— Но он ведь бежал!.. Теперь он вне досягаемости, и, где бы он ни был, ему там лучше, чем в полку этих подлецов фон Гравер-тов!
— А эта тысяча флоринов, обещанная за его выдачу, Наталис!
— Их еще никто не положил в карман, Ирма, и, возможно, никто и не получит.
— Но как же бедный Жан может ускользнуть от них! Ведь афиши о нем расклеены во всех городах, во всех деревнях! А сколько негодяев польстятся на обещанное вознаграждение! Да и хорошие люди побоятся приютить дезертира хотя бы на час!
— Не отчаивайся, Ирма, — увещевал я ее, — не надо!.. Еще не все потеряно! До тех пор, пока ружья не нацелены в грудь человека…
— Наталис!.. Наталис!..
— Да и когда нацелены, Ирма, они могут дать осечку!.. Такое не раз бывало!.. Не убивайся так!.. Господин Жан сумел бежать и скрыться где-то в окрестностях!.. Он живой, и он не из тех, кто даст себя схватить!.. Он выкрутится!
Скажу откровенно, я говорил так сестре с целью вселить в нее немного надежды, а еще потому, что сам верил в свои слова. Очевидно, самое трудное для господина Жана было после нанесенного удара бежать. Итак, ему это удалось, и поймать его, похоже, будет нелегко, если в афишах обещано за это вознаграждение в тысячу флоринов! Нет, я не желал отчаиваться, хотя сестра не хотела меня слушать.
— А как же госпожа Келлер! — сказала Ирма. Да, что-то сталось с госпожой Келлер?.. Приехала ли она к сыну?.. Знает ли о том, что произошло? С ним ли она после его бегства?
— Бедная женщина!.. Несчастная мать!.. — повторяла сестра. — Если она застала полк в Магдебурге, то ей все известно! Она знает, что сын ее приговорен к смерти!.. Ах, Боже мой! Боже мой! Какие страдания ты ей ниспослал!
— Ирма, — увещевал я ее, — успокойся, прошу. Тебя могут услышать! Ты ведь знаешь, госпожа Келлер — стойкая женщина. Возможно, сыну удалось отыскать ее!..
Это может показаться невероятным, но, повторяю, я говорил искренне. Поддаваться отчаянию — не в моем характере.
— А как же Марта? — спросила сестра.
— По моему убеждению, она не должна ничего знать, — ответил я. — Так будет лучше, Ирма. Рассказав все барышне Марте, мы рискуем, что она потеряет бодрость духа. Ведь если бедняжка узнает, что господин Жан приговорен к смерти, что он в бегах, что голова его оценена, она не вынесет этого!.. И откажется ехать с нами дальше…
— Да, Наталис, ты прав! А давай сохраним все в тайне и от господина де Лоране?
— Точно, Ирма. Скажи мы ему о случившемся, — это ничему не поможет. Ах, если бы мы могли пуститься на поиски госпожи Келлер и ее сына! Вот тогда нам следовало бы все рассказать господину де Лоране. Но время у нас ограничено. Оставаться на территории Германии нам запрещено. Иначе мы можем подвергнуться аресту, и я не вижу, какая польза от этого будет для господина Жана… Ну, Ирма, надо быть благоразумной. Особенно — постараться, чтобы барышня Марта не заметила, что ты плакала.
— Но если она пойдет в город, Наталис, ведь она может прочесть афишу! И таким образом все откроется…
— Ирма, — ответил я, — невероятно, чтобы господин и барышня де Лоране вышли вечером из гостиницы, если они даже днем из нее не выходили. К тому же в темноте трудно будет читать афиши. Значит, бояться нечего… Итак, сестра, возьми себя в руки и будь стойкой!
— Я буду, Наталис. Я чувствую, что ты прав!.. Да!.. Я буду сдерживаться! Со стороны никто ничего не увидит, хотя в душе у меня…
— В душе, Ирма, плачь, потому что все это очень печально, плачь, но молчи!.. Это приказ!
После ужина, за которым я старался разговаривать о том и о сем, чтобы, отвлекая на себя внимание, помочь сестре, господин де Лоране и Марта остались у себя. Я так и предполагал, и это было хорошо. Побывав в конюшне, я вернулся к ним и предложил лечь пораньше спать. Мне хотелось выехать ровно в пять часов утра, потому что нам предстоял хотя и не особенно длинный, но очень утомительный переезд по гористой местности.
Все улеглись. Что до меня, то я спал довольно плохо.
События дня без конца вертелись у меня в голове. Уверенность, которую я испытывал во время разговора с сестрой, — а как бы иначе я сумел поднять ей дух! — теперь, казалось, покинула меня… Дела складывались скверно… Вот Жана Келлера уже преследуют, вот его выдают… Так ведь всегда кажется, когда упорно думаешь о чем-то в полудреме.
В пять часов я поднялся. Разбудил всех своих и пошел сказать, чтобы запрягали. Я торопился покинуть Готу.
В шесть часов каждый занял свое место в карете, я тронул вожжи — и хорошо отдохнувшие лошади резво припустили. Незаметно одолев путь в пять миль, мы подъехали к предгорьям Тюрингии.
Тут нас ожидали большие трудности, и ехать надо было весьма осторожно.
Не то чтобы горы эти были очень уж высоки — это не Пиренеи и не Альпы. Однако езда по этой гористой местности для упряжки нелегка, и приходится принимать меры предосторожности. В те времена специально проложенных дорог здесь почти не было. А были просто ущелья, зачастую очень узкие и небезопасные, путь по которым пролегал через поросшие густыми дубовыми, еловыми, березовыми и лиственничными лесами[228]. Отсюда — частые петли, извилистые тропы, когда карета наша едва-едва могла протиснуться между какой-нибудь острой скалой и глубокой пропастью, на дне которой шумит поток.
Время от времени я слезал с козел и вел лошадей под уздцы. Господин де Лоране, его внучка и моя сестра на особенно крутых подъемах выходили из кареты. Все храбро и не жалуясь шли пешком: барышня Марта — несмотря на свое хрупкое телосложение, господин де Лоране — несмотря на свой возраст. Впрочем, мы довольно часто останавливались, чтобы перевести дух. Как я радовался, что ничего не сказал им относительно господина Жана! Если сестра моя, невзирая на все мои доводы, была в таком отчаянии, то каково было бы отчаяние барышни Марты и ее дедушки!..
И без того 21 августа нельзя было назвать удачным днем — путь наш удлинился из-за круто петляющей дороги, так что иногда даже казалось, будто мы едем в обратную сторону.
Может, необходим проводник? Но кому здесь можно было до вериться? Чтобы французы оказались во власти какого-нибудь немца, когда уже объявлена война?.. Нет уж, лучше рассчитывать на собственные силы, чтобы выкарабкаться!
Впрочем, господин де Лоране так часто проезжал через Тюрингию, что ориентировался здесь без особых хлопот. Самое трудное — не сбиться с дороги в лесах. Приходилось держать путь по солнцу, которое не могло обмануть нас, ибо уж оно-то, во всяком случае, было не из немцев.
Около восьми часов вечера наша карета остановилась на опушке березовой рощи, покрывавшей уступами высокие склоны горной цепи. Продолжать здесь путь в темноте было бы крайне неосторожно.
Огляделись: нет не только корчмы, но даже хижины дровосека! Оставалось заночевать в карете или под кронами деревьев.
Мы поужинали имевшейся у нас в дорожных сундуках провизией. Я распряг лошадей. Поскольку у подножия склона была густая трава, я предоставил им пастись на свободе, намереваясь ночью сторожить их.
Я предложил господину де Лоране, барышне Марте и сестре опять занять свои места в карете, где они могли, по крайней мере, отдохнуть под крышей. Моросил мелкий ледяной дождь, ибо мы находились уже на довольно значительной высоте.
Господин де Лоране предложил мне сторожить вместе, но я отказался. Такие бодрствования уже вредны для людей его возраста. К тому же я отлично могу справиться и один. Закутавшись в свой теплый балахон и находясь под покровом листвы, я не мог жаловаться. Еще не то испытал я в американских прериях с их лютой, как нигде, зимою, и меня отнюдь не страшило провести ночь под открытым небом! Наконец все устроилось самым лучшим образом. Ничто не нарушало нашего спокойствия. В конечном счете карета была не хуже комнаты какой-нибудь местной гостиницы. Плотно закрытые дверцы защищали от сырости, а дорожные плащи — от холода. Если бы не беспокойство о судьбе тех, кого нет рядом с нами, можно было бы прекрасно выспаться.
На рассвете, часов около четырех, господин де Лоране покинул карету и предложил меня заменить, чтобы я мог отдохнуть часок-другой. Боясь обидеть его еще одним отказом, я согласился и, прижав кулаки к глазам и завернувшись с головою в балахон, крепко заснул.
В половине седьмого все мы уже были на ногах.
— Вы, вероятно, устали, господин Наталис? — спросила у меня барышня Марта.
— Я? Да я спал как убитый, — ответил я, — пока ваш дедушка караулил! Замечательный он человек!
— Наталис несколько преувеличивает, — с улыбкой заметил господин де Лоране, — и в следующую ночь он позволит мне…
— Ничего я вам не позволю, господин де Лоране, — весело возразил я. — Где это видано, чтобы барин сторожил до утра, пока слуга…
— Слуга? — переспросила барышня Марта.
— Да! Слуга… Ну, кучер! Чем я не кучер? И, льщу себя надеждой, довольно искусный! Или, скажем, ямщик, если вы хотите пощадить мое самолюбие. И тем не менее — ваш покорный слуга…
— Нет… наш друг, — ответила барышня Марта, протягивая мне руку, — к тому же преданнейший из друзей, посланный Провидением, чтобы доставить нас во Францию!
Ах, какая славная барышня! Чего не сделаешь для людей, говорящих вам подобные вещи, да еще таким дружеским тоном! Да! Пусть нам будет суждено добраться до границы! Пусть будет суждено госпоже Келлер и ее сыну тоже оказаться за границей, где потом все мы обретем друг друга!
Что касается меня, то если мне представится случай снова отдать себя служению им… sufficit!..[229] И если для этого понадобится отдать свою жизнь… Amen![230] — как говорит наш деревенский кюре.
В семь часов мы уже были в пути. Если день 22 августа принесет не больше хлопот, чем предыдущий, то к вечеру мы проедем Тюрингию.
Во всяком случае, день начался неплохо. Первые несколько часов ехать было, конечно, тяжело: дорога меж острых скал подымалась так круто, что местами карету приходилось подталкивать. Но в общем и целом мы справились с этим без особого труда.
Около полудня мы достигли самой высокой точки горного перевала, называвшегося, если мне не изменяет память, Гебауер. Миновали самое глубокое ущелье этой горной цепи. Отныне нам предстояло спускаться вниз в сторону запада. Я рассчитывал, что теперь, даже не пуская лошадей во всю прыть (затея, кстати, весьма опрометчивая), можно двигаться быстро.
Погода все время была грозовою. С восходом солнца дождь перестал, небо покрылось тяжелыми тучами, похожими на огромные бомбы. Казалось, достаточно удара, чтобы они взорвались. И тогда разразилась бы гроза, всегда опасная в горах.
Действительно, около шести часов вечера вдалеке послышались раскаты грома. Они приближались с необычайной скоростью.
Барышня Марта, свернувшаяся клубочком в углу кареты и погруженная в свои мысли, похоже, не слишком испугалась. Сестра же моя сидела закрыв глаза и не шевелилась.
— Не лучше ли остановиться? — обратился ко мне господин де Лоране, высунувшись из окна кареты.
— Пожалуй, — отвечал я, — но пока я не вижу места, где можно будет переночевать. На таком склоне это никак невозможно.
— Поосторожней, Наталис!
— Будьте покойны, господин де Лоране! — Не успел я ответить, как карету и лошадей осветила яркая молния. Она ударила в огромную березу справа от нас. Дерево, к счастью, упало в сторону леса.
Лошади рванули и понесли. Я почувствовал, что потерял власть над ними. Они бешено мчались вниз по ущелью, несмотря на все мои усилия сдержать их. И они и я были ослеплены молниями, оглушены раскатами грома. Если взбесившиеся кони подадутся хоть немного в сторону — карета слетит в глубокую пропасть, разверстую вдоль дороги.
А тут оборвались вожжи! Лошади, почуяв свободу, еще бешенее понеслись вперед. Нам грозила неминуемая гибель.
Вдруг произошел резкий толчок. Карета натолкнулась на ствол дерева, лежащего поперек дороги. Постромки не выдержали, и лошади перемахнули через ствол. В этом месте дорога делала такой резкий поворот, что несчастные животные, сорвавшись вниз, упали в пропасть.
От удара карета сломалась — разбились передние колеса, но, к счастью, не перевернулась. Господин де Лоране, барышня Марта и сестра вышли из нее, даже не поранившись; я тоже был жив и здоров, хотя и упал с козел.
Непоправимое несчастье! Что станет с нами теперь, без средств передвижения, посреди этой глухой Тюрингии! Какую ночь мы провели!
На следующий день, 23 августа, предстояло продолжить этот трудный путь пешком, оставив карету, которой мы все равно не могли бы воспользоваться, даже если бы и достали других лошадей.
Сложив провизию вместе с дорожными вещами и увязав их в тюк, я надел его на палку и перекинул через плечо. Мы стали спускаться по узкому ущелью, которое, если господин де Лоране не ошибался, должно было вывести нас на равнину. Я шел впереди. Сестра, барышня Марта, ее дедушка поспевали за мной как могли. Думаю, что в тот день мы прошли не меньше трех миль. Когда с наступлением вечера мы устроили привал, заходящее солнце осветило открывшиеся взору безбрежные равнины, расстилавшиеся к востоку от подножия Тюрингских гор.
Глава XVI
Положение оказалось очень серьезным! И насколько же оно еще ухудшится, если мы не найдем, чем заменить потерянную упряжку лошадей и карету, оставленную в тюрингском ущелье.
Однако прежде всего следовало позаботиться о пристанище для ночлега. А потом уже размышлять. Я находился в большом затруднении. Кругом — никакого жилья. Я уже совершенно не знал, как быть, когда, поднявшись по правому склону, увидел на последних уступах скал, у самой границы леса, нечто вроде хижины.
Хижина эта с обоих боков и спереди была открыта всем ветрам. Прогнившие балки пропускали дождь и ветер. Но стропила крыши неплохо сохранились и могли хоть немного защитить нас от непогоды.
Вчерашняя гроза так хорошо очистила небо, что весь день не было ни капли дождя. К несчастью, вечером с запада снова набежали черные тучи. Потом внизу образовались насыщенные водою облака, которые, казалось, стлались прямо по земле. Я посчитал большой удачей то, что мы нашли хоть эту жалкую хижину, — теперь, когда мы лишились своей кареты.
Господин де Лоране был чрезвычайно удручен случившимся несчастьем, особенно из-за внучки. От французской границы нас отделял еще долгий путь. Как мы уложимся в заданный срок, если нам придется продолжать его пешком? Нам многое предстояло обсудить между собою. Но прежде всего следовало заняться самым неотложным делом.
Внутри хижины, которую, по-видимому, давно никто не посещал, пол был устлан сеном. Здесь, по всей вероятности, укрывались пастухи, которые приводят свои стада пастись сюда в горы — последние в тюрингской горной цепи. У подножия холма, в сторону Фульды, по территории Верхне-Рейнской провинции тянулись равнины Саксонии.
Освещенные косыми лучами заходящего солнца, равнины эти едва заметными волнами поднимались к горизонту. Они походили на «васты» — название, которое дают участкам земли, не таким засушливым, как песчаные «ланды». Хотя эти «васты» и испещрены возвышенностями, путь по ним гораздо легче того, по которому мы ехали от Готы.
С наступлением темноты я помог сестре достать кое-что из наших запасов, чтобы поужинать. Чересчур утомившись за целый день ходьбы, господин де Лоране и барышня Марта едва притронулись к еде. Ирма тоже была не в состоянии есть. Усталость брала верх над голодом.
— Нет, вы не правы, — повторял я. — Сперва закусить, потом отдохнуть — таков девиз солдата в походе. Теперь сила в ногах нам очень нужна. Надобно поужинать, барышня Марта!
— Я и хотела бы, добрый мой Наталис, — отвечала она, — но сейчас не могу!.. Завтра утром, перед дорогой, я попытаюсь что-нибудь съесть…
— И все же это будет одним ужином меньше! — возразил я.
— Да, конечно, но вы не беспокойтесь. Я не задержу вас в дороге!
Так я ничего и не смог добиться, несмотря на все свои увещевания и даже на тот пример, который подавал сам, поскольку ел за четверых.
В нескольких шагах от хижины протекал прозрачный ручеек, терявшийся в узкой лощине. Немного воды из него, смешанной со шнапсом, которого у меня была полная фляга, вполне могли служить укрепляющим напитком.
Марта согласилась сделать два-три глотка. Господин де Лоране и Ирма последовали ее примеру. Потом все трое улеглись на мягкой подстилке и мгновенно заснули.
Я пообещал прийти смениться, чтобы тоже поспать, про себя твердо вознамерившись не делать этого. Но если бы я сказал об этом прямо, господин де Лоране непременно вызвался бы сторожить вместе со мною, а он и без того устал сверх меры.
Вот я и ходил взад-вперед, как часовой. Всем известно, что для солдата стоять на часах — дело привычное. Предосторожности ради у меня за поясом были оба пистолета, взятые мною в карете. По моему разумению, уж если нести охрану, то как следует!
А потому я твердо решил бороться со сном, хотя веки мои отяжелели. Время от времени, когда ноги начинали уже подкашиваться, я ложился на землю возле хижины, не закрывая глаз и чутко прислушиваясь.
Ночь была очень темной, хотя туман мало-помалу поднялся ввысь. Ни одной прорехи в этом густом покрове, ни одной сверкающей звезды. Луна зашла почти вместе с солнцем. Все вокруг тонуло во мраке.
Но горизонт не был туманным. Если бы где-нибудь в глубине леса или на равнине блеснул огонек, я наверняка увидел бы его за добрую милю.
Но нет, повсюду царила тьма — и на лугах передо мною, и сзади меня, под отвесными уступами скалы, спускавшимися к самой хижине.
Впрочем, столь же глубокой, что и тьма, была тишина. Ни малейшего ветерка, ни малейшего движения воздуха в напряженной и тяжелой, как это обыкновенно бывает, предгрозовой атмосфере.
Хотя нет! Один звук все же раздавался, а именно — беспрерывное насвистывание, воспроизводящее марши и сигналы Королевского пикардийского полка. Как вы догадались, то Наталис Дельпьер бессознательно вернулся к своей скверной привычке. Никто другой не мог свистеть в такое время, когда даже птицы спят в кронах берез и дубов.
Вот так, продолжая все время свистеть, я размышлял о происшедшем, вспоминал о том, что случилось в Бельцингене после моего приезда, о свадьбе, отложенной в тот момент, когда она должна была совершиться, о несостоявшейся дуэли с лейтенантом фон Гравертом, о зачислении господина Жана в полк и о нашем выдворении из пределов Германии. Потом я мысленно перенесся в будущее, так и видя перед глазами нараставшие трудности, Жана Келлера (голова которого оценена), приговоренного к смерти и бегущего с прикованным к ноге ядром, его мать, не знающую, где ей искать сына!..
А вдруг его уже нашли? Вдруг какие-нибудь негодяи выдали его, чтобы заполучить эту награду в тысячу флоринов?.. Нет! Я не мог поверить в это! Смелый и решительный, господин Жан не даст себя взять голыми руками.
Я предавался размышлениям, а веки мои вопреки воле слипались. Не желая поддаться сну, я встал на ноги. Я даже жалел, что в природе все так тихо в эту ночь, что тьма так глубока. Ведь не было ни малейшего звука, который заставил бы меня встрепенуться, никакого света ни в полях, ни в бездонном небе, на котором я мог бы остановить взгляд. И приходилось, все время делать усилие, чтобы не уступить свалившейся на меня усталости.
Между тем время шло. Который теперь мог быть час? Миновала ли уже полночь? Возможно, так как ночи в это время года довольно короткие. Я стал отыскивать глазами светлую полоску в восточной части неба, над гребнем далеких гор. Но ничто еще не предвещало близкого рассвета, значит, я, должно быть, ошибался.
Тут мне вспомнилось, что, рассматривая с господином де Лоране днем карту местности, мы узнали следующее: первым крупным городом на нашем пути будет Танн, Кассельского округа, провинции Гессен-Нассау. Там, конечно, можно будет чем-то заменить карету. Любое средство сгодится, чтобы добраться до Франции, и, когда мы там окажемся, все тревоги останутся позади. Однако до Танна — около двенадцати миль. Тут я впал было в забытье, но внезапно вздрогнул.
Я встал и прислушался. Мне показалось, что где-то далеко прозвучал хлопок. Не выстрел ли это?
Почти сразу вслед за ним послышался второй. Никаких сомнений быть не могло — то был выстрел из ружья или из пистолета. Мне даже показалось, что я видел свет, блеснувший за деревьями, высившимися позади хижины.
В нашем положении, среди почти безлюдной местности можно опасаться всего. Стоило шайке отставших солдат или грабителей пройти по этой дороге, как мы рисковали быть обнаруженными. Даже если их будет всего полдюжины, как мы сможем защитить себя?
Прошло минут пятнадцать. Я не хотел будить господина де Лоране. Могло статься, что это выстрелы какого-нибудь охотника, выследившего кабана или дикую козу. Во всяком случае, судя по виденному мною огню, я прикинул, что расстояние составляет примерно полмили.
Я застыл в неподвижности, глядя в сторону выстрелов. Ничего! Я начинал уже успокаивать себя, вопрошая, не стал ли я жертвой слуховых и зрительных галлюцинаций. Иногда кажется, что не спишь, а сам спишь. И принимаешь за действительность то, что на самом деле является мимолетным сновидением.
Решив бороться с одолевавшим меня сном, я стал быстро ходить взад и вперед, машинально насвистывая свои самые бравурные[231] мелодии. Я даже дошел до края леса за хижиной и углубился на несколько шагов в чащу деревьев.
Вскоре мне послышалось, будто кто-то крадется в кустах. Возможно, волк или лисица? Я с заряженными пистолетами готовился встретить незваных гостей. Но сила привычки оказалась такова, что и тут, рискуя обнаружить свое присутствие, я продолжал, как мне потом рассказывали, свистеть.
Вдруг мне показалось, что я вижу прыгающую тень. Я почти наугад выстрелил. Но в тот самый момент, когда раздался выстрел, передо мною вырос человек…
При вспышке выстрела я сразу узнал его: это был Жан Келлер!
Глава XVII
Господин де Лоране, барышня Марта и сестра, разбуженные внезапным шумом, выскочили из хижины. В человеке, выходившем со мною из леса, они никак не могли узнать Жана Келлера, равно как и появившуюся почти сразу вслед за ним госпожу Келлер. Господин Жан кинулся к ним. Не успел он сказать и слова, как барышня Марта узнала его, и он прижал ее к своей груди.
— Жан!.. — прошептала она.
— Да, Марта! Это я… и моя мать!.. Наконец-то!
Барышня Марта бросилась в объятия госпожи Келлер. Но нам не следовало терять хладнокровия: любая оплошность могла оказаться роковой.
— Вернемся в хижину, — сказал я. — Ведь речь идет о вашей голове, господин Жан.
— Как!.. Разве вы знаете, Наталис?.. — спросил он.
— Нам с сестрой все известно.
— А тебе, Марта, а вам, господин де Лоране?.. — спросила госпожа Келлер.
— А что такое случилось? — воскликнула Марта.
— Сейчас вы все узнаете, — отвечал я. — Пойдемте.
Минуту спустя мы уже теснились в глубине хижины. Там мы могли если не видеть, то слышать друг друга. Я, расположившись у входа, слушал, а сам не переставал наблюдать за дорогой.
Вот что рассказал нам господин Жан, делая паузы лишь для того, чтобы прислушаться к звукам снаружи.
Впрочем, и без того господин Жан говорил прерывисто, короткими фразами, словно он запыхался от быстрого бега.
— Милая Марта, — начал он, — это должно было случиться… И мне сейчас лучше находиться здесь… прячась в этой хижине… чем там, под началом полковника фон Граверта, к тому же в эскадроне его сына, лейтенанта Франца!..
Тут Марте и моей сестре в двух словах рассказано было о том, что произошло перед нашим отъездом из Бельцингена, об оскорбительном вызове лейтенанта Франца, об уже условленном поединке, об отказе от него после зачисления господина Жана Келлера в лейб-полк…
— Да, — говорил господин Жан, — мне предстояло служить под командой этого офицера! И он мог мстить мне сколько душе угодно вместо того, чтобы стать со мной лицом к лицу с саблей в руке. Ах, Марта, я убил бы этого человека, оскорбившего вас!..
— Жан… бедный мой Жан, — шептала девушка.
— Полк был отправлен в Борну, — продолжал Жан Келлер. — Там в продолжение месяца на меня сваливали самую тяжелую работу, унижали на службе, несправедливо наказывали, обращались со мной хуже чем с собакой — и все из-за этого Франца!.. Я сдерживал себя… Все сносил… думая о вас, Марта! Терпел ради матери и всех моих друзей! Ах, как я страдал! Наконец полк ушел в Магдебург… Там мы встретились с матерью. Но там же, пять дней тому назад, когда мы с лейтенантом Францем однажды вечером оказались одни на улице, он осыпал меня ругательствами и ударил хлыстом!.. Это переполнило чашу моих страданий и унижений!.. Я бросился на него и… в свою очередь тоже ударил его…
— Жан… бедный мой Жан!.. — все повторяла шепотом барышня Марта.
— Если бы мне не удалось бежать, я бы пропал… — снова заговорил господин Жан. — К счастью, я смог разыскать мать в гостинице, где она остановилась… Некоторое время спустя я сменил форму на крестьянское платье, и мы покинули Магдебург!.. На следующий день, как я вскоре узнал, военный совет приговорил меня к смертной казни… За мою голову назначили цену… Тысячу флоринов тому, кто выдаст меня!.. Как мне ускользнуть?.. Я не знал!.. Но я хотел жить, Марта… жить, чтобы снова увидеть всех вас!..
Тут господин Жан тревожно огляделся.
— Нас никто не может слышать? — спросил он.
Я выскользнул из хижины. Дорога была тиха и пустынна. Я приложил ухо к земле. Никаких подозрительных звуков со стороны леса.
— Все спокойно, — сказал я, возвратившись.
— Мы с матерью, — возобновил свой рассказ господин Жан, — направились через саксонские поля, надеясь встретить вас, так как матери был известен маршрут, предписанный вам полицией!.. Двигались мы главным образом по ночам, покупая себе еду в обособленно стоящих домах, проходя по деревням, где я и смог увидеть афишу, объявлявшую, что голова моя оценена…
— Ну да, именно такую афишу мы с сестрой прочитали в Готе! — вставил я.
— Моим намерением, — продолжал рассказывать господин Жан, — было попытаться достигнуть Тюрингии, где, по моим расчетам, вы еще должны были находиться!.. Кроме того, там я чувствовал бы себя в большей безопасности. Наконец мы добрались До гор!.. Как тяжела там дорога, вы, Наталис, знаете, так как вам пришлось часть ее проделать пешком…
— Да, господин Жан, — ответил я. — Но как вы узнали об этом?..
— Вчера вечером, проходя вершину перевала Гебауер, — ответил господин Жан, — я увидел брошенную на дороге полуразбитую карету. Я узнал экипаж господина де Лоране… Значит, случилось несчастье!.. Живы ли вы?.. Боже, как мы беспокоились… Мы с матерью шли всю ночь. Потом наступило утро, пришлось прятаться…
— Прятаться! — воскликнула сестра. — Но почему? Значит, вас преследовали?
— Да, — отвечал господин Жан, — преследовали трое негодяев, которых я встретил в конце перевала Гебауер, — браконьер Бух из Бельцингена с двумя своими сыновьями. Я уже видел их в Магдебурге, в армейском обозе, вместе с массой других подобных им воров и грабителей. Разумеется, они знали, что, пустившись по моему следу, за меня можно выручить тысячу флоринов, что они и сделали!.. Сегодня ночью, не далее как два часа тому назад, они напали на нас в полумиле отсюда… на лесной опушке.
— Так что два выстрела, которые, как мне показалось, я слышал?.. — спросил я.
— Да, то были их выстрелы, Наталис. Одна пуля пробила мне шляпу. Однако, укрывшись в густой чаще леса, мы с матерью сумели ускользнуть от этих подлецов!.. Они, вероятно, решили, что мы повернули обратно, так как пустились в сторону гор. Тогда мы снова направили свой путь к равнине и, дойдя до края леса, Наталис, я по вашему свисту узнал вас…
— А я-то стрелял в вас, господин Жан!.. Вижу — выскакивает какой-то человек…
— Ничего, Наталис! Но может статься, что ваш выстрел был услышан, поэтому я должен сию же минуту уходить!..
— Один? — воскликнула Марта.
— Нет! Мы уйдем отсюда все вместе! — ответил господин Жан. — И если это возможно, мы больше не расстанемся до самой границы Франции. Зато там придется разлучиться, и, возможно, очень надолго!..
Теперь мы узнали все, что нам важно было знать, то есть какая опасность грозит господину Жану, если браконьер Бух со своими сыновьями снова нападет на его след. Конечно, мы сумеем защититься от этих негодяев! Но чем может кончиться эта борьба в случае, если Бухи наберут себе еще несколько таких же, как они, подлецов, которых столько шляется по деревням?
В нескольких словах мы поведали господину Жану о том, что произошло с нами со дня отъезда из Бельцингена и как благополучно проходило наше путешествие до несчастья, случившегося на перевале Гебауер.
Теперь отсутствие лошадей и экипажа поставило нас в крайне затруднительное положение.
— Надо любой ценой добыть средства передвижения, — сказал господин Жан.
— Я надеюсь, что мы сможем раздобыть их в Танне, — ответил господин де Лоране. — Во всяком случае, дорогой Жан, не будем оставаться в этой хижине. Может быть, Бух с сыновьями повернули уже в эту сторону… Надо воспользоваться ночной темнотой.
— Можете ли вы идти вместе со всеми. Марта? — спросил невесту Жан.
— Я готова! — ответила барышня Марта.
— А ты, мама, ведь ты так устала?!
— В путь, сын мой! — ответила госпожа Келлер. У нас оставалось немного провизии, которой должно было хватить до Танна. Это позволит нам не делать остановок в деревнях, где могут или уже смогли появиться Бух с сыновьями.
Вот что мы обсудили, пока снова не отправились в дорогу, ибо прежде всего надо было «защитить дитя», как говорится у нас при игре в пикет[232].
Мы решили, пока не возникнет особой опасности, больше уже не расставаться. Конечно, то, что было сравнительно легко для нас (господина де Лоране, Марты, Ирмы и меня, имевших паспорта, защищавшие нас вплоть до самой французской границы), оказывалось намного сложнее для госпожи Келлер с сыном. А потому им следовало принять меры предосторожности и обходить города, по которым обязаны были следовать мы, и присоединяться к нам лишь после. Только при таких условиях и возможно было наше совместное путешествие.
— Давайте двигаться в путь! — сказал я. — Если в Танне мне удастся купить экипаж и лошадей, это избавит вашу матушку и барышню Марту, мою сестру и господина де Лоране от излишнего утомления. А для нас с вами, господин Жан, провести несколько дней на марше и несколько ночей под звездным небом не составит особого труда, и вы увидите, как они прекрасны — звезды, что сверкают над французской землей!
С этими словами я вышел из хижины и сделал шагов двадцать по дороге. Было два часа ночи. Все утопало в глубоком мраке. Однако над гребнем гор светлели первые проблески зари.
Я ничего не видел, зато мог все слышать. Я прислушивался очень внимательно. В воздухе стояла такая тишина, что малейший шум под деревьями или на дороге не ускользнул бы от моего слуха.
Нигде ни звука… Надо полагать, Бух с сыновьями потеряли след Жана Келлера.
Все вышли из хижины. Я вынес оставшуюся провизию, и тюк со снедью, поверьте, был не слишком тяжел. Из двух наших пистолетов один я отдал господину Жану, другой оставил себе. В случае надобности мы сумеем воспользоваться ими.
Тут господин Жан взял барышню Марту за руку и проникновенно сказал ей:
— Марта, когда я хотел взять вас в жены, моя жизнь принадлежала мне! Теперь я больше не имею права соединять вашу жизнь с моею… ведь я беглец, приговоренный к смерти!..
— Жан, — отвечала барышня Марта, — нас соединил сам Господь… Пусть Он и сохранит нас!
Глава XVIII
Не буду подробно останавливаться на первых двух днях нашего путешествия вместе с госпожой Келлер и ее сыном. Скажу только, что нам удалось, покидая территорию Тюрингии, обойтись без всяких неприятностей.
Радость встречи нас окрылила, мы шли хорошим шагом. Усталости как не бывало. Казалось, госпожа Келлер, барышня Марта и сестра хотели подать нам пример. Нам приходилось даже сдерживать их. Отдыхали мы регулярно, по часу после каждых трех часов ходьбы, так что в конце концов нами был пройден довольно приличный путь.
Здешняя малоплодородная земля была изрыта извилистыми балками, по которым росли ивы и осины. В общем, природа в этой части провинции Гессен-Нассау, теперь являющей собою Кассельский округ, довольно дикая. Деревень здесь мало, только кое-где фермы с плоскими крышами без желобов. Мы шли через анклав Шмалькальден в благоприятную погоду: небо было закрыто облаками, довольно прохладный ветер дул нам в спину. Тем не менее мои спутники сильно утомились, когда 24 августа мы, проделав пешком дюжину миль после гор Тюрингии, прибыли около десяти часов вечера в Танн.
Здесь, как было условлено, господин Жан с матерью отделились от нас. Им было опасно входить в город, где господин Жан легко мог быть узнан, а к чему бы это привело — известно!
Решено было встретиться на другой день в восемь часов утра на дороге, ведущей в Фульду. Если мы немного запоздаем, значит, нас задержала покупка экипажа и лошади. Но ни под каким видом госпожа Келлер с сыном не должны были входить в город. Решение весьма благоразумное, так как полицейские агенты выказали невероятную строгость при проверке наших паспортов. Был даже момент, когда я решил, что они собираются арестовать нас — людей, которых выдворяют из страны. Пришлось подробно объяснять, как мы путешествуем, при каких обстоятельствах потеряли свой экипаж и так далее…
Это и послужило нам на пользу. Один из агентов, в надежде на изрядные комиссионные, предложил свести нас к извозопромышленнику. Его предложение было принято.
Проводив барышню Марту и мою сестру в гостиницу, господин де Лоране, прекрасно говоривший по-немецки, отправился со мной к этому человеку.
Дорожной кареты у того не оказалось. Пришлось удовольствоваться чем-то вроде таратайки о двух колесах, крытой брезентом, и одной лошадью, которую можно было запрячь в оглобли. Нечего и говорить, что господину де Лоране пришлось заплатить за лошадь вдвое, а за повозку — втрое против их стоимости.
На следующий день в восемь часов мы встретились на дороге с госпожой Келлер и ее сыном. Приютом для них послужил какой-то скверный кабачок. Причем господин Жан провел ночь на стуле, а его мать — на убогом ложе. Господин и барышня де Лоране, госпожа Келлер и Ирма сели в повозку, куда я уложил и кое-какую провизию, закупленную в Танне. Потеснившись немного, можно было дать место и пятому человеку. Я предложил его господину Жану. Он отказался. В конце концов было решено, что мы с ним будем садиться по очереди, но большей частью нам обоим приходилось идти пешком, чтобы не слишком утомлять клячу. Ее пришлось взять, потому что выбора у меня не было. Ах, бедные наши бельцингенские лошади!
Двадцать шестого августа днем мы уже стали приближаться к Фульде, еще издали завидев купол ее собора и возвышающийся надо всем францисканский[233] монастырь. В Фульду мы прибыли к вечеру. 27-го проехали Шлинхтерн, Содон, Сальмюнстер, что при слиянии Зальца с Кинцигом. 28-го были в Гельнгаузене, и если бы путешествовали ради своего удовольствия, то, пожалуй, посетили бы замок, в котором, как мне потом сказали, жил Фридрих Барбаросса[234]. Но нам, беглецам, или почти беглецам, было не до этого.
Повозка тем временем двигалась не так быстро, как мне бы хотелось, из-за плохого состояния дороги, которая, особенно в окрестностях Сальмюнстера, шла через нескончаемые леса, перерезаемые обширными озерами, какие мы в Пикардии называем водоемами. Ехали мы шагом, вследствие чего продвигались с опозданием, которое нас постоянно беспокоило. Вот уже тринадцать дней, как мы находились в пути. Еще семь дней — и наши паспорта будут недействительны.
Госпожа Келлер очень устала. Что будет дальше, если силы ей изменят и ее придется оставить в каком-нибудь городе или деревне? Сын не сможет остаться с нею, да она и не позволила бы этого. Пока господина Жана от прусских агентов не отделит французская граница, он будет подвергаться смертельной опасности.
Как нам было трудно пробираться через лес Ломбой, тянувшийся по обоим берегам Кинцига до Гессен-Дармштадтских гор! А сколько мы искали брод! Я думал, нам никогда не удастся достичь противоположного берега.
Наконец 29 августа наша повозка остановилась ненадолго возле Ганау. Мы должны были переночевать в этом городе, где наблюдалось значительное движение войск и экипажей. Так как господину Жану и его матери пришлось бы сделать пешком большой крюк в две мили, чтобы обогнуть город, господин де Лоране и барышня Марта остались с ними в повозке. Мы с сестрой отправились одни в город, чтобы пополнить наши весьма скудные припасы. На другой день, 30-го, все мы снова встретились на дороге, пересекающей Висбаденский округ. Около полудня миновали небольшой городок Оффенбах, а к вечеру добрались до Франкфурта-на-Майне.
Не буду ничего рассказывать об этом большом городе, скажу только, что стоит он на правом берегу реки и кишит евреями[235]. Переехав через Майн на пароме перевозчика из Оффенбаха, мы очутились на дороге, ведущей в Майнц. Так как мы не смогли избавиться от въезда во Франкфурт из-за необходимости завизировать там паспорта, мы выполнили эту формальность и вернулись к господину Жану с матерью. Таким образом, на ночь нам не пришлось расставаться, что всегда было тяжело. Но еще приятнее было то, что мы удачно, хотя и весьма скромно, устроились на ночлег в предместье Зальценхаузена — на левом берегу Майна.
После совместного ужина все поспешили улечься в постель, кроме сестры и меня: нам надо было еще запастись провизией. Зайдя в булочную, Ирма услышала, между прочим, как несколько человек рассуждали о солдате Жане Келлере. Говорили, что его поймали около Сальмюнстера, причем описывали этот эпизод во всех подробностях. Право, будь у нас другое настроение, это бы нас позабавило.
Но бесконечно важнее было то, о чем еще шли разговоры — о приходе лейб-полка, который должен был из Франкфурта направиться в Майнц, а из Майнца — в Тионвиль.
Если это так, то полковник фон Граверт с сыном пойдут по той же дороге, что и мы. Не следует ли нам, ввиду этой возможной встречи, изменить маршрут, взяв более южное направление, и, решившись на непослушание, не заезжать в города, указанные нам прусской полицией?
На следующий день, 31 августа, я сообщил господину Жану эту неприятную новость. Он посоветовал ничего не говорить ни его матери, ни барышне Марте, у которых и без того было достаточно тревог. После Майнца видно будет, на каком решении остановиться и надо ли нам расстаться еще до границы. Поторопившись, мы сможем, вероятно, оторваться от лейб-полка, с тем чтобы раньше его достичь Лотарингии.
Мы пустились в путь в 6 часов утра. К несчастью, дорога была трудна и утомительна. Надо было проехать через леса Нейльру и Лавиль, примыкающие к Франкфурту. Несколько лишних часов ушло на то, чтобы обогнуть местечки Хехст и Хохгейм, запруженные колонной военных обозов. Я опасался, что наша старая повозка, запряженная дряхлой клячей, вот-вот будет отобрана для перевозки хлеба. Одним словом, хотя расстояние от Франкфурта до Майнца составляло всего каких-то пятнадцать миль, мы прибыли в Майнц только 31 августа вечером. Теперь мы находились на границе Гессен-Дармштадта.
Понятно, что в интересах госпожи Келлер и ее сына было обойти Майнц стороной. Этот город стоит на левом берегу Рейна, при слиянии его с Майном, прямо напротив Касселя, предместья Майнца, соединяющегося с ним понтонным мостом в шестьсот футов длиной.
Значит, чтобы попасть на дороги, ведущие во Францию, надо непременно перебраться через Рейн либо выше, либо ниже города, если не хочешь пользоваться мостом.
Вот мы и принялись искать паром, который бы перевез господина Жана с матерью. Поиски оказались тщетными. Распоряжением военных властей движение паромов было запрещено.
Было уже восемь часов вечера. Мы решительно не знали, как нам поступить.
— Однако должны же мы с матерью переправиться через Рейн! — воскликнул Жан Келлер.
— Да, — сказал я, — но где и как?
— Через мост Майнца, раз в другом месте это невозможно!
И вот какой смелый способ мы придумали. Господин Жан с головы до пят завернулся в мой балахон и, держа лошадь под уздцы, направился к воротам Касселя. Госпожа Келлер притаилась в глубине повозки под дорожными вещами. Господин де Лоране, Марта, сестра и я заняли места на обеих скамейках. Так мы и приблизились к старинным, поросшим мхом кирпичным стенам города, и повозка остановилась около поста, охранявшего мост.
Здесь было большое скопление народа по случаю ярмарки, проходившей в тот день в Майнце. Господин Жан, набравшись смелости, крикнул нам:
— Приготовьте паспорта!
Я протянул ему бумаги, которые он, в свою очередь, передал начальнику охраны.
— Кто эти люди? — спросили у господина Жана.
— Французы, которых я везу до границы.
— А сами вы кто?
— Николас Фридель, извозчик из Хехста.
Наши паспорта были изучены с пристальным вниманием. И хотя они были в полном порядке, можете себе представить, как сжималось у нас от страха сердце.
— Срок паспортов истекает через четыре дня! — заметил начальник охраны. — Так что через четыре дня этим людям следует быть уже за пределами Германии.
— Так оно и будет, — отвечал Жан Келлер, — но мы не должны терять времени!
— Проезжайте!
Через полчаса, переехав Рейн, мы остановились в «Ангальт-отеле», где господину Жану пришлось до конца играть свою роль извозчика. Навсегда запомнится мне этот наш въезд в Майнц!
Вот ведь как иногда складываются обстоятельства!
Несколько месяцев спустя, когда в октябре Майнц взяли французы, нам бы здесь оказали совсем другой прием! Какое было бы счастье встретиться тут с нашими соотечественниками! Как бы хорошо они приняли не только нас, выдворенных с немецкой территории, но и госпожу Келлер с сыном, узнав их историю! И если бы мы могли пробыть в этом столичном городе шесть или восемь месяцев, мы могли бы выйти из него вместе с нашими бравыми полками, с военными почестями, — дабы возвратиться во Францию!
Но не все бывает так, как хочется, и главное для нас после прибытия в Майнц было суметь благополучно выехать оттуда.
Когда госпожа Келлер, барышня Марта и Ирма разошлись по своим комнатам в «Ангальт-отеле», господин Жан пошел взглянуть на лошадь, а господин де Лоране и я отправились в город узнать новости.
Самое лучшее было зайти в какой-нибудь кабачок и проглядеть там последние газеты. Это стоило труда — узнать о событиях, происшедших во Франции со времени нашего отъезда. Ведь там 10 августа и в самом деле произошло нечто невероятное — нападение на дворец в Тюильри, избиение швейцарцев, заключение королевской семьи в Тампль и временное лишение Людовика XVI королевского сана!
Таковы были эти события, и они способствовали тому, чтобы войска союзников ринулись к французской границе.
Поэтому вся Франция уже была готова отразить их нашествие. Существовали по-прежнему три армии: Люкнера — на севере, Лафайета — в центре и Монтескье — на юге. Что касалось Дюмурье, то он в качестве генерал-лейтенанта служил под началом Люкнера.
Однако вот новость, распространившаяся всего три дня тому назад: Лафайет в сопровождении нескольких штабных офицеров посетил штаб-квартиру австрийцев, а там с ним, несмотря на его протесты, обошлись как с военнопленным.
По этому факту можно было судить об отношении наших врагов ко всему французскому и о том, какова была бы наша участь, если бы мы без паспортов попались на глаза военным чинам!
Конечно, всему, что пишется в газетах, слепо верить нельзя, тем не менее положение дел на данный момент представлялось следующим.
Дюмурье, главнокомандующий армий севера и центра, был, как известно, мастер своего дела. Вот почему, желая направить первые удары именно против него, короли прусский и австрийский собирались прибыть в Майнц. Союзными армиями командовал герцог Брауншвейгский. Проникнув во Францию через Арденны, неприятельские войска должны были идти на Париж по шалонской дороге. Шестидесятитысячная колонна пруссаков шла через Люксембург к Лонгви. Тридцать шесть тысяч австрийцев в составе двух корпусов, под началом Клерфайта и принца Гогенлое, фланкировали прусскую армию. Вот какое несметное воинство угрожало Франции!
Я рассказываю вам все эти подробности теперь (хотя сам узнал о них лишь впоследствии) для того, чтобы вы получили ясное представление о сложившейся ситуации.
Что касается Дюмурье, то он находился в Седане с двадцатью тремя тысячами людей. Келлерман, заменявший Люкнера, стоял в Меце с двадцатью тысячами. Пятнадцать тысяч в Ландау, под началом Кюстина, и тридцать тысяч в Эльзасе, под командой Бирона, готовы были в случае надобности присоединиться либо к Дюмурье, либо к Келлерману.
Наконец из последних газет мы узнали, что пруссаки, взяв Лонгви, осаждают Тионвиль и что основные силы прусской армии идут на Верден.
Мы вернулись в гостиницу, и когда госпожа Келлер узнала от нас все эти новости, она, несмотря на то, что была очень слаба, не позволила нам потерять в Майнце целые сутки. Хотя отдых ей так требовался! Но ее бросало в дрожь при мысли, что сына могут обнаружить. Так что мы отбыли на следующее же утро, в первый день сентября. Нас отделяло от границы еще около тридцати миль.
Лошадь, несмотря на все мои заботы о ней, шла не слишком резво. А нам так нужно было поторопиться! Только под вечер увидели мы развалины старого феодального замка, стоявшего на вершине Шлоссберга. У подножия его раскинулся Крёйцнах[236], небольшой, но важный городок Кобленцкого округа, стоящий на реке Наге, который в 1801 году принадлежал Франции, а в 1815 году снова перешел к Пруссии.
На другой день мы добрались до местечка Кирн, а еще через сутки — до Биркенфельда. Имея, к счастью, достаточный запас провизии, мы (госпожа Келлер, господин Жан и все остальные) смогли обойти стороной эти городки, не значившиеся в нашем маршруте. Но на привалах в качестве крова нам приходилось довольствоваться лишь повозкой, так что ночи, проведенные в подобных условиях, оказались мучительными.
Так было и во время нашей стоянки, которую мы разбили вечером 3 сентября. На следующий день в полночь истекал срок, в который нам предписывалось покинуть территорию Германии. А мы были еще на расстоянии двух дней пути до границы! Что с нами будет, если прусские агенты арестуют нас по дороге с просроченными паспортами?
Может, нам стоило податься на юг, в сторону ближайшего французского города Саррелуи? Но тогда мы рисковали наткнуться на войска пруссаков, шедших на подмогу осаждавшим Тионвиль. А потому, во избежание этой опасной встречи, мы предпочли более долгий путь.
В сущности, мы находились всего в нескольких милях от своей страны, причем все были целы и невредимы! В отношении господина де Лоране, Марты, сестры и меня тут не было ничего удивительного, а вот про госпожу Келлер с сыном можно сказать, что судьба к ним благоволила. Когда мы с Жаном Келлером встретились в горах Тюрингии, я никак не думал, что мы с ним сможем пожать друг другу руки на границе Франции!
Но как бы то ни было, следовало непременно обойти стороной Саарбрюкен — не только в интересах господина Жана с матерью, но и в наших. В этом городе нам гораздо охотнее оказали бы гостеприимство в тюрьме, чем в гостинице.
Так что мы остановились в харчевне, где посетителями бывает обычно публика попроще. Хозяин ее несколько раз бросил на нас странный взгляд. Мне даже показалось, что, когда мы уезжали, он перекинулся несколькими словами с субъектами, сидевшими за столиком в глубине маленькой залы, разглядеть которых нам не удалось.
Наконец, 4 сентября утром, мы отправились в путь по дороге, ведущей из Тионвиля в Мец, решив, если нужно будет, направиться в этот большой город, занятый в то время французами.
Как труден путь среди массы мелких рощиц, усеявших всю местность! Бедная лошаденка совсем изнемогала. А потому около двух часов пополудни у подножия большого косогора, подымавшегося вверх меж густых кустарников и полей хмеля, нам пришлось дальше идти пешком — всем, кроме слишком утомившейся, чтобы сойти с повозки, госпожи Келлер.
Двигались медленно. Я вел лошадь под уздцы. Сестра шла рядом. Господин де Лоране, его внучка и господин Жан следовали чуть сзади. На дороге, кроме нас, никого не было. Вдали, слева, слышались глухие выстрелы. Несомненно, это шел бой под стенами Тионвиля.
Вдруг справа раздается выстрел. Лошадь, пораженная насмерть, падает на оглобли и ломает их. Одновременно раздаются крики:
— Наконец он нам попался!
— Да, это точно Жан Келлер!
— Тысяча флоринов наша!
— Пока еще нет! — воскликнул господин Жан.
Снова раздался выстрел. На этот раз стрелял господин Жан, и какой-то человек рухнул на землю возле нашей лошади. Все произошло так быстро, что я не успел опомниться.
— Это Бухи! — крикнул мне господин Жан.
— Ну так «бухнем» по ним! — ответил я. Оказывается, эти негодяи находились в той самой харчевне, в которой мы провели ночь. Обменявшись несколькими словами с хозяином, они пустились по нашему следу.
Но из троих теперь осталось лишь двое — отец и один из сыновей, другого же пуля сразила наповал.
Теперь силы сравнялись: двое против двух. Впрочем, схватка оказалась непродолжительной. Я в свою очередь выстрелил в уцелевшего сыночка Буха, но, к сожалению, лишь ранил этого негодяя. Тогда они с отцом, видя свою неудачу, кинулись в чащу слева от дороги и дали деру.
Я хотел было броситься за ними в погоню. Господин Жан остановил меня. Может, он был неправ?
— Нет, — сказал он, — сейчас самое важное — перейти через границу. — В дорогу!.. В дорогу!
Поскольку мы лишились лошади, повозку пришлось бросить. Госпожа Келлер вынуждена была сойти с нее и опереться на руку сына.
Еще несколько часов — и наши паспорта больше не будут нам защитой!..
Так мы шли до самой ночи; привал сделали под деревьями. Подкрепились остатками провизии. Наконец на следующий день, 5 сентября вечером, мы пересекли границу.
Да! Теперь уже наши ноги топтали французскую землю. Но землю, занятую вражескими солдатами!
Глава XIX
Итак, долгое путешествие по неприятельской стране, к которому вынудило нас объявление войны, подошло к концу. Если не считать ужасных дорожных тягот, то мы еще дешево отделались. За исключением двух-трех случаев (среди них — тот, когда на нас напали Бухи), наша жизнь не подвергалась особой опасности и наша свобода — тоже.
Вышесказанное относится также и к господину Жану — с того момента, когда мы встретили его в горах Тюрингии. Он прибыл на границу целым и невредимым. Теперь ему оставалось только добраться до какого-нибудь городка в Нидерландах, где он сможет в безопасности ожидать исхода событий.
Между тем граница была захвачена неприятелем. Этот район, простирающийся до Аргонского леса, водворившиеся здесь австрийцы и пруссаки делали для нас столь же опасным, как если бы нам предстояло пересечь Потсдамский или Бранденбургский округ. Так что, хотя прошлые тяготы остались позади, будущее сулило нам по-своему серьезные опасности.
Что поделаешь? Казалось бы, вот уже добрался до места, а выходит, будто только-только тронулся в путь.
В действительности, чтобы очутиться впереди неприятельских аванпостов[237] и лагерей, нам оставалось проделать не более двадцати миль. Но это прямым путем, а насколько увеличится этот путь с обходами!
Может, благоразумнее вернуться во Францию через южную или северную Лотарингию? Но в нашем бедственном положении, когда мы оказались лишены средств передвижения, причем без всякой надежды добыть их, надо было дважды подумать, прежде чем решиться на такой большой крюк.
Проект этот был обсужден господином Жаном, господином де Лоране и мною. Взвесив все «за» и «против», мы отвергли его, и, по-моему, вполне правильно.
Было восемь часов вечера, когда мы достигли границы.
Перед нами раскинулись огромные леса, идти через которые в темноте нельзя без риска.
Мы, поразмыслив, сделали привал, решив отдохнуть до утра. Дождя на этих возвышенных плато не было, но холод начала сентября давал себя знать.
Развести костер было бы слишком неосторожно для беглецов, стремящихся проскользнуть незамеченными. Так что мы расположились как можно теснее под низкими ветвями бука. Разложили на коленях провизию, вынутую мною из повозки: хлеб, холодное мясо, сыр. К чистой ключевой воде добавляли несколько капель шнапса. Затем, оставив господина де Лоране, госпожу Келлер, барышню Марту и сестру отдыхать, мы с господином Жаном встали на стражу в десяти шагах от них.
Погрузившись в свои думы, господин Жан некоторое время не произносил ни слова, а я не нарушал его молчания. Вдруг он за говорил:
— Выслушайте меня, мой славный Наталис, и никогда не забывайте того, что я вам сейчас скажу. Никому из нас не известно, что с нами может случиться, особенно со мной. Я могу оказаться вынужденным бежать… Итак, нужно, чтобы моя мать не покидала вас. Бедная, она совсем выбилась из сил, и, если мне придется расстаться с вами, я больше не хочу, чтобы мать следовала за мной. Вы видите, в каком она состоянии, несмотря на всю свою энергию и отвагу. Я поручаю ее вам, Наталис, как поручаю вам и Марту — то есть все, что у меня есть самого дорогого на свете!
— Положитесь на меня, господин Жан, — ответил я. — Надеюсь, нас уже ничто больше не разлучит!.. Однако, если это случится, я сделаю все, что вы вправе ожидать от глубоко преданного вам человека!
Господин Жан пожал мне руку.
— Наталис, если меня схватят, — продолжил он, — то я нисколько не заблуждаюсь относительно своей судьбы. Вспомните тогда, что моя мать больше не должна возвращаться в Пруссию. До замужества она была француженкой. Потеряв мужа и сына, она должна кончить свою жизнь в той стране, в которой родилась.
— Вы сказали — она была француженкой, господин Жан? Скажите лучше, что она никогда не переставала быть ею в наших глазах.
— Пусть так, Наталис! Вы увезете ее в свою Пикардию, которой я никогда не видел и которую так хотел бы увидеть! Будем надеяться, что моя мать найдет под конец жизни если не счастье, то, по крайней мере, спокойствие и отдых, которых она вполне заслуживает! Бедняжка, сколько ей еще придется выстрадать!
А сам господин Жан! Разве сам он перенес мало страданий?
— Ах эта Франция! — продолжал он. — Если бы мы могли жить там все вместе — Марта, я и моя мать, — какое это было бы блаженство и как скоро позабылись бы все наши невзгоды! Но не безумие ли мечтать об этом мне, беглецу, обреченному на ежеминутную смерть?
— Постойте, господин Жан, не говорите так! Ведь вас еще не поймали, и я очень удивлюсь, если вы дадите поймать себя!
— Нет, Наталис! Конечно нет!.. Не сомневайтесь, я буду бороться до конца!
— И я помогу вам, господин Жан!
— Я это знаю! Ах, друг мой, позвольте мне обнять вас! В первый раз судьба посылает мне возможность обнять француза на французской земле!
— Но не в последний! — отвечал я.
Да! Вера, что живет во мне, не ослабла, несмотря на все испытания!
Ночь тем временем проходила. Мы с господином Жаном по очереди отдыхали. Под деревьями было так темно, что сам черт мог ногу сломать! А ведь он, этот черт, находился, вероятно, поблизости со своими уловками! И как он еще не устал причинять бедным людям столько зла и страданий!
Во время своего дежурства я держал ухо востро. Малейший шум казался мне подозрительным. В этих лесах можно было опасаться если не солдат регулярной армии, то всяких темных людишек, следовавших за нею. Мы убедились в этом на случае с Бухом и его сыновьями.
К сожалению, двое из Бухов от нас ускользнули. А потому они первым делом постараются снова настичь нас и для более верного успеха найти себе несколько таких же проходимцев, как они сами, с условием поделиться с ними премией в тысячу флоринов.
Да! Размышления обо всем этом не давали мне спать. Кроме того, я думал, что если лейб-полк покинул Франкфурт через сутки после нас, то он, должно быть, уже перешел границу. В таком случае не находится ли он где-нибудь поблизости, в Аргонских лесах?
Эти опасения, говорил я себе, конечно, преувеличены. Так всегда бывает, когда мозг слишком возбужден., Как раз мой случай. Мне мерещилось, что под деревьями кто-то ходит, что за кустами скользят тени. Само собой разумеется, что один пистолет был у господина Жана, другой — у меня за поясом, ведь мы твердо решили никого к себе не подпускать.
В общем эта ночь прошла спокойно. Правда, несколько раз мы слышали отдаленные звуки труб и даже бой барабанов, выбивавших под утро зорю. Эти звуки доносились в основном с юга и означали, что в той стороне стоят войска.
По всей вероятности, то были австрийские колонны, ожидавшие момента выступления на Тионвиль или севернее — на Монмеди. Как потом стало известно, в намерения союзников вовсе не входило брать эти города, а лишь, окружив, парализовать их гарнизоны, чтобы иметь возможность перебраться через Арденны.
Значит, мы могли встретить одну из этих колонн, и тогда нас сейчас же схватили бы. А попасть в руки что австрийцев, что пруссаков — одно другого стоит! Одинаково жестоки были как те, так и другие!
Итак, решили взять немного севернее, в сторону Стенэ или даже Седана, так чтобы проникнуть в Аргону, избегая дорог, по которым, по всей вероятности, движутся войска приверженцев Империи.
С наступлением утра снова тронулись в путь. Погода стояла прекрасная. Слышалось посвистывание снегирей, на опушке стрекотали кузнечики, а это к теплу. Чуть дальше слышались крики ласточек, взмывавших высоко ввысь.
Мы шли с такой скоростью, какую только позволяла усталость госпожи Келлер. Солнце нам, шагавшим под густыми кронами деревьев, не докучало. Отдыхали каждые два часа.
Беспокоило меня то, что провизия наша подходила к концу. А как пополнить ее запасы?
Согласно принятому решению, мы подвигались в более северном направлении, вдали от деревень и хуторов, наверняка занятых неприятелем.
День не был отмечен никакими происшествиями. Но по прямой мы прошли немного. Во второй половине дня госпожа Келлер уже едва тащилась. Она, которую в Бельцингене я видел прямой и стройной, как пальма, теперь сгорбилась, ноги ее подкашивались на каждом шагу, и я видел, что скоро настанет такой момент, когда она совсем не сможет идти.
В течение всей ночи раздавался отдаленный гул орудий. Это в стороне Вердена[238] грохотала артиллерия.
Местность, по которой мы шли, состояла из перемежавшихся небольших участков леса и открытых мест, орошаемых многочисленными потоками воды. В сухое время года они представляют собой всего лишь ручейки, перейти вброд их ничего не стоит. Мы старались по возможности держаться под прикрытием деревьев, чтобы на наш след трудно было напасть.
Четырьмя днями ранее, 2 сентября, как мы потом узнали, Верден, столь бесстрашно обороняемый героическим Борпэром, решившимся убить себя, но не сдаваться, вынужден был открыть ворота перед лицом пятидесятитысячного прусского войска. Занятие этого города позволило союзникам остановиться на несколько дней в долине Мааса. Герцог Брауншвейгский должен был удовольствоваться взятием Стенэ, тогда как Дюмурье — вот хитрец! — оставался в Седане, втайне готовя план сопротивления.
Возвращаясь к тому, что касалось лично нас, добавлю: мы не знали, что 30 августа (неделю тому назад) Дильон с восемью тысячами человек пробрался между Аргоной и Маасом. Отбросив на один берег реки Клерфайта и австрийцев, занимавших тогда оба берега, он подвигался таким образом, чтобы захватить проход как можно южнее от леса.
Знай мы об этом, мы не стали бы удлинять путь, направляясь к северу, и оказались бы прямо на этом проходе. И там, среди французских солдат, наше спасение было бы нам обеспечено. Да! Но мы никак не могли знать об этом маневре Дильона, и судьба, похоже, готовила нам еще немало испытаний!
На другой день, 7 сентября, мы покончили со своими последними припасами. Необходимо было во что бы то ни стало позаботиться о провизии. Ближе к вечеру, выйдя на опушку леса, на берегу пруда, возле старого каменного колодца мы увидели уединенный домик. Колебаться не приходилось. Я постучал в дверь. Нам открыли, мы вошли в дом. Поспешу сразу сказать, что мы очутились в семье честных крестьян.
Эти славные люди прежде всего сообщили нам, что хотя пруссаки стоят не двигаясь по своим лагерям, зато здесь ожидается приход австрийцев. Что же касается французов, то ходят слухи, будто Дюмурье покинул наконец Седан и вслед за Дильоном движется теперь к югу, в район между Аргоной и Маасом, с целью отбросить Брауншвейга по ту сторону границы.
Это была, как скоро выяснится, ошибка, но ошибка, не причинившая нам, к счастью, вреда.
К слову сказать, прием, оказанный нам этими крестьянами, был столь радушным, сколь это было возможно в тех плачевных обстоятельствах, в которых они находились. Ярким пламенем (какой мы называем огнем сражения) запылал очаг, и мы отведали жареных сосисок, яиц, а к тому еще нашлись ломти ячменного хлеба, анисовые лепешки, называемые в Лотарингии «кишами», и зеленые яблоки, и все это было сдобрено белым мозельским винцом.
Вдобавок мы запаслись у них провизией на несколько дней, причем я не забыл и про табак, которого мне уже начинало недоставать. Господину де Лоране не без труда удалось уговорить этих людей взять за еду то, что им следовало. Жан Келлер смог на этом примере убедиться в том, сколь добросердечны французы. Хорошо отдохнув за ночь, мы на следующий день с рассветом отправились дальше.
Казалось, на нашем пути природа нарочно нагромоздила всякие препятствия. Тут были оползни, непроходимые заросли, трясины, где легко было увязнуть по пояс. В общем, ни одной тропки, по которой можно было бы шагать спокойно. Кустарники здесь были так же густы, как в тех местах Нового Света, где их еще не касался топор первопроходца. Разница была лишь в том, что кое-где в дуплах деревьев, выдолбленных в виде ниш, стояли статуэтки Мадонны[239] и прочих святых. Изредка нам попадались пастухи, козопасы, бродяги, дровосеки в своих фетровых наколенниках, свинопасы, гнавшие свиней на желудевый откорм. Впрочем, завидев нас, они тотчас прятались в чащу, так что нам только раз или два удалось добиться от них кое-каких сведений.
Порою доносилась методичная стрельба из линейных винтовок, что указывало на сражения аванпостов.
Между тем, несмотря на все препоны и тяжелейшую усталость — нам удавалось делать две мили в день, — мы все же продвигались к Стенэ. Так обстояло дело 9, 10 и 11 сентября. Конечно, местность была труднопроходимой, но она же обеспечивала нам полную безопасность. У нас не произошло ни одной неприятной встречи. Нечего было опасаться услышать страшное «Wer ist da?»[240] пруссаков.
Избрали мы этот путь в надежде встретить корпус Дюмурье. Но мы не могли знать, что он пошел южнее, имея в виду занять ущелье Гран-Пре в Аргонском лесу.
По временам, повторяю, до нас долетал грохот стрельбы. Когда он становился слишком близким, мы делали остановку. По-видимому, в ту пору на берегах Мааса еще не развернулось никаких боев. Происходили лишь отдельные нападения на местечки и деревеньки. На последнее указывали подымавшиеся иногда из-за деревьев столбы дыма и зарево дальних пожаров, освещавшее лес ночью.
В конце концов вечером 11 сентября мы приняли решение идти не к Стенэ, а направиться прямо в Аргону.
На следующий день план стали приводить в исполнение. Все едва тащились, поддерживая друг друга. Душа болела от одного взгляда на исхудалые и посеревшие лица наших мужественных спутниц. Одежда их, изодранная колючками кустарников, превратилась в лохмотья, они плелись гуськом, усталые и вконец изможденные.
Около полудня мы подошли к лесной вырубке, открывавшей большой простор для обозрения.
Недавно здесь произошло сражение. Землю устилали трупы. Я определил армейскую принадлежность мертвецов по синим мундирам с красными отворотами, по белым гетрам и перевязи на груди крест-накрест, сильно отличавшимся от униформы солдат прусской армии небесно-голубого цвета и белых мундиров австрийцев в остроконечных шапках.
Это были французы-добровольцы, которых, наверное, застигла неожиданно какая-нибудь колонна Клерфайта или Брауншвейга. Боже праведный! Они пали не без борьбы: возле них лежали немцы и даже пруссаки в своих кожаных киверах с цепочкой.
Подойдя поближе, я с ужасом глядел на эти горы трупов, ибо никогда не смогу привыкнуть к торжеству смерти.
Вдруг из груди у меня вырвался крик. Господин де Лоран, госпожа Келлер, ее сын, барышня Марта и моя сестра, остававшиеся под деревьями шагах в пятидесяти от того места, где я находился, стояли и смотрели на меня, не решаясь выйти на открытую поляну.
Господин Жан подбежал ко мне первым.
— В чем дело, Наталис?
Ах, как я раскаялся в своем неумении владеть собой. Я хотел увести господина Жана. Но было поздно. Он в ту же минуту понял, отчего я так громко вскрикнул.
У ног моих лежало тело прусского солдата в мундире лейб-полка! Господину Жану не нужно было долго всматриваться, чтобы узнать его форму. Скрестив руки на груди и покачав головой, он произнес:
— Надо, чтобы моя мать и Марта не узнали об этом…
Но госпожа Келлер уже добрела до нас, и ей стало ясно то, что мы хотели скрыть от нее: возможно, менее суток тому назад лейб-полк проходил здесь и теперь находится где-то поблизости!
Ни разу до сих пор опасность для Жана Келлера не была столь велика! Если его поймают, то его личность будет тотчас установлена и незамедлительно последует казнь.
Что ж, следовало как можно скорее бежать из этого опасного для него места! Надо было углубиться в самую густую чащу Аргоны, куда не сможет проникнуть колонна на марше! Если бы даже нам пришлось скрываться там несколько дней, колебаться все равно не приходилось. То был наш единственный шанс к спасению.
Мы шли весь остаток дня, шли всю ночь, вернее — не шли, а тащились! Плелись мы и весь следующий день, и 13 сентября к вечеру оказались у границы знаменитого Аргонского леса, про который Дюмурье сказал: «Это французские Фермопилы[241], но я здесь буду удачливее царя Леонида!»
Ему, Дюмурье, действительно суждено было оказаться удачливее. Вот так тысячи таких же, как я, невежд узнали, кто такой был Леонид и что такое Фермопилы.
Глава XX
Аргонский лес занимает пространство в 13–14 миль, раскинувшись от Седана на севере до маленькой деревушки Пассаван на юге, шириною в среднем две-три мили. Лес этот стоит здесь как передовое укрепление, прикрывая нашу восточную границу почти непроходимой чащей. Тут такой хаос деревьев и водных преград, возвышенностей и рвов, потоков и озер, что войску пройти невозможно.
Лес этот лежит между двумя реками. С левой стороны, от первых кустарников на юге и до деревни Семюи на севере, его на всем протяжении омывает река Эна. А с другой стороны, от Флери до его главного прохода, — река Эра. Потом эта река делает крутой поворот и возвращается к Эне, в которую она и впадает неподалеку от Сенюка.
Основными городами по реке Эра являются Клермон, Варенн, где Людовик XVI был настигнут и арестован во время бегства[242], Бюзанси, Лешен-Попюле; по реке Эна — Сент-Менегульд, Вильсюр-Турб, Монтуа, Вузье.
На карте этот лес по форме больше всего напоминает громадное насекомое, которое, сложив крылья, спит или лежит неподвижно между руслами обеих рек. Его «брюхо» составляет вся южная, самая большая, часть леса. «Щиток» и «голова» образованы северной частью, возвышающейся над ущельем Гран-Пре, по которому протекает уже упоминавшаяся Эра.
Хотя Аргонский лес на всем своем протяжении перерезан бурными потоками и зарос густым кустарником, его тем не менее можно пересечь по нескольким проходам, очень узким, конечно, но вполне доступным даже для полка на марше.
Мне, пожалуй, следует назвать эти проходы, чтобы дать читателю лучшее представление о том, как развивались события.
Аргонский лес пересекают в разных местах пять узких ущелий. В «брюшке» моего «насекомого», южнее, ущелье Дезилет идет почти прямо от Клермона до Сент-Менегульда; второе ущелье, Лашалад, представляет собой нечто вроде тропы, которая от Вьен-Лешато следует вдоль русла Эны.
В северной части леса насчитывается не менее трех проходов. Самый широкий, самый значительный (тот, что отделяет «щиток» от «брюшка») — ущелье Гран-Пре. Начиная от Сен-Жювена его на всем протяжении омывает Эра, протекающая затем между Термами и Сенюком и впадающая в Эну в полутора милях от Монтуа. Севернее Гран-Пре, почти на расстоянии двух миль, находится ущелье Лакруа-о-Буа (хорошенько запомните это название); оно пересекает Аргонский лес от Бут-о-Буа до Лонгве — это тропа дровосеков. Наконец, двумя милями севернее протянулось ущелье Лешен-Попюле, через которое проходит дорога из Ретеля в Седан; сделав два поворота, оно подходит к Эне напротив Вузье.
Войска приверженцев Империи только по Аргонскому лесу и могли подойти к Шалону-на-Марне. А оттуда им открывался путь на Париж.
Итак, что надо было прежде всего сделать, — так это помешать переходу Брауншвейга или Клерфайта через Аргонский лес, заперев все пять ущелий, по которым могли пройти их колонны.
Дюмурье, большой знаток военного дела, понял это в мгновение ока. Казалось, все очень просто. Тем более об этом надо было позаботиться, пока сами союзники не возымели идеи занять проходы.
План этот давал и другое преимущество — он избавлял от необходимости отступать к Марне, представлявшей нашу последнюю линию обороны перед Парижем. В то же время союзники были бы вынуждены стоять лагерем в скудной Шампань-Пульез, где бы им не хватило никаких припасов, вместо того чтобы рассредоточиться по богатым равнинам за Аргоной и провести зиму там, если случится зимовать.
Проект этот обсуждался во всех деталях. И 30 августа (дата явилась началом его выполнения) Дильон во главе восьмитысячного войска предпринял смелый маневр, которым, как я уже говорил, австрийцы были отброшены на правый берег Мааса; затем его колонна заняла самый южный проход, Дезилет, предварительно заградив проход Лашалад.
Маневр действительно явился довольно смелым. Вместо того чтобы оставаться под прикрытием густого леса, произвели бросок со стороны Мааса, подставив фланг неприятелю; но Дюмурье сделал это для того, чтобы лучше скрыть свои намерения от союзников.
Его план должен был удаться.
Четвертого сентября Дильон подошел к ущелью Дезилет. Дюмурье, выступивший вслед за ним с пятнадцатитысячным войском, занял Гран-Пре, закрыв, таким образом, главный проход через Аргонский лес.
Четыре дня спустя, 7 сентября, генерал Дюбур направился к Шен-Попюле, чтобы защитить северный участок леса от нашествия войск приверженцев Империи.
Поспешно возводились заграждения, делались окопы, баррикадировались тропинки, устанавливались батареи — все это, чтобы запереть проходы. Гран-Пре превратился в настоящий лагерь. Войска расположились на холмах, как в амфитеатре. При этом река Эра образовывала передовую оборонительную линию.
К тому времени из пяти проходов Аргоны четыре были заграждены, словно крепостные потерны с опущенными решетками и поднятыми мостами.
Однако пятое ущелье оставалось пока незапертым. Оно являлось настолько труднодоступным, что Дюмурье не стал спешить с его занятием. При сем добавлю, что злосчастная наша судьба влекла нас именно к этому проходу.
На деле оказалось, что ущелье Лакруа-о-Буа, находящееся на равном расстоянии (примерно в десять миль) от Шен-Попюле и Гран-Пре, вскоре позволит неприятельским колоннам пройти через Аргону.
Но возвратимся к тому, что касалось лично нас.
Тринадцатого сентября к вечеру мы достигли бокового склона Аргоны, обойдя стороной деревни Брикне и Бут-о-Буа, возможно занятые австрийцами.
Поскольку я хорошо знал аргонские ущелья, неоднократно проходя по ним, когда мы стояли гарнизоном на нашей восточной границе, то избрал как раз ущелье Лакруа-о-Буа, казавшееся мне самым безопасным.
Кроме того, для большей предосторожности я предполагал воспользоваться не самим ущельем, а проходившей вблизи него узкой тропинкой, ведущей из Брикне в Лонгве. Следуя этой дорогой, мы пересекли бы Аргону по наиболее густой части леса под прикрытием дубов, буков, грабов, рябин, ив и каштанов, растущих в менее подверженных зимним морозным ветрам местах. Отсюда — гарантия от встреч с мародерами и отставшими солдатами и возможность достичь наконец, подойдя со стороны Вузье, левого берега Эны, где нам уже нечего будет больше бояться.
Ночь с 13-го на 14-е мы провели, по обыкновению, под покровом деревьев.
Каждую минуту могла показаться мохнатая шапка кавалериста или гренадерский[243] кивер[244] пруссака. А потому я торопился скорее зайти в глубину леса и облегченно вздохнул только тогда, когда мы на другой день стали подниматься по тропинке, ведущей в Лонгве, оставив справа от себя деревню Лакруа-о-Буа.
День выдался на редкость утомительным. Неровная местность, перерезанная оврагами и захламленная повалившимися деревьями, страшно затрудняла переход.
По этой дороге никто никогда не ходил, недаром она была такой трудной. Господин де Лоране шел довольно бодрым шагом, несмотря на непосильные для его возраста нагрузки. Барышня Марта и моя сестра при мысли о том, что мы совершаем последние переходы, приободрились и не унывали ни минуты. Зато госпожа Келлер совершенно обессилела. Ее приходилось все время поддерживать, иначе она бы падала на каждом шагу. И тем не менее мы не слышали от нее ни единой жалобы. Если тело ее изнемогало, то дух оставался бодрым. Но я сомневался, что она выдержит все тяготы нашего путешествия до конца.
Вечером мы, как всегда, устроили привал. В сумке оказалось вполне достаточно провизии, чтобы всем подкрепиться, поскольку голод у нас всегда уступал желанию отдохнуть и выспаться.
Оставшись наедине с господином Жаном, я заговорил с ним о состоянии его матери, становившемся все более тревожным.
— Она идет из последних сил, — сказал я, — и если мы не сможем дать ей несколько дней отдыха…
— Я и сам вижу это, Наталис! — ответил господин Жан. — Каждый шаг моей бедной матери надрывает мне сердце! Что же делать?
— Нужно дойти до ближайшей деревни, господин Жан. Мы с вами донесем туда вашу матушку. Никогда австрийцы или пруссаки не решатся сунуться в эту часть Аргоны, и там в каком-нибудь доме мы сможем обождать, пока в этих краях станет поспокойнее.
— Да, Наталис, это самое разумное решение. Но разве мы не можем дойти до Лонгве?
— Эта деревня слишком далеко отсюда, господин Жан. Ваша матушка не дойдет.
— Тогда куда же идти?
— Я бы предложил взять правее, прямо через лесную чащу, чтобы добраться до деревни Лакруа-о-Буа.
— Это далеко?
— Не более одной мили.
— Ну, так идем в Лакруа-о-Буа, — согласился господин Жан. — И завтра же, с рассветом!
Откровенно говоря, ничего лучшего для нас я не видел, будучи убежден, что неприятель не решится двинуться на север Аргоны.
Тем не менее ночью особенно часто слышалась ружейная перестрелка, а временами и тяжелый грохот орудий. Но так как звуки были еще далеки и раздавались позади нас, я имел основания предполагать, что это Клерфайт или Брауншвейг пытаются овладеть ущельем Гран-Пре: только оно одно было достаточно широким для прохода их колонн. Господин Жан и я не имели и часа отдыха. Следовало постоянно быть настороже, хотя мы притаились в самой густой чаще леса, в стороне от тропинки, ведущей в Брикне.
Рано утром снова тронулись в путь. Я срезал несколько веток, из которых мы соорудили нечто вроде носилок. Охапка сухой травы позволит госпоже Келлер удобно лежать на них, и таким вот образом, соблюдая осторожность, мы смогли бы, вероятно, облегчить ей тяготы пути.
Однако госпожа Келлер понимала, что это обернется дополнительной усталостью для нас.
— Нет, — сказала она, — нет, сын мой! У меня еще есть силы… Я пойду сама!
— Но ты не можешь идти, мама! — возразил господин Жан.
— В самом деле, вы не можете, госпожа Келлер, — добавил я. — Наша цель — достичь ближайшей деревни, и чем скорее, тем лучше. Там мы подождем, пока вы восстановите свои силы. Мы ведь, в конце концов, во Франции, где никто не закроет перед нами дверей своего дома!..
Госпожа Келлер не уступала. Поднявшись, она попробовала сделать несколько шагов, но упала бы, если бы сын и моя сестра не стояли рядом и не подхватили ее.
— Госпожа Келлер, — обратился я к ней, — мы думаем о нашем общем спасении. Ночью на опушке леса раздавалась стрельба.
Враг недалеко. Я питаю надежду, что он не сделает попытки пройти в этой стороне. В Лакруа-о-Буа нам нечего бояться быть застигнутыми, но мы должны отправиться туда сегодня же.
Барышня Марта и сестра присоединились к нашим настоятельным просьбам, господин де Лоране тоже. Госпожа Келлер наконец сдалась.
Спустя минуту она уже лежала на носилках, за которые господин Жан взялся с одной стороны, а я — с другой. Мы снова тронулись в путь, пересекая наискось тропинку в Брикне в северном направлении.
Не будем распространяться о трудностях этого перехода через густую лесную чащу, о необходимости отыскивать доступные проходы, о частых остановках, которые приходилось нам делать. 15 сентября, в полдень, мы, справившись со всем этим, прибыли в Лакруа-о-Буа, затратив пять часов на переход в полторы мили.
К моему большому удивлению и огорчению, деревня оказалась покинутой жителями. Все они бежали, кто в Вузье, кто в Шен-Попюле. Что же произошло?
Мы бродили по улицам. Все двери и окна заперты. Неужели помощь, на которую я рассчитывал, к нам не придет?
— Я вижу дымок, — сказала мне сестра, указывая на дальний конец деревни.
Я побежал к домику, над которым вился дым. Постучал в дверь.
На стук вышел мужчина с добрым лицом — лицом лотарингского крестьянина, моментально вызвавшим симпатию. Наверняка славного человека.
— Что вам нужно? — спросил он.
— Помощи моим спутникам и мне.
— Кто вы такие?
— Французы, изгнанные из Германии, которые не знают, где найти приют!
— Входите!
Крестьянина звали Ганс Штенгер. Он жил в этом доме со своими женой и тещей. Он не покинул Лакруа-о-Буа только потому, что теща его, несколько лет назад разбитая параличом, не могла подняться с кресла.
Тут Ганс Штенгер и объяснил нам, почему жители оставили деревню. Все проходы Аргонского леса были заняты французскими войсками. И только один из них (ущелье Лакруа-о-Буа) был не заперт. А потому ожидалось, что в него войдут и его захватят войска приверженцев Империи, что предвещало крестьянам большие невзгоды. Как видим, злая судьба привела нас именно туда, куда нам не следовало идти. Выйти из Лакруа-о-Буа и вновь углубиться в чащу Аргоны не позволяло состояние госпожи Келлер. Хорошо еще, что мы попали к таким честным французам, как семейство Штенгер!
Это были довольно зажиточные крестьяне. Они, казалось, обрадовались возможности оказать услугу соотечественникам, попавшим в трудное положение. Само собой разумеется, мы не сообщили им о национальности Жана Келлера, что осложнило бы ситуацию.
Тем временем день 15 сентября закончился благополучно. Следующий день, 16 сентября, тоже не оправдал опасений, высказанных Штенгером. Мы даже не слыхали ночью стрельбы со стороны Аргоны. Может быть, союзники не знали, что проход Лакруа-о-Буа свободен? Во всяком случае, поскольку его узость препятствует прохождению войсковой колонны с ее фургонами и экипажами, они, конечно, прежде попытаются овладеть проходами Гран-Пре или Дезилет. Так что мы снова обрели надежду. Кстати, отдых и хороший уход уже принесли ощутимую пользу госпоже Келлер. Отважная женщина! Ей могли изменить физические силы, но только не энергия духа!
Проклятая судьба! 16 сентября после полудня в деревне стали появляться какие-то подозрительные личности — из тех курощупов, которые всегда являются пошарить в курятниках. Что среди них есть и воры, было несомненно. Но никакого труда не составляло заметить, что принадлежат они к германскому племени и что большинство занимается шпионажем.
К нашему великому огорчению, господину Жану, из опасения быть узнанным, надлежало скрыться. Так как это могло показаться подозрительным семейству Штенгеров, я уже почти решился все рассказать им, когда, а это было в пять часов вечера, домой прибежал Ганс, крича: «Австрийцы! Австрийцы!»
Действительно, несколько тысяч человек в белых мундирах, в киверах с металлическими бляхами и двуглавыми орлами (так называемых «kaiserlicks»[245]) шли через ущелье Лакруа-о-Буа, следуя по нему от деревни Бу. Несомненно, это лазутчики сообщили им, что путь свободен. Кто знает, может, и само вторжение неприятеля произойдет в этом месте?
Услышав крики Ганса Штенгера, господин Жан вошел в комнату, где лежала его мать.
Я так и вижу его перед собой. Он стоял у очага. И ждал… Чего он ждал?.. Чтобы всякий путь к побегу был отрезан?.. Но если он станет пленником австрийцев, пруссаки вполне смогут потребовать его выдачи, а для него это означало бы смерть!..
Госпожа Келлер приподнялась на постели.
— Жан, — промолвила она, — беги… беги сию же минуту!
— Без тебя, мама?
— Да, я так хочу!
— Бегите, Жан, — сказала барышня Марта. — Ваша мать — это и моя тоже!.. Мы не покинем ее!
— Марта!
— Да, я тоже так хочу!
Ему оставалось только подчиниться воле обеих женщин. А шум на улице усиливался. Голова колонны уже рассыпалась по деревне. Скоро австрийцы займут и дом Ганса Штенгера.
Господин Жан обнял мать, в последний раз поцеловал невесту и исчез.
И тут я услышал, что госпожа Келлер шепчет:
— Мой сын! Мой сын!.. Один… в краю, которого совсем не знает… Наталис…
— Наталис!.. — просяще повторила и барышня Марта, показывая мне глазами на дверь.
Я понял, чего ждут от меня эти несчастные женщины.
— Прощайте! — воскликнул я. И через минуту я уже был за деревней.
Глава XXI
Расстаться после трех недель совместного путешествия, которое могло бы прекрасно окончиться, если бы нам немного повезло! Расстаться, когда через несколько миль мы все были бы спасены! Расстаться — со страхом никогда больше не увидеться!
А эти женщины, оставленные в крестьянском доме среди занятой неприятелем деревни, имевшие своим защитником лишь семидесятилетнего старца!
Поистине, не следовало ли мне остаться подле них?.. Однако, вспомнив о беглеце, бросившемся в этот страшный, неведомый ему Аргонский лес, мог ли я колебаться — догонять ли мне господина Жана, которому я был бы так полезен? Что касается господина де Лоране и его спутниц, то тут речь шла об угрозе только для их свободы — по крайней мере, я так надеялся. Тогда как для Жана Келлера речь шла о жизни или смерти.
Кстати сказать, вот что произошло и почему эта деревня была занята 16 сентября неприятелем.
Выше было сказано, что из пяти проходов Аргонского леса только один, Лакруа-о-Буа, остался незанятым французами.
Однако, чтобы оградить себя от возможного сюрприза, Дюмурье послал к входу в это ущелье, близ Лонгве, своего полковника с двумя эскадронами кавалерии и двумя батальонами пехоты. Место это было слишком далеко от Лакруа-о-Буа, чтобы Ганс Штенгер мог знать о таком обстоятельстве. Впрочем, убеждение, что войска приверженцев Империи не решатся воспользоваться этим проходом, было столь велико, что никаких мер для его защиты принято не было. Ни окопов, ни заграждений! Да и сам полковник, уверенный, что на этой высоте ничто Аргоне не угрожает, даже попросил отослать часть своих войск обратно в штаб-квартиру, на что получил согласие.
Тогда-то более осведомленные австрийцы послали сюда разведку. Отсюда и появление здесь, в Лакруа-о-Буа, кучки немецких лазутчиков, а затем и занятие ущелья. Вот каким образом, вследствие ошибочных расчетов Дюмурье, союзникам была открыта дорога на Францию.
Как только Брауншвейг узнал, что проход Лакруа-о-Буа свободен, он тотчас отдал приказ занять его. И это случилось в тот самый момент, когда он, не желая вступать на равнины Шампани, готовился подняться к Седану, имея в виду обойти Аргону с севера. С занятием Лакруа-о-Буа положение изменилось, и он мог, хотя, конечно, не без труда, пройти через это ущелье. Для этой цели им была отправлена колонна австрийцев — вместе с французскими эмигрантами под командованием принца де Линя.
Застигнутый врасплох французский полковник вынужден был отступить к Гран-Пре. Хозяином ущелья стал противник.
Вот что произошло к тому моменту, когда нам пришлось спасаться бегством. Потом Дюмурье попытался исправить эту серьезную ошибку, послав генерала Шазо с двумя бригадами, шестью эскадронами и четырьмя восьмидюймовыми орудиями[246] выгнать австрийцев из ущелья, пока они еще не закрепились там.
К несчастью, ни 14, ни 15 сентября Шазо не смог приступить к действиям. Когда он вечером 16 сентября атаковал наконец неприятеля, было уже слишком поздно.
Правда, поначалу ему удалось отбросить австрийцев от прохода и даже убить принца де Линя, но затем он подвергся удару превосходящих сил противника. Несмотря на героические усилия, проход Лакруа-о-Буа был окончательно потерян.
Ошибка была плачевна для Франции и, добавлю, для нас тоже, так как, не будь этой прискорбной оплошности, мы уже с 15 сентября могли находиться среди французов.
Теперь это оказалось невозможно. Ибо Шазо, видя, что он отрезан от штаб-квартиры, отступил к Вузье, тогда как Дюбур, занимавший Шен-Попюле, боясь окружения со стороны противника, возвратился в Аттиньи.
Итак, французская граница была открыта войскам приверженцев Империи. Дюмурье рисковал быть окруженным и вынужденным сложить оружие.
Теперь никакого серьезного противодействия захватчикам на пути от Аргоны до Парижа не будет.
Что касается нас с Жаном Келлером то я вынужден признать, что нам не повезло.
Покинув дом Ганса Штенгера, я почти сразу догнал господина Жана, в самой густой чаще леса.
— Это вы?.. Наталис! — воскликнул он.
— Да!.. Это я!..
— А как же ваше обещание никогда не покинуть ни Марту, ни мою мать?
— Минутку, господин Жан! Выслушайте меня!
И я сказал ему все. Сказал, что хорошо знаю Аргонские леса, которые ему совершенно не знакомы, что госпожа Келлер и барышня Марта, так сказать, приказали мне идти за ним следом и что я пошел без колебаний…
— И если я поступил дурно, господин Жан, — добавил я, — то пусть меня накажет Бог!
— Что ж, идемте!
Теперь уже и речи не было о том, чтобы следовать по ущелью до границы Аргоны. Австрийцы могли оказаться за пределами и прохода Лакруа-о-Буа, и даже тропы, что идет в Брикне. Отсюда вытекала необходимость двигаться прямо на юго-запад, с тем чтобы перейти через русло реки Эна.
Мы шли, держась этого направления, пока совершенно не стемнело. Рисковать продолжать путь в полном мраке было немыслимо. Как ориентироваться в таких условиях? Мы сделали остановку для ночлега.
В течение первых нескольких часов на расстоянии, по крайней мере, полумили не переставая раздавалась стрельба. Это добровольцы из Лонгве пытались отнять у австрийцев проход обратно. Но, уступая в силе, они вынуждены были рассеяться. К несчастью, они не пошли лесом, где мы могли бы повстречаться с ними и узнать от них, что штаб-квартира Дюмурье находится в Гран-Пре. Мы пошли бы туда вместе с ними, а там, как я узнал впоследствии, я нашел бы свой бравый Королевский пикардийский полк, покинувший Шарлевиль, чтобы присоединиться к армии центра. Прибыв в Гран-Пре, мы с господином Жаном очутились бы среди друзей и придумали бы, что нам надо сделать для спасения наших близких, оставшихся в Лакруа-о-Буа.
Однако добровольцы ушли из Аргоны и поднялись вверх по течению Эны с целью добраться до штаб-квартиры.
Ночь была скверной. Моросил пронизывающий до костей дождь. Одежда наша вконец разодралась о колючки. Даже мой балахон не избежал этой участи, но особенно пострадала наша обувь, и мы рисковали остаться вообще босиком. Неужели нам придется ходить «на собственных подметках», как говорят у нас в деревне? В довершение всего мы промокли до нитки, так как дождь просачивался сквозь листву, и я тщетно искал места, где бы можно было от него укрыться. Прибавьте ко всему этому доносившиеся до нас сигналы тревоги и выстрелы, столь близкие, что раза два или три мне показалось, будто я вижу вспышки. А этот ужас — слышать каждую минуту прусское «ура»!.. Надо было, таким образом, чтобы не попасться, бежать дальше, в самую глубь леса. О Господи! Как долго тянется ночь!
Как только занялась заря, мы снова ринулись в путь. Я сказал именно «ринулись», потому что мы шли так быстро, как только это было возможно в лесу. Я старательно ориентировался по взошедшему солнцу.
Кроме того, в животе у нас было пусто, и голод сильно давал себя знать. Господин Жан, убегая из дома Штенгера, не успел захватить никакой еды. Да и я, помчавшись как сумасшедший из опасения, что меня могут перехватить австрийцы, тоже ничем не запасся. Так что мы оба были обречены кусать локти от голода. Среди деревьев стаями летали вороны, пустельги[247], множество мелких пташек, особенно овсянок[248], но дичи было мало. Изредка кое-где попадалась заячья норка или несколько рябчиков, тотчас прятавшихся в чаще. Но как их поймать? К счастью, в Аргонских лесах нет недостатка ни в каштановых деревьях, ни в самих каштанах в это время года. Я пек их в золе, разводя костер из хвороста с помощью пороха. Это положительно не давало нам умереть с голода.
Настала ночь — холодная и темная ночь. Лесная чаща была так густа, что мы, идя с самого утра, не сумели проделать большого расстояния. Тем не менее конец Аргоны уже не мог быть далеко. Слышны были ружейные выстрелы разведчиков, прочесывавших возвышенности вдоль Эны. Все же нужны были еще почти сутки, чтобы мы смогли найти прибежище по ту сторону реки — в Вузье или в одной из деревень левобережья.
Не буду говорить о наших тяготах. Нам некогда было о них думать. Вечером, хотя меня одолевали во множестве тревожные мысли, мне так сильно захотелось спать, что я растянулся прям и под деревом. Помню, что, закрывая глаза, я подумал о полке полковника фон Граверта, оставившем несколько дней тому назад на поляне тридцать человек убитыми. Я послал к черту этот полк с его полковником и его офицерами, и они туда провалились, как только я заснул.
Утром я увидел, что господин Жан не сомкнул глаз. Должно быть, он всю ночь напролет думал, и отнюдь не о себе — я достаточно хорошо знал его, чтобы быть уверенным в этом. Душа его болела за мать, за барышню Марту. Лакруа-о-Буа захвачен австрийцами! Что, если наши близкие подвергаются оскорблениям, а быть может, и грубому обращению?
Короче говоря, в эту ночь бодрствовал господин Жан. Я же, вероятно, очень крепко спал, так как совсем не слышал стрельбы, все еще раздававшейся на довольно близком расстоянии. Я ни разу не проснулся, а господин Жан не хотел меня будить.
В тот самый момент, когда мы уже собирались отправиться дальше, господин Жан, остановив меня, сказал:
— Наталис, выслушайте меня!
Он произнес эти слова тоном человека, принявшего твердое решение. Я понял, куда он клонит, и, не дожидаясь продолжения, ответил:
— Нет, господин Жан, если вы собираетесь говорить о том, что мы должны расстаться, я не стану вас слушать.
— Наталис, — продолжил он, — вы последовали за мной из преданности ко мне.
— Да, это так!
— Пока вопрос касался только тягот пути, я молчал. Но теперь речь идет об опасности для жизни. Если меня схватят, если вместе со мною схватят и вас, вам пощады не будет. Вас ожидает смерть… а этого, Наталис, я не могу допустить. Так что уходите… Перейдите границу… Я постараюсь сделать то же самое… и если мы свидимся…
— Господин Жан, — ответил я, — нам пора отправляться в дорогу. Мы или спасемся, или умрем вместе.
— Наталис…
— Клянусь Богом, я не покину вас!
И мы двинулись в путь. Первые часы наступившего утра были шумными: грохотала артиллерия, трещали ружейные залпы. То была повторная атака с целью отбить ущелье Лакруа-о-Буа — атака, окончившаяся неудачей, так как противник был слишком многочисленным.
К восьми часам все стихло. Не слышно стало ни одного выстрела. Какая страшная неизвестность для нас! То, что в ущелье произошел бой, в этом не могло быть сомнения. Но каков его результат? Должны ли мы следовать лесом? Нет! Я инстинктивно чувствовал, что это чревато опасностью. Надо было по-прежнему продолжать путь в направлении Вузье.
В полдень мы снова закусили печеными каштанами, единственной нашей пищей. Чаща была так густа, что мы с трудом делали шагов пятьсот в час. А тут еще раздавались внезапные сигналы тревоги, выстрелы то справа, то слева и, наконец, вселяющий в душу ужас бой набата во всех деревнях Аргоны!
Наступил вечер. Мы находились на расстоянии не более одной мили от Эны. Если никакое препятствие нас не остановит, по ту сторону реки нас ждет наше спасение. Только нам надо спуститься вниз вдоль правого берега Эны, и тогда мы перейдем ее по мосту Сенюка или Гран-Гама, которыми еще не завладел ни Клерфайт, ни Брауншвейг.
Около восьми часов остановились на отдых. Мы постарались как можно лучше защитить себя от холода в густой чаще леса. Слышен был только шум дождя, стучавшего по листьям. В лесу все было тихо, но, сам не знаю почему, именно в этой тишине чудилось мне нечто тревожное.
Внезапно в каких-нибудь двадцати шагах от нас послышались голоса. Господин Жан схватил меня за руку.
— Да, — говорил кто-то, — мы идем по его следам от Лакруа-о-Буа!
— Он от нас не ускользнет!
— Но австрийцы ничего не получат из этой тысячи флоринов!
— Нет, друзья, конечно нет!..
Я почувствовал, как рука господина Жана сильно стиснула мою.
— Это голос Буха! — прошептал он мне на ухо.
— Негодяи! — ответил я. — Их здесь пятеро или шестеро!.. Не будем их дожидаться!.. Бежим…
И мы ползком по траве стали выбираться из чащи.
Хруст случайно сломанной ветки выдал нас. В ту же секунду подлесок осветила вспышка выстрела. Нас заметили.
— Бегите, господин Жан, бегите! — воскликнул я.
— Да, но не прежде, чем размозжу голову какому-нибудь из этих негодяев!
И он выстрелил в сторону кинувшихся к нам.
Мне показалось, что один из этих бродяг упал. Но мне было совсем не до того, чтобы получше удостовериться в его падении.
Мы мчались со всех ног. Я чувствовал, что Бух и его товарищи бегут за нами по пятам. Мы уже совсем выбивались из сил!
Четверть часа спустя банда настигла нас. Их было шесть вооруженных человек.
В мгновение ока они повалили нас на землю, связали нам за спиной руки и стали толкать вперед, не жалея ударов.
Через час мы были в руках австрийцев, обосновавшихся в Лонгве, нас заперли в одном из деревенских домов и приставили караул.
Глава XXII
Неужели только случайность навела Буха на наш след? Я был склонен так думать. Однако впоследствии нам стало известно то, чего раньше мы знать не могли: после нашей последней встречи сын Буха не перестал разыскивать нас и, поверьте мне, не с целью отомстить за смерть брата, но чтобы заполучить награду в тысячу флоринов. Потеряв наш след, когда мы направились через Аргонский лес, он снова напал на него в деревне Лакруа-о-Буа. Он находился среди тех лазутчиков, что наводнили ее после полудня 16 сентября. В доме Штенгеров он узнал господина и барышню де Лоране, госпожу Келлер и мою сестру. Он проведал о том, что мы только что покинули их. Следовательно, мы не могли быть далеко. К нему присоединилось полдюжины таких же негодяев, как он. И они вместе кинулись за нами в погоню. Остальное известно.
Теперь нас караулили так, что всякая возможность побега исключалась. Решение нашей судьбы не могло быть ни долгим, ни вызывающим сомнение — нам осталось только, как говорится, писать прощальные письма родным!
Прежде всего я осмотрел комнату, служившую нам тюрьмой. Она занимала половину нижнего этажа невысокого дома. Два окна, одно против другого, выходили переднее — на улицу, заднее — во двор.
Из этого самого дома мы, несомненно, выйдем только сопровожденными на смертную казнь.
И долго ждать нам не придется, ни господину Жану, над которым тяготело двойное обвинение — в оскорблении действием офицера и в дезертирстве в военное время, ни мне, обвиняемом в сообщничестве и, вероятно, в шпионаже, из-за того что я француз.
Я услышал, как господин Жан прошептал:
— Теперь это уже конец!
Я ничего не ответил. Признаюсь, моя уверенность в себе сильно пошатнулась, положение казалось отчаянным.
— Да, это конец! — повторил господин Жан. — Но все это не важно, если моя мать, если Марта, если все те, кого мы любим, окажутся в безопасности! Однако что будет с ними без нас? Неужто они еще в деревне, в руках австрийцев?
Фактически, если предположить, что их не увели оттуда, нас с ними разделяло очень малое расстояние. Между Лакруа-о-Буа и Лонгве — не более чем полторы мили. Только бы весть о нашем аресте не дошла до них!
Именно об этом я все время думал, именно этого я страшился более всего. Это явилось бы смертельным ударом для госпожи Келлер. Да! Я даже начинал уже желать, чтобы австрийцы увели их к своим аванпостам по другую сторону Аргонского леса. Но госпожа Келлер была почти нетранспортабельна, и если ее заставят отправиться в дорогу, если за ней не будет ухода…
Прошла ночь, не принесшая никаких перемен в нашем положении. Какие грустные мысли приходят в голову, когда близка смерть! В одно мгновение перед вашими глазами проходит вся жизнь!
Надо еще добавить, что нас очень мучил голод, поскольку в течение двух дней мы питались одними каштанами. Никто даже и не подумал принести нам поесть. Черт побери! Мы стоили этому мерзавцу Буху тысячу флоринов, за эту цену он мог бы и покормить нас!
Правда, мы его больше не видели. Он конечно же отправился известить пруссаков о нашей поимке. Тут я подумал, что на это потребуется время. Караулят нас австрийцы, но произнести нам приговор должны пруссаки. Либо они придут в Лонгве, либо мы будем доставлены в их штаб-квартиру. Это повлечет за собой всякие задержки, если только не случится приказа казнить нас в Лонгве. Но как бы там ни было, морить голодом нас не следовало.
Утром, около 7 часов, дверь распахнулась. Маркитант[249] в длинной блузе принес миску супа — какую-то воду, или почти воду, вместо бульона с накрошенным туда хлебом. Качество здесь заменялось количеством. Но мы не могли привередничать, а я был так голоден, что в мгновение ока проглотил и эту жалкую похлебку.
Мне хотелось порасспросить маркитанта, узнать от него, что делается в Лонгве и особенно в Лакруа-о-Буа, нет ли разговоров о приближении пруссаков, намереваются ли они взять это ущелье, чтобы пройти через Аргонский лес, наконец — каково общее положение дел. Но я недостаточно хорошо знал немецкий язык, чтобы меня понимали и чтобы понимать самому. А господин Жан, погруженный в свои мысли, хранил молчание. Да я бы и не позволил себе отвлечь его. Так что поговорить с этим человеком не удалось.
В то утро не произошло ничего нового. За нами зорко следили. Однако нам разрешили совершить прогулку по маленькому дворику, где нас, больше с любопытством, чем с приязнью, надо думать, разглядывали австрийцы. Я старался бодриться перед ними. А потому ходил, засунув руки в карманы и насвистывая самые бодрые марши Королевского пикардийского.
«Свисти, свисти, бедный дрозд в клетке!.. — говорил между тем я сам себе. — Недолго тебе осталось свистеть. Скоро тебе заткнут твою свистульку!»
В полдень нам снова принесли порцию тюри. Меню наше не отличалось разнообразием, и я уже начинал даже мечтать об аргонских каштанах. Но надо было довольствоваться тем, что есть. Тем более что маркитант, этот скупердяй с физиономией куницы, всем своим видом говорил: «Даже это слишком хорошо для вас!»
Боже милостивый! С каким удовольствием я швырнул бы ему эту миску в лицо! Но лучше было не лишать себя съестного и подкрепить силы, чтобы не ослабеть в последнюю минуту!
Я даже настоял на том, чтобы господин Жан разделил со мной эту скудную трапезу. Он понял мои резоны[250] и немного поел. Думал он совсем о другом. Мысленно он был не здесь, а там, в доме Ганса Штенгера, подле своей матери и невесты. Он произносил их имена, он звал их! Иногда в каком-то порыве безумия он бросался к двери, словно рвался к ним! Это было сильнее его. И падал наземь. Он не плакал, но тем более было страшно смотреть на него — слезы принесли бы ему облегчение. Но их не было! И сердце мое разрывалось.
Все это время мимо проходили вереницы солдат, шагавшие без строя и державшие ружья вольно; за ними следовали другие колонны, шедшие через Лонгве. Трубы молчали, барабаны тоже. Неприятель пробирался к Эне без шума. Там, вероятно, их собралось уже много тысяч. Хотел бы я знать, кто это — пруссаки или австрийцы. Кстати, ни одного выстрела больше не раздавалось в западной части Аргонского леса. Ворота во Францию были широко распахнуты!.. Их уже никто не защищал!
Около десяти часов вечера в помещении появился отряд солдат. На этот раз то были пруссаки. И я так и обмер, узнав форму лейб-полка, прибывшего в Лонгве после стычки с французскими добровольцами в Аргонском лесу.
Нас, господина Жана и меня, вывели из дома, предварительно связав руки за спиной.
Господин Жан обратился к командовавшему отрядом капралу с вопросом:
— Куда нас ведут?
Вместо ответа этот негодяй вытолкал нас прикладом на улицу. Мы явно походили на бедолаг, которых казнят сейчас без всякого суда. А я, между прочим, был взят безоружным! Но попробуйте говорить о законе этим варварам! Они только рассмеются вам в лицо, эти уланы!
Наша процессия направилась по улице Лонгве, спускавшейся к опушке Аргонского леса и соединявшейся за деревней с дорогой в Вузье.
Пройдя шагов пятьсот, мы остановились посреди поляны, на которой встал лагерем лейб-полк.
Через несколько секунд мы предстали перед полковником фон Гравертом.
Он удовольствовался лишь тем, что глянул на нас, не произнеся ни слова. Потом, круто повернувшись на каблуках, он дал сигнал к маршу, и полк двинулся вперед.
Тут я понял, что они хотят представить нас перед военным советом и официально оформить то, что в грудь нам будет выпущена дюжина пуль и что это было бы сделано незамедлительно, если бы полк оставался в Лонгве. Но, похоже, события не ждали, и союзники не могли терять времени, если хотели опередить французов у Эны.
Действительно, Дюмурье, узнав, что приверженцы Империи овладели ущельем Лакруа-о-Буа, принялся действовать по новому плану. План этот состоял в том, чтобы спуститься по левому краю Аргонского леса до ущелья Дезилет и таким образом иметь в тылу занимающего этот проход Дильона. При таком маневре войска наши будут обращены фронтом к колоннам Клерфайта, идущим от границы, и к колоннам Брауншвейга, которые явятся со стороны Франции. Оставалось и вправду ожидать, что, как только будет снят лагерь в Гран-Пре, пруссаки пройдут через Аргонский лес, чтобы перерезать дорогу на Шалон.
А потому в ночь с 15 на 16 сентября Дюмурье потихоньку снялся со своей штаб-квартирой. Перейдя оба моста через Эну, он со своими войсками обосновался на высотах Отри, в четырех милях от Гран-Пре. Отсюда, несмотря на панику, дважды произведшую на время беспорядки среди солдат, он продолжил движение к Дамартен-сюр-Ганс с целью занять позиции в Сент-Менегульде, расположенном в конце ущелья Дезилет.
Так как пруссаки должны были выйти из Аргонского леса через ущелье Гран-Пре, Дюмурье одновременно принял все меры к тому, чтобы лагерь, расположенный в Эпине, на пути к Шалону, не мог быть взят в случае, если противник атакует его вместо того, чтобы двинуться на Сент-Менегульд.
В это время генералы Бернонвиль, Шазо и Дюбуке получили приказ присоединиться к Дюмурье, а последний нажал на Келлермана, который покинул Мец 4 сентября, чтобы тот ускорил свое продвижение вперед.
Если все эти генералы встретятся точно в назначенное время, Дюмурье будет иметь в своем распоряжении тридцать пять тысяч человек и вполне сможет противостоять войскам приверженцев Империи.
Брауншвейг со своими пруссаками колебался какое-то время, прежде чем окончательно принять план кампании. Наконец они решили, пройдя через Гран-Пре, выйти из Аргонского леса, чтобы завладеть шалонской дорогой, окружить французскую армию у Сент-Менегульд а и заставить ее сложить оружие.
Вот почему лейб-полк так спешно покинул Лонгве и почему мы стали подниматься вверх по течению Эны.
Погода была ужасная, пасмурная и дождливая. Дороги развезло. Мы шли почти по пояс в грязи. Идти вот так, со связанными руками — это мучение! Право, лучше бы они нас сразу расстреляли!
Да к тому же еще скверное обращение с нами, на какое пруссаки не скупились! А оскорбления, которые они бросали нам в лицо! То было похуже грязи!
А этот Франц фон Граверт, который раз десять приближался к нам совсем близко! Господин Жан с трудом сдерживался. Его связанные руки так и чесались! Схватить бы лейтенанта за шиворот и задушить, как какую-нибудь мерзкую тварь!
Мы шли вдоль Эны форсированным[251] маршем. Надо было по колено в воде перейти ручьи Дормуаз, Турб и Бион. Остановок никаких не делалось, чтобы успеть вовремя занять высоты Сент-Менегульда. Но колонна не могла двигаться быстро. Люди то и дело увязали в грязи. И можно было надеяться, что, когда пруссаки окажутся напротив Дюмурье, французы уже будут стоять тылом к Дезилет.
Так мы шли до десяти часов вечера. Провианта было очень мало, а если его не хватало пруссакам, то можно себе представить, сколько доставалось на долю двух узников, которых они вели, как скотину на убой!
Мы с господином Жаном почти не могли разговаривать друг с другом. Стоило нам сказать только фразу, как мы получали удар прикладом по спине. Эти люди действительно жестоки по натуре. Несомненно, они хотели угодить лейтенанту фон Граверту, что удавалось им как нельзя лучше!
Ночь с 19 на 20 сентября была мучительнее всех, проведенных нами до сих пор. Да! Нам пришлось пожалеть даже о наших ночевках в чащобе Аргонского леса, когда мы были еще беглецами. Наконец, перед рассветом, мы дошли до какой-то болотистой местности слева от Сент-Менегульда. Здесь раскинули лагерь, прямо в грязи, утопая в ней на два фута. Никаких костров не разжигали, потому что пруссаки не хотели выдавать своего присутствия.
Над всей этой массой скученных людей стоял ужасный смрад.
Как говорится, хоть топор вешай!
Наконец наступило утро дня — дня, когда наверняка разыграется сражение. Может, Королевский пикардийский полк тоже где-то здесь, а меня нет в его рядах, среди товарищей!
В лагере царило сильное оживление. Курьеры и адъютанты ежеминутно мчались через болото. Били барабаны, играли трубы. С правой стороны слышались выстрелы.
Наконец-то французы опередили пруссаков у Сент-Менегульда!
Было около одиннадцати часов, когда за нами с господином Жаном явился отряд солдат. Нас прежде всего привели к палатке, где под председательством полковника фон Граверта заседало с полдюжины офицеров. Да! Он сам лично председательствовал на этом военном совете!
Все продолжалось недолго. Простая формальность с целью установить личность. Кстати, Жан Келлер, уже один раз приговоренный к смертной казни за оскорбление действием офицера, теперь был приговорен к ней вторично — как дезертир, а я — как французский шпион!
Протестовать не имело смысла, и, когда полковник объявил, что приговор должен быть приведен в исполнение немедленно, я воскликнул:
— Да здравствует Франция!
— Да здравствует Франция! — повторил за мной господин Жан.
Глава XXIII
На этот раз точно пришел наш конец. Ружья, можно сказать, уже были нацелены на нас! Оставалось лишь дождаться команды «Огонь!». Что ж, Жан Келлер и Наталис Дельпьер сумеют умереть достойно.
Возле палатки построили взвод солдат, который должен был нас расстрелять, — двенадцать человек лейб-полка под командой лейтенанта.
Рук нам не связали. Зачем? Сделав несколько шагов, мы тут же были бы сражены прусскими пулями, вон там у стены или прямо под деревом! Ах, чего бы я только не отдал, чтобы умереть в бою, разрубленным ударом сабли или скошенным снарядом! А погибнуть, не имея возможности защищаться, это так тяжко!
Мы с господином Жаном шли молча. Он думал о Марте, которую никогда больше не увидит, о матери, которую этот последний удар сразит наповал.
А я думал об Ирме, о другой своей сестре — Фирминии, о том, что осталось от нашей семьи!.. Вспомнил отца, мать, деревню, всех, кого я любил, свой полк, свой край…
Оба мы, ни тот, ни другой, не смотрели, куда ведут нас солдаты. Произойдет это там или здесь, не все ли равно! Теперь нас убьют как собак! Ах, до чего же обидно!
Разумеется, если я сам делюсь с вами всем этим, если я написал свой рассказ собственной рукой — значит, я избежал смерти. Но какова будет развязка этой истории, угадать тогда я бы не смог, будь у меня даже пылкое воображение писателя. Сейчас вы все узнаете сами.
Шагов через пятьдесят нам пришлось пройти мимо лейб-полка. Все здесь знали Жана Келлера, но ни у кого не возникло чувства сострадания к нему — того сострадания, в котором никогда не отказывают человеку, идущему на смерть! Какие жестокие люди! Они, эти пруссаки, вполне достойны находиться под командой Гравертов. Нас увидел лейтенант Франц. Он пристально посмотрел на господина Жана, ответившего ему тем же. Взгляд одного был полон ненависти, предвкушающей близкое торжество, взгляд другого выражал презрение.
На какое-то мгновение я решил, что этот мерзавец собирается сопровождать нас. Я даже спросил себя, уж не намеревается ли он лично командовать расстрелом! Но тут раздался сигнал трубы, и лейтенант затерялся среди солдат.
Мы как раз огибали одну из высот, что занял герцог Брауншвейгский. Эти высоты, подымающиеся над городком и окружающие его на расстоянии в три четверти мили, называются Лунными холмами. У их подножия и проходит дорога на Шалон. Французы же располагались ярусами на соседствующих холмах.
Внизу развернулись многочисленные колонны противника, готовые штурмовать наши позиции, дабы господствовать над Сент-Менегульдом. Если пруссакам это удастся, положение Дюмурье перед лицом численно превосходящих сил неприятеля, который сможет подавить французов своим огнем, сильно пошатнется.
Будь погода ясной, я бы смог разглядеть на высотах французские мундиры. Но все застилал густой туман, сквозь который не могли проникнуть солнечные лучи. Уже доносились отдельные выстрелы, однако вспышки их были едва заметны.
Поверите ли вы? У меня все еще теплилась надежда, точнее, я заставлял себя не отчаиваться.
Однако откуда было ждать спасенья там, куда нас вели? Ведь все французские войска, призванные Дюмурье, находились у него под рукой, вокруг Сент-Менегульда! Но что вы хотите? Когда у тебя такое сильное желание избежать смерти, всякое придет в голову!
Было около четверти двенадцатого. Полдень 20 сентября никогда уже не пробьет для нас!
Вот мы и пришли. Наша процессия свернула влево от большой шалонской дороги. Туман был еще довольно густой, так что невозможно было различить предметов на расстоянии нескольких сот футов. Чувствовалось, однако, что он вот-вот растает на солнце.
Мы вошли в небольшой, предназначенный стать местом казни лесок, из которого нам никогда не суждено было выйти.
Вдали раздавались барабанная дробь, звуки труб, с которыми смешивались грохот артиллерии и треск ружейной перестрелки.
Я старался составить себе ясное представление о том, что происходит, как будто это могло интересовать меня в подобную минуту! Я отметил, что шум сражения доносится справа и, похоже, приближается. Стало быть, на шалонской дороге идет схватка? Может, из лагеря в Эпине вышла колонна, чтобы атаковать пруссаков с фланга? Я не мог ничего себе объяснить.
Если я рассказываю вам все в таких подробностях, так это потому, что мне хочется поведать вам о моем душевном состоянии в тот момент. Что же касается деталей, то они навсегда запечатлелись в моей памяти. Для меня все это словно было только вчера!
Итак, мы вошли в этот лесок. Пройдя сотню шагов, взвод остановился у кучи валежника.
Тут нас с господином Жаном и должны были расстрелять.
Офицер, человек с суровым лицом, который командовал взводом, приказал остановиться; солдаты выстроились в ряд, и я до сих пор слышу стук прикладов о землю, когда они исполнили команду «Ружье к ноге!».
— Здесь, — сказал офицер.
— Хорошо! — ответил Жан Келлер.
Он произнес это твердым голосом, с гордо поднятой головою и смелым взглядом.
И тут, приблизившись ко мне, он заговорил со мной на французском языке, который так любил и который я приготовился слышать от него в последний раз.
— Наталис, — сказал он, — сейчас мы умрем! Последняя моя мысль — о моей матери и о Марте, которую я после нее любил больше всего на свете! Бедняжки! Да сжалится над ними небо! Что до вас, Наталис, то простите меня…
— Простить вас, господин Жан?
— Да, потому что из-за меня…
— Господин Жан! — ответил я. — Мне нечего прощать вам. То, что я сделал, сделано по доброй воле, и я снова поступил бы так же! Позвольте мне обнять вас, и давайте умрем храбрецами!
Мы упали друг другу в объятия.
Я никогда не забуду, с каким видом Жан Келлер обернулся к офицеру и сказал ему недрогнувшим голосом:
— Мы к вашим услугам!
Офицер подал знак. От взвода отделились четверо солдат и толчками в спину подвели нас обоих к дереву. Мы должны были пасть от одного залпа. Что ж, так даже лучше!
Я помню, что деревом этим был бук. Как сейчас вижу его, в лохмотьях свисающей коры. Туман начинал редеть. Стали вырисовываться и другие деревья.
Мы с господином Жаном стояли рука в руке, глядя на взвод напротив.
Офицер слегка посторонился. Звук заряжаемых ружей резанул мне уши. Я стиснул руку Жана Келлера, и, клянусь вам, она не дрогнула в моей руке!
Ружья поднялись на уровень плеча. При первой команде дула должны были опуститься. При второй — прицелиться, при третьей — выстрелить, и все будет кончено.
Внезапно в лесу, позади отряда солдат, раздались крики. Небесный Боже! Что я вижу?.. Это госпожа Келлер, поддерживаемая барышней Мартой и моей сестрой. Ее голос был едва слышен. Она размахивала какой-то бумагой, а барышня Марта, моя сестра и господин де Лоране повторяли следом за ней: «Француз!.. Француз!»
В это время раздался страшный грохот, и я увидел, как госпожа Келлер рухнула на землю.
Но ни господин Жан, ни я не упали. Стало быть, то стрелял не взвод?..
Нет, не он! Шестеро его солдат валялись на земле, тогда как остальные вместе с офицером удирали во все лопатки.
В то же время в лесу со всех сторон раздались крики, до сих пор стоящие у меня в ушах: «Вперед! Вперед!»
Это был клич именно французов, а не хриплое «Vorwaertz!»[252] пруссаков!
Отряд наших солдат, свернувший с шалонской дороги, появился в лесочке, осмелюсь утверждать, очень кстати! Их выстрелы всего на какие-то несколько секунд опередили залп, который собирался сделать взвод. Но этого было достаточно. Каким образом наши храбрые соотечественники очутились здесь так кстати?.. Мне самому довелось узнать об этом лишь потом.
Господин Жан кинулся к матери, которую поддерживали под руки барышня Марта и моя сестра. Несчастная женщина, решив, что этот залп явился для нас смертельным, упала без сознания. Но нежные поцелуи сына понемногу привели ее в чувство, и с ее уст с выражением, которого я никогда в жизни не забуду, продолжали слетать слова: «Француз!.. Он француз!»
Что она хотела этим сказать?
Я обернулся к господину де Лоране. Но тот не мог говорить.
Тогда барышня Марта схватила бумагу, которую госпожа Келлер все еще держала в своей судорожно сжатой, как у мертвеца, руке, и протянула ее господину Жану.
Я до сих пор вижу эту бумагу. То была немецкая газета «Zeitblatt»[253].
Господин Жан взял ее и стал читать. На глазах его блеснули слезы. Небесный Боже! Какое это счастье уметь читать в подобных обстоятельствах!
Из уст господина Жана вырвалось то же самое слово. Вид у него был словно у человека в припадке внезапного безумия. Я не мог понять, что он такое говорит, — настолько его голос перехватило от волнения.
— Француз!.. Я француз!.. — восклицал он. — Ах, мама! Марта!.. Я француз!..
И в порыве благодарности Господу он упал на колени.
А госпожа Келлер, поднявшись между тем с земли, произнесла:
— Теперь, Жан, тебя больше не заставят сражаться против Франции!
— Нет, мама!.. Теперь мое право и долг — сражаться за нее!
Глава XXIV
Господин Жан, не тратя времени на объяснения, потащил меня за собой. Мы присоединились к французам, выскочившим из леса, и пошли с ними на звук пушечных залпов, перераставший в непрерывный грохот.
Я тщетно попытался разобраться в происшедшем. Каким образом Жан Келлер, сын господина Келлера, немца по происхождению, оказался французом? Непонятно! Что я мог сказать точно — так это то, что господин Жан собирался сражаться в качестве француза, а я вместе с ним!
Теперь надо рассказать о событиях, ознаменовавших это утро 20 сентября, и о том, каким образом отряд наших солдат так кстати оказался в лесочке у шалонской дороги.
Читатель помнит, что в ночь на 16 сентября Дюмурье снял лагерь в Гран-Пре, чтобы занять позиции у Сент-Менегульда, куда он прибыл на следующий день, сделав переход в 4–5 миль.
Против Сент-Менегульда расположено несколько высот, разделенных глубокими оврагами.
Их подножия хорошо защищены зыбучими песками и трясинами, образованными рекою Ор вплоть до того места, где она впадает в Эну.
Высоты эти таковы: справа — высоты Гиронь, расположенные напротив Лунных холмов, слева — высоты Жизокур. Между ними и Сент-Менегульдом расстилается нечто вроде болотистого бассейна, через который проходит шалонская дорога. Над поверхностью этого бассейна господствуют холмы меньшей величины и, между прочим, холм с мельницей Вальми, возвышающийся над деревней с таким же названием, ставшей столь знаменитой 20 сентября 1792 года.
Тотчас по приходе сюда Дюмурье занял Сент-Менегульд. В этой позиции он опирался на корпус Дильона, готовый защитить ущелье Дезилет от любой колонны, будь то прусской или австрийской, которой вздумалось бы проникнуть в Аргонский лес через этот проход. Здесь, у Сент-Менегульда, солдаты Дюмурье, вдоволь снабженные провиантом, очень почитали своего генерала, дисциплина у которого была чрезвычайно строгой. Что и проявилось в отношении пришедших из Шалона волонтеров, которые в большинстве своем не стоили даже веревки, чтобы их повесить.
Между тем Келлерман, оставив Гран-Пре, отошел назад. А потому 19 сентября он находился еще в двух милях от Сент-Менегульда, в то время как Бернонвиль уже расположился там с девятью тысячами человек вспомогательной армии из лагеря в Мольде.
По расчетам Дюмурье, Келлерман должен был обосноваться на высотах Жизокур, господствовавших над Лунными холмами, к которым направлялись пруссаки. Но, неверно поняв приказ, Келлерман с генералом Балансом и герцогом де Шартр заняли плато Вальми, причем герцог, стоявший во главе двенадцати батальонов пехоты и двенадцати эскадронов артиллерии, особенно отличился в этом сражении.
Тем временем сюда подходил Брауншвейг — в надежде отрезать шалонскую дорогу и вытеснить Дильона из ущелья Дезилет. Если только Сент-Менегульд будет окружен силами восьмидесяти тысяч человек, к которым присоединилась кавалерия французских эмигрантов, то Дюмурье и Келлерману придется сдаться.
И этого стоило опасаться, так как высоты Жизокур не находились в руках французов, как того хотел Дюмурье. Действительно, если пруссаки, уже ставшие хозяевами Лунных холмов, овладеют высотами Жизокур, то их артиллерия сможет поразить все позиции французов.
Это прекрасно понял прусский король. Вот почему вместо того, чтобы, следуя совету Брауншвейга, двигаться на Шалон, он отдал приказ атаковать, надеясь сбросить Дюмурье и Келлермана в трясины Сент-Менегульда.
Около одиннадцати с половиной часов утра пруссаки стали в полном порядке спускаться с Лунных холмов, остановившись на полдороге.
Именно в этот момент, то есть в начале сражения, прусская колонна встретилась на шалонской дороге с арьергардом Келлермана, часть которого, бросившись в лесок, обратила в бегство взвод пруссаков, собиравшихся расстрелять нас.
Теперь мы с господином Жаном оказались в самом центре схватки — именно там, где я и обнаружил своих товарищей по Королевскому пикардийскому полку.
— Дельпьер? — воскликнул один из офицеров моего эскадрона, заметив меня в тот момент, когда снаряды начали косить наши ряды.
— Так точно, капитан! — ответил я.
— Э! Ты вовремя вернулся!
Как видите, чтобы сражаться!
— Но ты ведь пеший?..
— Ну и что же, капитан, я буду сражаться пешим и справлюсь с делом не хуже!
Нам с господином Жаном выдали оружие, каждый получил ружье и саблю. Амуницию[254], что носилась крест-накрест, мы надели прямо на наши лохмотья, и если у нас еще не было мундира, то лишь потому только, что полковой портной не успел снять с нас мерок!
Должен сказать, что в начале боя французы были отброшены назад; но тут подоспели карабинеры[255] генерала Баланса и восстановили расстроившийся на какое-то мгновение боевой порядок.
А тем временем туман от непрерывных выстрелов артиллерии рассеялся. Теперь бой шел при ярком солнечном свете. За два часа между высотами Вальми[256] и Лунными холмами противники сделали друг в друга двадцать тысяч орудийных залпов. Вы сказали двадцать тысяч? Ну хорошо!.. Положим, двадцать одну тысячу, и не будем больше об этом! Во всяком случае, как гласит пословица, лучше услышать хоть что-то, чем быть совсем глухим!
В этот момент сражения очень трудно было удерживать позицию возле мельницы Вальми. Снаряды косили ряд за рядом. Лошади Келлермана осколок попал прямо в брюхо. Мало того что пруссакам уже принадлежали Лунные холмы, они собирались овладеть также и высотами Жизокур. Мы, правда, крепко держали высоты Гирон, которые Клерфайт пытался отбить с помощью двадцати пяти тысяч австрийцев, и, если бы ему это удалось, французы попали бы под обстрел и с фронта, и с фланга.
Дюмурье увидел эту опасность. Он послал Штенгеля с шестнадцатью батальонами отбросить Клерфайта, а Шазо — занять раньше пруссаков Жизокур. Но Шазо прибыл слишком поздно. Позиция была уже взята, а Келлерман был вынужден обороняться в Вальми от артиллерии, которая обстреливала его со всех сторон. Один ящик со снарядами взорвался у самой мельницы. Произошло минутное смятение. Мы с господином Жаном как раз находились тут вместе с французской пехотой и только чудом уцелели.
Именно в этот момент подоспел со своим резервом артиллерии герцог де Шартр, он сумел успешно ответить на орудийный огонь с Лунных холмов и Жизокура.
Схватка тем временем становилась все более жаркой. Пруссаки, построившись в три колонны, пошли на приступ мельницы Вальми с целью вытеснить нас оттуда и сбросить в болото.
Я до сих пор еще так и вижу и слышу Келлермана. Он приказал подпустить неприятеля до самого гребня холма и только тогда броситься на него сверху. Вот все приготовились, ждут. Остается лишь протрубить сигнал атаки.
И тут, выбрав удачный момент, Келлерман бросает клич:
— Да здравствует нация!
— Да здравствует нация! — отвечаем мы.
Ответ этот прогремел с такой силой, что даже грохот артиллерии не помешал услышать его.
Пруссаки дошли уже до гребня холма. Они были так страшны своими стройными колоннами, своим размеренным шагом и явным хладнокровием. Однако порыв французов все одолел… Мы бросились на них сверху. Завязалась ужасная схватка, ожесточение как с той, так и с другой стороны было неистовым.
Вдруг, в дыму выстрелов, раздававшихся вокруг нас, я увидел Жана Келлера, кинувшегося вперед с саблей наголо. Среди прочих прусских полков, что мы начали теснить на склонах Вальми, он разглядел один.
То был полк фон Граверта. Лейтенант Франц дрался с отвагой, в которой нельзя отказать немецким офицерам, ибо храбрости им не занимать.
Господин Жан очутился с ним лицом к лицу.
Лейтенант наверняка считал, что мы пали под прусскими пулями, и вдруг он обнаруживает нас здесь! Представляете его изумление!.. Но не успел он опомниться, как господин Жан одним прыжком бросился на него и ударом сабли разрубил ему голову…
Лейтенант упал мертвым, а я потом все думал: как справедливо, что он пал именно от руки Жана Келлера.
Между тем пруссаки все еще пытались захватить плато[257]. Они атаковали необычайно яростно. Но мы вполне стоили друг друга, и к двум часам пополудни пруссакам пришлось прекратить огонь и спуститься в долину.
Тем не менее сражение лишь приостановилось. В четыре часа прусский король снова пошел на нас атакой, став во главе трех штурмовых колонн, сформированных им из лучших пехотных и кавалерийских частей. Тогда наша батарея из двадцати четырех пушек, поставленная у подножия мельницы, обстреляла пруссаков с такой мощью, что они, сметаемые снарядами, не смогли забраться вверх по склонам и с наступлением ночи отошли.
Келлерман остался хозяином положения на плато, а название деревни Вальми облетело всю Францию — в тот самый день, когда Конвент на своем втором заседании провозгласил Республику[258].
Глава XXV
Мы уже приближаемся к развязке рассказа, который я мог бы назвать «История одного отпуска в Германии».
В тот же вечер госпожа Келлер, господин и барышня де Лоране, моя сестра Ирма, господин Жан и я снова собрались вместе в одном из домов деревушки Вальми.
Какая это была радость — увидеться снова после стольких испытаний! Можно догадаться, что все мы чувствовали.
— Минуточку! — сказал я тогда. — Хоть я не слишком любопытен и не люблю совать свой нос куда не надо, я все же хотел бы знать…
— Как случилось, что Жан оказался твоим соотечественником, Наталис? — докончила за меня сестра.
— Да, Ирма, и это кажется мне таким странным… Вы, должно быть, ошиблись…
— В таких вещах не ошибаются, славный мой Наталис! — возразил господин Жан.
И вот что мне было рассказано в нескольких словах.
В деревне Лакруа-о-Буа, где мы оставили господина де Лоране и его спутниц, зорко охраняемых в доме Ганса Штенгера, австрийцев вскоре заменила колонна пруссаков. В этой колонне находилось несколько молодых людей, оторванных от своих семей указом от 31 июля.
Среди этих юношей был славный парень по имени Людвиг Пертц, оказавшийся из Бельцингена. Он знал госпожу Келлер и зашел повидать ее, когда узнал, что она — пленница пруссаков. Тут ему рассказали о том, что произошло с господином Жаном и как он должен был спасаться бегством через Аргонский лес.
Услышав это, Людвиг Пертц воскликнул:
— Вашему сыну больше нечего бояться, госпожа Келлер! Его не имели права призывать на военную службу!.. Он не пруссак!.. Он француз!
Можно себе представить, какую реакцию вызвало это заявление. Когда от Людвига Пертца попросили подтверждения его слов, он показал госпоже Келлер номер «Zeitblatt».
В этой газете было помещено сообщение о решении суда от 17 августа по тяжбе Келлера с правительством. Семейству Келлер было отказано в иске на том основании, что право на поставки для государства может принадлежать только немцу, прусскому подданному. Между тем, как было установлено, предки господина Келлера, переселившись в Гельдерн после отмены Нантского эдикта, никогда не хлопотали о натурализации и не получали ее, и вышеупомянутый господин Келлер никогда не был пруссаком, он всегда оставался французом, а потому государство ничего ему не должно.
Вот так рассудили! Что господин Келлер оставался французом, это, несомненно, самая что ни на есть правда! Однако это не резон, чтобы не заплатить ему долга! Но, в конце концов, суд вершился в Берлине в 1792 году. К тому же прошу поверить, что господин Жан отнюдь не собирался обжаловать его решение. Он и так считал свой процесс проигранным. Несомненно было одно: рожденный от отца и матери французского происхождения, он был самым чистокровным французом на свете! И если ему для этого недоставало обряда крещения, то он получил его в сражении при Вальми — подобное крещение огнем стоит любого другого!
Понятно, что после такого сообщения Людвига Пертца следовало во что бы то ни стало разыскать господина Жана. Тут как раз в Лакруа-о-Буа стало известно, что он схвачен в Аргонском лесу, препровожден в Лонгве, а затем отведен в прусский лагерь вместе с вашим покорным слугой. Нельзя было терять ни минуты. Перед грозившей сыну опасностью госпожа Келлер вновь обрела все свои силы. После ухода австрийской колонны несчастная мать в сопровождении господина де Лоране, барышни Марты, моей сестры покинула Лакруа-о-Буа. Честняга Ганс Штенгер стал их проводником. Вот так наши отважные женщины прибыли к лагерю Брауншвейга в то самое утро, когда нас собирались расстрелять. Сразу после того как мы ушли из палатки, где заседал военный совет, там появилась госпожа Келлер.
Тщетно требовала она помилования сына, ссылаясь на решение суда, установившего, что Жан Келлер — француз. Ей было отказано. Тогда она бросилась по шалонской дороге в ту сторону, куда нас повели… Дальнейшее известно.
Когда все складывается так, чтобы хорошие люди оказались счастливы, коль они к тому же достойны этого, то остается только признать вместе со мною: как хорошо Господь Бог все устраивает!
Что касается положения французов после Вальми, то вот что я могу сказать об этом вкратце.
Прежде всего, ночью Келлерман отдал приказ занять высоты Жизокур, что окончательно обеспечило бы господство французской армии.
Однако пруссаки отрезали нас от шалонской дороги, прервав таким образом сообщение с военными складами. Но так как мы владели Витри, то обозы все-таки доходили и армия в лагере Сент-Менегульд ни в чем не терпела нужды.
Неприятельские войска оставались на своих позициях до конца сентября. Шли переговоры, не приведшие ни к какому результату. Тем не менее в стане пруссаков поспешили перейти границу обратно. Провианта у них не хватало, большой урон наносили болезни, так что 1 октября герцог Брауншвейгский снялся с места.
Следует сказать, что, пока пруссаки стали проходить обратно по ущельям Аргонского леса, ему позволили отступать, не слишком сильно наседая на него. Почему? Этого я не знаю. Ни я, ни остальные совсем не понимали поведения Дюмурье в данном случае.
Вероятно, тут была замешана политика, а я в ней, повторяю, совсем ничего не смыслю.
Важно было то, что противник перешел границу в обратном направлении. Это хотя медленно, но все же было сделано, и во Франции не осталось больше ни одного пруссака, даже господин Жан и тот оказался нашим соотечественником.
Как только стало возможно выехать, мы в середине первой недели октября вернулись все вместе в мою дорогую Пикардию, где наконец-то была отпразднована свадьба Жана Келлера с Мартой де Лоране. Как вы помните, в Бельцингене я должен был стать свидетелем со стороны господина Жана, а потому неудивительно, что я был им и в Сен-Софлье. И если уж этому браку не суждено быть счастливым, то, значит, таких не бывает вообще.
Что касается меня лично, то я спустя несколько дней вернулся в свой полк. Я научился читать и писать и стал, как уже говорил, лейтенантом, а в период имперских войн[259] — капитаном.
Вот мой рассказ, изложенный мною для того, чтобы положить конец спорам моих друзей из Гратпанша. Если я излагал события не слишком гладко, то, по крайней мере, рассказал все именно так, как это было на самом деле. А теперь, читатель, позвольте мне отсалютовать вам шпагой.
Наталис Дельпьер,
капитан кавалерии в отставке.
Конец
Послесловие
ФАНТАЗИИ В ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Уже отмечалось, что Жюля Верна нередко называли (и до сих пор называют) писателем-фантастом, а то и «отцом научной фантастики». В целом это не так. Фантастическое (а правильнее было бы сказать — выходящее за рамки привычного для верновских времен) присутствует в произведениях писателя лишь фоном, в лучшем случае — коротким эпизодом, побочной линией. В остальном же, исключая очень немногие вещи, романист старается остаться в границах возможного. Он пытается убедить читателя (и не без успеха!) в правдоподобии художественного вымысла, в вероятности описанного.
Фантазии Верна почти всегда осязаемы. Это и неудивительно: он постоянно следил за новостями изобретателей и за научными открытиями, делал обширные выписки. В эту картотеку попадали и самые безумные идеи… Стало быть, «великий фантаст» был, в сущности, только популяризатором чужих идей? Многие исследователи его творчества так и считают, но, пожалуй, не стоит торопиться с выводом.
Среди верных поклонников прославленного мастера есть читатели-специалисты, старающиеся доказать наличие недюжинного провидческого дара у творца «Необыкновенных путешествий». Таков отечественный офицер-подводник Игорь Шугалей. Он провел интереснейшие изыскания, результаты которых частично опубликованы[260]. Им был поднят вопрос о соответствии верновского «Наутилуса» требованиям морской стихии. Воспользовавшись современной исследовательской техникой, наш моряк выяснил, что фантастический подводный корабль был основательно просчитан. Достаточно сказать, что толщина стальных стенок «Наутилуса» почти такая же, как у батискафа «Триест-2», достигшего 23 января 1960 года дна Марианской впадины на глубине 10 916 м. Кроме того, на придуманном писателем корабле много различных устройств, которыми вроде бы совершенно не интересовалась тогдашняя техническая мысль: водолазный шлюз для выхода из лодки, дистиллятор и электрогрелки, система судовой вентиляции, электрический камбуз и подогрев воды для ванн, защита входных люков электричеством, газосветные лампы и т. д. Одно перечисление этих диковинных для того времени изобретений показывает, что Ж. Верн не только отслеживал достижения во многих областях науки и техники, но и умел прогнозировать возможности их внедрения. Вот только справедливо ли подобные предвидения называть «фантастикой»? Вызывает удивление, что критика, говоря о фантастике в верновских романах, имеет в виду одни технические или, точнее, научно-технические проблемы. Но ведь фантастика не ограничивается техникой! Разве «машина времени» Г.-Дж. Уэллса или «Янки при дворе короля Артура» М. Твена сводятся к техническому решению? Почему-то, заводя речь о фантастическом в творчестве мэтра приключенческой литературы, критика упорно не обращает внимания на то обстоятельство, что Верн, привыкший к свободному полету воображения в пространстве «географическом» мог покорять и пространство «историческое». Еще в юношеские годы Жюль упорно работал над трагедией на историческую тему. Перенос действия во времени — достаточно распространенный художественный прием. Познакомившись с романами, помещенными в этом томе, читатель сможет оценить удачность этих попыток «амьенского волшебника».
Роман «Михаил Строгов» очень популярный и в зарубежной Европе, и в более отдаленных краях, долгое время оставался практически недоступным русским читателям. При жизни автора он занимал во Франции четвертое место по популярности среди прочих верновских произведений. Уже через год после выхода в свет оригинального издания появились переводы по меньшей мере на десять языков. Долгие годы «Строгов» оставался в числе самых любимых и читаемых произведений знаменитого писателя. А вот в России роману не повезло. Хотя еще в год первого выхода в свет он был замечен русской критикой, причем даже провинциальной, перевода на русский язык этого увлекательнейшего верновского сочинения наши соотечественники ждали почти четверть века, тогда как обычно новинки, вышедшие из-под пера Ж. Верна, появлялись в русском варианте через год, максимум — через два после их публикации на родине. Почему же так долго держали вдали от России «Строгова»? В чем здесь дело? Ответ найти нетрудно. Причина заключена в самом сюжете. Великий выдумщик мог заставить своих героев путешествовать по воздуху, под водой, в скованных вечными льдами арктических морях, под землей и даже в космосе. Читающая публика воспринимала подобные выдумки как должное. Но стоило писательской фантазии отправиться в свободное плавание в иную сферу — гуманитарную, в иное информационное пространство — историческое, как сразу же возникли затруднения.
Не успев ознакомиться с присланными ему начальными главами романа, П.-Ж. Этцель, издатель «Необыкновенных путешествий», вопрошал автора: «Не слишком ли опасно вводить в действие „царского курьера”, да еще занимающегося русской политикой, и это в тот самый момент, когда французско-русское сближение стало первейшей заботой наших дипломатов?»[261]
Надо сказать, что замысел романа возник под непосредственным влиянием политических событий того времени. В 1864 году Россия начала решительное наступление на Среднюю Азию, стремясь покорить эту обширную территорию и получить доступ к природным богатствам края. В 1867 году было образовано Туркестанское генерал-губернаторство, а год спустя вассальную зависимость от русского царя признали Кокандское и Бухарское ханства. В 1873 году та же судьба постигла ханство Хивинское. Через два года, в 1875 году, недовольные приходом русских, жители этих благодатных краев собрались под руководством кипчака Абдуррахман-Автобачи, вторглись в русские владения и заняли верховья реки Зеравшан, а также окрестности Ходжента. Это-то довольно скромное, локальное выступление Жюль Верн, именно в 1875 году начавший работу над «Строговым», принял за широкомасштабное народное восстание и попробовал предсказать его ход. При этом автор не руководствовался ни историческим развитием Средней Азии в новое время, ни анализом общественных и межнациональных отношений в этом регионе. Писатель, конечно, не был готов к подобному прогнозу, да и не собирался углубляться в чуждую ему область. Куда проще оказалось пофантазировать о новом нашествии Чингисхана или Тимура!
Реальные события, естественно, шли совершенно иным путем. Уже осенью 1875 года против бунтовщиков был послан отряд генерала Кауфмана в составе 16 рот, 8 казачьих сотен и 20 пушек, который разбил десятитысячное войско восставших кокандцев. Следом за этим карательным отрядом боевые действия продолжил генерал Михаил Скобелев с отрядом в 2800 человек. Скобелеву в январе 1876 года удалось пленить Абдуррахмана, после чего вспышка недовольства угасла сама собой.
Но это Верна нисколько не волновало, так же как, впрочем, и судьба бухарских, кокандских, хивинских земель. Его интересовали края более северные. Поэтому-то коренных жителей современного Узбекистана, названных автором «татарами», он решил «депортировать» в Сибирь, как раз в это время привлекавшую повышенное внимание европейцев после открытия в сороковых годах XIX века ленского золота и сопровождавшей это открытие промышленной горячки. И Ж. Верн загорается идеей — отправить своих героев в Сибирь, чтобы на фоне занимательного сюжета познакомить рядового француза с этой обширной и прекрасной землей, у которой, по стойкому убеждению автора, имелись все виды на блестящее будущее.
Этот творческий прием сам по себе не мог не вызвать одобрения, но романист зашел несколько дальше положенного в построении сюжета: главным героем он сделал царского курьера, доставляющего в Иркутск чрезвычайно важное сообщение. Писатель и все произведение назвал первоначально «Царский курьер».
Вот этот-то авторский ход и насторожил Этцеля. Автор, до беспамятства увлеченный работой над новой книгой, свято верил, что бесспорные достоинства рождающегося романа сгладят определенные вольности сюжета. «Я не могу сейчас думать ни о чем другом — меня в высшей степени увлекает великолепный сюжет, — пишет он своему щепетильному издателю. — Я пустился в Сибирь, да так, что не мог остановиться. Мой роман скорее татарский и сибирский, чем русский»[262]. Стараясь перебороть сомнения Этцеля, Жюль Верн рекомендует отправить роман на рецензию русской литературной знаменитости Ивану Сергеевичу Тургеневу, жившему во Франции. Тургенев согласился и очень внимательно прочел рукопись. Общая оценка одного из первейших российских писателей оказалась положительной. Тургенев отметил занимательность фабулы и остроту сюжетных положений. Единственное его замечание сводилось к тому, что изображенное Верном татарское нашествие выглядело до крайности неправдоподобным. Это взорвало экспансивного французского романиста: «Татарское нашествие — почему бы и нет, имею же я право на писательский вымысел... Разве я предупреждал публику, что „Гаттерас” и „20 000 льё” — это выдумка?»[263]
Тем не менее, осторожности ради, рукопись отправили на отзыв князю Орлову, русскому послу в Париже. Сиятельный рецензент не высказал никаких возражений по существу фабулы. Тогда и Этцель согласился с сюжетом романа, но потребовал от автора, чтобы тот, во-первых, сменил название, во-вторых, исключил из текста все, что могло быть приписано правившему тогда Россией царю Александру II или его отцу Николаю I. Жюль Верн скрепя сердце согласился с требованиями издателя. Кроме того, он был вынужден, во избежание придирок цензуры, предварить свое новое детище обращением к читателю, в котором предупреждал, что в романе речь идет о событиях вымышленных. «Досадно, — сообщал издателю автор, — что цензура читает книги так поверхностно. Тургенев, который знает Россию не хуже этих господ, не усмотрел в этом ничего предосудительного. К тому же сведения я почерпнул не в старых книгах, а у Рюсселя Килланга, совершившего свое путешествие в 1860 году»[264].
Верн здесь явно поскромничал. Известно, что он старательно отбирал серьезную литературу о Сибири и населяющих ее людях из того немногого, что можно было достать в Париже. О качестве проработки материала романистом свидетельствуют сибирские краеведы: «Читая описание пути Михаила Строгова... невольно поражаешься упоминанием таких пунктов, не очень значительных и для нашего времени, как село Никольское в истоке Ангары, Голоустное, Пашки... Встречающиеся героям романа города, реки, села и малые населенные местечки даны автором географически сравнительно верно»[265].
Прежде всего писатель обстоятельно ознакомился с сочинением Кастрена — работой, написанной по заданию императрицы Екатерины II и посвященной административному делению Сибири и управлению краем. Автор этого труда в глаза не видел сибирских земель, но использовал многочисленные русские источники. Книга вышла на французском языке в Париже, и следы ее скрупулезного изучения отмечены исследователями в тексте «Строгова»[266]. Весьма ценным источником для французского писателя стали сочинения немецкого естествоиспытателя, действительного члена Санкт-Петербургской академии наук Петера Симона Палласа (1741 — 1811), который в 1768— 1774 годах, по заданию все той же Екатерины, совершил большое путешествие по России во главе целого экспедиционного отряда, куда входили как ученые (геодезисты, астрономы, зоологи, географы, ботаники), так и несколько петербургских студентов. Паллас пересек Западную Сибирь от Тобольска до Томска, потом отправился на Алтай, а вернувшись в Томск, продолжил свой путь на восток — в Красноярск, Канск, Иркутск, Кяхту и Читу. В свою записную книжку он заносил всевозможные сведения, касающиеся истории, политики, торговли, религии, нравов населения, искусства. «Читая его отчет о путешествии, приходится только удивляться разнообразию его знаний, отдавать должное его просвещенному патриотизму и признать проницательность императрицы, сумевшей привлечь в свою страну такого крупного ученого»[267]. Записки Палласа были переведены на французский язык еще в 1794 году, и Верн почерпнул из них многие детали, например, образование донного льда в Ангаре, расположения населенных пунктов и расстояния между ними[268].
Еще одна книга могла стать интересной для автора «Строгова». Вышла она в Брюсселе в 1874 году под удивительно длинным названием «Россия анекдотическая, библиографическая, географическая, историческая, литературная, статистическая и против обыкновения правдивая. Труд, посвященный иностранцам, стремящимся ее познать, но не порицать». Автором книги был русский граф Андрей Федорович Растопчин, известный любитель книг и собиратель живописи. Прокутив доставшееся ему по наследству состояние, столичный барин вынужден был отправиться на службу в Сибирь, где провел около трех лет. Несмотря на декларированную в самом названии правдивость, книга — по меньшей мере в части, касающейся Сибири, — изобиловала ошибками и неточностями, а самих сибиряков автор показал в весьма неприглядном свете: «Книга его о Сибири полна хулы на сибиряков и их жизнь. Характеристика сибиряков, их умственных запросов дана в злобно-искаженной форме»[269]. К чести Жюля Верна, он не поверил обманчивым откровениям графа-кутилы, хотя статистическими сведениями по Сибири, содержащимися в работе Растопчина, воспользовался.
Но больше всего сведений писатель позаимствовал в сочинениях выдающегося русского ученого и революционера Петра Алексеевича Кропоткина (1842— 1921), человека, изъездившего юг Сибири, что называется, вдоль и поперек. Русский князь, потомственный военный, он по окончании Пажеского корпуса, одного из самых привилегированных учебных заведений императорской России, выбрал местом службы далекую и во многом еще неизвестную Сибирь. На восточной окраине империи молодой офицер провел около пяти лет. Не засиживаясь долго в Иркутске, тогдашнем административном центре края, он много путешествовал: объехал верховья Лены и долину Витима, крупного ее притока, сплавлялся по Шилке и Амуру, ездил на Уссури и даже забирался в Маньчжурию. Не удовлетворяясь географическими исследованиями, П. А. Кропоткин часто отправлял с пути в столичные и провинциальные газеты интереснейшие, мастерски написанные корреспонденции. Некоторые из этих посланий — те, что были опубликованы в еженедельнике «Современная летопись» за 1862 год, — стали основательным подспорьем для французского романиста. Прежде всего речь идет о письмах из Томска, откуда Ж. Верн взял описание города, и из Иркутска (от 30 сентября 1862 г.), где пером Кропоткина превосходно воссоздан облик столицы Восточной Сибири. У того же Кропоткина писатель почерпнул сведения о сибирской нефти, хранилища которой стали причиной пожара города в финале романа. Ну, а сам пожар также не выдуман автором. Верн перенес в иные условия знаменитый в XIX веке и многократно освещенный в прессе пожар на реке Камберленд, что в североамериканском штате Кентукки, где нефть горела на протяжении свыше ста километров вдоль реки. Текстуальные совпадения с письмами русского исследователя встречаются и в других эпизодах романа. Но писатель заимствовал из этих публикаций не только фактический материал: «От Кропоткина Жюль Верн воспринял теплое отношение к сибирякам — крестьянам, мелким чиновникам, персонажам романа»[270].
(Впоследствии, приехав в Париж, П. А. Кропоткин станет сотрудничать с замечательным французским географом Элизе Реклю, близким знакомым автора «Строгова». Для издаваемой французским ученым «Всеобщей географии» русский политический беженец напишет часть тома, посвященного Азии. Судьба сведет русского князя и с самим Ж. Верном, но это будет гораздо позже, а во времена, когда романист работал над книгой о приключениях Михаила Строгова, П. Кропоткин был узником Петропавловской крепости. В июне 1876 года ему удалось бежать и перебраться за границу.)
Среди источников «Строгова» называют еще две работы русских авторов: «Очерки Восточной Сибири» Ровинского и «Новейшие любопытные и достоверные сведения о Восточной Сибири» Н. Семевского. Достойно упоминания, что работы эти не были переведены на французский язык, а следовательно, романисту пришлось позаботиться о переводе интересовавших его отрывков. В результате писатель весьма подробно изучил географическую карту России и разнообразную справочную литературу. Он не только ориентировался в расположении захолустных почтовых станций и перевалочных пунктов, но и знал о состоянии проезжих дорог и объездных путей, а также вполне удовлетворительно передавал трудные для галльского уха русские географические названия.
Безусловно, роман не свободен от географических ошибок и неточностей, но вспомните, с чего мы начали разговор о «Строгове». Писатель не путеводитель создавал, а историко-географическую фантазию, в которой изначально не собирался строго придерживаться реальности. И отказывать ему вправе на изменение реального мира — будь то в географическом, будь то в историческом измерении — неправомерно.
Удачно ли фантазировал автор — другой вопрос. Можно не принимать его труд, можно критиковать, но осуждать писателя за попытку нестандартного взгляда в историю нельзя. Кстати, чуть позже русский литератор Михаил Первухин выпустил роман о якобы чудесном спасении Наполеона с острова Святой Елены и позднейших фантастических похождениях бывшего императора в Африке. Французы восприняли эту фантазию с полным равнодушием. У русских, однако, особое отношение к своей стране; мы крайне ревнивы к любым попыткам иностранцев поэкспериментировать с нашей историей. Оттого-то и попал в немилость один из лучших романов Ж. Верна, проникнутый, кстати, неподдельной симпатией к России и ее народу.
С января 1876 года роман начал печататься в этцелевском журнале «Магазэн д'эдюкасьон…», а в августе — сентябре вышел отдельным изданием. Успех «Строгова» превзошел все ожидания. В языке парижан даже появилось крылатое выражение: «Прекрасно, как „Строгов”».
Безусловно, значительной долей успеха роман был обязан заглавному герою — благородному и мужественному Михаилу Строгову. Этот русский — один из самых обаятельных верновских образов. Не последнюю роль сыграл в успехе книги и проповедуемый автором новый взгляд на далекую Сибирь, в противовес традиционному, примитивному европейскому шаблону, рассматривавшему края сибирские как земли заброшенные и позабытые, населенные одичалыми, безнравственными и бескультурными жителями, наполовину преступниками, достойными соседями преступников, высылаемых туда из Европейской России.
Триумф «русского» романа Верна поддержала и приумножила пьеса, созданная писателем в соавторстве с драматургом Деннери и впервые поставленная 17 ноября 1880 года в театре Шатле. Спектакль этот шел с переменным успехом на парижской сцене в течение ряда сезонов. Сценический вариант «Строгова» вызвал к жизни моду на все русское. Особенно понравились парижским модницам каракулевые шапочки. Они произвели настоящий фурор. «А раз уж женщины выражали таким образом свое одобрение, значит, автор одержал полную победу!»[271]
Выше уже говорилось о трудном пути «Михаила Строгова» к российскому читателю. Правда, здесь надо сделать оговорку. Образованные слои русского общества имели возможность познакомиться с романом в подлиннике. Видимо, число подобных читателей было немалым. Француз Виктор Миньо, побывавший в Иркутске и выпустивший на родине книгу «Из Парижа в Пекин через Сибирь», свидетельствовал о популярности знаменитого сочинителя в Азиатской России, причем на языке оригинала роман читала преимущественно женская половина общества. Путешественник уточнял, что с подлинниками верновских романов были знакомы не только дворяне, но и представители купечества[272].
А отечественный перевод «Строгова» появился только в 1900 году. Стену отчуждения удалось пробить известнейшему российскому издателю Ивану Дмитриевичу Сытину. Оно и неудивительно, этому предпринимателю позволялось то, на что никогда бы не получил разрешения никто другой. Глава крупнейшей в России книгопечатной фирмы основательно интересовался творчеством Ж. Верна. Сытинская торговая марка дала вторую, российскую жизнь многим из «Необыкновенных путешествий» всемирно известного писателя. Однако у сытинских изданий вообще, а у приключенческих романов в особенности, был существенный недостаток. Маститый глава солиднейшего издательского дома основное внимание уделял доступности своих книг, то есть их дешевизне. О качестве переводов приключенческой литературы его сотрудники заботились едва ли не в последнюю очередь. Конечно, попадались и вполне добросовестные издания, но к сытинскому «Строгову» это — увы! — не относилось. «Прекрасные качества романа были сильно искажены при переводе... В вольном переложении книги утратились и стилистические особенности, свойственные перу Ж. Верна. При сокращении исказились многие красивые детали романа»[273].
Спустя несколько лет в издательстве П. Сойкина вышел более качественный перевод «сибирского» романа Верна, а потом русские читатели снова были надолго отлучены от «Строгова». В нашем собрании сочинений поклонники верновской фантазии имеют возможность познакомиться с новым переводом одного из самых популярных произведений знаменитого французского романиста. Пусть это знакомство окажется приятным и герои этого романа полюбятся нашей молодежи не меньше, чем капитан Немо, Дик Сэнд или дети капитана Гранта.
Шумный успех книги о России был отмечен и в нашем отечестве. В год выхода романа появилась и первая критика на него. Суждения были самые различные. Рецензент «Живописного обозрения», например, назвал роман «прекрасным». В числе прочего безымянный литературовед высоко оценил географические познания автора: «Заставляя своего героя переезжать по всем этим местам, Жюль Верн весьма удачно описывает их, но так как сам писатель никогда не был в этих местах, то действительно нужно удивляться той добросовестности, с которой он изучил у себя в кабинете эти мало знакомые даже нам, русским, восточные губернии»[274].
На страницах газеты «Сибирь», наоборот, перечислялись фактические ошибки, допущенные Ж. Верном, и отрицалась всякая познавательная ценность «Строгова». Автор заметки даже обвинял знаменитого писателя в пользовании «лженаучными литературными источниками». Мы уже видели, что это не так, поэтому не станем слишком задумываться над подобными утверждениями. Стоит только еще раз повторить ранее уже высказанный тезис: фантастика (а именно к этому жанру литературы, повторим, относится «Строгов») отнюдь не предполагает скрупулезной верности деталям. Скорее наоборот: свободный полет воображения автора требует освобождения от мелочей, сознательного отхода от рабского подражания реальности. Создатель «Михаила Строгова» очень хорошо понимал это правило. Усвоим его и мы, читатели романа, и не будем подходить к художественному произведению с требованиями, предъявляемыми к путевым очеркам.
Второй из романов, включенных в том, «Возвращение на родину» — произведение совсем иного рода. Если угодно, этот роман тоже можно назвать исторической фантазией, только на этот раз — фантазией более приземленной и сохраняющей всю видимость реальности. Этот плод верновского воображения примыкает к историческим романам того романтического направления, по которому шли Виктор Гюго, Альфред де Виньи, Проспер Мериме и Александр Дюма. Выдуманные романтические герои попадали по воле авторов в конкретную историческую обстановку и становились участниками реально происходивших исторических событий, будто бы внося в них свой вклад. Нередко вымышленные литературные персонажи сталкивались с конкретными историческими лицами, действовали вместе с ними (и даже порой — вместо них), освобождая вместе с тем автора от абсолютно точного воспроизведения исторической реальности. Законы романтического жанра как нельзя лучше подходили Верну. Правда, исторические факты служат для него лишь фоном, лишь поводом для географического рассказа, для описания поведения своих героев в экстраординарных условиях. В сущности, путешествие героев романа могло быть предпринято и веком раньше, и веком позже — например, во время франко-прусской войны 1870 — 1871 годов. И только в самом конце романа автор описывает реальные исторические события — сражение при Вальми, имевшее решающее значение для юной Республики. Здесь Верн опять-таки следует историко-романтической традиции, не отступая от сложившихся шаблонов.
Да, «Дорога во Францию» (так называется роман в оригинале) не принадлежит к творческим достижениям популярного писателя. Надо вспомнить, что 1886 год, время создания этого произведения, был исключительно тяжелым в жизни Ж. Верна. Он долго болел, оправляясь после ранения; часто впадал в депрессивное состояние, что, конечно, не способствовало пробуждению творческой фантазии. К тому же перед «Возвращением» был закончен роман «Север против Юга» о Гражданской войне в США, после которого автор, словно желая отдохнуть от батальных сцен, предпочитает сосредоточиться на обходных тропках истории. Сам по себе — это достаточно интересный ход, но приходится повториться: уставшему писателю был нужен отдых, а договор с этцелевским издательством безотлагательно требовал все новых и новых произведений. Но даже в «проходном» романе Верн смог проявить лучшие черты своего писательского таланта, что особенно отчетливо видно в описаниях природы.
Во Франции роман был впервые напечатан в 1887 году.
А. МОСКВИН
Примечания
1
Экоссез — старинный шотландский народный танец, основными движениями которого являются скользящие шаги, маленькие прыжки и галоп; исполнялся обычно четырьмя парами; стал популярен в Европе благодаря музыкальным обработкам композиторов-романтиков.
(обратно)2
Гвардейские стрелки — автор имеет в виду один из лейб-гвардии егерских полков.
(обратно)3
Граница Сибири — здесь и далее автор постоянно говорит об этой границе, называя ее также «русской границей». Естественно, никакой границы в настоящем значении этого слова не было. Речь может идти только об административной границе.
(обратно)4
Вильно — устаревшее название города Вильнюса.
(обратно)5
Имеется в виду Нижнеудинск.
(обратно)6
Речь идет о знаменитом заводе художественного фарфора, основанном в 1756 году в пригороде Парижа Севре.
(обратно)7
Берне Эмиль Жан Орас (1789 — 1863) — французский художник, писавший романтические или исторические картины; в 1829 — 1835 годах был директором Французской академии в Риме.
(обратно)8
Автора ввело в заблуждение название старинного московского посада; никаких китайских кварталов в Москве никогда не было.
(обратно)9
Льё равен 4,5 километра. (Примеч. перев.)
(обратно)10
Напомним читателю, что к моменту создания романа Бухарское ханство находилось в вассальной зависимости от России (с 1868 г.), другое крупное государство Центральной Азии — Хивинское ханство — в 1873 году вошло в состав России; Кокандское ханство, признавшее вассальную зависимость от России в 1868 году, было упразднено в 1876 году и вошло в состав образованного в 1867 году Туркестанского генерал-губернаторства.
(обратно)11
Неточность автора: Омск был главным городом Акмолинской области, входившей в Степное генерал-губернаторство.
(обратно)12
Якутской губернии в XIX веке в России не было; автор имеет в виду Якутскую область.
(обратно)13
Упомянутые автором округа составляли Камчатскую область (с центром в Петропавловске-Камчатском), в которую входил также Чукотский полуостров; южная граница Камчатской области на материке проходила возле города Аян.
(обратно)14
Под киргизами автор понимает современных казахов. В прошлом веке их действительно часто так называли в обиходе, хотя официально среди народов Российской империи они значились как «киргиз-кайсаки».
(обратно)15
Автор имеет в виду реку Чулым.
(обратно)16
В одной версте 1067 метров, то есть немногим больше километра. (Примеч. автора.)
(обратно)17
Ошибка автора: г. Касимов расположен в Европейской России, на реке Оке (на территории современной Рязанской области).
(обратно)18
Еланск — имеется в виду село Еланское (современная Еланка в Новосибирской области).
(обратно)19
Албазин — русский городок на Амуре (ныне — Албазино Амурской области).
(обратно)20
Орловск — очевидно, речь идет о деревне Орловской, располагавшейся на правобережье Амура, напротив современного города Амурска (Хабаровский край).
(обратно)21
Александровск — возможно, имеется в виду посад Александровский в низовьях Амура, современное село Мариинское (Хабаровский край).
(обратно)22
Главой русской полиции во второй половине XIX века был министр внутренних дел, однако оперативное руководство («ближайшее», как говорили тогда) осуществлял один из товарищей министра.
(обратно)23
Кундуз — небольшой город на севере Афганистана.
(обратно)24
Здесь, как и в ряде других произведений, автор упорно называет тогдашнее русское государство Московским. Очевидно, подобным образом Ж. Верн стремился избавиться от конкретных географических реалий, как бы подчеркивая, что действие его произведения происходит в отчасти фиктивном историко-географическом пространстве.
(обратно)25
Присоединение Казахстана к России началось с добровольного принятия российского подданства в 30-х годах XVIII в. казахами Младшего жуза («Малой орды» Ж. Верна). Этот процесс шел до 1860-х годов, причем некоторые казахские феодалы вели активную борьбу против присоединения к России, опираясь на поддержку Коканда, Хивы и Бухары.
(обратно)26
Хадисан — крупного озера с таким названием нет.
(обратно)27
Аксакал — возможно, автор имеет в виду соленое озеро Аксуат в Кустанайской области Казахстана.
(обратно)28
Каре — построение боевого порядка пехоты в виде четырехугольника, применявшееся в XVIII — XIX веках преимущественно для отражения атак конницы противника со всех направлений.
(обратно)29
Европейцы называли всех обитателей Восточной и Центральной Азии «татарами». Разделение, приводимое автором, сводится на языке современной этнографии к различию между западными и восточными тюрками.
(обратно)30
Долгота различных населенных пунктов и территорий дается от Парижского меридиана (а не Гринвичского, как это принято в современной науке).
(обратно)31
Делавары — племя североамериканских индейцев, относящееся к группе алгонкинов и жившее на северо-востоке США.
(обратно)32
Дамасская сталь — особым образом приготовленная высококачественная узорчатая литая сталь для клинков; названа в честь одного из центров ее изготовления — сирийского города Дамаска.
(обратно)33
Шамиль (ок. 1798 — 1871) — религиозный лидер Дагестана и Чечни, организатор националистического движения среди кавказских горцев; четверть века вел «священную войну» против России.
(обратно)34
Потомок Авраама — согласно библейской легенде, Авраам был родоначальником еврейского народа.
(обратно)35
Приводимые автором сведения о протяженности Российской империи относятся ко временам до продажи Аляски (в 1867 г.).
(обратно)36
Приблизительно 2500 лье. (Примеч. автора.)
(обратно)37
Около 1000 лье. (Примеч. автора.)
(обратно)38
Автор ошибается, считая литовцев и «курляндцев», то есть латышей, славянскими народами.
(обратно)39
Лопари — прежнее название народности саами, проживающей на Кольском полуострове, а также на севере Финляндии, Норвегии, Швеции.
(обратно)40
Черемисы — старое название марийцев.
(обратно)41
Самоеды — устаревший этнографический термин, которым объединялись в одну народность ненцы, нганасаны, энцы и селькупы — малые народы севера Западной Сибири.
(обратно)42
Неточность автора: речь, разумеется, идет об Оке.
(обратно)43
Род слоеного пирога. (Примеч. автора.)
(обратно)44
И в данном случае автор должен был упомянуть Оку.
(обратно)45
Место для ярмарки действительно было отведено за рекой — только была это Ока. Нижегородская ярмарка устраивалась на левом берегу Оки, недалеко от впадения последней в Волгу, тогда как основная часть города располагалась на правобережье Оки, на высоком коренном берегу.
(обратно)46
Смирна- прежнее название турецкого города Измира.
(обратно)47
Исфахан — город в Центральном Иране, одна из прежних столиц страны.
(обратно)48
Лазурит — красивый минерал синего цвета из группы силикатов; ценный поделочный камень (известен также под названиями ляпис-лазурь и лазуревый камень).
(обратно)49
Автор не прав: цыгане, как было известно уже в его времена, являются выходцами из Индии и не могут быть потомками древних жителей долины Нила — коптов.
(обратно)50
Любители, публика (ит.).
(обратно)51
Полицмейстер — начальник городской полиции в крупных городах Царской России.
(обратно)52
По современным измерениям, длина Волги составляет около 3530 километров.
(обратно)53
Миля (морская) равна 1852 метрам. (Примеч. автора.)
(обратно)54
«Клико» — один из популярных сортов шампанского.
(обратно)55
Вогуличи (чаще — вогулы) — устаревшее название народности манси.
(обратно)56
Такая шуба называется «доха»; она очень легкая и в то же время совершенно непроницаемая для холода. (Примеч. автора.)
(обратно)57
Протяженность Уральских гор вдоль меридиана составляет около 2000 километров.
(обратно)58
Современные ученые считают наиболее достоверными три версии происхождения названия Урал (не отдавая, впрочем, ни одной предпочтения): а) от мансийского «ур-ала», что означает «горная вершина», 6) от тюрко-татарского, а точнее монгольского, «арал» — «остров», в) от имени героя одного из башкирских сказаний Урал-батыра.
(обратно)59
Самая высокая вершина Урала — гора Народная (1894 м), но это было установлено только в первой половине XX века, а во времена Жюля Верна считалось, что наибольшей среди Уральских гор высоты достигают Тельпосиз (1656 м — в настоящее время высотная отметка вершины уточнена: 1617 м), Сабля (1647 м) и Яман-Тау (1645 м).
(обратно)60
Российская золотая монета стоимостью в 5 рублей. (Примеч. автора.)
(обратно)61
Тулугинск — видимо, Тугулым у самой границы Пермской губернии.
(обратно)62
Игра слов: le Tartare — это и «татарин», и «ад». (Примеч. перев.)
(обратно)63
Здесь автор не совсем точен: Омск был центром Степного генерал-губернаторства, включавшего в себя Акмолинскую и Семипалатинскую области: одновременно город Омск был центром одноименного военного округа, охватывавшего, кроме упомянутого генерал-губернаторства, Тобольскую и Томскую губернии.
(обратно)64
По классификации отечественных географов, Барабинская степь располагается под 54 — 55 градусами северной широты.
(обратно)65
Еще одно сомнительное утверждение автора: обычной средой обитания куниц являются густые леса; в Азии ареал их распространения протягивался от Алтая до истоков Енисея; соболь же и подавно обитал в тайге.
(обратно)66
Анестезия — потеря чувствительности.
(обратно)67
В советское время город Каинск был переименован в Куйбышев (Новосибирская область).
(обратно)68
Тогдашнее село Убинское (на территории современной Новосибирской области).
(обратно)69
Озеро Чаны в современной Новосибирской области.
(обратно)70
Каргинск — очевидно, село Карганское (современный Карган на берегу озера Убинского в Новосибирской области).
(обратно)71
Каргатск — современный Каргат (Новосибирская область).
(обратно)72
Узбекская народность сформировалась на базе части тюрко-монгольских племен, находившихся в первой половине XIV века под властью хана Узбека, однако в ее состав вошли некоторые кочевые иранские племена, а также древнее население Ферганы, Хорезма, Согда и других среднеазиатских оазисов.
(обратно)73
Бенг (правильнее — «банг»; фарси) — индийская конопля.
(обратно)74
Беранже Пьер Жан (1780 — 1857)- знаменитый французский поэт-песенник.
(обратно)75
Ходжа (тадж.) — уважаемый, влиятельный человек: господин, хозяин.
(обратно)76
Ходжа (тадж.) — уважаемый, влиятельный человек: господин, хозяин.
(обратно)77
Таджики, по утверждению энциклопедического словаря издательства Брокгауз-Ефрон, «племя арийского происхождения, составляющее ядро населения Бухары, Афганистана, Балха, Сегестана, Хивы… В качестве торговцев встречаются и в южной Сибири, и в восточном Туркестане, где сельское население состоит из отатарившихся таджиков». Данное мнение господствовало как в отечественной, так и западноевропейской науке. Само слово «таджик» переводилось как «увенчанный», что свидетельствовало о прежнем господстве таджиков в местах их расселения. Во многих странах таджиков называли «парсиван» (т. е. «персиянин»), что отмечает этническое сходство таджикского и персидского (иранского) народов. Известный венгерский путешественник Вамбери приводит турецкое название таджиков: «сарты».
(обратно)78
Упоминаемые автором ханства были созданы на таджикской территории узбеками, которым принадлежала вся власть; считать эти государства «таджикскими», как это делает автор, нет никаких оснований. Кроме того, в XIX веке под узбеками понимали «конгломерат племен тюркского происхождения, с примесью иранских и монгольских элементов, говорящих на одном из среднеазиатских тюркских диалектов и живущих в Бухаре, в Хиве, в афганском Туркестане и в русских среднеазиатских владениях» (Энциклопедический словарь изд. Брокгауз-Ефрон, т. XXXIV. СПб., 1902).
(обратно)79
Апачи — индейцы-охотники, кочующие на западе США и на севере Мексики, прославившиеся своей осторожностью и военной хитростью. (Примеч. автора.)
(обратно)80
Ятаган — рубящее и колющее оружие, среднее между саблей и кинжалом; лезвие клинка этого оружия слегка изогнуто.
(обратно)81
Сарданапал — легендарный ассирийский царь; согласно традиции, считался потомком царицы Семирамиды; изнеженный, развратный, угодничающий монарх. В современной науке нередко отождествляется с царем Ашшурбанапалом.
(обратно)82
Такшир — эквивалент слова «государь», с которым обращаются к султанам Бухары. (Примеч. автора.)
(обратно)83
Страна халхов — Монголия (по названию одного из основных монгольских племен халха-монголы).
(обратно)84
«Хенна» — хна, многолетнее растение семейства дербенниковых (Lawsonia), выращиваемое ради краски того же названия, которая используется в косметических целях.
(обратно)85
Бухарцы — видимо, имеются в виду бухарские таджики.
(обратно)86
Зирджамэ (фарси) — нижнее белье; подштанники.
(обратно)87
Пирахан (фарси) — сорочка, платье.
(обратно)88
Туман — персидская монета. (Примеч. автора.)
(обратно)89
Эльбурс — горный массив на севере Персии, южнее Каспийского моря. (Примеч. автора.) (На самом деле знаменитые рудники, где добывается самая красивая бирюза, находятся не в горах Эльбурса, а восточнее, в Хорасане, в районе города Нишапура.)
(обратно)90
Сердолик — красная, розовато-красная или бледно-розовая полупрозрачная разновидность халцедона (минерала с составом кремнезема — Si02).
(обратно)91
Фал (фарси) — гадание, ворожба; предсказание.
(обратно)92
Эолова арфа — музыкальный инструмент: рама с натянутыми струнами, звучащими от порывов ветра.
(обратно)93
Богемия — старинное название Чехии.
(обратно)94
Кибела — в греческой мифологии богиня чужеземного (фригийского) происхождения, близкая по своим функциям богине Рее и иногда отождествлявшаяся с ней. В начальный период культа почиталась как Великая мать богов. Позднее, в римское время, стала считаться покровительницей благосостояния городов и всего государства. От служителей культа Кибелы требовалось полное подчинение воле богини, забвения себя в безумном восторге шумных празднеств и экстазе, когда жрецы богини наносили друг другу кровавые раны, а нередко и калечили себя.
(обратно)95
Ишимск — село Ишимское, ныне — г. Ишим на севере Кемеровской области.
(обратно)96
Берикыльск — село Берикульское.
(обратно)97
Ныне город Мариинск в Кемеровской области.
(обратно)98
Богословск — возможно, село Боготол, ныне — одноименный город в Красноярском крае.
(обратно)99
«Маленькая речушка Чула» (по Ж. Верну) — не что иное, как река Чулым, приток Енисея.
(обратно)100
Автор имеет в виду российского графа, генерал-губернатора Москвы во время Отечественной войны 1812 года.
(обратно)101
Около 39 градусов ниже нуля по Цельсию. (Примеч. автора.)
(обратно)102
Балайск — село Балайское.
(обратно)103
Рыбинск — село Рыбинское.
(обратно)104
Динка — возможно, имеется в виду река Ия, левый приток Ангары, хотя автор переносит ее гораздо выше по течению Ангары.
(обратно)105
Альсальевск — видимо, речь идет о селе Алзамайском (современный Алзамай в Иркутской области).
(обратно)106
Гипербореи — согласно точке зрения античных географов, так назывались жители крайних северных областей обитаемого мира.
(обратно)107
Шибарлинское — село Шебарта (или Шабарта).
(обратно)108
Тулун — село Тулуновское.
(обратно)109
Куйтун — село Куйтунское.
(обратно)110
Кимильтейск — село Кимильтейское, впоследствии — город Кимильтей.
(обратно)111
В прошлом веке отметка уреза воды на Байкале была определена в 484 метра; по современным данным, эта точка располагается на высоте 455 метров над уровнем моря.
(обратно)112
По данным энциклопедического словаря издательства Брокгауз-Ефрон, длина Байкала несколько превышает 600 верст при наибольшей ширине озера около 80 верст (1891 г.).
(обратно)113
В XIX веке максимальной глубиной озера считалась отметка дна — 1372 метра (в южной глубоководной котловине озера). В нашем веке в южной котловине измерена глубина 1415 метров, а максимальная глубина Байкала (1620 м) обнаружена в средней котловине, южнее Ольхона.
(обратно)114
«Почти все высоты, окружающие Байкал, состоят из крупных и мелкозернистых гранитов, сиенитов, гранито-сиенитов, гнейсов, кристаллических сланцев и порфиров, чередующихся между собой, а также с древними известняками, песчаниками и очень мощными слоями конгломератов» (Энциклопедический словарь изд. Брокгауз-Ефрон, т. II). Как видим, околобайкальские горы сложены метаморфическими и осадочными, а отнюдь не вулканическими породами.
(обратно)115
Хребта с таким названием в России никогда не было.
(обратно)116
Еще в середине XIX века эти горы носили общее название Байкальских; к системе Алтая они никакого отношения не имеют.
(обратно)117
Санный путь через Байкал устанавливался только с полным замерзанием озера, а это случалось не раньше середины января.
(обратно)118
Юго-западная оконечность Байкала окружена лесами.
(обратно)119
Байкал начинает замерзать с мелководных заливов, и это случается не раньше конца октября.
(обратно)120
Согласно данным многолетних наблюдений, льдообразование на Ангаре начинается не раньше 3 декабря. В районе Иркутска благодаря быстрому течению река становится лишь к Новому году, а то и позже.
(обратно)121
Скорее всего, автор имеет в виду подмосковную Троице-Сергиеву лавру.
(обратно)122
Здесь автор имеет в виду Киево-Печерский монастырь с его Ближними и Дальними «печерами».
(обратно)123
В целом автор неверно изображает процесс образования ледяного покрова на реках. К тому же, как сказано выше, на Байкале в это время вообще не бывает льда.
(обратно)124
Автор ошибается. Речь, видимо, идет о городке в американском штате Пенсильвания — Ойл-Сити, получившем свое название в 1860 году, через год после того, как в его окрестностях, на ручье Ойл-Крик, была найдена первая в США нефть.
(обратно)125
Изображение неправдоподобно огромных волчьих стай — стандартный прием в «русских» романах Ж. Верна (ср. сходный эпизод в романе «Цезарь Каскабель»).
(обратно)126
Фортификация — отрасль военно-инженерного искусства, изучающая способы укрепления местности в целях обеспечения боя и операции. Здесь речь идет о строительстве простейших инженерных сооружений: окопов, убежищ, ходов сообщения, противопехотных и противокавалерийских сооружений.
(обратно)127
Эскарп — здесь: внутренняя, примыкающая к основному крепостному укреплению стенка рва.
(обратно)128
Контрэскарп — оборонительное сооружение в виде крутого искусственного откоса, устраиваемое на обратных скатах возвышенностей.
(обратно)129
При описании пожара на Ангаре автор использовал описание знаменитого нефтяного пожара, случившегося в начале XIX века на р. Камберленд близ города Берксвилла (США, штат Кентукки), где разлившаяся нефть горела на протяжении свыше ста километров.
(обратно)130
Сажень — старинная русская мера длины, равная 2,13 метра.
(обратно)131
Пикардия — историческая область на севере Франции в бассейне реки Сомма. Главный город — Амьен.
(обратно)132
Маркиз — почетный титул, наследственный или присваиваемый отдельным лицам для подчеркивания их особого привилегированного положения. В табели о рангах занимает место между герцогом и графом. В настоящее время титулы сохранились в Великобритании и некоторых немногочисленных странах.
(обратно)133
Приходский священник — низшая должность духовного лица православного вероисповедания, имеющего право совершать церковные обряды в одном или нескольких приходах, т. е. конкретных церквах.
(обратно)134
Следовательно, действие романа происходит в 1792 году, в разгар Великой Французской буржуазной революции.
(обратно)135
Ливр — здесь: французская монета XVIII века, несколько меньше франка, содержала около 4,5 г. серебра.
(обратно)136
Пистоль — испанская золотая монета, чеканившаяся с XVI века, равнялась 20-ти франкам.
(обратно)137
Кузен — двоюродный брат (двоюродная сестра — кузина).
(обратно)138
Граф — титул во Франции — низший, следующий за герцогом и маркизом.
(обратно)139
Капитан — здесь: офицерский чин сухопутных войск большинства стран Европы и Америки, второй после лейтенанта, предшествующий полковнику. Возник во Франции в средние века. Обычно командовал ротой.
(обратно)140
Ла-ферский полк — название происходит от имени французского городка Ла-Фер на реке Уаза, расположенного примерно в 150 километрах к северо-востоку от Парижа. Традиция давать воинским частям названия по месту их формирования или расквартирования существует и поныне во многих государствах.
(обратно)141
14 июля 1789 года — начало революции во Франции (завершилась 27 июля 1794 года в результате контрреволюционного заговора).
(обратно)142
Унтер-офицер — общее название младшего командного состава во многих армиях мира.
(обратно)143
Эполеты — погоны особой формы для парадного мундира, богато украшенные.
(обратно)144
Рекрут — новобранец в армии.
(обратно)145
Речь идет о Войне за независимость в Северной Америке против английского колониального господства в 1775–1783 годах. В 1780 году на стороне американцев выступила (вслед за Испанией) и Франция.
(обратно)146
Лафайет Мари-Жозеф-Поль-Ив-Рок-Жильбер-Метье, маркиз де (1757–1834) — еще до вступления Франции в войну отправился (1777 г.) в Северную Америку, получил там чин генерала. Вернувшись в 1781 году на родину, активно участвовал в подавлении революции.
(обратно)147
Рошамбо Жан-Батист-Донасиен (1725–1807) — граф, маршал Франции. В 1780 году с корпусом в шесть тысяч человек послан в Северную Америку, где отличился в боях.
(обратно)148
Грасс (1723–1807) — граф, французский адмирал, сражался в Америке вместе с Рошамбо.
(обратно)149
Вашингтон Джордж (1732–1799) — главнокомандующий американской армией в Войне за независимость, затем первый президент США (два срока). Вошел в историю как прогрессивный политический деятель.
(обратно)150
Джонс Джон Пол (1747–1792) — капитан американского флота, прославившийся дерзкими захватами судов неприятеля и нападениями на его порты.
(обратно)151
Йорктаун — город на восточном побережье Атлантического океана, недалеко от нынешней столицы США. Здесь генерал Вашингтон окружил главные силы англичан и 19 октября 1781 года вынудил их капитулировать.
(обратно)152
Корнуоллис Чарлз (1738–1805) — генерал, командовал английскими войсками во время войны с Америкой.
(обратно)153
Болье Жан Пьер (1725–1819) — барон, австрийский генерал, участвовал в войне против революционной Франции, одержал ряд побед.
(обратно)154
Здесь и далее по тексту не комментируются имена реальных лиц, географических объектов, не играющих значительной роли в сюжете романа или только упомянутых в нем.
(обратно)155
Капрал — первое унтер-офицерское звание.
(обратно)156
Сержант — звание, следующее за капральским и дающее возможность при определенных условиях стать офицером.
(обратно)157
Эскадрон — подразделение конницы, примерно соответствующее пехотной роте.
(обратно)158
Галун — нашивка из золотой или серебряной тесьмы на форменной одежде.
(обратно)159
Шарлевиль (Шарльвиль) — французский городок на севере страны, близ границы с Бельгией.
(обратно)160
Сидр — слабоалкогольное натуральное яблочное вино.
(обратно)161
Тюильри — сад в центре Парижа; здесь, во дворце, содержался под домашним арестом после неудавшегося бегства в ночь на 21 июня 1791 года король Людовик XVI, еще не отрешенный от престола.
(обратно)162
10 августа 1792 года — начало восстания в Париже, свержение монархии, объявление короля низложенным. Через некоторое время Людовика заключили в тюрьму Тампль.
(обратно)163
Германия — с I века до н. э. название страны к северу от Дуная и к востоку от Рейна и Вислы. Это латинское наименование закрепилось за созданной в 1871 году империей.
(обратно)164
Пруссия — германское герцогство, образовалось в 1525 году. Стало основой Германской империи, составив две трети ее территории и населения.
(обратно)165
Ней Мишель (1769–1815), Даву Луи Николa (1770–1823), Мюрат Иоахим (1767–1815) — ближайшие сподвижники и полководцы Наполеона I Бонапарта (1769–1821), властителя Франции (1799–1814 и 1815 гг.), выдающегося военачальника, подчинившего себе (на непродолжительное время) почти всю Европу. Потерпел жестокое поражение в войне с Россией в 1812 году, был низвергнут с императорского престола и умер в изгнании.
(обратно)166
Здесь упоминаются войны, которые вела буржуазная Франция после поражения революции. 1815 год, видимо, не случайно выбран автором для отставки старого служаки, героя романа, — именно тогда произошло окончательное отрешение Наполеона Бонапарта от престола.
(обратно)167
То есть в 1792 году, когда герой романа получил отпуск.
(обратно)168
Конфедерация — здесь: союз государств, сохраняющих суверенность (независимость), но объединенных одним или несколькими органами управления.
(обратно)169
Протекторат — зависимость более сильного государства по отношению к более слабому, выражающаяся в покровительстве первого и подчиненности (неполной) последнего.
(обратно)170
Курфюрство — государственное образование, князь (курфюрст) которого имел право участвовать в выборах императора так называемой «Священной Римской империи германской нации», формально существовавшей до 1806 года.
(обратно)171
Миля — мера длины (путевая); различна в разных государствах. Географическая миля (немецкая), которой пользовались не только в Германии, составляет 7 км 420 м.
(обратно)172
Неточность: герой рассказывает 16 июня об угрозе нападения Австрии на Францию, между тем как война уже началась 20 марта этого, 1792 года и была начата Францией.
(обратно)173
Корчма — дешевое питейное заведение, располагавшееся, как правило, у Дороги; кабак, харчевня.
(обратно)174
Крейцер — мелкая разменная монета Австрии, Германии, Польши, существовал с XIII до конца XIX века.
(обратно)175
Расы — подразделения человечества, характеризуются общими наследственными физическими особенностями, связанными с единством происхождения и определенными областями распространения. Основные группы (так называемые большие расы): негроидная, европеоидная, монголоидная. Все расы обладают равными биологическими возможностями для достижения высокого уровня цивилизации. Отрицание этого, деление рас на высшие и низшие — антинаучно, реакционно. В частности, утверждение об абсолютном превосходстве нордической (северной, или арийской) расы положено в основу идеологии германского фашизма. Первыми теоретиками нордизма считаются французы Гобино Жозеф Артюр де (1816–1882) — основной труд «О неравенстве человеческих рас» (1853–1855) и Лапуш Жорж Ваше (1854–1936).
(обратно)176
Лотарингия — историческая область на северо-востоке Франции. Сформировалась в IX веке. Население — германские племена и французы. Неоднократно переходила во владение от Германии к Франции и обратно. Окончательно закреплена за Францией после Второй мировой войны 1939–1945 годов.
(обратно)177
Протестантизм — одно из основных направлений в христианстве. После раскола в XVI веке в католицизме объединяет множество самостоятельных церквей и сект.
(обратно)178
Нантский эдикт (эдикт — королевский закон; Нант — город во Франции) — издан в 1598 году Генрихом IV (1553–1610) для части протестантов (гугенотов), сняв с них запреты, налагаемые официальной католической церковью. Эдикт отменен в 1685 году Людовиком XIV (1638–1715).
(обратно)179
Флорин — здесь: золотая итальянская монета XIII века, по образцу которой чеканились золотые и серебряные деньги во многих европейских странах.
(обратно)180
Речь идет об освободительной войне Германии (к которой примкнули другие европейские государства) против Наполеона Бонапарта, потерпевшего решительное поражение 16–19 октября под немецким городом Лейпцигом (так называемая «битва народов»).
(обратно)181
Ландвер — название германского ополчения.
(обратно)182
Редингот — один из видов сюртука, мужской двубортной одежды в талию с длинными полами.
(обратно)183
Корсаж — женский пояс у юбки, а также специальная жесткая лента для такого пояса.
(обратно)184
Тевтоны — древнегерманское племя, название которого употреблялось в позднейшее время (изредка и теперь) для обозначения германцев, немцев.
(обратно)185
Геттингенский университет — в германском городе Геттингене, основанном в 1210 году. Университет создан в 1737 году, имеет высокую репутацию.
(обратно)186
Передислоцироваться — изменить место расположения войск, а также предприятий, учреждений и т. п.
(обратно)187
Лейб-полк (немецкое Leib — тело) — в соединении с другими словами обозначает «состоящий при особе монарха», например, лейб-медик — придворный врач. Лейб-полк — непосредственно подчиненный правителю государства.
(обратно)188
Плюмаж — здесь: украшение из перьев на военном головном уборе.
(обратно)189
Гетры — теплая одежда, надеваемая на ноги и прикрывающая их от ступни до колен или до щиколоток.
(обратно)190
Бук — род деревьев высотой до 50 м и 2 м в диаметре, с гладкой серой корой. Иногда высаживаются как декоративные.
(обратно)191
Де — частичка, ставящаяся перед фамилиями французских дворянских и аристократических родов.
(обратно)192
Либерализм — идеологическое и общественно-политическое течение, объединяющее сторонников парламентского строя, обеспечения свобод личности, предпринимательства.
(обратно)193
Клавесин — старинный музыкальный клавишный инструмент, предшественник фортепьяно.
(обратно)194
Натурализованный — здесь: приобретший права гражданства в чужой стране.
(обратно)195
Миссия — здесь: поручение, задание.
(обратно)196
Бранденбургские застежки — витые шнуры, протянутые на одежде поперек груди в несколько параллельных рядов.
(обратно)197
Пергамент — кожа животных, особым образом обработанная, употребляется для изготовления барабанов, переплетов книг и проч. Раньше использовалась для письма. Пергаментное лицо — в данном случае сухое, желтоватого цвета.
(обратно)198
Допрашиваемый излагает вполне правдоподобный маршрут, хотя на самом деле им не пользовался.
(обратно)199
Дюмурье Шарль-Франсуа (1739–1823) — главнокомандующий Северной армии французов в войне против австрийцев и немцев. Одержал значительную победу под селением Вальми (см. ниже) 20 сентября 1792 года. В марте 1793 года потерпел поражение, вступил в переговоры с Австрией о совместных действиях по восстановлению монархии. Не получив поддержки в своих войсках, в апреле бежал к австрийцам. Скитался по Европе. С 1804 года жил в Великобритании, участия в политической жизни не принимал.
(обратно)200
Кобленц — город в Германии, на берегу р. Рейн при слиянии с ним р. Мозель. С началом революции сюда эмигрировала значительная часть французских сторонников монархии. Сформировав три армии, они участвовали в австро-прусском вторжении во Францию. В 1794 году революционные войска заняли город, положив тем самым конец кобленцской эмиграции.
(обратно)201
Якобинцы — партия, выражавшая в годы революции интересы революционно-демократической буржуазии, выступавшей в союзе с крестьянством и низшими слоями городского населения. Весной 1793 года установили в стране свою диктатуру, ликвидированную в ходе контрреволюционного переворота 27 июля 1794 года.
(обратно)202
Робеспьер Максимильен (1758–1794) — один из руководителей якобинцев. Во время вышеуказанного переворота казнен.
(обратно)203
Кордельеры — члены французского политического клуба 1790–1794 годов; в 1791 году возглавляли республиканское движение в стране.
(обратно)204
Жирондисты — политическая группировка в годы революции, представляла преимущественно торгово-промышленную и землевладельческую буржуазию. После свержения монархии 10 августа 1792 года стали у власти, которой их лишило народное восстание весной 1793 года, руководимое якобинцами.
(обратно)205
Фридрих Великий (1712–1786) — прусский король с 1740 года.
(обратно)206
Магдебург — немецкий город и порт на р. Эльба.
(обратно)207
Киршвассер — изготавливаемая в Германии вишневая наливка или настойка.
(обратно)208
Красный колпак — иначе: фригийская шапка. Фригия — древняя провинция Малой Азии у пролива Дарданеллы. Фригийцы носили головной убор из ткани — высокий колпак с ниспадающим верхом, во время революции служивший символом свободы и единства. В 1789 году красная острая шапка марсельских (город Марсель) каторжников стала эмблемой революционной партии якобинцев.
(обратно)209
Лозунг, выдвинутый 11 июля 1792 года Законодательным собранием. Король был вынужден надеть красный колпак. В Париже впервые прозвучала песня марсельского батальона «Марсельеза», ставшая революционным гимном народа; автор музыки и текста — военный инженер капитан Руже де Лиль Клод Жозеф (1760–1836). С 1795 года «Марсельеза» — официальный гимн Франции.
(обратно)210
Сардинцы — жители Сардинского королевства; образовалось в 1720 году из Савойского герцогства (ныне юго-восток Франции) и острова Сардиния; в 1860 году прекратило существование, став ядром вновь созданного Итальянского королевства. В войне против Франции Сардинское королевство участвовало весьма для себя неудачно, почти с ходу потерпев поражение.
(обратно)211
Кюре — католический священник во Франции и некоторых других странах.
(обратно)212
Саксония — историческая область Германии, включает такие крупные города, как Дрезден, Лейпциг и др. Образовалась в X веке.
(обратно)213
То есть в данном случае на территории Франции.
(обратно)214
Седельные пистолеты — крупнокалиберные, не носимые у бедра, а укрепляемые у седла лошади.
(обратно)215
Мародеры — грабители, похищающие на поле сражения вещи убитых и раненых или грабящие мирное население во время войны.
(обратно)216
Бивуак (бивак) — здесь: расположение войск для отдыха вне населенных пунктов.
(обратно)217
Это утверждение автора неверно: на широте Магдебурга в середине августа долгота дня составляет около 15 часов.
(обратно)218
Барышник — торговец (чаще — перекупщик) лошадьми.
(обратно)219
Пятничный пост — один из так называемых однодневных постов, то есть религиозных запретов или ограничений на пищу, развлечения и т. п.
(обратно)220
Реквизировать — изымать имущество, принадлежащее частным лицам, в пользу государства — за плату или временно.
(обратно)221
Королю Людовику XIV (1643–1715) приписывается выражение: «Государство — это я», хотя принадлежность ему этих слов опровергнута историками. Французский ученый Александр Роже опубликовал протокол заседания парламента 1655 года, в котором якобы прозвучал этот афоризм, там указанной фразы не обнаружилось. Существует версия, что автором является английская королева Елизавета Тюдор (1533–1603), наиболее яркая представительница английского абсолютизма.
(обратно)222
Гид — проводник.
(обратно)223
Анклав — часть государства, со всех сторон окруженная территорией других стран и не имеющая выхода к морю.
(обратно)224
Варвары — у древних греков и римлян название всех иноземцев, говоривших с немыслимыми искажениями на языках, чуждых их культуре. Впоследствии слово приобрело переносное значение — грубый человек, подобие дикаря.
(обратно)225
Гарц (Харц) — горный хребет в Германии, длина 90 км, наибольшая высота 1142 м. Покрыт лесами.
(обратно)226
Неточность: Германская империя создана и провозглашена только почти через 80 лет после описываемых событий, в 1871 году.
(обратно)227
Фридрих-Вильгельм II (1744–1797) — прусский король с 1786 года. В 1792 году заключил военный союз с Австрией против революционной Франции.
(обратно)228
Тюрингский лес — горный хребет в Германии, длина около 100 км, высота до 982 м. Хвойные леса.
(обратно)229
Довольно, достаточно (лат.). Следует отметить оплошность автора: француз, не умеющий читать и писать на родном языке, вдруг — и без всякого основания — употребляет чуждое слово. Вот употребление им «amen» понятно: оно часто звучит в молитвах. (Примеч. перев.)
(обратно)230
От древнееврейского «Да будет истинно, верно» — слово, которым завершаются христианские молитвы, проповеди, священные тексты.
(обратно)231
Бравурный — шумный, блестящий, бодрый, оживленный; например, марш.
(обратно)232
Пикет — здесь: старинная игра в карты.
(обратно)233
Францисканцы — члены одного из католических монашеских нищенствующих орденов (религиозных организаций). Появились в XIII веке в Италии.
(обратно)234
Фридрих I Барбаросса (буквально: Краснобородый, около 1125–1190) — германский король и император «Священной Римской империи германской нации» с 1152 года.
(обратно)235
Трудно понять, почему автор устами героя подчеркивает именно это как единственную особенность Франкфурта-на-Майне, старинного города (упоминается с 794 г.), богатого всякими достопримечательностями. Кстати, по данным справочных изданий, евреев здесь было не больше, чем в других торгово-промышленных городах страны.
(обратно)236
Крёйцнах — ныне город называется Бад-Крёйцнах. (Примеч. ред.)
(обратно)237
Аванпост — передовой пост.
(обратно)238
Верден — город-крепость во Франции, на р. Маас. Кроме сражения, о котором говорится здесь, впоследствии был местом ожесточенных битв во Франко-прусскую войну 1870–1871 годов и во время первой мировой войны в 1916 году.
(обратно)239
Мадонна — итальянское название Богородицы (Божьей Матери), а также скульптурное или живописное изображение ее.
(обратно)240
Кто идет? (нем.)
(обратно)241
Фермопилы — горный проход в Греции, место сражения между греками и персами в 480 году до н. э., в котором победу одержал царь древнегреческого полиса (города-государства) Леонид и где погиб он сам и вся тысяча воинов его отряда.
(обратно)242
В ночь на 21 июня 1791 года Людовик XVI с семьей бежал из Парижа в пограничную крепость Монмеди, что в Лотарингии, на северо-востоке страны, где находились верные ему войска, однако был опознан и арестован крестьянами в городке Варенн, возвращен в столицу, помещен под домашний арест во дворце сада Тюильри.
(обратно)243
Гренадеры — отборная часть пехоты во многих армиях.
(обратно)244
Кивер — старинный военный головной убор, высокий, с плоским верхом, часто украшенный пучком перьев.
(обратно)245
Императорские (нем.). (Примеч. перев.)
(обратно)246
Восьмидюймовое орудие — пушка, имеющая калибр (диаметр канала ствола) около 20 см.
(обратно)247
Пустельга — род хищных птиц семейства соколиных, длина 31–38 см. Истребляют вредных насекомых.
(обратно)248
Овсянка — род птиц семейства воробьиных, длина 12,5–20 см, поедают насекомых.
(обратно)249
Маркитант — мелкий торговец, сопровождающий войска в походе и снабжающий съестными припасами и главным образом спиртными напитками.
(обратно)250
Резоны — доводы, доказательства.
(обратно)251
Форсированный — здесь: ускоренный.
(обратно)252
Вперед! (нем.)
(обратно)253
Zeit — время; Blatt — в данном случае: газета. Это немецкое словосочетание можно приблизительно перевести как «Вестник времени».
(обратно)254
Амуниция — здесь: снаряжение военнослужащего, носимое на теле: ранец, патронташ, патронные сумки и т. д.
(обратно)255
Карабинеры — в те времена отборные стрелки, вооруженные карабинами, то есть ружьями облегченного веса, с укороченным стволом.
(обратно)256
Вальми — селение в департаменте Марна, в бою у которого 20 сентября 1792 года войска революционной Франции (58 тысяч, главным образом молодых добровольцев) под командованием генералов Ш. Ф. Дюмурье и Кристофа Келлермана (1735–1820) одержали первую победу над австро-прусскими интервентами и французскими дворянами-эмигрантами (всего 40 тысяч человек), преградили путь на Париж и вынудили отступить. 5 октября 1792 года территория Франции была полностью освобождена от интервентов, которых возглавлял герцог Карл В. Брауншвейгский.
(обратно)257
Плато — возвышенная равнина с ровной или волнистой поверхностью.
(обратно)258
Не совсем точно. Конвент (выборный высший законодательный и исполнительный орган) собрался на первое заседание не 20-го, а 21 сентября 1792 года и на следующий день провозгласил Францию республикой.
(обратно)259
Имперские войны — иначе: наполеоновские, велись в 1799–1804 годах; после короткого перерыва, когда Наполеон в 1804 году провозгласил себя императором — войны продолжались в 1804–1814 годах и снова после краткого «антракта» — в 1815 году. Носили захватнический характер и коснулись почти всех стран Европы за исключением Великобритании и Швеции.
(обратно)260
«Дальневосточный ученый» за 5 февраля 1996 год.
(обратно)261
Жюль-Верн Жан. Жюль Верн. Москва, 1978, с. 246.
(обратно)262
Жюль-Верн Жан. Цит. соч., с. 246.
(обратно)263
Жюль-Верн Жан. Цит. соч., с. 247.
(обратно)264
Жюль-Верн Жан. Цит. соч., с. 247.
(обратно)265
Гранина А. Сибирь в романе Жюля Верна. «Новая Сибирь», Иркутск, 1955, кн. 33, с. 294.
(обратно)266
Гранина А. Цит. соч., с. 294 — 295.
(обратно)267
Верн Жюль. История великих путешествий, т. 2. Ленинград, 1959, с. 458.
(обратно)268
Гранина А. Цит. соч., с. 295.
(обратно)269
Гранина А. Цит. соч., с. 296.
(обратно)270
Гранина А. Цит. соч., с. 299.
(обратно)271
Жюль-Верн Жан. Цит, соч., с. 247.
(обратно)272
Гранина А. Цит. соч., с. 301.
(обратно)273
Там же.
(обратно)274
«Живописное обозрение», № 136 за 1876 г.; цитируется по статье А. Граниной.
(обратно)
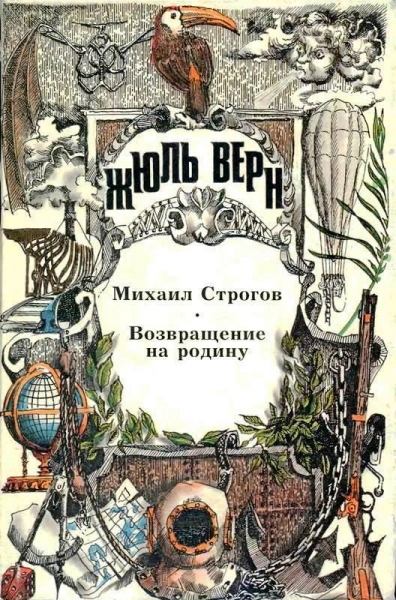
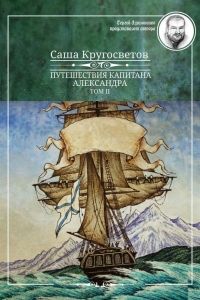

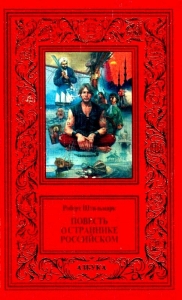




Комментарии к книге «Михаил Строгов. Возвращение на родину. Романы», Жюль Верн
Всего 0 комментариев