ЖЮЛЬ ВЕРН Миссис Бреникен • Рассказы
Миссис Бреникен
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава I «ФРАНКЛИН»
Те, кто отправляется в дальний путь, рискуют никогда больше не увидеть своих друзей: оставшиеся могут ко времени возвращения путешественников покинуть прежние места, уехавшие могут не вернуться. Но моряков с «Франклина»[1], занятых утром пятнадцатого марта 1875 года приготовлением судна к отплытию, такая вероятность мало тревожила. В этот день «Франклин» и его капитан Джон Бреникен должны были покинуть порт Сан-Диего, штат Калифорния, и отправиться в плавание по северным водам Тихого океана.
До чего же хорош был этот корабль — трехмачтовая шхуна[2], водоизмещением[3] девятьсот тонн, оснащенная кливерами и бизанями, с марселем и брамселем[4] на фок-мачте. Большой кормовой подзор, малая осадка, форштевень[5], позволяющий резать волну под острым углом, слегка наклоненный и строго параллельный рангоут[6], снасти из оцинкованной проволоки, такие же прочные, как если бы они были сделаны из металлических брусьев,— всеми этими достоинствами обладал «Франклин», похожий на самые современные элегантные клипера[7], которые в Северной Америке с успехом используются для торговых перевозок и соперничают в скорости с лучшими пароходами американского торгового флота.
Корабль был так великолепен и командовал им столь бесстрашный человек, что ни один из членов экипажа не согласился бы наняться на другое судно, даже за более высокую плату. Сердца уходящих в море были преисполнены доверия — и к добротному кораблю, и к отважному капитану.
«Франклин» отправился в свое первое длительное плавание, организованное торговым домом Уильяма Эндрю в Сан-Диего. Груженному американскими товарами судну надлежало дойти до Калькутты[8] с заходом в Сингапур[9], а на обратном пути доставить индийскую продукцию в один из портов на побережье Калифорнии.
Капитан Джон Бреникен был молодым человеком двадцати девяти лет. Несмотря на свою миловидную внешность, он обладал изрядной душевной стойкостью (качеством гораздо более высоким, чем стойкость физическая), мужеством «второго часа пополуночи», как говорил Наполеон,— иными словами, тем мужеством, которое противостоит всякого рода неожиданностям и от моряка требуется едва ли не каждую минуту. Его хоть и милое, но волевое лицо можно было назвать скорее типичным, нежели красивым, жесткие волосы, обжигающий взгляд черных глаз — живой и открытый. Вряд ли кто из ровесников капитана смог бы посоперничать с ним в крепости и силе, чувствовавшейся даже в его рукопожатии, которое свидетельствовало также и о том, что в жилах Джона течет горячая кровь.
Надобно особо отметить, что в этом железном теле заключалась душа благородная и добрая, душа человека, готового пожертвовать своей жизнью ради ближнего. Бреникен был из породы спасателей, чье самообладание позволяет не колеблясь совершать героические поступки. Он рано проявил себя; однажды — это случилось в бухте среди ломаного льда — перевернулась шлюпка[10], и он, сам еще ребенок, спас детей. С тех пор ему никогда не изменяла способность к самоотверженности, ставшая одной из главных черт его натуры.
Джон Бреникен женился на Долли[11] Стартер, сироте, принадлежавшей к одной из лучших семей в Сан-Диего, когда сам он уже несколько лет как лишился отца и матери. Приданое девушки, весьма скромное, соответствовало тому не менее скромному положению, в котором находился молодой моряк — простой лейтенант[12] на торговом судне. Имелись, однако, основания надеяться, что в будущем Долли получит наследство от очень богатого дяди, Эдварда Стартера, живущего в самом диком и труднодоступном уголке штата Теннесси. А пока надо было как-то жить вдвоем, а вскоре и втроем, поскольку маленький Уолтер, или просто Уот, появился на свет в первый же год после свадьбы. Вот почему Джон Бреникен и помыслить не мог о том, чтобы оставить море. Жена относилась к этому с пониманием; потом, когда они разбогатеют, получив наследство, будет видно, чем заняться.
Надо сказать, что молодой человек, служа в торговом доме Эндрю, делал стремительную карьеру. Продвигался он быстро, и вместе с тем, как вскоре станет ясно, путь его был прям.
Джон сделался капитаном дальнего плавания в возрасте, когда большинство его товарищей служили еще только помощниками капитана или лейтенантами на торговых судах.
Джон Бреникен был известен не только в Сан-Диего, но и в других портах калифорнийского побережья. Его самоотверженные поступки снискали ему громкую славу среди моряков, торговцев и судовладельцев Соединенных Штатов.
Несколько лет назад перуанская шхуна «Сонора» села на мель у Коронадо-Бич, и экипажу грозила неминуемая гибель, если бы не помощь с суши. Тянуть швартов[13] вплавь среди подводных скал к попавшему в беду судну — значит сотню раз рисковать жизнью, но Джон Бреникен без колебаний бросился в неистово бушующие волны. Правда, первая попытка была неудачной,— он чуть было не погиб. Те, кто присутствовали при этом, пытались удержать смельчака, но Джон воспротивился и вновь устремился к шхуне. На сей раз ему удалось добраться до судна, благодаря чему экипаж «Соноры» был спасен.
Год спустя во время шторма, разразившегося в западной части Тихого океана в пятистах милях[14] от берега, Джону Бреникену вновь пришлось проявить свои незаурядные качества. В ту пору он был лейтенантом на борту «Вашингтона». Случилось так, что капитана и половину экипажа смыло волной в море. Оставшись на судне с полудюжиной матросов, по большей части раненых, наш герой принял командование потерявшим управление «Вашингтоном». Ему удалось, установив временные мечты, совладать со стихией и привести судно в порт Сан-Диего. Эта едва управляемая посудина, содержащая в своих трюмах груз стоимостью более пятисот тысяч долларов, принадлежала торговому дому Эндрю. Можно представить, как был встречен молодой моряк, когда корабль бросил якорь в порту Сан-Диего! После происшедших в море событий торговый дом Эндрю предложил Джону Бреникену командовать только что спущенным на воду «Франклином». Лейтенант согласился. Поскольку после случившегося никто не сомневался не только в силе и храбрости, но и в профессиональных качествах Бреникена, молодому человеку была предоставлена возможность набрать экипаж по своему усмотрению.
И вот «Франклин» отправляется в свое первое плавание. Отплытие судна явилось событием для города, ведь торговый дом Эндрю по праву слыл одним из самых респектабельных заведений в Сан-Диего. Такая репутация сложилась у дома не только благодаря его прочным связям и значительным средствам, но и благодаря умелому руководству мистера Уильяма Эндрю. К этому почтенному судовладельцу в городе относились не просто с уважением — его любили. И поэтому назначение капитаном «Франклина» Джона Бреникена единодушно приветствовалось всеми жителями Сан-Диего.
А посему не следует удивляться, что утром пятнадцатого марта многочисленные зрители, иначе говоря, толпа знакомых и незнакомых молодому капитану, но дружески расположенных к нему людей собралась на причалах «Пасифик Кост Стимшип Компани», чтобы в последний раз перед отплытием приветствовать его восторженными криками.
Экипаж «Франклина» состоял из двенадцати человек, включая боцмана[15] — все бывалые моряки, приписанные к порту Сан-Диего и счастливые тем, что служат под командованием Джона Бреникена. Помощник капитана бравый офицер по имени Гарри Фелтон хоть и был старше своего командира, но искренне считал, что молодой капитан свое высокое положение заслужил. Оба уже немало поплавали вместе и знали цену друг другу; в их отношениях не было места ни зависти, ни обидам. И потом, так распорядился мистер Уильям Эндрю, а Гарри Фелтон и его люди были преданы судовладельцу душой и телом. Большинство из них уже ходили на его кораблях. Офицеры и матросы, составлявшие штат моряков торгового дома, были словно одна большая и любящая своих командиров семья, пополняющаяся по мере процветания дома.
В тот день без каких-либо опасений, наоборот, можно даже сказать с воодушевлением, экипаж «Франклина» готовился начать свою новую кампанию. Отцы, матери, прочая родня собрались в порту, чтобы попрощаться со своими близкими, но так, как прощаются с теми, кого скоро увидят вновь: «В добрый путь и до скорого свидания, так ведь?» В самом деле, намечалось путешествие сроком в шесть месяцев, обычное плавание в хорошее время года между Калифорнией и Индией, поездка из Сан-Диего в Калькутту и обратно, а вовсе не одна из тех торговых или исследовательских экспедиций, которые увлекают суда на долгие годы в самые опасные морские уголки обоих полушарий. Моряки с «Франклина» много повидали на своем веку, и их семьи знавали гораздо более волнующие проводы.
Тем временем приготовления близились к концу. «Франклин, стоящий на якоре посреди порта, уже отделился от других кораблей, число которых свидетельствовало о том, что мореплавание играет важную роль в жизни Сан-Диего.
Джон Бреникен не мог желать лучшей погоды и более благоприятного ветра для начала плавания. В это время — а было десять часов утра — вся команда находилась на борту. Никто из матросов не собирался возвращаться на берег: можно сказать, что путешествие для них уже началось. Несколько портовых шлюпок, стоящих возле трапа[16] у правого борта судна, ждали тех, кто пожелал в последний раз обнять своих родных и друзей,— эти лодки доставят их к пристани, как только «Франклин» поднимет передние паруса. И хотя приливы в бассейне Тихого океана слабые, лучше все-таки отправляться в путь с отливом, который ждали с минуты на минуту.
Среди провожавших были глава торгового дома мистер Уильям Эндрю, миссис Бреникен с кормилицей, державшей на руках малютку Уота, мистер Лен Баркер и его жена Джейн Баркер, двоюродная сестра Долли. Гарри Фелтона, помощника капитана, человека бессемейного, никто не провожал. Добрых пожеланий мистера Уильяма Эндрю ему вполне хватит, большего и не нужно, разве что жена капитана Джона, в том он был уверен наперед, присоединит к ним и свои напутствия.
Гарри Фелтон уже находился на баке[17], где шестеро матросов начали выбирать якорь. Послышался металлический звон бьющихся стопоров, заскрежетала проходящая через клюз[18] якорная цепь, и «Франклин» тронулся с места. Брейд-вымпел[19] с инициалами дома Эндрю реял на клотике[20] грот-мачты, а на гафеле[21] бизани развевался полосатый с федеральными звездочками флаг Соединенных Штатов Америки. Отданные паруса готовы были подняться, как только корабль, движимый кливерами и стакселем[22], немного наберет ход.
Стоя в передней части рубки[23] и внимательно наблюдая за приготовлениями к отплытию, Джон Бреникен выслушивал последние указания мистера Уильяма Эндрю относительно декларации, в которой были обозначены товары, составляющие груз «Франклина». Затем судовладелец вручил ее молодому капитану.
— Если обстоятельства вынудят вас изменить маршрут, действуйте так, как сочтете нужным для пользы дела, и шлите известия об этом при первой же возможности. Наверное, «Франклин» сделает остановку у одного из Филиппинских островов, ведь вы, надо полагать, не намерены идти через Торресов пролив?
— Конечно, мистер Эндрю,— ответил капитан,— я вовсе не собираюсь рисковать «Франклином» в столь опасных водах к северу от Австралии. Мой маршрут должен быть таким: Гавайские и Марианские острова, остров Минданао на Филиппинах, остров Целебес[24], Макасарский пролив, а затем через Яванское море в Сингапур. Путь от Сингапура до Калькутты хорошо известен. Не думаю, что из-за ветров, дующих на западе Тихого океана, судно изменит курс. Однако, если вам понадобится дать мне важное распоряжение, телеграфируйте либо на Минданао, куда я, вероятно, зайду, либо в Сингапур, куда я зайду непременно.
— Договорились, Джон. Со своей стороны, как можно скорее сообщите мне котировку[25] товаров в Калькутте. Возможно, цены заставят меня изменить намерения относительно загрузки «Франклина» на обратный путь.
— Обязательно, мистер Эндрю,— ответил Джон Бреникен.
В этот момент к ним подошел Гарри Фелтон:
— Якорь под нами, капитан.
— А как отлив?..
— Начинает ощущаться.
— Так держать.
Затем капитан Джон, преисполненный признательности, повторил, обратившись к Уильяму Эндрю:
— Еще раз, мистер Эндрю, благодарю вас за то, что именно мне поручено командование «Франклином». Надеюсь оправдать ваше доверие...
— Нисколько не сомневаюсь, Джон,— ответил Уильям Эндрю,— я и не мог найти более достойного человека для такого дела!
Судовладелец, крепко пожав руку молодому капитану, направился в заднюю часть рубки.
К Джону подошли миссис Бреникен в сопровождении кормилицы с младенцем и супруги Баркер. Близилась минута расставания. Капитану оставалось лишь попрощаться с семьей.
Как известно, шел только второй год Доллиного замужества, и ее младенцу едва исполнилось девять месяцев. Хотя предстоящая разлука поселила в ее душе глубокую печаль, она старалась держаться как можно спокойнее. Ее кузина[26] Джейн, натура слабая и безвольная, напротив, не скрывала своего волнения. Она очень любила Долли, подле которой нередко забывала об огорчениях, причиняемых ей властным и вспыльчивым мужем.
Конечно, Джейн догадывалась о том, что на самом деле творится в душе кузины, ведь впервые со времени женитьбы супруги Бреникен вынуждены были расстаться. И если Долли хватало сил, чтобы сдерживать слезы, то можно сказать, за нее их проливала Джейн.
Что до Лена Баркера, то этот человек, взгляд которого никогда не смягчался ни от какого нежного чувства, прохаживался взад и вперед, погруженный в свои мысли и безучастный к происходящему. Было очевидно, что он вовсе не разделял настроений провожавших, которых привели на отплывающий корабль чувства любви и привязанности.
Капитан Джон, взяв руки жены в свои и прижав ее к себе, растроганным голосом заговорил:
— Долли, дорогая, я ухожу в море... Но не надолго, любимая... Всего несколько месяцев — и мы снова вместе... Нам ли пугаться моря — с таким-то кораблем да с такой командой?.. Ничего не бойся, ведь ты жена моряка... Когда я вернусь, наш Уотик станет уже большим мальчиком,— ему исполнится год и три месяца... Он уже начнет говорить, и первое слово, которое я от него услышу по возвращении...
— ...Будет твое имя! — ответила Долли.— Мы с ним всегда будем говорить о тебе!.. Пиши мне при каждом удобном случае!.. Я с таким нетерпением стану ждать твоих писем!.. Я хочу знать, что ты делал, что собираешься делать...
Пусть мои воспоминания о тебе и твои собственные мысли станут нераздельны...
— Да, милая Долли, я буду писать... И эти письма расскажут тебе не только о событиях нашего путешествия, но и о моей нежности, о моей любви...
— Ах, Джон, я ревную тебя к морю!.. Я завидую тем любящим, которых ничто в жизни не разлучает!.. Но нет... Не стоит об этом думать.
— Дорогая моя, ведь ты же знаешь, что я уезжаю ради нашего ребенка и ради тебя... Я должен обеспечить вас обоих! Если когда-нибудь наши надежды на состояние осуществятся, мы больше никогда не расстанемся!
Подошли Лен Баркер и Джейн. Капитан Джон повернулся к ним.
— Мой дорогой Лен,— сказал он,— оставляя жену и сына, я доверяю их вам как единственным родственникам, которые остаются у них в Сан-Диего!
— Положитесь на нас, Джон,— ответил Лен Баркер, стараясь смягчить грубый голос.— Мы с Джейн всегда рядом... Долли будет окружена заботой...
— И сочувствием,— добавила миссис Баркер.— Ты же знаешь, как я люблю мою дорогую Долли!.. Я буду часто приходить к тебе, сестричка, каждый день! Мы будем говорить о Джоне...
— Да, Джейн,— сказала миссис Бреникен,— я буду не переставая думать о своем муже!
Гарри Фелтон вновь прервал разговор:
— Капитан, пора...
— Хорошо, Гарри,— ответил Джон.— Прикажите ставить кливер и бизань. Мистер Эндрю,— обратился молодой капитан к судовладельцу,— шлюпка доставит вас к пристани вместе с моей женой и родственниками... Когда вы пожелаете...
— Сию же минуту, Джон,— ответил Уильям Эндрю,— и еще раз — счастливого пути!
— Да!.. Счастливого пути!..— повторили другие провожающие, начав уже спускаться в лодки, стоящие у правого борта «Франклина».
— Прощайте, Лен!.. Прощайте, Джейн! — сказал Джон, пожимая обоим руки.
— Прощайте!.. Прощайте!..— ответил Лен Баркер.
— И ты, моя Долли, уезжай!.. Уже пора!..— добавил Джон.— Паруса скоро наполнятся ветром.
И действительно, когда подняли бизань и кливер, корабль немного закачало, а матросы уже пели песенку:
Когда с тобой красотка — Гуляй, моряк! Она тебя забыла — Наплюй, пустяк! Придет другая, парень,— Гуляй, моряк! Забыла и другая — Наплюй, пустяк! С тобою будет третья...[27]Тем временем капитан Джон подвел свою жену к трапу, и когда она собиралась шагнуть на ступеньку, он, не в силах вымолвить ни слова от волнения, крепко сжал ее в объятиях. Тут младенец, которого Долли снова взяла из рук кормилицы, с улыбкой протянул крохотные ручонки к отцу, и с его губ слетело: «Па... па... Па... па...»
— Джон! — воскликнула Долли.— Ты услышал его первое слово прежде, чем расстался с ним!
Каким волевым человеком ни был молодой капитан, но и он не смог сдержать слезу, упавшую на щечку маленького Уота.
— Долли!..— прошептал он.— Прощай!.. Прощай!..
И мгновение спустя:
— Выбрать якорь! — громко прокричал он, чтобы положить конец мучительной сцене.
Через минуту шлюпка, отойдя от борта, направилась к пристани, куда вскоре и сошли пассажиры.
Капитан Джон был целиком занят отплытием. Якорь поднимался к клюзу, и сильно хлопающие паруса «Франклина» стали наполняться ветром. Кливер уже расправился полностью, а бизань, как только добрали ее нижнюю шкаторину[28], немного привела корабль к ветру. В результате этого маневра «Франклин» чуть повернулся, чтобы избежать столкновения с кораблем, стоящим у входа в бухту[29].
Новая команда капитана Бреникена — и вот уже поставлены, к чести экипажа весьма слаженно, грот[30] и фок[31]. Затем «Франклин», кренясь на левый борт, пошел бакштагом[32] так, чтобы выйти из бухты одним галсом[33].
Стоявшая на пристани многочисленная публика имела возможность любоваться всеми этими маневрами. Вряд ли есть на свете что-нибудь более грациозное, чем этот корабль столь изящной формы, клонящийся под напором своенравного ветра. На какое-то время судно менее чем на пол-кабельтова[34] приблизилось к краю пристани, где находились мистер Уильям Эндрю, Долли, Лен и Джейн Баркер. Молодой капитан смог, вновь взглянув на жену и родных, в последний раз попрощаться с ними.
Все ясно услыхали его голос и увидели вытянутую к ним руку. «Прощайте!.. Прощайте!» — прокричал он. «Ур-ра!» — закричала публика, и многие принялись махать платочками.
Поистине капитан Джон Бреникен был одним из тех, кем гордились жители Сан-Диего! Все будут ждать отважного капитана, и, когда он вернется, горожане вновь соберутся на пристани.
«Франклин», находившийся уже у выхода из гавани[35], должен был приводиться к ветру, чтобы не столкнуться с другим судном, в это время выходившим на фарватер[36] и приветствовавшим порт флагом Соединенных Штатов Америки.
Стоя неподвижно на пристани, миссис Бреникен смотрела, как «Франклин», гонимый свежим северо-восточным ветром, постепенно исчезает вдали. Ей хотелось провожать взглядом корабль до тех пор, пока его рангоут будет виден над мысом Айленд. Однако вскоре судно обогнуло острова Лос-Коронадос, лежащие за пределами бухты. В какое-то мгновение в просвете между гребнями скалы показался брейд-вымпел, вьющийся на грот-мачте, и в следующий миг «Франклин» исчез совсем.
«Прощай, мой Джон... прощай!» — прошептала Долли.
Неизъяснимое предчувствие помешало ей сказать: «До свидания!»
Глава II СЕМЬИ
А теперь настало время подробнее рассказать о миссис Бреникен, волею судеб сделавшейся главным действующим лицом этой истории.
В ту пору Долли исполнился двадцать один год. По происхождению она была американкой. Однако не нужно слишком углубляться в ее родословную, чтобы обнаружить испанскую или, вернее, мексиканскую кровь, что, впрочем, характерно для всех известных в округе семей. Мать Долли была уроженкой Сан-Диего, а этот город основали еще тогда, когда Нижняя Калифорния принадлежала Мексике. Просторная бухта, открытая примерно тремя с половиною веками раньше испанским мореплавателем Хуаном Родригесом Кабрильо и названная вначале Сан-Мигель, в 1602 году поменяла свое имя на нынешнее. А в 1846 году эта провинция сменила трехцветный на звезднополосатый флаг федерации и с того времени окончательно вошла в состав Соединенных Штатов Америки.
Среднего роста, со смуглым живым лицом, с огоньком в больших глубоких черных глазах и пышными темными волосами; руки и ноги несколько больших размеров, чем обыкновенно бывают у испанок; поступь твердая, но грациозная; внешность выдает волевой характер и вместе с тем душевную доброту — такой была миссис Бреникен. Есть женщины, на которых невозможно смотреть равнодушно, и до замужества Долли по праву считалась в Сан-Диего, где женская красота отнюдь не редкость, одной из самых привлекательных, заслуживающей наибольшего внимания. Она слыла серьезной, рассудительной, вдумчивой, образованной — словом, наделенной теми качествами, развитию которых, без сомнения, способствовало бы замужество.
Да, в любых обстоятельствах, пусть даже самых трудных, Долли, ставшая миссис Бреникен, сумела бы выполнить свой долг. На жизнь она смотрела реально, а вовсе не сквозь розовые очки, душою обладала возвышенной, характером — твердым. Любовь к мужу придавала ей решимости; случись надобность, она пожертвовала бы жизнью ради Джона, равно как Джон пожертвовал бы жизнью ради нее и как оба пожертвовали бы собою ради сына.
Супруги обожали своего маленького Уота, чертами лица поразительно похожего на отца, а смуглую кожу унаследовавшего от матери. Он родился крепким, и у Долли не было оснований страшиться детских болезней. К тому же за ним всегда будет тщательный уход! О! Сколько мечтаний о будущем этого крохотного существа, жизнь которого только началась, уже занимало воображение родителей!
Конечно, миссис Бреникен стала бы счастливейшей из женщин, если бы положение дел позволило Джону оставаться на берегу. Но могла ли она даже в мыслях удерживать мужа в тот момент, когда ему доверили командование «Франклином»? И потом, разве не нужно думать о том, чтобы обеспечить семью, которая, возможно, не ограничится единственным ребенком? Приданого Долли едва хватало на самое необходимое.
Вполне понятно, что Джон Бреникен возлагал надежды на состояние дяди, которое тот должен был оставить своей племяннице и лишиться которого она могла только при невероятном стечении обстоятельств, поскольку уже почти шестидесятилетний Эдвард Стартер не имел других наследников, кроме Долли (ее кузина, Джейн Баркер, принадлежала к материнской ветви и с Доллиным дядюшкой в родстве не состояла)...
Но пройдет десять, а может, и двадцать лет, прежде чем Долли вступит во владение наследством. А значит, Джон Бреникен, хоть и мог не тревожиться о будущем, должен был работать для настоящего. Он по-прежнему будет выходить в море как представитель торгового дома Эндрю, тем более что ему предоставлялась возможность во время плавания участвовать в деле и иметь свою собственную выгоду. Будучи не только моряком, но и весьма сведущим коммерсантом, Джон мог рассчитывать на то, что в ожидании наследства от дядюшки Стартера он своим трудом добьется некоторого достатка.
А теперь стоит сказать несколько слов о совершенно оригинальном американце, коим являлся дядюшка Стартер. Он был родным братом Доллиного отца и, следовательно, доводился молодой девушке, ставшей миссис Бреникен, дядей.
Оба мальчика были сиротами, и отец Долли, будучи старше своего брата на пять или шесть лет, можно сказать, воспитывал его как сына, за что тот навсегда сохранил к нему нежную любовь вместе с горячей признательностью.
Обстоятельства способствовали тому, чтобы Стартер-млад-ший вышел на дорогу, ведущую к богатству, в то время как Стартер-старший блуждал по темным закоулкам, редко выводящим к цели. Даже когда Стартер-младший уехал попытать счастья на покупке и освоении обширных земельных участков в штате Теннесси, он не порвал связей со старшим братом, которого дела держали в штате Нью-Йорк.
Овдовев, отец Долли обосновался в Сан-Диего, родном городе своей жены, где и умер как раз тогда, когда женитьба Джона Бреникена и его дочери была уже делом решенным. Свадьбу отпраздновали после траура, и молодая чета в качестве средств к существованию получила всего лишь скромное наследство, оставленное родителями Долли.
Некоторое время спустя в Сан-Диего пришло письмо, адресованное Стартером-младшим Долли Бреникен. Это было первое и последнее письмо, которое он написал племяннице.
В форме столь же лаконичной, сколь и практической оно сообщало о следующем: Стартер-младший помнил о том, что у него есть племянница, родная дочь его брата, хотя жил он очень далеко от нее и даже никогда ее не видел; они с братом не встречались с тех пор, как старший Стартер женился, к тому же младший Стартер жил под Нашвиллом, в самой удаленной части Теннесси, в то время как Долли жила в Сан-Диего; Теннесси от Калифорнии отделяют много сотен миль, и Стартеру-младшему не было никакой необходимости их преодолевать.
Итак, если Стартер-младший находил путешествие, которое нужно было совершить, чтобы повидать племянницу, слишком утомительным, то не менее утомительным для себя он считал и ее приезд к нему, ввиду чего просил Долли не утруждать себя поездкой. В действительности же этот человек был настоящим медведем, но не американским гризли[37] в шкуре и с когтями, а из породы людей-медведей, тяготеющих к уединенной жизни.
Кстати, Долли это не должно тревожить. Что с того, что она племянница «медведя»? Зато у него сердце доброго дядюшки. Он помнит, чем обязан Стартеру-старшему, и дочь его брата будет единственной наследницей его состояния. А наследство, добавлял Стартер-младший, стоит того, чтобы его получить. Уже сейчас оно составляет пятьсот тысяч долларов, и это не предел, так как дела, связанные с освоением новых земель в штате Теннесси, процветают. Поскольку наследство представляет собой земли и скот, обратить его в деньги не составит труда: все это хозяйство можно продать на весьма выгодных условиях и за покупателями дело не станет.
И хотя письмо было написано в присущей американцам старшего поколения рациональной и даже чуть грубоватой манере,— что сказано, то сказано. Богатство Стартера-млад-шего целиком перейдет к миссис Бреникен и ее детям. Если же миссис Бреникен покинет этот мир раньше Стартера-младшего и не оставит прямых или каких-либо иных потомков, состояние отойдет штату, который будет счастлив завладеть таким богатством.
И еще два обстоятельства.
1. Младший Стартер был холостяком. Таковым он и останется. «Глупость, которую очень часто делают в двадцать — тридцать лет, в шестьдесят лет я делать не собираюсь» — так, дословно, было написано в письме. Ничто, следовательно, не могло отвести это богатство с пути, по которому Доллин дядюшка твердо вознамерился его направить, и то, что оно вольется в семейство Бреникен, верно так же, как то, что Миссисипи впадает в Мексиканский залив.
2. Стартер-младший приложит все усилия — сверхчеловеческие усилия — для того, чтобы обогатить свою племянницу как можно позднее. Он постарается умереть по меньшей мере лет в сто, и не следует сетовать на него за стремление продлить свое существование.
Наконец, Стартер-младший просил миссис Бреникен — и даже настоятельно велел — на его письмо не отвечать. К тому же вряд ли существует связь между городами и той лесной глухоманью в штате Теннесси, где он живет. Писать он более не станет, разве что сообщит о своей смерти, да и то письмо будет написано не его рукой.
Вот такое необычное послание получила миссис Бреникен. То, что она сделается наследницей богатства в пятьсот тысяч долларов, которое, вполне вероятно, еще возрастет благодаря усилиям этого смекалистого первопроходца, не подлежало сомнению. Но поскольку дядюшка ясно выразил намерение жить до ста лет и дольше,— а известно, до чего стойкий народ эти северные американцы,— Джон Бреникен поступил вполне благоразумно, не оставив моряцкого дела. Своим умом, смелостью, волей он, возможно, добьется для жены и сына некоторого благополучия прежде, чем Стартер-младший соблаговолит отправиться в мир иной.
В таком положении находилась молодая семья в тот момент, когда «Франклин» шел в западную часть Тихого океана. А чтобы разобраться в дальнейших событиях, которыми будет изобиловать эта история, следует уделить внимание единственным родственникам Долли Бреникен в Сан-Диего — мистеру и миссис Баркер.
Лен Баркер, американец по происхождению, тридцати одного года от роду, обосновался в столице Нижней Калифорнии всего несколько лет назад. Этот янки[38] из Новой Англии[39] с резкими чертами лица, крепкого телосложения был человеком весьма решительным, деятельным и сосредоточенным, никогда не выдававшим того, о чем он думал, и не говорившим о том, что он делал.
Баркер принадлежал к породе людей, напоминающих наглухо закрытые дома. Тем не менее в Сан-Диего никаких дурных слухов не ходило об этом необщительном человеке, который, женившись на Джейн, породнился с Джоном Брени-кеном. А потому не было ничего удивительного в том, что Джон Бреникен, не имея иных родственников, кроме четы Баркер, доверил им жену и сына. Правда, зная, что кузины питают друг к другу глубокую привязанность, он больше рассчитывал на заботу Джейн.
Однако все могло сложиться иначе, если бы капитану Джону было известно, что в действительности представляет собой Лен Баркер, как лицемерен этот человек, как бесцеремонно он относится к принятым в обществе приличиям, понятиям о собственной чести и правах других людей. Обманутая вполне благовидной наружностью, Джейн вышла за него замуж пять лет назад, в Бостоне, где она жила со своей матерью, умершей вскоре после замужества дочери, последствия которого обещали быть весьма плачевными.
Приданого Джейн и материнского наследства могло бы хватать молодоженам на жизнь, если бы Лен Баркер предпочитал идти прямыми, а не обходными путями. Но Баркер был не таков. Растратив часть состояния жены и подорвав доверие к себе в Бостоне, он решил покинуть этот город. В другой части Америки, где за ним не будет следовать его сомнительная репутация, в еще не полностью обжитых краях у него появятся шансы, которых уже нет в Новой Англии.
Джейн, успевшая к этому времени разочароваться в своем муже, без колебаний согласилась на отъезд, счастливая тем, что покинет Бостон, где о Лене Баркере ходили нелестные слухи. К тому же после смерти матери ей хотелось отыскать единственную оставшуюся у нее родственницу, вот почему чета Баркеров обосновалась в Сан-Диего.
Вот какие обстоятельства способствовали соединению двух кузин в пору, когда Долли еще не была миссис Бреникен.
Казалось бы, Джейн должна была главенствовать над Долли, в действительности же все оказалось наоборот. Долли была сильной, Джейн — слабой, и вскоре девушка стала опорой для замужней женщины. Когда же все было решено о предстоящем браке Джона Бреникена и Долли, Джейн с большим воодушевлением отнеслась к замужеству кузины, которое обещало никогда не быть похожим на ее собственное! В этой молодой семье она сможет найти утешение, если решится доверить ей тайную причину своих горестей.
А тем временем положение Лена Баркера становилось все более серьезным. Дела его приходили в упадок. То немногое, что оставалось у него от состояния жены, когда они три года назад уезжали из Бостона, было почти полностью истрачено. Этот игрок, или, скорее, не знающий удержу спекулянт, был из тех людей, которые, рискуя, надеются только на случай. Человек такого нрава, не слушающийся доводов рассудка, мог добиться и, разумеется, добивался лишь плачевных результатов.
Приехав в Сан-Диего, Лен Баркер открыл контору на Флит-стрит — одно из тех сомнительных заведений, где всякая идея, дурная или хорошая, непременно воплощается в какое-нибудь предприятие. Умеющий весьма искусно соблазнить рискованной махинацией, нимало не стесняясь в средствах, лихо превращающий словесные уловки в аргументы, склонный смотреть на собственность других людей как на свою, он не мешкая затеял ряд спекуляций, которые провалились одна за другой, частично нанеся ущерб и ему самому.
В те времена, когда началась эта история, Лен Баркер испытывал крайнее затруднение, в его дом проникла нужда. Тем не менее, поскольку он держал свои махинации в строжайшем секрете, он еще пользовался некоторым доверием и употреблял его на то, чтобы, затевая новые дела, вновь вводить людей в заблуждение.
Однако такое положение вещей ни к чему, кроме катастрофы, привести не могло. Недалек тот час, когда мистеру Баркеру придется отвечать за свои темные делишки. Может, снова этот авантюрист-янки, оказавшийся на американском Западе, будет вынужден покинуть Сан-Диего, так же как когда-то он покинул Бостон? И все-таки в этом городе с оживленной торговлей, богатом на здравомыслящих людей и год от году процветающем, умному и честному человеку сотню раз представляется случай преуспеть. Но для этого нужно иметь то, чего у Лена Баркера не было: а именно благородные чувства, верные идеи и честные намерения.
Стоит особо отметить, что ни Джон Бреникен, ни мистер Уильям Эндрю, ни кто-либо другой и не подозревали о делах Лена Баркера. В среде промышленников и коммерсантов не было известно, что этого авантюриста — дай Бог, чтобы он заслужил только это имя! — ждет близкий крах. Произойди катастрофа — возможно даже, в нем увидели бы просто неудачливого человека, а не одного из тех безнравственных типов, которые не брезгуют ничем ради своего обогащения. Поэтому Джон Бреникен, не питавший к свояку[40] глубокой симпатии, не испытывал к нему и недоверия. Он был совершенно спокоен относительно того, что, пока он будет отсутствовать, Баркеры, если обстоятельства вынудят Долли обратиться к ним за помощью, окажут ей необходимые услуги. Их дом открыт для его жены, и она там будет принята не только дружески, но и по-родственному.
Что касается Джейн Баркер, то в ее чувствах сомневаться не приходилось. Любовь, которую она испытывала к кузине, была и безграничной и бескорыстной. Лен Ёаркер отнюдь не порицал искренней дружбы, связывающей двух молодых женщин, напротив, даже поощрял ее, без сомнения смутно предвидя будущее и те выгоды, которые она могла бы ему принести. К тому же он знал, что Джейн никогда не скажет того, чего не должна говорить, что она, проявляя осторожную сдержанность, умолчит о его положении, о тех материальных трудностях, с которыми им пришлось столкнуться, о тех предосудительных делах, в которые ввязался ее муж и в которых она ничего не понимала. Ни слова жалобы не слетит с ее губ.
Джейн подчинялась мужу беспрекословно, хотя и знала, что он человек бесчестный, утративший всякое понятие о нравственности, способный на непростительные поступки. Но как могла она после стольких разочарований сохранить к нему хоть голику уважения? Главная причина — и о ней всегда будет нелишне помнить — заключалась в том, что бедная женщина боялась своего мужа, и достаточно было одного слова, чтобы она последовала за ним в любую часть света, если ради своей безопасности ему снова придется бежать. Наконец, просто из гордости Джейн не хотела рассказывать о переносимых ею тяготах даже своей кузине, которая, возможно, догадывалась о них, но никогда не слышала ее признаний.
Итак, теперь обстоятельства жизни Джона и Долли Бреникен, с одной стороны, и Лена и Джейн Баркер, с другой, в достаточной мере определены для понимания дальнейшего хода событий. Насколько эти события, так нежданно и так скоро нахлынувшие, изменят их жизнь, никто и представить себе не мог.
Глава III ПРОСПЕКТ-ХАУС
Тридцать лет назад Нижняя Калифорния, составлявшая треть всего штата, насчитывала только тридцать тысяч жителей. Ныне же ее население исчисляется ста пятьюдесятью тысячами, а в ту пору земли этой провинции, расположенные на окраине американского Запада, были совсем не возделаны и считались пригодными разве что для разведения скота. Кто мог предугадать, какое будущее уготовано этому заброшенному краю, когда средствами сообщения на суше служили лишь малочисленные дороги, проложенные колесами повозок, а на море — единственная пассажирская линия, корабли которой делали остановки у береговых населенных пунктов?
И все-таки с 1769 года в нескольких милях от берега севернее бухты Сан-Диего уже существовал некий зародыш города. Таким образом, нынешний Сан-Диего может отстаивать честь считаться самым давним поселением Калифорнии.
Когда новый континент, связанный со старой Европой обычными колониальными узами, которые Соединенное Королевство упорно стремилось сохранить, сделал мощный рывок, узы разорвались. Под знаменем независимости образовался союз североамериканских штатов[41]. У Англий остались лишь клочки, Доминион и Колумбия, но присоединение их к конфедерации[42], без сомнения, дело не столь отдаленного будущего. Что касается сепаратистского[43] движения, то оно распространилось среди населения центра, мечтающего только об одном — скинуть с себя какие бы то ни было путы.
Калифорния, однако, не находилась под англосаксонским[44] гнетом. До 1846 года она принадлежала Мексике. Затем, став свободным, чтобы войти в состав федеративной республики, муниципалитет[45] Сан-Диего, созданный одиннадцатью годами ранее, сделался американским.
Бухта Сан-Диего великолепна. Ее можно сравнить с Неаполитанским заливом, но более точным было бы сравнение с бухтами Виго и Гуанабара (на берегу последней находится город Рио-де-Жанейро). Двенадцать миль в длину и две в ширину составляют пространство, пригодное для якорной стоянки торгового флота, а также для маневров эскадры[46], поскольку Сан-Диего является еще и военным портом.
Напоминающая по форме овал, с узким входом с запада, зажатая между мысами Айленд и Лома, или Коронадо, бухта защищена со всех сторон. Ветры с моря в нее почти не проникают, океанская зыбь едва тревожит водную гладь, корабли без труда выходят из бухты, минимальная глубина которой достигает двадцати трех футов[47]. Это единственный надежный и доступный порт, благоприятное место для стоянок судов на западном побережье между Сан-Франциско и Сан-Кинтином.
Очевидно, что при наличии стольких естественных преимуществ старому городу вскоре сделалось тесно в своих первоначальных границах. И вот уже на прилегающих к нему участках земли, заросших кустарником, собрались поставить бараки для размещения кавалерийского отряда. В итоге по инициативе мистера Хортона (вмешательством своим, надо сказать, принесшего немало пользы) были возведены новые постройки. Теперь этот район стал частью города, поднявшегося ярусами к северу от бухты.
Расширение территории шло стремительно, вполне в духе американцев. Миллион долларов, вложенный в землю, превратился в частные дома, общественные здания, конторы и виллы. Первую железную дорогу построили в 1881 году; сегодня же Атлантическо-Тйхоокенская, Южнокалифорнийская и Южнотихоокеанская дороги связывают город с континентом, в то время как «Пасифик Кост Стимшип Компани» обеспечивает частные сообщения с Сан-Франциско.
В Сан-Диего воздух свеж, условия жизни здоровые, климат выше всяких похвал. Окрестные земли на редкость плодородны; лозы винограда, оливковые, апельсиновые, лимонные деревья растут бок о бок с фруктовыми деревьями и овощными культурами, завезенными из северных стран, словно Нормандия вдруг слилась с Провансом[48].
Что до самого города, то он построен с той живописной непринужденностью, с той свободой в расположении зданий, с той индивидуальной выдумкой, которые так способствуют общественной гигиене и осуществимы лишь при отсутствии стесненных земельных условий. В городе есть площади, скверы, широкие улицы, везде можно найти тень — иными словами, здоровье там прямо пропорционально объему воздуха, так щедро дарованного его счастливым жителям.
Да и то сказать, если бы успехи, достигнутые во всех областях жизни, не находили применения в современном городе, особенно американском, где тогда их нужно было бы искать? Газ, телеграф, телефон — людям достаточно сделать совсем немного, чтобы в комнате вспыхнул свет, чтобы обменяться с кем-то посланиями, чтобы сказать что-то друг другу на ухо, находясь в разных кварталах города. Существуют даже мачты высотой в сто пятьдесят футов, с которых электрический свет льется на городские улицы. И если молоко еще не расфасовывается под давлением благодаря «Дженерал Милк Компани», если тротуары, движущиеся со скоростью четырех лье в час, еще не функционируют в Сан-Диего, то через некоторое время все это непременно будет...
Прибавьте к перечисленному различные учреждения, где вырабатываются направления агломераций[49] таможню, для которой торговые сделки приобретают все большее значение, два банка, торговую палату, эмиграционную службу, просторные офисы, многочисленные торговые конторы по купле-продаже леса и муки, церкви, три рынка, театр, гимназию, три больших школы — Рас Каунти, Корт-Хаус и Мэроник энд Олд Феллоуз — для детей из бедных семей, наконец, несколько учебных заведений, дающих университетские дипломы, сложите все это в своем воображении, и вы сможете предвосхитить будущее молодого еще города, неустанно заботящегося о своих духовных и материальных интересах и накапливающего в себе элементы процветания.
Но может, он испытывает недостаток в периодических изданиях? Нет! В городе выходят три еженедельника. А может, у туристов есть основания бояться, что они не найдут там достаточно комфортных условий для проживания? Опять нет! В их распоряжении, не считая гостиниц низшего разряда, три великолепных гостиницы со множеством номеров — «Хор-тон-хаус», «Флоренс-отель» и «Герард-отель»,— а на противоположной стороне бухты, на песчаном берегу мыса Коронадо, в живописном месте, среди красивейших вилл[50]. Построен новый отель стоимостью не менее пяти миллионов долларов. Пусть туристы со всех стран Старого Света и из всех мест Нового приезжают в молодую, полную жизни столицу Нижней Калифорнии! Здесь их гостеприимно встретят щедрые жители, и они не пожалеют о своем путешествии — разве что оно покажется им слишком коротким!
Сан-Диего — город очень оживленный, деятельный и вместе с тем, несмотря на бурную деятельность, строго организованный, как, впрочем, большинство американских городов. И если жизнь есть движение, то можно сказать, что Сан-Диего живет в самом полном смысле этого слова. Времени для коммерческих сделок едва хватает. Но то, что верно в отношении людей, которых собственные инстинкты и навыки толкают в подобную круговерть, то неверно в отношении тех, кто живет в нескончаемой праздности: когда движение прекращается, время течет слишком медленно!
Именно это ощутила миссис Бреникен после ухода «Франклина». С самого начала семейной жизни она участвовала во всех делах мужа; даже когда капитан Джон оставался на берегу, его взаимоотношения с домом Эндрю накладывали на него многочисленные обязанности. Кроме торговых операций, в которых он принимал участие, Бреникен должен был следить за постройкой трехмачтовой шхуны, коей ему предстояло командовать. С каким рвением, лучше даже сказать любовью, он вникал в мельчайшие детали дела, проявляя неустанную заботу хозяина, строящего дом и собирающегося прожить в нем всю свою жизнь. Но корабль — это не только дом, не только инструмент для сколачивания состояния, это вещь из дерева и железа, которой будет доверена жизнь многих людей. Корабль можно сравнить с оторванным от родной земли человеком, то возвращающимся к ней, то снова ее покидающим. К несчастью, ему не всегда уготовано судьбой завершить свою морскую жизнь в порту, где он появился на свет.
Долли часто ходила с капитаном Джоном на стройку; шпангоуты[51], высившиеся над склоненным килем[52], кокоры[53], напоминающие кости гигантского морского животного, обшивка, которую прилаживали рабочие, сложной формы корпус, палуба с врезанными в нее большими крышками люков, мачты, лежавшие на земле и ждавшие, когда их поставят на место, внутреннее оборудование корабля, кубрик[54], ют[55] и расположенные там каюты — разве все это могло ее не интересовать? Ведь «Франклину» предстояло защищать Джона и его товарищей от океанских бурь. И не было ни одной досочки, на которую она мысленно не возлагала бы надежды на спасение; среди шума стройки не раздавалось ни одного удара молотка, который не отозвался бы в ее сердце.
Джон вводил жену в курс дела, объяснял назначение каждой деревянной или металлической детали судна, рассказывал о ходе строительства. Она любила этот корабль, ведь его душой и господином, после Бога, станет ее муж!.. Иногда Долли спрашивала себя, отчего она не уйдет в море вместе с капитаном, отчего не разделит с ним все трудности похода, отчего он не возьмет ее с собой, отчего потом «Франклин» не доставит их вместе в порт Сан-Диего?
О, как бы ей хотелось никогда не расставаться с мужем! И разве не вошли в обычай с давних пор у северных народов как Старого, так и Нового Света супружеские пары, вместе уходящие в долгое плавание?.. Но был Уот, и могла ли Долли лишить эту крошку материнской ласки, предоставив заботам кормилицы? Нет! А могла ли, взяв его в море, подвергать случайностям путешествия, столь опасного для младенца? Тем более нет!
Долли останется с сыном; не покидая его ни на минуту, она окружит малютку нежностью и заботой, чтобы, здоровенький, он улыбкой встретил вернувшегося отца! К тому же капитан Джон должен отсутствовать только полгода. «Франклин» возьмет груз в Калькутте и тотчас отправится в порт приписки. Жене моряка следует привыкнуть к этим неминуемым разлукам, пусть даже сердце никогда с ними не смирится!
Итак, нужно было свыкнуться с неизбежным — и Долли свыклась. Но когда движение, составлявшее ее существование, с отъездом Джона прекратилось, какой унылой представилась бы ей жизнь, если б не заботы о сыне, если б не ее безмерная любовь к нему.
Дом Джона Бреникена стоял на одной из дальних возвышенностей, окаймляющих бухту с севера; он представлял собою нечто вроде шале[56], окруженного небольшим садом из апельсиновых и оливковых деревьев и обнесенного простой деревянной изгородью. Встроенная галерея по нижнему этажу, куда выходили парадная дверь и окна гостиной и столовой, второй этаж с балконом по всему фасаду, треугольный верх, украшенный элегантными гребнями крыши,— таким скромным и привлекательным было это жилище.
На первом этаже разместились небогато обставленные гостиная и столовая; на втором — комната миссис Бреникен и детская; позади дома находилась небольшая пристройка с кухней и комнатой для прислуги. Обращенный на юг, Проспект-хаус располагался в изумительном месте, откуда был виден весь город и противоположный берег бухты вплоть до зданий, стоящих на мысе Лома. Конечно, дом был несколько удален от деловой части города, однако это маленькое неудобство с лихвой восполнялось его удачным расположением, открытостью местности, доступной ласковым южным ветрам, напоенным солеными запахами Тихого океана.
В этом доме потянулись долгие часы Доллиного одиночества. Из прислуги вполне хватало кормилицы для малютки и одной служанки. К Долли наведывались Баркеры (редко Лен, часто Джейн). Заходил и мистер Уильям Эндрю, спеша сообщить молодой женщине разными путями доходившие до него известия о «Франклине». Прежде чем письма попадут в руки адресатов, морские газеты подробно расскажут о встречах кораблей, об их стоянках в портах, о морских происшествиях, могущих заинтересовать судовладельцев. И Долли, таким образом, была в курсе событий.
Что касается связей с обществом, поддержания отношений с соседями, то миссис Бреникен, привыкшая к уединенности Проспект-хаус, никогда к этому не стремилась. И даже если бы дом наполнился людьми, он показался бы ей пустым, ведь в нем не было Джона,— так будет до тех пор, пока капитан «Франклина» не вернется из плавания.
Первые дни Долли не покидала Проспект-хаус, Джейн каждый день навещала ее: обе женщины занимались маленьким Уотом и говорили о капитане Джоне. Когда Долли бывала одна, часть дня она по обыкновению проводила на балконе. Взгляд ее, скользя поверх мыса Айленд, устремлялся за пределы бухгы, дальше островов Лос-Коронадос, терялся за линией горизонта... Да, «Франклин» уже далеко. Но мысленно она добиралась до него, всходила на корабль, стояла подле мужа... А когда какое-нибудь судно, шедшее с моря, готовилось причалить, Долли говорила себе, что настанет день, и «Франклин» вот так же появится вдали и будет расти, приближаясь к берегу, и Джон будет там...
Однако для здоровья малютки Уота недостаточно было постоянного пребывания за оградой Проспект-хаус. Во вторую неделю после отплытия Джона установилась прекрасная погода, легкий ветерок умеривал наступающую жару. Миссис Бреникен стала совершать прогулки по окрестностям. Она брала с собой кормилицу, и они шли пешком в старый город. Младенцу, бодрому и розовощекому, такие путешествия приносили пользу, и, когда кормилица, несшая его на руках, останавливалась передохнуть, он махал ручонками и улыбался матери.
Один или два раза, по случаю более длительных прогулок, по соседству брали напрокат красивую двуколку[57] и усаживались в нее втроем или даже вчетвером, поскольку к ним иногда присоединялась миссис Баркер. Однажды так отправились на застроенную виллами возвышенность Ноб-Хилл, туда, где стоит отель «Флоренс» и откуда открывается вид на запад — на острова и дальше. В другой раз поехали к песчаным берегам Коронадо-Бич, на которые с грохотом накатывают яростные волны. Потом посмотрели один из живописнейших уголков побережья, где во время прилива великолепные прибрежные скалы покрываются солеными брызгами. Долли касалась ногой океана, словно доносившего до нее отголоски дальних краев, где теперь находился Джон; быть может, именно эти волны обрушивались на «Франклин», унесенный за тысячи миль отсюда. Долли неподвижно стояла на берегу, и ее воображение рисовало корабль, а губы шептали имя молодого капитана.
Тридцатого марта около десяти часов утра миссис Бреникен, находясь на балконе, увидела миссис Баркер, идущую в Проспект-хаус. Радостно помахав рукой, Джейн прибавила шагу. Ясно, что шла она не с дурной вестью. Долли тут же спустилась вниз и очутилась у порога как раз в тот момент, когда открывалась дверь.
— Что случилось, Джейн? — спросила она.
— Долли, дорогая, сейчас ты узнаешь новость, которая тебя обрадует! Мистер Эндрю просил передать, что «Баун-дари», пришедший сегодня утром в Сан-Диего, встретился с «Франклином»...
— С «Франклином»?!
— Да! Когда мистер Эндрю повстречал меня на Флит-стрит, он только что узнал об этом, но он может прийти сюда лишь после полудня, поэтому я помчалась сообщить тебе...
— И есть известия о Джоне?
— Есть, Долли.
— Какие? Да говори же!
— Неделю назад корабли встретились в море и смогли обменяться новостями...
— На борту все в порядке?
— Да, милая. Оба капитана находились достаточно близко друг от друга, им удалось поговорить, и последнее слово, которое услышали на «Баундари», было твое имя!
— Бедный мой Джон! — воскликнула миссис Бреникен, растроганная до слез.
— Мне так приятно, Долли,— вновь заговорила миссис Баркер,— что я первая принесла это известие!
— Благодарю тебя! — ответила миссис Бреникен.— Если бы ты знала, какое это для меня счастье!.. Ах, если бы я каждый день могла узнавать... Мой Джон... Мой дорогой Джон!.. Капитан «Баундари» видел его... Джон говорил с ним... Словно еще раз послал мне прощальный привет!
— Да, милая Долли, и я повторяю, что на «Франклине» все хорошо.
— Джейн,— сказала миссис Бреникен,— мне нужно увидеть капитана «Баундари». Он мне расскажет все в подробностях... Где произошла встреча?
— Этого я не знаю,— ответила Джейн,— но в судовом журнале[58] все указано, да и капитан «Баундари» даст тебе исчерпывающие сведения.
— Хорошо, Джейн, подожди, я оденусь, и мы пойдем вместе... Немедленно...
— Нет, не сегодня, Долли,— ответила миссис Баркер.— Мы не сможем подняться на борт «Баундари».
— Но почему?
— Потому что судно прибыло только сегодня утром и сейчас в карантине[59].
— И на сколько?
— О! Всего лишь на сутки... Это не более чем формальность, но сейчас они никого не могут принять.
— Тогда каким образом мистер Эндрю узнал о встрече?
— Из записки, которую капитан передал ему через таможню[60]. Долли, дорогая, успокойся! В том, что я тебе сообщила, не может быть никаких сомнений, и ты завтра же получишь подтверждение. Потерпи всего один день.
— Ну хорошо, Джейн, до завтра,— ответила миссис Бреникен.— Завтра утром я буду у тебя часам к девяти. Ты пойдешь со мной на «Баундари»?..
— Охотно, милая Долли. Завтра в девять. И как только карантин снимут, нас примет капитан...
— Это ведь капитан Эллис, друг Джона? — спросила миссис Бреникен.
— Он самый, Долли, и «Баундари» тоже принадлежит дому Эндрю.
— Хорошо, Джейн, договорились... Значит, с утра... Ах, каким долгим покажется мне сегодняшний день!.. Ты не останешься со мной обедать?
— С удовольствием, моя дорогая. Мистера Баркера не будет дома до вечера, и я могу вторую половину дня провести с тобой...
— Спасибо, милая Джейн, мы поговорим о Джоне... все о нем... все время о нем!
— А что Уот? Как поживает наш малыш? — поинтересовалась миссис Баркер.
— Прекрасно! — ответила Долли.— Весел, как пташка! Вот будет радость отцу!.. Джейн, мне хочется завтра взять с собой его и кормилицу. Знаешь, я не люблю с ним расставаться, даже на несколько часов. Я стану беспокоиться, если малыша не будет рядом со мной!
— Ты права, Долли,— ответила миссис Баркер.— Неплохая идея — устроить Уоту такую прогулку. Погода хорошая, залив спокоен. Это будет первое путешествие по морю у нашей дорогой малютки! Ну, договорились?
— Договорились! — ответила миссис Бреникен.
Джейн оставалась в Проспект-хаус до пяти часов вечера.
Уходя от кузины, она повторила, что будет ждать ее завтра к девяти часам утра, чтобы отправиться на «Баундари».
Глава IV НА «БАУНДАРИ»
На следующий день в Проспекг-хаус проснулись рано. Погода стояла великолепная. Бриз[61] гнал в океан остатки ночного тумана. Пока миссис Бреникен совершала утренний туалет, кормилица одевала маленького Уота. Было решено, что Долли пообедает у миссис Баркер, а пока она ограничилась легкой закуской, чтобы дотянуть до полудня, поскольку очень возможно, что визит к капитану Эллису займет добрых два часа. Так интересно послушать все, о чем расскажет этот отважный моряк!
Миссис Бреникен и кормилица с ребенком на руках покинули шале в тот момент, когда уличные часы Сан-Диего били половину восьмого. Долли быстрым шагом миновала широкие улицы верхнего города, по обеим сторонам которого стояли, утопая в садах, обнесенные оградами виллы, и вскоре очутилась на более узких улицах с тесно расположенными домами, составляющими торговый квартал.
Лен Баркер жил на Флит-стрит, неподалеку от причала, принадлежащего «Пасифик Кост Стимшип Компани». Долли проделала довольно длинный путь, пройдя через весь город, и когда Джейн открыла ей дверь своего дома, было ровно девять. Баркеры жили в очень скромном и даже несколько унылом жилище с почти постоянно занавешенными окнами. Лен Баркер принимал у себя лишь кое-кого из деловых людей и не водил дружбы с соседями. Даже на Флит-стрит знали его мало, поскольку он много ездил и часто отправлялся в Сан-Франциско по надобностям, о которых жене не говорил.
В то утро, когда пришла миссис Бреникен, Лена Баркера в конторе не было. Джейн извинилась за то, что муж не сможет проводить их на «Баундари», добавив, что к обеду он непременно вернется.
— Я готова, моя дорогая Долли,— сказала Джейн, поцеловав младенца.— Не хочешь ли немного отдохнуть?
— Я не устала,— ответила миссис Бреникен.
— Тебе что-нибудь нужно?
— Нет, Джейн! Мне не терпится поскорее увидеться с капитаном Эллисом!.. Идем теперь же, прошу тебя!
Прислуживала миссис Баркер старая мулатка[62], которую Лен привез из Нью-Йорка, когда приехал жить в Сан-Диего. Но — так звали мулатку — была когда-то его няней. Всю жизнь служившая в семье Баркеров, она оставалась безгранично преданной Лену и по-прежнему обращалась к нему, словно к ребенку, на «ты». Эта грубая и властная женщина была единственным существом, которое когда-либо оказывало хоть какое-то влияние на Лена Баркера, и он полностью доверил ей заботу о доме. Сколько раз Джейн приходилось страдать из-за доходящего порой до неучтивости господства своей же служанки. Но она терпела и это... Смирившись — что явилось не чем иным, как проявлением слабости,— Джейн все пустила на самотек, и Но так никогда и не советовалась с ней по поводу ведения хозяйства.
Джейн уже направилась к двери, когда мулатка строгим тоном посоветовала ей вернуться до полудня, поскольку Лен Баркер уже возвратится домой, и не стоит заставлять его ждать. Притом ему нужно поговорить с миссис Бреникен по важному делу.
— А о чем идет речь? — спросила Долли у кузины.
— Откуда мне знать? — ответила миссис Баркер.— Идем, Долли, идем!
Не стоило терять время. Миссис Бреникен и миссис Баркер в сопровождении кормилицы с ребенком отправились к пристани, куда пришли менее чем через десять минут.
Карантин с «Баундари» был только что снят, но корабль еще не начал разгрузку у причала, предназначенного для дома Эндрю. Он стоял на якоре в кабельтове от мыса Лома. Таким образом, чтобы попасть на судно, нужно было пересечь бухту. Путь составлял примерно две мили, и паровые катера, используемые для сообщения с кораблем, проделывали его дважды в час.
Долли и Джейн сели на катер в числе дюжины других пассажиров. Большинство из них были родственниками или друзьями членов экипажа «Баундари». Отдав швартов, катер отделился от пристани и, повинуясь действию винта, пыхтя двинулся наискось через залив.
В это ясное, прозрачное утро взору открывалось все пространство бухты: амфитеатром[63], стоящие дома Сан-Диего, холм, возвышающийся над старым городом, узкий вход в бухту между мысами Айленд и Лома, огромный, похожий на дворец отель Коронадо и маяк, далеко в океан посылающий сврй свет после захода солнца.
Катер шел, ловко огибая корабли, стоящие на якоре, движущиеся навстречу лодки и рыбачьи баркасы[64], команды которых умело работали парусами, чтобы пройти мимо мыса одним галсом.
Долли и Джейн сидели на банке[65] в кормовой части катера. Кормилица с ребенком на руках расположилась рядом с миссис Бреникен. Мать умиленно глядела на сына, временами склоняясь, чтобы поцеловать его, а он в ответ смеялся, откидывая назад головку. Вскоре, однако, внимание Долли переключилось на «Баундари». Выделяющаяся теперь среди других судов, трехмачтовая шхуна четко вырисовывалась на фоне бухты, и ее флаги реяли в залитом солнцем небе. Судно стояло на сильно натянутой якорной цепи, обращенное носовой частью на запад, о которую разбивались последние всплески зыби, вызванной приливом.
Вся теперешняя жизнь Долли выразилась во взгляде, который был устремлен на прибывшее судно. Она думала о Джоне. Ах, как «Баундари» походил на корабль ее мужа!.. Это и понятно, ведь разве не один и тот же дом Эндрю дал жизнь им обоим? Разве оба они не были приписаны к одному порту? И разве построили их не на одной и той же верфи?
Воспоминания подстегнули Доллино воображение, и она, зачарованная иллюзиями, вся предалась мыслям о том, что Джон там... на корабле... ждет ее... Вот он увидел Долли и машет ей рукой... Его имя у нее на устах... Она зовет Джона, и он отвечает ей...
Вскрик ребенка вернул Долли чувство реальности. Это «Баундари», а не «Франклин», «Франклин» сейчас далеко, очень далеко — тысячи лье[66] отделяют его от американского берега!
— Настанет день, и корабль Джона будет стоять там... на том же самом месте! — прошептала Долли, глядя на миссис Баркер.
— Да, милая Долли,— отвечала Джейн, прекрасно понимая, что в ту минуту, когда Долли мыслями обращалась в будущее, смутная тревога сжимала ей сердце.
Тем временем катер за четверть часа покрыл расстояние в две мили, отделяющие причал в Сан-Диего от мыса Лома. Пассажиры высадились на пирс[67], куда миссис Бреникен ступила вместе с Джейн, кормилицей и ребенком. Теперь оставалось добраться до «Баундари», находящегося самое большее в кабельтове от них.
Внизу, возле самого пирса, стояла посланная с судна шлюпка с двумя матросами. Миссис Бреникен назвала себя, и матросы выразили готовность доставить ее на «Баундари», подтвердив при этом, что их капитан в данный момент находится на судне.
Несколько взмахов веслами — и вот капитан Эллис, узнав миссис Бреникен, подошел к борту, в то время как Долли в сопровождении Джейн поднималась по наружному трапу, предварительно велев кормилице покрепче держать ребенка. Капитан повел их на ют, а его помощник занялся приготовлениями к тому, чтобы вести «Баундари» к причалу Сан-Диего.
— Мистер Эллис,— начала миссис Бреникен,— мне стало известно, что вы встретили «Франклин»...
— Да, мадам, — отвечал капитан,— и смею вас уверить, что с ним все в порядке, о чем я и сообщил мистеру Уильяму Эндрю.
— А вы видели... Джона?..
— «Франклин» и «Баундари» прошли достаточно близко друг от друга, чтобы капитан Бреникен и я смогли переброситься несколькими словами.
— Да!.. Вы его видели! — повторила миссис Бреникен так, словно разговаривала сама с собой, ища в глазах капитана отражение виденного им «Франклина».
Тут миссис Баркер принялась засыпать капитана вопросами, Долли все слушала очень внимательно, хотя взгляд ее устремился теперь далеко за пределы бухты, в океанский простор.
— В тот день погода была как нельзя лучше,— рассказывал капитан Эллис,— и «Франклин» шел полным бакштагом на всех парусах. Капитан Джон стоял на юте с подзорной трубой в руке. Он привел судно к ветру на четверть румба[68], чтобы обойти «Баундари», так как я шел курсом крутой бейдевинд[69] и не мог его изменить, поскольку паруса начинали заполаскивать на ветру.
Конечно, миссис Бреникен мало что понимала в терминах, но одно она усвоила крепко,— тот, кто стоял сейчас перед ней, видел Джона и даже имел возможность коротко переговорить с ним.
— Когда мы были на траверзе[70],— продолжал капитан Эллис,— ваш муж, миссис Бреникен, помахал мне рукой и крикнул: «Все идет хорошо, Эллис! Когда прибудете в Сан-Диего, дайте обо мне знать жене... моей дорогой Долли!» Потом оба судна разошлись и вскоре потеряли друг друга из виду.
— Какого числа вы встретили «Франклин»? — спросила миссис Бреникен.
— Двадцать третьего марта, в одиннадцать двадцать пять утра.
Долли интересовали подробности, и капитан Эллис показал на карте точное место встречи: 148 градусов западной долготы и 20 градусов северной широты[71], — иначе говоря, в ста семидесяти лье от Сан-Диего. Если погода по-прежнему будет хорошей,— а с наступлением теплого времени года можно было надеяться на это,— капитан Джон совершит приятное непродолжительное плавание в северных водах Тихого океана. Кроме того, поскольку в Калькутте его уже будет ждать груз, он пробудет в столице Индии совсем немного и скоро вернется в Америку. Таким образом, «Франклин» будет отсутствовать всего несколько месяцев, как и предусматривалось домом Эндрю.
Пока капитан Эллис отвечал на вопросы, миссис Брени-кен, все так же влекомая своим воображением, представляла себя на борту «Франклина». И не Эллис, а Джон говорил ей все эти слова. Ей верилось, что она слышит его голос...
В эту минуту помощник, поднявшись на ют, сообщил, что приготовления близятся к концу. Матросы, находившиеся на баке, ждали приказа капитана.
Капитан Эллис предложил миссис Бреникен доставить ее на сушу, если только она не предпочтет остаться на корабле. В таком случае можно будет пересечь залив на «Баундари» и сойти на берег, когда судно причалит к пристани. Займет все это не более двух часов.
Миссис Бреникен охотно приняла бы предложение капитана, но ее ждали обедать к полудню. Она понимала, что Джейн будет очень беспокоиться, если не вернется домой к приходу мужа. Надо было успеть на катер, и Долли попросила капитана Эллиса отвезти ее к пирсу.
Капитан поцеловал пухлые щечки маленького Уота, и обе гостьи простились с ним. Затем миссис Бреникен, миссис Баркер и идущая впереди кормилица спустились в корабельную шлюпку, которая доставила их к пирсу.
Ожидая катер, только что отошедший от пристани в Сан-Диего, миссис Бреникен с большим интересом наблюдала за маневрами «Баундари». Под громкое пение боцмана матросы выбрали якорь, и корабль тронулся с места; помощник капитана руководил поднятием кливера, фор-стень-стакселя[72] и бизани. Под этими парусами, подгоняемое приливом, судно легко дойдет до своего места у причала.
Вскоре подошел катер. Он несколько раз прогудел, созывая пассажиров, и двое или трое опаздывающих ускорили шаг, поднимаясь на мыс перед отелем «Коронадо».
Стоянка длилась не более пяти минут. Миссис Бреникен, Джейн Баркер и кормилица сели на банку по правому борту, остальные пассажиры, человек двадцать, прогуливались взад и вперед по палубе. Раздался последний гудок, заработал винт, и катер стал отдаляться от берега.
Было половина двенадцатого, а значит, миссис Бреникен вовремя вернется в дом на Флит-стрит, поскольку путь через залив занимает четверть часа. Катер все больше удалялся от пристани, но Долли по-прежнему не сводила глаз с «Баундари»; якорь стоял отвесно, паруса были расправлены, корабль набирал ход. Когда он пришвартуется к причалу Сан-Диего, Долли сможет наведываться на него так часто, как только позволит капитан Эллис.
Катер шел быстро. На берегу, образующем живописный амфитеатр, на разных ярусах возвышались городские постройки. До пристани оставалось не более четверти мили. «Внимание!..» — вдруг крикнул один из матросов и повернулся к рулевому, стоящему на небольшом мостике впереди трубы. Услыхав этот крик, миссис Бреникен посмотрела в сторону порта, где в этот момент совершался маневр, привлекший внимание и других пассажиров катера; большая бригантина[73], носовой частью повернутая к мысу Айленд, отделившись от стоящих вдоль причалов кораблей, готовилась покинуть бухту. Ей помогал буксир, который должен был провести судно, уже набравшее некоторую скорость, через узкое горло бухты.
Бригантина находилась уже совсем близко, так что катеру без промедления следовало готовиться к тому, чтобы обогнуть судно сзади. Этим и был вызван обращенный к рулевому крик матроса. Пассажиров охватило волнение — чувство тем более оправданное, что порт Сан-Диего всегда был переполнен стоящими на якоре судами. Однако сложившаяся ситуация не предвещала ничего опасного: катер мог остановиться и пропустить буксир и бригантину. Несколько рыбачьих баркасов, отнесенных ветром, скопились перед причалами, еще более затрудняя проход.
— Внимание! — повторил матрос, стоящий на носу.
— Да-да!..— ответил рулевой.— Бояться нечего!.. Мне места хватит!
Вдруг, встревоженный внезапным появлением невдалеке большого парохода, буксир сделал движение, которого от него не ждали, рулевой резко переложил штурвал[74] на левый борт. Раздались крики: на этот раз кричали не только пассажиры катера, но и экипаж бригантины, который, стремясь помочь буксиру совершить маневр, повел корабль в том же направлении.
Джейн в испуге вскочила с места. Миссис Бреникен, повинуясь инстинктивному порыву, выхватила маленького Уота из рук кормилицы и прижала к себе.
— Право руля!.. Право руля!.. — что было мочи кричал капитан буксира рулевому катера, жестом указывая направление.
Рулевой, отнюдь не потеряв хладнокровия, резко повернул штурвал, чтобы сойти с пути буксирного судна, уже не имеющего возможности остановиться, поскольку бригантина, частично набравшая ход, могла ткнуться в него боком.
Катер дал крен на правый борт, и неотвратимая сила отбросила потерявших равновесие пассажиров вправо. Вновь послышались крики: теперь уже люди испугались, что перегруженный с одной стороны катер может опрокинуться. В это мгновение стоящую у планширя[75] и потерявшую равновесие миссис Бреникен вместе с ребенком выбросило за борт.
Бригантина прошла рядом с катером, не задев его,— опасность столкновения окончательно миновала.
— Долли!.. Долли! — вскричала едва устоявшая на ногах Джейн.
Один из матросов катера, не мешкая, бросился в воду: Долли с ребенком в руках благодаря своей одежде какое-то время держалась на поверхности, но когда матрос приблизился к ней, она уже стала тонуть. Катер почти тотчас остановился, и матросу было не столь уж трудно доставить миссис Бреникен на борт. Но, на беду, в тот миг, когда он схватил ее за талию, руки несчастной, почти задохнувшейся женщины разжались, и ребенок исчез в глубине. Потерявшую сознание Долли подняли на борт и положили на палубу. И вновь храбрый матрос — тридцатилетний мужчина по имени Зак Френ — кинулся в воду... Тщетно. Ребенка унесло глубинным течением.
Тем временем пассажиры оказывали миссис Бреникен помощь. Растерянная Джейн и обезумевшая кормилица пытались привести ее в чувства. Катер не трогался с места, ожидая, когда Зак Френ оставит последнюю надежду спасти малютку Уота.
Наконец Долли стала понемногу приходить в себя. Она прошептала имя Уота и вслед за тем, открыв глаза, вскричала:
— Ребенок! — Тут она увидела Зака Френа, в последний раз поднимающегося на борт... Уота в его руках не было.— Мой ребенок! — снова закричала Долли.
Она встала и, оттолкнув обступивших ее людей, устремилась к корме. Не помешай ей — она бы прыгнула за борт.
Когда катер вновь двинулся к пристани Сан-Диего, пришлось поддерживать несчастную женщину, но с исказившимся лицом и судорожно сжавшимися руками она без чувств рухнула на палубу.
Спустя несколько минут катер достиг пристани, и Долли была перенесена в дом Джейн. Только что вернувшийся Лен Баркен велел мулатке бежать за врачом. Тот вскоре прибыл и с немалыми усилиями вернул миссис Бреникен к жизни.
Очнувшись, Долли пристально посмотрела на него.
— Что такое?..— проговорила она.— Что произошло?.. А!.. Я знаю...— Она улыбнулась.— Это мой Джон... Он возвращается... Возвращается!.. Сейчас он увидит жену и сына!.. Джон!.. Мой Джон здесь!..
Миссис Бреникен лишилась рассудка.
Глава V В СЛЕДУЮЩИЕ ТРИ МЕСЯЦА
Как описать впечатление, которое произвела на жителей Сан-Диего эта трагедия: гибель ребенка и безумие матери! Люди с большой симпатией относились к семейству Бреникен и болели душой за молодого капитана «Франклина». Едва минуло две недели, как Джон ушел в море, — и вот он уже не отец, а его несчастная жена — безумна!.. Капитан вернется в опустевший дом и не увидит ни улыбки маленького Уота, ни радости Долли, которая вряд ли даже его узнает!.. В день, когда «Франклин» войдет в порт, город не будет приветствовать его криками «ура».
Но не стоило ждать возвращения Джона Бреникена, чтобы сообщить ему об ужасном несчастье. Мистер Уильям Эндрю не мог держать в неведении молодого капитана, уповая на то, что сложатся непредвиденные обстоятельства и Джону станет известно о трагедии. Нужно было немедленно послать телеграмму в Сингапур. Тогда капитан Джон узнает страшную правду, прежде чем прибудет в Индию.
И все-таки мистеру Уильяму Эндрю не хотелось спешить. Что если Долли вновь обретет разум? Кто знает, может, благодаря тщательному уходу к ней вернется самообладание?.. К чему подвергать Джона двойному удару, сообщая о гибели сына и безумии жены, если она в скором времени поправится?
Переговорив с Леном и Джейн Баркер, мистер Эндрю принял решение отсрочить посылку телеграммы до того момента, когда врачи окончательно выскажутся по поводу психического состояния Долли. Разве внезапное помрачение рассудка не оставляет больше надежд на выздоровление, чем недуг, вызванный медленным расстройством ума?.. Следовало подождать несколько дней или даже недель.
Надо сказать, что жители города пребывали в подавленном настроении. Множество людей приходили к дому на Флит-стрит справиться о здоровье миссис Бреникен. Тем временем были проведены тщательные поиски тела ребенка, окончившиеся безрезультатно; по всей вероятности, оно было подхвачено течением, а затем унесено отливом. У несчастного младенца не будет даже могилы, куда приходила бы помолиться мать, если бы к ней вернулся рассудок!
Врачи констатировали, что болезнь Долли приняла характер тихого помешательства. Не было никаких нервных припадков, никакого бессознательного буйства, которое обыкновенно вынуждает изолировать больного,— Долли превратилась просто в тело без души, существо, не сохранившее ни малейших воспоминаний о постигшем ее несчастье; глаза были сухи, взгляд потух, она, казалось, ничего не видела и не слышала. Бедняжка не принадлежала больше этому миру: жизнь теперь ограничивалась для нее лишь физической стороной.
Прошел месяц, состояние миссис Бреникен не улучшилось. Встал вопрос о том, чтобы поместить ее в лечебницу. Именно такого мнения придерживался мистер Уильям Эндрю, и все бы так и было, если б не Лен Баркер.
— Теперь, когда стало ясно, что Доллино помешательство не опасно и не требует изоляции, мы просим оставить ее в нашем доме,— явившись в контору мистера Эндрю, сказал Лен.— Долли очень любила мою жену, и кто знает, может, участие Джейн принесет ей больше пользы, чем участие посторонних людей? Если припадки все же начнутся, мы примем надлежащие меры. Что вы об этом думаете, мистер Эндрю?
Почтенный судовладелец согласился, но не без некоторого колебания, поскольку мало симпатизировал Лену Баркеру, хотя в ту пору оснований сомневаться в его порядочности у мистера Эндрю не было. В конце концов Долли и Джейн связывала крепкая дружба, и так как миссис Баркер — ее единственная родственница, то очевидно, что будет лучше именно ей предоставить возможность ухаживать за Долли. Главное, чтобы несчастная женщина всегда была окружена нежной заботой, которой требует ее состояние.
— Раз уж вы хотите взять на себя заботу о Долли,— ответил мистер Эндрю,— то я не вижу никаких препятствий, мистер Баркер. Тем более что в преданности и искренней любви Джейн к своей кузине сомневаться не приходится...
— Так же, как в постоянстве этих чувств,— добавил Лен Баркер все тем же холодным, рассудочным тоном, от коего не в силах был избавиться.
— Ваши намерения похвальны,— вновь заговорил мистер Уильям Эндрю,— но будут ли условия в вашем доме на Флит-стрит, в центре оживленного торгового квартала, благоприятными для восстановления здоровья бедной Долли? Ведь ей нужен покой, свежий воздух...
— Но, может быть, тогда,— отвечал Лен Баркер,— нам с Джейн поселиться вместе с Долли в ее прежнем доме? Она привыкла к Проспект-хаус, вид хорошо знакомых вещей может помочь ей выздороветь. Там бедная женщина будет укрыта от всякого рода назойливости. Прямо за порогом начинается сельская местность... Джейн будет водить Долли на прогулки... Неужели Джон, если бы был здесь, не одобрил бы моего предложения? И что он подумает, когда, вернувшись, найдет свою жену в лечебнице, на попечении наемных людей?.. Мистер Эндрю, не нужно пренебрегать тем, что способно хоть как-то повлиять на рассудок нашей несчастной родственницы.
«Очевидно, такой ответ продиктован искренним участием,— размышлял мистер Уильям Эндрю.— Почему же слова этого человека не внушают доверия?.. Но что бы там ни было, а его предложение в сложившейся ситуации заслуживает одобрения». Мистеру Уильяму Эндрю осталось лишь поблагодарить Лена Баркера, добавив, что капитан Джон был бы ему глубоко признателен.
Двадцать седьмого апреля миссис Бреникен была перевезена в Проспект-хаус, куда вечером того же дня перебралось и семейство Баркеров. Такое решение проблемы получило всеобщее одобрение.
Можно догадаться, какой побудительный мотив руководил Леном. Вспомним, что в день катастрофы он намеревался поговорить с Долли о каком-то деле. Дело же заключалось в следующем: Баркер собирался просить у своей родственницы взаймы некоторую сумму денег. Но с той поры ситуация изменилась; не было исключено, что теперь он станет представлять интересы своей родственницы, возможно в качестве опекуна[76], и, разумеется незаконно, завладеет средствами, которые позволят ему выиграть время. У Джейн не было иллюзий по поводу намерений Лена Баркера, и, будучи счастлива тем, что может всю себя посвятить заботе о Долли, она впадала в отчаяние при мысли о планах своего супруга.
Итак, жизнь в Проспект-хаус продолжалась; Долли устроили в той комнате, которую она покинула, идя навстречу страшной беде. Несчастная женщина вернулась сюда уже не матерью, а человеком, лишенным рассудка; столь любимое ею шале, гостиная с фотографиями любимого мужа, сад, где прошли счастливые дни для них обоих,— все это не пробуждало в ней никаких воспоминаний о прежней жизни. Джейн занимала комнату рядом с комнатой кузины, а Лен поселился на первом этаже, в комнате, являвшейся кабинетом капитана Джона.
С этого дня мистер Баркер вновь занялся привычными делами. Каждое утро он шел в старый город, в свою контору на Флит-стрит. Но обращало на себя внимание то, что вечером Лен непременно возвращался в Проспект-хаус, а вскоре вообще стал отлучаться из города лишь на короткое время.
Разумеется, мулатка последовала за своим хозяином в его новое жилище, где она оставалась тем, кем была всегда и везде,— безгранично преданным Лену Баркеру существом. Кормилица маленького Уота была уволена, несмотря на то что предложила ухаживать за миссис Бреникен. Служанку же на время оставили для работы, с которой одной Но едва бы хватило сил справиться.
Кстати сказать, в том, что касалось непрестанной нежной заботы, которая требовалась Долли, Джейн была поистине незаменима. Ее дружеские чувства к кузине обрели еще большую силу, если таковая возможна, после смерти малютки, в коей она считала себя главной виновницей. Не помчись она тогда к Долли в Проспект-хаус — не возникло бы идеи нанести визит капитану Эллису на «Баундари» и ребенок был бы сейчас возле матери, утешая ее в долгие часы одиночества!.. Долли была бы здорова!
Без сомнения, Лен Баркер стремился все устроить так, чтобы те люди, которые беспокоились о положении миссис Бреникен, видели, что усилий, прилагаемых Джейн, достаточно. Мистер Уильям Эндрю даже был вынужден признать, что бедная женщина не могла оказаться в более надежных руках. Наведываясь в Проспект-хаус, он особенно приглядывался к том), не было ли в состоянии Долли тенденции к улучшению. Ему все еще хотелось надеяться, что в первой телеграмме, посланной капитану Джону в Сингапур или в Индию, не будет сообщаться о двойном несчастье: сын погиб... жена... все равно что тоже мертва! Нет! Не мог он поверить, что Долли — умная, энергичная, полная молодых сил — больна неизлечимо! Быть может, под слоем пепла тлеет огонек?.. Какая искра в один прекрасный день воспламенит его вновь?..
Однако минуло уже пять недель, но ни разу за это время проблеск разума не рассеял тьмы. Речь шла о тихом помешательстве, проявляющемся в вялом, апатичном поведении душевнобольной, не нарушаемом чрезмерным физиологическим возбуждением, и врачи, не питавшие уже ни малейшей надежды, вскоре прекратили визиты. Вслед за ними и мистер Уильям Эндрю, отчаявшись дождаться выздоровления, стал реже приходить в Проспект-хаус: ему мучительно было видеть несчастную женщину, безразличную ко всему окружающему, лишившуюся способности сознательно воспринимать действительность.
Когда Лену Баркеру приходилось по той или иной причине целый день проводить вне дома, он наказывал мулатке зорко следить за миссис Бреникен. Не пытаясь как-либо мешать действиям Джейн, мулатка почти никогда не оставляла ее один на один с Долли и подробно извещала хозяина о состоянии больной. Она умудрялась выпроваживать всех, приходивших в шале узнать, как идут дела. «Врачи не рекомендуют...— говорила она.— Нужно полное спокойствие... Эти посещения могут вызвать припадки...» И сама миссис Баркер признавала правоту Но, когда та не впускала непрошеных посетителей. Так миссис Бреникен постепенно оказывалась в изоляции.
«Бедная Долли,— размышляла Джейн,— если ее состояние ухудшится и помешательство сделается буйным, если дело дойдет до крайности, бедняжку увезут... поместят в лечебницу... Я потеряю ее!.. Нет! Бог не допустит, чтобы у меня отняли Долли. Кто станет заботиться о ней лучше, чем я?»
Шла третья неделя мая, когда Джейн решила попробовать немного погулять в окрестностях дома, полагая, что такие прогулки принесут кузине хоть немного пользы. Лен Баркер не возражал, однако при условии, что Но будет сопровождать обеих женщин. Просто из осторожности. Движение и свежий воздух могут привести Долли в волнение, вдруг она захочет убежать, а у Джейн недостанет сил ее удержать? От безумной всего можно ждать, даже греха самоубийства. Не следует навлекать новую беду...
И вот миссис Бреникен вышла из дому, опираясь на руку Джейн. Вела она себя совершенно пассивно, шла туда, куда ее вели, ни к чему не проявляя интереса.
Поначалу во время таких прогулок не случалось ничего неожиданного. Тем не менее мулатка вскоре заметила, что в поведении Долли наметилась некоторая перемена. Ее привычное спокойствие сменялось заметным возбуждением, могущим иметь пагубные последствия. Неоднократно при виде маленьких детей на улице у Долли начинался нервный припадок. Быть может, это было связано с воспоминанием о сыне, которого она потеряла? Как бы то ни было, но следствием этого, возможно даже благоприятного симптома, являлось возбуждение мозга, способное усугубить болезнь.
В один из дней миссис Баркер и мулатка повели больную на холмы Ноб-Хилл. Долли села, поворотившись лицом к океану. В голове ее, казалось, не было никаких мыслей. Внезапно бедняжка вздрогнула, в глазах появился какой-то особенный блеск, и дрожащей рукой она показала на сверкавшую в океанской дали точку.
— Там!.. Там!.. — воскликнула Долли.
Это был парус, отчетливо видневшийся на фоне неба; его светящуюся белизну подчеркивал луч солнца.
— Там!.. Там!.. - - твердила несчастная сильно изменившимся голосом, словно уже не принадлежащим человеческому существу.
Джейн со страхом глядела на кузину, мулатка недовольно трясла головой. Затем она поспешно схватила Долли за руку, повторяя:
— Идемте!.. Идемте!..
Долли ее не слышала.
— Идем, Долли, идем!.. — говорила Джейн, пытаясь увлечь кузину за собой.
Долли сопротивлялась.
— Нет!.. Нет! — вскричала она и оттолкнула мулатку с такой силой, какой в ней и не подозревали. Миссис Баркер и Но очень встревожились. Они испугались, что Долли убежит от них, что, влекомая волнующим видением, напомнившем ей о Джоне, она спустится со склонов Ноб-Хилл и устремится к воде.
Однако чрезмерное возбуждение угасло, как только солнце скрылось за тучей и парус исчез с поверхности океана. Долли вновь сделалась пассивной,— опустились руки, взгляд померк, она больше не реагировала на происходящее. Рыдания, от которых судорожно вздымалась ее грудь, прекратились. Жизнь вновь покинула это тело; Джейн взяла Долли за руку, и она, без всякого сопротивления позволив себя увести, спокойно вернулась в Проспект-хаус. С этого дня Лен Баркер решил, что миссис Бреникен не будет выходить за садовую ограду, и Джейн вынуждена была подчиниться.
Настало время, когда мистер Уильям Эндрю решился известить капитана Джона обо всем, что случилось, раз уж душевное расстройство его супруги не оставляло более надежд на выздоровление. Он отправил длинную телеграмму, но не в Сингапур, откуда «Франклин» уже должен был уйти, а в Калькутту.
У мистера Уильяма Эндрю иссякли последние надежды по поводу Долли, однако доктора считали, что перемена в ее душевном состоянии еще возможна в случае, если она испытает сильное потрясение — например, встречу с мужем. Шанс этот, правда, единственный, но каким бы малым он ни был, мистер Уильям Эндрю не пожелал им пренебречь, составляя телеграмму капитану «Франклина». Так, настоятельно призвав его не впадать в отчаяние, он предложил Джону передать командование судном своему помощнику, Гарри Фелтону, а самому как можно скорее возвращаться в Сан-Диего. Этот замечательный человек готов был пожертвовать своими личными интересами ради спасения Долли и просил молодого капитана телеграфировать ему о своих намерениях.
Лен Баркер, ознакомившись с телеграммой, которую мистер Уильям Эндрю счел нужным ему показать, одобрил ее, выразив, однако, опасение, что приезд мистера Бреникена не способен произвести гой душевной встряски, от которой можно ждать перемен к лучшему. Но Джейн всем сердцем уверовала в то, что появление Джона может вернуть рассудок Долли, и Лен Баркер пообещал написать капитану, чтобы тот не мешкая возвращался. Впрочем, обещания своего не выполнил.
В последующие недели никаких изменений в состоянии миссис Бреникен не произошло. Хотя физическая сторона ее жизни ни в малейшей степени не была нарушена и здоровье ее оставалось крепким, она заметно подурнела. Это была уже не та женщина, которой не исполнилось еще и двадцати одного года: черты лица заострились, некогда приятный цвет кожи сделался бледным, точно внутри нее погас огонь. Теперь Долли редко можно было увидеть — разве что сидящей на скамейке в саду или прогуливающейся там же вместе с Джейн, заботившейся о ней с неиссякаемой преданностью.
В начале июня минуло два с половиной месяца, как «Франклин» покинул порт Сан-Диего. После его встречи с «Баундари» о нем не было никаких известий. В это время, после захода в Сингапур, если только не случилось ничего непредвиденного, он уже должен подходить к Калькутте. Никакой особенной непогоды, могущей задержать в пути океанское парусное судно, не было отмечено ни в северной части Тихого, ни в Индийском океанах.
Тем не менее мистер Уильям Эндрю не переставал удивляться отсутствию новостей. Не находилось объяснений тому, что его представитель не дал ему знать о прибытии «Франклина» в Сингапур. Можно ли допустить, что корабль туда не заходил, если капитан Джон имел на сей счет твердые указания? Все станет известно через несколько дней, когда «Франклин» прибудет в Калькутту.
Прошла неделя. Пятнадцатого июня — все еще никаких сведений. Тогда была послана телеграмма представителю дома Эндрю с просьбой незамедлительно сообщить о Джоне Бреникене и «Франклине».
Ответ пришел через два дня,— в Калькутте о «Франклине» ничего не знали, в указанное время американской трехмачтовой шхуны в районе Бенгальского залива никто не видел.
Удивление мистера Уильяма Эндрю сменилось тревогой, а поскольку приход телеграммы невозможно удержать в тайне, по Сан-Диего поползли слухи о том, что «Франклин» не прибыл ни в Сингапур, ни в Калькутту.
Мистера Баркера не могли не встревожить эти печальные известия, хотя в его симпатию к капитану Джону всегда верилось с трудом, да и был он не из тех людей, которых огорчают несчастья других, даже если речь идет об их собственных семьях. Как бы то ни было, но с того дня, когда возникли серьезные опасения за судьбу «Франклина», Лен, казалось, помрачнел, сделался озабоченным и замкнутым даже для деловых отношений; его редко видели на улицах Сан-Диего и в конторе на Флит-стрит. Похоже, он намеренно скрывался в Проспект-хаус.
Что до Джейн, то ее бледное лицо, красные от слез глаза и удрученный вид свидетельствовали о новых тяжких испытаниях, выпавших на ее долю.
К этому времени в шале произошла перемена: без видимой причины Лен Баркер уволил служанку, которая до той поры оставалась в доме и своей работой не давала ни малейшего повода для недовольства. Мулатка осталась единственной, на кого были возложены хлопоты по хозяйству; кроме нее и Джейн, никто отныне не имел доступа к миссис Бреникен.
Мистер Уильям Эндрю, здоровье которого сильно пошатнулось под ударами злого рока, вынужден был прекратить визиты в Проспект-хаус. Да и что он мог сказать, что мог сделать, если речь шла о весьма вероятной гибели «Франклина»? Ему было известно, что после того как Долли перестала совершать прогулки, к ней вернулось спокойствие и нервные расстройства прекратились. Теперь она жила, вернее, прозябала в бессознательном состоянии и особенных забот о ее здоровье не требовалось.
В конце июня мистер Уильям Эндрю получил новую телеграмму из Калькутты. Морские средства связи не оповещали о «Франклине» ни в одном из пунктов маршрута, по которому должно было пройти судно, следуя в районе Филиппинских островов, острова Целебес и пересекая Яванское море и Индийский океан. А поскольку корабль покинул порт Сан-Диего три месяца назад, имелись основания предполагать, что он затонул вместе с экипажем и грузом, даже не доходя до Сингапура.
Глава VI НА ИСХОДЕ ПЕЧАЛЬНОГО ГОДА
В результате последовавших одна за другой катастроф, жертвами которых стали члены семьи Бреникен, изменились и жизненные обстоятельства Лена Баркера, на что необходимо обратить внимание.
Несмотря на скромное материальное положение Долли, не следует забывать, что она должна была стать единственной наследницей своего дяди, богатого Эдварда Стартера. Живший по-прежнему уединенно в своих лесных владениях, расположенных в самой труднодоступной части штата Теннесси, этот чудак не давал о себе никаких вестей. Поскольку ему едва исполнилось пятьдесят девять, ожидания наследства обещали быть долгими.
Возможно, узнав о том, что миссис Бреникен, единственная оставшаяся у него близкая родственница, после гибели ребенка впала в душевное расстройство, Стартер распорядился бы иначе. Но он не ведал о случившемся, что, впрочем, неудивительно при его упорном нежелании не только писать писем, но даже получать их. Правда, Лен Баркер мог бы и пренебречь этим запретом в силу перемен, происшедших в жизни свояченицы; Джейн дала ему понять, что долг требовал поставить Эдварда Стартера в известность, но Лен велел жене молчать и не последовал ее совету.
Ему выгодно было ничего не сообщать Эдварду Стартеру, а если приходилось выбирать между выгодой и долгом, Лен не колебался ни минуты. С каждым днем состояние его дел становилось все более тревожным, и он не желал упускать последний шанс, который давала ему судьба.
И действительно, ситуация складывалась довольно простая: если миссис Бреникен уйдет из жизни бездетной, Джейн, единственная родственница, имеющая право наследовать ей, завладеет богатством Стартера. Несомненно, после гибели маленького Уота Лен смекнул, что права супругов Баркер на наследство Доллиного дядюшки увеличились.
В самом деле, разве события не разворачивались таким образом, что огромное это богатство достанется ему? Ребенок мертв, Долли — больна душевно, и, по мнению врачей, только возвращение капитана Джона могло бы изменить ее психическое состояние.
Что же касается участи «Франклина», то если еще в течение нескольких недель о судне не будет никаких известий, станет очевидным, что ни «Франклин», ни его экипаж никогда не вернутся в Сан-Диего. И тогда на пути Лена Баркера к богатству останется одна умалишенная Долли. А на что только не пойдет этот бесчестный, оказавшийся в безвыходном положении человек, когда смерть Эдварда Стартера сделает миссис Бреникен богатой наследницей?
Однако Долли могла получить наследство, лишь пережив своего дядюшку. Лен Баркер, следовательно, был кровно заинтересован в том, чтобы несчастная женщина дожила до того дня, когда на ее голову свалится состояние Эдварда Стартера. Теперь помешать осуществлению его замыслов могли два обстоятельства — или преждевременная кончина Долли, или появление капитана Джона, в случае если он, потерпев кораблекрушение и очутившись на неведомом острове, все же сумеет вернуться домой. Но подобный поворот событий был весьма маловероятен, и в гибели «Франклина» уже можно было не сомневаться.
В таком положении оказался мистер Баркер, таким виделось ему будущее в тот момент, когда он почувствовал необходимость идти на крайние меры. Действительно, если бы в дела Лена вмешалось правосудие, мерзавцу пришлось бы отвечать за явное злоупотребление доверием, ибо часть денег, которые доверили ему неосмотрительные люди, он уже растратил, платя одним за счет средств других. Но долго так тянуться не могло. В конце концов Баркеру будут предъявлены претензии. Надвигался крах, больше чем крах,— бесчестье и, что гораздо сильнее тревожило этого человека, арест с предъявлением самых серьезных обвинений.
Миссис Баркер, без сомнения, догадывалась о неудачах своего мужа, но ей и в голову не приходило, что дело может дойти до вмешательства правосудия. Тем более что нужда еще не столь сильно ощущалась в шале Проспект-хаус. И вот по какой причине.
Став опекуном Долли, Лен Баркер получил возможность распоряжаться ее средствами. В руках этого мерзавца оказались деньги, которые капитан, уходя в плавание, оставил на ведение хозяйства. Их, впрочем, было немного, поскольку «Франклин» ушел в море всего на пять-шесть месяцев, однако имелось еще наследственное имущество, которое Долли принесла в семью при заключении брака, и, хотя этих средств насчитывалось всего несколько тысяч долларов, Лену Баркеру удалось выиграть время.
Так бесчестный человек не колеблясь злоупотребил своими правами опекуна; он присвоил себе ценные бумаги, составлявшие имущество миссис Бреникен, его подопечной и родственницы. Благодаря этим, ему не принадлежащим средствам он смог получить некоторую передышку, а затем вновь затеял сомнительные дела. Вступив на преступную дорогу, Лен Баркер, если бы потребовалось, прошел бы по ней до конца.
К тому же мысль о возвращении капитана Джона все менее страшила его. Шли недели, а дом Эндрю не получал никаких известий о «Франклине», присутствие которого не было отмечено нигде в течение шести месяцев. Миновали август и сентябрь. Ни в Калькутте, ни в Сингапуре представители торгового дома не нашли ни малейшей зацепки, которая позволила бы установить, что случилось с американской трехмачтовой шхуной. По этому поводу можно было лишь строить предположения, хотя большого расхождения во мнениях на сей счет не было, ибо, с той поры как ушел «Франклин», многие торговые суда, идущие в те же пункты назначения, неизбежно должны были двигаться тем же маршрутом. И поскольку не найдено никаких следов корабля, все сошлись на весьма вероятном предположении, что «Франклин», попав в сильнейший ураган, один из тех непреодолимых торнадо[77], которые бушуют в районе Целебесского и Яванского морей, затонул вместе с экипажем и грузом, и ни один человек не уцелел.
Пятнадцатого октября 1875 года исполнилось семь месяцев с того дня, как «Франклин» покинул Сан-Диего, и все говорило о том, что он уже никогда не вернется. В городе настолько были убеждены в таком исходе плавания, что решили объявить сбор средств в пользу несчастных семей, пострадавших от этой катастрофы. Экипаж «Франклина» набирался из жителей Сан-Диего, теперь их женам, детям, родственникам грозила нужда, и необходимо было оказать им поддержку.
Инициатором сбора средств выступил торговый дом Эндрю, сам внесший значительную сумму. Лен Баркер тоже решил участвовать в этой акции милосердия — отчасти из собственной выгоды, отчасти из осторожности. Примеру дома Эндрю последовали другие торговые дома в городе, собственники, розничные торговцы. В итоге семьям исчезнувших членов экипажа была оказана существенная помощь, что хотя бы немного облегчило последствия катастрофы.
Разумеется, мистер Уильям Эндрю считал своим долгом обеспечить миссис Бреникен, лишенной духовной жизни, по крайней мере материальное существование. Ему было известно о том, что капитан Джон, отправляясь в плавание, оставил деньги на домашние расходы из расчета шести-семи месяцев. Полагая, что средства эти должны подходить к концу, и не желая, чтобы Долли оказалась на иждивении, мистер Эндрю решил поговорить на эту тему с Леном Баркером.
Семнадцатого октября, после полудня, несмотря на то что здоровье его еще не окончательно поправилось, судовладелец ступил на дорогу, ведущую в Проспект-хаус, и, пройдя городской квартал, расположенный на возвышенности, очутился возле шале. Внешне дом не изменился, только вот жалюзи на окнах первого и второго этажей были наглухо закрыты. Создавалось впечатление, что дом необитаем, погружен в тишину, окутан тайной.
Подойдя к калитке, мистер Уильям Эндрю позвонил. Никто не вышел. Казалось, гостя не видят и звонка его не слышат. Неужели в Проспект-хаус никого нет? Мистер
Эндрю позвонил вторично, и на этот раз послышался шум открываемой боковой двери.
Появилась мулатка. Узнав посетителя, она не смогла удержаться от досадливого жеста, чего, впрочем, мистер Эндрю не заметил. Служанка тем не менее подошла к калитке, и мистер Эндрю, не дожидаясь, пока она откроет ее, заговорил через ограду:
— Миссис Бреникен дома?
— Она ушла, мистер Эндрю... - ответила Но в нерешительности, явно смешанной со страхом.
— И где же она? вновь спросил мистер Эндрю, желая войти.
— На прогулке с миссис Баркер.
— Я думал, вы отказались от прогулок, они ведь чрезмерно ее возбуждали и вызывали припадки?
— Да, конечно...— ответила Но — Однако вот уже несколько дней, как мы вновь стали выходить... Сейчас это, кажется, идет на пользу миссис Бреникен...
— Сожалею, что мне не сообщили,- сказал мистер Эндрю.— А что, мистер Баркер дома?
— Не знаю...
— Справьтесь и, если дома, скажите ему, что мне бы очень хотелось с ним поговорить.
Прежде чем мулатка ответила - возможно, ей было бы крайне затруднительно это сделать, - дверь дома отворилась и на крыльце появился Лен Баркер:
Входте, мистер Эндрю, сделайте милость,— без обычной для него холодности, несколько взволнованным голосом проговорил Лен.
Наконец мистер Уильям Эндрю, пришедший в Проспект-хаус именно для того, чтобы переговорить с мистером Баркером, вошел в калитку. Не приняв предложения пройти в гостиную на первом этаже, он сел на одну из скамеек в саду.
Лен подтвердил слова мулатки о том, что вот уже несколько дней, как миссис Бреникен возобновил\а прогулки по окрестностям, и эго оказалось весьма полезным для ее здоровья.
— Долли скоро вернется?— поинтересовался мистер Эндрю.
— Не думаю,— ответил Лен Баркер.
Мистер Уильям Эндрю был очень раздосадован этим, поскольку ему непременно нужно было вернуться в торговый дом к приходу почты. Впрочем, дождаться миссис Бреникен в шале ему не предложили.
— А вы не заметили в состоянии Долли никакого улучшения? — спросил мистер Уильям Эндрю.
— К сожалению, нет, мистер Эндрю, и боюсь, что речь тут идет о помешательстве, которое не смогут одолеть ни уход, ни время.
— Кто знает, мистер Баркер. Люди предполагают, а Бог располагает!
Лен Баркер потряс головой, как человек, едва ли согласный с тем, что Господь вмешивается в земные дела.
— Особенно печально то,— продолжал мистер Уильям Эндрю,— что мы больше не должны уповать на возвращение капитана Джона. Нужно отказаться от надежд на счастливые перемены, которые могли бы произойти в душевном состоянии бедной Долли, вернись он домой. Знаете ли вы, мистер Баркер, что мы отчаялись увидеть «Франклин»?..
— Мне об этом известно, мистер Эндрю,— и это еще одно большое несчастье вдобавок ко всем другим. Но по-моему, даже без вмешательства Провидения[78],— добавил Лен Баркер с иронией, вряд ли уместной в данную минуту,— возвращение капитана Джона вовсе не будет событием невероятным.
— Это после того, что семь месяцев о «Франклине» нет известий и мои попытки навести справки не дали никаких результатов?..
— Но где доказательства того, что «Франклин» затонул в открытом море? — возразил Лен Баркер.— Разве не мог он наскочить на рифы[79]?.. Кто знает, не укрылись ли Джон и его матросы на каком-нибудь необитаемом острове?.. А если так, то эти люди, решительные и деятельные, смогут хорошо потрудиться ради возвращения домой: они сумеют построить лодку из обломков корабля, а быть может, их сигналы заметят на судне, проходящем невдалеке от острова... Конечно, необходимо время... Нет! Я не потерял надежды на возвращение Джона. Если не через несколько недель, то через несколько месяцев; есть множество примеров того, как потерпевших кораблекрушение считали погибшими, а они возвращались в порт!
На сей раз Лен Баркер говорил бегло, что совсем ему было не свойственно. Его лицо, всегда такое непроницаемое, оживилось. Можно было подумать, что, высказываясь таким образом, приводя более или менее убедительные доводы о судьбе попавших в беду людей, он отвечал не мистеру Уильяму Эндрю, а самому себе, отвечал на собственные тревоги, на не покидающий его страх, что вдалеке покажется если не «Франклин», то какой-нибудь другой корабль, везущий капитана Джона и его команду. Это означало бы крушение всех его замыслов, всех планов на будущее.
— Да,— ответил мистер Уильям Эндрю, --- бывало, люди чудом спасались... Все, что вы тут сказали, мистер Баркер, я и сам себе говорил... Но у меня нет больше сил надеяться! Что бы там ни было — и я именно об этом пришел к вам сегодня поговорить,— мне бы очень не хотелось, чтобы Долли находилась у вас на иждивении...
— Но, мистер Эндрю...
— Нет, мистер Баркер, вы не станете возражать, чтобы жалованье капитана Джона оставалось в распоряжении его жены пожизненно...
— О, благодарю вас от ее имени,— ответил Лен.— Такое великодушие...
— Я просто исполняю свой долг,— сказал мистер Уильям Эндрю.— Полагаю, что деньги, оставленные Джоном перед отплытием, по большей части израсходованы...
— Да, это так, мистер Эндрю,— ответил Лен Баркер,— но Долли не одинока, и наш долг тоже велит нам прийти ей на помощь... Не только долг, но и любовь...
— Я знаю, что мы можем полагаться на самоотверженность миссис Баркер. И все-nаки позвольте мне в какой-то мере поучаствовать в судьбе жены капитана Джона — увы! теперь уже вдовы...— и обеспечить ей достаток и уход, который, уверен, всегда будет оказываться ей с вашей стороны в должном объеме.
- Пусть будет так, мистер Эндрю.
— Я принес то, что считаю законно причитающимся капитану Бреникену со времени отплытия «Франклина», и в качестве опекуна вы сможете ежемесячно получать жалованье в моей кассе.
— Как вам угодно...— проговорил Лен Баркер.
— Если б вы соблаговолили расписаться в получении суммы, которую я вам принес...
— Весьма охотно, мистер Эндрю.
И Лен Баркер удалился в свой кабинет, чтобы написать расписку.
Когда он вернулся в сад, мистер Уильям Эндрю, крайне сожалевший о том, что не увидел Долли и не имеет возможности дождаться ее возвращения, поблагодарил его за заботу, которую его жена и он проявляют по отношению к несчастной умалишенной. Было условлено, что Лен Баркер уведомит мистера Уильяма Эндрю о малейшей перемене в состоянии ее здоровья. Судовладелец попрощался и, когда Лен Баркер проводил его до калитки, на мгновение остановился посмотреть, не идут ли Долли и Джейн, после чего пошел вниз, в Сан-Диего.
Едва только он скрылся из виду, как Лен Баркер поспешно кликнул мулатку и спросил:
— Джейн знает о визите мистера Эндрю?
— Очень возможно, Лен.
— Если сей господин вновь забредет в Проспект-хаус, не нужно, чтобы он видел Джейн и в особенности Долли!.. Ты слышишь, Но?
— Я позабочусь об этом, Лен.
— Если же Джейн будет настаивать...
— О! Стоит тебе сказать: «Я не хочу!» — перебила его мулатка,— и Джейн не посмеет поступить наперекор твоей воле.
— Хорошо, но надо остерегаться неожиданностей!.. Встреча может произойти случайно... и тогда все пропало!
Я здесь, и тебе нечего бояться, Лен! — отвечала мулатка.— Никто не переступит порога Проспект-хаус пока... мы сами этого не пожелаем!
И действительно, в последующие два месяца дом стал еще более закрытым, чем прежде. Джейн и Долли теперь совсем не появлялись, даже в садике. Их не было видно ни под верандой, ни в неизменно затворенных окнах второго этажа. Что до мулатки, то она выходила только по хозяйству, очень ненадолго, да и то когда Лен Баркер был дома, так что Долли и Джейн никогда не оставались в шале одни. Еще можно было заметить, что в последнее время Лен Баркер очень редко приходил в свою контору на Флит-стрит. Он не появлялся там по целым неделям, как если бы путем сворачивания своих нынешних дел готовил себе новое будущее.
Так закончился год 1875-й, ставший роковым для семьи Бреникенов: Джон пропал в море, Долли лишилась рассудка, их сын утонул в водах залива Сан-Диего!
Глава VII ДОГАДКИ И СЛУЧАЙНОСТИ
В первые месяцы 1876 года о «Франклине» не пришло никаких известий. Ничто не свидетельствовало о прохождении судна через Филиппинское, Целебесское и Яванское моря. Не появлялось оно и в районах Северной Австралии. Да и можно ли допустить, что капитан Джон отважился идти через Торресов пролив? Один только раз к северу от Зондских островов, в тридцати милях от Батавии[80] федеральной шхуной был выловлен обломок форштевня и доставлен в Сан-Диего с целью определить, не является ли он останками «Франклина». Однако тщательное изучение показало, что найденный форштевень был сделан из более старого дерева, чем те материалы, которые применяли строители «Франклина».
К тому же от форштевня мог отломиться кусок лишь в том случае, если бы корабль разбился о подводные камни или если бы столкнулся в море с другим кораблем. Но поскольку об исчезновении примерно десять месяцев назад какого-либо еще судна не сообщалось, мысль о столкновении отклонили, равно как и предположение о том, что корабль был выброшен на берег, и вернулись к самому простому объяснению: «Франклин» затонул во время одного из тех торнадо, которые часто свирепствуют у берегов Малайзии[81] и которым ни одно судно не в силах противостоять.
После ухода «Франклина» прошел год, корабль был окончательно причислен к разряду затонувших или предполагаемо затонувших, в огромном количестве значащихся в истории морских катастроф.
Зима 1875—1876 годов выдалась очень суровой, даже в таком благодатном крае, как Нижняя Калифорния, где климат в основном умеренный. До конца февраля стояли жестокие холода, и никого не удивлял тот факт, что миссис Бреникен не выходит из шале — даже подышать свежим воздухом в садике возле дома.
Продлись такое затворничество подольше, люди, живущие по соседству, почувствовали бы неладное. Однако они скорее бы решили, что здоровье миссис Бреникен ухудшилось, нежели заподозрили в чем-либо Лена Баркера. Поэтому о «заточении» никто не говорил. Что до мистера Уильяма Эндрю, то он не выходил из дому большую часть зимы, горя желанием увидеть своими глазами, в каком состоянии пребывает Долли, и обещая себе отправиться в Проспект-хаус, как только будет в силах.
И вот в первых числах марта миссис Бреникен в сопровождении Джейн и мулатки возобновила прогулки по окрестностям. Некоторое время спустя, посетив шале, мистер Уильям Эндрю убедился, что здоровье молодой женщины не внушает беспокойства. Ее физическое состояние было, насколько это возможно, удовлетворительным. Правда, в плане духовном никаких изменений к лучшему не произошло: бессознательность, потеря памяти, слабоумие — таковы по-прежнему были характерные черты ее недуга. Даже во время прогулок, которые могли ей о чем-то напомнить, даже встречая на своем пути детей, даже обращая взгляд в океан с виднеющимися вдали парусниками, миссис Бреникен не испытывала больше того волнения, которое с такой силой охватывало ее прежде. Несчастная не пыталась пуститься в бегство, и теперь, чтобы справиться с ней, достаточно было одной только Джейн. Исчезли малейшие намеки на сопротивление, осталось полнейшее смирение, помноженное на еще большую безучастность. Когда мистер Уильям Эндрю после долгого отсутствия вновь увидел Долли, он окончательно убедился в том, что бедная женщина больна неизлечимо.
А тем временем положение мистера Баркера становилось все более зыбким. Доверенного ему имущества миссис Бреникен, в которое он запустил руку, не хватило, чтобы засыпать яму, возникшую у него под ногами. Деньги таяли, и, стало быть, борьба, которую Лен вел с таким упорством, близилась к концу. Еще несколько месяцев, а может, и недель,— и ему будет грозить судебное преследование. Уберечь себя от наказания он сможет, только если покинет Сан-Диего.
Одно-единственное событие могло бы спасти Лена Баркера, но не похоже было, что оно произойдет, по крайней мере в нужное время. В самом деле, если миссис Бреникен всего лишь оставалась в живых, то ее дядя Эдвард Стартер продолжал жить, и жить прекрасно. Со множеством предосторожностей, дабы не выдать себя, Лену Баркеру удалось навести справки об этом янки, уединившемся на своих землях в Теннесси.
Жизнь Эдварда Стартера, человека крепкого и сильного, едва достигшего шестидесятилетия и находящегося в расцвете духовных и физических сил, протекала среди прерий[82] и лесов. Энергию свою он тратил частично на охоте в богатой дичью местности, частично на рыбной ловле в ее многочисленных водоемах, носился пешком или на лошади из конца в конец своих владений, которыми управлял без посторонней помощи. Решительно, это был один из тех крепких североамериканских фермеров, которые умирают столетними стариками и при этом не удосуживаются даже объяснить, с какой это стати они пожелали умереть.
Стало быть, в ближайшем будущем рассчитывать на наследство не приходилось, напротив, все шло к тому, что дядюшка переживет свою племянницу. Планы Лена рушились, и его ждала неминуемая катастрофа.
Прошло два месяца, в течение которых положение Баркера только ухудшилось. Тревожные слухи ходили о нем в Сан-Диего и за пределами города. В его адрес посыпались угрозы со стороны тех, кто отчаялся чего-либо от него добиться. Впервые узнав о происходящем, мистер Уильям Эндрю, весьма обеспокоенный тем, соблюдаются ли интересы миссис Бреникен, принял решение обязать ее опекуна представить ему отчет. В случае надобности опека над Долли могла быть передана иному лицу, более заслуживающему доверия, несмотря на то что Джейн Баркер, глубоко преданную своей кузине, упрекнуть было не в чем.
Итак, к тому времени две трети средств миссис Бреникен было растрачено и от этого состояния у Лена Баркера оставалось лишь полторы тысячи долларов.
Среди претензий, которые сыпались на него со всех сторон, полторы тысячи долларов были словно капля в заливе Сан-Диего! Однако того, чего было недостаточно для выполнения своих обязательств, еще должно было хватить, вознамерься он бежать, дабы скрыться от преследований. И время для такого шага настало.
Действительно, на Лена Баркера не замедлили поступать жалобы: его обвиняли в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Вскоре был выдан ордер на его арест. Но, когда полицейские прибыли в контору на Флит-стрит, выяснилось, что он там не появлялся с минувшего дня.
Полицейские тотчас отправились в Проспект-хаус... Лен Баркер покинул шале среди ночи. Его жена, хотела она того или нет, вынуждена была последовать за ним. С миссис Бреникен осталась одна мулатка.
В Сан-Диего, а потом в Сан-Франциско и по всему штату Калифорния был объявлен розыск беглеца, не давший никаких результатов.
Как только по городу распространилось известие об исчезновении Лена Баркера, буря негодования поднялась против бесчестного дельца, дефицит[83] которого, как вскоре выяснилось, составил значительную сумму.
В тот день, семнадцатого мая, мистер Уильям Эндрю, придя ранним утром в Проспект-хаус, удостоверился, что от ценностей, принадлежащих миссис Бреникен, ничего не осталось. Долли была совершенно без средств. Ее вероломный опекун не оставил денег даже на первоочередные нужды.
Мистер Уильям Эндрю тотчас нашел единственное решение, которое можно было принять в сложившейся ситуации: поместить миссис Бреникен в лечебницу, где ее жизнь будет обеспечена, и уволить Но, к которой он не питал никакого доверия.
Итак, надежды Лена Баркера на то, что мулатка останется возле Долли и будет сообщать ему о состоянии ее здоровья и материальном положении, не осуществилась,— Но, от которой потребовали покинуть Проспект-хаус, уехала в тот же день. Полиция, решив, что она, без сомнения, попытается присоединиться к супругам Баркер, следила за ней в течение некоторого времени. Однако этой женщине, очень подозрительной и хитрой, удалось скрыться, сбив полицию со следа.
Теперь шале Проспект-хаус, где Джон и Долли жили так счастливо, где они столько мечтали о будущем своего сына, стояло покинутым. Мистер Уильям Эндрю отвез миссис Бреникен в лечебницу прежде уже лечившего ее доктора Брамли.
Быть может, эта перемена повлияет на психическое состояние несчастной? Увы, надежды оказались напрасными. Долли осталась такой же, какой была в Проспект-хаус. Единственное, что стоит отметить,— это некоторое оживление врожденного инстинкта в ее потерпевшем крушение разуме. Иногда она шептала какую-то детскую песенку, точно хотела убаюкать ребенка. Но имя маленького Уота никогда не слетало с ее губ.
В течение 1876 года о Джоне Бреникене не приходило никаких известий. Те немногие, кто еще верил в то, что, даже если «Франклин» затонул, его капитан и экипаж вернутся домой, невольно разуверились: надежда не может бесконечно противостоять разрушительному действию времени. Шанс вновь увидеть потерпевших кораблекрушение, слабеющий день ото дня, и вовсе свелся к нулю, когда с окончанием 1877 года исполнилось более полутора лет, в течение которых так ничего и не узнали об исчезнувшем судне.
То же самое можно было сказать и о супругах Баркер. Поиски их оставались безрезультатными, никто не знал, в каких краях и под какими именами они скрылись.
По правде говоря, у Лена Баркера были основания сетовать на невезение, выразившееся в том, что ему не удалось продержаться в конторе на Флит-стрит. Действительно, спустя два года после его исчезновения риск, на котором он строил свои планы, оправдался, и теперь можно было сказать, что его корабль затонул прямо в порту!
В середине июня 1878 года мистер Уильям Эндрю получил письмо, адресованное Долли Бреникен. В этом письме ее уведомляли о внезапной кончине Эдварда Стартера. Янки погиб в результате несчастного случая. Пуля, выпущенная одним из его компаньонов по охоте, рикошетом[84] поразила его в самое сердце, вследствие чего он скончался на месте.
При вскрытии его завещания стало известно, что все свое состояние он завещал племяннице, Долли Стартер, супруге капитана Бреникена. Положение, в котором теперь пребывала его наследница, не могло изменить его намерений, поскольку он не знал ни того, что Долли лишилась рассудка, ни того, что капитан Джон исчез; ни одно из этих известий так и не достигло глубинки штата Теннесси, той дикой и труднодоступной местности, где находились владения Эдварда Стартера и куда, согласно его воле, не проникали ни письма, ни газеты.
В фермах, лесах, стадах, разного рода производствах состояние завещателя оценивалось в два миллиона долларов. Вот такое наследство свалилось на голову племянницы Эдварда Стартера после его гибели. С какой радостью жители Сан-Диего встретили бы известие о том, что семья Бреникен разбогатела, если бы Долли была в здравом рассудке и оставалась женой и матерью, если бы Джон был дома и мог вместе с ней владеть этим богатством! А какое применение нашла бы ему эта милосердная женщина! Скольким бы несчастным помогла! Но нет! Доходы с этого состояния будут накапливаться, никому не принося пользы. Знал ли Лен Баркер, находясь в своем тайном убежище, о смерти Эдварда Стартера и об оставленном им огромном наследстве,— сказать было невозможно.
Мистер Уильям Эндрю, теперешний распорядитель имуществом Долли, принял решение продать земли, фермы, леса и луга в Теннесси, которыми было бы трудно управлять на столь дальнем расстоянии. Сыскалось немало покупателей, и продажи осуществились на очень выгодных условиях. Вырученные суммы, обращенные в наиболее ценные бумаги и присовокупленные к тем, что составляли значительную долю наследства Эдварда Стартера, были помещены в «Консоли-дейтед Нэшнл Бэнк» в Сан-Диего. На содержание миссис Бреникен в лечебнице доктора Брамли должна была пойти лишь очень небольшая часть ежегодных доходов, которые, накапливаясь, в конце концов образовали бы одно из самых крупных состояний в Нижней Калифории.
Кстати, несмотря на перемену обстоятельств, речь вовсе не шла о том, чтобы забрать миссис Бреникен из лечебницы. Мистер Уильям Эндрю не считал такой шаг необходимым. Лечебница предоставляла ей комфортные условия жизни и такой уход, какой только можно было пожелать. Итак, Долли оставалась в лечебнице, где, несомненно, и закончится ее несчастное, бесполезное существование, которому, казалось, будущее предоставляло столько шансов быть счастливым!
Время шло, но жители Сан-Диего не забывали об испытаниях, выпавших на долю семьи Бреникен, и их симпатия к Долли оставалась такой же искренней, как и прежде.
Начался 1879 год, и все те, кто полагал, что он пройдет, как другие, никак не изменив сложившегося положения, оказались совершенно не правы, ибо в первые месяцы нового года доктор Брамли и его коллеги-врачи были изумлены переменами в душевном состоянии миссис Бреникен; то удручающее спокойствие, та неизменная безучастность, которая наблюдалась в ней ко всем явлениям материальной жизни, постепенно сменились характерным возбуждением. Но это были отнюдь не припадки с последующей реакцией, во время которой разум еще более слабел. Нет! Складывалось впечатление, что Долли испытывала потребность вернуться к интеллектуальной жизни, что душа несчастной стремилась освободиться от пут, мешавших ей влиться в окружающий мир: дети, с которыми ее знакомили, вызывали у нее почти улыбку.
Помнится, в Проспект-хаус в течение первого периода Доллиной болезни случались некие проблески чувства, правда исчезавшие во время припадка. Теперь же, напротив, эти ощущения имели тенденцию сохраняться. Долли походила на человека, задающего себе вопросы и старающегося отыскать ответы на них в глубине своей памяти. Значило ли это, что миссис Бреникен вновь обрела разум? Шла ли в ней восстановительная работа? Вернется ли она к полноценной духовной жизни?.. Увы! Теперь, когда у нее не было ни сына, ни мужа, стоило ли желать выздоровления, от которого бедная женщина сделается лишь еще более несчастной!
Как бы то ни было, а врачи увидели возможность добиться положительного результата. И для того чтобы подвергнуть разум и сердце миссис Бреникен длительным спасительным встряскам, делалось все возможное. Сочли даже уместным увезти ее из лечебницы доктора Брамли и, вернув в Проспект-хаус, снова поселить в той комнате, где она жила прежде.
Долли, несомненно, осознала происшедшую с ней перемену и, казалось, с интересом восприняла эти новые для нее условия.
С первыми весенними днями — а уже наступил апрель — возобновились прогулки по окрестностям. Миссис Бреникен неоднократно водили на песчаные берега мыса Айленд. Она провожала взглядом идущие вдалеке корабли, и рука ее тянулась к горизонту. Но больше она не пыталась, как некогда, убежать — на сей раз от доктора Брамли, который сопровождал свою подопечную. Ее отнюдь не приводили в смятение рокочущие волны, покрывающие своими брызгами берег. Можно ли предположить, что теперь воображение влекло Долли на путь, по которому следовал «Франклин», покидая порт Сан-Диего, когда его поднятые паруса исчезали за гребнями скалы?.. Да... возможно! А однажды ее губы отчетливо прошептали имя: «Джон!»...
Было очевидно, что в болезни миссис Бреникен наступил такой период, когда нужно было пристально следить за ее развитием. Мало-помалу привыкая к жизни в шале, миссис Бреникен узнавала те или иные вещи, которые были ей дороги. Память возвращалась к ней в обстановке, бывшей для нее столь долгое время родной. С каждым днем она все пристальнее вглядывалась в портрет капитана Джона, и пока еще безотчетная слеза порой катилась по ее щеке.
О, если бы не было уверенности в том, что «Франклин» погиб, если бы Джон должен был вот-вот вернуться, если бы он вдруг появился, Долли, возможно, вновь бы обрела разум! Но на возвращение рассчитывать не приходилось...
И тогда доктор Брамли решил подвергнуть бедную женщину опасному испытанию; он хотел действовать прежде, чем наблюдаемое улучшение станет сходить на нет, прежде чем больная снова впадет в безразличие, которое было характерно для ее недуга в течение четырех лет. Раз душа Долли еще трепетала, нужно было заставить ее содрогаться, пусть даже она разлетится при этом вдребезги! Да! Пусть будет что будет, только не дать миссис Бреникен вернуться в небытие, сравнимое со смертью!
Мистер Уильям Эндрю, придерживающийся такого же мнения, одобрил идею доктора Брамли. И вот в один прекрасный день, двадцать седьмого мая, доктор и мистер Эндрю явились за Долли в Проспект-хаус. Экипаж, ждавший у калитки, провез их по улицам Сан-Диего до портовых пристаней и остановился у той, где пассажиры садились на паровой катер, идущий к мысу Лома.
Брамли намеревался не воссоздавать сцену катастрофы, а поместить свою пациентку в ту обстановку, которая окружала ее в тот момент, когда у нее столь внезапно помутился рассудок.
Необычайный блеск появился в глазах Долли, когда она очутилась в порту. Она как-то по-особенному оживилась, точно все в ней разом пришло в волнение... Доктор и мистер Эндрю подвели несчастную к катеру, и едва она ступила на палубу, как они еще более удивились ее поведению: неожиданно Долли пошла и снова села на то же место, в углу банки, справа по борту, на котором сидела в тот роковой день. Потом она стала смотреть вдаль, в сторону мыса Лома, точно искала стоящий на якоре «Баундари».
Пассажиры катера узнали миссис Бреникен, и, когда мистер Уильям Эндрю предупредил их о том, что здесь должно произойти, всех охватило сильное беспокойство. Неужели им предстоит стать свидетелями воскрешения... нет, не тела, но души?!
Разумеется, были приняты все меры предосторожности, с тем чтобы в припадке безумия Долли не смогла выброситься за борт. Катер уже прошел полмили, Долли по-прежнему глядела в сторону мыса Лома, однако вскоре она увидела торговое судно, которое с поднятыми парусами появилось на входе в бухту, намереваясь занять свое место в карантине. Долли изменилась в липе... Она поднялась, не отрывая взора от корабля...
Это был не «Франклин», миссис Бреникен вовсе не ошиблась.
Джон!.. Мой Джон!.. Ты тоже скоро вернешься... И я буду встречать тебя здесь! — встряхнув головой, сказала Долли, и вдруг, пронзительно вскрикнув, она обернулась к мистеру Уильяму Эндрю.— Мистер Эндрю... вы... И он... мой маленький Уот... мой ребенок... мой бедный ребенок!.. Там... там... я помню!.. Помню!..
Заливаясь слезами, бедняжка рухнула на колени.
Глава VIII ТРУДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
То, что к миссис Бреникен вернулся рассудок, было сродни чуду. Раз уж она выдержала воспоминание об этой катастрофе, раз уж эта вспышка памяти не сразила ее, можно ли, а точнее, должно ли было надеяться, что болезнь прошла окончательно? Не сломится ли Доллин разум вторично, когда она узнает, что никогда не увидит капитана Джона, ибо вот уже четыре года о «Франклине» нет известий и его следует считать затонувшим вместе с экипажем и грузом?..
Долли, пережившую столь сильное волнение, немедленно доставили в Проспект-хаус. Ни мистер Уильям Эндрю, ни доктор Брамли не пожелали покидать больную, поскольку вследствие тяжкого потрясения у нее поднялась высокая температура. Несколько дней она даже бредила, что крайне встревожило врачей. Сколько же мер предосторожности нужно будет принять, когда настанет время сообщить ей обо всех несчастьях!
Когда миссис Бреникен впервые спросила, сколько времени она была лишена рассудка, доктор Брамли, готовый к такому вопросу, ответил:
— Два месяца.
— Два месяца... всего-то! — прошептала Долли. Ей казалось, что с тех пор прошла вечность.— Два месяца! — повторила она.— Джон еще не может вернуться, ведь прошло только два месяца... А знает ли он, что наш бедный малыш?..
— Мистер Эндрю написал...— не колеблясь ответил доктор Брамли.
— А о «Франклине» получены известия?
— Капитан Джон должен был написать из Сингапура, но письма еще не могли дойти. Тем не менее, основываясь на сообщениях морских средств связи, можно полагать, что «Франклин» скоро прибудет в Индию. Телеграммы ожидаются в ближайшее время.
Потом Долли спросила, почему с ней рядом нет Джейн
Баркер, и доктор ответил, что мистер и миссис Баркер находятся в отъезде и о дне возвращения не сообщили.
Рассказать миссис Бреникен о катастрофе «Франклина» предстояло мистеру Уильяму Эндрю. Однако было условлено, что он заговорит с ней об этом лишь тогда, когда ее разум достаточно окрепнет. Вопроса о наследстве, полученном после смерти мистера Эдварда Стартера, тоже пока не касались. Миссис Бреникен довольно скоро должна будет узнать, что все это богатство теперь принадлежит ей одной, поскольку Джона уже нет в живых...
В течение двух следующих недель миссис Бреникен не имела никакого сообщения с внешним миром. К ней приходили только мистер Уильям Эндрю и доктор Брамли. Температура, поначалу очень высокая, начала спадать.
Отчасти ради восстановления здоровья, отчасти для того, чтобы избежать слишком конкретных вопросов, доктор предписал больной полное молчание. В ее присутствии избегали даже самых незначительных намеков на прошлое,— не дай Бог Долли поймет, что, с тех пор как ушел в море Джон и погиб Уот, прошло четыре года. Еще некоторое время было важно, чтобы год 1879-й она считала годом 1875-м.
Кстати, миссис Бреникен горела совершенно естественным желанием, скорее даже нетерпением, получить письмо от мужа. Она рассчитывала, что «Франклин» если уже не прибыл, то вот-вот прибудет в Калькутту, о чем дом Эндрю должен быть незамедлительно уведомлен телеграммой... И трансокеанский рейсовый корабль не задержится с доставкой почты... А потом, как только сможет, Долли сама напишет Джону... Увы! Какие печальные известия будут содержаться в этом письме — нервом, которое она пошлет ему со дня их женитьбы!..
Теперь, возвращаясь к прошлому, Долли винила себя в гибели сына. В ее памяти всплыл тот роковой день, тридцать первое марта... Если б Уот остался дома, он был бы сейчас жив!.. Зачем она взяла его с собой на «Баундари»? Почему отказалась от предложения капитана Эллиса остаться на борту до подхода судна к причалу Сан-Диего? И потом, почему она, поддавшись какому-то безотчетному порыву, выхватила ребенка из рук кормилицы в тот момент, когда катер резко сманеврировал, чтобы избежать столкновения?! Они упали за борт. И ей недостало сил удержать сына... Бедный ребенок, бедный малютка Уот, у нею даже нет могилки, куда мать могла бы прийти его оплакивать!
Картины прошлого, слишком живо рисующиеся в Доллиной памяти, неоднократно провоцировали высокую температуру, сопровождавшуюся сильным бредом, который повергал доктора Брамли в необычайную тревогу. К счастью, эти приступы стихали, отступали и наконец прошли совсем: психическое состояние миссис Бреникен больше не вызывало опасений. Близился момент, когда мистер Уильям Эндрю сможет рассказать своей подопечной обо всем.
Как только Долли явно стала поправляться, ей было позволено вставать с постели; выздоравливающую устраивали в шезлонге[85] перед окном ее комнаты, откуда взгляд охватывал бухту Сан-Диего и мог устремиться дальше, за мыс Лома, до самого горизонта. Там она просиживала неподвижно долгие часы. Потом Долли захотела написать Джону; ей необходимо было рассказать мужу об их ребенке, о том, что отец больше никогда не увидит своего Уота... И она излила свое горе в письме, которого Джону не суждено было получить.
Мистер Уильям Эндрю взял это письмо, пообещав отправить вместе со своей корреспонденцией в Индию, после чего миссис Бреникен, вновь обретя некоторое спокойствие, стала жить одной надеждой: прямым или косвенным путем получить известия о «Франклине».
Однако долго так продолжаться не могло. Было очевидно, что Долли рано или поздно узнает правду, которую от нее скрывали, возможно, из излишней осторожности. Чем больше она будет думать о том, что скоро получит от Джона письмо и что каждый прожитый день приближает его возвращение, тем убийственнее будет удар!
Такой совершенно неоспоримый вывод был сделан после беседы миссис Бреникен с мистером Уильямом Эндрю девятнадцатого июня. В этот день Долли впервые спустилась в садик, и мистер Уильям Эндрю увидел ее там сидящей на скамейке возле крыльца. Он сел рядом и, взяв ее руки в свои, с нежностью пожал их; на этом, последнем, этапе выздоровления миссис Бреникен уже чувствовала в себе силы; к ней вернулся прежний теплый цвет лица, хотя глаза ее неизменно были влажны от слез.
— Я вижу, вы быстро поправляетесь, моя дорогая Долли,— заговорил мистер Уильям Эндрю.— Вам явно лучше!
— Это правда, мистер Эндрю,— отвечала Долли,— но, кажется, я здорово постарела за эти два месяца!.. Мой бедный Джон, когда вернется, найдет меня такой изменившейся!.. И потом, я ведь... кроме меня, никого нет...
— Мужайтесь, моя дорогая Долли, мужайтесь! Я запрещаю вам падать духом. Теперь я ваш отец... да, ваш отец! Вы должны меня слушаться!
— Дорогой мистер Эндрю!
— Вот и отлично!
— Письмо, которое я написала Джону, ведь отправлено, да?..— спросила Долли.
— Конечно... и нужно терпеливо ждать ответа! Почта из Индии, бывает, здорово запаздывает!.. Ну вот, опять слезы!.. Прошу вас, больше не нужно плакать!..
— Как я могу не плакать, мистер Эндрю, когда думаю... Разве не я виной... я...
— Нет, бедная мамочка, нет! Господь обрушил на вас жестокий удар... Но он пожелал, чтобы всякому горю был конец!
— Господь!..— прошептала миссис Бреникен.— Господь вернет мне моего Джона!
— Долли, милая, у вас сегодня был доктор? — спросил мистер Уильям Эндрю.
— Да, и он счел, что со здоровьем у меня теперь лучше!.. Силы возвращаются ко мне, я скоро смогу выходить...
— Но не ранее, чем он вам разрешит, Долли!
— Хорошо, мистер Эндрю. Обещаю быть благоразумной.
— Я полагаюсь на вас.
— Вы еще ничего не получили касательно «Франклина», мистер Эндрю?
— Нет, и это меня не удивляет!.. Порой кораблям требуется немало времени, чтобы добраться до Индии...
— Но Джон мог бы написать из Сингапура. Разве он не заходил туда?
— Должен был заходить, Долли!.. Но достаточно было ему опоздать к рейсовому судну на несколько часов, чтобы его письма шли с задержкой в две недели.
— Так, значит... вы совсем не удивлены, что Джон до сих пор не прислал письма?..
— Нисколько не удивлен...— ответил мистер Уильям Эндрю, чувствуя, что разговор становится все более тягостным.
— А в морских газетах о «Франклине» не упоминалось? — спросила Долли.
— Нет... с тех пор как он встретился с «Баундари»... Прошло примерно...
— Да... около двух месяцев... И зачем только эта встреча состоялась!.. Не будь ее, я бы не отправилась на «Баундари» и мой ребенок...— Лицо миссис Бреникен исказилось, из глаз полились слезы.
Долли, моя дорогая Долли, не плачьте, прошу вас, не плачьте! — повторял мистер Уильям Эндрю.
— Ах, мистер Эндрю! Меня иногда охватывает предчувствие... Это необъяснимо... Мне кажется, что новая беда... Я беспокоюсь за Джона!
— Не нужно беспокоиться, Долли! Для беспокойства нет никаких оснований.
— Мистер Эндрю, вы не могли бы прислать мне каких-нибудь газет, где есть морские сообщения? — попросила миссис Бреникен.
— Конечно, моя дорогая Долли, я вам пришлю. Впрочем, если бы было что-то известно относительно «Франклина», либо его встретили в море, либо сообщалось о его скором прибытии в Индию, я бы первый узнал об этом и тотчас же...
Однако следовало направить разговор по иному руслу. Миссис Бреникен в конце концов заметила бы и нерешительность, с какой отвечал ей мистер Уильям Эндрю, и то, что он отводил взгляд, когда она задавала вопросы напрямую. Почтенный судовладелец собрался было рассказать о смерти
Эдварда Стартера и о крупном состоянии, которое досталось в наследство его племяннице, как вдруг Долли спросила:
— Джейн Баркер с мужем в отъезде, как мне сказали? И давно они уехали из Сан-Диего?
— Нет... Недели две или три назад...
— А скоро вернутся?..
— Не знаю...- - ответил мистер Уильям Эндрю.— Мы не получали от них вестей...
— Так, значит, неизвестно, куда они отправились?
— Неизвестно, моя дорогая Долли. Лен Баркер вел весьма рискованные дела... Ему могло понадобиться ехать далеко... очень далеко...
— А Джейн?
— Миссис Баркер должна была следовать за мужем... Но я не могу сказать, что произошло...
— Бедная Джейн! - с грустью проговорила миссис Бреникен.— Я горячо люблю ее и была бы счастлива встретиться с нею вновь. Это ведь единственная родственница, которая у меня осталась! Она и не думала об Эдварде Стартере и о родственных узах, которые их связывали.— Почему же Джейн мне ни разу не написала? — спросила миссис Бреникен.
— Дорогая Долли, вы уже были очень больны, когда мистер Баркер и его жена покинули Сан-Диего.
— И то правда, мистер Эндрю, зачем писать тому, кто более не способен понимать!.. Дорогая Джейн, мне жаль ее! Ей, наверно, тяжко приходится в жизни. Я всегда боялась, как бы Лен Баркер не пустился в какую-нибудь махинацию, которая плохо кончится!.. Может, и Джон этого боялся!
— И все-таки никто не ожидал столь плачевной развязки...— ответил мистер Уильям Эндрю.
Она устремила взгляд на судовладельца, явно попавшего в неловкое положение.
— Говорите, мистер Эндрю!..—- настаивала Долли.— Не скрывайте от меня ничего! Я очень хочу все знать!
— Хорошо, Долли, я отнюдь не намерен скрывать неприятности, о которых вы и так скоро узнаете!.. Да! В последнее время положение Лена Баркера ухудшилось. Он не смог
выполнить своих обязательств. Посыпались претензии. Ему угрожал арест, и он вынужден был пуститься в бегство.
— И Джейн последовала за ним?
— Он, несомненно, вынудил ее к этому, ведь она, сами знаете, рядом с ним становится безвольной...
— Бедная Джейн! Бедная Джейн! — прошептала миссис Бреникен.— Как мне жаль ее, ах, если б я могла прийти ей на помощь!..
— Вы могли бы! — сказал мистер Уильям Эндрю.— Да... вы могли бы спасти Лена Баркера, если не ради него самого, который не заслуживает ни малейшего сочувствия, то по крайней мере ради его жены...
— И Джон одобрил бы то, как я распорядилась бы нашим скромным состоянием!
Мистер Уильям Эндрю поостерегся ответить, что наследственное имущество миссис Бреникен Лен Баркер промотал. Это означало бы признаться, что он был ее опекуном, и Долли, возможно, спросила бы, как за такое короткое время — всего лишь два месяца — могло произойти столько событий.
Поэтому мистер Уильям Эндрю ограничился таким ответом:
— Не говорите больше о вашем скромном материальном положении, моя дорогая Долли... Теперь оно круто изменилось!
— Что вы хотите сказать, мистер Эндрю? — спросила миссис Бреникен.
— Я хочу сказать, что вы богаты, необычайно богаты!
— Я?
— Ваш дядя Эдвард Стартер скончался...
— Скончался?.. Он скончался!.. Но когда же?
— Он...
Мистер Уильям Эндрю чуть было не проговорился, назвав точную дату смерти Эдварда Стартера, случившейся два года назад.
Но Долли была целиком поглощена мыслью о том, что после смерти дяди и исчезновения кузины она осталась совсем без родни. Узнав, что благодаря своему родственнику, которого она едва знала и от которого они с Джоном ждали наследства в довольно отдаленном будущем, ее состояние достигло двух миллионов долларов, она усмотрела в этом лишь благоприятную возможность сделать добро.
— Да, мистер Эндрю,— сказала Долли,— я помогу несчастной Джейн! Я спасу ее от разорения и позора!.. Где она?.. Где она может находиться?.. Что с нею будет?..
Мистеру Уильяму Эндрю пришлось повторить, что предпринятые поиски Лена Баркера не дали никаких результатов. Укрылся ли он в каком-нибудь отдаленном уголке Соединенных Штатов или же вовсе покинул Америку — ответа на этот вопрос не было.
— Тем не менее, если прошло всего несколько недель, как он и Джейн исчезли из Сан-Диего, возможно, все еще прояснится...— заметила миссис Бреникен.
— Да... несколько недель! — - поспешил ответить мистер Уильям Эндрю.
А миссис Бреникен в этот момент думала только о том, что благодаря наследству Эдварда Стартера Джону больше не нужно будет уходить в море, что больше он ее не покинет, что это плавание на «Франклине», принадлежащем дому Эндрю, будет последним путешествием, которое он совершит...
— Дорогой мистер Эндрю! — воскликнула Долли. — Вот Джон возвратится и больше уже никогда не уйдет в плавание! Он пожертвует своей любовью к морю ради меня! Мы будем вместе... всегда вместе! Больше ничто нас не разлучит!
При мысли, что счастье это будет разбито одним-единст-венным словом — словом, которое вскоре нужно будет произнести,— мистер Уильям Эндрю почувствовал, что теряет власть над собой. Он поспешил закончить разговор, но, прежде чем уйти, взял с миссис Бреникен обещание не совершать опрометчивых поступков, не выходить из дому до тех пор, пока доктор не даст ей на то разрешение. Со своей стороны мистер Эндрю повторил, что если получит прямым или косвенным путем какие-либо сведения о «Франклине», то немедленно даст знать об этом в Проспект-хаус.
Когда мистер Уильям Эндрю передал свой разговор с Долли доктору, тот высказал опасение, как бы кто-нибудь другой не раскрыл миссис Бреникен всей правды: лучше было бы, чтобы она узнала об истинном положении вещей от мистера Уильяма Эндрю или от него, доктора Брамли.
Мистер Эндрю и доктор Брамли решили, что через неделю, когда уже не будет убедительной причины запрещать миссис Бреникен покидать шале, она узнает обо всем. «И дай Бог ей сил вынести это испытание!» — заключил мистер Уильям Эндрю.
Всю последнюю неделю июня жизнь миссис Бреникен в Проспект-хаус шла своим чередом. Благодаря хорошему уходу Долли окрепла физически, равно как и морально. Мистер Эндрю чувствовал себя все в большем затруднении, когда она забрасывала его вопросами, на которые нельзя было отвечать. Двадцать третьего числа пополудни он явился к ней, чтобы вручить крупную сумму денег и дать отчет о ее состоянии, которое в виде ценных бумаг было помещено в «Кон-солидейтед Нэшнл Бэнк» в Сан-Диего.
В тот день миссис Бреникен весьма равнодушно отнеслась к тому, о чем толковал ей мистер Уильям Эндрю. Долли слушала его вполуха. Она могла говорить только о Джоне и думать только о нем: «Что? По-прежнему ни одного письма?!» Это тревожило ее до крайности! Как могло быть, что дом Эндрю не получил даже телеграммы о прибытии «Франклина» в Индию?
Судовладелец попытался успокоить Долли, сказав, что недавно отправил телеграммы в Калькутту и со дня на день получит ответ. В общем, хотя ему и удалось несколько отвлечь ее мысли, Долли все же вызвала его на разговор, особенно его смутивший.
— Мистер Эндрю, есть один человек, о котором я с вами еще не говорила... Тот самый, что спас меня и не смог спасти моего бедного мальчика... Тот моряк...
— Тот моряк? — переспросил мистер Уильям Эндрю, явно растерявшись.
— Да... тот храбрый человек... которому я обязана жизнью... Его вознаградили?..
— Конечно, Долли.
— А он сейчас в Сан-Диего, мистер Эндрю?..
— Нет, милая моя Долли... Я слышал, что он опять ушел в море...
И это было правдой; оставив работу в бухте, Доллин спаситель много раз участвовал в торговых кампаниях и теперь снова находился в плавании.
— Но можете ли вы мне сказать хотя бы, как его зовут?
— Его зовут Зак Френ.
— Зак Френ?.. Хорошо!.. Благодарю вас, мистер Эндрю! — ответила Долли.
Больше она не расспрашивала о моряке. Но с этого дня Зак Френ не выходил у нее из головы,— отныне в ее памяти он неразрывно связался с катастрофой, происшедшей в бухте Сан-Диего. Когда будет можно, Долли разыщет этого Зака Френа, который, как предполагала она, только несколько недель назад ушел в море; вероятно, он нанялся на судно, приписанное к порту Сан-Диего... Оно вернется через полгода-год, и тогда (конечно, «Франклин» придет раньше) Джон согласится с ее намерением отблагодарить Зака Френа... Да! Джон скоро приведет домой «Франклин», сложит с себя обязанности капитана, и они больше никогда не разлучатся друг с другом!.. «И зачем понадобилось, чтобы в этот день наши поцелуи были с горьким привкусом слез!» — думала Долли.
Глава IX ОТКРЫТИЯ
Надо сказать, что мистер Уильям Эндрю одновременно желал и страшился того разговора с миссис Бреникен, во время которого она должна будет узнать о безвозвратном исчезновении «Франклина», гибели его команды и капитана — гибели, в которой уже никто в Сан-Диего не сомневался. Выдержит ли ее однажды уже пошатнувшийся разум этот новый удар? Хотя с отплытия Джона прошло четыре года, известие воспримется ею так, словно он умер только вчера! Время, миновавшее с той поры и вылечившее столько людского горя, направило свой целительный бег мимо нее!
Пока миссис Бреникен будет оставаться в Проспект-хаус, можно надеяться, что никакой бестактности в отношении нее не будет допущено. Мистер Уильям Эндрю и доктор Брамли из осторожности воспрепятствовали проникновению в шале писем и газет. Однако Долли чувствовала себя достаточно окрепшей, чтобы выходить из дому, поэтому нужно было отбросить всякие колебания и, как было условлено, в ближайшее время сообщить Долли о том, что не стоит больше надеяться на возвращение «Франклина».
И действительно, после визита мистера Уильяма Эндрю миссис Бреникен решилась-таки выйти из дому, не предупредив об этом ухаживающих за ней женщин, которые предприняли бы все, чтобы отговорить ее от такого поступка. Если сам по себе выход из дому не представлял никакой опасности для Доллиного здоровья, он мог привести к плачевным результатам в том случае, если бы по какой-нибудь случайности Долли узнала правду, не будучи заранее к ней подготовлена.
Покидая Проспект-хаус, миссис Бреникен задалась целью порасспросить о Заке Френе. С тех пор как она узнала имя этого моряка, одна мысль не давала ей покоя: «Конечно, о нем позаботились,— говорила себе Долли,— дали денег... Потом Зак Френ ушел в плавание, пять или шесть недель тому назад... Но у него, возможно, есть семья жена, дети... наверняка люди бедные... Мой долг — пойти к ним, оказать помощь, обеспечить достаток! Я разыщу их и сделаю для них все, что должна сделать!»
Если бы миссис Бреникен спросила по этому поводу совета у мистера Уильяма Эндрю, смог бы он отговорить ее от проявления признательности и милосердия?
Двадцать первого июня около девяти часов утра Долли вышла из дому. Никто не заметил ее ухода. Одета она была в траур — траур по ребенку, погибшему, по ее представлениям, только два месяца назад. Не без сильного волнения ступила она за калитку небольшого сада — одна, чего с ней давно уже не случалось. Погода была хорошей, в эти первые недели калифорнийского лета уже установилась сильная жара, смягчаемая все же легким ветерком с океана.
Миссис Бреникен шла вдоль ограды домов верхнего города. Поглощенная мыслями о том, что ей предстоит делать, она блуждала кругом рассеянным взглядом и не замечала происшедших в квартале перемен — несколько недавних построек, которые должны были бы привлечь ее внимание. Но она смутно воспринимала то, что видела. Да и сами эти перемены были не столь значительными, чтобы мешать ей правильно выбирать те улицы, которые, спускаясь, ведут к бухте. Не заметила она и того, что двое или трое узнавших ее прохожих смотрели на нее с некоторым удивлением.
Идя мимо католической[86] церкви, стоящей неподалеку от Проспект-хаус, она почувствовала непреодолимое желание войти внутрь — ведь некогда миссис Бреникен была одной из самых ревностных ее прихожанок[87]. Долли преклонила колени на низенькую скамеечку в довольно темном углу церкви как раз в тот момент, когда священник начал служить мессу[88]. Она горячо молилась за своего ребенка, мужа, за всех тех, кого любила... Несколько присутствующих на мессе верующих не увидели ее, а когда Долли выходила из церкви, их уже там не было.
Только на улице миссис Бреникен, вспомнив, поразилась одной детали в интерьере[89] церкви. Ей показалось, будто алтарь[90] был не тот, перед которым она привыкла молиться. Новый был богаче, сделан в каком-то новом стиле, поставлен перед апсидой[91], с виду вроде бы недавно пристроенной. Неужели церковь расширяли?
Однако впечатление было мимолетным, рассеявшимся, как только миссис Бреникен очутилась на уже весьма оживленных улицах торгового квартала. Правда, на каждом шагу она могла увидеть, например, объявление с датой, или расписание движения поездов, или афишу спектакля, на которой был обозначен 1879-й год... И тогда Долли неожиданно узнала бы, что мистер Уильям Эндрю и доктор Брамли ее обманули, что ее помешательство длилось вовсе не несколько недель... Следовательно, «Франклин» покинул Сан-Диего четыре года назад. И если от нее это скрыли, значит, Джон не вернулся и не вернется никогда!..
Миссис Бреникен быстрым шагом шла к порту, но вдруг у нее явилась мысль пройти мимо дома Лена Баркера, для чего нужно было сделать лишь небольшой крюк.
«Бедная Джейн!» — шептала Долли по дороге... Придя на Флит-стрит, она с трудом узнала контору, и это обстоятельство вызвало у нее более чем удивление — смутную будоражащую тревогу. Действительно, на месте тесного и мрачного дома, который она знала, стояло солидное здание англосаксонской архитектуры, в несколько этажей, с высокими окнами, забранными на первом этаже решетками. Над крышей поднялся фонарь купола с развевающимся флагом, на полотнище которого значились инициалы «X. У.». В рамке возле двери можно было прочесть следующие писанные золочеными буквами слова: «Харрис и Уэйдентон и Ко». Вначале Долли подумала, что ошиблась. Она посмотрела направо, налево. Нет! Это именно здесь, на углу Флит-стрит, дом, где жила Джейн Баркер. Бедняжка прикрыла рукой глаза: неизъяснимое предчувствие сжимало ей сердце...
Торговый дом мистера Уильяма Эндрю находился неподалеку. Долли, ускорив шаг, увидела его за поворотом улицы. У нее мелькнула мысль пойти туда. Нет, туда она зайдет на обратном пути, когда повидает семью Зака Френа... Адрес можно узнать в конторе паровых катеров, возле причала.
Растерянная, с неясным взором и трепещущим сердцем, Долли продолжила путь. Теперь ее взгляд останавливался на встречных прохожих. Она ощущала острое желание подойти к ним, расспросить... Но о чем? Ее примут за сумасшедшую. Да и уверена ли она, что рассудок не покидает ее вторично? Неужто у нее провалы в памяти?
Миссис Бреникен пришла на набережную. Отсюда было видно все пространство бухты. Одни корабли, покачиваясь, стояли на якоре, другие готовились к отплытию. Какие воспоминания будила в ней портовая жизнь!.. Прошло только два месяца с тех пор, как она стояла на краю вот этой пристани... Отсюда Долли смотрела на «Франклин», маневрирующий в последний раз перед тем, как направиться к выходу из бухты... здесь услышала от Джона последние слова прощания... Потом корабль обогнул мыс Айленд; поднятые паруса на мгновение показались над берегом, и «Франклин» скрылся вдали...
Пройдя еще немного, Долли очутилась перед конторой паровых катеров, возле пассажирской пристани. Один из катеров в эту минуту отчалил, направляясь к мысу Лома.
Долли провожала его взглядом, прислушиваясь к пыхтению пара, вырывавшегося из черной трубы. Печальное воспоминание о ребенке на какое-то время увлекло ее. Долли чувствовала, что теряет сознание... Голова кружится... Она едва удержалась на ногах.
Минуту спустя миссис Бреникен входила в контору паровых катеров. Глядя на эту женщину, бледную, с исказившимся лицом, сидевший за столом служащий поднялся, пододвинул к ней стул и сказал:
— Вам нездоровится, мадам?
— Нет, ничего,— ответила Долли.— Приступ слабости... Мне уже лучше...
— Соблаговолите сесть, пока будете ждать следующий катер. Он отправится самое большое через десять минут.
— Благодарю вас,— сказала миссис Бреникен.— Я пришла только затем, чтобы навести справки.
— Что вас интересует, мадам?
Долли села и, силясь собраться с мыслями, поднесла руку ко лбу.
— Скажите, пожалуйста, работал ли у вас матрос по имени Зак Френ? — спросила она.
— Да, мадам,— ответил служащий.— Этот матрос недолго оставался у нас, но я его хорошо знаю.
— Не правда ли, это он, рискуя жизнью, спас женщину... несчастную мать...
— Действительно, я припоминаю... миссис Бреникен...
— А сейчас он в море?
— В море.
— На какое судно он нанялся?
На трехмачтовый «Калифорниец».
— Из Сан-Диего?
— Нет, мадам, из Сан-Франциско.
— И куда оно следует?
— В Европу.
Миссис Бреникен, услышав больше, чем могла предполагать, некоторое время молчала. Служащий учтиво ждал новых вопросов.
— Сам-то Зак Френ из Сан-Диего? — немного передохнув, спросила она.
— Да, мадам.
— Могли бы вы мне сказать, где живет его семья?
— Я не раз слышал от Зака Френа, что он один-одине-шенек. Не думаю, чтобы у него был хоть какой-нибудь родственник в Сан-Диего или где-то еще.
— Так он не женат?
— Нет, мадам.
Вряд ли были основания сомневаться в верности ответа служащего, хорошо знавшего Зака Френа. Итак, раз моряк не имел семьи, миссис Бреникен оставалось дожидаться возвращения «Калифорнийца» в Америку.
— Известно, сколько времени Зак Френ пробудет в море?
— Не могу вам сказать, мадам, «Калифорниец» ушел в очень длительное плавание.
— Благодарю вас. Мне бы очень хотелось встретиться с Заком Френом, но. без сомнения, это произойдет не скоро...
— Да, мадам!
— И все же возможно ли получить известия о «Калифорнийце» через несколько месяцев... или недель?..
— Известия? — удивленно повторил служащий. — Но дом в Сан-Франциско, которому принадлежит корабль, уже неоднократно получал о нем известия...
— Получал?!
— Ну да, мадам!
— Неоднократно?..
Миссис Бреникен, встав с места, глядела на служащего так, будто не поняла смысла сказанного.
— Взгляните, мадам,— снова заговорил тот, протягивая ей какую-то газету.— Вот, «Судоходная газета». В ней сообщается, что «Калифорниец» неделю назад покинул Ливерпуль.
— Неделю назад! — прошептала миссис Бреникен, дрожащей рукой взяв газету.
В следующую минуту она спросила так сильно изменившимся голосом, что служащий с трудом разобрал вопрос:
— А как давно Зак Френ ушел в море?
— Да вот уж скоро полтора года будет.
— Полтора года?!
Долли оперлась рукой об угол стола... На мгновение у нее замерло сердце. Вдруг взгляд ее приковало висящее на стене летнее расписание работы паровых катеров.
Вверху расписания значилось: МАРТ 1879 г.
Март 1879-го!.. Ее обманули! Четыре года прошло, как погиб ребенок, четыре года, как Джон покинул Сан-Диего!.. Так, значит, все эти четыре года она... О!.. И мистер Эндрю, и доктор Брамлп позволяли ей думать, что болезнь продолжалась только два месяца, потому, что хотели скрыть от нее правду о «Франклине», потому, что четыре года о Джоне и его судне нет никаких вестей!
У миссис Бреникен произошел сильный спазм[92], очень напугавший служащего. Все же из последних сил ей удалось овладеть собой, и, бросившись вон из конторы, она быстро зашагала по улицам нижнего города. Люди, видевшие эту женщину, бледную, с блуждающим взглядом, должно быть, думали, что она сумасшедшая.
Несчастная Долли, не грозило ли ей и впрямь новое безумие? Куда она направлялась? Несколько минут спустя она, сама не зная как, очутилась возле дома Эндрю. Пройдя через комнаты столь стремительно, что находившиеся там служащие не смогли ее остановить, она толкнула дверь кабинета, где сидел судовладелец.
Увидев входящую миссис Бреникен, мистер Уильям Эндрю поначалу изумился, в следующий миг перекошенное лицо и мертвенная бледность его подопечной ужаснули судовладельца. Но прежде чем он смог что-либо проговорить, Долли воскликнула:
— Я знаю! Знаю! Вы обманули меня! Четыре года я была безумна!..
— Дорогая... успокойтесь!
— Отвечайте! Что «Франклин»? Уже четыре года, как он ушел, так ведь? Вы не имеете о нем сведений четыре года.
Мистер Уильям Эндрю молчал, опустив голову,— слезы были единственным ответом, который мог дать судовладелец.
«Франклин» считают погибшим! Никто из команды уже не вернется... и я никогда не увижу Джона!» — пронеслось в голове Долли. И, внезапно потеряв сознание, она упала в кресло.
Мистер Эндрю позвал одну из прислуживающих в доме женщин, и та поспешила оказать миссис Бреникен помощь. Кто-то из служащих был тотчас послан за доктором Брамли, живущем неподалеку. Доктор вскоре явился.
Мистер Уильям Эндрю рассказал ему о происшедшем. Из-за чьей-то бестактности, а может, и по воле случая Долли только что узнала все сама. Не важно, случилось это в Проспект-хаус или же на улице! Теперь она все знает...
Доктору Брамли, озадаченному тем, выдержит ли рассудок его пациентки этот последний, самый страшный для нее удар, с трудом удалось привести несчастную женщину в чувство Но когда миссис Бреникен понемногу пришла в себя, стало очевидно, что она вернулась к жизни в твердом уме; Долли полными слез глазами вопросительно смотрела на мистера Уильяма Эндрю, стоявшего возле нее на коленях и державшего ее за руки.
— Говорите . говорите... мистер Эндрю! —только и смогла она вымолвить.
И тогда прерывающимся из-за рыданий голосом мистер Уильям Эндрю рассказал ей о том, какое беспокойство поначалу вызывало отсутствие известий о «Франклине». Письма и телеграммы были отправлены в Сингапур и Индию, куда корабль так никогда и не приходил. Были проведены поиски на всем пути следования судна!. И никаких следов кораблекрушения не было обнаружено!
Миссис Бреникен, неподвижная, с остановившимся взглядом, молча слушала судовладельца.
— Ребенок мертв... Муж мертв...— прошептала она, когда мистер Уильям Эндрю закончил свой рассказ.— Ах, и зачем только Зак Френ не дал мне умереть! — Но вдруг лицо ее оживилось, и такая внутренняя сила выразилась в нем, что доктор Брамли оторопел.— Со времени последних поисков никаких сведений о «Франклине» не было? — решительным тоном спросила Долли.
— Никаких,— ответил мистер Эндрю.
— И вы считаете его погибшим?
— Да... погибшим!
— И о Джоне и его людях тоже ничего не известно?
— Ничего, бедная моя Долли, и теперь уж у нас нет надежды...
— Нет надежды!— повторила миссис Бреникен с какой-то даже иронией в голосе.
Поднявшись, она простерла руку к окну, в котором виднелся океан до самого его слияния с небом.
Мистер Уильям Эндрю и доктор Брамли наблюдали за ней с тревогой за ее психическое состояние. Но Долли прекрасно владела собой, душевный огонь светился в ее взгляде.
— Нет надежды,— снова повторила она.— Вы говорите, что у вас нет надежды! Мистер Эндрю, если для вас Джон и погиб, то он не погиб для меня! Все свои деньги, а их, кажется, немало, я употреблю на поиски «Франклина»! И с Божьей помощью я найду его! Да! Найду!
Глава X ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Для миссис Бреникен началась новая жизнь. И если в гибели сына ей не приходилось сомневаться, то в отношении мужа у нее такой уверенности не было. Разве Джон и его товарищи не могли спастись во время кораблекрушения и укрыться на одном из многочисленных островов в Филиппинском, Целебесском или Яванском морях? Разве нельзя допустить, что их удерживает в плену какое-нибудь туземное[93] племя и они не имеют ни малейшей возможности бежать?
Эта надежда, с необычайной силой овладевшая миссис Бреникен, вскоре произвела поворот и в общественном мнении относительно «Франклина». Нет! Долли не верила, не могла поверить в то, что Джон и его команда погибли. И кто знает, может, именно это упорство позволило ей сохранять рассудок. Во всяком случае, некоторые были склонны усматривать в этом нечто вроде навязчивой идеи, разновидности безумия, которую можно было бы назвать «психозом преувеличенной надежды». Единственная цель стояла теперь перед Долли — найти Джона, и она шла к ней с решимостью, которую укрепляли сами обстоятельства.
Раз Господу было угодно, чтобы Зак Френ не дал ей утонуть, раз Господь сделал доступными для нее все те средства, которые дает богатство,— значит, Джон жив и Долли спасет его. Все свои деньги она употребит на беспрестанные поиски; не будет ни одного острова или малого островка в тех местах, где проходил молодой капитан, который бы не нашли, на котором бы не побывали, который бы не осмотрели вдоль и поперек. То, что леди Франклин сделала для Джона Франклина[94], миссис Бреникен сделает для Джона Бреникена, и она одержит победу там, где потерпела поражение вдова прославленного адмирала.
С того поворотного дня Доллиным друзьям стало ясно, что нужно помогать ей на этом новом этапе ее жизни. Именно так и поступал мистер Уильям Эндрю, хотя мало надеялся на то, что попытки найти спасшихся моряков увенчаются успехом. Он стал самым участливым советчиком миссис Бре-никен. Его поддерживал и капитан «Баундари», в ту пору стоявшего в Сан-Диего на приколе. Капитан Эллис, человек решительный и надежный, верный друг Джона, получил приглашение встретиться с миссис Бреникен и мистером Уильямом Эндрю.
Беседы часто проходили в Проспект-хаус. Какой бы богатой ни была теперь миссис Бреникен, она не хотела покидать это непритязательное шале, здесь Джон оставил свою жену, когда уходил в море, здесь он найдет ее, когда вернется. Ничто не должно измениться в Доллином образе жизни до возвращения Джона в Сан-Диего. Она будет вести прежнее скромное существование, расходуя сверх того, что привыкла расходовать, только на поисковые нужды и благотворительность.
Жители города с удвоенной симпатией стали относиться к мужественной женщине, не пожелавшей становиться вдовой Джона Бреникена. Она и не подозревала, что к ней прониклись горячей любовью, ею восхищались, ей даже поклонялись,— и те несчастья, которые выпали на ее долю, оправдывали это поклонение. Многие не только высказывали пожелание успеха кампании, которую готовилась предпринять миссис Бреникен, но и верили в этот успех. Когда Долли видели на улице, идущую из верхнего города в дом Эндрю или к капитану Эллису, серьезную и мрачную, одетую в траур, постаревшую лет на десять, люди почтительно снимали шляпы. Но она словно не замечала адресованных ей знаков уважения.
В ходе бесед, которые вели миссис Бреникен, Уильям Эндрю и капитан Эллис, прежде всего встал вопрос о маршруте, по которому должен был следовать «Франклин». Его важно было установить с детальной точностью; дом Эндрю отправил свое судно в Индию с заходом в Сингапур, именно в этот порт ему надлежало доставить часть груза, прежде чем направиться в Индию.
Итак, выйдя в открытый океан, к западу от американского побережья, капитан Джон, по всей вероятности, пошел к Гавайским, или Сандвичевым островам. Покидая Микронезию, «Франклин» должен был достичь Марианских и Филиппинских островов, а затем через Целебесское море и Макасарский пролив выйти в Яванское море, с юга ограниченное Зондскими островами, и далее прибыть в Сингапур.
У западной оконечности Малаккского пролива, образованного полуостровом того же названия и островом Суматрой, начинается Бенгальский залив[95], в котором, кроме Никобарских и Андаманских островов, потерпевшие кораблекрушение нигде не смогли бы найти пристанище. К тому же не вызывало сомнений, что Джон Бреникен в Бенгальском заливе не появлялся. Итак, поскольку он не сделал заход в Сингапур,— а это бесспорный факт,— корабль не вышел за пределы Яванского моря и Зондских островов.
Версия о том, что «Франклин» попытался добраться до Калькутты через труднодоступный Торресов пролив, вдоль северного побережья Австралии, не имела поддержки. Капитан Эллис утверждал, что Джон Бреникен никогда бы не пошел на такой необоснованный риск, а посему поиски предполагалось вести исключительно в районе Малезии[96].
В самом деле, в Каролинском[97], Целебесском и Яванском морях разбросаны тысячи островов и небольших островков, и только там мог оказаться экипаж «Франклина», если он спасся во время кораблекрушения; он мог находиться на необитаемом острове или в плену у какого-нибудь племени и не иметь возможности вернуться домой.
После всестороннего обдумывания маршрута миссис Бреникен предложила взять на себя руководство экспедицией капитану Эллису, который был в то время абсолютно свободен, поскольку дом Эндрю поставил «Баундари» на прикол.
И хотя предложение явилось для капитана неожиданностью, он без колебаний предоставил себя в распоряжение миссис Бреникен — с согласия горячо его поблагодарившего мистера Уильяма Эндрю.
— Я лишь исполняю свой долг,— ответил капитан Эллис,— и сделаю все от меня зависящее, чтобы найти уцелевших с «Франклина». Если капитан жив...
— Джон жив! — сказала миссис Бреникен столь твердым голосом, что даже самые решительные не посмели бы ей возразить.
Капитан Эллис предложил обсудить некоторые организационные вопросы. Набрать команду не составляло труда, однако оставалась проблема судна. О «Баундари» в подобного рода экспедиции нечего было и думать: парусник не может совершить такое путешествие, требовался пароход. В порту Сан-Диего имелись паровые суда, весьма подходящие для такого плавания. Миссис Бреникен, выделив средства на покупку, поручила капитану Эллису приобрести самое быстроходное из них.
Спустя несколько дней дело увенчалось успехом, и Долли стала владелицей «Дейвитта», которому, следуя доброй примете, дали новое имя — «Долли-Хоуп»[98]. Это был винтовой пароход водоизмещением девятьсот тонн, способный брать в бункеры[99] большое количество угля, что давало возможность судну ходить на дальние расстояния без пополнения запасов. К тому же корабль имел солидное парусное вооружение трехмачтовой шхуны. Его машина, полезной мощностью в тысячу двести лошадиных сил, позволяла развивать среднюю скорость пятнадцать узлов[100]. Таким образом, «Долли-Хоуп» было легкоуправляемо, мореходно и отвечало всем требованиям плавания в тесных водах, усеянных островами, островками и рифами, а следовательно, лучший выбор для предстоящей экспедиции трудно было сделать.
Понадобилось не более трех недель, чтобы осмотреть паровые котлы, проверить машину, починить снасти и паруса, выверить компасы, загрузить уголь, запасти продовольствия — словом, подготовить корабль к путешествию, которое, возможно, продлится более года. Капитан Эллис был полон решимости не покидать районов, где мог пропасть «Франклин», до тех пор, пока не будет обследовано все до последнего уголка. Он дал слово моряка, а этот человек слово держал.
Найти надежный корабль и подобрать хорошую команду — значит увеличить шансы на успех, и капитан Эллис мог только радоваться тому содействию, которые ему оказывали моряки Сан-Диего. Лучшие из них оспаривали право отправиться на поиски своих земляков — жертв кораблекрушения.
Экипаж «Долли-Хоуп» состоял из помощника капитана, лейтенанта, старшего матроса и двадцати пяти матросов, включая механиков и кочегаров. Капитан Эллис был уверен в том, что эти люди проявят все свое мужество и самоотверженность, каким бы долгим и трудным ни был поход по малезийским морям.
Разумеется, Долли не оставалась в стороне от дел и во всем помогала капитану Эллису. Но, занимаясь подготовкой экспедиции, она не забывала и о семьях, которые из-за исчезновения «Франклина» испытывали материальные трудности или вовсе впали в нищету. Тут, правда, средства миссис Бреникен лишь дополнили то, что ранее уже выделил дом Эндрю и что было собрано по подписке. Таким образом, жизнь этих семей была в достаточной мере обеспечена, и людям оставалось ждать, когда благодаря экспедиции, снаряженной миссис Бреникен, их близкие вернутся домой.
Помнила миссис Бреникен и о Джейн Баркер. Разве не могла она сделать для нее то же, что сделала для семей моряков с «Франклина»? Теперь она знала, как добра была эта бедная женщина к ней во время ее болезни. И сейчас Джейн была бы в Проспект-хаус и разделяла бы с ней ее надежду, если бы плачевные дела мужа не вынудили несчастную покинуть Сан-Диего, а скорее всего и Соединенные Штаты. Каких бы упреков ни заслуживал Лен Баркер, несомненно то, что Джейн вела себя как родной человек, чья любовь доходила до самоотречения.
Долли сохранила к кузине глубокую привязанность и, размышляя о ее горестном положении, более всего сожалела о том, что не может прийти ей на помощь, ответить добром на добро. Несмотря на все старания мистера Уильяма Эндрю, так и не удалось узнать, что сталось с четой Баркер. Правда, если бы даже их местопребывание было известно, миссис Бреникен не могла бы позвать их в Сан-Диего, поскольку против Лена Баркера были выдвинуты неоспоримые обвинения в растратах; однако она поспешила бы оказать Джейн поддержку, в которой та должна была очень нуждаться.
Двадцать седьмого июля «Долли-Хоуп» был готов к отплытию. Утром миссис Бреникен пришла на судно, чтобы в последний раз дать наставление капитану Эллису не жалеть ничего ради отыскания следов «Франклина». В том, что ему удастся это сделать, она не сомневалась. Он привезет домой Джона и его команду!.. Долли говорила с такой убежденностью, что матросы зааплодировали; все они, равно как их родные и друзья, пришедшие в порт, чтобы присутствовать при отплытии «Долли-Хоуп», разделяли ее веру.
И тогда капитан Эллис, обратившись к миссис Бреникен и сопровождавшему ее мистеру Уильяму Эндрю, сказал:
— От имени моих офицеров и матросов клянусь вам, миссис Бреникен, и вам, мистер Эндрю, не страшась опасностей и не поддаваясь усталости, сделать все, чтобы найти капитана Джона и моряков с «Франклина». Корабль, который вы снарядили, теперь называется «Долли-Хоуп», и он оправдает свое имя...
— Да поможет вам Господь и преданность тех, кто искренне верит в него! — ответила миссис Бреникен.
— Ур-ра! Ур-ра Джону и Долли Бреникен!
Толпа, стоящая на причалах порта, подхватила эти возгласы.
Отдав швартовы и повинуясь первым оборотам винта, «Долли-Хоуп» стал маневрировать, чтобы выйти из бухты. Покинув ее, судно взяло курс на юго-запад и вскоре скрылось за линией горизонта.
Глава XI ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В МАЛЕЗИЮ
Пройдя две тысячи двести миль, моряки увидели гору Мауна-Кеа, возвышающуюся на пятнадцать тысяч футов над островом Гавайи, самым южным из группы Сандвичевых островов.
На этих островах, за исключением пяти больших и трех малых, не было смысла искать следы «Франклина». Очевидно, что, если бы судно налетело на какие-нибудь из многочисленных рифов этого архипелага, даже если бы это были Медо-Ману, посещаемые разве что морскими птицами, о катастрофе давно было бы известно, ибо Сандвичевы острова довольно плотно населены — на одном только острове Гавайи живут сто тысяч человек,— и благодаря французским, английским и американским миссионерам[101] весть о кораблекрушении быстро достигла бы портов Калифорнии.
К тому моменту, четыре года назад, когда «Баундари» и «Франклин» встретились в океане, оба судна уже миновали район Сандвичевых островов. Поэтому «Долли-Хоуп» продолжил свой путь на юго-запад по дивным просторам Тихого океана, вполне заслуживающего это название в течение нескольких месяцев теплого времени года.
Шестью днями позже быстроходное судно пересекло условную линию, которую географы провели с севера на юг между Полинезией и Микронезией. В западной части полинезийских вод капитану Эллису не нужно было вести поиски. Но далее воды Микронезии изобилуют большими и малыми островами и рифами, и там-то перед «Долли-Хоуп» встанет рискованная задача обнаружить следы кораблекрушения.
Двадцать второго августа поисковый корабль бросил якорь у Отдиа[102], самого крупного острова из группы Маршалловых, на которых в 1817 году побывали русские мореплаватели под командованием Коцебу[103]. Эта группа, раскинувшаяся на тридцать миль с востока на запад и тринадцать миль с севера на юг, включает не менее шестидесяти пяти островков, или атоллов.
«Долли-Хоуп», которому удалось пополнить запасы пресной воды за несколько часов, все же продлил стоянку на пять дней. Сев в паровую шлюпку, капитан Эллис удостоверился в том, что за последние четыре года ни один корабль не разбивался о здешние рифы. Были встречены какие-то обломки вдоль островков Мёлгэв[104], но это оказались стволы пихт, пальм, бамбука, принесенные течением с севера или юга и используемые местными жителями для постройки своих пирог[105].
Капитан Эллис узнал от вождя острова Отдиа, что за время с 1872 года упоминалось лишь об одном судне, разбившемся о восточные атоллы; этим судном был английский бриг[106], экипаж которого потом возвратился на родину.
Покинув Маршалловы острова, «Долли-Хоуп» взял курс на Каролинские острова. По пути с корабля послали шлюпку к острову Уэланг[107], но безрезультатно. Третьего сентября поисковое судно вошло в обширный архипелаг[108], расположенный между двенадцатым градусом северной и третьим градусом южной широты и сто двадцать девятым градусом восточной и сто семидесятым градусом западной долготы[109] и простершийся на двести двадцать пять лье с севера на юг по обеим сторонам экватора и примерно на тысячу лье с запада на восток.
«Долли-Хоуп» три месяца находился в водах, омывающих Каролинские острова, достаточно изученные теперь, когда труды Литке[110], отважного русского мореплавателя, дополнили труды французов Дюперре[111] и Дюмон-Дюрвиля[112]. Потребовалось не менее трех месяцев, чтобы обследовать одну за другой основные группы этого архипелага: Палау, Мателотас[113], Лос-Мартирес, Сааведры, Сонсорол и острова: Мариера, Анна[114], Лорд-Норт[115] и другие.
Базой для своих поисков капитан Эллис выбрал остров Яп, принадлежащий к группе собственно Каролин, насчитывающей около пятисот островов. С этого острова пароход отправился в самые отдаленные точки архипелага. Сколько же катастроф произошло в этих водах, в их числе гибель «Антилопы» в 1793 году и гибель американского капитана Барнарда на островах Мэрир и Лорд-Норт в 1832 году!
Во все время поисков члены экспедиции проявляли безграничную самоотверженность. Никто не обращал внимания ни на опасности, ни на усталость, с коими было сопряжено это плавание среди бесчисленных рифов, через узкие проходы, усеянные подводными коралловыми рифами[116].
Начиналось холодное время года, когда страшной силы ветры обрушиваются на эти края, по-прежнему являющиеся местом многочисленных катастроф. Но, несмотря на все возрастающую опасность, моряки на корабельных шлюпках продолжали обследовать небольшие бухты, внутрь которых течением могло забросить какие-нибудь обломки.
Те, кто высаживался на берег, были хорошо вооружены, поскольку поиски в этом районе отнюдь не походили на поиски адмирала Франклина, ведшиеся среди арктического безлюдья. Эти острова частью обитаемы, и задача капитана Эллиса состояла главным образом в том, чтобы маневрировать, как это делал Д’Антркасто[117], в поисках места, где предположительно погиб Лаперуз[118].
Важным делом было завязывание отношений с туземцами. Экипаж «Долли-Хоуп» нередко сталкивался с проявлениями враждебности по,отношению к себе со стороны племен, настроенных отнюдь не гостеприимно к чужеземцам. Агрессию приходилось отражать силой. Двое или трое матросов даже получили ранения, к счастью не имевшие тяжелых последствий.
С Каролинского архипелага капитан Эллис смог послать первые письма миссис Бреникен. Но в этих письмах не говорилось о следах «Франклина» и потерпевших кораблекрушение моряков. Попытки, ни к чему не приведшие на Каролинах, должны были возобновиться на западе, охватывая обширную систему островов Малезии. В действительности там имелись более серьезные шансы отыскать уцелевших после катастрофы, возможно на одном из тех многочисленных островков, о существовании которых до сих пор не сообщается в гидрографических трудах, даже после трех разведывательных экспедиций, побывавших в этой части Тихого океана.
Второго декабря в семистах милях к западу от Каролин «Долли-Хоуп» достиг одного из больших островов Филиппинского архипелага — самого крупного из всех малезийских архипелагов и самого значительного из тех, коих местоположение отмечено не только в гидрографии Малезии, но и всей Океании. Эти острова, открытые Магелланом[119] в 1521 году, протянулись от пятого до двадцать первого градуса северной широты и от сто шестнадцатого до сто двадцать шестого градуса восточной долготы.
«Долли-Хоуп» не стал бросать якорь у большого острова Лусон, названного еще Манила. Можно ли допустить, что «Франклин» поднялся так далеко на север в воды, омывающие Китай, при том что путь его лежал в Сингапур? Капитан Эллис предпочел вести поиски от острова Минданао, что на юге означенного архипелага, находясь, таким образом, непосредственно на маршруте, которым, без сомнения, следовал Джон Бреникен, идя в Яванское море.
В указанный день «Долли-Хоуп» стал на якорь у юго-западного берега в порту Замбоанги, резиденции губернатора всех трех общин острова.
Минданао разделен на две части: одна — испанская, другая — независимая территория под властью султана[120], сделавшего Селанган столицей своих владений. Было решено, что капитан Эллис в первую очередь расспросит губернатора и алькальдов[121] о кораблекрушениях, произошедших у побережья Минданао за последние четыре года. Власти острова весьма любезно предложили капитану свою помощь в организации поисков потерпевших кораблекрушение.
Поскольку в испанской части острова не было отмечено ни одной морской катастрофы за последние пять лет, внимание поисковой группы было направлено на берега независимой территории, населенной минданао, карагосами, лутасами, субанонами, а также дикими племенами, с полным основанием подозреваемыми в каннибализме[122] здесь могла произойти не одна катастрофа, о которой никогда не стало бы известно, поскольку придавать таким событиям огласку совсем не в интересах этих племен!
Есть среди местного населения и немало людей, занимающихся пиратством; на своих легких кораблях, вооруженных фальконетами[123], они охотятся за торговыми судами, гонимыми западными ветрами к побережью, и, завладев судном, разрушают его. Постигла ли подобная участь «Франклин», губернатор, разумеется, не знал. Сведения, представленные им и относящиеся к той части острова, которая находилась под его властью, сочли недостаточными.
А посему «Долли-Хоуп» пришлось бросить вызов этим морям, столь суровым в зимнее время года. Много раз моряки высаживались на берега, сплошь покрытые тамариндовыми, бамбуковыми, эбеновыми лесами, зарослями древокорня, дикого акажу, железного дерева, манглии, являющимися одним из богатств Филиппин. Капитан Эллис и его люди, в надежде найти хоть какие-нибудь следы, остатки кораблекрушения, пленников, удерживаемых малезийскими племенами, побывали в некоторых деревнях, расположенных среди тучных полей, на которых вперемежку росли культуры умеренных и тропических широт. Но действия моряков оказались безуспешными, и пароход, изрядно потрепанный непогодой и лишь чудом не наскочивший на подводные рифы, коих немало в этих местах, вынужден был вернуться в Замбоангу.
Обследование Филиппинского архипелага продолжалось не менее двух с половиной месяцев, так как понадобилось задержаться на более чем сотне островов, главными из которых, после Лусона и Минданао, были: Миндоро, Лейте, Самар, Панай, Негрос, Себу, Масбате, Палаван, Катандуанес и другие.
Обшарив группу островов Басилан, к югу от Замбоанги, капитан Эллис направился к архипелагу Холо, которого достиг двадцать пятого февраля 1880 года. Вот уж где поистине пиратское гнездо! Многочисленные покрытые джунглями острова, разбросанные между юго-западной оконечностью Минданао и северной оконечностью Борнео[124], кишат туземцами. Корабли, пересекающие Южно-Китайское море и малезийский бассейн, иногда заходят в единственный порт Бевуан[125]. расположенный на главном острове, давшем название всей группе.
«Долли-Хоуп» сделал остановку в Бевуане, где удалось установить некоторые отношения с султаном и дату[126], управляющими шести- или семитысячным населением. Сказать по правде, капитан Эллис не поскупился на подношения деньгами и натурой, и туземцы навели его на следы различных кораблекрушений, местом которых явились острова, опоясанные коралловыми рифами. Но среди собранных остатков не было обнаружено ни одного, который мог бы принадлежать «Франклину». Что до самих жертв кораблекрушений, то они либо погибли, либо были возвращены домой.
Пополнивший запасы угля во время стоянки в Минданао, «Долли-Хоуп» изрядно истощил их к концу плавания по извилистым проходам между островами Холо. И все же топлива было еще достаточно, чтобы, держа путь к островам Маратуа, пересечь Целебесское море и достичь порта Банджармасин[127], на юге Борнео.
Капитан Эллис устремился в этот бассейн, точно озеро, закрытый с одной стороны большими малезийскими островами, а с другой — цепью островков. Кстати сказать, Целебесское море, несмотря на естественные преграды, плохо защищено от свирепых бурь. И хотя можно с восторгом говорить о великолепии здешних вод, изобилующих яркими разноцветными зоофитами[128] и множеством видов моллюсков[129], опустошительные тайфуны все же бросают тень на эту чудесную картину, чему экипаж «Долли-Хоуп» стал свидетелем в ночь с двадцать восьмого на двадцать девятое февраля. В течение дня ветер понемногу свежел, к вечеру, правда, заметно стих, но огромные белесые тучи на горизонте предвещали весьма неспокойную погоду. И действительно, в несколько мгновений море совершенно переменилось, принявшись выказывать свой поистине бешеный нрав. К одиннадцати часам разразился неистовой силы ураган.
Капитан Эллис, справедливо опасающийся за «Долли-Хоуп» и стремящийся предотвратить любую аварию, могущую поставить экспедицию под угрозу, лег на курс так, чтобы от машины требовалась лишь скорость, при которой судно слушалось бы руля.
Но торнадо свирепствовал с такой силой, море бушевало так яростно, что, несмотря на меры предосторожности, «Долли-Хоуп» не смог избежать мощных ударов волн. Судно резко разворачивало, и сотня тонн воды, обрушиваясь на палубу и пробивая чехлы на люках, собиралась в трюмах. И все же водонепроницаемые переборки выдержали и, встав препятствием на пути воды, не дали ей проникнуть в отсеки котельной и машинного отделения.
В этой критической обстановке экипаж проявил столько же хладнокровия, сколько и отваги; матросы мужественно помогали капитану и офицерам, они оказались достойны своего командира, выбравшего их среди лучших моряков Сан-Диего. Корабль был спасен благодаря умелым и точным действиям всей команды.
После четырнадцати часов бури море успокоилось; можно даже сказать, что оно почти внезапно упало к берегам большого острова Борнео. Утром второго марта с «Долли-Хоуп» увидели острова Маратуа. Эти острова, расположенные близ восточного побережья Борнео, сделались объектом самых тщательных поисков в течение первой половины марта.
Благодаря многочисленным подаркам, вожди племен содействовали морякам. И все же добыть какие-либо сведения, касающиеся исчезновения «Франклина», так и не удалось. В этих районах Малезии очень часто разбойничают пираты, и можно было опасаться, что Джон Бреникен и его команда были перебиты все до последнего человека.
Как-то в разговоре с помощником капитан Эллис сказал:
— Очень возможно, что «Франклин» погиб именно в результате такого нападения. Оттого-то мы до сих пор и не обнаружили никаких следов катастрофы. Эти пираты помалкивают о своих подвигах. Когда исчезает какой-нибудь корабль, катастрофу относят на счет тайфуна — и этим все сказано!
— Вы совершенно правы, капитан,— заметил помощник.— Чего-чего, а пиратов здесь хватает, и нам, пожалуй, следует удвоить бдительность, когда мы будем спускаться по Макасарскому проливу.
— Без сомнения,— ответил капитан Эллис,— но если вести речь о том, как ускользнуть от этих негодяев, то тут мы находимся в лучших условиях, нежели те, в которых находился Джон Бреникен. При переменных разной силы ветрах парусное судно не может маневрировать сообразно вашему желанию. Нас же, пока работает машина, малайские лодки догнать не в состоянии. Но тем не менее я советую проявлять наибольшую бдительность.
«Долли-Хоуп» вошел в Макасарский пролив, разделяющий побережье Борнео и причудливо изрезанное побережье острова Целебес. В течение двух месяцев, с пятнадцатого марта по пятнадцатое мая, пополнив запасы угля в порту Думаринг[130], капитан Эллис обшарил все бухты с восточной стороны пролива.
Открытый Магелланом остров Целебес имеет не менее ста девяноста двух лье в длину и двадцать пять в ширину. Очертания острова таковы, что некоторые географы сравнивают его с тарантулом[131], гигантскими лапами которого являются полуострова. По красоте пейзажей, богатству даров природы, благоприятному расположению гор Целебес не уступает великолепному Борнео. Однако его сильно изрезанный берег предоставляет столько укрытий пиратам, что плавание в проливе считается одним из наиболее опасных. Несмотря на это, капитан Эллис отнесся к выполнению своей задачи с такой тщательностью, какую только можно было желать; постоянно держа котлы под давлением, он посещал бухточки на корабельных шлюпках, готовый вернуться на судно при появлении малейшей опасности.
С приближением к южной оконечности пролива, находящейся под властью Голландии, «Долли-Хоуп» оказался в менее опасных условиях. Столицей голландских владений является город Макасар, некогда Влардинген, защищаемый фортом Роттердам. Семнадцатого мая капитан Эллис сделал там остановку, чтобы дать немного отдохнуть экипажу и пополнить запасы топлива. И хотя он не нашел ничего, что навело бы его на след Джона Бреникена, в этом порту он узнал очень важную новость, касающуюся маршрута, по которому следовал «Франклин»: третьего мая 1875 года судно было замечено в десяти милях от Макасара и шло оно в сторону Яванского моря. Отныне появилась уверенность, что корабль погиб не в этих грозных водах Малезии: его останки нужно было искать в Яванском море и дальше по направлению к Сингапуру.
В письме, посланном миссис Бреникен с острова Целебес, капитан Эллис сообщил об изменении маршрута и подтвердил обещание уведомлять ее о ходе поисков, которые теперь будут сосредоточены в районе Яванского моря и Зондских островов.
Действительно, «Долли-Хоуп» не следовало пересекать меридиан Сингапура, являющегося конечным пунктом его похода на запад. В дополнение на обратном пути он внимательно обследует побережье Яванского моря и цепь ограничивающих его островов; далее, пройдя через Молуккские острова, выйдет в Тихий океан, чтобы вернуться к берегам Америки.
«Долли-Хоуп» покинул Макасар двадцать третьего числа, пересек южную часть пролива, разделяющего Целебес и Борнео, и пришел на стоянку в Банджармасин — город, где живет губернатор Борнео, или, вернее, Калимантана, если уж возвращать острову его подлинное название. Там были скрупулезно изучены морские реестры[132], но упоминания о «Франклине» найдено не было. Возможно, это объяснялось тем, что корабль шел через Яванское море вдали от берегов.
Десять дней спустя капитан Эллис, взяв курс на юго-запад, бросил якорь в порту Батавии, у оконечности большого острова Ява вулканического происхождения, почти всегда озаренного пламенем, вырывающимся из кратеров вулканов.
Нескольких дней пребывания в этом большом городе, являющемся столицей голландских владений в Океании[133], хватило экипажу, чтобы пополнить запасы продовольствия. Генерал-губернатор, знавший, благодаря морским средствам связи, об усилиях, которые прилагала миссис Бреникен, чтобы найти потерпевших кораблекрушение, с готовностью принял капитана Эллиса. К несчастью, он не мог дать никаких сведений о судьбе «Франклина». Мнение же батавских моряков было таково: американская трехмачтовая шхуна во время торнадо потеряла управление и пошла ко дну. В течение первой половины 1875 года упоминалось о нескольких без вести пропавших кораблях, но море так и не выбросило на берег ни одного обломка.
Покидая Батавию, «Долли-Хоуп» оставил слева по борту Зондский пролив, соединяющий Яванское и Тиморское моря[134]. Вскоре показались острова Биллитон и Банка, где некогда орудовали пираты, и кораблям, направляющимся сюда, чтобы взять на борт железную руду и олово, с трудом удавалось избежать нападения. Однако в конце концов морская полиция разогнала здешних морских разбойников, и теперь не было оснований предполагать, что «Франклин» и его экипаж стали жертвами их разбоя.
Двигаясь на северо-запад, «Долли-Хоуп» посетил острова, раскинувшиеся близ побережья Суматры, затем миновал оконечность полуострова Малакка и утром двадцатого июня, после перехода, затянувшегося из-за встречного ветра, сделал остановку у острова Сингапур.
Ремонт машины вынудил капитана Эллиса две недели стоять в порту, расположенном на юге острова. Эта небольшая территория — каких-нибудь двести семьдесят квадратных миль,— однако имеющая важное значение для торговых связей между Европой и Америкой, сделалась одной из самых богатых на Дальнем Востоке с того дня, когда англичане основали здесь в 1818 году свою первую факторию[135].
Как известно, «Франклин» должен был доставить в Сингапур часть груза, принадлежащего дому Эндрю, и потом отправиться в Калькутту. Известно также, что американская трехмачтовая шхуна так и не появилась в сингапурском порту. Тем не менее капитан Эллис пожелал использовать свое пребывание в этом городе для того, чтобы собрать сведения о катастрофах, происшедших в Яванском море за последние годы.
В самом деле, поскольку «Франклин» видели неподалеку от Макасара, но в Сингапур он не прибыл, неизбежно приходилось признать, что корабль потерпел крушение между этими двумя пунктами,— если только капитан Джон не ушел из Яванского моря и не спустился на юг к Тиморскому, пройдя по одному из проливов, разделяющих Зондские острова... Но почему он решился на это, если путь его лежал в Сингапур? То, что невозможно объяснить, невозможно и принять.
Поиски не дали положительных результатов, и капитану Эллису ничего не оставалось, как проститься с губернатором Сингапура и вести свое судно в Америку.
В день отплытия, двадцать пятого августа, погода была грозовая. Как обыкновенно бывает в августе в этой части жаркого пояса, лежащей на несколько градусов севернее экватора, стоял невыносимый зной. «Долли-Хоуп» немало пострадал из-за плохой погоды, коей отмечены были последние недели месяца. И все же, идя вдоль россыпи Зондских островов, капитан Эллис не оставил необследованным ни одного острова. Экспедиция побывала на острове Мадура, одном из двадцати регентств Явы, на Бали, одном из самых торговых островов в этих владениях, а также на Ломбоке и Сумбаве; расположенный на последнем вулкан Томбово постоянно угрожает местным жителям таким же бедственным извержением, какое произошло в 1815 году.
Эти многочисленные острова отделены друг от друга столь же многочисленными проливами, дающими выход в Тиморское море. «Долли-Хоуп» пришлось маневрировать с осторожностью, дабы не попасть в стремительные течения, уносящие судно даже против западного муссона. Тут-то и становится понятным, насколько опасно плавание в здешних водах (особенно для парусных судов, не имеющих собственных двигателей) и почему во внутренних районах Малезии морские катастрофы столь часты.
От острова Флорес капитан Эллис пошел вдоль другой островной цепи, ограничивающей с юга Молуккское море[136],— но и это оказалось напрасно. Не удивительно, что после обманутых ожиданий экипаж впал в уныние. Тем не менее оставлять надежду отыскать «Франклин» не следовало, ведь экспедиция еще не была завершена. Возможно, капитан Джон, вместо того чтобы, покинув Минданао на Филиппинах, двинуться вниз по Макасарскому проливу, пошел в Яванское море через Молуккский архипелаг и море того же названия и оказался таким образом в районе острова Целебес.
Однако время шло, а в судовом журнале по-прежнему не было ни строки о без вести пропавшем корабле. Ни на Тиморе, ни в трех островных группах, образующих Молукки,— группе Амбоина, местопребывании генерал-губернатора, включающей Серам и Буру, группе Банда и группе Джилоло[137],— не удалось собрать сведений о корабле, который бы затонул где-то в этом районе весной 1875 года. С двадцать третьего сентября (день прибытия «Долли-Хоуп» на Тимор) по двадцать седьмое декабря (день прибытия на Джилоло) велись поиски, на которые с готовностью откликнулись голландцы. Но тайна пропавшего судна так и оставалась тайной...
«Долли-Хоуп» завершил свой поход; на острове Джилоло, самом крупном из Молуккских островов, замкнулся круг, по которому должен был пройти капитан Эллис, обследуя различные районы Малезии. Команда получила несколько дней отдыха, вполне ею заслуженных. Но потаись снова хоть малая надежда — чего бы только не предприняли эти храбрые люди, даже если бы им грозили еще большие опасности!
В Тернате, столице острова Джилоло, где живет голландский резидент и откуда осуществляется контроль за Молуккским морем, «Долли-Хоуп» запасся продовольствием и углем на обратный путь. Так закончился год 1881 — шестой со времени исчезновения «Франклина».
Капитан Эллис, снявшись с якоря утром девятого января, взял курс на северо-восток. Стояло уже холодное время года. Путь был трудным, неблагоприятные ветры являлись причиной довольно больших задержек. Только двадцать третьего января семафорная служба[138] Сан-Диего оповестила о приближении «Долли-Хоуп».
Малезийский поход длился год и семь месяцев. Несмотря на усилия капитана Эллиса и самоотверженность его команды, «Долли-Хоуп» возвращался в Сан-Диего ни с чем...
Глава XII ЕЩЕ ГОД
Письма, которые миссис Бреникен получала из экспедиции, почти не позволяли надеяться на то, что предпринимаемая попытка увенчается успехом; после получения последнего письма у нее сохранилась лишь слабая надежда на поиски, которые капитан Эллис вел в окрестностях Молукков.
Узнав о том, что «Долли-Хоуп» подходит к Сан-Диего, Долли в сопровождении мистера Уильяма Эндрю отправилась в порт. Едва судно бросило якорь, как оба были доставлены на борт.
Капитан Эллис и его команда выразили мнение, что и на первом и на втором этапах похода шансы на успех были одинаково малы.
Миссис Бреникен протянула руку капитану и затем, подойдя к усталым морякам, отдавшим этому плаванию очень много сил, твердым голосом сказала:
— Благодарю вас, капитан Эллис, благодарю вас, друзья мои! Вы сделали все от вас зависящее, но потерпели неудачу и, возможно, вообще разуверились в успехе... Что до меня, то я не отчаялась! Я верю, что вновь увижу Джона и его товарищей! Будем уповать на Господа, и Господь осуществит наши надежды!
Эти слова, сказанные с необычайной решимостью, подтверждали редчайшую волю миссис Бреникен,— казалось бы, такая убежденность должна была завладеть сердцами всех моряков. Но, хотя миссис Бреникен слушали с почтением, не было никого, кто сомневался бы, что «Франклин» и его экипаж исчезли безвозвратно.
Правда, быть может, стоило довериться той особой проницательности, которой женщина часто бывает наделена от природы? Тогда как мужчина придает значение лишь непосредственному наблюдению над фактами и их последствиями, женщина, как известно, порой более точно предугадывает будущее благодаря своему дару интуиции. Ею руководит своего рода гениальный инстинкт. И кто знает, не опровергнет ли однажды миссис Бреникен всеобщее мнение?..
Мистер Уильям Эндрю и Долли отправились в кают-компанию, где капитан Эллис подробно рассказал им об экспедиции. Разложенные на столе карты Полинезии и Малезии давали возможность проследить путь, пройденный судном, многочисленные стоянки, главные порты и деревни туземцев, где собирались сведения, острова и островки, на которых моряки вели поиски с неустанным рвением и редкостной тщательностью.
— Позвольте мне, миссис Бреникен,— в заключение сказал капитан Эллис,— обратить ваше внимание на следующее: «Франклин» видели в последний раз у южной оконечности острова Целебес третьего мая 1875 года, примерно через семь недель после выхода из Сан-Диего, и с того дня его больше нигде не встречали. Поскольку судно не пришло в Сингапур, нет сомнений, что катастрофа произошла в Яванском море. Как это случилось? Есть всего два предположения: первое — «Франклин» затонул во время шторма или в результате столкновения с другим кораблем, и никаких следов не осталось; второе — он разбился о рифы или же был захвачен малезийскими пиратами, и тогда возможно отыскать какие-нибудь обломки. Однако в ходе поисков нам не удалось найти материальных доказательств разрушения «Франклина».
Из сказанного напрашивается вывод, что «Франклин» скорее всего стал жертвой одного из ураганов, столь часто бушующих в райнах Малезии. В случае же столкновения с другим кораблем о катастрофе рано или поздно узнали бы, поскольку весьма редко бывает, чтобы ни один из столкнувшихся кораблей не остался на плаву. Но на такой поворот событий уже не приходилось надеяться.
Поняв все это, мистер Уильям Эндрю печально склонил голову перед миссис Бреникен, все время вопросительно поглядывавшей на него.
— Да нет же, нет! — воскликнула она.— «Франклин» не затонул!.. Нет!.. Джон и его люди не погибли!..
Разговор продолжался по настоянию Долли: ей хотелось, чтобы капитан Эллис рассказал о походе как можно обстоятельнее. Она то и дело уточняла подробности, задавала вопросы, спорила, ни в чем не желая уступать. Беседа длилась три часа, и, когда миссис Бреникен собралась проститься с капитаном Эллисом, тот спросил, не намерена ли она поставить «Долли-Хоуп» на прикол.
— Отнюдь, капитан,— ответила Долли,— мне было бы грустно сознавать, что ваша команда и вы хотите сойти на берег. Быть может, появятся новые данные и мы предпримем второй поход. Если бы вы согласились оставить за собой командование «Долли-Хоуп»...
— О, конечно, мадам,— ответил капитан Эллис,— но я ведь служу дому Эндрю и там могут понадобиться мои услуги...
— Пусть это вас не беспокоит, мой дорогой Эллис,— сказал мистер Уильям Эндрю.— Я буду счастлив, если вы останетесь в распоряжении Долли, раз она того хочет.
— Тогда моя команда и я не покинем «Долли-Хоуп»...
— Прошу вас, капитан, позаботьтесь, чтобы судно всегда было готово снова выйти в море!
Давая свое согласие, судовладелец, как, впрочем, и капитан Эллис, не сомневался, что Долли не будет снаряжать новую экспедицию. Даже если время никогда не излечит ее душу, оно, по крайней мере, разрушит надежду.
Так по воле миссис Бреникен «Долли-Хоуп» не был поставлен на прикол. Капитан Эллис и его люди, являясь экипажем, продолжали получать жалованье, как если бы они находились в плавании. К тому же после девятнадцатимесячного похода по суровым малезийским морям судну требовался серьезный ремонт; нужно было отремонтировать подводную часть судна, кое-где обновить оснастку[139], заменить котлы, поменять некоторые детали машины. Когда все эти работы были завершены, «Долли-Хоуп» загрузили продовольствием и углем, и корабль был готов по первому приказу выйти в море.
Миссис Бреникен вновь зажила своей обыденной жизнью в Проспект-хаус, не допуская к себе никого, кроме мистера Уильяма Эндрю и капитана Эллиса. Она была целиком поглощена не только планами новой экспедиции, но и воспоминаниями; теперь маленькому Уоту исполнилось бы семь лет — но его не было на свете! Доллины мысли обращались к тому, кто жертвовал собой ради нее, Заку Френу: ей бы хотелось с ним познакомиться, но он еще не вернулся в Сан-Франциско. Однако ждать оставалось недолго. Не раз уже в морских периодических изданиях давались сведения о «Калифорнийце», и в том, что до конца 1881 года корабль вернется в порт приписки, сомневаться не приходилось. Как только это произойдет, миссис Бреникен призовет Зака Френа к себе и выполнит свой долг, обеспечив ему будущее.
Миссис Бреникен беспрестанно помогала семьям, пострадавшим в результате гибели «Франклина». Только для того, чтобы побывать в их скромных жилищах и помочь им, она покидала Проспект-хаус и спускалась в нижние кварталы города. Ее великодушие выражалось по-разному: она заботилась о материальных и духовных нуждах своих подопечных. В начале года Долли поведала мистеру Уильяму Эндрю о своем проекте, к осуществлению которого ей не терпелось приступить,— речь шла о создании приюта для беспризорных детей, маленьких сирот, не имеющих родителей.
— Мистер Эндрю,— сказала она судовладельцу,— в память об Уоте я хочу основать это заведение и обеспечить его всем необходимым. Не сомневаюсь, что Джон, когда вернется, одобрит мое начинание. Можем ли мы найти лучшее применение нашему богатству?
Мистер Уильям Эндрю, не имеющий против этого возражений, принялся содействовать миссис Бреникен в создании приюта. В учреждение потребовалось вложить сто пятьдесят тысяч долларов: деньги пошли на покупку подходящего здания и на ежегодную оплату работы обслуживающего персонала.
Дело завершилось очень быстро благодаря поддержке, оказанной миссис Бреникен со стороны муниципалитета. Впрочем, о строительстве речи не велось, было приобретено просторное здание, расположенное в живописном месте, на одном из склонов Сан-Диего со стороны старого города. С помощью искусного архитектора дом перестроили так, чтобы в нем можно было поселить с полсотни детей и разместить достаточное количество сотрудников, которые будут ухаживать за ними, воспитывать и обучать их.
Девятнадцатого мая приют, получивший название Уот-хаус, был открыт под рукоплескания всего города, пожелавшего по такому случаю бурно выразить миссис Бреникен свою симпатию. Щедрая женщина, однако, на церемонию открытия не явилась, оставшись в своем шале. Но как только в Уот-хаус поселились первые воспитанники, она стала каждый день приходить к ним, будто всем им была матерью.
Дети могли оставаться в приюте до двенадцати лет. Когда они достигали подходящего возраста, их учили читать и писать, им давали нравственное и религиозное воспитание и вместе с тем обучали профессиям, соответствующим душевным склонностям каждого из воспитанников. Кое-кого — выходцев из семей моряков, проявивших любовь к морю,— готовили к службе юнгами[140], а потом и матросами на кораблях. По правде сказать, складывалось впечатление, что к этим детям Долли относилась с особенной нежностью,— без сомнения, в память о капитане Джоне.
Подходил к концу 1881 год, но никаких известий о «Франклине» не появилось ни в Сан-Диего, ни где-либо еще. Хоть и были обещаны солидные вознаграждения тем, кто найдет малейший след исчезнувшего судна, отправить «Долли-Хоуп» во вторую экспедицию по-прежнему не представлялось возможным. Но миссис Бреникен не отчаивалась. Быть может, то, что не дал год 1881-й, даст год 1882-й?..
А что стало с мистером и миссис Баркер? В каком краю нашел прибежище Лен Баркер, спасаясь от начатых в отношении его преследований? Федеральная полиция в конце концов прекратила дело, и миссис Бреникен уж и не надеялась узнать, как сложилась судьба Джейн. Это еще больше огорчало миссис Бреникен, ведь она так любила свою несчастную родственницу.
Долли удивлял тот факт, что она не получила от Джейн ни одного письма,— а ведь кузина могла бы написать, не подвергая опасности мужа. Разве они оба не знали, что к Долли вернулся рассудок, что она снарядила судно на поиски «Франклина» и экспедиция не дала никаких результатов? ’ Нет, такая неосведомленность была маловероятна, поскольку газеты Старого и Нового Света следили за каждым этапом экспедиции. Мало того, родственники миссис Бреникен должны были знать, что она после смерти своего дяди, Эдварда Стартера, сделалась богатой и теперь могла прийти им на помощь! И все же ни тот, ни другая не попытались войти с ней в переписку, хотя их положение наверняка было очень шатким.
Уже минули январь, февраль, март, и можно было подумать, что 1882 год тоже не принесет никаких изменений, как случилось нечто такое, что, казалось, могло пролить немного света на катастрофу «Франклина».
Двадцать седьмого марта пароход «Калифорниец», на который нанялся матросом Зак Френ, после многолетнего плавания по морям, омывающим Европу, стал на якорь в бухте Сан-Франциско. Как только Долли узнала о возвращении судна, она написала Заку Френу, уже ставшему боцманом, попросив его приехать в Сан-Диего.
Зак Френ и без того хотел вернуться в родной город, чтобы отдохнуть там несколько месяцев, а потому с готовностью принял приглашение миссис Бреникен.
Тем временем распространилась новость, которая, если бы подтвердилась, наделала бы много шуму в штатах конфедерации. Поговаривали, будто «Калифорниец» подобрал обломок, вероятно принадлежавший «Франклину»... Одна из газет Сан-Франциско добавляла, что моряки судна обнаружили его в северных водах Австралии, между Тиморским и Арафурским морями, неподалеку от острова Мелвилл, к западу от Торресова пролива.
Получив телеграмму, уведомляющую о находке, мистер Уильям Эндрю и капитан Эллис спешно явились в Проспект-хаус. При первых словах о случившемся Долли сильно побледнела. Однако это не помешало ей с полной уверенностью заявить, что после обломка найдут «Франклин», а после «Франклина» — Джона и его товарищей.
Находка и в самом деле была фактом немаловажным: впервые были найдены следы пропавшего корабля. Отныне миссис Бреникен, ищущая место катастрофы, имела звено той цепи, которая связывала настоящее с будущим. Она тотчас же велела принести карту Океании. Мистеру Уильяму Эндрю и капитану Эллису надлежало изучить вопрос о новой экспедиции: Долли хотела, чтобы решение о ней было принято незамедлительно.
— «Франклин», значит, следовал в Сингапур не через Филиппины и Малезию,— начал мистер Уильям Эндрю.
— Но это невероятно... Этого не может быть! — возразил капитан Эллис.
— И все же,— продолжал судовладелец,— если он шел иным маршрутом, то как тогда обломок мог оказаться в Арафурском море, к северу от острова Мелвилл?
— Я не в силах ни понять этого, ни объяснить, мистер Эндрю,— ответил капитан Эллис.— Знаю только, что «Франклин» видели на юго-западе от острова Целебес, после того как он вышел из Макасарского пролива. А оказался он в этом проливе потому, разумеется, что пришел с севера, а не с востока. Стало быть, в Торресов пролив он попасть не мог!
В результате долгого обсуждения пришлось согласиться с мнением капитана Эллиса.
Миссис Бреникен слушала, не вступая в разговор. И только складка у переносицы выдавала, с каким упорством, и даже упрямством, она отказывалась допустить, что Джон и его люди мертвы. Нет! Она не поверит в это до тех пор, пока ей не представят вещественных доказательств их гибели!
— Ну хорошо! — сказал мистер Уильям Эндрю.— Будем считать, что вы меня убедили, мой дорогой Эллис. Допустим, «Франклин», идя в Сингапур, должен был пересечь Яванское море...
— По крайней мере, частично, мистер Эндрю, поскольку крушение произошло между Сингапуром и островом Целебес.
— Говорю вам, допустим. Но каким образом обломок очутился возле Австралии, если «Франклин» наскочил на какой-нибудь риф в Яванском море?
— Возможно, обломок был унесен через Зондский пролив или один из тех проливов, что разделяют острова в Тиморском и Арафурском морях.
— Течения идут в том же направлении?
— Да, мистер Эндрю, добавлю даже, что если бы «Франклин», попав в бурю, потерял управление, его могло снести в один из этих проливов и он в конце концов разбился бы о рифы к северу от побережья Австралии.
— В самом деле, это единственное правдоподобное объяснение. Тогда, если обломок был найден неподалеку от острова Мелвилл через шесть лет после катастрофы, то значит, он недавно отделился от рифов, о которые разбился «Франклин»!
Столь серьезный довод не взялся бы оспаривать ни один моряк.
Тут миссис Бреникен, не сводя глаз с развернутой перед ней карты, сказала:
— Раз «Франклин», по всей вероятности, был выброшен на австралийский берег, но уцелевшие после катастрофы так и не объявились, стало быть, они находятся в плену у какого-нибудь туземного племени...
— Что ж, Долли, это не так уж и невозможно... И все-таки...— проговорил мистер Уильям Эндрю.
Миссис Бреникен решительно запротестовала против сомнения, присутствовавшего в его словах, и капитан Эллис счел нужным сказать:
— Остается выяснить, действительно ли подобранный «Калифорнийцем» обломок принадлежит «Франклину».
— У вас есть сомнения? — спросила Долли.
— Скоро мы все будем знать в точности,— ответил судовладелец.— Я распорядился, чтобы нам прислали этот обломок...
— А я,— добавила миссис Бреникен,— велю, чтобы «Долли-Хоуп» был готов снова выйти в море.
Через три дня боцман Зак Френ, только что приехавший в Сан-Диего, явился в Проспект-хаус.
В ту пору ему было тридцать семь лет. Человек крепкого телосложения, с походкой решительной, с красным от морского загара лицом, он был из тех моряков, которые внушают к себе доверие и всегда прямо идут к выполнению поставленных перед ними задач.
Миссис Бреникен приняла его с таким чувством признательности, что храбрый моряк даже несколько смутился.
— Друг мой,— сказала миссис Бреникен, излив свои первые чувства,— вы... вы спасли мне жизнь, вы сделали все, чтобы спасти моего несчастного малютку... Чем я могу вам отплатить?
Боцман ответил, что выполнял свой долг и что матрос, который не поступил бы так, как поступил он, был бы уже не матрос, а просто наемник!.. В общем, он не заслужил никаких вознаграждений и благодарит миссис Бреникен за добрые намерения. Если она позволит, он снова навестит ее, когда в следующий раз будет на берегу.
— Я несколько лет ждала вашего прихода, Зак Френ,— отвечала миссис Бреникен,— и надеюсь, что вы будете со мной в тот день, когда появится капитан Джон...
— Да, когда появится капитан Джон!
— Зак Френ, думаете ли вы...
— Что капитан Джон погиб?.. Да нет же, черт возьми! — воскликнул боцман.
— О!.. У вас есть надежда...
— Больше чем надежда, миссис Бреникен. Самая что ни на есть уверенность! Да разве такой человек, как капитан Джон, может пропасть, словно шляпа, сорванная с головы ветром! Вот еще! Да где это видано?!
Слова Зака Френа, к тому же сказанные с твердой верой в их справедливость, заставили трепетать сердце миссис Бреникен. Теперь не одна она верит, что Джон найдется; есть человек, который разделяет ее убежденность... и это тот, кому она обязана жизнью.
— Спасибо, боцман,— проговорила Долли,— спасибо! Вы и не представляете, какое добро вы мне сделали!.. Повторите... повторите, что капитан Джон остался жив...
— Ну да! Конечно, миссис Бреникен! И в доказательство того, что он жив, его в один прекрасный день найдут!.. Пусть кто-нибудь скажет, что это не доказательство...— И Зак Френ подробно рассказал, при каких обстоятельствах был выловлен обломок потерпевшего крушение судна.
— Знаете, Зак, я решила немедленно предпринять новые поиски,— выслушав рассказ боцмана, сказала Долли.
— И на этот раз они будут удачными... Если позволите, миссис Бреникен, я тоже приму в них участие!
— Вы согласились бы присоединиться к капитану Эллису?
— От всего сердца!
— Спасибо, Зак! Мне кажется, если вы будете на борту «Долли-Хоуп», это принесет нам удачу...
— Я тоже так думаю, миссис Бреникен! — подмигнув, ответил боцман.— Да!.. Я готов отправиться в путь.
Долли, подойдя к Заку Френу, пожала ему руку так, как жмут руку друга. Воображение вновь увлекло ее, возможно, и по ложному пути, но ей так хотелось верить, что боцман добьется успеха там, где другие потерпели неудачу.
И все-таки, как сказал капитан Эллис, необходимо было удостовериться, что обломок, привезенный «Калифорнийцем», действительно принадлежал «Франклину», несмотря на то что у миссис Бреникен не возникало сомнений на сей счет.
Отправленный в Сан-Диего по просьбе мистера Уильяма Эндрю обломок прибыл в город поездом и тотчас же был доставлен на корабельную верфь. Там его изучали инженеры и мастера, руководившие постройкой «Франклина». Это был кусок форштевня или, вернее, резной фигуры, имеющейся обычно на носу парусного корабля. Выловленный неподалеку от острова Мелвилл, милях в десяти от берега, деревянный обломок был в очень плохом состоянии, но не оттого, что долго находился в воде, а оттого что подвергался воздействию погодных перемен. Следовательно, он длительное время пролежал на рифе, о который разбилось судно, а затем, вероятно, был снесен течением и дрейфовал много недель или даже месяцев, пока его не заметили матросы «Калифорнийца». Но принадлежал ли найденный обломок кораблю Джона?.. Во всяком случае, если похожесть скульптурных деталей еще можно было поставить под сомнение, то в идентичности материалов сомневаться не приходилось,— тик[141], из которого вырезалась фигура, брали со складов верфи. На обломке также обнаружили след от железного крепления и остатки красной и золотой красок на резном ветвевидном орнаменте[142].
Итак, привезенный «Калифорнийцем» обломок, бесспорно, принадлежал судну торгового дома Эндрю, тщетно разыскиваемому в бассейне[143] Малезии. Сделанный вывод позволил принять объяснение капитана Эллиса, а следовательно, новый поход с целью обследовать бассейн между Зондскими островами и северным побережьем Австралии был полностью обоснован. Будет ли эта экспедиция более удачной, нежели экспедиция на Филиппины, Целебес и Молукки? Обстоятельства позволяли надеяться.
На сей раз миссис Бреникен подумывала о том, чтобы самой идти на «Долли-Хоуп». Но мистеру Уильяму Эндрю и капитану Эллису, к которым присоединился и Зак Френ, удалось, правда не без труда, отговорить ее от личного участия в экспедиции. Успех такого рода плавания, которое неизбежно будет долгим, может оказаться под угрозой из-за присутствия на борту женщины.
Разумеется, Зак Френ был взят на «Долли-Хоуп» боцманом, и капитан Эллис отдал последние распоряжения, дабы в кратчайший срок судно вышло в море.
Глава XIII ЭКСПЕДИЦИЯ В ТИМОРСКОЕ МОРЕ
«Долли-Хоуп» покинул порт Сан-Диего в десять часов утра третьего апреля 1882 года. Отойдя от американского берега, капитан Эллис пошел юго-западным курсом, взяв, однако, чуть южнее, чем во время первой экспедиции. Он намеревался кратчайшим путем, через Торресов пролив, достичь Арафурского моря, у берегов которого был найден обломок «Франклина».
Двадцать шестого апреля показались острова Гилберта, разбросанные в той части Тихого океана, где спокойствие, царящее в это время года, делает плавание парусных кораблей столь медленным и утомительным. Оставив на севере две островные группы — Скарборо и Кингсмилл,— образующие лежащий в восьмистах лье от побережья Калифорнии архипелаг, к юго-востоку от Каролин, капитан Эллис двинулся через группу островов Ваникоро, заметную на расстоянии пятнадцати лье благодаря высящейся на горизонте горе Капого.
Эти зеленеющие, плодородные острова, сплошь покрытые непроходимыми лесами, принадлежат архипелагу Вити. Они окружены коралловыми рифами, отчего подступы к ним чрезвычайно опасны. Известно, что именно здесь Диллон и Дюмон-Дюрвиль нашли остатки кораблей Лаперуза, «Решерш» и «Эсперанс», которые вышли из Бреста в 1791 году и, наскочив на рифы острова Ваникоро, так никогда и не вернулись в порт.
При виде с голь печально знаменитого острова моряки «Долли-Хоуп» невольно задумались: неужто и «Франклин» постигла га же участь, что и корабли Лаперуза? Неужто, подобно Диллону и Дюмон-Дюрвилю, капитан Эллис найдет лишь обломки погибшего судна? А вдруг не удастся установить место катастрофы? Тогда судьба Джона Бреникена и его товарищей так и останется тайной.
Покрыв еще двести миль, «Долли-Хоуп» прошел через Соломоновы острова, некогда называвшиеся Нью-Джорджия,— архипелаг этот включал в себя с десяток больших островов, рассеянных на пространстве длиною в двести лье и шириною в сорок. Среди них есть острова Картерет, иначе говоря, острова Бойни, само название которых указывает, ареной каких кровавых событий они явились.
Капитан Эллис не стал делать остановку: ему не нужно было расспрашивать островитян,— он спешил к Торресову проливу, горя желанием не менее, чем Зак Френ, оказался в той части Арафурского моря, где был найден обломок «Франклина». Вот там поиски будут вестись со всей тщательностью и неутомимой настойчивостью, которые, быть может, и приведут к успеху.
Не так далеко лежали земли Папуасии, носящие название Новая Гвинея. Через несколько дней после того, как «Долли-Хоуп» оставил позади Соломоновы острова, вдали показался архипелаг Луизиада. Судно миновало острова Россел, Д’Антркасто, Тробриан и множество островков, скрытых под великолепными кронами кокосовых пальм.
Наконец, по истечении трех недель плавания, впередсмотрящие[144] увидали на горизонте высокий берег Новой Гвинеи, а потом оконечность мыса Йорк — точно вырвавшуюся вперед часть австралийского берега. Обе эти суши ограничивают с севера и с юга Торресов пролив. Плавание по этому проливу — дело крайне опасное. Капитаны без особой нужды не отваживаются заходить в него, а морские страховые компании, как говорят, отказываются страховать суда, плавающие по Торресову проливу.
Пролив очень опасен своими мелями, также не следует доверяться и его течениям, постоянно движущимся с востока на запад, увлекая воды Тихого океана в сторону Индийского, Идти по нему можно лишь несколько часов в день, когда солнце стоит так, что позволяет заметить скалы, скрытые иод волнующейся поверхностью моря.
Торресов пролив уже виднелся вдали, когда капитан Эллис, разговаривая со своим помощником и Заком Френом, спросил у боцмана:
— «Калифорниец» подобрал обломки «Франклина» возле острова Мелвилл?
— Именно так,— ответил боцман.
— Значит, примерно в пятистах милях от пролива, в Арафурском море?..
— Совершенно верно, капитан, и я понимаю, что вас озадачивает. Если учесть постоянные течения, идущие с востока на запад, получится, что «Франклин» затонул при входе в Торресов пролив.
— Несомненно, боцман. Выходит, Джон Бреникен, чтобы добраться до Сингапура, выбрал небезопасный путь? Но с этим трудно согласиться; я по-прежнему считаю, что, поскольку в последний раз шхуну видели к югу от острова Целебес, она должна была идти через Малезию, так, как шли мы во время нашей первой экспедиции,— если только тут не вмешались какие-нибудь неизвестные мне обстоятельства.
— Отсюда следует,— заметил помощник,— что, если капитан Бреникен оказался в Тиморском море, он мог попасть туда только через один из проливов, разделяющих Зондские острова.
— Разумеется,— ответил капитан Эллис,— но тогда я не понимаю, каким образом «Франклин» могло отнести к востоку?
— Не знаю, что и думать,— ответил помощник.— Если бы обломок нашли в Индийском океане, это можно было бы объяснить кораблекрушением, происшедшим либо у Зондских островов, либо у западного побережья Австралии...
— А раз он поднят на борт неподалеку от острова Мелвилл,— рассуждал капитан Эллис,— значит, «Франклин» затонул в той части Арафурского моря, которая граничит с Торресовым проливом или же в самом этом проливе.
— Может, вдоль австралийского берега существуют противотечения, которые отогнали обломок в сторону пролива? В таком случае крушение могло произойти в западной части Арафурского моря.
— Что ж, посмотрим,— сказал капитан Эллис.— А пока будем действовать так, как если бы «Франклин» разбился о рифы в Торресовом проливе...
— И если все будет хорошо, мы найдем капитана Джона! — сказал Зак Френ.
Ширина Торресова пролива составляет миль тридцать[145]. Трудно даже представить себе обилие его островков и рифов, местоположение которых едва установлено лучшими географами. Их насчитывают по меньшей мере девятьсот, большинство из них - вровень с водой, и самые крупные имеют всего-навсего три-четыре мили в окружности
Населяют «земли» Торресова пролива племена андаманцев, весьма враждебно настроенных к морякам, попадающим к ним в руки, о чем свидетельствует истребление экипажей «Честерфилда» и «Ормузца». Перемещаясь с одного острова на другой в своих легких пирогах или малайских летучих прао[146], местные жители без труда могут добираться от Новой Гвинеи до Австралии и обратно. Стало быть, если капитан Джон и его товарищи оказались на одном из этих островков, они бы довольно легко перебрались на австралийский берег, потом достигли бы какого-нибудь поселка на берегу залива Карпентария или на полуострове Кейп-Йорк, и там уж их возвращение на родину не представляло бы больших трудностей. Но поскольку никто из них домой не вернулся, можно предположить, что они попали в плен к туземцам, живущим в проливе, а от этих дикарей ждать уважения к пленникам не приходится* они их безжалостно убивают, пожирают,— и где тогда искать следы этих кровавых расправ?
Вот о чем размышлял капитан Эллис, о чем говорили между собой моряки «Долли-Хо)п». Какая участь ждала спасшихся с «Франклина», если он затонул в Торресовом проливе?.. Правда, оставалась вероятность того, что он не пошел в пролив, но тогда почему кусок носового украшения корабля был найден неподалеку от острова Мелвилл?
Капитан Эллис бесстрашно устремился в полные опасностей проходы, не забывая в то же время об осторожности. Имея надежный пароход, бдительных офицеров, смелых и хладнокровных матросов, он рассчитывал выбраться из этого лабиринта подводных камней и к тому же удержать на почтительном расстоянии туземцев, если те попытаются атаковать судно.
Войдя - в силу той или иной необходимости — в Торресов пролив, начало которого со стороны Тихого океана изборождено коралловыми банками[147], корабли движутся предпочтительно вдоль австралийского берега Однако на юге Папуасии имеется довольно большой остров — Марри,— его нужно было тщательно обследовать.
«Долли-Хоуп» пошел меж двух опасных рифов, названных Истен-Филдс и Бут. Последний конфигурацией[148] своих скал напоминает потерпевший крушение корабль: издали его даже приняли за остатки «Франклина». Но охватившее всех волнение длилось недолго,— с помощью паровой шлюпки вскоре удалось установить, что это всею лишь причудливое нагромождение коралловых глыб.
При приближении к острову Марри моряки увидели множество лодок, представляющих собою обыкновенные стволы деревьев с выжженной или выдолбленной серединой и снабженные балансирами, что обеспечивало их остойчивость. В каждой лодке находилось пять или шесть туземцев с лопатообразными веслами в руках. Туземцы ограничились криками или, вернее, дикими воплями.
На малом пару «Долли-Хоуп» удалось беспрепятственно пройти вокруг острова. Обломков кораблекрушения нигде замечено не было. На этих островах и островках моряки видели лишь туземцев атлетического телосложения, с черной блестящей кожей, пышными, окрашенными в красный цвет шевелюрами и большими, но не приплюснутыми, как у представителей негроидной расы[149] носами. Желая продемонстрировать свои враждебные намерения, они потрясали копьями, луками и стрелами, столпившись под произрастающими здесь в великом множестве кокосовыми пальмами.
В течение месяца, до десятого июня, пополнив запасы топлива в Сомерсете, одном из портов Северной Австралии, капитан Эллис тщательно обследовал пространство между заливом Карпентария и Новой Гвинеей. Он бросал якорь у островов Малгрейв, Банкс, Хорн и Олбани; не был обойден остров Буби, изобилующий мрачными пещерами,— в одной из таких пещер установлен почтовый ящик Торресова пролива.
Мореплаватели, оказавшись на острове, не ограничиваются тем только, что оставляют здесь письма, выемка которых производится, надо думать, нерегулярно. Нечто вроде международного соглашения обязывает моряков пополнять на острове Буби запасы угля и продовольствия, и нет оснований опасаться, что эти запасы будут разграблены туземцами, ибо сильные течения не позволяют их хрупким лодкам пристать к берегу.
Пуская в ход ничтожной цены подарки, капитану Эллису неоднократно удавалось встретиться с кем-нибудь из «мадо» — вождей этих островов. В ответ они дарили «каисо», черепаший панцирь, и «инкра», бусы из ракушек, являющиеся у них деньгами.
Из-за трудностей понимания друг друга невозможно было выяснить, известно ли андаманцам о каком-либо кораблекрушении, по времени совпадающем с исчезновением «Франклина». Во всяком случае, обнаружить у них вещи американского производства, будь то оружие или утварь, не удалось; не было найдено также ни железной оковки, ни частей каркаса, ни обломков мачт или рангоута.
Когда капитан Эллис окончательно покинул островитян, живущих в Торресовом проливе, он хоть и не мог утверждать, что «Франклин» не разбивался о его рифы, но, по крайней мере, не имел никаких подтверждений обратного. Теперь речь шла о том, чтобы обследовать Арафурское море и далее Тиморское, простирающееся между цепью Малых Зондских островов на севере и австралийским побережьем на юге.
Что касается залива Карпентария, то капитан Эллис не счел нужным заходить в него, поскольку, случись кораблекрушение у его берегов, о нем знали бы в окрестных поселениях. Он намеревался прежде всего направить поиски на побережье
Арнемленда, а потом, на обратном пути, обследовать северную часть Тиморского моря и ведущие туда многочисленные межостровные проливы.
Плавание близ крутых берегов Арнемленда, возле которых рассеяно множество островков и рифов, заняло не меньше месяца. Моряки были преисполнены отваги и рвения, коих ничто не могло погасить. Однако нигде, от залива Карпентария до залива Ван-Димена, экипаж «Долли-Хоуп» не мог найти следов «Франклина». Ни австралийские аборигены[150], ни китайцы, добывающие здесь трепангов[151], ничего не знали о потерпевших кораблекрушение. К тому же если спасшиеся моряки с «Франклина» были взяты в плен австралийскими племенами, живущими в этих краях и занимающимися каннибализмом, то ни один человек из них не мог уцелеть...
Одиннадцатого июля, прибыв на сто тридцатый градус восточной долготы, капитан Эллис принялся обследовать острова Мелвилл и Батерст, разделенные узким проливом. В десяти милях к северу от этой группы был подобран обломок «Франклина». Похоже, что его сорвало течением с рифа незадолго до появления «Калифорнийца». Стало быть, место катастрофы, возможно, находилось не так уж и далеко.
Розыски продолжались около четырех месяцев, поскольку включали в себя не только плавание вокруг обоих островов, но и обследование береговой линии Арнемленда вплоть до залива Куинс-Чаннел и даже до устья реки Виктория.
Очень трудно было продвигать поиски в глубь материка: племена, посещающие северные районы Австралийского континента, чрезвычайно опасны. Не так давно, как узнал капитан Эллис во время одной из стоянок, в этих краях снова имели место случаи каннибализма; экипаж голландского корабля «Гронинген», привлеченный ложными проявлениями дружбы со стороны жителей острова Батерст, был перебит и съеден дикарями. Можно утверждать, что тому, кто попадет к ним в плен, уготована самая жуткая из смертей!
И все же, хотя капитан «Долли-Хоуп» был вынужден отказаться от намерения узнать, где и когда команда «Франклина» попала в руки туземцев, ему, возможно, удастся отыскать следы кораблекрушения, ведь с тех пор, как «Калифорниец» подобрал обломок «Франклина», не прошло и восьми месяцев.
Капитан Эллис с командой принялись обшаривать бухты и бухточки, прибрежные рифы, не обращая внимания на усталость и грозящие опасности. Несколько раз «Долли-Хоуп» едва не разбился о еще малоизвестные в этих местах подводные скалы. Несколько раз судно чуть было не захватили туземцы, которых отгоняли с помощью ружей, когда их прао были на расстоянии, или же с помощью топоров, когда они пытались взять судно на абордаж[152]. Но ни на островах Мелвилл и Батерст, ни на Арнемленде вплоть до устья реки Виктория, как и в Торресовом проливе, остатков кораблекрушения найдено не было.
Такие вот результаты были у экспедиции третьего ноября. Считал ли капитан Эллис свою миссию законченной — по крайней мере в том, что касалось австралийского побережья и прилегающих к нему больших и малых островов? Стал ли он подумывать о возвращении, после того как обследовал Малые Зондские острова в северной части Тиморского моря? Словом, мог ли он сказать, что сделал все, что в человеческих силах? Конечно, отважный моряк, даже дойдя до берегов Австралии, не торопился сдаваться. Случай положил конец его колебаниям.
Утром четвертого ноября он и Зак Френ прогуливались по корме парохода, когда боцман показал ему на какие-то предметы, плавающие в полумиле от «Долли-Хоуп». Это были не бревна и не куски дерева, не части обшивки, но огромные пучки травы, похожей на бурые саргассовые водоросли. Явившиеся на поверхность из морских глубин, они плыли вдоль берегов высокой земли.
— Вот так штука! — проговорил Зак Френ.— Чтоб я пропал, если эту траву не принесло с запада или даже с юго-запада! Значит, непременно есть течение, которое несет их в сторону пролива?
— Да,— ответил капитан Эллис,— и это должно быть какое-нибудь местное течение, идущее на восток, впрочем, может быть, и просто приливное.
— Не думаю, капитан,— сказал Зак Френ.— На рассвете, помнится, я уже видел большое количество этих водорослей, дрейфующих[153] к востоку.
— Боцман, вы уверены в этом?..
— Как в том, что мы в конце концов найдем капитана Джона!
— Ну хорошо, если это течение действительно существует, могло получиться, что обломок плыл с запада, вдоль австралийского побережья.
— Именно это я и предполагаю,— ответил Зак Френ.
— В таком случае, боцман, нам нечего раздумывать. Нужно обследовать все берега в Тиморском море вплоть до западной оконечности Австралии, согласны?
— Конечно! Наверняка существует прибрежное течение, задевающее, и весьма ощутимо, остров Мелвилл. Если предположить, что капитан Бреникен потерпел крушение на западе, то становится понятным, каким образом обломок его корабля мог быть отнесен туда, где мы увидели его с борта «Калифорнийца».
— Продолжим путь на запад,— посоветовавшись с помощником, решил капитан Эллис.— Мы не сомнения должны привезти в Сан-Диего, а уверенность. Уверенность, что от «Франклина» не осталось ничего, если он погиб у австралийских берегов!
Итак, решение, кстати весьма оправданное, было принято, и «Долли-Хоуп» поднялся к северу до острова Тимор, чтобы пополнить запасы топлива. Сделав сорокавосьмичасовую стоянку, судно вновь спустилось к югу, к высокому мысу Лондондерри у границы Западной Австралии.
Покинув залив Куинс-Чаннел, капитан Эллис старался идти как можно ближе к береговой линии, начиная от мыса Тёртл-Пойнт: здесь было отчетливо видно, куда направлено течение. Это было не то изменчивое течение, которое зависит от прилива и отлива, а постоянное перемещение воды с запада на восток в южной части Тиморского моря. И нужно было подниматься по нему, обшаривая бухты и рифы, до тех пор пока «Долли-Хоуп» не окажется перед открытым морем, на границе Индийского океана.
Добравшись до входа в залив Кембридж, омывающий подножие горы Коберн, капитан Эллис счел, что было бы неосмотрительно пускать корабль внутрь этой длинной, усеянной рифами воронки, на берега которой часто наведываются грозные туземные племена. В глубь залива отправилась паровая шлюпка с полдюжиной хорошо вооруженных матросов иод командой Зака Френа.
— Ясно, что если Джон Бреникен оказался во власти аборигенов, населяющих эту часть континента, то вряд ли его люди и он сам остались в живых,— сказал капитан Эллис боцману.— Но нам важно знать, сохранилось хоть что-нибудь от «Франклина», в случае если австралийцы потопили его в заливе Кембридж...
— От этих негодяев всего можно ждать! — проговорил в ответ Зак Френ.
Задача перед боцманом стояла вполне определенная, и он, будучи все время настороже, выполнял ее на совесть. Он провел шлюпку до расположенного почти посредине залива острова Адольфус, обошел его вокруг, но не обнаружил ничего, что побудило бы вести поиски дальше.
Оставив залив Кембридж, «Долли-Хоуп» обогнул мыс Дюссежур и двинулся на северо-запад, вдоль берега одной из самых больших частей Австралии, известной под названием Западная Астралия. Близ ее побережья раскидано множество островков с причудливо врезанными в них бухточками. Но ни у мыса Рульерес, ни у высокого мыса Лондондерри экипаж не был вознагражден за многие мужественно переносимые тяготы.
А тяготы и опасения значительно увеличились уже тогда, когда «Долли-Хоуп» обогнул мыс Лондондерри. На этом берегу, на себе испытывающем силу волн Индийского океана, найдется немного доступных прибежищ, где могло бы укрыться потерпевшее управление судно. Что же касается парохода, то он всегда зависит от своей машины, которая может и отказать, когда неистовые удары моря вызывают у него килевую и бортовую качки[154].
От высокого мыса до залива Коллиер, в бухте Йорк и заливе Брансуик, можно встретить в беспорядке разбросанные островки, лабиринты[155] мелей и рифов, сравнимые с теми, что изобилуют в Торресовом проливе. У мысов Тальбот и Бугенвиль берег защищен столь мощным прибоем, что подойти к нему могут лишь лодки туземцев, почти никогда не опрокидывающиеся благодаря балансирам. Залив Адмиралтейства, находящийся между мысами Бугенвиль и Вольтер[156], так загроможден скалами, что паровая шлюпка не раз могла разбиться о них. Но ничто не охлаждало пыла моряков, и отважные люди оспаривали друг у друга возможность участвовать в столь опасном предприятии.
Оставив позади залив Коллиер, капитан Эллис пошел через архипелаг Бакканир. Надобно сказать, что у него не было намерения двигаться далее мыса Левек, оконечность которого ограничивает залив Кинг на северо-западе.
Состояние атмосферы не давало повода для беспокойства, напротив, погода день ото дня улучшалась. Для той части Индийского океана, что находится в южном полушарии, октябрь и ноябрь соответствуют апрелю и маю в северном полушарии. Наступало теплое время года, и экспедиция могла бы продолжаться в довольно благоприятных условиях. Но продлевать ее на неопределенное время не имело смысла: конец маршрута будет достигнут, как только прибрежное течение, движущееся к востоку и пригнавшее обломок к острову Мелвилл, перестанет ощущаться.
Это произошло в конце января 1883 года и тогда же "Долли-Хоуп" завершил впрочем безрезультатно обследование обширного эстуария[157] Кинг, куда несет свои воды река Фицрой. В устье этот важного водного пути пароходу пришлось даже выдержать ожесточенную атаку аборигенов. Во время стычки двое матросов были ранены, правда, не тяжело. Только благодаря хладнокровию капитана Эллиса стычка с местными жителями не обернулась для экипажа бедствием.
Покинув залив Кинг, поисковое судно встало у мыса Левек. Капитан Эллис держал совет со своим помощником и боцманом. Тщательно просмотрев карты, решили, что экспедиция закончится прямо здесь, у восемнадцатой параллели южного полушария. За заливом Кинг берег не изрезан, лишь кое-где попадаются небольшие островки, и эта часть Земли Тасмана, омываемая Индийским океаном, является еще белым пятном в недавно изданных атласах.
Не было никакого смысла ни в том, чтобы идти дальше на юго-запад, ни в том, чтобы обследовать берега островов Дампира. К тому же у «Долли-Хоуп» осталось мало топлива, и разумнее всего было направиться прямо к Батавии, где судно сможет вновь запастись углем. Затем, пройдя Тиморское море вдоль Зондских островов, оно вернется в Тихий океан.
Итак, курс был взят на север, и вскоре австралийский берег скрылся из виду.
Глава XIV ОСТРОВ БРАУС
В западной части Тиморского моря нет крупных островов. Географы отмечают здесь лишь несколько небольших островков. Чаще всего в этих водах встречаются причудливые подводные глыбы, коралловые образования, именуемые банками, скалами, рифами, мелководьями — рифы Линхер, Скотт, Серингапатам, Коралловый, Роули, Хиберния, банка Сахол, Эко-Рок и другие. Местоположение их определено: для большинства — точно, для других — приблизительно. Не исключено, однако, что некоторые из представляющих собою опасность рифов (те, что расположены вровень с водой) еще предстоит открыть. Оттого плавание в этих местах, где порой рискуют появляться суда, идущие из Индийского океана, затруднено и требует от моряков неусыпной бдительности.
Погода стояла хорошая, море, если не считать бурунов[158], было спокойным. Великолепная машина «Долли-Хоуп» работала на полную мощность и ни разу не дала сбоя с того времени, как судно вышло из Сан-Диего. Навигационные условия обещали благоприятствовать переходу от мыса Левек к острову Ява. Впрочем, путь был обратный, и капитан Эллис не предвидел иных задержек, кроме нескольких стоянок, которыми он хотел воспользоваться, чтобы обследовать еще Малые Зондские острова.
В первые дни после того, как судно отошло от мыса Левек, ничего неожиданного не случилось. Впередсмотрящим предписывалось повышенное внимание; расположившись на мачтах, они должны были замечать с возможно более далекого расстояния мелководья и рифы, которые местами едва виднелись из воды.
Седьмого февраля, часов около девяти утра, один из матросов, сидящих на реях[159] фок-мачты, сообщил, что впереди слева по борту риф. С палубы его не было видно, и Зак Френ бросился на ванты[160], чтобы самому посмотреть в указанное место.
Взобравшись на рей, боцман довольно ясно различил каменистое плато в шести милях от судна по левому борту. В действительности это была не скала и не банка, а небольшой двускатный островок. Учитывая расстояние до него и то, что взорам моряков он открывался лишь с одной стороны, можно было даже предположить, что этот островок имеет некоторую протяженность.
Через несколько минут, спустившись с рея, Зак Френ доложил об увиденном капитану Эллису. Тот дал приказ приводиться к ветру, чтобы приблизиться к острову.
В полдень, определив высоту солнца и установив координаты судна, капитан Эллис отметил в судовом журнале, что «Долли-Хоуп» находится под 14°07' южной широты и 123°13' восточной долготы. Точка эта, будучи перенесена на карту, совпала с местоположением некоего острова, современными географами называемого Браус и находящегося примерно в двухстах пятидесяти милях от австралийской бухты Йорк.
Остров лежал почти на пути следования парохода, и капитан Эллис, вовсе не намереваясь останавливаться возле него, все же решил пройти вдоль его берега.
Часом позже остров Браус находился уже не более чем в миле на траверзе «Долли-Хоуп». Море, слегка неспокойное, с шумом билось о вытянутый на северо-восток мыс и покрывало его мельчайшими брызгами. О величине острова вряд ли можно было судить, поскольку моряки видели его сбоку. Во всяком случае, внешне он представлял собою волнистое плато без какого-либо значительного возвышения.
Времени, однако, терять не стоило, и капитан, чуть замедлив ход, уже собирался дать команду механику продолжить путь, когда к нему обратился Зак Френ.
— Смотрите, капитан...— сказал он,— вон там... Не мачта ли это?
Боцман показал рукой в направлении мыса, обращенного на северо-восток и заканчивающегося крутым скалистым обрывом.
— Мачта?.. Нет!.. Сдается мне, это всего лишь ствол дерева,— ответил капитан Эллис.
Взяв подзорную трубу, он принялся внимательно разглядывать предмет, на который указал Зак Френ.
— Верно, боцман, вы не ошиблись!..— сказал капитан.— Это мачта, и, кажется, я вижу кусок истрепанного ветром флага... Должно быть, это сигнал!
— Тогда, может, стоит подойти?..— сказал боцман.
— Я тоже так думаю,— ответил капитан Эллис и отдал приказ идти к острову Браус на малом пару.
«Долли-Хоуп» стал приближаться к рифам, окружающим остров поясом шириною примерно в триста футов. Море яростно билось о них, но не по причине сильного ветра, а из-за того, что течение гнало волны в этом направлении.
Вскоре берег стал хорошо виден невооруженным глазом. Он выглядел диким, пустынным, бесплодным, вообще лишенным какой-либо растительности, с зияющими входами в пещеры, в которые с грохотом устремлялся прибой. Скалы чередовались с желтоватыми песчаными пляжами, усеянными стаями морских птиц. С той стороны, однако, с которой к острову подходил «Долли-Хоуп», никаких следов кораблекрушения не было видно — ни обломков мачт, ни остатков корпуса корабля Мачта же, установленная на оконечности высокого мыса, скорее всего была сделана из бушприта; что до флага, лохмотья которого колыхал легкий ветерок, то разобрать, какого он цвета, было невозможно.
— Там есть потерпевшие крушение! — воскликнул Зак Френ.
— Там они были! — отозвался помощник капитана.
— Нет сомнений, что какое-то судно потерпело крушение возле этого острова,— сказал капитан Эллис.
— Как нет сомнений и в том, что потерпевшие нашли здесь убежище, раз они поставили эту сигнальную мачту,— добавил помощник — И может быть, они так и остались на нем, ведь корабли, идущие в Австралию или Индию, редко проходят вблизи острова Браус.
— Думаю, капитан, вы намерены на него высадиться? — спросил Зак Френ.
— Да, боцман, но я не вижу места, где можно было бы пристать. Давайте обогнем остров, а потом уж примем решение. Если несчастные все еще живы, невозможно, чтобы они не заметили «Долли-Хоуп» и не подали сигнала...
— А если мы никого не увидим, что тогда? — вновь спросил Зак Френ.
— Попробуем высадиться на берег,— ответил капитан Эллис.— Даже если остров необитаем, на нем могут оставаться следы какой-нибудь катастрофы, а это представляет для нас огромный интерес.
— И кто знает?..— прошептал Зак Френ.
— Не хотите ли вы сказать, боцман, что «Франклин» могло выбросить на этот остров?
— А почему нет, капитан?
— Хотя такое предположение совершенно невероятно, мы все же попытаемся высадиться на берег! — сказал капитан Эллис.
Моряки тотчас принялись обходить остров кругом. Держась из осторожности в кабельтове от рифов, «Долли-Хоуп» вскоре обогнул несколько выступов на северной стороне острова. Вид местности оставался неизменным: схожие по форме скалы, крутые берега с бьющимися о них волнами, торчащие из воды и усеянные брызгами камни, не дающие возможности пристать к острову. Кое-где на заднем плане виднелись купы[161] хиреющих кокосовых пальм; каменистое плато[162], на котором они росли, не носило никаких следов культуры.
Ни людей, ни жилищ, ни лодок — ничего. Пустынное море, пустынный остров. Только многочисленные стаи чаек, перелетающих с одного места на другое, немного оживляли угрюмый пейзаж. Вряд ли для потерпевших кораблекрушение этот остров был желанным местом, но во всяком случае он мог стать для них убежищем.
Остров Браус имеет примерно шесть-семь миль в окружности. Напрасно моряки пытались разглядеть вход в гавань или хотя бы маленькую бухту среди скал, где пароход мог бы находиться в безопасности по крайней мере несколько часов. Вскоре стало очевидно, что высадиться на остров можно только с помощью корабельных шлюпок, да еще нужно поискать фарватер, который позволил бы им подойти к берегу.
Когда «Долли-Хоуп» оказался с подветренной стороны, был час пополудни. Подул норд-вестовый[163] бриз, и волны уже с меньшей силой бились о подножия скал. В одном месте берег образовывал нечто вроде обширного открытого рейда[164], где судно могло надежно стоять на якоре до тех пор, пока не изменится направление ветра. Тотчас было решено, что корабль зайдет туда и если не станет на якорь, то хотя бы будет двигаться с малой скоростью, в то время как паровая шлюпка пойдет к берегу. Оставалось определить место, куда могли бы ступить моряки, пройдя среди убеленных пеной прибоя рифов.
Разглядывая берег в подзорную трубу, капитан Эллис в конце концов обнаружил в плато ложбину, по которой в море стекал ручей. В свою очередь, Зак Френ заключил, что высадиться можно возле этой ложбины; берег там довольно полого спускался к воде, к тому же неподалеку был виден узкий проход через риф, и море в том месте было спокойное.
Капитан приказал снарядить паровую шлюпку, на что потребовалось полчаса. В нее сели он сам, Зак Френ, рулевой, матрос с багром, кочегар и механик. На всякий случай с собой захватили два ружья, два топора и несколько пистолетов. В отсутствие капитана «Долли-Хоуп» под командованием его помощника должен был маневрировать на открытом рейде; оставшимся на судне морякам надлежало внимательно следить за возможными сигналами.
В половине второго спущенная на воду шлюпка направилась к берегу, расположенному в доброй миле от «Долли-Хоуп». Когда она шла через проход в рифе, тысячи чаек оглашали местность пронзительными криками. Спустя несколько минут шлюпку плавно вынесло на песчаный берег с торчащими туг и там острыми гребнями скал. Капитан Эллис, Зак Френ и двое матросов тотчас же высадились на берег, оставив механика и кочегара в шлюпке, которая должна была стоять под парами. Пройдя по ложбине, являвшейся руслом ручья, все четверо поднялись на плато.
В нескольких сотнях метров от них находился небольшой каменистый холм причудливой формы; его вершина возвышалась над песчаным берегом ярдов[165] на тридцать. Капитан Эллис и его товарищи без промедления двинулись к холму и не без труда взобрались на него. С этой высоты им открылся весь остров.
В действительности он представлял собою овальный массив, похожий на черепаший панцирь, а высокий мыс являлся как бы хвостом. Тонкий слой почвы покрывал местами этот массив, который не был мадрепоровым образованием[166], как атоллы Малезии или группа коралловых островов в Торресовом проливе. То тут, то там среди гранита виднелись клочки зелени; но мха было больше, чем травы; камня, больше, чем корней; кустарника, больше, чем деревьев. Откуда брался этот ручей, русло которого, видимое лишь на каком-то отрезке своего пути, извивалось по склонам плато, определить было трудно, несмотря на то что местность просматривалась вплоть до сигнальной мачты.
Стоя на вершине холма, капитан Эллис и его товарищи глядели во все стороны. Нигде в воздухе не курился дым, нигде не было видно ни одного человека. Если остров Браус и был когда-то обитаем,— это не вызывало сомнений, — то маловероятно, чтобы он был обитаем теперь.
— Унылый приют для потерпевших крушение! — заговорил наконец капитан Эллис.— Если их пребывание на острове затянулось, хотел бы я знать, как они ухитрялись тут жить!
— Да...— сказал Зак Френ.— Почти голое плато, местами чахлые деревца... Скала, едва прикрытая почвой... Но, в конце концов, разве будешь привередничать, пережив кораблекрушение!.. Скала под ногами — это всегда лучше, чем дно морское и вода над головой!
— В первый момент — да! Но потом...— сказал капитан Эллис.
— Кстати, может статься, что нашедшие здесь прибежище вскоре были подобраны каким-нибудь судном...— заметил Зак Френ.
— В равной степени возможно и то, боцман, что они не вынесли лишений...
— Но каковы основания так думать, капитан?
— Если бы им удалось тем или иным способом покинуть остров, они бы постарались убрать сигнальную мачту. Есть опасение, что последний из них умер, так и не дождавшись помощи. Как бы то ни было, давайте сходим к этой мачте. Может, нам повезет и сможем узнать, какому государству принадлежало затонувшее судно.
Капитан Эллис, Зак Френ и оба матроса, спустившись по склону холма, направились к мысу. Но едва они сделали несколько шагов, как один из матросов остановился, споткнувшись о какой-то предмет.
— Смотрите, что это?..— удивился он.
— Покажи-ка! — отозвался Зак Френ.
Это было лезвие кортика[167], который моряки носят на поясе в кожаных ножнах. С отломанной рукояткой, все в зазубринах, лезвие, по-видимому, было выброшено как непригодное.
— Ну что, боцман?.. — спросил капитан Эллис.
— Я ищу клеймо, указывающее на происхождение этого лезвия,— ответил Зак Френ.
В самом деле, можно было предположить, что на нем имеется клеймо изготовителя. Но лезвие покрывал толстый слой ржавчины, и сперва его нужно было очистить. Сделав это, Зак Френ с трудом смог разобрать выгравированные на стали слова: Sheffield England.
Итак, нож был английский. Однако не стоило делать вывод, что выброшенные на остров Браус люди являлись англичанами, ведь кортик мог принадлежать матросу любой национальности, ибо продукция шеффилдской мануфактуры[168] расходится по всему миру. Вот если бы удалось найти другие вещи, тогда это предположение могло бы перерасти в уверенность или наоборот.
Капитан Эллис, боцман и матросы продолжили свой трудный путь к мысу. Утомительно идти по земле, на которой нет ни одной тропинки; даже если допустить, что по ней ступала нога человека, определить, когда это происходило, было невозможно,— следы заросли травой и мхом.
Пройдя около двух миль, капитан остановился возле нескольких чахлых кокосовых пальм, плоды которых, уже давно упавшие, совсем сгнили. До сих пор никаких иных предметов, кроме лезвия кортика, найдено не было; однако невдалеке от пальм на склоне небольшого холма среди редкого кустарника легко различались остатки каких-то культур. Это были ямс[169] и батат[170], вернувшиеся, казалось, в дикое состояние. Под колючим кустом лежала мотыга — там ее случайно обнаружил один из матросов. По тому, как лопатка, сильно изъеденная ржавчиной, насаживалась на черенок, можно было заключить, что мотыга изготовлена в Америке.
— Каково ваше мнение, капитан? — спросил боцман.
— Думаю, пока не время высказываться по этому поводу,— ответил капитан Эллис.
— Тогда двинемся дальше,— сказал Зак Френ, дав матросам знак следовать за ним.
Сойдя по склону плато, они оказались у начала высокого мыса, обращенного к северу. В этом месте гребень мыса прорезала узкая впадина, по которой можно было без особого труда спуститься к небольшому песчаному пляжу.
Пляж площадью около одного акра[171] обрамляли скалы красивого рыжего цвета; на песке там и сям валялось множество предметов, указывающих на го, что люди долгое время находились в этой части острова. Здесь были и осколки стекла, фаянса, глиняной посуды, и железные гвозди, и консервные банки (без сомнения, американские), и всевозможные предметы, используемые в морском деле; обрывки цепей, разорванные кольца, куски оснастки из оцинкованного железа, лапа малого якоря, множество блочных шкивов[172], погнутый рым[173], ручка насоса, обломки рангоутного дерева и ростров[174], пластины из черной жести, оторвавшиеся от подводной части корабля, относительно происхождения которых калифорнийские моряки вряд ли могли ошибаться.
— На этот остров был выброшен отнюдь не английский корабль, - сказала капитан Эллис,— а корабль Соединенных Штатов...
— Можно даже утверждать, что он был построен в одном из наших тихоокеанских портов! — добавил Зак Френ, мнение которого разделяли и оба матроса.
Однако думать, что этим кораблем был «Франклин», пока не приходилось.
Вначале, поскольку не нашлось ни шпангоутов, ни обшивки корпуса, была выдвинута версия, что корабль затонул в море# а экипаж добрался до берега на лодках, но вскоре капитан Эллис примерно в кабельтове от песчаного берега, среди скопления островерхих скал и едва покрытых водой камней, обнаружил груду плачевного вида обломков, некогда бывших судном. Бушующее море кинуло его на рифы, волны с неистовой силой обрушились на него, и в одно мгновение дерево ли, железо — все раздробилось, разрушилось, разлетелось, и прибой выбросил обломки по ту сторону рифов.
Капитан Эллис, Зак Френ и оба матроса в сильном волнении разглядывали то, что еще сохранилось после катастрофы; сломанные кокоры, рейки, куски щетинившейся изогнутыми гвоздями обшивки, часть руля, окрашенного синей кобальтовой краской, куски палубного настила... Но от внешней надводной части судна ничего не осталось, так же как и от рангоута; то ли он был срублен еще в море, то ли после крушения моряки использовали его, чтобы как-то обустроиться на острове.
Не было ни одного целого шпангоута, ни одной полностью сохранившейся части киля. Для тех, кто стоял теперь среди этих скал с острыми, торчащими, словно рогатки, гребнями, становилось очевидно, что корабль разбился вдребезги и его обломки уже не могли быть использованы в дальнейшем.
— Поищем, может, найдем какое-нибудь имя, инициал, клеймо,— сказал капитан Эллис.
— Дай Бог, чтобы это оказался не «Франклин»! — прошептал Зак Френ.
Но существовал ли тот знак, который хотел отыскать капитан? Даже если прибой и оставил в целости хотя бы часть транца[175] или носового фальшборта[176], где обычно пишется название судна, неужели ненастье и волны пощадили саму надпись?
Однако морякам ничего не попалось ни от транца, ни от фальшборта. Поиски не дали результатов, и, хотя кое-что из собранного на берегу было изготовлено в Америке, нельзя было утверждать, что это вещи с «Франклина».
Но ведь жертвы кораблекрушения нашли приют на острове Браус, о чем неопровержимо свидетельствовала сигнальная мачта, установленная на краю высокого мыса; очевидно, что некоторое время (трудно сказать сколько именно) они прожили здесь, а значит, непременно должен существовать грот[177], по всей вероятности расположенный неподалеку от песчаного берега, который использовался ими как укрытие. И действительно, вскоре один из матросов обнаружил пещеру, где жили спасшиеся моряки: она находилась в огромной гранитной глыбе между берегом и плато.
Капитан Эллис и Зак Френ поспешили к звавшему их матросу. Может, этот грот хранил тайну катастрофы? Может, он откроет имя судна?
Проникнуть внутрь можно было только через узкое и очень низкое отверстие. Возле него, на берегу, виднелся след от костра, пламя которого оставило копоть на гранитной стене. Размеры грота — примерно десять футов в высоту, восемь в глубину и пятнадцать в ширину — были достаточными для того, чтобы в нем разместилось человек двенадцать.
Обстановкой служили: подстилка из сухой травы, покрытая превратившимся в лохмотья парусом, скамейка и две табуретки, сделанные из кусков обшивки, колченогий корабельный стол — вероятно, из кают-компании. Из утвари имелось: несколько блюд и тарелок из кованого железа, три вилки, две ложки, нож, три металлические кружки — все изъеденное ржавчиной. Тут же, в углу, стоял бочонок, в котором, наверное, хранили воду из ручья. На столе валялся гнутый и ржавый корабельный фонарь, непригодный для пользования. Изодранная одежда была набросана на травяную подстилку.
— Несчастные! — воскликнул Зак Френ.— Какие лишения они терпели на этом острове!
— Они почти ничего не спасли из корабельного имущества,— сказал капитан Эллис.— Какая неистовая сила выкинула их на берег! Все было разбито, все! Чем же они питались?.. Немного зерен, солонины, консервов, съеденных до последней банки... Добавим сюда то, что удавалось поймать в море,— вот и вся пища... Какое бедственное существование, сколько им пришлось вытерпеть!
Могли ли они до сих пор находиться на острове? Конечно нет! Но если они умерли, то была вероятность найти тело того, кто скончался последним... Однако тщательные поиски внутри грота и снаружи не дали никаких результатов.
— Это наводит меня на мысль, что потерпевшие крушение покинули остров...— сказал Зак Френ.
— Каким же образом? — воскликнул капитан Эллис.— Разве они могли построить из обломков своего судна лодку, достаточно большую, чтобы она выдержала плавание?
— Нет, капитан, у них даже и небольшую-то лодчонку не из чего было построить. Я склонен думать, что их сигналы заметили с какого-нибудь корабля...
— А я не могу согласиться с таким предположением, боцман.
— Почему, капитан?
— Да потому, что, подбери их какой-нибудь корабль — весть об этом разошлась бы по всему миру, если только сам этот корабль впоследствии не затонул... Нет, это маловероятно, я отвергаю догадку, что потерпевшие крушение спаслись таким образом.
— Ладно,— сказал Зак Френ, не привыкший легко сдаваться,— пусть у них не было возможности построить лодку, но ведь доказательств того, что все их корабельные шлюпки пропали во время катастрофы, нет, а раз так...
— Даже в этом случае, поскольку никто не слышал, что спустя несколько лет в районе Западной Австралии был подобран потерпевший бедствие экипаж, я склонен думать, что лодка затонула во время плавания протяженностью несколько десятков миль между островом Браус и австралийским берегом! — ответил капитан Эллис.
Но такой ответ не мог удовлетворить Зака Френа, которого не оставляло желание узнать, что же все-таки стало с людьми, нашедшими приют на этом острове.
— Я полагаю, капитан, теперь вы намерены побывать в других частях острова? — спросил боцман.
— Да... Чтобы совесть была спокойна. Но прежде пойдем снимем эту сигнальную мачту. Зачем кораблям отклоняться от курса, раз тут уже некого спасать? Выйдя из грота, капитан, Зак Френ и оба матроса в последний раз осмотрели берег. Затем, поднявшись на плато, они направились к оконечности высокого мыса. По пути им пришлось обогнуть глубокую яму (нечто вроде каменистого водоема), в котором собиралась дождевая вода.
Внезапно капитан Эллис остановился. На земле он увидел четыре холмика, расположенных параллельно друг другу. Они не привлекли бы внимания, если б не были отмечены маленькими деревянными, наполовину сгнившими крестами. Это были могилы. Здесь находилось кладбище потерпевших крушение.
— Так, может, нам удастся узнать?..— воскликнул капитан Эллис.
Это не будет неуважением к покойникам — разрыть их могилы, извлечь тела, посмотреть, в каком они состоянии, поискать что-нибудь, что действительно указывало бы на национальность умерших.
Оба матроса принялась рыть землю ножами, отбрасывая ее во все стороны. Однако с момента захоронения прошло немало лет: теперь в земле покоились лишь останки. Капитан велел засыпать могилы и восстановить кресты...
Многого недоставало, чтобы разрешить вопросы, связанные с катастрофой. Если четверо были похоронены, что стало с тем, кто отдал им последний долг? А где пал он сам, найдутся ли его кости в какой-нибудь иной части острова? Капитан Эллис на это и не надеялся.
— Неужели нам не удастся узнать название погибшего корабля! — с отчаянием воскликнул капитан.— Неужели мы вернемся в Сан-Диего, так и не найдя обломков «Франклина», не узнав, что стало с Джоном Бреникеном и его командой!
— А почему бы этому кораблю не быть «Франклином»? — сказал один из матросов.
— А почему бы ему быть им? — возразил Зак Френ.
В самом деле, доказательств, что среди рифов острова Браус покоились обломки «Франклина», не было. По всей видимости, и эта экспедиция будет безрезультатной.
Капитан Эллис молчал, вперив взгляд в землю, где несчастных жертв катастрофы ждал конец мучений, увы, одновременно и жизни! Были ли они его соотечественниками, американцами? Были ли они теми, за кем прибыл «Долли-Хоуп»?..
— К сигнальной мачте! — сказал капитан Эллис и вместе с Заком Френом и матросами двинулся по длинному каменистому склону, соединяющему высокий мыс с островным массивом.
Мачта находилась всего в полумиле, но, чтобы пройти это расстояние, потребовалось двадцать минут, так как земля была сплошь покрыта колючим кустарником и камнями.
Подойдя к мачте, капитан Эллис и его товарищи увидели, что своим основанием она глубоко входит в выемку, сделанную в камне. Как уже раньше выяснилось с помощью подзорной трубы, мачта эта являлась обломком судна, точнее, его бушпритом; флаг был не чем иным, как куском истрепанного ветрами парусного полотна, без какого-либо указания на государственную принадлежность.
По приказу капитана Эллиса оба матроса приготовились валить мачту, когда Зак Френ вскричал:
— Капитан!.. Там!.. Смотрите!..
Это был колокол, стоящий на довольно крепкой еще опоре, его корпус кое-где покрывала патина[178].
Стало быть, жертвы кораблекрушения не удовлетворились тем, что поставили сигнальную мачту и прикрепили к ней флаг. Они перенесли сюда и корабельный колокол в надежде на то, что ею звон услышат на судне, идущем мимо острова... Но не указано ли на колоко \е название корабля, как это было принято почти во всех флотах?
Капитан Эллис направился было к колоколу, как вдруг остановился: неподалеку от опоры лежал скелет, вернее сказать, груда костей с приставшими к ним кусками истлевшей ткани.
Значит, их было пятеро, тех, кто спасся во время кораблекрушения и нашел приют на острове Браус. Четверо умерли, и пятый остался один; однажды он покинул грот, дотащился до оконечности мыса, позвонил в колокол, чтобы его услышали на судне, находящемся, возможно, где-то поблизости, потом упал на этом самом месте и больше уже не поднялся...
Дав распоряжение двум матросам вырыть могилу, капитан Эллис знаком позвал Зака Френа пойти осмотреть вместе с ним колокол.
На бронзе были выгравированы слово и цифры, все еще ясно различимые:
Франклин
1875
Глава XV ЖИВОЙ ОБЛОМОК
В то время как «Долли-Хоуп» совершал свое второе плавание в Тиморское море и заканчивал его при известных уже обстоятельствах, миссис Бреникен, ее друзья, семьи пропавших членов экипажа жили в мучительном ожидании. Сколько надежд связывалось с тем куском дерева, который подобрал «Калифорниец» и который, без сомнения, принадлежал «Франклину»!
Удастся ли капитану Эллису найти остатки корабля на каком-нибудь острове или где-нибудь на австралийском побережье? Отыщет ли он Джона Бреникена, Гарри Фелтона и двенадцать служивших под их командованием матросов? Привезет ли он, наконец, в Сан-Диего одного или нескольких человек, переживших катастрофу?
После ухода «Долли-Хоуп» от капитана Эллиса пришло два письма. В первом сообщалось о безрезультатных поисках в Торресовом проливе и Арафурском море. Во втором говорилось, что экспедиция побывала на островах Мелвилл и Батерст, но следов «Франклина» не обнаружила. Миссис Бреникен, таким образом, была в курсе того, что поиски продвинутся в Тиморское море и далее вдоль берегов Западной Австралии вплоть до многочисленных архипелагов, расположенных вблизи Земли Тасмана. Стало быть, «Долли-Хоуп» вернется только после того, как обследует Малые Зондские острова и когда будет потеряна последняя надежда отыскать следы «Франклина».
Тем временем минул 1882 год. Миссис Бреникен больше не получала известий от капитана Эллиса, но это ее не удивляло: почта через Тихий океан ходит медленно и нерегулярно. Горя желанием увидеть «Долли-Хоуп», она отдавала себе отчет в том, что, в сущности, для беспокойства нет никаких оснований. И все-таки в конце февраля мистер Уильям Эндрю начал уже думать, что экспедиция слишком затянулась.
Каждый день несколько человек ходи\и на мыс Айленд в надежде увидеть корабль вдали. Как бы далеко он ни показался, ему не нужно было сообщать в порт свой регистровый номер: моряки Сан-Диего узнали бы «Долли-Хоуп» по его ходу, как по манере поведения можно отличить француза от немца или даже англичанина от американца.
Наконец, утром двадцать седьмого марта в девяти милях от берега показалось долгожданное судно; оно шло на всех парах при свежем норд-вестовом ветре и менее чем через час вошло в бухту Сан-Диего.
Тотчас же в городе прослышали об этом, и жители собрались частью на пристанях, частью на мысах Айленд и Лома.
Миссис Бреникен, мистер Уильям Эндрю и несколько их друзей, спеша очутиться на «Долли-Хоуп», сели на буксир и двинулись навстречу. Толпа была охвачена волнением, но, когда буксир, направляясь за пределы порта, прошел мимо последнего причала, не раздалось ни единого крика: встречавшие корабль прекрасно понимали, что если бы экспедиция удалась, весть об этом уже летела бы по всему миру!
Двадцатью минутами позже миссис Бреникен, мистер Уильям Эндрю и их друзья подошли к «Долли-Хоуп». А еще через несколько мгновений все знали результат экспедиции. «Франклин» погиб на западной границе Тиморского моря, у острова Браус... Там потерпевшие кораблекрушение нашли убежище... Там они нашли смерть!
— Все? — спросила миссис Бреникен.
— Все...— ответил капитан Эллис.
Подавленное настроение овладело людьми, когда «Долли-Хоуп» со свернутым флагом в знак траура по жертвам катастрофы «Франклина» бросил якорь посреди бухты Сан-Диего.
«Долли-Хоуп» покинул порт третьего апреля 1882 года и возвратился двадцать седьмого марта 1883 г°Да- Плавание длилось около года, в течение которого самоотверженность ни разу не изменила морякам. Но увы! Единственным итогом экспедиции явилось крушение последних надежд.
Пока миссис Бреникен и мистер Эндрю находились на борту, капитан Эллис вкратце сообщил им сведения о гибели «Франклина» на рифах острова Браус.
Хотя теперь, Долли знала, не было никаких сомнений по поводу участи капитана Джона и его товарищей, обычная ее манера поведения нисколько не изменилась,— ни слезинки не выкатилось из глаз, с губ не сорвалось ни одного вопроса. Что спрашивать, если обломки «Франклина» нашли на острове и из жертв катастрофы, обретших там приют, в живых никого не осталось? Подробно об экспедиции ей расскажут после...
Несмотря на неопровержимые доказательства, Долли по-прежнему не впадала в отчаяние и не чувствовала себя вдовой Джона Бреникена! Как только «Долли-Хоуп» стал на якорь, она попросила мистера Уильяма Эндрю, капитана Эллиса и Зака Френа в тот же день прийти к ней в Проспект-хаус. Миссис Бреникен будет ждать их после полудня, с тем чтобы узнать подробности об экспедиции через Торресов пролив, Арафурское и Тиморское моря.
Лодка доставила миссис Бреникен к берегу; толпа на пристани почтительно расступилась перед ней, и Долли направилась в верхний квартал города.
В тот же день, чуть ранее трех часов, мистер Уильям Эндрю, капитан Эллис и боцман явились в шале; их немедленно проводили в гостиную. Все расселись вокруг стола, на котором была развернута карта морей, омывающих северное побережье Австралии.
— Капитан Эллис,— начала Долли,— не хотите ли вы мне рассказать о вашем плавании?
И капитан Эллис принялся рассказывать, да так, словно у него перед глазами лежал судовой журнал, не опуская ни малейшей детали, не забывая ни об одном происшествии, временами обращаясь к Заку Френу за подтверждением своих слов. Он подробно описал поиски в Торресовом проливе, в Арафурском море, у островов Мелвилл и Батерст, среди архипелагов Земли Тасмана, хотя поиски эти не дали результатов. Миссис Бреникен слушала молча и с интересом, уставив немигающий взгляд на капитана.
Подойдя в своем повествовании к событиям на острове Браус, он стал подробно излагать, час за часом, минута за минутой, все, что случилось с того момента, как на «Долли-Хоуп» заметили сигнальную мачту, установленную на краю высокого мыса. Миссис Бреникен сидела неподвижно, руки ее слегка дрожали; она слушала так, что казалось, будто события, о которых шла речь, разворачивались у нее перед глазами: вот капитан Эллис и его люди высаживаются на берег, в устье ручья, вот они поднимаются на холм, находят валяющееся на земле лезвие кортика, вот видят место, где моряки выращивали овощи, поблизости валяется мотыга; а вот песчаный берег и на нем следы кораблекрушения, и еще бесформенные остатки «Франклина» среди скопления скал, на которые его могло выбросить лишь самой сильной бурей; вот грот, где жили люди, а вот четыре могилы и скелет последнего из несчастных, у подножия сигнальной мачты, возле набатного колокола... Долли встала, точно в тишине Проспект-хаус услышала его звуки...
Капитан Эллис вынул из кармана поблекший от влажности медальон и передал его Долли. На нем был ее полу стершийся фотографический портрет. Эту вещицу она дала Джону, когда «Франклин» уходил в плавание, и ее нашли в одном из темных закоулков грота. Но если медальон является доказательством того, что капитан Джон был среди тех, кто жил на острове, значило ли это, что он был и среди тех, кто умер, не вынеся долгих тягот вдали от цивилизации?..
Долли попросила капитана Эллиса показать ей на карте, перед которой она столько раз в течение семи лет вспоминала она, остров Браус, эту едва различимую точку, затерянную в краях, где бушуют тайфуны[179] Индийского океана.
— Да, прибыв туда несколькими годами раньше,— добавил капитан Эллис, — мы, быть может, застали бы еще в живых... Джона... его товарищей...
— Возможно,— прошептал мистер Уильям Эндрю,— и именно туда нужно было направить нашу первую экспедицию!.. Но кто мог подумать, что «Франклин» погиб на одном из островов Индийского океана?
— Этого никто не мог предположить, зная маршрут, которым он должен был следовать и которым он действительно следовал, раз его видели к югу от острова Целебес!..— ответил капитан Эллис.— Но, может, капитан Джон перестал быть хозяином на корабле, вынужденно пошел через проливы меж Зондских островов в Тиморском море и достиг острова Браус?
— Да, теперь не вызывает сомнений, что события развивались именно так! — сказал Зак Френ.
— Капитан Эллис,— заговорила миссис Бреникен,— направив поиски «Франклина» в малезийские моря, вы действовали так, как должны были действовать... Но, оказывается, вначале нужно было идти к острову Браус! Да!.. Именно так!
Вступив в разговор и стремясь подкрепить свое упорное желание сохранить последний лучик надежды, Долли сказала:
— На борту «Франклина» находились капитан Джон, его помощник Гарри Фелтон и двенадцать матросов. На острове вы нашли останки четырех человек, которые были похоронены, и еще одного, последнего, умершего возле сигнальной мачты. Как вы полагаете, что стало с девятью другими?
— Этого мы не знаем,— ответил капитан Эллис.
— А я знаю,— решительно сказала миссис Бреникен,— но меня интересует ваше мнение.
— Возможно, они погибли в тот момент, когда «Франклин» вдребезги разбился об острые рифы.
— Стало быть, вы считаете, что в катастрофе уцелело только пять человек?
— К несчастью, это самое правдоподобное объяснение! — сказал мистер Уильям Эндрю.
— Я не разделяю такую точку зрения,— возразила Долли.— Почему бы Джону, Фелтону и двенадцати членам экипажа не добраться до острова Браус живыми и здоровыми? Почему бы девятерым из них не удалось покинуть остров?
— Но каким образом, миссис Бреникен? — живо спросил капитан Эллис.
— На лодке, построенной из обломков корабля.
— Миссис Бреникен, — отвечал капитан Эллис,— боцман подтвердит мои слова, в том состоянии, в каком находились обломки, это не представляется возможным!
— Но... одна из шлюпок...
— Шлюпки «Франклина», даже если предположить, что они остались целы, не способны выдержать плавание к австралийскому берегу или Зондским островам.
— И потом,— заметил мистер Уильям Эндрю,— если девятеро из потерпевших крушение смогли покинуть остров, то почему пятеро других там остались?
— Добавлю,— снова заговорил капитан Эллис,— что, даже если в их распоряжении и была какая-то лодка, те, кто уплыл на ней, погибли в море или стали добычей австралийских аборигенов, ведь они так нигде и не объявились!
Тут миссис Бреникен, не выказывая ни малейшего признака слабости, обратилась к боцману:
— Зак Френ, вы так же обо всем этом думаете, как капитан Эллис?
— Я думаю...— тряхнув головой, отвечал Зак Френ,— я думаю, что если дела могли обстоять таким образом... то очень возможно, что они могли обстоять и иначе!
— Так вот,— сказала миссис Бреникен,— у нас нет полной уверенности в судьбе тех моряков, чьи останки не были найдены на острове. Но об этом после, а сейчас позвольте поблагодарить от всего сердца вас и вашу команду, капитан,— вы сделали все, на что только способна самая непоколебимая преданность.
— Я бы хотел, чтобы экспедиция была более удачной, миссис Бреникен!
Нам пора, дорогая Долли,— сказал мистер Уильям Эндрю, полагая, что разговор был уже достаточно продолжительным.
— Да, мой друг, - ответила миссис Бреникен.— Мне необходимо побыть одной... Но всякий раз, как капитан Эллис захочет прийти в Проспект-хаус, я буду счастлива снова поговорить с ним о Джоне и его товарищах...
— Я всегда к вашим услугам, миссис Бреникен,— ответил капитан Эллис.
— И вы тоже, Зак Френ,— добавила Долли,— мой дом -это ваш дом.
— Мой?..— проговорил боцман.— Но что станет с «Долли-Хоуп»?..
— С «Долли-Хоуп»? — переспросила миссис Бреникен так, словно этот вопрос показался ей излишним.
— Не считаете ли вы, моя дорогая Долли,— вмешался мистер Уильям Эндрю,— что если представится случай продать судно...
— Продать,— живо повторила миссис Бреникен,— продать... Нет, мистер Эндрю, никогда!
Миссис Бреникен и Зак Френ обменялись взглядами: они прекрасно понимали друг друга.
С этого дня Долли вновь уединилась в шале, куда велела доставить некоторые вещи, найденные на острове Браус: утварь, которой пользовались потерпевшие, корабельный фонарь, кусок материи, некогда развевавшийся на вершине сигнальной мачты, колокол с «Франклина» и другие.
Что до «Долли-Хоуп», то судно поставили в глубине порта и сняли с него оснастку, а присмотр доверили Заку Френу. Все участники экспедиции получили щедрое вознаграждение и отныне были избавлены от нужды. Если же когда-нибудь «Долли-Хоуп» снова придется выйти в море, экипаж корабля останется прежним.
Зак Френ часто наведывался в Проспект-хаус. Миссис Бреникен была рада его видеть, беседовать с ним, вновь обсуждать подробности экспедиции. Схожий взгляд на вещи с каждым днем все более сближал их. Оба считали, что последнее слово о катастрофе «Франклина» еще не сказано, и Долли нередко повторяла боцману:
— Ни Джон, ни восемь его товарищей не могли умереть!
— Насчет восьмерых нс знаю... Но капитан Джон наверняка жив! — неизменно отвечал Зак Френ.
— Да! Жив! Но где его искать?.. Где мой бедный Джон?!
— Он там, где он есть, миссис Бреникен!.. И даже если мы туда не отправимся, мы получим от него весточку. Я не говорю, что это будет письмо, пришедшее по почте... Но весточку мы получим!
— Джон жив, Зак!
— Будь это не так, миссис Бреникен, разве я смог бы вас спасти? Разве Господь позволил бы? Нет. Это было бы слишком жестоко с его стороны!
Зак Френ, с его манерой высказываться, и миссис Брени-кен, с ее упорством, сходились на том, что не теряли надежду, которую уже ни мистер Уильям Эндрю, ни капитан Эллис, ни их друзья не в силах были разделить вместе с ними.
В течение 1883 года не произошло ничего такого, что привлекло бы внимание общественности к делу «Франклина». Капитан Эллис, приняв от дома Эндрю командование судном, снова ушел в море. Мистер Уильям Эндрю и Зак Френ были единственными гостями, которых принимали в шале. Что до миссис Бреникен, то она целиком посвятила себя заботам о приюте для детей-сирот.
В Уот-хаус теперь воспитывалось человек пятьдесят,— одни еще совсем крохи, другие уже подростки. Миссис Бреникен приходила сюда каждый день, следила за здоровьем детей, занималась их образованием, думала об их будущем. Значительная сумма, выделенная на содержание приюта, давала возможность сделать их счастливыми настолько, насколько вообще могут быть счастливы дети, лишенные отца и матери. По достижении ими возраста, когда пора начинать обучение какому-нибудь ремеслу, Долли пристраивала их в мастерские, торговые дома и на стройки Сан-Диего, продолжая тем не менее заботиться о них.
В тот год троих или даже четверых выходцев из семей моряков удалось даже определить на суда, под командование хороших, надежных капитанов. Начиная юнгами, воспитанники с тринадцати до восемнадцати лет были матросами, потом становились старшими матросами, а потом и боцманами. Так им обеспечивалась хорошая профессия в зрелые годы и пенсия в старости. Впоследствии за Уот-хаус утвердилась репутация школы моряков, делавшей честь Сан-Диего и другим портовым городам Калифорнии.
Помимо забот о приюте, миссис Бреникен продолжала благодетельствовать беднякам: не было человека, который, постучавшись в Проспект-хаус, ушел бы ни с чем. Имея солидную прибыль с состояния, которым управлял мистер Уильям Эндрю, она принимала участие во всех благотворительных мероприятиях, проводимых в пользу семей моряков с «Франклина».
Надеялась ли Долли, что кто-нибудь из пропавших без вести когда-нибудь вернется? Это была единственная тема ее разговоров с Заком Френом. Что стало с теми, чьих следов не обнаружилось на острове Браус? Почему бы им не покинуть остров на сделанной ими самими лодке, что бы там ни говорил капитан Эллис? Хотя с той поры прошло так много лет!
По ночам дивные сны одолевали миссис Бреникен: она вновь и вновь видела Джона... Он спасся во время кораблекрушения и был подобран в далеком море... Корабль, который вез его домой, виднелся вдали... Джон возвращался в Сан-Диего... И самым необычайным было то, что после пробуждения ее грезы не рассеивались, они продолжались и наяву — Долли уже готова была считать их реальностью.
На этом упорно стоял и Зак Френ. Идеи относительно жертв кораблекрушения, словно киянкой[180], были вбиты ему в голову, как нагели[181] в шпангоуты корабля. Он тоже все твердил о том, что найдены только пятеро потерпевших крушение из четырнадцати, что те, кого не нашли, могли покинуть остров Браус и что ошибочно утверждать, будто невозможно было построить лодку из обломков «Франклина». Правда, долгое время неизвестна судьба покинувших остров. Но об этом Зак Френ не хотел думать, и мистер Уильям Эндрю не без опасений наблюдал, как боцман поддерживает в Долли ее иллюзии. Разве не опасно такое перевозбуждение для мозга, однажды уже пораженного безумием?.. Когда мистер Уильям Эндрю заговаривал на эту тему с боцманом, тот упрямо отвечал: «Тут я, точно становой якорь[182],— сижу крепко!»
Прошло много времени. В 1890 году исполнилось пятнадцать лет с тех пор, как капитан Джон и экипаж «Франклина» покинули порт Сан-Диего. Миссис Бреникен было уже тридцать семь, и хотя ее волосы начали седеть, а цвет лица поблек, глаза горели тем же огнем, что и прежде. Она, казалось, не утратила сил и присущей ей энергии, а, напротив, ждала лишь подходящего случая вновь проявить эти свои качества.
Разве не могла Долли, по примеру леди Франклин, снаряжать одну экспедицию за другой, потратить все свое состояние на то, чтобы найти следы Джона и его товарищей? И разве не склонялось общественное мнение к тому, что эта морская драма имела ту же развязку, что и экспедиция знаменитого английского адмирала, и моряки с «Франклина» погибли у острова Браус, так же как моряки с «Эребуса» и «Террора» погибли во льдах Арктики?
В течение этих долгих лет, так и не прояснивших до конца тайну катастрофы «Франклина», миссис Бреникен не переставала осведомляться о судьбе Лена и Джейн Баркер. Однако здесь отсутствовали какие-либо сведения. Ни одного письма не пришло в Сан-Диего. Все наводило на мысль, что Лен Баркер покинул Америку и под чужим именем обосновался в какой-нибудь далекой стране. Для миссис Бреникен это было еще одной непреходящей печалью в дополнение ко всем другим. Как она радовалась бы, если б ее бедная кузина, которую она любила всей душой, сейчас оказалась рядом с ней! Но Джейн была далеко и также потеряна для нее, как и капитан Джон!
В середине 1890 года одна из газет Сан-Диего в номере от двадцать шестого июля опубликовала новость, ставшую сенсацией на обоих континентах. Сообщение было сделано на основании статьи в австралийской газете, «Сидней[183] морнинг геральд», и выглядело оно так:
«Все мы помним, что последняя экспедиция, предпринятая семь лет назад на «Долли-Хоуп» с целью найти уцелевших после крушения «Франклина», закончилась неудачей. Следовало думать, что потерпевшие катастрофу погибли,— либо так и не достигнув острова Браус, либо уже после того, как его покинули.
В действительности же эта проблема далека от разрешения. Дело в том, что один из офицеров с «Франклина» недавно был привезен в Сидней. Это Гарри Фелтон, помощник капитана Джона Бреникена. Его нашли на берегу Пару, одного из притоков Дарлинга, почти на границе Нового Южного Уэльса и Квинсленда. Он до такой степени слаб, что от него не смогли получить никаких сведений. Состояние здоровья Гарри Фелтона внушает серьезные опасения.
О случившемся сообщено заинтересованным лицам».
Двадцать седьмого июля мистер Уильям Эндрю, ознакомившись с пришедшей в Сан-Диего телеграммой, направился в Проспект-хаус, где в это время находился Зак Френ.
Миссис Бреникен тотчас была введена в курс дела.
— Я еду в Сидней,— только и сказала она в ответ на известие.
— В Сидней? — воскликнул мистер Уильям Эндрю.
— Да...— подтвердила свои намерения Долли и, повернувшись к боцману, спросила: — Вы будете сопровождать меня, Зак?
— Всюду, куда бы вы ни отправились, миссис Бреникен.
— «Долли-Хоуп» в состоянии выйти в море?
— Нет,— ответил мистер Уильям Эндрю,— и на его снаряжение понадобится три недели...
— Нужно, чтобы я была в Сиднее раньше, чем через три недели! Есть какое-нибудь пассажирское судно в Австралию?
— «Орегон» уходит из Сан-Франциско сегодня ночью.
— Мы с Заком Френом сегодня же вечером будем в Сан-Франциско.
— Моя дорогая Долли, пусть Господь соединит вас с Джоном!..— сказал мистер Уильям Эндрю.
— Так и будет! — ответила миссис Бреникен.
Тем же вечером, около одиннадцати часов, специальный поезд, организованный по просьбе миссис Бреникен, доставил ее и Зака Френа в столицу Калифорнии.
В час ночи «Орегон» вышел из Сан-Франциско, взяв курс на Сидней.
Глава XVI ГАРРИ ФЕЛТОН
Пароход «Орегон» шел со средней скоростью семнадцать узлов; плаванию благоприятствовала чудесная погода — обычная, кстати, для этой части Тихого океана и для этого времени года. Славная посудина, как говорил Зак Френ, будто разделяла нетерпение миссис Бреникен. Само собой разумеется, пассажиры, офицеры, экипаж судна выказывали мужественной женщине исполненную уважения симпатию. Насчастья, свалившиеся на нее, и та воля, с которой она их переносила, сделали ее более чем достойной такого к себе отношения.
Когда «Орегон» достиг 33°51' южной широты и 150°40' восточной долготы, впередсмотрящие сообщили, что видят землю. Пятнадцатого августа, пройдя семь тысяч миль за девятнадцать дней, пароход вошел в залив Порт-Джексон, расположенный между высокими сланцевыми скалами, похожими на величественную дверь, распахнутую в Тихий океан.
Оставив справа и слева небольшие заливчики, берега которых были усеяны виллами и коттеджами, носящими названия «Уотсон», «Воклюз», «Роуз», «Дабл», «Элизабет», пароход «Орегон» миновал Эрм-Лав, Сидни-Лав и подошел к пристани в сиднейском порту Дарлинг-Харбор.
У первого же человека, ступившего на борт судна,— им оказался служащий таможни,— Долли спросила:
— Гарри Фелтон?..
— Он жив,— ответил таможенник, догадавшись, что перед ним миссис Бреникен.
Весь Сидней знал, что она плывет сюда на «Орегоне», и жители с нетерпением ждали эту легендарную женщину.
— Где он? — спросила Долли.
— В морском госпитале.
Миссис Бреникен в сопровождении Зака Френа тотчас сошла на берег. Толпа встретила ее с тем почтением, с каким встречала в Сан-Диего и с каким встречала бы везде, где бы она ни появилась.
Коляска отвезла вновь прибывших в морской госпиталь, где их принял дежурный врач.
— Гарри Фелтон заговорил?.. Он в сознании?..— спросила Долли.
— Нет, мадам. Этот несчастный так и не пришел в себя... Думаю, поговорить с ним не удастся: смерть может настигнуть его в любой момент!
— Нельзя, чтобы Гарри Фелтон умер! — воскликнула миссис Бреникен.— Он один знает, жив ли капитан Джон, жив ли кто-нибудь из матросов! Он один может сказать, где они! Я приехала, чтобы увидеть Гарри Фелтона... чтобы услышать его...
— Мадам, я немедленно отведу вас к нему,— сказал доктор.
Через несколько минут миссис Бреникен и Зак Френ вошли в комнату, где находился Гарри Фелтон.
А вот что произошло полуторами месяцами раньше. Путешественники двигались до провинции Улакарара, в Новом Южном Уэльсе, близ южной границы Квинсленда. Прийдя на левый берег реки Пару, они увидели лежащего у дерева человека; одетый в лохмотья, истощенный и обессиленный, он не приходил с сознание, и если бы в одном из его карманов не обнаружили контракт офицера торгового флота, так никогда бы и не узнали, кто он такой.
Это был Гарри Фелтон, помощник капитана «Франклина». Откуда он пришел? Из какой удаленной, неведомой части Австралийского континента? Сколько времени блуждал по опасным пустынным районам Центральной Австралии?[184] Был ли он в плену у аборигенов и ему удалось бежать? Где оставил своих товарищей, если таковые были? А может, он единственный, кто остался в живых из жертв катастрофы теперь уже четырнадцатилетней давности? Все эти вопросы оставались без ответа. Но как важно было знать, откуда пришел мистер Фелтон и как жил после крушения «Франклина» у острова Браус!
Гарри Фелтона доставили на ближайшую железнодорожную станцию Оксли, откуда перевезли в Сидней. «Морнинг геральд», раньше других газет узнавшая о его прибытии в Австралию, посвятила этому событию статью, добавив, что лейтенант с «Франклина» пока не может отвечать на вопросы.
И вот теперь миссис Бреникен стояла перед Гарри Фелтоном — и не узнавала его. Ему было только сорок шесть лет, а выглядел он на все шестьдесят. И этот человек, одной ногой уже стоящий в могиле, был единственным, кто знал, что стало с капитаном Джоном и его командой!
Ко дню приезда миссис Бреникен состояние Гарри Фелтона, несмотря на тщательный уход, не улучшилось. А вызвано оно было крайним истощением, которому он подвергался в течение недель, а может — кто знает? — и месяцев странствий по Центральной Австралии. Жизнь едва теплилась в нем и могла угаснуть в любую минуту. С той поры как его поместили в этот госпиталь, больной однажды только чуть приоткрыл глаза, и было неясно, отдавал ли он себе отчет в том, что происходит вокруг. Воскресшего из небытия Гарри поддерживали небольшим количеством пищи. Возникли опасения, как бы чрезмерные страдания не сказались губительно на его умственных способностях, от которых, возможно, зависело спасение остальных жертв катастрофы.
Миссис Бреникен села возле кровати Гарри Фелтона. Она смотрела, не приподнимаются ли его веки, прислушивалась, не шепчут ли что-нибудь его губы, приглядывалась, не подает ли он какой-нибудь знак. Зак Френ, стоя рядом с ней, тоже стремился уловить на лице лейтенанта хоть малейший проблеск сознания; он точно был в море и всматривался в затянутую густым туманом даль, пытаясь различить там лучик света. Но лучик не блеснул ни в тот день, ни в последующие. Веки Гарри Фелтона неизменно оставались сомкнутыми, и когда Долли приподнимала их, то видела лишь пустые зрачки.
И все же миссис Бреникен и Зак Френ не отчаивались. «Если Гарри Фелтон узнает жену своего капитана,— говорил боцман,— он сможет сделать так, что его поймут и без слов!»
Да, нужно, чтобы Гарри узнал миссис Бреникен, это может благотворно повлиять на его состояние. Но действовать придется крайне осторожно; сначала надо, чтобы он привык к присутствию Долли, а потом постепенно к нему вернутся воспоминания о «Франклине». И тогда лейтенант знаками выразит то, что не в силах будет высказать...
Хотя миссис Бреникен не советовали безотлучно находиться в комнате Гарри Фелтона, она, отказавшись даже от часового отдыха, чтобы выйти подышать свежим воздухом, не отходила от постели больного. «Гарри Фелтон может умереть, и если единственное слово, которое я от него жду, будет сказано им на последнем дыхании, нужно, чтобы я была здесь и все слышала...» — говорила Долли.
К вечеру состояние Гарри Фелтона, казалось, немного улучшилось. Он несколько раз открыл глаза, но то, что при этом он не увидел миссис Бреникен, не подлежало сомнению. Тем не менее, склонившись над ним, она звала его по имени, она повторяла имя Джона... капитана «Франклина» из Сан-Диего!.. Неужели все это не напомнит ему о товарищах?.. Одного слова ждали от него... только одного слова: «Живы? Они живы?»
Все, что вынес Гарри Фелтон, чтобы очутиться здесь, пришлось вынести и Джону, говорила себе Долли. Быть может, Джон упал где-то по дороге... Нет, он не смог бежать вместе с Гарри Фелтоном, он остался там... с другими... Но где? У какого-нибудь племени на австралийском побережье? Что за племя? Один только Гарри мог ответить на эти вопросы, но, казалось, разум его угас, губы утратили способность двигаться!
Ночью состояние больного ухудшилось: он больше не открывал глаз, руки его снова похолодели — словно жизнь еще теплилась только в его сердце. Неужели он умрет, так и не произнеся ни одного слова?.. Долли вспомнила, что ведь и она теряла память и рассудок на несколько лет!.. И как невозможно было ничего добиться от нее, так и теперь она ничего не могла добиться от этого несчастного. Ничего, что знал он один!
На следующий день врач, очень обеспокоенный состоянием своего пациента, попробовал применить более действенные средства — но и они не помогли. Гарри Фелтон умирал. На глазах миссис Бреникен уходили в небытие надежды, родившиеся вместе с возвращением этого человека!.. Вместо света наступит кромешная тьма, и ее уже не удастся рассеять! Все будет кончено, навсегда кончено!..
По просьбе Долли собрался консилиум[185] лучших врачей города. Осмотрев больного, доктора признали себя бессильными.
— Можете ли вы сделать для него хоть что-нибудь? — спросила миссис Бреникен у одного из врачей.
— Нет, мадам, — ответил тот.
— Даже на минуту вернуть его в сознание?
За эту минуту Долли готова была отдать все свое состояние! Но то, что не под силу людям, всегда под силу Господу Богу. На него должен уповать человек, когда его собственные возможности исчерпаны.
Как только доктора ушли, Долли пала на колени. Зак Френ, вернувшись в комнату, застал ее молящейся у постели умирающего.
Вдруг боцман, приблизившись к Гарри Фелтону, чтобы удостовериться, что он еще дышит, воскликнул:
— Мадам! Мадам!..
— Умер?..— прошептала Долли, поднявшись с колен.
— Нет, мадам! Нет! Глядите... У него глаза открыты... Он смотрит!
Действительно, из-под приподнятых век Гарри Фелтона виднелись его необычайно блестевшие глаза. На лице показался едва заметный румянец, руки слегка зашевелились. Казалось, он вышел из долгого оцепенения. Потом его взгляд остановился на миссис Бреникен, и губы оживило некое подобие улыбки.
— Он узнал меня! — воскликнула Долли.
— Да! — ответил Зак Френ.— Он знает, что перед ним жена его капитана. Он будет говорить!
— О, если он не в силах говорить, дай Господи, чтобы мы поняли его как-нибудь иначе! — Взяв руку Гарри Фелтона и ощутив слабое пожатие, Долли приблизилась к нему. — Джон... Джон...— проговорила она.
Движение глаз больного указывало на то, что он услышал и понял ее.
— Жив?! — спросила Долли.
— Да!
И хотя это «да!» было произнесено еле-еле, Долли смогла его услышать!
Глава XVII «ДА» И «НЕТ»
Миссис Бреникен тотчас послала за доктором. Тот не сомневался, что теперешняя перемена в состоянии больного была последним проявлением жизни.
Умирающий, казалось, не видел никого, кроме миссис Бреникен,— ни Зак Френ, ни доктор не привлекали его внимания; всеми оставшимися у него умственными силами он сосредоточился на жене своего капитана.
— Гарри Фелтон, если Джон жив, то где вы его оставили?.. Где он?
Гарри Фелтон не отвечал.
— Он не в состоянии говорить,— пояснил доктор.— Но может, мы получим от него ответ знаками?
— Я все пойму лишь по его взгляду! — сказала миссис Бреникен.
— Погодите,— сказал Зак Френ.— Нужно задавать ему вопросы определенным образом, и, поскольку морякам проще понять друг друга, позвольте это сделать мне. Пусть миссис Бреникен держит его за руку и пристально следит за его глазами, а я стану его спрашивать. Он взглядом будет отвечать «да» или «нет» — и этого будет достаточно!
Миссис Бреникен, склонившись над Гарри Фелтоном, взяла его руку в свою.
На вопрос, где находится капитан Джон, невозможно было получить удовлетворительный ответ, поскольку для этого Гарри нужно было бы произнести название места, а этого он, без сомнения, сделать не мог. Надо было идти к ответу постепенно, шаг за шагом, воспроизводя историю «Франклина» с того момента, когда его видели в последний раз, до той минуты, когда Гарри Фелтон расстался с Джоном Бреникеном.
— Фелтон,— отчетливо проговорил Зак Френ,— перед вами миссис Бреникен, жена Джона Бреникена, капитана «Франклина». Вы узнали ее?
Губы Гарри Фелтона не шевельнулись, но движением век и слабым пожатием руки он ответил утвердительно.
— «Франклин» в последний раз был отмечен к югу от острова Целебес... Вы слышите меня, Фелтон?
Снова утвердительный ответ взглядом.
— Ну вот,— продолжал Зак Френ,— слушайте меня, и по тому, откроете вы глаза или закроете, я буду знать, правильно я говорю или нет.
Не было сомнений, что Гарри Фелтон понял то, что сказал ему Зак Френ.
— Значит, капитан Джон покинул Яванское море и пошел в Тиморское?
— Да.
— Через Зондский пролив?
— Да-
— Он сам выбрал этот путь?
На этот вопрос был дан знак, явно выражающий отрицательный ответ, ошибки здесь быть не могло.
— Нет! — проговорил Зак Френ.
Так они и думали с капитаном Эллисом. Чтоб Джон Бреникен пошел из Яванского моря в Тиморское — его нужно было вынудить к этому.
— Это случилось во время шторма? — спросил Зак Френ.
— Да.
— Наверное, сильный шторм загнал вас в Яванское море?
— Да.
— И вас бросило в Зондский пролив?
— Да.
— Может, «Франклин» потерял управление: мачты упали, отказал руль?
— Да.
Миссис Бреникен, устремив глаза на Гарри Фелтона, хранила молчание.
— Стало быть, капитан Джон несколько дней не имел возможности определить свое местоположение, он не знал, где находится? — желая выяснить подробности катастрофы, продолжал боцман.
— Да.
Некоторое время его несло в западную часть Тиморского моря и потом он разбился о рифы острова Браус?
Слабым движением Гарри Фелтон выразил удивление. Он, конечно, не знал названия острова, о который разбился «Франклин» и местонахождение которого в Тиморском море они не могли установить.
— Когда вы вышли из Сан-Диего,— снова заговорил Зак Френ,— на борту находились капитан Джон, вы и двенадцать человек экипажа — итого четырнадцать человек... После крушения «Франклина» вас тоже было четырнадцать?
— Нет.
— Значит, кто-то из матросов погиб в тот момент, когда корабль выбросило на скалы?
— Да.
— Один?.. Двое?..
Утвердительный знак последовал за второй цифрой.
Итак, двух матросов не было в живых, когда потерпевшие крушение ступили на остров Браус.
Тут по рекомендации врача Гарри Фелтону дали немного отдохнуть: расспросы его явно утомляли.
Когда через несколько минут вопросы возобновились, Зак Френ выяснил многое о том, каким образом капитан Джон, Гарри Фелтон и десять их товарищей существовали на острове: без той части груза, состоящего из консервов и муки, которую моряки нашли на берегу, без рыбной ловли, ставшей их главным источником пропитания, по!ерпевшие крушение умерли бы от голода. Очень редко они видели корабли, проходившие вдали от острова. Но их флага, поднятого на сигнальной мачте, так никто и не заметил; иных же шансов на спасение у них не было.
— Сколько времени вы прожили на острове Браус? — спросил Зак Френ.— Год... два... три... шесть лет?..
На последнюю цифру Гарри Фелтон взглядом ответил «да».
Итак, капитан Джон и его товарищи жили на острове Браус с 1875-го по 1881 год! Но как им удалось покинуть его? Задавая следующий вопрос, Зак Френ приступал к выяснению одного из самых загадочных обстоятельств во всей этой истории.
— Вы смогли построить лодку из обломков корабля?
— Нет.
(Если читатель помнит, именно к такому выводу пришли капитан Эллис и боцман, обследуя место катастрофы: из того, что осталось от «Франклина», соорудить даже небольшую лодочку было невозможно.)
— Вы говорите,— продолжал Зак Френ, чувствуя себя, однако, в некотором затруднении,— что ваши сигналы не были замечены ни одним судном?
— Да.
— Значит, к острову подплыла прао с малайских островов или лодка австралийских аборигенов?
— Нет.
— Тогда это была шлюпка с какого-нибудь корабля, которую прибило к острову?
— Да.
— Дрейфующая шлюпка?
— Да.
Наконец-то вопрос этот был прояснен, и Зак Френ легко мог представить себе последствия такого поворота событий.
— Вам удалось так отремонтировать шлюпку, что в ней стало возможно выйти в море? — спросил он.
— Да.
— И капитан Джон воспользовался попутным ветром, чтобы добраться до ближайшего берега?
— Да.
Но важно было знать, почему не все моряки сели в шлюпку, и Зак Френ спросил:
— Шлюпка, наверное, была слишком мала, чтобы взять двенадцать человек?
— Да.
— И вы отправились всемером: капитан Джон, вы и пятеро матросов?
— Да.
Теперь в глазах умирающего ясно читалась тревога за судьбу тех, кто остался на острове.
Тут Долли сделала знак боцману: говорить, что пятеро матросов умерли после отъезда капитана, сейчас не стоило.
Гарри Фелтону дали несколько минут отдыха. Глаза его закрылись, но рука продолжала легонько сжимать руку миссис Бреникен.
Мысленно перенесшись на остров Браус, Долли словно воочию наблюдала все события; она видела, как Джон пытается сделать невозможное ради спасения товарищей; она слышала его голос, говорила с ним, подбадривала его, пускалась вместе с ним в путь... Куда же приплыла эта шлюпка?..
Глаза Гарри Фелтона вновь открылись, и Зак Френ возобновил вопросы:
— Именно таким образом капитан Джон, вы и пятеро матросов покинул остров Браус?
— Да.
— Шлюпка взяла курс на восток, чтобы достичь ближайшей к острову земли?
— Да.
— Это была австралийская земля?
— Да.
— Под конец разыгрался шторм, и шлюпку выбросило на берег?
— Нет.
— Вам удалось причалить в одной из бухт австралийского побережья?
— Да.
— Наверное, неподалеку от мыса Левек?
— Да.
— Может, в бухте Йорк?
— Да.
— Сойдя на берег, вы, стало быть, попали в руки аборигенов?
— Да.
— И они взяли вас в плен?
— Да.
— Всех?
— Нет.
— Значит, кто-то из вас погиб в тот момент, когда вы высаживались на берег в бухте Иорк?
— Да.
— Их убили аборигены?
— Да.
— Одного... двоих... троих... четверых?..
— Да.
— Вас осталось всего трое, и австралийцы увели вас с собой в глубь континента?
— Да.
— Капитана Джона, вас и одного матроса?
— Да.
— А этот матрос... он все еще находится вместе с капитаном Джоном?
— Нет.
— Он умер до вашего ухода?
— Да.
— Давно?
— Да.
Таким образом, капитан Джон и его помощник Гарри Фелтон были единственными, кто уцелел после гибели «Франклина», и вот уже одному из них недолго оставалось жить!
Трудно было добиться от Гарри разъяснений относительно капитана Джона, а сведения требовались очень точные. Не раз Зак Френ вынужден был прекращать расспросы; затем, когда они возобновлялись, миссис Бреникен через него задавала вопрос за вопросом, пытаясь выяснить, что произошло за девять лет с того дня, как капитан Джон и Гарри Фелтон были захвачены аборигенами. Речь, как оказалась, шла об австралийских кочевниках... Пленники принуждены были следовать за ними во время их бесконечных скитаний по Земле Тасмана[186], влача самое жалкое существование...
Почему потерпевших кораблекрушение оставили в живых? Чтобы принудить исполнять какую-то работу или, если представится случай, получить за них от английских властей солидный выкуп? Да, этот последний вывод можно было сделать на основании ответов Гарри Фелтона. Если бы удалось добраться до этих аборигенов, речь могла идти только о выкупе. Из ответов на другие вопросы стало ясно, что аборигены столь бдительно охраняли капитана Джона и его помощника, что за девять лет те не смогли найти ни малейшей возможности бежать.
Но вот, наконец, такая возможность появилась. Выбрано было место встречи, где оба пленника должны были соединиться, чтобы бежать вместе, однако неизвестные Гарри Фелтону обстоятельства помешали капитану Джону прийти в условленное место. Гарри ждал несколько дней; не желая бежать один, он попытался вернуться в племя, но оно уже перекочевало куда-то... Тогда, решив добраться до любого населенного пункта внутри континента, а потом непременно вернуться и освободить капитана, беглец отправился в путь по центральным районам Австралии — прячась, чтобы снова не угодить в руки аборигенов, страдая от жары, голода и усталости... Так он скитался в течение полугода, пока не упал замертво на берегу реки Пару, у южной границы Квинсленда.
Именно там, как известно, его нашли и по бумагам, которые были при нем, установили личность. Оттуда Гарри привезли в Сидней, где жизнь его чудесным образом продлилась, чтобы он смог встретиться с теми, кто в течение многих лет тщетно пытался узнать о случившемся с экипажем «Франклина».
Итак, капитан Джон, единственный из оставшихся в живых, находился в плену у кочевого племени, скитающегося по пустынным районам Земли Тасмана.
Зак Френ назвал несколько племен, обычно кочующих в тех краях, и Гарри Фелтон утвердительно отреагировал на племя инда. Боцман сумел даже понять, что племя это в зимнее время обыкновенно стоит по берегам реки Фицрой, впадающей в залив Левек, на северо-западе Австралийского континента.
— Туда мы и отправимся искать Джона! — воскликнула миссис Бреникен.— Мы найдем его!
По тому, как при этих словах оживились глаза Гарри Фелтона, стало ясно, что он понял ее. Помощник капитана выполнил свою миссию... Миссис Бреникен, последнее его доверенное лицо, теперь знала, в какую часть Австралийского континента следует направить поиски... Не имея больше ничего сообщить, он закрыл глаза.
Вот что сделали с этим крепким и мужественным человеком усталость, лишения и в особенности суровый австралийский климат! Гарри Фелтон изнемог в тот момент, когда его страдания близились к концу! Не это ли ждет капитана Джона, если он попытается бежать через пустынные районы Центральной Австралии? И не будут ли такие же опасности угрожать тем, кто отправится на поиски племени инда? Но эта мысль даже не приходила миссис Бреникен в голову; еще когда «Орегон» вез ее к Австралийскому континенту, она продумала план новой экспедиции, и теперь речь шла только о том, чтобы его осуществить.
Гарри Фелтон скончался около девяти часов вечера. Перед самой смертью Долли еще раз позвала его... Еще раз он услышал ее... Открыл глаза, и одно слово все же слетело с его губ,— это было имя капитана Джона...
В тот вечер, когда миссис Бреникен выходила из госпиталя, к ней подошел какой-то парнишка — юный матрос торгового флота, служащий на «Брисбене», одном из пакетботов[187], которые курсируют между Сиднеем и Аделаидой.
— Миссис Бреникен? — взволнованно спросил он.
— Что вам угодно, дитя мое? — отозвалась Долли.
— Гарри Фелтон умер?
— Умер.
— А капитан Джон?
— Он жив!
— Благодарю вас, миссис Бреникен,— сказал подросток и удалился, не сказав ни кто он такой, ни почему задавал эти вопросы. Долли едва разглядела черты его лица.
На следующий день состоялись похороны Гарри Фелтона, на которых присутствовали моряки пор га и часть жителей Сиднея. Миссис Бреникен, встав за гробом, проводила в последний путь того, кто был надежным компаньоном и верным другом капитана Джона. А неподалеку от нее шел тот юный матрос, но она не узнала его в толпе тех, кто пришел отдать последний долг помощнику капитана «Франклина».
Конец первой части
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава I В ПУТИ
Что такое остров, знает каждый: остров — это часть суши, окруженная водой. Следовательно, с того дня, как Лессепс[188] завершил прорытие канала через Суэцкий перешеек, мы вправе говорить, что он превратил Африканский континент в остров. А когда пророют Панамский канал, то же самое можно будет сказать в отношении Южной и Северной Америки. Но поскольку из-за своих размеров в нашем сознании они по-прежнему останутся континентами, логично так именовать и Австралию.
В самом деле, максимальная протяженность Австралии с востока на запад составляет три тысячи девятьсот, а с севера на юг — три тысячи двести километров. Следовательно, площадь Австралии равна примерно четырем миллионам восьмистам тридцати тысячам квадратных километров[189], или семи девятым площади Европы.
В настоящее время Австралийский континент поделен составителями позднейших атласов на семь провинций с произвольно очерченными границами, образующими прямые утлы и проведенными без какого-либо учета орографических и гидрографических[190] особенностей местности; на востоке это провинции Квинсленд — столица Брисбен, Новый Южный Уэльс — столица Сидней, Виктория — столица Мельбурн; в центре — Северная Австралия, Земля Александры, не имеющие столиц[191], и Южная Австралия со столицей Аделаидой; и наконец, Западная Австралия, простирающаяся с севера на юг,— столица Перт.
Следует добавить, что жители Австралии стремятся образовать федерацию, которая именовалась бы Австралийским Союзом[192]. Английское правительство не согласно с таким названием, но, без сомнения, оно будет принято, когда отделение станет свершившимся фактом.
Вскоре мы узнаем, какие уголки этого континента, еще не изведанные и полные опасностей, отважилась пройти миссис Бреникен, неся в душе надежду, по мнению многих, смутную, живя одной почти неосуществимой идеей: найти и вызволить капитана Джона из плена, в котором аборигены вот уже девять лет удерживали его. К тому же теперь она, вполне вероятно, терзалась вопросом, оставили ли инда в живых капитана Джона после побега Гарри Фелтона.
Миссис Бреникен намеревалась покинуть Сидней, как только отъезд станет возможным. Она могла положиться на безграничную преданность Зака Френа, на его крепкий практический ум. Разложив перед собой карту Австралии, они долго обсуждали, каковы те наиболее скорые и вместе с тем наиболее верные шаги, которые должны обеспечить успех дела. Крайне важно было выбрать исходный пункт маршрута, и вот что по этому поводу было в конце концов решено.
1. Стараниями и на средства миссис Бреникен будет организован караван, оснащенный лучшими поисковыми средствами и средствами защиты, а также обеспеченный всем необходимым для путешествия по пустыням Центральной Австралии.
2. Поскольку экспедиция должна начаться в ближайшее время, необходимо кратчайшими, морскими или сухопутными, путями добраться до конечного пункта связи между побережьем и центром материка.
Прежде всего было решено, что отправляться на северо-западное побережье, а точнее, на то место Земли Тасмана, где высадились на берег моряки с «Франклина», нецелесообразно, ибо для такого пути понадобилось бы слишком много времени. К тому же нет никаких гарантий, что, начав поиски с запада Австралии, экспедиция встретит племя, держащее в плену капитана Джона, ведь аборигены кочуют не только по Западной Австралии, но и по Земле Александры.
Затем принялись обсуждать место, откуда следует начать поход, и направление движения. Очевидно, маршрут будет определять путь, проделанный Гарри Фелтоном во время своих скитаний по Центральной Австралии. И хотя в точности этот путь никто не знал, было, по крайней мере, известно, где нашли помощника капитана «Франклина». Итак, начало маршрута — на берегу реки Пару на северо-западе Нового Южного Уэльса, на границе с Квинслендом.
С 1770 года — времени, когда капитан Кук[193] обследовал Новый Южный Уэльс и именем английского короля вступил во владение континентом, дотоле уже известным португальцу Мануэлу Годинью и голландцам Версору, Хартогу, Карпентеру и Тасману,— восточная часть материка активно колонизировалась, развивалась, цивилизовывалась. В 1787 году при премьер-министре Питте[194] коммодор[195] Филипп основал исправительное поселение Ботани-Бей, из которого менее чем за столетие выросла почти трехмиллионная нация.
В настоящее время все, что составляет богатство и величие страны, имеется в этой части континента: дороги, каналы, железнодорожные линии, связывающие многочисленные населенные пункты Квинсленда, Нового Южного Уэльса, Виктории и Южной Австралии, морские пассажирские линии, суда, порты. А значит, богатая и многонаселенная столица Сидней была готова предоставить миссис Бреникен все необходимое для организации каравана, тем более что перед отъездом из Сан-Диего ей при посредничестве мистера Уильяма Эндрю был открыт солидный кредит в «Сентрал Острэлиан Бэнк». Таким образом, Долли могла беспрепятственно набирать людей, приобретать рыдваны[196], верховых, тягловых и вьючных животных, нужных для экспедиции по Австралии, возможно даже для целого перехода с востока материка на запад, который составит путь примерно в две тысячи двести миль. Но стоило ли отправным пунктом избирать Сидней?
Все взвесив и даже посоветовавшись с американским консулом, хорошо знающим современную географию Австралии, пришли к заключению, что для опорной базы экспедиции более подходит город Аделаида. Вдоль телеграфной линии, идущей от этого города до залива Ван-Димен (иначе говоря, с юга на север примерно по сто тридцать девятому меридиану), инженеры проложили первый участок железной дороги, пересекший ту параллель, до которой добрался Гарри Фелтон. Эта железная дорога позволит участникам экспедиции быстрее достичь глубинных районов Земли Александры и Западной Австралии, куда до нынешнего дня удавалось проникнуть лишь немногим путешественникам.
Итак, третья по счету экспедиция, имеющая целью найти капитана Джона, будет организована в Аделаиде и по железной дороге, протяженностью примерно в четыреста миль, или семьсот километров, доедет до конечной станции.
Но как добраться от Сиднея до Аделаиды? Если бы между двумя столицами существовало прямое железнодорожное сообщение, не возникало бы никаких сомнений. Имеющаяся железная дорога пересекает реку Муррей на границе провинции Виктория, возле станции Олбери, затем идет через Беналлу и Килмор до Мельбурна и уже от этого города — к Аделаиде; но после станции Хоршем из-за плохо налаженного сообщения могли случаться довольно длительные задержки.
А посему миссис Бреникен решила отправиться до Аделаиды морем. Поездка займет четыре дня да еще двое суток на стоянку пакетбота в Мельбурне — стало быть, в столицу Южной Австралии она прибудет после шестидневного плавания вдоль берегов континента. Правда, был месяц август, соответствующий февралю в северном полушарии, но погода стояла тихая, дул норд-вест, и, значит, пароход, как только минует Бассов пролив, будет идти под прикрытием суши. Раз уж миссис Бреникен добралась от Сан-Франциско до Сиднея, то беспокоиться по поводу плавания от Сиднея до Аделаиды тем более не было оснований.
Пакетбот «Брисбен» уходил на следующий день в одиннадцать часов вечера; сделав остановку в Мельбурне, он прибудет в Порт-Аделаиду утром двадцать седьмого августа. Были заказаны две каюты, и миссис Бреникен приняла меры к тому, чтобы кредит, открытый ей в банке Сиднея, был переведен в банк Аделаиды. Директора обоих банков любезно предоставили себя к ее услугам, и перевод осуществился без каких-либо затруднений. Покинув морской госпиталь, Долли сняла номер в гостинице, где собиралась прожить до отъезда. Все ее мысли сводились к одному: «Джон жив!» Глядя на карту Австралии, она представляла себе огромные пустынные пространства центра и северо-запада континента и, отдавшись во власть воображения, искала Джона... находила... спасала...
В тот день, после разговора с миссис Бреникен, Зак Френ, понимая, что ей лучше побыть одной, отправился побродить по улицам совершенно незнакомого ему Сиднея. Но прежде всего — и для моряка это вовсе не удивительно - он захотел побывать на «Брисбене», дабы удостовериться, что миссис Бреникен будет устроена в пути надлежащим образом.
Судно оказалось как нельзя лучше оборудованным для каботажного плавания[197]. Боцман попросил показать ему каюту миссис Бреникен. Юный матрос проводил его, и Зак Френ отдал некоторые распоряжения, с тем чтобы сделать каюту еще более комфортабельной. Славный Зак Френ! Можно подумать, что речь шла о длительном путешествии!
Когда наш бравый моряк уже собирался покинуть судно, юноша матрос задержал его, заговорив чуть взволнованным голосом:
— Скажите, сэр, это правда, что миссис Бреникен отправится завтра в Аделаиду?
— Да, завтра,— ответил Зак Френ.
— На «Брисбене»?
— Конечно.
— Хоть бы удалось ее предприятие и она нашла капитана Джона!
— Для этого мы сделаем все, что в наших силах, можешь поверить.
— Я не сомневаюсь, сэр.
— Ты служишь на «Брисбене»?
— Да, сэр.
— Тогда до завтра, мой мальчик...
Надо сказать, что Сидней вполне заслуживает ту добрую славу, которая утвердилась за ним; это самая старая из австралийских столиц, и пусть она не столь планомерно застраивалась, как возникшие позже Аделаида и Мельбурн, зато в ней больше нечаянной красоты и живописных ландшафтов. Решив удостовериться в истинности сего утверждения, Зак Френ в последние часы пребывания в Сиднее бродил сначала по Питт-стрит и Иорк-стрит, застроенным по обеим сторонам великолепными зданиями из красновато-желтого песчаника, далее посетил Виктория-парк, потом Гайд-парк, где стоит памятник капитану Куку, и, наконец, расположенный на берегу моря Ботанический сад, изумляющий своих посетителей прекрасной коллекцией растений из стран с жарким и умеренным климатом — дубов и араукарий, кактусов и гарциний, пальм и оливковых деревьев...
Вечером следующего дня миссис Бреникен и ее спутник взошли на борт пакетбота. В одиннадцать с небольшим «Брисбен», выйдя из порта, направился через бухту в Порт-Джексон. Обогнув мыс Иннер-Саут-Хед и держась в нескольких милях от берега, судно взяло курс на юг.
Первый час пути Долли провела на палубе. Сидя на корме, она вглядывалась в неясные, подернутые дымкой очертания берегов. Вот он, этот континент, куда она постарается проникнуть, точно в огромную тюрьму, из которой Джон до сих пор не смог выбраться. Пятнадцать лет уже они находились в разлуке!
— Пятнадцать лет! — прошептала Долли.
Когда «Брисбен» миновал заливы Ботани и Джервис, миссис Бреникен пошла немного отдохнуть. Но на следующее утро, с рассвета, как только на горизонте показался мыс Дромедари, а чуть позади — гора Косцюшко, принадлежащие к системе Австралийских Альп, Долли уже была на ногах. Вскоре к ней присоединился Зак Френ; стоя на спардеке[198], они обсуждали планы экспедиции.
В этот момент юный матрос, смещенный и взволнованный, подошел к миссис Бреникен и от имени капитана спросил, не нуждается ли она в чем-либо.
— Нет, дитя мое, — ответила Долли.
— Э-э, да это тот парнишка, который встретил меня вчера, когда я пришел на «Брисбен»,— сказал Зак Френ.
— Да, сэр, это я.
— Как же тебя зовут?
— Годфри.
— Ну вот, Годфри, как видишь, миссис Бреникен села на твой пакетбот... Ты доволен, я полагаю?
— Да, сэр, вся команда довольна. Мы все желаем, чтобы поиски завершились успешно и миссис Бреникен освободила капитана Джона!
При этих словах Годфри с таким уважением глядел на Долли, что та растрогалась до глубины души. К тому же ее поразил голос юного матроса. Ей вспомнилось, что она его уже где-то слышала.
— Деточка,— сказала Долли,— не вы ли говорили со мной у дверей госпиталя в Сиднее?
— Я.
— Вы спрашивали, жив ли капитан Джон?
— Да, мадам.
— Вы, стало быть, член экипажа?
— Да... уже год,— ответил Годфри.— Но, если Господу будет угодно, я скоро покину судно.
Не желая или не осмеливаясь говорить больше, Годфри удалился, чтобы сообщить капитану о том, как себя чувствует миссис Бреникен.
— Сдается мне, в жилах этого парнишки течет кровь настоящего моряка,— заметил Зак Френ.— Сразу видно... Взгляд прямой, ясный и решительный, голос нежный и твердый одновременно...
— Да, голос...— прошептала Долли.
Отчего в этом не вполне сформировавшемся мальчишечьем голосе ей чудился голос Джона? Долли сделала и другое, еще более значительное наблюдение: черты лица этого подростка напомнили ей о муже... Ему не было и тридцати, когда «Франклин» увез его так далеко и так надолго!
— Видите, миссис Бреникен, и англичане и американцы — все вам симпатизируют,— сказал Зак Френ, потирая свои большие сильные руки.— В Австралии вы встретите такое же доброе к себе расположение, как и в Америке. Не важно где — в Аделаиде или в Сан-Диего... И этот юный англичанин тоже желает нам удачи...
«Так он англичанин?» — подумала Долли, которую глубоко взволновал разговор с матросом.
В первый день плавание было очень приятным. Дул норд-вест с суши, и на море был полный штиль. Таким же будет море, когда «Брисбен» обогнет мыс Хау и пойдет в Бассов пролив.
В течение этого дня миссис Бреникен почти не уходила со спардека. Пассажиры судна выказывали ей искреннее почтение и явное желание находиться в ее обществе. Им очень хотелось посмотреть на эту женщину, чьи несчастья отозвались в сердцах многих людей и которая без колебаний и страха двинулась навстречу стольким опасностям в надежде спасти мужа, если Провидению будет угодно оставить его в живых.
Рядом с Долли никто не сомневался, что капитан Джон жив и будет спасен. Да и возможно ли было не разделять ее уверенности, слушая вдохновенные рассказы о том, какие смелые и решительные шаги она предпримет для спасения мужа?! Невольно собеседники мысленно устремлялись за ней, в глубь Центральной Австралии. Надо сказать, что среди слушателей находились и те, кто готов был сопровождать ее туда не только мысленно.
Но случалось, что посреди беседы миссис Бреникен вдруг умолкала. В глазах ее вспыхивал огонь, взгляд делался каким-то особенным, и только Зак Френ понимал, отчего это происходит. Столь внезапная перемена совершалась тогда, когда она видела Годфри; походка юного матроса, манера держаться, жесты — все это захватывало, волновало, переворачивало ее душу...
Миссис Бреникен не смогла скрыть от Зака Френа, что обнаружила поразительное сходство между Джоном и Годфри. И боцман с тревогой наблюдал за тем, какое впечатление производит на нее это совершенно случайное обстоятельство. Он не без оснований опасался, что такой поворот дела слишком живо напомнит ей о ребенке, которого она лишилась. Словом, было отчего тревожиться, видя, до какой степени присутствие юного матроса будоражит Долли.
Между тем Годфри, которому по службе не было надобности бывать на корме судна, отведенной исключительно для пассажиров первого класса, более не подходил к миссис Бреникен. Но, находясь вдалеке друг от друга, они часто встречались взглядами, и Долли готова была позвать его... Да, по первому знаку Годфри поспешил бы к ней... Но Долли не делала этого знака, и Годфри не приходил.
Как-то вечером, когда Зак Френ провожал миссис Бреникен в каюту, она сказала ему:
— Зак, нужно будет узнать, кто этот паренек, из какой он семьи, где родился... Может, он и не англичанин вовсе?
— Возможно, мадам,— ответил Зак Френ.— Может статься, он американец. Да если вы хотите, я спрошу о нем у капитана.
— Нет, Зак, нет, я сама расспрошу Годфри.
И боцман услыхал, как миссис Бреникен задумчиво вполголоса проговорила:
— Моему сыну, моему бедному Уотику было бы сейчас примерно столько же!
«Этого я и боялся!» — подумал Зак Френ, глядя на дверь каюты миссис Бреникен.
На следующий день, двадцать второго августа, «Брисбен», ночью миновавший мыс Хау, продолжал плавание в благоприятных условиях. Гипсленд, одна из главных областей колонии Виктория, простираясь к юго-востоку, соединяется с полуостровом Вильсонс-Промонтори, самой южной оконечностью материка. Это побережье не столь богато бухтами и гаванями, как то, что тянется от Сиднея до мыса Хау. Здесь, насколько хватает глаз, простираются равнины,— их пределы, окаймленные горами, так удалены от побережья, что с моря неразличимы.
Миссис Бреникен, с рассветом покинув каюту, заняла свое место в задней части спардека. Присоединившийся к ней вскоре Зак Френ обнаружил в ее поведении разительную перемену: поглощенная своими мыслями, Долли, едва ответив на вопрос своего спутника, как она провела ночь, не поддержала ставшее традиционным обсуждение планов экспедиции.
Боцман не стал настаивать. Главное — чтобы миссис Бреникен забыла об удивительном сходстве Годфри с капитаном Джоном, чтобы не стремилась больше увидеться с ним, расспросить. Может, она уже отказалась от этой затеи?.. После завтрака миссис Бреникен пошла в каюту и на палубу вернулась лишь между тремя и четырьмя часами пополудни.
В это время «Брисбен» на всех парах шел к Бассову проливу, разделяющему Австралию и Тасманию, или Землю Ван-Димена.
Вряд ли можно оспаривать то, что открытие голландца Абеля Янсзона Тасмана принесло англичанам пользу и что остров этот, находящийся в естественной зависимости от континента, выиграл от господства на нем англосаксов. Протяженность острова с севера на юг — двести восемьдесят километров, почва его необычайно плодородна, леса изобилуют ценными породами деревьев, и именно поэтому с 1642 года, когда он был открыт, его колонизация пошла быстрыми темпами.
С начала нынешнего столетия англичане правят на острове так, как они умеют править,— упрямо, нисколько не заботясь о коренном населении. Колонизаторы поделили остров на округа, основали крупные города (столицу Хобарт, Джорджтаун и многие другие), воспользовавшись изрезанностью береговой линии, построили множество портов, где теперь сотнями причаливают корабли.
Все это хорошо. Но что остается черному, коренному населению острова? Конечно, аборигены считались наиболее отсталыми представителями рода человеческого, существовало мнение, что по своему развитию они ниже африканских негров и обитателей Огненной Земли. Но если уничтожение народа — это последнее слово колониального развития, то англичане могут похвастаться тем, что успешно довели свое дело до конца. И если они хотят показать несколько тасманийцев[199] на ближайшей Всемирной выставке в Хобарте, то пусть поторопятся!.. К концу XIX века из них уже никого не останется.
Глава II ГОДФРИ
«Брисбен» шел по Бассову проливу вечером. В августе на этой широте в южном полушарии сумерки наступают уже около пяти часов. Луну, входившую в первую четверть, быстро заволокло густым туманом. Побережье скрылось в кромешной тьме, и то, что пакетбот находится в проливе, можно было понять по килевой качке, вызываемой очень неспокойным морем: течения и противотечения с силой сталкиваются в этом узком месте, открытом для вод Тихого океана.
На рассвете следующего дня, двадцать третьего августа, «Брисбен» находился у входа в залив Порт-Филлип. В самом заливе кораблям нечего бояться плохой погоды, но, чтобы войти в залив, морякам нужно действовать точно и осторожно, в особенности когда судно идет мимо длинного песчаного мыса Нипин, расположенного с одной стороны, и мыса Куинсклифф — с другой. В заливе, достаточно закрытом, разместилось несколько портов с превосходными якорными стоянками для крупнотоннажных судов: Джилонг, Сандридж, Вильямстаун,— два последних являются портами Мельбурна.
Побережье представляет собой картину унылую, однообразную, непривлекательную: скудная зелень по берегам не то чтобы лагун[200], но, скорее, высохших болот, дно которых покрыто отвердевшим и потрескавшимся илом. Дело будущего — изменить облик этих равнин, на месте торчащих тут и там чахлых деревцев посадить высокоствольные деревья, а уж австралийский климат быстро сделает из них дивный лес.
«Брисбен» подошел к одной из пристаней Вильямстауна, здесь высаживалась часть пассажиров. Стоянка должна была продлиться тридцать шесть часов, которые миссис Бреникен решила провести в Мельбурне.
Дел у Долли в этом городе не было — подготовкой экспедиции, вероятно, она займется только по прибытии в Аделаиду. Тогда зачем покидать «Брисбен»? Из боязни, что ее станут донимать желающие увидеться с ней? Но разве, чтобы этого избежать, не достаточно уединиться в своей каюте? И разве, поселившись в одном из городских отелей, она не обрекала себя на еще более частые встречи?
Зак Френ не знал, как объяснить поступок миссис Брени-кен. Он видел только, что ее прежняя приветливость сменилась необщительностью. И объяснить это, по мнению боцмана, можно было только тем, что присутствие Годфри слишком живо напоминало ей о сыне.
Да, Зак Френ оказался прав в своих предположениях. Внешность юного матроса гак сильно волновала Долли, что она ощущала потребность в уединении. Решив провести в Мельбурне все тридцать шесть часов стоянки, испытать неудобства, связанные с тем, что о ее несчастьях было широко известно, Долли преследовала одну цель — бежать. Да, иначе не скажешь, именно бежать от этого четырнадцатилетнего парнишки, к которому ее влекла какая-то инстинктивная сила. Отчего она не отваживалась поговорить с ним, расспросить обо всем, что ее интересовало: о его национальное! и, месте рождения, семье? Боялась, что его ответы, весьма вероятно, начисто разрушат поспешные иллюзии, несбыточную мечту, которая завладела ею и возбудила подозрения у Зака Френа?
Миссис Бреникен в сопровождении боцмана сошла на берег рано у хром. Едва ступив на пирс, она обернулась: Годфри стоял на носу «Брисбена», опершись на планширь. Печально глядя ей вслед, он сделал движение, выдавшее столь сильное желание удержать ее на судне, что Долли чуть было не крикнула: «Мальчик мой, я вернусь!» Но. сдержавшись и дав Заку Френу знак следовать за ней, она направилась к станции железной дороги, связывающей порт с городом...
Мельбурн расположен на левом берегу реки Ярра-Ярра, в двух километрах от побережья залива, и поезда преодолевают это расстояние за несколько минут. Город с населением в триста тысяч человек является столицей великолепной колонии Виктория, насчитывающей около миллиона жителей, о которой с 1851 года можно не без оснований говорить, что гора Александр отдала ей все свое золото.
Миссис Бреникен, хоть и остановилась в одной из наименее известных гостиниц в городе, все же не смогла оградить себя от любопытства, - впрочем, вполне понятного,— которое повсюду вызывало ее присутствие. Поэтому она предпочла в компании Зака Френа бродить по городу, коего, будучи озабочена совсем иным, она почти и не видела.
Вообще-то американку ничем не удивишь и не порадуешь в самом современном городе. Хоть и основанный на двенадцать лет позже, чем Сан-Франциско в Калифорнии, Мельбурн ей кажется, как говорят, «не вполне хорошим»: широкие, лежащие перпендикулярно друг к другу улицы, скверы, которым не хватает деревьев и газонов, множество банков, конторы, ворочающие огромными делами, квартал, где сосредоточена розничная торговля, общественные здания, церкви, соборы, университет, музей, библиотека, больница, ратуша, школы, похожие на дворцы, и дворцы, похожие на школы, памятник двум исследователям — Бёрку и Уилсу, которые погибли, пытаясь пересечь Австралийский континент с юга на север; а еще длинные улицы и бульвары, редкие прохожие вне делового квартала города, некоторое число иностранцев, главным образом евреев немецкого происхождения, торгующих деньгами так, как другие торгуют скотом или шерстью, притом за высокую цену - на радость сердцу Израилеву.
Но торговый Мельбурн менее всего населен торговцами. Виллы, коттеджи, даже княжеские резиденции заполнили пригороды: Сент-Килду, Хом, Эмералд-Хилл, Брайтон,— что, по мнению мистера Д. Чарнея, одного из наиболее известных путешественников, посетивших эту страну, является преимуществом Мельбурна перед Сан-Франциско. И уже выросли там деревья различных пород, роскошные тенистые парки, в которых журчащая вода долгие месяцы обеспечивает благодатную прохладу. Мало найдется городов, обрамленных более восхитительными зелеными массивами.
Миссис Бреникен рассеянно взирала на разного рода красоты, даже когда Зак Френ отвез ее за город. Ни живописно расположенные жилища, ни величественный ландшафт с дальними перспективами не поражали Долли. Одержимая какой-то неотступной идеей, она, казалось, все время хотела попросить Зака Френа о чем-то, но не решалась.
В гостиницу они вернулись уже к ночи. Долли заказала в номер ужцн, к которому едва притронулась. Потом легла и погрузилась в какой-то полусон, беспрестанно тревожимый образами мужа и ребенка.
На следующий день миссис Бреникен оставалась в номере до двух часов. Она написала длинное письмо мистеру Уильяму Эндрю; в нем она сообщала об отъезде из Сиднея, скором прибытии в столицу Южной Австралии и о своих надеждах на благополучный исход экспедиции. Получив это письмо, мистер Уильям Эндрю не преминул отметить, к своему большому удивлению и крайней обеспокоенности, что Доллины надежды найти Джона живым переросли в уверенность, а о. своем ребенке, малютке Уоте, она упоминала, как если бы он не погиб. Славный мистер Эндрю спрашивал себя, нет ли тут повода для новых опасений за рассудок исстрадавшейся женщины.
Почти все пассажиры, которые должны были следовать до Аделаиды, уже были на борту «Брисбена», когда миссис Бреникен и Зак Френ вернулись на судно. Годфри с нетерпением ждал ее возвращения, и, едва она показалась вдали, лицо его озарилось улыбкой. Он устремился на пирс и стоял там, когда она поднималась на корабль. Зак Френ был до крайности раздосадован. Что бы он только не отдал, лишь бы этот юный матрос покинул пакетбот или хотя бы не попадался на глаза Долли, будя в ней мучительные воспоминания. Миссис Бреникен заметила Годфри. На мгновение она остановилась, пристально поглядела на него, но тут же опустила голову и, ни слова не сказав, уединилась в своей каюте.
В три часа пополудни «Брисбен», отдав швартовы, направился к выходу из залива; обогнув мыс Куинсклифф и держась менее чем в трех милях от побережья Виктории, судно взяло курс на Аделаиду.
В Мельбурне на пакетбот село человек сто пассажиров — главным образом жителей Южной Австралии, возвращающихся домой. Среди них было несколько иностранцев, и в частности китаец лет тридцати — тридцати пяти, сонного вида, смахивающий на крота. Желтый, словно лимон, круглый, словно китайская ваза, и лоснящийся, словно высокого ранга мандарин[201], китаец, однако, был вовсе не мандарином, а обыкновенным слугой человека, наружность которого заслуживает подробного описания.
Вообразите себе некоего сына Альбиона[202], типичного британца: высокого, худого, даже костлявого -- сплошные шея, туловище, ноги,— в общем, интереснейший экземпляр для остеологов[203]. Этот англосакс сорока пяти — пятидесяти лет возвышался над уровнем моря примерно на шесть английских футов. Светлая борода, видимо незнакомая с ножницами, светлая же, с золотым отливом шевелюра, рыскающие глазки, заостренный, с горбинкой, притом изрядной длины нос, напоминающий клюв пеликана или цапли, череп, на котором даже самый невнимательный френолог[204] легко углядел бы выпуклости, свидетельствующие об упрямстве и склонности к мономании[205],— из всех этих деталей складывается портрет, притягивающий взгляд и вызывающий улыбку.
Одет был англичанин в приличный традиционный костюм: картуз, жилет, застегнутый до самого верха, куртку со множеством карманов, суконные клетчатые брюки, башмаки на гвоздях с высокими штиблетами на никелированных пуговицах и белесый пыльник, ветром прижимаемый к телу и выдающий скелетическую худобу своего хозяина.
Кем был этот оригинал — неизвестно, ибо на австралийских пакетботах не принято фамильярничать, расспрашивать, кто, откуда и куда. Пассажиры на то и пассажиры, чтобы ехать,— и ничего больше. Единственное, что мог бы сказать стюард[206], так это то, что англичанин занимал каюту под именем Джошуа-Меритта, или просто Джоса Меритта из Ливерпуля (Соединенное Королевство), сопровождаемого слугой по имени Чжин Ци из Гонконга (Небесная империя[207]).
Взойдя на судно, Джос уселся на одну из скамеек, стоящих на спардеке, и встал с нее лишь во время ленча[208], когда прозвонил четырехчасовой колокол. В половине пятого он вернулся и ушел в семь на обед; в восемь снова уселся на скамейку в неизменной, точно у манекена, позе, устремив взгляд на берег, исчезающий в вечернем тумане. В десять часов он поднялся и четким, размеренным шагом, которого не могла нарушить даже качка, направился к себе в каюту.
Выйдя на палубу около девяти вечера, миссис Бреникен часть ночи провела в прогулке по корме «Брисбена», несмотря на то что было довольно прохладно. Терзаемая мыслями, вернее даже видениями, она не могла уснуть. В каюте ей не хватало воздуха, того освежающего воздуха, порой напоенного резким запахом акации, по которому можно узнать австралийскую землю, находясь в море, в пятидесяти милях от берега. Долли хотелось увидеться с юным матросом, поговорить с ним, расспросить...
Годфри закончил вахту в десять вечера и должен был вновь заступить только в два часа ночи, но к этому времени миссис Бреникен, обессилевшая от мучительных колебаний, вынуждена была отправиться к себе.
К середине ночи «Брисбен» обогнул мыс Отуэй, относящийся к округу Полуэрт. Далее судно пойдет прямо на северо-запад до залива Дискавери, в который упирается условная граница, проведенная по сто сорок первому меридиану и отделяющая провинции Виктория и Новый Южный Уэльс от Южной Австралии.
Утром Джос Меритт вновь сидел на своем обычном месте и в той же позе, как будто накануне никуда не уходил. Что до китайца Чжин Ци, то он где-то спал мертвым сном.
Зак Френ, уже давно привыкший к странностям своих соотечественников, поскольку чудаков хватает и в сорока двух федеральных штатах, понимаемых ныне под словами «Соединенные Штаты Америки», все же не без некоторого удивления смотрел на весьма любопытный человеческий экземпляр, коим являлся англичанин Джос Меритт.
Каково же было его изумление, когда, приблизившись к долговязому неподвижному джентльмену, он услыхал следующие слова, сказанные высоковатым голосом:
— Боцман Зак Френ, я полагаю?
— Он самый,— ответил Зак Френ.
— Компаньон миссис Бреникен?
— Именно так. Вы, как я погляжу, осведомлены...
— Осведомлен... о поисках ее мужа... пропавшего пятнадцать лет назад... Славно!.. Да!.. Очень славно!..
— То есть как очень славно?
— Так!.. Миссис Бреникен... Очень славно!.. Я тоже... в поисках...
— Своей жены?
— О!.. Не женат!.. Очень славно!.. Если б я потерял жену, то не стал бы ее искать.
— Но тогда что или кого вы ищете?
— Я ищу... шляпу.
— Шляпу?! Вы потеряли свою шляпу?
— Свою шляпу?.. Нет!.. Это шляпа... я хочу сказать... Передайте мое поч1ение миссис Бреникен... Славно!.. Да!.. Очень славно!.. — Губы Джоса Меритт а сомкнулись, и он не издал больше ни единого звука.
«Ненормальный какой-то», - подумал Зак Френ и решил, что несерьезно долее трагить время на этого джентльмена.
Когда Долли появилась на палубе, боцман присоединился к ней, и оба сели почти напротив англичанина. Тот сидел не шелохнувшись, точно бог Термин[209]. Велев Заку Френу передать свое почтение миссис Бреникен, он, должно быть, решил, что теперь ему нет надобности делать это лично.
Впрочем, Долли и не заметила присутствия этого странного пассажира. Она долго беседовала со своим компаньоном о приготовлениях к путешествию, которые должны будут начаться сразу же по прибытии в Аделаиду. Ни дня, ни часа нельзя терять. Нужно, чтобы караван по возможности прошел центральные районы Австралии прежде, чем там установится невыносимая жара. Из разного рода опасностей, которые неизбежно будут подстерегать экспедицию, самые страшные, вероятно, те, что вызваны суровостью климата, и надо принять все меры, дабы защититься от них.
Долли говорила о капитане Джоне, о его твердом характере, о несгибаемой воле, которые позволили ему, в чем она не сомневалась, выстоять там, где другие, менее крепкие, менее закаленные, пали. Меж тем о Годфри не было сказано ни слова, и Зак Френ радовался тому, что Долли перестала думать о парнишке, как вдруг...
Я что-то не видела сегодня юного матроса. А вы, Зак, видели его? — спросила миссис Бреникен.
— Нет, мадам,— ответил раздосадованный ее вопросом боцман.
— Может, я могла бы что-нибудь сделать для этого мальчика? — продолжала она с напускным безразличием, которое все же не обмануло боцмана.
— Сделать? О! да у него хорошая профессия, мадам,-ответил Зак Френ. -- С таким ремеслом невозможно пропасть. Я думаю, через несколько лет мальчик станет старшим матросом. При усердии и дисциплине...
— Все равно... Он мне интересен... Интересен тем... Ну да, Зак, да! Эго необычайное сходство между ним и моим бедным Джоном... И йотом, Уоту... моему сыну... было бы сейчас столько же!
При этих словах Долли сделалась бледной, голос ее изменился, устремленный на Зака Френа взгляд был столь вопрошающим, что боцман опустил глаза.
— Приведите его ко мне после полудня, Зак,— сказала Долли.— Не забудьте. Я хочу поговорить с ним... Завтра поездка окончится, и мы больше никогда не увидимся. Но прежде чем покинуть «Брисбен», я хочу знать... Да, знать...
Боцману ничего не оставалось, как пообещать, что приведет Годфри, и Долли ушла.
Боцман, крайне встревоженный, ходил по палубе, пока стюард не позвонил ко второму завтраку. По дороге к трапу он едва не столкнулся с англичанином, который, казалось, подстраивал свой шаг под удары колокола.
— Славно!.. Да!.. Очень славно!.. Вы передали привет от меня... по моей просьбе... Ее муж пропал... Славно!.. Да!.. Очень славно! — воскликнул Джос Меритт и направился в столовую, чтобы занять там свое место за столом — самое хорошее, разумеется, и по соседству с раздаточной, благодаря чему он обслуживался первым и имел возможность выбрать лучшие порции.
В три часа «Брисбен» находился у входа в Портленд, главный порт округа Норманби, куда из Мельбурна ведет еще железная дорога; далее, обогнув мыс Нельсон, судно оказалось в районе залива Дискавери и затем стало подниматься почти строго на север, идя довольно близко к побережью Южной Австралии.
В этот момент Зак Френ сообщил Годфри, что миссис Бреникен хочет с ним поговорить.
— Поговорить?! — воскликнул юный матрос, и сердце его заколотилось так сильно, что он едва не упал, успев схватиться за планширь.
Годфри в сопровождении боцмана направился в каюту, где его ждала миссис Бреникен. Войдя, он встал перед ней, держа в руках свой матросский берет. Она сидела на диване и некоторое время молча смотрела на мальчика. Стоящий у двери Зак Френ с тревогой глядел на обоих. Он знал, о чем Долли станет спрашивать Годфри, но не мог предположить, что ответит юный матрос.
— Дитя мое,— начала миссис Бреникен,— мне бы хотелось получить кое-какие сведения о вашей семье... Я спрашиваю об этом потому, что меня интересует... ваше положение. Ответите ли вы на мои вопросы?
— Весьма охотно, мадам,— проговорил Годфри дрожащим от волнения голосом.
— Сколько вам лет? — спросила Долли.
— Я точно не знаю, мадам, но, должно быть, четырнадцать или пятнадцать.
— Четырнадцать или пятнадцать!... А с каких лет вы начали плавать?
— С восьми лет, мадам. Я был тогда юнгой, а теперь вот уже два года, как служу матросом.
— Вы ходили в дальние плавания?
— Да, мадам, по Тихому океану в Азию и по Атлантике в Европу.
— Вы англичанин?
— Нет, мадам, американец.
— И тем не менее вы служите на английском пакетботе?
— Корабль, на котором я служил, недавно был продан в Сиднее. Оставшись без работы, я поступил на «Брисбен» в ожидании подходящего момента, чтобы вновь наняться на американское судно.
— Хорошо, дитя мое,— ответила Долли, сделав знак Годфри подойти поближе.
Годфри повиновался.
— А теперь мне хотелось бы узнать, откуда вы родом?
— Из Сан-Диего, мадам.
— Из Сан-Диего, — повторила Долли, отнюдь не казавшаяся удивленной, словно предчувствовавшая, что ответ будет именно таким.
Что до Зака Френа, то он был поражен услышанным.
— Да, мадам, из Сан-Диего,— повторил Годфри.- О! Я вас хорошо знаю!.. Когда мне стало известно, что вы едете в Сидней, я очень обрадовался... Если бы вы только могли себе представить, мадам, как мне интересно все, что касается капитана Джона Бреникена!
Долли взяла руку юного матроса и держала ее несколько мгновений, не произнося ни слова; по всему было видно, что Доллино воображение вновь уносило ее куда-то.
— Ваше имя? — вновь заговорила она взволнованно.
— Годфри.
— А как ваша фамилия?
— У меня нет фамилии, мадам.
— А ваши родители?
— У меня нет родителей.
— Нет родителей! — воскликнула миссис Бреникен.— Так вы, значит, росли...
— В Уот-хаус,— ответил Годфри. — Да, мадам, и вы о нас заботились. О, я часто видел, как вы приходили навестить ваших воспитанников в приюте!.. Вы меня не замечали в толпе детишек, но я... Как мне хотелось обнять вас!.. Потом во мне обнаружилась склонность к морскому делу, и я поступил юнгой... Другие ребята из Уот-хаус тоже устроились на корабли. Мы никогда не забудем, чем обязаны миссис Бреникен... нашей маме!..
— Вашей маме! — вздрогнув, воскликнула Долли, ючно это слово эхом отдалось у нее внутри.
Она привлекла Годфри к себе. Осыпала его поцелуями. Он отвечал ей. И плакал. Этот порыв никого из них не удивил — таким естественным он был для обоих.
Зак Френ стоял поодаль и, напуганный тем, что хлынувшие чувства буквально разрывали душу миссис Бреникен, шептал:
— Бедная, бедная женщина!.. Что с нею будет?!
— Идите, Годфри!.. Идите, дитя мое! Я вас позову... Мне надо побыть одной...- сказала Долли.
Зак Френ последовал было за мальчиком, но она остановила его:
— Останьтесь, Зак.
Годфри ушел один. Мгновение спустя Долли возбужденно заговорила:
— Зак, этот ребенок воспитывался вместе с другими детьми в Уот-хаус... Он родился в Сан-Диего, ему четырнадцать или пятнадцать лет, он как две капли воды похож на Джона... а его решительный характер, его любовь к морю?!.. Это сын моряка... Это сын Джона... Это мой сын!.. Мы считали, что залив Сан-Диего навсегда поглотил бедного малютку, но он не погиб... Он был спасен... Этого мальчика зовут не Годфри... Это Уот... Богу угодно, прежде чем соединить нас с Джоном, вернуть мне сына...
Зак Френ слушал миссис Бреникен, не осмеливаясь прервать. Он понимал, что несчастная женщина и не могла говорить иначе: она обосновывала свою идею неопровержимой материнской логикой. Но у мужественного моряка разрывалось сердце, ведь его долгом было разрушить эти иллюзии. Нужно было остановить Долли, чтобы она не рухнула в новую пропасть.
И он сделал это — не колеблясь, почти резко:
— Миссис Бреникен, вы ошибаетесь! Я не хочу, я не должен оставлять вас в заблуждении!.. Это сходство — чисто случайное. Уот погиб... Да! Погиб! Он погиб в результате несчастно случая, и Годфри не ваш сын...
— Уот погиб?! — воскликнула миссис Бреникен.— Но что вы об этом знаете? И кто это может утверждать?
— Я, мадам.
— Вы?..
— Неделю спустя после катастрофы в заливе тельце ребенка было выброшено на песчаный берег, на мыс Лома... Это я его нашел... Я сообщил мистеру Эндрю; он опознал Уота, и малютка был похоронен на кладбище в Сан-Диего... Мы часто носили цветы на его могилку...
— Уот!.. Мой маленький Уот... там... на кладбище!.. И мне ничего не сказали об этом!..
— Да, мадам, да! — ответил Зак Френ.— Вы тогда потеряли рассудок, а четыре года спустя, когда все было позади, мы боялись... Мистер Эндрю боялся... снова причинить вам страдания... и он молчал!.. Но ваш ребенок мертв, мадам, и Годфри не может быть вашим сыном!
Долли, закрыв глаза, упала на диван; ей казалось, что яркий свет вокруг нее вдруг сменился кромешной тьмою. Она сделала знак Заку Френу, и тот оставил ее одну — мучимую воспоминаниями и разочарованиями.
На следующий день, двадцать шестого августа, миссис Бреникен еще не выходила из каюты, когда «Брисбен», пройдя через пролив Бакстэрс, между островом Кенгуру и мысом Джервис, вошел в залив Сент-Винсент и бросил якорь в Порт-Аделаиде.
Глава III ИСТОРИЧЕСКАЯ ШЛЯПА
Из трех австралийских столиц Сидней — старшая, Мельбурн — средняя, Аделаида — младшая. По правде говоря, последняя не только самая молодая, но и самая красивая. Родилась она в 1853 году от матери Южной Австралии, отсчитывающей свое политическое существование с 1837 года, а официально признанную независимость — с 1856-го[210]. Вполне возможно, что юность Аделаиды будет длиться вечно среди несравненного климата, самого здорового на континенте, в краю, где нет ни чахотки, ни эндемической[211] лихорадки, ни каких-либо инфекционных болезней. Правда, люди там, случается, умирают, но, как остроумно замечает мистер Д. Чарней, очень может быть, что это исключения.
Хотя южно-австралийская земля отличается от соседней тем, что не содержит золотоносных месторождений, она богата медью. Рудники близ Кананды, Барры, Уоллару и Мунты, разработка которых началась лет сорок назад и привлекла тысячи эмигрантов, составили богатство провинции.
Аделаида находится не на самом берегу залива Сент-Винсент; подобно Мельбурну, она расположена в двенадцати километрах от залива, и с портом ее связывает железная дорога. Ботанический сад Аделаиды, посаженный Шумбур-гом, может соперничать с мельбурнским. В нем есть оранжереи, коим не сыщегся равных в мире, плантации роз, напоминающие целые парки, красивейшие деревья умеренных широт, дающие роскошную тень, вперемежку с различными породами субтропиков.
Ни Сидней, ни Мельбурн не сравнятся с Аделаидой в элегантности. Улицы ее просторны, хорошо распланированы и тщательно ухожены; на краю некоторых из них (например, на Кинг-Уильям-стрит) воздвигнуты великолепные памятники. Почтамт и ратуша заслуживают внимания с точки зрения архитектуры. В торговом квартале, на улицах Хиндли и Гленелл, с раннего утра царит шумная коммерческая круговерть. Лица многих снующих там деловых людей, однако, выражают удовлетворение, которое они испытывают от бесчисленных торговых операций, проведенных разумно, без лишних осложнений и хлопот, сопровождающих, по обыкновению, дела такого рода.
Миссис Бреникен остановилась в отеле на Кинг-Уильям-стрит, куда ее проводил Зак Френ. Мать перенесла суровое испытание, связанное с крушением последних иллюзий. Многое говорило о том, что Годфри мог быть ей сыном, и она тотчас поддалась этим мечтам. Разочарование читалось на ее больше обычного бледном лице, в покрасневших от слез глазах. С того момента, как надежды были окончательно разбиты, она более уже не искала встречи с юным матросом и не заговаривала о нем. В ее памяти осталось лишь удивительное сходство, оживляющее образ Джона.
Теперь Долли с головой уйдет в свое дело и, ни на что не отвлекаясь, займется подготовкой к экспедиции. Она призовет на помощь всех самоотверженных людей и щедро вознаградит рвение тех, кто подкрепит ее усилия своими в этой последней попытке.
Надо сказать, что недостатка в мужественных спутниках у Долли, по всей видимости, быть не могло, так как провинция Южная Австралия — в полном смысле слова родина отважных. Отсюда самые известные первопроходцы устремлялись в неведомые просторы Центра; отсюда вышли Уорбертон, Джон Форрест, Джайлс, Стёрт, Линдсей, маршруты которых перекрещиваются на картах этого обширного континента. Так, полковник Уорбертон в 1874 году пересек Австралию с востока на северо-запад, по двадцатой параллели, до Никол-Бей; в том же году Джон Форрест прошел в обратном направлении, из Перта в Порт-Огасту; в 1876 году Джайлс также вышел из Перта, чтобы достичь залива Спенсер на двадцать пятой параллели. Теперь в эту сеть собиралась вплести свою нить и миссис Бреникен.
Уговорились, что экспедиция будет окончательно сформирована не в Аделаиде, а на конечной станции железной дороги, ведущей на север до широты озера Эйр. Пересечь пять параллелей по железной дороге — это значит выиграть время, сберечь силы. В районах, примыкающих к горной системе Флиндерс, предстояло собрать многочисленные повозки, а также необходимых для такого похода лошадей и волов — последние предназначались для перевозки продовольствия и лагерного снаряжения. Речь шла о том, чтобы в бескрайних пустынях, на необъятных песчаных равнинах, лишенных растительности, а в большинстве случаев и воды, удовлетворять нужды экспедиции, которая будет насчитывать человек сорок, включая обслуживающий персонал и небольшой отряд охраны.
Набирать людей Долли принялась прямо в Аделаиде. Надобно сказать, что в этом вопросе она встретила постоянную и ощутимую поддержку со стороны губернатора Южной Австралии; благодаря ему тридцать человек, имеющих хороших лошадей и хорошо вооруженных,— одни из числа аборигенов, другие из европейских колонистов,— приняли предложение миссис Бреникен участвовать в экспедиции. Им было гарантировано весьма высокое жалованье за весь период похода и вознаграждение в размере сотни фунтов[212] каждому по окончании экспедиции независимо от ее результата. Командовать ими должен был Том Марикс — бывалый офицер южноавстралийской полиции, крепкий и решительный человек лет сорока, за которого губернатор ручался. Том Марикс придирчиво отобрал себе самых сильных и надежных людей из большого числа тех, кто предложил свои услуги. Таким образом, были все основания рассчитывать на преданность конвоя, сформированного в наилучших условиях.
Обслуживающий персонал поступал в распоряжение Зака Френа. «Если люди и животные не будут живо и смело идти вперед, то никак не по моей вине»,— говорил боцман.
Но и Том Марикс, и Зак Френ подчинялись бесспорно начальнику и душе экспедиции — миссис Бреникен.
Было решено, что, как только все приготовления подойдут к концу (самое позднее тридцатого числа), Зак Френ отправится на станцию Фарайнатаун, где к нему присоединится Долли, присутствие которой в Аделаиде уже не будет необходимостью.
— Зак, проследите за тем, чтобы наш караван был готов тронуться в путь в конце первой недели сентября,— напутствовала боцмана миссис Бреникен.— Платите наличными, цены пусть вас не смущают. Продовольствие отправят отсюда по железной дороге, а вы в Фарайнатауне организуете его погрузку в наши фургоны[213]. И помните, мы должны полностью обеспечить успех экспедиции.
— Все будет сделано, миссис Бреникен,— ответил боцман.— Когда вы приедете, вам останется только дать сигнал к отправлению.
Само собой разумеется, у Зака Френа хватало дел в последние дни пребывания в Аделаиде. Все это время он «вертелся» по-моряцки, с необычайным проворством, и двадцать девятого августа смог взять билет до Фарайнатауна. Через двенадцать часов после прибытия на эту конечную станцию он отправил миссис Бреникен телеграмму, в которой уведомил о том, что часть экспедиционного имущества уже собрана.
Со своей стороны Долли при содействии Тома Марикса завершила все дела, связанные с конвоем, его экипировкой и вооружением. Оставалось только тщательно отобрать лошадей, и среди австралийской породы нашлись великолепные экземпляры выносливых и неприхотливых животных. Пока экспедиция будет двигаться по лесам и равнинам, о корме для них можно не беспокоиться: травы и воды там достаточно. Но когда начнутся песчаные пустыни, лошадей придется заменить на верблюдов — это предполагалось сделать, как только караван достигнет станции Алис-Спрингс. Миссис Бреникен и ее товарищи готовились к тому, что далее им придется преодолевать трудности физического порядка, из-за которых путешествие по Центральной Австралии считается делом весьма опасным.
Заботы об экспедиции несколько отвлекли Долли от мыслей о последних событиях, происшедших на «Брисбене».
Теперешняя ее деятельность не оставляла ей ни часа досуга, и от той иллюзии, которую разрушило признание Зака Френа, у бедной женщины сохранилось лишь воспоминание. Теперь она знала, что ее малютка покоится там, на кладбище в Сан-Диего, можно пойти поплакать на его могилку... Но это сходство... Образы Джона и Годфри смешивались в ее голове.
После прибытия пакетбота в Аделаиду миссис Бреникен больше не видела юного матроса. Пытался ли он встретиться с ней — она не знала. Похоже все-таки, что Годфри не появлялся в отеле на Кинг-Уильям-стрит. Да и зачем ему приходить туда? После разговора с ним Долли заперлась в своей каюте и больше не звала его. К тому же она знала, что «Брисбен» уже отправился в Мельбурн. К моменту же возвращения пакетбота в Аделаиду ее уже здесь не будет.
В то время как миссис Бреникен ускоряла приготовления к переходу через Центральную Австралию, другой человек с не меньшим упорством готовился к такому же путешествию. Он поселился в отеле на Хиндли-стрит. Окна его апартаментов располагались по фасаду здания, а окно комнаты для прислуги выходило во внутренний двор. Так разместились под одной крышей два странных представителя арийской и желтой рас: англичанин Джос Меритт и китаец Чжин Ци.
Откуда явились оба этих типа и куда направляются? Что делали в Мельбурне и с какой целью прибыли в Аделаиду? Наконец, что побудило господина и слугу, объединившись, отправиться по свету вместе — один платя другому, другой служа первому? Все это станет понятно из разговора, который произойдет между Джосом Мериттом и Чжин Ци пятого сентября, но прежде надобно кое-что вкратце пояснить.
Если некоторые черты характера, причуды, манера вести себя и говорить уже позволили составить первое впечатление об англосаксе, то теперь настало время познакомиться с его слугой, выходцем из Поднебесной, который вдали от родины не снимал традиционного наряда китайцев -— нижней рубахи, куртки, запахивающегося халата, глухих штанов и матерчатого пояса. Надобно также отметить, что Чжин Ци, выросший в Гонконге[214], по-английски говорил точно уроженец Манчестера[215]. Человек он был на редкость апатичный[216] — и когда речь шла о работе, и даже когда речь шла об опасности. Он не сделал бы и десяти шагов, чтобы выполнить приказание своего господина, не сделал бы и двадцати — чтобы избежать риска. Положительно, имея такого слугу, Джосу Меритту нужно было обладать ангельским терпением. Сказав по правде, тут немалую роль играла привычка, поскольку вот уже пять или шесть лег они путешествовали вместе. Один нашел другого в Сан-Франциско, где полно китайцев, и взял в качестве слуги, как говорится, «на испытательный срок», который, без сомнения, продлится до тех пор, пока их не разлучит могила.
Впрочем, Джос Меритт, будучи, в сущности, по натуре флегматиком[217], редко выходил из себя. И несмотря на свои постоянные угрозы самыми страшными пытками, бывшими в ходу в Небесной империи, где министерство юстиции буквально называется ведомством наказаний,— англичанин не дал бы Чжин Ци и щелчка. Когда его распоряжения не выполнялись, он выполнял их сам, что упрощало дело.
Возможно, недалек тот день, когда Меритт станет ухаживать за своим слугой. Весьма вероятно, китаец склонен был именно так и думать, и, по его разумению, это было бы вполне справедливо. Тем не менее в ожидании счастливого поворота судьбы Чжин Ци был вынужден следовать за своим господином туда, куда неуемная фантазия влекла этого оригинала. А тут уж Джос Меритт не поступался ничем; он скорее взвалил бы себе на плечи дорожный сундук Чжин Ци, нежели позволил бы ему плестись сзади, когда поезд или пакетбот должен был вот-вот отойти. Хочешь не хочешь, а человеку, рискующему заснуть прямо на дороге в приступе совершенной апатии, ничего не оставалось, как поспешать за своим господином. Вот так один сопровождал другого на протяжении тысяч миль, и в результате этого беспрерывного передвижения по старому и новому континентам оба очутились в столице Южной Австралии.
— Славно!.. Да!.. Очень славно! - сказал в тот вечер Джос Меритт.— Полагаю, что все необходимое сделано?..
Вряд ли можно объяснить, почему англичанин, вынужденный все делать собственными руками, задал этот вопрос Чжин Ци. Однако он всегда задавал ему подобные вопросы -принципа ради.
- Тысячу и тысячу раз сделано,- ответил китаец, вечно пересыпающий свою речь разными оборотами, к коим питают пристрастие жители Поднебесной.
— Наши чемоданы?..
— Собраны.
— Оружие?..
— В полном порядке.
— Ящики с провиантом?..
— Вы же сами, мой господин Джос, отправили их на вокзал. Да, кстати, стоит ли запасаться съестным, когда нас самих в один прекрасный день... съедят!
— Съедят, Чжин Ци?.. Славно!.. Да!.. Очень славно! Вы, стало быть, по-прежнему рассчитываете быть съеденным?
— Рано или поздно это случится, полгода тому назад мы чуть было не завершили наше путешествие в утробе каннибала... я в особенности!
— Вы, Чжин Ци?..
— Да, этот народец не колеблясь отдаст мне предпочтение по той причине, что я толстый, а вы, мой господин Джос, худой!
— Предпочтение?.. Славно!.. Да!.. Очень славно!
— И потом, австралийские аборигены наверняка считают деликатесом плоть желтокожих китайцев, нежную оттого, что они питаются рисом и овощами.
— Поэтому я неустанно советую вам курить, Чжин Ци,— отвечал флегматичный Джос Меритт.— Вы ведь знаете, антропофаги[218] не любят мяса курильщиков.
Именно этим и был беспрерывно занят осторожный китаец, куря отнюдь не опиум, а обыкновенный табак, которым Джос Меритт снабжал его в достатке. Похоже, австралийцы, как и их собратья по каннибализму из других мест, в самом деле испытывают непреодолимое отвращение к человеческой плоти, пропитанной никотином. Вот почему Чжин Ци сознательно работал над тем, чтобы становиться все менее и менее съедобным.
Но действительно ли ему и его господину прежде уже грозила возможность участвовать в трапезе антропофагов, причем отнюдь не в качестве сотрапезников? Да, в некоторых районах африканского побережья Джос Меритт и его слуга чуть было не закончили таким образом свою насыщенную приключениями жизнь. Десятью месяцами ранее, в Квинсленде, к западу от Рокгемптона и Грейсмира, в нескольких сотнях миль от Брисбена, странствия привели их к самым кровожадным племенам аборигенов. Можно сказать, каннибализм у них существует прямо-таки в эндемичной форме.
Джос Меритт и Чжин Ци неизбежно погибли бы, если бы не вмешательство полиции. Вовремя спасенные, они добрались до столицы Квинсленда, потом до Сиднея, откуда пакетбот доставил их в Аделаиду. Тем не менее все эти случаи не отбили охоты у англичанина подвергать опасности себя и своего спутника: по словам Чжин Ци, они готовились побывать в центре Австралийского континента.
— И все это из-за шляпы! — воскликнул китаец.— Ай-йа!.. Ай-йа!.. Когда я об этом думаю, из глаз моих падают слезы, словно капли дождя на желтые хризантемы!
— И когда они перестанут падать, Чжин Ци?..— отозвался, нахмурив брови, Джос Меритт.
— Но эта шляпа, если вы ее когда-нибудь найдете, мой господин Джос, к тому времени превратится в тряпку...
— Довольно, Чжин Ци! Я запрещаю вам высказываться в таком тоне об этой шляпе, как и о любой другой! Вы слышите меня?.. Славно!.. Да!.. Очень славно! Если подобное повторится, я велю вам всыпать сорок или даже пятьдесят ротангов[219] по подошвам!
— Мы не в Китае,— парировал Чжин Ци.
— Я лишу вас пищи!
— От этого я всего лишь похудею.
— Я отрежу вам косу у самого затылка!
— Отрежете косу?..
— Я не дам вам табаку!
— Бог Фу[220] защитит меня!
— Не защитит.
Перед этой, последней, угрозой Чжин Ци вновь сделался смиренным и почтительным. Но о какой такой шляпе шла речь и почему Джос Меритт проводил жизнь в погоне за какой-то шляпой?
Наш чудак, как уже говорилось, был родом из Ливерпуля, одним из тех безобидных маньяков, что есть не только в Соединенном Королевстве. Разве не встречаются они на берегах Луары, Эльбы, Дуная или Шельды, равно как и в краях, орошаемых водами Темзы, Клайда или Твида? Джос Меритт был очень богат и знаменит в Ланкастере и соседних графствах своими коллекционерскими причудами. А собирал он отнюдь не безделушки, которые тем не менее усиленно покупал, тратя на них немалые средства.
Предметом его собирательства являлись шляпы, и англичанин скопил уже целый музей исторических головных уборов. У него были шляпы мужские и женские, старинные цилиндры, треуголки, широкополые шляпы древних греков, шапокляки, шлемы, шляпы с отвислыми полями, матросские картузы из лакированной кожи, кардинальские баррегы, шишаки, ермолки, тюрбаны, токи, карочи, фуражки, фески, кивера, кепи, гусарские меховые шапки, тиары, митры, женские головные уборы с перьями, бархатные шляпы с галуном судейских, головные уборы инков, средневековые женские головные уборы в виде конуса, священнические белые повязки, шляпы венецианских дожей, детские крестные чепчики и так далее и так далее — многие сотни штук, истрепанные, в более или менее плачевном состоянии, без тулей и полей. Послушать его, так он обладал бесценными историческими диковинами, как-то: шлем Патрокла, убитого Гектором при осаде Трои, берет Фемистокла, в котором он был во время сражения при Саламине, головные уборы Лукреции Борджа, в которых она была во время трех своих бракосочетаний: с герцогом Сфорца, с Альфонсом д’Эсте и с Альфонсом Арагонским; шапка, которая была на Тамерлане при переходе провинции Синд, шапка Чингисхана, красовавшаяся на голове этого завоевателя, когда он покорил Бухару и Самарканд, коронационный головной убор Елизаветы, головной убор, украшавший Марию Стюарт во время ее бегства из замка Локлевен, головной убор Екатерины II, в котором она была во время своей коронации в Москве, зюйдвестка Петра Великого, которую тот носил, когда работал на саардамской верфи, шляпа герцога Мальборо, покрывавшая его голову во время битвы при Рамини, шляпа норвежского короля Олафа, убитого в Стиклестаде, шляпа Геслера, которую не захотел почтить Вильгельм Телль, ток Уильяма Питта тех времен, когда он в возрасте двадцати трех лет стал премьер-министром, треуголка Наполеона I, которая была на нем во время сражения при Ваграме, и множество других, не менее любопытных головных уборов.
Более всего нашего чудака печалило то, что среди них не было шапочки Ноя, покрывавшей его голову в день, когда ковчег остановился на вершине горы Арарат[221], и шапки Авраама[222], в которой был этот патриарх, когда собирался принести в жертву Исаака. Однако Джос Меритт не терял надежды когда-нибудь их раздобыть. Что же касается головных уборов Адама и Евы[223], в момент изгнания их из земного рая, то он отказался от идеи заполучить их, поскольку авторитетные историки установили, что первый мужчина и первая женщина имели обыкновение ходить с непокрытой головой.
Из отнюдь не полного перечня музейных редкостей Джоса Меритта видно, в каких поистине детских заботах проходила жизнь этого чудака. Он был человеком убежденным и в подлинности своих находок не сомневался, но сколько же ему пришлось изъездить стран, городов и деревень, обшарить магазинов и лавок, посетить старьевщиков и барышников, потратить времени и денег на то, чтобы после многомесячных поисков найти наконец какое-нибудь отрепье, которое ему соглашались продать никак не меньше, чем на вес золота!
Англичанин готов был обрыскать весь свет, чтобы завладеть какой-нибудь редкостной шляпой, и теперь, когда им самим, его представителями, маклерами[224] и коммивояжерами[225] были прочесаны Европа, Африка, Азия, Америка и Океания, он намеревался обшарить, вплоть до самых труднодоступных уголков, Австралийский континент!
К этому Меритта побуждала причина, которую иные, без сомнения, сочли бы неосновательной — ему же она представлялась более чем серьезной. Прослышав о том, что австралийские кочевники любят напяливать на себя мужские и женские шляпы, и зная, что разное старье со всего мира регулярно грузится на суда и отправляется в австралийские порты, он пришел к заключению, что здесь можно, как говорят любители всякой рухляди, провернуть выгодное дельце.
Иными словами, Джос Меритт находился во власти навязчивой идеи и был терзаем неотступным желанием, грозившим ему, уже наполовину сумасшедшему, окончательным умопомрачением. На сей раз речь шла о том, чтобы отыскать некую шляпу, которая, как ему казалось, станет гордостью его коллекции.
Что это была за диковина? Какой прежний или нынешний мануфактурщик ее произвел? Чья голова — монарха, дворянина или простолюдина — носила ее и при каких обстоятельствах? В эти тайны Джос Меритт никогда никого не посвящал. Как бы то ни было, но, обдумав верные приметы и пройдя по ее следу с горячностью Чингачгука или Хитрого Лиса, он пришел к убеждению, что интересующая его шляпа после долгих мытарств должна была завершить свою карьеру на голове какого-нибудь именитого австралийского кочевника, дважды оправдав свое предназначение «служить убором для головы». Отыскав ее, он заплатит за нее столько, сколько спросят; если же шляпу не пожелают ему продать, он ее выкрадет,— пусть это будет его походный трофей.
Надобно сказать, что Джос Меритт уже побывал на северо-востоке континента, но, не добившись успеха в первой попытке, готовился бросить вызов слишком реальным опасностям, подстерегающим всякого, кто проникает в центральные области Австралии. Вот почему Чжин Ци полагал, что ему вновь грозит закончить свои дни в зубах каннибалов, да притом еще самых свирепых из всех, с коими ему приходилось иметь дело. Однако в сущности, и это следует признать, слуга испытывал такую глубокую привязанность к своему господину, зиждущуюся как на заинтересованности, так и на любви, что не смог бы расстаться с ним.
— Завтра поутру мы отправимся из Аделаиды курьерским поездом,— сообщил Джос Меритт.
— Опять вы за свое? — отозвался Чжин Ци.
— Опять, если хотите, и сделайте так, чтобы все было готово к отъезду.
— Лучшее, что я могу сделать, мой господин Джос,— это обратить ваше внимание на то, что у меня не десять тысяч рук, как у божества Гуань-инь![226]
— Не знаю, имеет ли божество Гуань-инь десять тысяч рук,— отвечал Джос Меритт,— но знаю, что у вас их две, и служить они должны мне...
— В ожидании, пока их откусят!
— Славно!.. Да!.. Очень славно!
Разумеется, Чжин Ци не стал шевелить руками проворнее, чем обычно, предпочитая в том, что касается дела, полагаться на своего господина. А на следующий день два чудака покинули Аделаиду, и поезд на всех парах помчал их в неведомые края, где Джос Меритт надеялся сыскать наконец шляпу, недостающую в его коллекции.
Глава IV АДЕЛАИДСКИЙ ПОЕЗД
Несколькими днями позже миссис Бреникен собиралась тоже покинуть столицу Южной Австралии. Том Марикс завершил формирование конвоя, состоящего из пятнадцати белых человек, служащих в местной милиции, и пятнадцати аборигенов, прежде уже зарекомендовавших себя на службе в полиции губернатора провинции. Конвой предназначался для охраны каравана ог кочевников, а вовсе не затем, чтобы сражаться с племенем инда. Не стоит забывать сказанного Гарри Фелтоном: речь скорее идет о выкупе капитана Джона, нежели о том, чтобы силой вырвать его из рук аборигенов.
Провиант, занимавший два багажных фургона поезда, уже был отправлен в Фарайнатаун. Ежедневно из писем Зака Френа, посланных с этой станции, Долли узнавала о состоянии дел. Для волов[227] и лошадей, приобретенных стараниями боцмана, уже наняли погонщиков. Стоящие на вокзале фургоны были готовы к тому, чтобы погрузить на них ящики с провизией, тюки с одеждой, утварь, ружья и патроны — словом, все, что составляло снаряжение экспедиции. Через два дня после прибытия поезда караван сможет двинуться в путь.
Отъезд из Аделаиды назначили на девятое сентября. В последней беседе, состоявшейся у Долли с губернатором провинции, тот не скрывал от нее опасностей, с которыми предстояло встретиться во время экспедиции.
— Опасности эти, миссис Бреникен, двоякого рода, — говорил он.— Те, что исходят от очень диких племен, хозяйничающих на территориях, которые нам не подконтрольны, и те, что таит в себе сама природа тамошних мест. Лишенные каких-либо ресурсов, в особенности воды, поскольку реки и колодцы уже пересохли, края эти готовят вам страшные испытания. А посему, возможно, было бы лучше отправиться в путь через полгода, в конце жаркого сезона...
— Я знаю об этом, господин губернатор, - отвечала миссис Бреникен,— и готова ко всему. Со времени отъезда из Сан-Диего я изучала Австралийский континент, читала и перечитывала записки побывавших здесь путешественников — Бёрка, Стюарта, Джайлса, Форреста, Стёрта, Грегори, Уорбертона. Мне также удалось раздобыть отчет отважного Дэвида Линдсея; с сентября 1887 года по апрель 1888-го он смог пройти Австралию от Порт-Дарвина на севере до Аделаиды на юге. Мне известно о трудностях и опасностях, с которыми связан подобный поход.
— Исследователь Дэвид Линдсей, -- отвечал губернатор, - ограничился тем, что прошел по уже изведанным районам, где проложена трансавстралийская телеграфная линия. С ним был один только абориген и четыре вьючные лошади. Вы же, миссис Бреникен, отправляясь на поиски кочевых племен, будете вынуждены направить ваш караван в сторону от этой линии, пойти на северо-запад вплоть до пустынь Земли Тасмана и Земли де Витта...
— То, что сделали Дэвид Линдсей и его предшественники, было в интересах культуры, науки и торговли,— отвечала Долли.— Я же все сделаю для того, чтобы спасти мужа, на сегодняшний день единственного уцелевшего моряка с «Франклина». За полгода, за год, если понадобится, я исхожу эти места вдоль и поперек, неся в душе уверенность, что найду его. Мне остается рассчитывать на преданность своих товарищей, господин губернатор, и нашим девизом будет: «Ни шагу назад!»
— Это девиз Дугласов, мадам. Не сомневаюсь, что он приведет вас к цели.
— Да... с Божьей помощью!
Миссис Бреникен, прощаясь с губернатором, поблагодарила его за оказанное содействие в подготовке экспедиции. В тот же вечер, девятого сентября, она покинула Аделаиду.
На австралийских железных дорогах для пассажиров созданы великолепные условия; комфортабельные вагоны избавлены от тряски, превосходное состояние железнодорожного полотна вызывает лишь едва ощутимое покачивание. Поезд состоял из шести вагонов, два из них были багажными.
Миссис Бреникен занимала отведенное ей купе совместно с женщиной по имени Гарриетта, полусаксонского-полутуземного происхождения, которую наняла в качестве прислуги. В других купе разместились Том Марикс и конвойные.
Поезд останавливался лишь для того, чтобы пополнить запас воды и машинного топлива, да еще делал очень краткие остановки на больших станциях. Таким образом, время в пути было сокращено почти на четверть.
Отправившись из Аделаиды, поезд пошел к станции Голер по территории округа, носящего то же название. Справа от железной дороги находилось несколько поросших лесом возвышенностей. Австралийские горы, высотою едва превышающие две тысячи метров, расположены главным образом на окраине материка; их относят к очень древним геологическим образованиям, состоящим в основном из гранита и силурийских отложений[228].
В этой части округа местность очень пересеченная, прорезанная ущельями, и железная дорога петляла, пролегая то вдоль узких лощин, то среди необычайно густых эвкалиптовых[229] лесов. В нескольких сотнях миль отсюда, когда дорога выйдет на центральные равнины, она вытянется в безупречно прямую линию, типичную для современных железнодорожных путей.
В районе станции Голер, откуда идет ответвление дороги на Грейт-Бенд, большая река Муррей, делая резкий поворот, устремляет свои воды на юг[230]. Покинув Голер и пройдя вдоль границы округа Лайт, поезд достиг округа Стэнли у тридцать четвертой параллели. Если бы был день, то пассажиры поезда смогли бы увидеть последнюю вершину горы Брайан — самую высокую в расположенном к востоку от железнодорожной линии орографическом узле точку[231]; далее пересеченность рельефа более ощущается на западе, и дорога идет вдоль подножия хребта, главные вершины которого — горы Блафф, Ремаркабл, Браун и Ардон. Их отроги исчезают у берегов озера Торренс, обширного водного бассейна, без сомнения сообщающегося с глубоко врезающимся в австралийский берег заливом Спенсер. На следующий день с восходом солнца поезд проследовал мимо хребта Флиндерс — самой большой его вершиной является гора Серл[232].
В окна вагона миссис Бреникен разглядывала совершенно непривычные для нее ландшафты[233]. Вот она, эта Австралия, справедливо названная «землей парадоксов»... Центральная часть Австралийского континента представляет собой не что иное, как обширную впадину, лежащую ниже уровня океана, где водотоки, по большей части текущие в песках, постепенно исчезают, не успевая влиться в море; где не хватает влаги ни воздуху, ни земле; где водятся невиданные в мире животные; где по центральным и западным районам кочуют дикие племена. Там, на севере и западе, простираются бесконечные пустыни Земли Александры и Западной Австралии, куда и устремится экспедиция в поисках следов капитана Джона. Как придется ориентироваться, когда поселки и деревушки останутся позади, когда в распоряжении путешественников будут лишь сведения, полученные от умирающего Гарри Фелтона?
В этой связи миссис Бреникен задавали вопрос: возможно ли, чтобы капитан Джон, девять лет находящийся в плену у австралийских кочевников, ни разу не нашел случая бежать? На что у нее был единственный ответ: судя по информации, полученной от Гарри Фелтона, ему и его товарищу за все это долгое время только раз представился такой случай, но Джон не смог им воспользоваться.
Аргумент же, основанный на том, что не в обычаях аборигенов оставлять в живых своих пленников, не имел силы, поскольку пример уцелевших с «Франклина» доказывал обратное, чему и был подтверждением Гарри Фелтон. Да и разве не существовало прецедента с исчезнувшим тридцать восемь лет тому назад исследователем Уильямом Классеном, который, как предполагалось до сих пор, находится в одном из племен Северной Австралии? Не постигла ли подобная участь и капитана Джона, ведь кроме просто предположения на сей счет имелся еще и твердый ответ Гарри Фелтона? Исчезали и другие путешественники, но где доказательства их гибели? Кто знает, может, и на эти тайны когда-нибудь прольется свет...
Поезд меж тем шел быстро, не останавливаясь на маленьких станциях. Если бы железная дорога была проложена чуть западнее, она обогнула бы берега длинного и узкого, изогнутого в форме дуги озера Торренс, возле которого начинаются первые складки горной гряды Флиндерс. Погода стояла теплая, такая же, какая бывает в северном полушарии в марте месяце, в странах, лежащих на тридцатой параллели — Алжире, Мексике или Кохинхине[234]. Можно было ожидать дождей или даже одной из тех бурь с ливнем, которую люди тщетно будут изо всех сил призывать, когда окажутся на глубинных равнинах материка. В три часа пополудни миссис Бреникен прибыла на станцию Фарайнатаун.
Здесь железная дорога кончалась, и австралийские инженеры работали над тем, чтобы проложить ее дальше на север, в направлении трансавстралийской телеграфной линии, протянувшейся до побережья Арафурского моря. Если железная дорога будет продолжена вдоль этой линии, то, отклонившись к западу, она пройдет между озерами Торренс и Эйр; если же она останется на том меридиане, вдоль которого идет от Аделаиды, то проляжет восточнее озера Эйр.
Зак Френ и его люди находились на вокзале, когда миссис Бреникен сошла с поезда. Они встретили ее приветливо, с почтительной сердечностью. Бравый моряк был взволнован до глубины души. Двенадцать дней, двенадцать долгих дней он не видел жены капитана Джона,— такого еще не случалось со времени последнего возвращения «Долли-Хоуп» в Сан-Диего. Долли тоже была счастлива увидеться со своим компаньоном и другом, которому безгранично доверяла. Когда она пожимала ему руку, на ее лице появилась улыбка,— а ведь она уже почти забыла, что такое улыбаться!
Станция Фарайнатаун была построена недавно. Есть даже современные карты, на которых она не обозначена. В ней угадывается зародыш одного из тех городов, которые английские и американские железные дороги «порождают» на своем протяжении, как деревья рождают плоды. Эти плоды, однако, быстро созревают благодаря импровизаторскому гению и практичности саксонской расы[235]; и станции, представляющие собой сегодня не более чем селения, уже демонстрируют общим своим расположением, а также будущей планировкой площадей, улиц и бульваров, что в скором времени они превратятся в города.
Миссис Бреникен незачем было задерживаться в Фарайнатауне, ибо Зак Френ оказался столь же сметливым человеком, сколь и энергичным. Снаряжение, собранное им, включало в себя две коляски и четыре фургона, в которые уже погрузили разное экспедиционное имущество, ранее отправленное из Аделаиды. Когда будут разгружены багажные вагоны поезда — а на это уйдет не более полутора суток,— караван сможет двинуться в путь.
В тот же день миссис Бреникен внимательно осмотрела снаряжение экспедиции. Том Марикс одобрил принятые За-ком Френом меры. Были созданы все условия для того, чтобы караван без особых трудностей прошел по той местности, где для скота имеется в достатке травы и особенно воды,— в противоположность пустынным районам Центра, где редко встретишь даже слабый источник.
— Миссис Бреникен,— сказал Том Марикс,— пока мы будем идти вдоль телеграфной линии, нашим животным не придется страдать, но потом, когда караван двинется на запад, нужно будет поменять лошадей и волов на вьючных и подседельных верблюдов, спокойно переносящих палящее солнце и довольствующихся водой из колодцев, между которыми подчас лежит путь в несколько дней.
— Я знаю об этом, Том Марикс,— отвечала Долли,— и полагаюсь на ваш опыт. Мы заново сформируем караван, когда, надеюсь, в кратчайший срок прибудем в Алис-Спрингс.
— Погонщики с караваном верблюдов уже отправились гуда четыре дня назад, они подождут нас там,- добавил Зак Френ.
— И помните, мадам, что настоящие трудности похода...
Но Долли не дала Тому Мариксу договорить.
— Мы сумеем с ними справиться! - сказала она.
Так, согласно тщательно продуманному плану, первый отрезок пути, равный тремстам пятидесяти милям, экспедиции предстояло преодолеть на лошадях, в колясках и запряженных волами фургонах. Из тридцати человек конвоя белые, в количестве пятнадцати человек, должны будут ехать верхом, а так как густые леса и причудливо пересеченная местность не позволят совершать длительных переходов, черные без труда смогут следовать пешком. Когда в Алис-Спрингс караван переформируют, верблюдов отдадут белым конвойным, поскольку на них возлагалась задача производить разведку с целью сбора сведений о местонахождении кочевников, а также с целью обнаружения в пустыне колодцев.
Здесь нелишним будет заметить, что с той поры, как в Австралию, к немалой ее пользе, были завезены верблюды, путешествовать по континенту стали не иначе, как на этих животных. Исследователи времен Бёрка, Стюарта, Джайлса не подверглись бы столь жестоким испытаниям, имей они в своем распоряжении этих незаменимых помощников. В 1866 году мистер Элдер привез из Индии довольно большое количество верблюдов с артелью погонщиков-афганцев, и с того времени эти животные стали процветать на Австралийском континенте.
Не вызывает сомнения, что именно благодаря верблюдам полковник Уорбертон смог удачно завершить дерзкий поход, начавшийся в Алис-Спрингс и закончившийся в Рокбонне, на побережье Земли де Витта, в Никол-Бей. Позже Дэвиду Линдсею удалось пересечь континент с севера на юг на вьючных лошадях только потому, что он ненамного удалился от районов, где проходит телеграфная линия и где он имел воду и корм, отсутствующие на пустынных австралийских пространствах. Когда речь зашла об отважных путешественниках, смело идущих навстречу тяготам и опасностям, Зак Френ не мог умолчать еще об одном факте.
— Известно ли вам, миссис Бреникен,— сказал он,— что на дороге, ведущей в Алис-Спрингс, нас уже опередили?
— Опередили, Зак?..
— Да, мадам. Помните англичанина и его слугу-китайца, плывших с нами на «Брисбене» до Аделаиды?
— Помню,— ответила Долли,— но разве они не остались в Аделаиде?
— Нет, мадам. Три дня назад Джос Меритт — так зовут англичанина — прибыл поездом в Фарайнатаун. Он даже подробно расспросил меня о нашей экспедиции, о том, по какому маршруту мы намереваемся следовать, и в ответ удовлетворенно восклицал: «Славно!.. Да!.. Очень славно!», а его китаец тем временем качал головой и вроде как приговаривал: «Скверно!.. Да!.. Очень скверно!» Потом, на следующий день, с рассвета, оба покинули Фарайнатаун и направились на север.
— А как они путешествуют? — поинтересовалась Долли.
— На лошадях, но как только доберутся до Алис-Спрингс, поменяют свои пароходы на парусники, как говорится,— что в итоге сделаем и мы.
— Этот англичанин — исследователь?...
— Да не похоже, он скорей смахивает на эдакого одержимого джентльмена, надоедливого, словно зюйд-вест[236].
— Он не сказал, по какой надобности отправляется в пустыню?
— Ни словом не обмолвился, мадам. Мне все же думается, что, один со своим китайцем, он меньше всего хочет нарваться на какую-нибудь неприятную встречу вдалеке от населенных мест. Я пожелал ему счастливого пути! Возможно, мы увидимся с ним в Алис-Спрингс.
На следующий день, одиннадцатого сентября, в пять часов пополудни все приготовления были закончены В фургоны была погружена провизия в достаточном для длительного путешествия количестве Это были мясные и овощные консервы лучших американских производителей, мука, чай, сахар, соль и, кроме того, медикаменты в походной аптечке Запас виски, джина и водки содержался в нескольких бочонках, которые позже предполагал\ось разместить на спинах верблюдов.
Среди продуктов питания находилось и значительное количество табаку — он был необходим не только членам экспедиции, но и являлся средством обмена с аборигенами, которые используют его и как ходячую монету (на табак и водку можно купить целые племена в Западной Австралии) Изрядное количество этого табаку, несколько рулонов набивной ткани, множество безделушек составляли выкуп за капитана Джона.
Что касается лагерного снаряжения, палаток, одеял, коробок с одеждой, бельем — словом, с личными вещами миссис Бреникен и ее служанки Гарриетты, вещами Зака Френа и начальника конвоя,— посуды для приготовления пищи, горючего, боеприпасов, состоящих из шрапнели[237] и дробовых патронов для охотничьих ружей, и оружия, имеющегося у людей Тома Марикса,— то и это все разместилось в фургонах, запряженных волами.
Итак, оставалось лишь дать сигнал к отправлению Миссис Бреникен, горя желанием поскорее тронуться в путь, назначила выход на следующий день, с рассветом караван покинет Фарайнатаун и двинется на север, вдоль трансавстралийской телеграфной линии.
Вечером, около девяти часов, Долли, ее служанка Гарриетта и Зак Френ возвратились в занимаемый ими дом подле вокзала Заперев дверь, они отправились каждый в свою комнату, как вдруг снаружи послышался легкий стук Боцман открыл дверь и не мог сдержать возгласа удивления перед ним, держа под мышкой узелок и в руке шляпу, стоял юный матрос с «Брисбена».
— Годфри! — воскликнула Долли, прежде чем разглядела вошедшего и успела что-либо подумать, словно догадалась, что это был он!
Годфри приехал полчаса назад поездом из Аделаиды.
За несколько дней до отплытия пакетбота, попросив у капитана «Брисбена» расчет, юный матрос сошел на берег. В городе он так и не решился пойти в отель на Кинг-Уильям-стрит, где жила миссис Бреникен. Но сколько же раз он шел за ней, оставаясь незамеченным и даже не пытаясь заговорить!.. Впрочем, будучи в курсе дел, Годфри знал, что Зак Френ отправился в Фарайнатаун организовывать караван. Поэтому, как только ему стало известно, что миссис Бреникен покинула Аделаиду, он сел в поезд с твердым намерением встретиться с ней.
Чего же хотел Годфри, для чего предпринял этот шаг? Именно это Долли и предстояло узнать.
— Это вы, дитя мое? — сказала она, взяв его за руку.
— Он-то он, но чего он хочет? — проворчал Зак Френ с явной досадой, поскольку присутствие юного матроса считал крайне нежелательным.
— Чего хочу?..— начал Годфри.— Хочу отправиться с вами, мадам, так далеко, куда пойдете вы. Я не хочу больше никогда с вами расставаться! Я хочу искать вместе с вами капитана Джона, хочу найти его, привезти в Сан-Диего, вернуть его друзьям... стране...
Долли была не в силах сдерживать себя. Этот мальчик — вылитый Джон... ее любимый Джон!
Годфри, стоя на коленях и протянув к ней руку, умоляющим голосом повторял:
— Возьмите меня, мадам... Возьмите!..
— Хорошо, дитя мое, хорошо! — воскликнула Долли, прижав его к груди.
Глава V ПО ПРОВИНЦИИ ЮЖНАЯ АВСТРАЛИЯ
Караван тронулся в путь ранним утром двенадцатого сентября.
Погода была хорошей, зной умеривал слабый ветерок. Легкие облачка чуть смягчали жар солнечных лучей. В это время года на тридцать первой параллели в зоне Австралийского материка вступало в свои права лето. Путешественники хорошо знают, как страшна эта пора, когда ни дождь, ни тень не могут избавить от невыносимой жары, царящей на центральных равнинах континента.
Вызывало сожаление то обстоятельство, что миссис Бреникен не привелось начать свой поход пятью-шестью месяцами раньше. Зимой тяготы такого путешествия легче переносимы. Холода, во время которых вода порой замерзает, не так страшны, как жара, когда ртутный столбик термометра в тени поднимается выше отметки сорока градусов.
До мая идущие с земли испарения превращаются в ливневые дожди, крики[238] оживают, колодцы наполняются водой. В эту пору не надо несколько дней брести под палящим солнцем в поисках солоноватой воды. Африканская Сахара, имеющая такое преимущество, как оазисы[239], более милосердна к путникам, нежели австралийская пустыня, справедливо называемая «страной жажды».
Долли не приходилось выбирать ни время, ни место для своего путешествия, потому что нужно было как можно скорее найти капитана Джона и вырвать его из рук аборигенов — эта задача не терпела отлагательств, и мужественная женщина выполнит ее, пусть даже ценой собственной жизни. Правда, лишения, выпавшие на долю Гарри Фелтона, экспедиции не грозила, ведь она была организована с тем расчетом, чтобы преодолевать тяготы пути, во всяком случае в той мере, насколько это будет материально и морально возможно.
Читателю уже известен состав экспедиции, насчитывающей после прибытия Годфри сорок один человек. А вот в каком порядке двигался караван на север от Фарайнатауна, среди лесов и вдоль криков, не встречая пока на своем пути каких-либо серьезных препятствий.
Впереди шли пятнадцать австралийцев, одетые в штаны и рубашки из полосатой хлопчатобумажной ткани, в соломенных шляпах и, по своей привычке, босиком. Вооруженные каждый ружьем и револьвером, имея на поясе патронташ, они представляли собой разведывательный авангард[240] под командованием белого человека.
За ними в коляске, запряженной двумя лошадьми, которыми правил кучер-абориген, ехали миссис Бреникен и ее служанка Гарриетта. Откидной верх коляски позволит женщинам укрыться во время дождя и бури.
В другой коляске находились Зак Френ и Годфри. Хоть боцман и испытал некоторое недовольство при появлении юного матроса, вскоре он крепко с ним подружился,— иначе относиться к пареньку, видя его горячую любовь к миссис Бреникен, было невозможно.
Далее ехали четыре запряженных волами фургона, и скорость продвижения каравана определялась скоростью, с которой шли эти животные; недавно завезенные в Австралию, они сделались незаменимыми помощниками человека в том, что касалось перевозок и возделывания земли.
По бокам и сзади следовали люди Тома Марикса, одетые в шерстяные рубашки с поясом, заправленные в сапоги штаны, шляпы-каски из белой материи, в легких каучуковых плащах через плечо и вооруженные так же, как их товарищи-аборигены. Будучи на лошадях, они должны были то разведывать дорогу, то, когда этап дневного пути близился к концу, выбирать место для полуденного привала или вечерней стоянки.
Составленный таким образом, караван мог покрывать в день двенадцать — тринадцать миль, идя порой по ухабистой земле, а порой и среди густого леса. С наступлением вечера хлопоты по организации ночлега ложились на Тома Марикса, к такому делу привычного. Всю ночь люди и животные отдыхали, а на рассвете вновь трогались в путь.
Между Фарайнатауном и Алис-Спрингс расстояние примерно в триста пятьдесят миль, и преодолеть его можно было дней за тридцать; ни серьезных опасностей, ни особых трудностей эта дорога не предвещала, а следовательно, до станции, где нужно будет переформировать караван перед походом в западные пустыни, путешественники доберутся не ранее первой трети октября.
Оставив Фарайнатаун, экспедиция на протяжении нескольких миль двигалась вдоль того места, где велись работы по продлению железной дороги. Караван направился на запад от хребта Уиллоуран, по пути, отмеченному телеграфными столбами. В дороге миссис Бреникен расспрашивала о трансавстралийском телеграфе Тома Марикса, ехавшего верхом рядом с ее коляской.
— В 1870 году, мадам,— отвечал Марикс,— через шестнадцать лет после объявления Южной Австралией независимости, колонисты решили протянуть эту линию с юга континента на север, между Порт-Аделаидой и Порт-Дарвином. Работы шли очень быстро и завершились в середине 1872 года.
— Но для этого, наверное, потребовалось обследовать земли, на которых должно было развернуться строительство,— заметила миссис Бреникен.
— А как же/мадам. За десять лет до того, в i860 и 1861 годах, Стюарт, один из самых неутомимых наших исследователей, пересек континент, посылая при этом многочисленные разведки и на восток и на запад.
— А кто построил линию? — спросила миссис Бреникен.
— Умный и смелый инженер, мистер Тодд, директор почты и телеграфа в Аделаиде. Он — один из тех, кем гордится Австралия.
— И мистер Тодд нашел здесь необходимые материалы для строительства железной дороги?
— Нет, мадам, ему пришлось ввозить из Европы изоляторы, провод и даже телеграфные столбы. Это сегодня колония в состоянии удовлетворить нужды любого промышленного строительства.
— А аборигены не мешали работам?
— Поначалу более, вернее, хуже чем мешали, миссис Бреникен. Они портили материалы, растаскивали провод, чтобы заполучить себе железо, столбы, чтобы делать из них топоры. На протяжении тысячи восьмисот пятидесяти миль происходили бесконечные стычки с австралийцами, впрочем заканчивавшиеся отнюдь не в их пользу. Но они не унимались, и, я думаю, действительно пришлось бы прекратить строительство, если бы у мистера Тодда не возникло поистине инженерной И, пожалуй, даже гениальной идеи. Захватив несколько вождей племен, он с помощью электрической батареи заставил их несколько раз испытать удары тока. Надо сказать, что дикари здорово испугались, и с тех пор никто из коренного населения уже не приближался к стройке. Линия была проложена и теперь функционирует без сбоев.
— А колониальная полиция ее охраняет? — спросила миссис Бреникен.
— Колониальная — нет,— ответил Том Марикс.— Дорога охраняется небольшими отрядами черной полиции, как ее у нас называют.
— Эта полиция когда-нибудь наведывается в центральные и западные районы?
— Никогда или, во всяком случае, крайне редко, мадам. В населенных-то местах столько злодеев, бушрейнджеров[241] разного другого сброда!
— Но отчего никому не пришла в голову мысль отправить эту черную полицию по следам инда, когда узнали, что капитан Бреникен у них в плену... вот уже девять лет?
— Вы забываете, мадам, что и мы и вы узнали об этом от Гарри Фелтона всего несколько недель назад!
— Несколько недель, это верно...
— Мне, кстати, известно,— продолжал Том Марикс,— что черная полиция получила приказ обследовать районы Земли Тасмана и что туда должен быть послан большой отряд. Правда, я опасаюсь...
Том Марикс запнулся, но миссис Бреникен не заметила этого.
Надо сказать, что как бы решительно ни был настроен Марикс до конца выполнить взятые на себя обязанности, ему с трудом верилось в успех экспедиции. Зная, как трудноуловимы австралийские кочевники, он не мог разделять ни пылкой уверенности миссис Бреникен, ни убежденности Зака Френа, ни инстинктивной веры Годфри. И все же долг свой Том Марикс выполнит.
Вечером пятнадцатого числа, обогнув холмы Дерой, караван остановился в поселке Бурлу. На севере виднелась вершина горы Attraction[242], за которой простиралась равнина Illusion[243]. Можно ли заключить, исходя из этих названий, что гора привлекательна, а равнина обманчива? Как бы то ни было, в австралийской картографии за некоторыми из таких названий кроется как физический, так и иной смысл.
В Бурлу телеграфная линия поворачивает почти под прямым углом и далее тянется на запад. Милях в двенадцати от поселка она пересекает Кабанна-Крик. Но то, что кажется таким простым, когда смотришь на висящие в воздухе между столбами провода, оказывается совсем не простым для группы пеших и всадников.
Нужно было отыскать брод. Юный матрос не стал ждать, пока это сделают другие. Решительно бросившись в бурную реку, он нашел брод, по которому фургоны и коляски переправились на левый берег, при этом вода доходила им всего лишь до осей.
Семнадцатого числа караван остановился в последних отрогах массива Норд-Вест, высящегося милях в десяти к югу. В этих краях активно развивается сельское хозяйство, и наши путешественники встретили самый радушный прием на одной из здешних огромных ферм, полезная площадь которых составляет несколько тысяч акров.
Бесчисленные отары овец, пшеница, растущая на широких равнинах, где нет ни одного дерева, ценные культуры сорго и ячменя, обширные поля под парами, ждущие засева в будущем сезоне, разумно устроенные лесные хозяйства, плантации оливковых деревьев и деревьев других пород, растущих в этих жарких широтах, многие согни голов рабочего скота, работники, обслуживающие такие хозяйства (они подчинены почти военной дисциплине и предписаниями закона низведены почти до положения рабов),— вот что являют собой эти владения, составляющие богатство австралийских провинций. Если бы экспедиция миссис Бреникен не была в достаточной мере обеспечена всем необходимым, богатые и щедрые фермеры, владельцы этих сельскохозяйственных станций, предоставили бы все, что потребовалось бы для каравана.
Число таких крупных сельскохозяйственных производств растет. Огромные земельные площади, бесплодные из-за отсутствия воды, в скором времени будут осваиваться. Недра тех мест, по которым шел теперь караван, в двенадцати милях на юго-запад от озера Эйр, изобиловали водоносными горизонтами, и здесь недавно были пробурены скважины, дающие ежедневно до трехсот тысяч галлонов[244] воды.
Восемнадцатого сентября Том Марикс разбил вечернюю стоянку у южной оконечности озера ,Саут-Эйр, находящегося от Норд-Эйр на значительном расстоянии. На его поросших лесом берегах можно увидеть стаю интересных птиц из отряда голенастых, наиболее ярким представителем которых является птица ябиру, а также стаи черных лебедей, бакланов, пеликанов, цапель с белым, серым и голубым оперением.
Примечательно географическое расположение здешних озер. Они вытянулись цепью с юга на север Австралии: озеро Торренс, вдоль берегов которого проходит железная дорога, малое озеро Эйр, большое озеро Эйр, озера Фром, Бланч, Амадиес. Это — древние естественные вместилища соленой воды, где сохранились остатки внутреннего моря.
Действительно, геологи склонны считать, что Австралийский континент некогда, в эпоху не самую древнюю, был разделен на два острова. Замечено уже, что окраины этого континента, сформировавшегося в определенных теллурических условиях[245], имеют тенденцию подниматься относительно уровня моря, и, с другой стороны, не вызывает сомнений, что постоянно поднимается и центральная часть материка. Предположительно древняя впадина со временем заполнится грунтовыми отложениями и озера, расположенные между сто тридцатым и сто сороковым градусами восточной долготы, исчезнут.
От оконечности Саут-Эйр до станции Эмералд-Спрингс, куда караван прибыл вечером двадцатого сентября, экспедиция прошла около семнадцати миль по местности, покрытой великолепными лесами, где деревья возносятся своими кронами на высоту в двести футов.
Как ни привычны были Доллиному главу чудесные леса Калифорнии, где среди прочих пород деревьев произрастают и гигантские секвойи[246], она могла бы любоваться видом диковинной австралийской растительности, если бы мысли не уносили ее непрестанно на север и запад континента, в безводные пустыни, где на песчаных дюнах[247] растут лишь редкие чахлые деревца. Долли не замечала ни гигантских папоротников[248] — в Австралии имеются наиболее интересные их породы,— ни обширных зарослей плакучих эвкалиптов, произрастающих на слабохолмистой местности.
Любопытно, что терновник и другой колючий кустарник отсутствуют в этих лесах, а нижние ветви деревьев растут лишь на высоте двенадцати — четырнадцати футов. Почва покрыта лишь золотисто-желтой никогда не сохнущей травой. Это скот уничтожил молодые побеги, а огонь, зажженный скваттерами[249], истребил кустарники и низкорослые деревья.
Том Марикс хорошо знал эти края, он не раз бывал здесь, когда руководил колониальной полицией Аделаиды. Вряд ли миссис Бреникен могла бы найти более надежного и преданного проводника. Ни в одном другом начальнике конвоя не было бы столько ума и рвения.
И потом, ему сыскался энергичный и решительный помощник в лице юного матроса, в высшей степени привязанного к Долли.
Том Марикс восхищался пылкостью натуры этого четырнадцатилетнего парнишки. В словах Годфри чувствовалась готовность, в случае надобности, в одиночку броситься в глубинные районы материка. Если бы хоть какие-нибудь следы капитана Джона обнаружились, было бы трудно, пожалуй, даже невозможно удержать его на месте. Все в нем: воодушевление, с каким он говорил о капитане, упорство, с каким изучал карты Центральной Австралии, делал записи, наводил справки во время привалов, вместо того чтобы отдыхать после долгого и трудного пути,— все выдавало в этом пареньке горение, которого ничто не могло умерить.
Очень крепкий для своих лет, уже закаленный в суровых морских испытаниях, Годфри чаще всего ехал впереди каравана, иной раз и вовсе скрываясь из виду. Если он и оставался на месте, то лишь по строгому приказанию Долли; ни Зак Френ, ни Том Марикс, хотя с ними его связывала большая дружба, не могли бы добиться от юного матроса того, чего Долли добивалась одним лишь взглядом.
Миссис Бреникен не противилась невольным материнским чувствам, всегда возникающим у нее в присутствии этого мальчика, и внешне и духовно так похожего на Джона. Пусть Годфри не ее родной сын, он станет ей сыном приемным, и они никогда больше не расстанутся... А Джон разделит с ней любовь, которую она чувствует к этому ребенку.
Однажды, после долгого отсутствия Годфри, отъехавшего от каравана на несколько миль, Долли сказала:
— Дитя мое, пообещай, что никогда не будешь больше уезжать далеко от нас без моего согласия; когда тебя нет и мы по нескольку часов ничего не знаем о тебе, я очень волнуюсь...
— Миссис Долли,— отвечал юный матрос,— мне очень нужно собирать сведения... Выяснилось, что на Уормер-Крик стоит племя аборигенов-кочевников, и я решил увидеться с вождем этого племени, расспросить его...
— И что же он сказал?
— Он слышал о белом человеке, который шел с запада по направлению к Квинсленду.
— Кто этот человек?
— В конце концов я понял, что речь идет о Гарри Фелтоне, а не о капитане Бреникене. И все же мы его найдем!.. Ах, миссис Долли, я люблю его так же сильно, как вас, а вас я считаю своей матерью!
— Матерью...— прошептала миссис Бреникен.
— Но вас-то я знаю, а его, капитана Джона, ни разу не видел!.. И если бы не та фотография, что вы мне подарили... Я всегда ношу ее с собой... разговариваю с портретом... и он мне словно отвечает...
— Однажды ты узнаешь капитана Джона, дитя мое, и он полюбит тебя так же, как люблю я! — ответила Долли.
Двадцать четвертого сентября, после привала в Странгуэй-Спрингс, что за Уормер-Крик, экспедиция остановилась в Уильям-Спринге, в сорока двух милях к северу от станции Эмералд.
Судя по тому, что в названиях многих станций есть слово «спрингс», означающее «источники», водная сеть достаточно развита в тех местах, где проходит телеграфная линия. Однако жаркий сезон уже наступил, источники были на грани высыхания, и отыскать брод для упряжек, когда нужно было перейти какой-нибудь крик, не составляло труда.
Впрочем, если деревни попадались все реже и реже, то сельскохозяйственные производства встречались постоянно. Колючая акация вперемежку с цветущим шиповником, запахом которого был напоен воздух, являли собой живые изгороди, плотной стеной опоясывающие фермы. Что до лесов, то они были менее густыми, и европейские породы деревьев — дуб, платан, ива, тополь, тамариндовое дерево — уступали место эвкалиптам, и в особенности камедному дереву, которое австралийцы называют «пятнистой смолой».
— Что это, черт возьми, за деревья такие? — воскликнул Зак Френ, когда впервые увидал рощицу из полусотни камедных деревьев.— Можно подумать, что стволы у них разрисованы красками всех цветов радуги.
— Это не краска, боцман Зак, а естественный цвет коры камедных деревьев, меняющей окраску в зависимости от того, ускоряется или замедляется рост растения,— отвечал Том Марикс.— Поэтому одни стволы белые, другие — розовые, третьи — красные. Да вот, смотрите, стволы деревьев с голубыми полосами, а вот и с желтыми пятнами...
— Еще одна забавная штука вдобавок ко всему, что отличает ваш континент от нашего.
— Забавная, если хотите, но, право, Зак, вы делаете комплимент моим соотечественникам, когда говорите, что их континент не похож ни на какой другой. И он будет прекрасным...
— Когда на нем не останется ни одного аборигена, ясное дело! — заключил боцман.
Надобно также отметить, что, несмотря на негустую листву, в этих деревьях обитало множество птиц. Среди них были сороки, попугаи, ослепительно белые какаду, зимородки-хохотуны, которым, по словам мистера Чарнея, больше подошло бы название «плачущие птицы»; кроме того, неумолчно щебечущие австралийские мухоловки с красной грудкой, летяги, которых охотники привлекают, имитируя крики ночных птиц, райские птицы, и особенно райские сороки с мягким оперением, являющиеся самыми красивыми представителями австралийских пернатых. А на поверхности лагун и в болотистых местах обитают журавлиные пары и птицы лотос (у последних лапки устроены так, что позволяют им бегать по листьям кувшинок).
Здесь также в изобилии водились и зайцы; путешественники не упускали случая подстрелить их, не говоря уже об утках и куропатках (охота давала возможность Тому Марик-су экономить продуктовые запасы экспедиции). Дичь попросту зажаривали на кострах. Иногда из земли извлекали яйца игуаны[250] отменные на вкус и даже более приятные, чем ее мясо, которым охотно лакомились черные конвойные.
В криках пока еще имелись окуни, длиннорылые щуки, большое количество проворных, перепрыгивающих через голову ловца лобанов, и в особенности несметное число угрей. Меж тем следовало остерегаться крокодилов, которые, хотя и находились в своей привычной водной среде, все же были очень опасны. Из всего этого напрашивался вывод, что путешествующие по Австралии, как настоятельно советовал полковник Уорбертон, должны иметь при себе удочки и сети.
Утром двадцать девятого числа караван покинул станцию Умбум и вступил в гористую местность, идти по которой было весьма затруднительно. Спустя сорок восемь часов он достиг станции Пик, расположенной к западу от хребта Денисон и устроенной недавно для нужд телеграфной службы.
Из подробных рассказов Тома Марикса о путешествиях Стюарта миссис Бреникен узнала, что именно отсюда исследователь двигался на север по землям, до него почти не изведанным. Начиная с этой станции и далее, на протяжении примерно шестидесяти миль, люди из экспедиции миссис Бреникен чувствовали, какие трудности готовила им австралийская пустыня; пришлось идти по бесплодной земле до берегов реки Макамбы, а затем пройти такое же примерно расстояние в не менее трудных условиях до станции Леди-Шарлотт.
На этих широких волнистых равнинах, на которых кое-где виднелись купы деревьев с пожухлой листвой, не было недостатка в дичи, если это слово в данном случае применимо; тут и там огромными прыжками удирали небольшие кенгуру — валлаби, пробегали опоссумы[251], которые большую часть времени проводят на верхушках пятнистых эвкалиптов. Еще можно было увидеть несколько пар казуаров[252]: взгляд у них вызывающий и гордый, как у орла, но перед царем птиц они имеют то преимущество, что мясо их — жирное и питательное, очень похожее на говядину.
Из деревьев тут росли бунга-бунга, вид араукарии, которая в южных районах Австралии достигает в высоту двухсот пятидесяти футов. Деревья эти, здесь меньших размеров, дают крупные и довольно питательные орехи, которые широко используются австралийцами.
Том Марикс предупредил своих спутников о возможной встрече с медведями[253], выбирающими себе в качестве жилища полые стволы пятнистых эвкалиптов. И такая встреча действительно произошла, но эти стопоходящие, именуемые «потору»[254], оказались едва ли страшнее, чем сумчатые с их длинными когтями.
Что касается аборигенов, то караван до сих пор с ними почти не встречался, хотя их племена кочуют от стойбища к стойбищу к северу, востоку и западу от телеграфной линии.
Идя по местности, становящейся все более и более засушливой, Том Марикс использовал совершенно особенное чутье волов, запряженных в фургоны. Чутье это, развившееся у них, похоже, с той поры, как они попали на Австралийский континент, заставляет животных идти прямиком к крикам, где они смогут утолить жажду. Волы редко когда ошибаются, и людям остается лишь следовать за ними.
Кроме того, в некоторых обстоятельствах волы могут определить не только воду. Так, утром седьмого октября животные, тянущие первые фургоны, внезапно остановились. Напрасно погонщики кололи их стрекалами — им не удалось заставить их сделать ни шагу. Том Марикс, тотчас же извещенный об этом, подъехал к коляске миссис Бреникен.
— Я знаю в чем дело, мадам,— сказал он.— Прежде мы не встречали на своем пути аборигенов, а теперь наш караван пересекает тропу, по которой они обычно ходят, волы учуяли их следы и отказываются двигаться дальше.
— Но отчего такой страх? — спросила Долли.
— Причина доподлинно неизвестна,— отвечал Том Марикс,— но это факт бесспорный. Я охотно верю тому, что аборигены дурно обращались с первыми привезенными в Австралию животными, те сохранили память о плохом обращении, и теперь она передается из поколения в поколение...
Была ли эта легенда действительной причиной или нет, но животных никак не могли заставить продолжать путь. Пришлось их выпрячь, повернуть в обратную сторону и с помощью хлыста и стрекала побудить немного пройти пятясь. Таким образом они перешли тропу, хранящую запах аборигенов, затем были снова запряжены в ярмо и продолжили путь на север.
Когда караван добрался до берегов реки Макамбы, все — люди и животные — вволю утолили жажду. Правда, из-за сильной жары вода в реке упала наполовину. Но там, где воды недостаточно, чтобы проплыть на скифе[255], ее вполне хватит, чтобы напоить сорок человек и двадцать животных.
Шестого числа экспедиция перешла Гамильтон-Крик по полузатопленным камням, устилавшим его русло; восьмого она оставила на востоке гору Хаммерсли; десятого утром караван был на привале на станции Леди-Шарлотт,— позади него осталось триста двадцать миль, пройденных от Фарайнатауна.
Миссис Бреникен теперь находилась на границе Южной Австралии с Землей Александры, названной еще Северной территорией. Эти края были обследованы Стюартом в 1860 году, когда он поднялся по сто тридцать первому меридиану до двадцать первого градуса широты.
Глава VI НЕЖДАННАЯ ВСТРЕЧА
Хотя на пути каравана до сих пор не встречалось серьезных препятствий, жара тем не менее утомила тягловых животных. До Алис-Спрингс было еще далеко, и для того, чтобы фургоны с экспедиционным имуществом благополучно прибыли на место, на станции Леди-Шарлотт Том Марикс попросил миссис Бреникен дать экспедиции суточный отдых. Долли не возражала.
Несколько хижин — вот что представляла собой станция, население которой с прибытием каравана утроилось. Понадобилось разбить лагерь. Однако местный скваттер, державший по соседству крупное хозяйство, предложил миссис Бреникен более благоустроенный приют, выказав при этом столь настойчивое гостеприимство, что ей ничего не оставалось, как принять приглашение и отправиться в Уолдек-Хилл, где ей было предоставлено уютное жилище.
Скваттер являлся всего лишь арендатором одного из крупных земельных владений, так называемых ранов. Некоторые раны в Австралии, в частности в провинции Виктория, насчитывают до шестисот тысяч гектаров. И хотя Уолдек-Хилл не достигал таких размеров, хозяйство все же считалось достаточно большим. Обнесенное изгородью, оно предназначалось исключительно для разведения овец, что требовало немалого числа работников, смотрящих за отарами пастухов и свирепых собак, лай которых напоминает волчий вой.
При выборе места для подобного хозяйства решающую роль играет качество земли. Предпочтение отдается равнинам, поросшим «соленым кустарником». Это сочное питательное растение, отчасти похожее на спаржу, отчасти на анис, с жадностью поедают овцы. Как только выясняется, что тот или иной участок земли пригоден для выпаса скота, его приспосабливают под пастбище. Пущенные туда вначале быки и коровы довольствуются и старой травой, тогда как более разборчивые в пище овцы едят лишь молодые побеги, которые пробиваются следом за ней.
Не надо забывать, что овечья шерсть составляет основное богатство австралийских провинций, и в настоящее время в Австралии насчитывается не менее ста миллионов голов.
В просторных водоемах Уолдек-Хилл, питающихся из полноводного крика и раскинувшихся вокруг хозяйского дома и дома, где жили работники, овец мыли перед стрижкой. Неподалеку стояли навесы — под ними складывались тюки шерсти до их отправки обозом в Порт-Аделаиду.
В то время, о котором идет речь, стрижка овец в Уолдек-Хилл была в самом разгаре. Несколько дней тому назад артель бродячих стригальщиков, как обычно, появилась на ферме, чтобы сделать свою прибыльную работу,— самые ловкие из них могут остричь сотню овец в день, и заработок таких мастеров доходит порой до фунта.
Когда миссис Бреникен в сопровождении Зака Френа очутилась на территории хозяйства, она была поражена царившим там необычайным оживлением. Лязганье больших ножниц, блеяние животных, которым стригальщики неловкими движениями причиняли боль, перекрикивание людей между собой, снующие взад и вперед работники, занятые сбором шерсти и переносом ее под навес,— весь этот шум перекрывали голоса мальчишек, кричавших: «Тар!.. Тар!..», неся миски с жидкой смолой, чтобы прижечь животным раны.
Но, чтобы работа успешно продвигалась, необходимы смотрители. И они имелись в Уолдек-Хилл, помимо служащих конторы,— дюжина мужчин и женщин, таким образом зарабатывающих себе на жизнь.
И каково же было удивление миссис Бреникен — более даже, чем удивление, она прямо-таки остолбенела,— когда услышала свое имя, произнесенное кем-то в нескольких шагах позади себя. Какая-то женщина устремилась к ней. Простерши руки и умоляюще глядя на нее, она бросилась к ее ногам...
Это была Джейн Баркер. Седоволосая, с обветренным лицом, более состарившаяся от пережитых страданий, чем от прожитых лет, она изменилась почти до неузнаваемости. Но Долли все же узнала ее.
— Джейн! — воскликнула Долли, и обе кузины сжали друг друга в объятиях.
Как жили супруги Баркер все эти двенадцать лет? Жизнь их была убогой и даже преступной — во всяком случае, так можно сказать о муже несчастной Джейн. Стремясь избежать грозивших ему преследований и покинув с этой целью Сан-Диего, Лен Баркер скрылся в Масатлане, одном из портов на западном побережье Мексики. Помнится, он оставил в Проспект-хаус мулатку Но, поручив ей ухаживать за Долли Бреникен, к которой в ту пору еще не вернулся разум. Правда, когда несчастная безумица стараниями мистера Уильяма Эндрю была помещена в лечебницу и мулатке незачем стало долее находиться в шале, она покинула Проспект-хаус, с тем чтобы присоединиться к своему хозяину, о местопребывании которого была осведомлена.
В Масатлане Лен Баркер нашел пристанище под чужим именем, и калифорнийская полиция была не в силах его обнаружить. Впрочем, в этом городе он прожил лишь месяц с небольшим. Три тысячи пиастров[256] — вот все, что осталось у него от стольких растраченных сумм, и в частности от личных средств миссис Бреникен. Вновь заняться делами в Соединенных Штатах было уже невозможно, и Лен Баркер решил покинуть Америку. Австралия показалась ему подходящим местом для того, чтобы, не особенно разбираясь в средствах, попытать счастья, прежде чем останешься с последним долларом в кармане.
Джейн, как и прежде, не имела сил противиться ему, а помочь несчастной было некому,— миссис Бреникен лишилась рассудка, что до капитана Джона, то относительно его судьбы сомнений уже не возникало: «Франклин» затонул и Джон никогда не вернется в Сан-Диего. Отныне ничто не могло избавить бедную женщину от уготованной ей Леном Баркером горькой участи. При таких обстоятельствах Джейн была увезена на Австралийский континент.
Баркеры сошли на берег в Сиднее. В этом городе Лен употребил последние средства на то, чтобы окунуться в деловой поток, и вновь принялся обманывать, даже с еще большей ловкостью, нежели в Сан-Диего. Очень скоро он пустился в рискованные махинации, единственным результатом которых явилась потеря того немногого, что ему удалось заработать вначале.
Через полтора года после приезда в Австралию Лен Баркер был вынужден оставить Сидней. Стесненность в средствах, граничащая с нищетой, заставила его искать удачи в других краях. Но фортуна не улыбнулась мошеннику и в Брисбене, откуда он тоже вскоре бежал, чтобы искать пристанища в отдаленных областях Квинсленда.
Джейн следовала за ним. Покорная жертва, она вынуждена была работать, чтобы как-то удовлетворять потребности семьи. Мулатка, злой гений Лена Баркера, помыкала ею, обращалась с ней грубо, и сколько уж раз у бедной женщины возникала мысль бежать, разорвать семейные узы, положить конец горестям и унижениям!.. Но характер ее был слишком слаб и нерешителен для такого шага. Она походила на забитую хозяином собаку, которая все же не смеет покинуть его дом!
Настало время, и Лен Баркер узнал из газет о предпринимаемых попытках найти уцелевших моряков с «Франклина». Известия о двух плаваниях «Долли-Хоуп», осуществленных стараниями миссис Бреникен, позволили ему сделать вывод, что ситуация в корне переменилась. Во-первых, к его свояченице после четырехлетнего пребывания в лечебнице доктора Брамли вернулся рассудок, а во-вторых, за это время ее дядя Эдвард Стартер скончался.
Отныне между богатством и Джейн, единственной наследницей своей кузины, стояла всего лишь потерявшая ребенка и супруга женщина — словом, несчастная родственница, здоровье которой пошатнулось вследствие пережитых ею несчастий. Так говорил себе Лен Баркер. Но что он мог предпринять? Возобновить лично отношения с миссис Бреникен было невозможно. Через Джейн обратиться к ней за помощью? Но Лен не хотел этого делать, опасаясь угрозы преследования и выдачи Соединенным Штатам. И все же каким образом, в случае Доллиной смерти, не дать богатству проскользнуть мимо рук Джейн, а значит, и мимо его рук?
Не следует забывать, что около семи лет прошло с того дня, как «Долли-Хоуп» вернулся из второго плавания, и до того момента, когда появление Гарри Фелтона вновь заставило всех говорить о гибели «Франклина».
В этот отрезок времени Лен Баркер вел жизнь еще более презренную, чем когда-либо прежде. Если раньше он без зазрения совести совершал бесчестные поступки, то теперь просто скатился на уголовный путь. У него даже не было постоянного жилища, и Джейн была вынуждена приспосабливаться к условиям кочевой жизни.
Мулатка Но умерла, однако смерть этой женщины, оказавшей столь пагубное влияние на Лена Баркера, не принесла миссис Баркер облегчения: она ведь была женой преступника, вынуждавшего ее странствовать вместе с ним по обширным областям, где многие преступления остаются безнаказанными.
После закрытия золотоносных приисков в провинции Виктория тысячи золотодобытчиков остались без работы; край оказался наводнен людьми, которые, живя среди золотых россыпей в кругу подобных себе темных личностей, не привыкли уважать законы. Очень скоро они превратились в деклассированные элементы, в людей подозрительных и опасных, именуемых в Южной Австралии «лэррикинс»[257]. Когда городские власти устраивали на них облавы, они устремлялись в сельскую местность, становившуюся ареной их уголовных деяний.
С такими-то компаньонами и имел дело Лен Баркер, когда дурная слава лишила его возможности жить в городах. Постепенно он уходил во все более удаленные и менее контролируемые полицией районы, где связывался с кочующими бандами преступников; среди их были и свирепые бушрейнджеры, появившиеся в Австралии в первые годы колонизации и существующие по сей день.
Вот на какой ступени социальной лестницы оказался Лен Баркер! В каких только вылазках он не участвовал за последние годы: грабил фермы, разбойничал на больших дорогах - - словом, был соучастником преступлений, с которыми власти не в силах были совладать и о которых поведать мог только он сам.
Джейн почти всегда оставалась в каком-нибудь поселке и ничего не знала о гнусных проделках своего мужа, думается не только грабившего, но и убивавшего... Она не испытывала ни малейшего уважения к этому человеку и все же никогда не смогла бы предать его!
Прошло двенадцать лет, когда нежданное появление Гарри Фелтона вновь взбудоражило общество. Крупные австралийские газеты и многочисленные мелкие газетенки распространили новость. Лен Баркер узнал о ней из номера «Сидней морнинг геральд», находясь в небольшом поселке в Квинсленде, где он укрылся после дела с ограблением и поджогом, обернувшегося благодаря вмешательству полиции явно не в пользу бушрейнджеров.
Одновременно с фактами, касающимися Гарри Фелтона, Лен Баркер узнал и о том, что миссис Бреникен, покинув Сан-Диего, направилась в Сидней, чтобы встретиться с помощником капитана «Франклина». Вскоре прошел слух, что Гарри Фелтон, после того как смог дать некоторые сведения о капитане Джоне, скончался. Недели через две Лену Баркеру сообщили, что миссис Бреникен прибыла в Аделаиду с целью организовать и самой принять участие в экспедиции, маршрут которой проляжет через центральные и северо-западные пустыни Австралии.
Первым желанием Джейн, когда она узнала о приезде кузины на континент, было желание спастись, найти убежище подле нее. Но, запуганная угрозами мужа, догадавшегося о ее чувствах, она не смогла осуществить свое намерение.
И тут-то презренный человек решил без промедления воспользоваться ситуацией. Час пробил. Встретить миссис Бреникен в пути и, пустив в ход изощренное лицемерие, добиться согласия на то, чтобы сопровождать ее в пустынные районы Австралии,— в сущности, не было ничего проще и ничего, более отвечающего его цели. В действительности маловероятно, что капитана Джона, даже если он еще жив, можно будет отыскать у аборигенов-кочевников, зато Долли может погибнуть во время этого опасного путешествия. И тогда все ее состояние перейдет к Джейн... Кто знает?.. Выгодные случаи подворачиваются тому, у кого хватает ума подготовить для них почву...
Разумеется, Лен Баркер не стал посвящать Джейн в свои планы относительно того, чтобы возобновить отношения с миссис Бреникен. Он расстался с бушрейнджерами, предупредив, что, если в будущем ему понадобится их помощь, он прибегнет к их услугам. Покинув Квинсленд вместе с Джейн, он направился к расположенной всего лишь в сотне миль станции Леди-Шарлотт, которую караван, следуя в Алис-Спрингс, никак не мог миновать. Вот почему Лен Баркер уже три недели находился в Уолдек-Хилл, где выполнял обязанности смотрителя работ: он поджидал Долли, твердо решив не останавливаться ни перед чем, чтобы завладеть ее богатством.
Джейн, прибыв на станцию Леди-Шарлотт, как всегда, ничего не подозревала. Когда она внезапно увидела миссис Бреникен, на нее нахлынуло сильное волнение и, устремившись к ней, она поддалась непреодолимому безотчетному порыву. Такая встреча, кстати, в полной мере соответствовала замыслам Лена Баркера, и он не думал чинить этому препятствия.
В ту пору Баркеру исполнилось сорок пять лет. Немного постаревший, но оставшийся стройным и крепким, он по-прежнему был холоден и сух, а во взгляде его сквозила все та же отталкивающая неискренность. Что до Джейн, то она, сильно исхудавшая, с сединою на висках, выглядела лет на десять старше, чем на самом Деле. Но когда бедная женщина увидела Долли, ее потухший взгляд вновь воспламенился.
Обнявшись с кузиной, миссис Бреникен повела ее в одну из комнат, предоставленных ей скваттером. Там обе женщины могли отпустить на волю свои чувства. Долли, помня о том, какую заботу проявляла о ней Джейн в шале Проспект-хаус, была готова простить ее мужа, если тот пообещает никогда больше их не разлучать.
Беседовали они долго. О своем прошлом Джейн сообщила лишь то, о чем можно было сказать, не компрометируя Лена Баркера, и миссис Бреникен, расспрашивая ее о прожитых годах, тоже проявляла немалую сдержанность; она чувствовала, сколько выстрадало это несчастное создание и сколько ему предстоит еще выстрадать.
Нынешнее положение капитана Джона, непоколебимая уверенность в скорой встрече с ним, усилия, которые она для этого приложит,— вот о чем главным образом говорила Долли, и еще о своем дорогом Уоте... Стоило ей растревожить вечно живущее в ней воспоминание, как Джейн страшно побледнела, лицо ее сильно исказилось, и Долли в испуге подумала, что бедная женщина вот-вот упадет в обморок.
Но Джейн удалось справиться с собой, и тогда Долли попросила кузину рассказать о своей жизни с того рокового дня, когда она, Долли, потеряла рассудок, и до той поры, когда Лен Баркер вынудил Джейн покинуть Сан-Диего.
— Неужели, бедная моя Джейн, неужели, пока ты ухаживала за мной, у меня ни разу не было просветления?..— с горечью спросила Долли.— Неужели я ни разу не вспомнила о моем бедном Джоне? Неужели ни разу не произнесла его имени... и имени нашего малютки?..
— Ни разу, Долли, ни разу! — прошептала Джейн, не в силах сдерживать слезы.
— А ты, Джейн, мой друг, одной со мной крови, ты не прочла в моей душе? Ты не заметила по моим словам или по взглядам, осознавала ли я прошлое?..
— Нет, Долли!
— Так вот, Джейн, я скажу себе то, чего не говорила никому. Да... Когда ко мне вернулся рассудок... у меня появилось предчувствие, что Джон жив, что я вовсе не вдова... И еще мне показалось...
— Что?..— с растерянно глядящими глазами, полными неизъяснимого страха, спросила Джейн.
— У меня было чувство, что я по-прежнему мать!
Джейн, встав, замахала руками, точно хотела рассеять какое-то страшное видение; губы ее шевелились, но она не могла произнести ни слова. Захваченная своими мыслями, Долли не заметила возбужденного состояния кузины, и той удалось немного успокоиться, по крайней мере внешне, когда в дверях комнаты показался ее супруг; стоя на пороге, он глядел на жену и словно спрашивал: «Что ты сказала?»
Джейн, подавленная, села на место. Поистине неодолима власть сильного духа над духом слабым: миссис Баркер была сломлена одним взглядом своего мужа.
Миссис Бреникен поняла это. Появление Лена напомнило ей о его прошлом и о том, сколько всего пришлось вытерпеть Джейн рядом с этим человеком. Но сердце ее бунтовало не дольше минуты. Долли твердо решила отставить в сторону упреки, подавить в себе неприязнь к мистеру Баркеру ради того, чтобы не разлучаться больше с несчастной Джейн.
— Лен Баркер,— заговорила она,— вам известно, с какой целью я нахожусь в Австралии. Я буду верна своему долгу до конца. Раз уж случай свел наши пути, раз я встретила Джейн, единственную мою родственницу, позвольте, чтобы она ехала со мной...
Лен Баркер, чувствуя отношение к себе, хотел, чтобы миссис Бреникен и его попросила присоединиться к каравану. Но Долли молчала, и он счел нужным предложить себя сам.
— Долли,— начал Баркер,— отвечу вам без обиняков, скажу даже, что я ожидал от вас этой просьбы и не стану противиться тому, чтобы моя жена находилась подле вас. О, жизнь была тяжела для нас обоих с той поры, как неудача вынудила меня покинуть Сан-Диего! Мы много выстрадали за эти четырнадцать лет. Как видите, успех не сопутствует мне и на австралийской земле — приходится зарабатывать на жизнь поденным трудом. Когда стрижка овец в Уолдек-Хилл закончится, я вновь останусь без работы... Мне было бы мучительно расставаться с Джейн, а посему в свою очередь прошу позволения принять деятельное участие в вашей экспедиции. Я знаю аборигенов из глубинных областей отнюдь не понаслышке и смогу быть вам полезным. Разрешите присоединить свои усилия к тем, которые приложите вы и ваши товарищи, чтобы освободить Джона Бреникена.
Долли прекрасно поняла, что речь Лена Баркера означает не что иное, как категорическое условие, при котором он согласится оставить с ней Джейн. Что ж, с таким человеком не поспоришь. Впрочем, если он говорил искренне, его присутствие и впрямь может оказаться небесполезным, поскольку за многие годы скитаний судьба не раз забрасывала Лена в центральные районы континента.
— Решено, мистер Баркер, вы войдете в состав экспедиции,— довольно холодно проговорила Долли.— Завтра рано утром мы покидаем станцию...
— Я буду готов,— ответил Лен и, не дерзнув протянуть руку миссис Бреникен, удалился.
Зак Френ без радости воспринял известие о том, что Баркер примет участие в экспедиции. От мистера Уильяма Эндрю он знал, что сей жалкий субъект и вероломный опекун, злоупотребив своими обязанностями, пустил по ветру наследное имущество Долли. Он знал также, при каких обстоятельствах этот бесчестный маклер был вынужден улепетывать из Сан-Диего, и очень сомневался, что за четырнадцать лет жизни в Австралии Лен Баркер ничем себя не запятнал. И все же боцман ни единым словом не обмолвился о своих опасениях, считая за благо то обстоятельство, что Джейн будет вместе с Долли. Однако в глубине души он дал себе обещание не упускать нового члена экспедиции из виду.
Больше в тот день не произошло никаких событий. Лен быстро уладил свои отношения со скваттером, который ни в коей мере не возражал против отъезда своего давнего работника и даже раздобыл для него лошадь, чтобы тот мог добраться с караваном до Алис-Спрингс.
Долли и Джейн вторую половину дня и вечер провели вместе в доме Уолдек-Хилл. Долли избегала говорить о Лене, она не пыталась выяснить, чем он занимался после отъезда из Сан-Диего, прекрасно понимая, что есть вещи, о которых ее кузина не могла говорить.
В тот вечер ни Том Марикс, ни Годфри, занятые сбором сведений в расположенных по соседству со станцией Леди-Шарлотт поселках аборигенов, в Уолдек-Хилл не появились. Только на следующий день миссис Бреникен представился случай познакомить с Годфри, как со своим приемным сыном, Джейн, которая тоже крайне изумилась сходству между капитаном Джоном и юным матросом.
Произведенное на миссис Баркер впечатление было столь глубоко, что она едва осмеливалась глядеть на Годфри. И как объяснить волнение, испытываемое ею во время Долли-ного рассказа о парнишке, о встрече с ним на борту «Брисбена»?.. Этот ребенок был беспризорным в Сан-Диего... Потом воспитывался в Уот-хаус... Ему ле! четырнадцать... Джейн, мертвенно бледная и молчаливая, с замиранием сердца слушала этот рассказ.
Когда Долли ушла, она, молитвенно сложив руки, пала на колени. Потом черты ее лица оживились, и вся она словно преобразилась: «Он!.. Он!..— воскликнула Джейн.— Он... рядом с ней! Так было угодно Господу!»
В следующую минуту Джейн покинула особняк Уолдек-Хилл и, пройдя через внутренний двор, поспешила в хижину, где они жили с мужем, чтобы все ему рассказать. Лен Баркер был дома, он укладывал в чемодан одежду и вещи, которые собирался взять в путешествие. Появление необычайно взволнованной Джейн заставило его вздрогнуть.
— Что случилось? — резко спросил Лен.— Ну, говори же!.. Скажешь ты, наконец, что произошло?
— Он жив! — вскричала Джейн.— Он здесь, подле своей матери! А мы считали его...
— Жив... подле матери...— проговорил пораженный этим открытием Лен Баркер, который прекрасно понимал, к кому относилось это «он».
— Жив...— повторила Джейн.— Второй ребенок Джона и Долли Бреникен жив!
Вкратце расскажем о том, что произошло в Проспект-хаус четырнадцать лет тому назад.
Спустя месяц после того, как мистер и миссис Баркер поселились в шале, они заметили, что утратившая рассудок Долли пребывала в том положении, о котором и сама не подозревала, даже когда была здорова. Находясь под неусыпным присмотром мулатки, Долли, несмотря на мольбы Джейн, была, что называется, заточена в Проспект-хаус, укрыта якобы из-за болезни от глаз друзей и соседей. Семью месяцами позже она родила второго ребенка, о чем в памяти ее не осталось никаких следов.
В то время гибель капитана Джона уже считалась общепризнанным фактом, и появление на свет этого ребенка грозило расстроить планы Лена Баркера относительно будущего Доллиного богатства, и он решил держать рождение ребенка в секрете. Вот почему мулатка в течение нескольких месяцев выпроваживала из шале непрошеных гостей, и Джейн, вынужденная повиноваться преступным требованиям мужа, была не в силах воспрепятствовать этому.
После благополучных родов мулатка оставила ребенка, которому от роду было несколько часов, на улице, но, к счастью, его подобрал какой-то прохожий и отнес в приют. Позже он попал в Уот-хаус, а уже оттуда был выпущен юнгой в возрасте восьми лет. Теперь читателю понятно, что сходство Годфри с капитаном Джоном не случайно: Долли была матерью, сама не зная этого!
— Да, Лен! — снова воскликнула Джейн.— Годфри — ее сын!.. Нужно во всем признаться...
Прекрасно понимая, что признание разобьет планы, на которых строилось его будущее, Лен Баркер, схватив несчастную Джейн за руку и глядя ей прямо в глаза, глухо проговорил:
— В интересах Долли... в интересах Годфри советую тебе молчать!
Глава VII ПУТЬ НА СЕВЕР
Ошибки быть не могло, Годфри действительно был вторым ребенком супругов Бреникен. Любовь к мальчику внушал Долли материнский инстинкт. Но она не знала, что юный матрос — ее сын, да и откуда ей знать, если Джейн, запуганная угрозами мужа, вынуждена была хранить молчание, дабы не подвергать Годфри смертельной опасности. Раскрыть правду значило отдать ребенка на милость Лена Баркера, а уж этот негодяй найдет способ, как отделаться от него во время опасной экспедиции...
Глядя на Годфри и сопоставляя факты, Лен Баркер не сомневался в правильности предположений своей супруги. Итак, когда он считал гибель Джона свершившимся фактом, объявился его второй сын! Ну да ладно! Горе этому мальцу, если Джейн вздумает открыть правду! Но тут можно было не волноваться — она никогда не посмеет...
Одиннадцатого октября после суточного отдыха караван тронулся в путь. Джейн устроилась в коляске миссис Бреникен. Лен Баркер верхом на хорошей лошади сновал взад и вперед, охотно беседовал с Томом Мариксом о местности, лежащей вдоль телеграфной линии, где ему уже доводилось бывать. Лен не искал компании Зака Френа, выказывавшего по отношению к нему явную антипатию. Избегал он и встреч с Годфри: его смущал взгляд юного матроса. Когда тот вступал в разговор с Долли и Джейн, Лен Баркер удалялся.
По мере того как экспедиция продвигалась в глубь материка, местность менялась. Фермы если и попадались, то исключительно овцеводческие, необозримо простирались луга, камедные и эвкалиптовые деревья теперь росли отдельными группами, ничем не напоминающими южно-австралийские леса.
Двенадцатого октября в шесть часов вечера, после длительного и весьма нелегкого, из-за жары, перехода, Том Марикс разбил лагерь на берегу реки Финк, неподалеку от горы Даниел, вершина которой вырисовывалась на западе.
Нынешние географы сходятся во мнении относительно того, что река Финк, которую аборигены называют Ларра-Ларра, является главной водной артерией Центральной Австралии. Как раз на эту тему и завел разговор Том Марикс, когда караван остановился на ночлег.
— Нужно было выяснить, стекают ли воды Финка в обширное озеро Эйр, которое мы обогнули вскоре после того, как вышли из Фарайнатауна. Именно поиском ответа на этот вопрос занимался исследователь Дэвид Линдсей в конце 1885 года. Добравшись до станции Пик, он двинулся вдоль реки и дошел до места, к северо-востоку от Далхузи, где она теряется в песках. И все же Линдсей склонялся к мысли, что в сезон дождей река впадает в озеро Эйр.
— А какова протяженность реки? — поинтересовалась миссис Бреникен.
— Думаю, не менее девятисот миль,— ответил Том Марикс.
— И как долго мы будем идти вдоль нее? — спросила Джейн.
— Всего лишь несколько дней, река-то ведь здорово петляет и в конце концов течет на запад через горную гряду Джемс.
— Я знаком с этим Дэвидом Линдсеем, о котором вы говорите,— вступил в разговор Лен Баркер.
— Вы с ним знакомы?..— переспросил Зак Френ с некоторым недоверием.
— А что гут удивительного? Мы познакомились на станции Далхузи. Он держал путь к западной границе Квинсленда, а я был в этой провинции по делам одной брисбенской фирмы.
— Действительно, его маршрут пролегал через эти места,— снова заговорил Том Марикс.— Далее, достигнув Алис-Спрингс и обогнув хребет Макдоннелл, он довольно подробно обследовал реку Херберт и затем поднялся к заливу Карпентария, где и закончил свое второе путешествие с юга на север Австралийского материка.
— Добавлю, что Дэвида Линдсея сопровождал немецкий ботаник Дитрих,— сказал Лен Баркер.— В качестве транспорта они использовали исключительно верблюдов. Кажется, вы, Долли, в Алис-Спрингс тоже намерены взять этих животных? Я уверен, экспедиция добьется успеха, как добился его Дэвид Линдсей...
— Да, Лен, мы добьемся успеха! — сказала миссис Бреникен.
— Никто в этом и не сомневается! — добавил Зак Френ.
Так выяснилось, что Лен Баркер встретился с Дэвидом
Линдсеем при известных уже обстоятельствах,— это, кстати, подтвердила и Джейн. Но вот если бы Долли спросила, по делам какой фирмы он ездил, ему, возможно, было бы трудно ей ответить.
В те несколько часов, которые наши путешественники провели на берегу реки Финк, до них окольными путями дошли сведения об англичанине Джосе Меритте и его слуге китайце Чжин Ци. Оба путешественника все еще опережали экспедицию этапов на двенадцать, но, двигаясь по тому же маршруту, караван с каждым днем все больше и больше догонял знаменитого коллекционера шляп. Как стало известно от аборигенов, пятью днями ранее Джос Меритт со своим слугой остановился в расположенном в миле от станции селении Килна, насчитывающем несколько сот черных жителей — мужчин, женщин и детей,— обитающих в бесформенных шалашах из древесной коры. Такой шалаш австралийцы называют «виллум», и стоит обратить внимание на удивительное сходство этого слова из языка коренного населения Австралии со словами «виль», «виллаж»[258] и тому подобными, из языков, происшедших от латыни.
Среди аборигенов попадались весьма примечательные типы. Высокие, атлетически сложенные, крепкие, ловкие и выносливые, они заслуживают более подробного описания. У большинства из них — характерный для диких народов прогнатизм, выступающее надбровье, волнистые, если даже не курчавые, волосы, узкий, скрытый завитками лоб, приплюснутый нос с широкими ноздрями, огромный рот с крепкими, точно у хищных зверей, зубами. Таких уродств, как большие животы и тонкие конечности, у тех представителей местного населения, о которых идет речь, замечено не было, что является довольно редким исключением для австралийских негров.
Откуда были выходцами коренные австралийцы? Существовал ли некогда, как утверждают многие ученые мужи, материк в Тихом океане, от которого остались лишь вершины, рассеянные в виде островов на поверхности этого обширного водного бассейна? Не являются ли аборигены потомками людей тех многочисленных рас, что населяли предполагаемый материк в отдаленную эпоху?
Подобные теории, вероятно, останутся существовать в виде гипотез. Однако если принять такое объяснение, придется признать, что местное население странным образом выродилось как в духовном, так и в физическом отношениях. У австралийца дикие нравы и вкусы, своим неискоренимым пристрастием к каннибализму (явление, кстати, достаточно распространенное в этих местах) он стоит на низшей, весьма близкой к хищным животным, ступени человеческого развития. Создается впечатление, что в стране, где нет ни львов, ни тигров, ни пантер, каннибалы заменяют их по части людоедства.
Не возделывающий земли, едва прикрывающий наготу какой-нибудь тряпкой, не знающий самых простых предметов домашней утвари, имеющий лишь примитивные орудий — копье с твердым наконечником, каменный топор, «нолла-нолла» (нечто вроде дубинки из очень твердого дерева) и знаменитый бумеранг[259],— австралийский черный, повторяю, есть дикарь в полном смысле этого слова.
Такому существу природа даровала подходящую женщину («лубра»), достаточно сильную, чтобы справляться с тяготами кочевой жизни, выполнять самую тяжелую работу, таскать на себе малолетних детей и лагерное имущество. Эти несчастные существа к двадцати пяти годам делаются старухами, притом старухами безобразными, жующими листья пит-чери, что придает им сил во время бесконечных переходов, а порой помогает переносить голод.
Так вот — поверите ли? — те австралийки, которые общаются с европейскими колонистами и бывают у них в поселках, начинают следовать европейской моде! Да, именно так! Им становятся нужны платья, притом со шлейфом! У них появляется нужда в шляпах, да еще с перьями! Даже мужчины небезразличны к выбору головных уборов для себя и ради удовлетворения своих вкусов истощают запасы перекупщиков.
Вне всякого сомнения, Джосу Меритту было известно об удивительном путешествии, предпринятом в Австралию Карлом Лумхольцем. И мог ли он не запомнить нижеследующий фрагмент из записок отважного норвежского исследователя, более года прожившего среди диких каннибалов на северо-востоке материка?
«На полдороге я повстречал двух моих аборигенов... Выглядели они превосходно: один красовался в рубашке, другой надел на себя женскую шляпу. Эта одежда, очень ценимая австралийскими неграми, переходит от одного племени к другому, от более цивилизованных аборигенов, живущих по соседству с поселенцами, к тем, кто никогда не общался с белыми людьми. Многие из моих мужчин (аборигенов) брали друг у друга шляпу на время; они словно гордились тем, что поочередно носили этот головной убор. Однажды шедший впереди меня абориген, in puris naturalibus[260] вспотевший под тяжестью моего ружья, выглядел поистине забавно в женской шляпе, надетой набекрень. В скольких, должно быть, перипетиях побывала эта шляпа за время своего долгого путешествия из стран белых людей в дикие земли Австралии!»
Вот что знал Джос Меритт, и, может быть, оказавшись в каком-нибудь племени на севере или северо-западе континента, он увидит на голове вождя эту редкостную шляпу, ради которой ему однажды уже пришлось рисковать жизнью у австралийских антропофагов? Следует, впрочем, отметить, что как удача не улыбнулась нашему коллекционеру у аборигенов Квинсленда, так, похоже, она не ждала его и в Килне; если бы было иначе, отважное путешествие Меритта в центральноавстралийские пустыни потеряло бы всякий смысл.
Тринадцатого октября на восходе солнца Том Марикс дал сигнал отправляться в путь. Караван начал движение в своем обычном походном порядке. Долли искренне радовалась тому, что рядом с ней находилась Джейн; для обеих эта встреча стала большим утешением. Коляска, в которой ехали кузины и в которой они могли уединиться, позволяла им свободно разговаривать друг с другом.
Но почему Джейн не смела быть откровенной до конца, почему ей приходилось о чем-то умалчивать? Порой, когда она наблюдала взаимную, материнскую и сыновнюю, любовь между Долли и Годфри, которая каждую минуту проявлялась во взгляде, жесте, сказанном слове, ей казалось, что тайна вот-вот сорвется у нее с языка... Но тотчас она вспоминала угрозы Лена Баркера и, страшась погубить юного матроса, делала вид, будто почти безразлична к нему, и миссис Бреникен с горечью замечала это.
Легко представить, что почувствовала Джейн, когда Долли однажды ей сказала:
— Ты должна меня понять, дорогая: столь поразительное сходство и чувства, испытываемые мной, наводят на мысль, что малышке Уоту удалось избежать смерти, но ни мистер Уильям Эндрю, ни мои друзья так и не узнали об этом... Вдруг Годфри и впрямь наш сын, мой и Джона? Но нет! Бедный ребенок лежит теперь на кладбище в Сан-Диего!
— Да! Именно туда мы отнесли его, дорогая Долли,— ответила Джейн.— Там его могилка... вся в цветах!
— Раз Господь забрал мое дитя,— воскликнула миссис Бреникен,— пусть он отдаст мне его отца, пусть он вернет мне Джона!
Пятнадцатого октября, в шесть часов вечера, оставив позади гору Хамфрис, караван остановился на берегу Палмер-Крик, одном из истоков реки Финк. Питающийся, как и большинство рек в этих районах, исключительно дождевой водой, крик уже почти пересох, и перейти его не составило никакого труда, так же как тремя днями позже Хью-Крик, расположенный в тридцати милях севернее.
В этом же направлении по-прежнему, словно нити Ариадны, тянулись в воздухе провода трансавстралийской телеграфной линии, ведущие от станции к станции. То тут, то там попадались небольшие поселения, реже фермы, на которых Том Марикс за хорошую плату покупал свежее мясо. Годфри и Зак Френ занимались сбором сведений. Не доводилось ли местным жителям слышать о белом человеке, находящемся в плену у инда, на севере или западе? Не проходили ли в недавнее время по этим отдаленным областям путешественники? Повсюду отрицательные ответы. Ничто не наводило на след капитана Джона. Значит, нужно поскорее добраться до Алис-Спрингс, а до него оставалось по меньшей мере двадцать четыре мили.
После Хью-Крик продвигаться стало труднее, средняя скорость, с которой караван шел до того Дня, заметно снизилась, поскольку местность сделалась очень гористой; узкие ущелья, прорезывающие отроги хребта Уотерхаус, сменялись труднодоступными оврагами. Впереди каравана ехали Том Марикс и Годфри, они искали наиболее удобные проходы. Пешие, всадники и даже запряженные лошадьми коляски двигались без особого труда — тут не было поводов для тревог, а вот тяжело груженные фургоны волы тащили с неимоверными усилиями. Главное было избежать аварий, таких, как поломка колеса или оси, что потребовало бы длительного ремонта или вовсе привело бы к утрате повозки.
Утром девятнадцатого октября караван вступил в край, где телеграфная линия не могла быть проложена напрямик. Рельеф местности вынудил строителей отклонить ее к западу — в этом же направлении Том Марикс повел и экспедицию.
Между тем местность не только отличалась изрезанным рельефом, не дававшим возможности каравану двигаться скоро и размеренно, но и вновь стала очень лесистой. То и дело приходилось огибать бригалоу-скрэб — непроходимые заросли кустарников, в которых преобладала плодовитая акация. По берегам ручьев купами росли казуарины, сбросившие листву[261], словно зимний ветер истрепал их ветви.
У входов в ущелья стояли горлянки, формой ствола напоминающие бутылку. Австралийцы называют это растение «бутылочным деревом»; подобно эвкалипту, корни которого, добравшись до колодца, выпивают из него всю воду, горлянка высасывает влагу из почвы, и ее пористая древесина настолько пропитывается ею, что содержащийся в дереве крахмал может служить пищей для скота.
В зарослях скрэба в больших количествах водятся сумчатые, среди них встречаются и валлаби, бегающие столь быстро, что подчас аборигены, чтобы поймать этих кенгуру, вынуждены поджигать траву, загоняя их таким образом в огненное кольцо. Местами встречалось много крысиных и гигантских кенгуру. На последних белые охотятся исключительно ради удовольствия, поскольку нужно быть негром, причем австралийским, чтобы употреблять в пищу такое жесткое мясо. Тому Мариксу и Годфри удалось сразить пулей лишь две или три пары этих животных, бегающих с той же быстротою, с какой лошадь скачет галопом. Надо сказать, что из хвостов гигантских кенгуру можно приготовить великолепный суп, который всем придется по вкусу во время вечерней трапезы.
В ту ночь лагерь подвергся набегу крыс. Такие крысы встречаются только в Австралии в пору миграции грызунов[262]. Невозможно было спать без риска быть съеденным, и весь лагерь бодрствовал.
Миссис Бреникен и ее спутники снялись с места на следующий день, двадцать второго октября, проклиная мерзких тварей. На закате солнца караван достиг последних отрогов хребта Макдоннелл. Теперь путешествие продлится в несравненно более благоприятных условиях. Еще миль сорок — и первый этап похода закончится на станции Алис-Спрингс.
Двадцать третьего экспедиции пришлось идти по бескрайним, местами холмистым равнинам. Купы деревьев кое-где нарушали однообразный пейзаж. Фургоны легко катились по узкой дороге, проложенной вдоль телеграфных столбов и связывающей удаленные друг от друга станции. Конечно, трудно поверить в то, что аборигены бережно относятся к линии, мало охраняемой в пустынных краях. На высказанные по этому поводу опасения Том Марикс ответил так: «Кочевники, которых, как я уже говорил, наш инженер наказал электрическим током, убеждены, что в этих проводах обитает гром, и остерегаются дотрагиваться до них. Они даже считают, что концы проводов привязаны к солнцу и луне, и оба этих шара рухнут на них, если кто-нибудь решится потянуть за провода».
В одиннадцать часов, как обычно, остановились на большой дневной привал. Караван разместился на опушке эвкалиптовой рощи. Листва деревьев, свисающая, точно хрустальные подвески на люстре, почти не давала тени. Неподалеку протекал ручей или, скорее, слабый ручеек, вода которого едва покрывала устилавшие русло камни. Противоположный берег, образуя обрывистый выступ, уходящий на несколько миль на запад и на восток, закрывал вид на равнину. Далеко позади все еще были видны контуры хребта Макдоннелл.
Чтобы переждать самое знойное время дня, устроили дневной привал, продолжавшийся, по обыкновению, до двух часов. Палаток не ставили, костров не разжигали, животные кормились в упряжи. Холодное мясо и консервы составляли обед участников экспедиции.
Все, как всегда, расположились на растущей по берегам траве. Спустя полчаса погонщики и конвойные, черные и белые, утолив голод, дремали в ожидании момента, когда караван вновь тронется в путь.
Миссис Бреникен, Джейн и Годфри сидели в стороне. Прислуга-аборигенка Гарриетта принесла им корзинку с провизией. За едой они обсуждали предстоящее прибытие каравана в Алис-Спрингс. Годфри полностью разделял с Долли надежду, она никогда не оставляла их обоих, и даже если бы у юного матроса не было никаких оснований, он бы все равно хранил убежденность в успехе экспедиции. Впрочем, в успех верили все. Твердое намерение не покидать австралийской земли, пока не выяснится судьба капитана Джона, объединяла участников экспедиции.
Лен Баркер, разумеется, при каждом удобном случае не скупился на ободряющие слова. Это являлось частью его игры: он был заинтересован в том, чтобы миссис Бреникен не вернулась в Америку, раз самому Лену путь туда был заказан. Долли, не подозревавшая об истинных планах своего родственника, была признательна ему за поддержку.
Во время привала Зак Френ и Том Марикс обсуждали реорганизацию каравана, намечавшуюся в Алис-Спрингс. Вопрос был серьезный, ведь именно после этой станции для экспедиции, направляющейся в Центральную Австралию, начнутся настоящие трудности.
Было около половины второго, когда на севере послышались звуки, похожие на непрерывные раскаты, отзвуки которых долетали до стоянки. Миссис Бреникен, Джейн и Годфри с удивлением прислушались. Подошедшие к ним Том Марикс и Зак Френ тоже слушали, напряженно вглядываясь в даль.
— Откуда этот шум? Наверное, буря? — спросила Долли.
— Скорее похоже на удары волн о песчаный берег,— заметил Годфри.
Однако никаких признаков бури не наблюдалось. Что до волн, то такое возможно лишь вследствие внезапного половодья, вызванного переполнением криков.
— Быть может, наводнение? — предположил Зак Френ.
— Наводнение в этой части материка и в это время года?.. Уверяю вас, такое невозможно! — возразил Том Марикс.
И он был прав. В зимнее время года после сильных бурь из-за чрезмерного обилия дождевой воды порой случаются паводки: вода выходит из берегов и затопляет низменные места. Но для конца октября такое объяснение было неприемлемо.
Том Марикс, Зак Френ и Годфри взобрались на край выступа и устремили обеспокоенные взоры на север и на восток: ничего не было видно на всем обширном пространстве угрюмых пустынных равнин, однако над горизонтом поднималось причудливой формы облако, отнюдь не похожее на испарения, которые можно видеть во время затяжной жары на линии пересечения земли и неба.
Определенно это были клубы дыма с четкими контурами, наподобие тех, что появляются в результате артиллерийских залпов. Шум же, исходящий из этого скопления пыли (а можно было не сомневаться, что это именно огромное облако пыли), быстро усиливался и напоминал размеренный топот, будто несметное войско скакало верхом и топот копыт отражался упругой поверхностью необъятной равнины. Что же все-таки происходило?
— Я знаю... Однажды мне уже приходилось видеть подобное... Это овцы! — воскликнул Том Марикс.
— Овцы?..— засмеялся Годфри.— Всего лишь овцы!..
— Не смейтесь, Годфри! — отвечал начальник конвоя.— Там могут быть тысячи овец, охваченных паникой... Если я не ошибся, они промчатся здесь как лавина, все разрушая на своем пути!
Том Марикс не преувеличивал. Когда отару по той или иной причине охватывает паника,— такое иногда случается на фермах,— ничто не может ее удержать, овцы опрокидывают изгороди и бегут. Старая поговорка гласит: «Перед овцами останавливается карета короля». И действительно, эти глупые животные скорее дадут себя раздавить, нежели двинутся с места; но при определенных обстоятельствах они и сами раздавят кого угодно, несясь в огромном количестве неизвестно куда.
Глядя на пыльное облако, разрастающееся на пространстве в два или три лье, можно было заключить, что не менее ста тысяч овец в слепой панике мчатся с севера на юг навстречу каравану. Словно сулой[263], они бурлят на поверхности равнины и остановиться могут, не иначе как рухнув в бессилии от безумного бега.
— Что будем делать? — спросил Зак Френ.
— Надо как можно надежней укрыться у подножия обрыва,— ответил Том Марикс.
Другого выхода не было, и все трое спустились вниз.
Облако пыли клубилось в воздухе, отчетливо слышалось блеяние: лавина овец находилась не более чем в двух милях от стоянки.
Фургоны были укрыты под обрывом. Лошадей и волов заставили лечь на землю, чтобы лучше уберечь от овечьей лавины, которая, возможно, пронесется, не задев их. Люди прижались к стене обрыва. Годфри находился рядом с Долли, пытаясь понадежнее укрыть ее собою. Все принялись ждать.
Том Марикс тем временем взобрался на край выступа. Он хотел еще раз взглянуть на равнину, бурлящую, словно море при сильном ветре. Отара, растянувшаяся на треть горизонта, быстро и с шумом приближалась. Овец в ней, по словам Тома Марикса, должно было быть не меньше сотни тысяч. Еще одна-две минуты — и они достигнут места стоянки.
— Внимание! Вот они! — прокричал начальник конвоя и быстро скатился с обрыва к тому месту, где миссис Бреникен, Джейн и Годфри лежали, прижавшись друг к другу. Почти тотчас на краю обрыва показались первые овцы. Они не остановились, да и не могли остановиться. Сотни животных, когда земля исчезла под ними, стали падать друг на друга. Блеяние овец слилось с ржанием лошадей и ревом волов, охваченных страхом. Все исчезло в густом облаке пыли, а животные, влекомые неодолимой силой, все падали и падали — настоящий овечий поток лился с высоты.
Это продолжалось минут пять. Первые из людей, кто поднялся с земли,— Том Марикс, Годфри и Зак Френ,— увидели страшную бурлящую массу, движущуюся в сторону юга.
— Вставай!.. Вставай!..— прокричал начальник конвоя.
Все поднялись на ноги. Несколько ушибов у людей, небольшие поломки в повозках — вот и весь ущерб от случившегося, не ставший гораздо большим благодаря тому, что люди и повозки находились под прикрытием обрыва.
Том Марикс, Годфри и Зак Френ быстро взобрались наверх. На юге исчезала в клубах песка и пыли несущаяся отара. На севере, насколько хватало глаз, простиралась истоптанная равнина. Вдруг Годфри воскликнул:
— Там!.. Там!.. Смотрите!
На земле, шагах в пятидесяти от обрыва, лежали, распростершись, два тела, опрокинутых, унесенных и, скорее всего, раздавленных овечьей лавиной.
Том Марикс и Годфри бросились к телам. И каково же было их удивление, когда они увидели Джоса Меритта и его слугу Чжин Ци. Они, однако, оказались живы, и поспешными усилиями их вскоре удалось привести в чувство. Едва открыв глаза и несмотря на многочисленные ушибы, оба встали на ноги.
— Славно!.. Да!.. Очень славно!..— проговорил Джос Меритт.— А Чжин Ци?..— спросил он, обернувшись.
— Чжин Ци здесь, по крайней мере, то, что от него осталось! — отозвался китаец, потирая поясницу.— Решительно овец было слишком много, мой господин Джос, в тысячу и еще в десять тысяч раз слишком!
— Не бывает слишком много жаркого и отбивных, а значит, не может быть слишком много и овец! — ответил джентльмен.— Одно досадно — ни одной не удалось схватить, пока они бежали...
— Не печальтесь, мистер Меритт,— сказал Зак Френ.— У подножия обрыва к вашим услугам сотни овец.
— Славно!.. Да!.. Очень славно! — серьезным тоном заключил флегматик.— Чжин Ци!..— тотчас обратился он к слуге, который, закончив потирать поясницу, принялся потирать плечи.
— Да, мой господин Джос?..
— Две отбивные на ужин,— распорядился он.— С кровью!
Джос Меритт и Чжин Ци рассказали о том, что с ними приключилось. Они ехали в трех милях впереди каравана, когда были застигнуты врасплох овечьей лавиной. Лошади под ними понесли, несмотря на усилия их удержать. Поваленные на землю, истоптанные, они чудом избежали того, чтобы быть раздавленными, и еще слава Богу, что миссис Бреникен и ее спутники вовремя пришли им на помощь.
Итак, серьезнейшая опасность миновала, все остались целы и невредимы, караван снова пустился в путь и к шести часам вечера прибыл на станцию Алис-Спрингс.
Глава VIII АЛИС-СПРИНГС ОСТАЛАСЬ ПОЗАДИ
На следующий день, двадцать четвертого октября, миссис Бреникен занялась реорганизацией каравана, которому предстоял путь, без сомнения, трудный, опасный и длительный в почти неизведанные области Центральной Австралии.
Алис-Спрингс является всего лишь станцией трансавстралийской телеграфной линии; станция насчитывает домов двадцать, и все вместе они едва заслуживают названия деревни.
Прежде всего миссис Бреникен побывала у начальника станции, мистера Флинта. Не располагает ли он сведениями об инда?.. Может, это племя временами приходит из Западной Австралии в районы Центра? Но мистер Флинт ничего не знал об инда; единственно, ему было известно, что племя время от времени появляется в западной части Земли Александры.
О Джоне Бреникене начальник станции никогда не слышал. Что касается Гарри Фелтона, то о нем он знал лишь из газет. По его мнению, лучше всего положиться на те достаточно ясные сведения, которые сообщил несчастный перед смертью, и продолжить поход по маршруту, ведущему в западные области Австралии. Мистер Флинт, кстати, надеется, что ее предприятие ждет благополучное завершение, что она добьется успеха там, где он, Флинт, потерпел неудачу, когда шесть лет назад устремился на поиски Лейхгарда, но вскоре был вынужден оставить свой план из-за войн между туземными племенами.
Начальник станции выразил готовность обеспечить миссис Бреникен всеми имеющимися у него ресурсами и добавил, что именно это он сделал для Дэвида Линдсея, когда тот в 1886 году остановился в Алис-Спрингс, перед тем как отправиться к озеру Наш и в восточную часть массива Макдоннелл.
А вот что в ту пору представляла собой та часть Австралийского материка, которую экспедиция готовилась обследовать, двигаясь на северо-запад.
В двухстах шестидесяти милях от Алис-Спрингс с юга на север по сто двадцать девятому меридиану проходит прямолинейная граница, отделяющая Южную Австралию, Землю Александры и Северную Австралию от провинции, названной Западная Австралия, столицей которой является город Перт. Провинция эта — самая большая по территории, но наименее изученная и наименее населенная из всех семи крупных частей континента. В действительности географически определены лишь ее границы, включающие Земли Ньютса, Луина, Вламинга, Эндрака, де Витта и Тасмана.
Современные картографы указывают на данной территории, по далеким безлюдным пространствам которой кочуют лишь племена аборигенов, три отчетливо выделяющиеся пустыни. Одна пустыня находится на юге, между тридцатым и двадцать восьмым градусами широты,— первооткрывателем этих земель считают Форреста, прошедшего в 1869 году от побережья до сто двадцать третьего меридиана, а впоследствии, в 1875 году, Джайлс пересек пустыню целиком.
Другая пустыня — Гибсона, расположенная между двадцать восьмой и двадцать третьей параллелями, по ее бескрайним равнинам в 1876 году прошел все тот же Джайлс. И наконец Большая Песчаная пустыня, расположенная между двадцать третьей параллелью и северным побережьем Австралии, которую, известно ценой какого риска, удалось пересечь с востока на северо-запад в 1873 году полковнику Уорбертону.
Вот на такой территории экспедиции миссис Бреникен предстояло вести поиски. Исходя из сведений, полученных от Гарри Фелтона, надо было придерживаться маршрута, проделанного полковником Уорбертоном. Не менее четырех месяцев занял у этого бесстрашного исследователя путь от Алис-Спрингс до побережья Индийского океана, а все путешествие в целом длилось пятнадцать месяцев, с сентября 1872 года по январь 1874-го. Сколько же времени займет поход, который готовились предпринять миссис Бреникен и ее товарищи?..
Долли велела Заку Френу и Тому Мариксу не терять ни одного дня, что оказалось возможным при активной помощи мистера Флинта. Уже две недели, как тридцать верблюдов, приобретенных по высокой цене на средства миссис Бреникен, а с ними и погонщики-афганцы находились на станции Алис-Спрингс.
Верблюды появились в Австралии всего лишь тридцать лет тому назад. Мистер Элдер привез их из Индии в i860 году. Эти полезные животные, неприхотливые, очень крепкие и выносливые, способны нести груз в сто пятьдесят килограммов и, идя всегда невозмутимо и размеренно, преодолевать в сутки расстояние в сорок километров. К тому же они неделю могут существовать без пищи, а без воды — шесть дней зимой и три дня летом. И поскольку пустыня Сахара и Большая Песчаная пустыня лежат на одних и тех же широтах, только в разных полушариях, верблюды с легкостью переносят трудности австралийского климата.
В распоряжение миссис Бреникен предоставили двадцать верховых и десять вьючных верблюдов. Самцов было больше, чем самок. Подобно тому как у конвойных имелся начальник в лице Тома Марикса, у верблюдов имелся свой предводитель — самый старший из них, которому остальные охотно подчинялись. Он управлял ими, собирал во время привалов, не давал убегать вместе с самками. Если бы он сдох или хотя бы заболел, верблюды непременно разбежались бы и погонщики не смогли бы их удержать. Разумеется, этого бесценного верблюда отдали Тому Мариксу, и оба начальника, один из которых вез на себе другого, заняли подобающее им место во главе каравана.
Было решено, что лошади, волы, коляски и фургоны, доставившие экспедицию от Фарайнатауна до Алис-Спрингс, оставят на попечение мистера Флинта до того дня, когда экспедиция вернется за ними на обратном пути. По всей вероятности, караван будет возвращаться в Аделаиду по дороге, отмеченной столбами трансавстралийской телеграфной линии.
Долли и Джейн заняли «кибитку» — нечто вроде палатки на колесах, наподобие тех, в которых ездят арабы; ее вез один из самых сильных верблюдов в караване. За плотным пологом женщины могли укрыться от солнца и дождей, правда довольно редких на центральных равнинах континента.
Гарриетт, прислуга миссис Бреникен, привыкшая к длительным переходам кочевников, предпочла идти пешком. Большие животные с двумя горбами казались ей более подходящими для перевозки тюков, нежели людей.
Три верховых верблюда предназначались для Лена Баркера, Годфри и Зака Френа, которые смогут привыкнуть к жесткой и тряской езде на них. Кстати, скорость, с какой пойдет экспедиция, будет определяться размеренным ходом верблюдов; о том, чтобы двигаться быстрее, речи не было, так как часть людей шла пешком. На рысь придется переходить только в случае, если нужно будет, обогнав караван, найти колодец или иной источник воды во время перехода через Большую Песчаную пустыню.
Пятнадцать других верховых верблюдов отдали белым конвойным. Черным, приставленным к десяти вьючным верблюдам, придется проходить пешком, в два ежедневных этапа, от двенадцати до четырнадцати миль, что не составит для них слишком больших трудностей.
Экспедиция, оснащенная транспортными средствами и лагерным снаряжением, имела большие запасы провианта и находилась в более благоприятных условиях, чем все предшествующие исследователи Австралийского континента, а значит, имелись основания надеяться, что она достигнет своей цели.
Остается сказать, что стало с Джосом Мериттом. Намеревался ли этот джентльмен со своим слугой Чжин Ци остаться в Алис-Спрингс? А если они покинут станцию, то не пойдут ли дальше на север, вдоль телеграфной линии? Но может, наши чудаки устремятся на восток или на запад в поисках туземных племен? Ведь у коллекционера имелся шанс именно у них отыскать редкостный головной убор, так долго манящий его за собой. Однако теперь, когда он лишился средства передвижения, багажа и провианта, как продолжать путь?
Уже несколько раз Зак Френ спрашивал об этом Чжин Ци. Но выходец из Поднебесной неизменно отвечал, что никогда не знает планов своего хозяина, поскольку его хозяин ничего и никогда не планирует. Однако он был абсолютно уверен в том, что Джос Меритт не пожелает вернуться назад, пока его навязчивая идея не будет осуществлена, и что он, Чжин Ци, уроженец Гонконга, не скоро увидит страну, «где молоденькие китаянки, одетые в шелка, срывают своими длинными тонкими пальчиками кувшинки».
Тем временем наступил канун отъезда и Джос Меритт еще не раскрыл своих намерений, когда Чжин Ци сообщил миссис Бреникен, что джентльмен просит ее милостивого позволения переговорить с нею наедине.
Долли, от души желавшая, насколько возможно, помочь этому чудаку, велела ответить, что просит почтенного Джоса Меритта пожаловать в дом мистера Флинта, где она проживала со времени прибытия на станцию. Джос Меритт незамедлительно явился — дело было двадцать пятого октября после полудня — и, едва усевшись против Долли, начал разговор следующими словами:
— Миссис Бреникен... Славно!.. Да!.. Очень славно! Я не сомневаюсь, нет... ни минуты не сомневаюсь, что вы найдете капитана Джона... Славно!.. Да!.. Очень славно! Вам, наверное, известно, чего ради мною предпринято путешествие по Австралии?
— Известно, мистер Меритт,— ответила миссис Бреникен,— и я, со своей стороны, не сомневаюсь, что в один прекрасный день вы будете вознаграждены за такое упорство.
— Упорство... Славно!.. Да!.. Очень славно!.. Эта шляпа — единственная в мире!
— И ее недостает в вашей коллекции?
— К сожалению... Я отдал бы свою голову за то, чтобы иметь возможность надеть на нее такую шляпу!
— Это мужская шляпа? — спросила Долли скорее из доброты, нежели из интереса к невинным прихотям фанатика.
— Нет, мадам, нет... Шляпа женская... Но какой женщине она принадлежала!.. Простите мне мое желание сохранить в тайне ее имя и положение... Я боюсь вызвать конкуренцию... Подумайте только, мадам... если кто-нибудь другой...
— Так вы имеете о шляпе какие-то сведения?
— Сведения?.. Славно!.. Да!.. Очень славно! Единственное, что мне удалось узнать из многочисленной корреспонденции, расспросов, благодаря странствиям, наконец,— что шляпа, вследствие волнующих случайностей, оказалась в Австралии, и поскольку прежде она находилась высоко, да, очень высоко, то и теперь должна украшать голову какого-нибудь властителя туземного племени...
— И что это за племя?
— Это одно из тех племен, что кочуют на севере и западе континента. Славно!.. Да!.. Очень славно! Если понадобится, я побываю у них всех... я все перерою... А поскольку нет разницы, с чего начинать, то позвольте отправиться с караваном на поиски инда.
— Охотно соглашаюсь, мистер Меритт, и велю, чтобы для вас раздобыли, если это возможно, еще двух верблюдов.
— Одного, мадам, достаточно, и для меня, и для моего слуги... тем более что я намереваюсь сесть верхом, а Чжин Ци пойдет пешком.
— Известно ли вам, мистер Меритт, что мы должны выступить завтра утром?
— Завтра?.. Славно!.. Да!.. Очень славно! Мы вас не задержим, миссис Бреникен. Но условимся, что я никоим образом не буду заниматься тем, что касается капитана Джона... Это ваше дело, не правда ли?.. Мне же нужно заниматься исключительно шляпой...
— Договорились, мистер Меритт! — ответила Долли.
С этим Джос Меритт и ушел, заявив, что умная, энергичная и великодушная женщина заслуживает того, чтобы нашелся ее муж, по меньшей мере настолько, насколько и он, Джос Меритт, заслуживает того, чтобы заполучить сокровище, которое пополнило бы его коллекцию исторических головных уборов.
Чжин Ци, предупрежденный о необходимости быть готовым к завтрашнему дню, должен был заняться приведением в порядок кое-каких вещей, уцелевших после бедствия. Что до животного, которое джентльмен собирался делить со своим слугой,— читатель уже осведомлен, каким образом это будет происходить,— то мистеру Флинту удалось раздобыть для него верблюда. «Славно!.. Да!.. Очень славно!» — услыхал он в ответ от весьма признательного Джоса Меритта.
На следующий день, двадцать шестого октября, после того как миссис Бреникен простилась с начальником станции, экспедиция тронулась в путь. Том Марикс и Годфри ехали впереди белых конвойных, тоже путешествующих верхом. Долли и Джейн устроились в кибитке, по одну сторону которой ехал Зак Френ, а по другую — Лен Баркер. Далее следовал, величественно восседая меж двух горбов, Джос Меритт, рядом с ним плелся Чжин Ци, потом шли навьюченные верблюды, и замыкали караван черные конвойные.
В шесть утра, оставив справа телеграфную линию и станцию Алис-Спрингс, караван уходил за один из отрогов хребта Макдоннелл.
В октябре в Австралии уже стоит сильная жара, поэтому Том Марикс посоветовал идти только ранним утром, с четырех до девяти часов, и после полудня, с четырех до восьми. Даже ночи уже становились душными, и длительные привалы были необходимы для того, чтобы караван привык к тяготам путешествия по центральным районам.
Это не была еще пустыня с ее нескончаемыми бесплодными равнинами, пересохшими криками и высыхающими колодцами с солоноватой водой. У подножия гор лежала пересеченная местность, где переплелись отроги хребтов Макдоннелл и Странгуэйс и где проходила телеграфная линия, изгибаясь на северо-запад. Караван же должен был взять более круто на запад и двигаться почти вдоль параллели, совпадающей с тропиком Козерога[264]. Словом, наши путешественники собирались следовать путем, которым следовал Джайлс в 1872 году и который пересекал маршрут Стюарта в двадцати пяти милях к северу от Алис-Спрингс.
На сильно пересеченных участках верблюды шли медленно. Пересыхающие речки кое-где орошали землю. Там, в тени деревьев, можно было найти довольно свежую проточную воду для верблюдов, пивших в запас на многие часы. Местами караван двигался вдоль зарослей кустарника, и экспедиционные охотники, которые должны были добывать в пути мясо, подстреливали разного рода съедобную дичь, среди коей имелись и кролики.
Известно, что в Австралии кролики — все равно что саранча в Африке. Эти чересчур плодовитые грызуны в конце концов сгрызут все, если не принимать против них мер. До сих пор участники экспедиции пренебрегали ими как пищей, поскольку на равнинах и в лесах Южной Австралии в изобилии водится настоящая дичь. Всегда можно будет насытиться немного безвкусной крольчатиной, когда зайцы, куропатки, дрофы, утки, голуби и другие представители фауны[265], имеющие шерсть и перья, перестанут попадаться. И вот в прилегающей к хребту Макдоннелл местности приходилось довольствоваться тем, что есть, а именно кишащими везде кроликами.
Вечером тридцать первого октября, когда Годфри, Джос Меритт, Зак Френ и Том Марикс собрались вместе, разговор как раз зашел об этом зверином отродье, с которым в Австралии уже давно пора было кончать. Годфри поинтересовался, всегда ли кролики водились в Австралии.
— Нет, мой мальчик,— ответил Том Марикс,— они были завезены сюда лет тридцать тому назад. Хорошенький нам сделали подарок! Эти звери так расплодились, что теперь уничтожают нашу растительность. Некоторые области кролики заполонили настолько, что там уже невозможно выращивать ни овец, ни какой иной скот. Все поля, точно шумовки, изрыты норами, и трава съедена до корней. Просто катастрофа! Я уже склонен думать, что не поселенцы съедят кроликов, а кролики — поселенцев.
— А вы не пробовали никаких сильных средств, чтобы от них избавиться? — спросил Зак Френ.
— Скажем так, бессильных средств,— отвечал Том Марикс,— поскольку количество их растет, вместо того чтобы сокращаться. Я знаю одного землевладельца, которому пришлось заплатить сорок тысяч фунтов за истребление кроликов, опустошивших его угодья. Правительство назначило цену за каждую кроличью голову, как делается в Британской Индии в отношении тигров и змей. И что же? Головы эти растут, словно у гидры, по мере того как их отрубают, и даже в еще большем количестве. Стали использовать стрихнин, потравили сотни тысяч кроликов, что чуть было не вызвало эпидемию чумы в стране. Ничто не помогло.
— Я вроде слышал, что один французский ученый, господин Пастер[266], предложил уничтожить этих грызунов, прививая им куриную холеру, так ли это? — поинтересовался Годфри.
— Да, и возможно, данный способ оказался бы эффективным. Но осуществить его не удалось, хотя для этой цели была назначена премия в двадцать тысяч фунтов. А посему власти Квинсленда и Нового Южного Уэльса недавно установили на своих границах забор из проволочной сетки длиной в восемьсот миль, чтобы защитить восточную часть материка от нашествия кроликов. Это сущее бедствие.
— Славно!.. Да!.. Очень славно! Сущее бедствие...— отозвался Джос Меритт.— Желтая раса тоже в конце концов заполонит собой все пять частей света. Китайцы — это будущие кролики.
К счастью, Чжин Пи поблизости не было, уж он бы не оставил без возражений это обидное для жителей Поднебесной сравнение. Или, по крайней мере, пожал бы плечами и засмеялся тем особенным смехом, который у людей его расы является не чем иным, как долгим и громким вздохом.
— Так, значит, австралийцы откажутся продолжать борьбу?..— сказал Зак Френ.
— А что тут можно поделать?..— с досадой ответил Том Марикс.
— И все же, мне кажется, есть верное средство истребить кроликов,— сказал Джос Меритт.
— Какое же? — спросил Годфри.
— Нужно добиться, чтобы британский парламент принял следующее постановление: «Отныне во всем Соединенном Королевстве и его колониях разрешается носить только бобровые шапки». А поскольку бобровые шапки испокон веков делались исключительно из кроличьего меха... Славно!.. Да!.. Очень славно! — закончил Джос Меритт своим обычным восклицанием.
Но в ожидании момента, когда парламент примет означенное постановление, самое лучшее было питаться кроликами, подстреленными по дороге. Участники экспедиции не упускали случая поохотиться на них: все их будет меньше в Австралии!
Что до другой живности, то в пищу она не годилась, зато попадались какие-то особенные млекопитающие, представляющие большой интерес для натуралистов. В их числе была ехидна из семейства однопроходных, с мордочкой в форме клюва и роговыми губами, с телом, покрытым иголками, словно у ежа. Основной ее пищей являются насекомые — она захватывает их тонким языком, который высовывает из норы. Другое интересное животное — утконос: челюсти как у утки, сплюснутое тело, длиною в фут, покрыто рыжевато-коричневой шерстью. Самки этих животных откладывают яйца, но выведенных детенышей вскармливают молоком.
Однажды Годфри, ставший одним из лучших охотников экспедиции, выследил и подстрелил иарри, разновидность кенгуру, очень быстро бегающее животное — будучи раненным, оно сумело скрыться в ближайших зарослях. Юный матрос не очень огорчился, поскольку, по словам Тома Марикса, это млекопитающее ценно лишь тем, что в него трудно попасть, а отнюдь не своими пищевыми свойствами. То же и с бунгари[267], крупных размеров животным черноватого окраса, которое, подобно сумчатым, пробирается меж высоких ветвей, цепляясь за них своими кошачьими когтями и покачивая длинным хвостом.
Это существо, ведущее ночной образ жизни и умеющее ловко прятаться в ветвях, увидеть довольно трудно. Вместе с тем Том Марикс рассказывал, что мясо бунгари, если его поджаривать на углях, очень вкусно и даже намного лучше мяса кенгуру. Все были раздосадованы, что так и не доведется его попробовать: вероятно, бунгари совсем исчезнут на подступах к пустыне. Двигаясь все дальше на запад, члены экспедиции скорее всего вынуждены будут питаться только своими припасами.
Несмотря на труднопроходимую местность, Тому Мариксу удавалось поддерживать среднюю скорость, равную двенадцати — четырнадцати милям в сутки, с которой главным образом шел караван. Жара была уже очень сильной,— тридцать — тридцать пять градусов в тени,— но люди мужественно переносили ее. Правда, в течение дня еще попадались группы деревьев, под которыми разбивали лагерь. Воды, кстати, хватало, хотя из источников теперь встречались лишь полувысохшие крики. Привалы, регулярно имеющие место с девяти часов утра до четырех дня, в достаточной мере восстанавливали силы утомленных походом людей и животных.
Край не был населен. Последние земельные владения остались позади. Не было больше ни выгонов, ни загонов с множеством овец — скот не мог прокормиться невысокой сухой травой. Изредка встречались немногочисленные аборигены, направляющиеся к станциям телеграфной линии.
Седьмого ноября, после полудня, Годфри, удалившись от каравана на полумилю вперед, вернулся и сообщил о том, что видел всадника на коне. Тот ехал по узкой тропинке у подножия хребта Макдоннелл. Увидев путешественников, он пришпорил коня и галопом домчался до каравана.
Люди только что устроились под двумя-тремя чахлыми эвкалиптами, почти не дававшими тени. Поодаль пролегало извилистое русло небольшого крика, питающегося из источников в центральной гряде; вода в нем вся была выпита корнями этих эвкалиптов.
Годфри привел человека к миссис Бреникен. Сперва она угостила его полным стаканом виски, и он выразил признательность за нежданно полученное удовольствие.
Это был белый австралиец лет тридцати пяти, один из тех превосходных наездников, привыкших и к дождю, льющемуся на их блестящую, слово навощенная тафта[268], кожу, и к солнцу, которому нечего больше выжигать на этих совершенно выжженных лицах. Он служил курьером и выполнял свои обязанности усердно и весело, разъезжая по провинции, доставляя письма и собирая новости по станциям и деревням, разбросанным к востоку и западу от телеграфной линии. Теперь он возвращался из Эму-Спрингс, почтового отделения, расположенного у южного склона хребта Блафф.
Этот человек с грубыми манерами, умевший переносить голод и жажду, походил на существовавших в старину во Франции славных малых — форейторов. Уверенный в том, что он желанный гость везде, где только не остановится, даже если у него нет письма для хозяев, храбрый, решительный, сильный, с револьвером на поясе и ружьем за спиной, на быстром и крепком коне, курьер разъезжал днем и ночью, не опасаясь дурных встреч.
Миссис Бреникен с удовольствием побеседовала с ним, расспросила о туземных племенах, с которыми ему приходилось иметь дело. Курьер отвечал любезно и попросту. Он, как и все, слышал о катастрофе «Франклина» и об экспедиции, организованной женой Джона Бреникена, однако не знал, что караван уже покинул Аделаиду, чтобы обследовать центральные области Австралии.
— Приходилось ли вам во время своих разъездов встречаться с аборигенами из племени инда? — спросила Долли.
— Нет, мадам, хотя эти инда порой находятся неподалеку от Земли Александры, и я часто слышал о них,— ответил курьер.
— А не знаете ли вы, где они теперь? — спросил Зак Френ.
— Трудно сказать... В этом сезоне они здесь, в следующем — еще где-то...
— Но где их видели в последний раз?..— настойчиво расспрашивала миссис Бреникен.
— Полгода тому назад инда находились на северо-западе Западной Австралии, неподалеку от реки Фицрой,— отвечал курьер.— Это те земли, куда охотно захаживают племена с Земли Тасмана. Тысяча чертей! Вы знаете, чтобы добраться туда, надо пересечь центральные и западные пустыни! Нет нужды говорить, что вас там ожидает!.. Но в конце концов бесстрашие и упорство уводят далеко... Стало быть, счастливого пути, миссис Бреникен!
Курьер выпил полный стакан виски, сунул в седельную кобуру несколько подаренных ему банок консервов и, вскочив на коня, скрылся за горой.
Два дня спустя караван оставил позади последние отроги хребта Макдоннелл, главной вершиной которого является гора Либиг[269]. Экспедиция подошла к границе пустыни, начинающейся в ста тридцати милях к северо-западу от станции Алис- Спрингс.
Глава IX ДНЕВНИК МИССИС БРЕНИКЕН
При слове «пустыня» сразу же на ум приходит Сахара с ее бескрайними песчаными равнинами и зелеными освежающими оазисами. Однако центральные районы Австралии ничего общего не имеют с северными районами Африки, разве что и тут и там редко можно встретить воду. «Вода ушла в тень»,— говорят аборигены, и путник вынужден брести от колодца к колодцу, большей частью расположенных на далеком расстоянии друг от друга.
Песок, лежащий ровным слоем или же образующий холмы, покрывает значительную территорию континента, но австралийскую пустыню нельзя назвать совершенно бесплодной. Кустарники, порой даже с мелкими цветочками, редко стоящие деревья — камедные, акации, эвкалипты,— все это являет картину менее удручающую, чем та, которую представляют собой пески Сахары. Но здешние деревья и кусты не дают ни плодов, ни листьев, годных в пищу, и путешественникам приходится весь провиант для себя и животных везти с собой; из дичи в этих засушливых краях можно увидеть лишь перелетных птиц в небе.
Миссис Бреникен регулярно и со всей тщательностью вела путевой дневник. Думается, читателю будет любопытно познакомиться с некоторыми страницами этой рукописи. Дневник полнее раскроет пылкую натуру Долли, ее удивительную стойкость, умение не поддаваться отчаянию даже тогда, когда, по мнению большинства, не оставалось ни малейшей надежды на успех. Благодаря этим записям станет очевидно, на что способна женщина, посвятившая себя долгу.
10 ноября.
Мы покинули стоянку у горы Либиг в четыре утра. Курьер сообщил нам ценные сведения. Они совпадают с теми, что мы получили от бедняги Фелтона. Да, именно на северо-западе, а точнее, в районе реки Фицрой нужно искать племя инда. Предстоит пройти около восьмисот миль!.. И мы их пройдем.
Я дойду туда, даже если останусь одна, даже если мне будет грозить опасность оказаться в плену у инда. Ведь я стану пленницей, как и Джон!
Мы движемся на северо-запад примерно по тому же пути, по которому шел полковник Уорбертон. Наши маршруты будут во многом совпадать вплоть до реки Фицрой. Удастся ли нам избежать тех испытаний, которые пришлось пережить ему, все ли участники экспедиции останутся в живых? К несчастью, мы находимся в менее благоприятных условиях.
Полковник Уорбертон покинул Алис-Спрингс в апреле, иначе говоря, на исходе жаркого сезона: в Северной Америке таким был бы октябрь. Наш же караван, напротив, вышел из Алис-Спрингс только в конце октября, а сейчас ноябрь, начало австралийского лета. Уже стоит непомерная жара, тридцать пять градусов по Цельсию в тени, если таковая вообще имеется. Нам неоткуда ждать облегчения, разве что облако ненадолго скроет солнце или на пути встретится несколько деревец...
Установленный Томом Мариксом походный порядок оказался очень удобным. Движение и привалы хорошо соразмерены по времени: с четырех утра до восьми — первый этап, потом отдых до четырех часов пополудни, с четырех до восьми вечера — второй этап и затем ночлег. Таким образом, мы не находимся в пути во время полуденного пекла. Но сколько теряется времени! Как медленно мы идем! Если перед нами не возникнет никаких препятствий, то до реки Фицрой мы доберемся не раньше чем через три месяца...
Я очень довольна Томом Мариксом. Он и Зак Френ исполнены решимости, на них можно положиться в любых обстоятельствах.
Годфри пугает меня своей горячностью. Он всегда впереди, и мы часто теряем его из виду. Трудно удерживать этого мальчика подле себя, и все же он любит меня, как родную мать. Том Марикс недавно отругал Годфри за безрассудство. Надеюсь, это возымеет хоть какое-то действие.
Лен Баркер почти всегда находится в хвосте каравана. Складывается впечатление, что он предпочитает компанию черных конвойных. Ему хорошо известны обычаи, нравы и пристрастия аборигенов. Вскоре он будет нам очень полезен, поскольку вдобавок владеет их языком. Как бы хотелось, чтобы муж моей бедной Джейн изменился к лучшему! Но что-то не верится: он все так же отводит глаза...
13 ноября.
За три дня ничего особенного не произошло. Какое облегчение и утешение я испытываю оттого, что рядом со мной Джейн! О чем только мы не говорим, уединившись в кибитке! Я вселила в нее уверенность, и она уже не сомневается, что мы найдем Джона. Но бедняжка всегда грустна. Понимая, что Джейн не может открыться до конца, я не допытываю ее о прошлом. Порой мне кажется, что она хочет что-то сказать...
Лен Баркер будто следит за ней. Стоит ему приблизиться к нам, Джейн меняется в лице, начинает вести себя как-то иначе... Несчастная женщина боится своего мужа. Ясно, что власть этого человека над ней безгранична.
Джейн, кажется, с симпатией относится к Годфри, и тем не менее, когда мальчик подъезжает к нашей кибитке, она не смеет вымолвить и слова. Отводит глаза, опускает голову, точно ей невыносимо его присутствие.
Сегодня, во время утреннего перехода, мы двигались по обширной болотистой местности. На пути. попадались лужи с соленой водой. Том Марикс сказал, что эти топи — остатки древних озер. Некогда они вместе с озерами Эйр и Торренс составляли единое море, разделявшее континент надвое. Оказывается, множество таких лагун встречается не только в низинах, но и на более высокой местности. К счастью, накануне, во время привала, мы смогли запастись водой, и наши верблюды вволю утолили жажду.
Мы шли по напитанной влагой земле, копыта верблюдов проламывали соляную корку и погружались в вязкую грязь. Иногда корка поддавалась не сразу, но когда копыто животного все же пробивало ее, во все стороны летел жидкий ил.
Немалого труда нам стоило пройти по этим болотам, простершимся на десяток миль к северо-западу. Впервые за весь наш поход нам стали попадаться рептилии[270]. В Австралии их довольно много, и больше всего — в лагунах, поросших кустарником и низкими деревцами. Одного нашего конвойного укусила ядовитая змея темного окраса, длиной не менее трех футов. Как мне сказали, ее научное название Trimesurus ikaheka. Том Марикс тотчас прижег ранку: он посыпал ее порохом, который затем поджег. Пострадавший — это был белый — даже не вскрикнул. Я держала его руку во время операции, а затем велела дать ему дополнительную порцию виски. Будем надеяться, что укус не вызовет тяжелых последствий.
Надо внимательно смотреть, куда ступаешь. Езда на верблюде не спасает полностью от укусов змей. Я все время боюсь, как бы Годфри не совершил какой-нибудь оплошности, и меня охватывает дрожь, когда черные конвойные кричат: «Вин’дохе!», что на языке аборигенов означает: «Змея!»
Вечером двое наших аборигенов убили еще одну большую змею. Том Марикс говорит, что, хотя две трети всех змей в Австралии ядовиты, только у пяти видов из них яд опасен для человека. Убитая змея имела в длину футов двадцать. Это какая-то разновидность удава. Наши авcтралийцы пожелали приготовить ее на ужин. В песке была вырыта яма. Один из аборигенов обложил ее предварительно нагретыми в костре камнями, а их устлал душистыми листьями. У змеи отрезали голову и хвост, потом ее поместили на дно ямы, сверху прикрыли такой же листвой, придавили горячими камнями и засыпали довольно толстым слоем песка так, чтобы пар из ямы не выходил наружу.
Мы наблюдали эту кулинарную церемонию не без некоторого отвращения, но, надо признать, когда уже готовую змею вынули из импровизированной печи, она издавала приятный запах. Ни Джейн, ни я не пожелали отведать блюда; Том Марикс уверял, что змеиное мясо довольно безвкусно, а вот печень считается лакомством.
— Ее можно сравнить, например, с рябчиком,— заявил он.
— С рябчиком!.. Славно!.. Да!.. Очень славно! Рябчик — это изумительно! — воскликнул Джос Меритт.
Отведав для начала небольшой кусочек змеиной печенки, он затем велел принести себе кусок побольше и в конце концов слопал ее всю. Ничего не поделаешь — британская бесцеремонность.
Что касается Чжин Ци, то он не заставлял себя упрашивать. Дымящийся кусок змеиного мяса, который он смаковал как истинный гурман, привел его в благостное расположение духа.
— Ай-йа! — вздохнул он с сожалением.— Сюда бы устриц, хорошего китайского вина, и можно вообразить, что ты в «Железной арке»!.. Это самая знаменитая чайная в Пекине.
Годфри и Зак Френ, преодолев отвращение, взяли-таки себе немного змеиного мяса. По их мненйю, оно оказалось весьма съедобно. Я предпочла поверить им на слово.
Разумеется, сие блюдо было до последнего кусочка съедено конвойными-аборигенами. Они даже не оставили жира, вытекшего из змеи при готовке.
Ночью нас разбудил жуткий вой, раздававшийся в отдалении. Выла стая динго[271]. Это животное можно назвать австралийским шакалом, поскольку в нем есть что-то от волка и от собаки: желтоватая или красновато-коричневая шерсть и длинный пушистый хвост. К нашему счастью, динго ограничились воем и не стали нападать на лагерь. Когда их много, они страшны.
19 ноября.
Жара становится все изнурительнее, и пока еще встречающиеся нам крики уже почти полностью высохли. Чтобы добыть воды, которую мы наливаем в бочонки, нужно копать землю в русле. Еще немного — и нам останется надеяться только на колодцы...
Вынуждена признать, что между Годфри и Леном Баркером существует какая-то необъяснимая, прямо-таки инстинктивная неприязнь. Они даже словом никогда не перемолвятся и стараются избегать друг друга.
— Ты не любишь Лена Баркера? — спросила я как-то у Годфри.
— Да, миссис Долли,— ответил он,— и не просите меня относиться к нему иначе.
— Но он мой родственник,— возразила я.— Годфри, если ты любишь меня...
— Миссис Долли, я люблю вас, но его не стану любить никогда.
Мой дорогой Годфри, какое предчувствие, какая неведомая мне причина заставляет тебя так говорить?
27 ноября.
Сегодня нашим взорам предстали необъятные однообразные степи, поросшие спинифексом. Это колючая трава, справедливо названная «трава-дикобраз». Приходится идти между куртинами[272] спинифекса, достигающими порой пяти футов в высоту, и верблюды могут поранить ноги о его очень острые колючки.
Пока побеги спинифекса желтые или зеленые, их охотно поедают верблюды, но сейчас цвет изменился, и животные боятся даже прикоснуться к нему. Поход в таких условиях становится крайне трудным. Надо что-то придумать, ведь нам предстоит пройти сотни миль по равнинам, покрытым этим единственным на аридных[273] землях Центральной Австралии растением пустыни.
Жара все время усиливается, тени нет нигде. Пешие очень страдают. Даже не верится, что пятью месяцами раньше, как установил полковник Уорбертон, столбик термометра порой мог опускаться ниже нуля и крики затягивало слоем льда толщиной в палец! В такую пору речки делаются полноводными, а сейчас, сколько ни копай землю в руслах, не найдешь и капли воды.
Чтобы удовлетворить жалобы черных конвойных, Том Марикс велел им поочередно садиться на верблюдов. Я с сожалением наблюдаю, что в теперешней обстановке Лен Баркер сделался выразителем их недовольства. Конечно, этим людям можно посочувствовать: идти босиком среди спинифекса, в жару, едва выносимую даже утром и вечером, очень тяжело. Однако в любом случае негоже возбуждать у черных зависть к белым. Лен вмешивается в дела, которые его не касаются, и мне пришлось указать ему на это.
— То, что я делаю, Долли,— в общих интересах,— ответил он.
— Хочется верить,— сказала я.
— Нужно справедливо распределить нагрузку...
— Оставьте эту заботу мне, мистер Баркер,— вмешался в разговор Том Марикс,— необходимые меры будут приняты.
Лен Баркер пошел прочь, унося с собой плохо скрываемое раздражение; я видела, как он бросил на нас недобрый взгляд. Джейн тоже это заметила. Когда глаза ее мужа остановились на ней, бедная женщина отвернулась.
Том Марикc пообещал сделать все, что в его силах, чтобы у конвойных, белых и черных, не было ни малейших поводов для жалоб.
5 декабря.
Во время привалов мы жестоко страдаем от термитов. Их не видно под слоем мелкого песка, но стоит только сделать шаг, как насекомые вылезают наружу.
«Уж на что у меня кожа толстая и грубая, словно у акулы, но и ею эти проклятые твари не брезгуют!» — сказал как-то Зак Френ. Но даже шкура животных недостаточна толста, чтобы не реагировать на укусы термитов. Едва мы растянемся на земле, как мириады[274] этих насекомых набрасываются на нас. Избавиться от них можно, лишь подставив себя под прямые солнечные лучи: термиты не выдерживают их жара. А это значит сменить плохое на худшее.
Кажется, меньше всех страдает от термитов китаец. Может, он слишком ленив, чтобы назойливые насекомые могли вывести его из состояния апатии? Ума не приложу; но в то время, как мы в ярости бегаем с места на место, счастливчик Чжин Ци лежит себе, не шелохнувшись, в тени спинифекса и мирно дремлет, словно эти зловредные создания щадят его желтую кожу.
Джос Меритт тоже проявляет спокойствие, и хотя его долговязое тело представляет для нападающих большое поле деятельности, он не жалуется. Обе его руки регулярно, точно автоматы, поднимаются и опускаются, давя тысячи муравьев, а он при этом смотрит на своего не подверженного никаким укусам слугу и говорит:
— Поистине эти китайцы — редкостные баловни природы. А, Чжин Пи?
— Что, мой господин Джос?
— Нам нужно поменяться кожей!
— Охотно,— отвечает выходец из Поднебесной,— если одновременно я поменяю свое положение на ваше, а вы — на мое.
— Славно... Да!.. Очень славно! Но, чтобы произвести такой обмен, надо сперва содрать кожу с одного из нас, и начнут непременно с вас...
— Мы вернемся к этому разговору при третьей луне,— ответил Чжин Ци.
И он вновь заснул сном праведника и проспал до того момента, когда караван уже приготовился продолжить путь.
10 декабря.
Причиняемые термитами мучения заканчиваются для нас лишь тогда, когда Том Марикс дает сигнал к отправлению. Хорошо еще, что они не ползают по ногам верблюдов. Пешие же конвойные никогда не могут полностью избавиться от этих невыносимых насекомых.
Но даже во время движения мы остаемся объектами нападения иного рода врагов — не менее отвратительных москитов, одного из самых грозных бичей Австралии. От их укусов, особенно в сезон дождей, скот тощает, хиреет, случается даже падеж, как если бы на него напала какая-нибудь болезнь, и ничего поделать нельзя.
И все же чего бы мы только сейчас не отдали, чтобы наступил влажный сезон! По правде говоря, муравьи и москиты — ничто в сравнении с муками жажды, которые причиняет жара, царящая в Австралии в декабре. Недостаток воды ведет к упадку физических и духовных сил. А ее запасы у нас иссякают, бочонки отзываются пустотой! В последний раз их наполнили какой-то теплой мутной жидкостью из крика, которой невозможно утолить жажду.
Скоро мы будем походить на кочегаров-арабов, что работают на пароходах, идущих через Красное море: бедняги падают почти без чувств у топок своих котлов. Куда ни кинь взгляд — всюду голая плоская равнина простирается до самого горизонта. Все та же необъятная степь, покрытая сухим спинифексом, корни которого глубоко уходят в песок. Ни деревца вокруг, ни единой приметы, указывающей на наличие колодца или иного источника воды.
16 декабря.
Сегодня караван за два этапа не прошел и девяти миль. Впрочем, я уже несколько дней отмечаю, что средняя скорость движения у нас заметно снизилась. Хоть наши верблюды и сильные, идут они вяло, особенно те, что везут походное снаряжение.
Том Марикс очень сердится, когда видит, как люди останавливаются прежде, чем он даст сигнал к привалу. Он подходит к верблюдам и бьет их хлыстом. Но удары эти не имеют никакого действия. Джос Меритт высказался по этому поводу с присущей ему невозмутимостью: «Славно!.. Да!.. Очень славно, мистер Марикс! Но я дам вам хороший совет: хлестать надо не верблюдов, а погонщиков».
Не вмешайся я, Том Марикс воспользовался бы его советом. Как бы то ни было, поостережемся усугублять тяготы, которые испытывают наши люди, дурным обращением. В конце концов кто-то из них может и сбежать. Боюсь, что это произойдет, в особенности если такая идея придет в голову черным конвойным, хотя Том Марикс не перестает меня на сей счет успокаивать.
С 17 по 24 декабря.
Вот в каких условиях проходит наше путешествие.
В начале недели погода изменилась: сильнее подул ветер, на севере появились кучевые облака. Они были похожи на гигантские бомбы, готовые разорваться от одной искры.
В тот день, 23-го числа, наконец прорезав небосвод, сверкнула молния. Вспышки, однако, не сопровождались долгими раскатами, которые в гористой местности обыкновенно усиливаются эхом. В то же время атмосферные потоки пришли в такое неистовство, что мы не могли оставаться верхом. Нам пришлось слезть с верблюдов и даже лечь на землю. Заку Френу, Годфри, Тому Мариксу и Лену Баркеру немалого труда стоило уберечь нашу кибитку от яростных порывов ветра. О том, чтобы ставить палатки между куртинами спинифекса, нечего было и думать: в одно мгновение все лагерное имущество было бы изодрано.
— Это ерунда,— потирая руки, сказал Зак Френ.— Бури скоро проходят.
— Да здравствует буря, если она несет с собой воду! — воскликнул Годфри.
Годфри был прав. «Воды! Воды!» — кричали мы. Но будет ли дождь?..
Воздух был настолько сух — о чем свидетельствовали на редкость непродолжительные раскаты грома,— что вода, содержащаяся в облаках, могла остаться в виде пара и так и не выпасть на землю. И все же в ту минуту трудно было вообразить себе более сильную бурю, более ослепительное и оглушительное чередование молний и громовых ударов.
Тут я воочию смогла наблюдать то, что мне рассказывали прежде: отношение аборигенов к подобным явлениям природы. Они не боялись грома, не дрожали и не закрывали глаза при вспышке молнии. Наоборот, наши черные конвойные радостно восклицали, совсем не ощущая того, что ощущает всякое живое существо, когда атмосфера насыщена электричеством, когда молнии раздирают небеса, озаряя их ослепительным светом.
Определенно, нервная система у аборигенов малочувствительна. Но может, они приветствовали в этой буре ливень?.. Сказать по правде, наше такое упорное ожидание дождя походило на танталовы муки[275].
— Миссис Долли... миссис Долли,— говорил мне Годфри,— ведь там над нашими головами вода, хорошая, чистая, небесная вода! Молнии вспарывают тучи, но из них ничего не выливается!
— Чуточку терпения, дитя мое,— отвечала я,— не будем отчаиваться...
— Смотрите-ка, тучи сгущаются,— сказал Зак Френ.— Вот если бы ветер стих и весь этот грохот закончился бы ливнем!
В самом деле, более всего пугало то, что ветер унесет тучи на юг, не пролив на нас ни капли воды...
К трем часам пополудни стало казаться, что на севере горизонт начал светлеть. Неужели дождя так и не будет?!
«Славно!.. Да!.. Очень славно!» — бросил Джос Меритт свое обычное восклицание. Никогда еще эти слова не были так к месту: наш англичанин, вытянув руку, констатировал, что на нее упало несколько крупных капель дождя. И вскоре хлынул настоящий ливень.
Мы хорошенько закутались в каучуковые плащи. Потом, не теряя ни минуты, расставили на земле все имеющиеся у нас емкости, чтобы собрать благодатную воду и даже расстелили на земле белье, ткани, одеяла — все, что могло вобрать в себя воду, из чего ее можно будет потом выжать и напоить верблюдов.
Уже во время ливня животные могли утолить жажду. Между куртинами спинифекса быстро образовались ручейки и лужи. Равнина грозила превратиться в обширное болото. Воды хватало на всех. Мы спешили насладиться ее обилием, ведь иссушенная земля впитает влагу, точно губка, а показавшееся солнце не замедлит превратить в пар последние капли благословенного дождя.
Наконец-то нам удалось обеспечить себя водой на несколько дней. Люди воспряли телом и душой. И верблюды не преминули заполнить свой внутренний, природой данный резервуар, в котором они могут запасать воду на некоторое время. Удивительно, но этот резервуар вмещает около четырнадцати галлонов воды.
К сожалению, дожди в Австралии в разгар жаркого сезона — редкость. Опрометчиво полагаться на такой благоприятный случай в будущем. Ливень шел всего лишь три часа, и раскаленные русла криков очень скоро впитали посланную им с небес влагу. Колодцы, правда, будут хранить в себе воду гораздо дольше. Хорошо, если этот ливень пройдет не в одном только месте. Надеемся, что он напоит пустынную австралийскую равнину на протяжении нескольких сот миль.
29 декабря.
Следуя почти в точности маршрутом полковника Уорбертона, наш караван без каких-либо новых происшествий достиг Уотерлу-Спрингс, что в сорока милях от горы Либиг. Экспедиция теперь находится на сто двадцать шестом градусе долготы, как установили по карте Том Марикc и Годфри. Мы только что пересекли условную границу, обозначенную на карте прямой линией, проведенной с юга на север, и отделяющую соседние провинции от обширной части континента, именуемой Западной Австралией.
Такие наблюдения содержались в дневнике миссис Бреникен, еще несколько выдержек из которого будут приведены ниже. Страницы эти знакомят со страной лучше, нежели самое точное описание, на них подробно рассказывается о страшных испытаниях, которые готовит пустыня всякому, кто отважится в нее проникнуть.
Глава X ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВЫДЕРЖЕК ИЗ ДНЕВНИКА МИССИС БРЕНИКЕН
30 декабря.
Придется провести двое суток в Уотерлу-Спрингс. Эти задержки удручают меня, когда я думаю о том, сколько еще миль отделяют нас от долины реки Фицрой. И кто знает, может быть, поиски племени инда поведут нас дальше? Как жил мой бедный Джон с того дня, когда Гарри Фелтон покинул его? Не отомстят ли ему аборигены за исчезновение товарища?.. Эта мысль разбивает мне сердце!
— Раз в течение стольких лет капитана Джона и Гарри Фелтона держали в плену, значит, у аборигенов есть в этом какой-то свой интерес,— пытаясь успокоить меня, говорил Зак Френ.— Ведь Фелтон дал вам понять, мадам, что аборигены признали в капитане Джоне белого вождя, очень ценного человека, и они ждут случая получить за него соответствующий выкуп. По моему разумению, побег компаньона не должен пагубно отразиться на положении капитана Джона.
Дай Господи, чтобы это действительно было так!
31 декабря.
Сегодня завершается 1890 год. Минуло пятнадцать лет с тех пор, как «Франклин» вышел из порта Сан-Диего. Пятнадцать лет! А наш караван только четыре месяца и пять дней как покинул Аделаиду! Новый год начинается для нас в пустыне, как-то он закончится?..
1 января.
Мои друзья не захотели, чтобы этот день прошел без поздравлений с Новым годом. Все наши люди обступили меня и сердечно поздравили. Я говорю «все», исключая, однако, черных конвойных, которые не упускают случая, чтобы выразить свое недовольство. Тому Мариксу стоит большого труда удерживать их в рамках.
Лен Баркер говорил со мной, по обыкновению, холодно. Будучи уверенным в успехе нашего предприятия, он все же задается вопросом, стоит ли идти к реке Фицрой. По его мнению, кочевников инда чаще можно встретить в соседних с Квинслендом областях, иными словами, на востоке материка. Правда, добавляет Лен, мы идем к тому месту, где Гарри Фелтон оставил своего капитана. Но кто поручится, что инда не ушли в другие края... Все это произносится тоном, не внушающим доверия: так обычно говорят люди, когда не смотрят вам в глаза.
Меня тронуло внимание, проявленное Годфри. Он собрал букет полевых цветов, что растут между куртинами спинифекса, и преподнес мне его с таким чувством и сказал при этом такие нежные слова, что у меня на глаза навернулись слезы. Я обняла и поцеловала моего Годфри... Отчего-то мне вновь пришла в голову мысль, что моему Уотику было бы сейчас столько же лет и он был бы таким же, как Годфри?..
Джейн находилась рядом. Видя эту сцену, она очень разволновалась и побледнела. Я испугалась, как бы бедняжка не упала в обморок. Но ей удалось справиться с собой, и муж увел ее. Я не смела ему помешать.
Мы возобновили путь в тот же день, в четыре часа вечера. Погода была пасмурной, жара немного уменьшилась. Верблюды, достаточно отдохнувшие, шли гораздо быстрее. Пришлось их даже сдерживать, чтобы пешие поспевали за ними.
13 января.
В течение нескольких дней караван двигался довольно быстро. Еще два или три раза пролили обильные дожди, и мы снова пополнили свои питьевые запасы. Когда речь идет о путешествии в глубь этих пустынь, проблема воды становится самой важной и самой пугающей из всех проблем. Она заботит постоянно. Похоже, колодцев на нашем маршруте действительно мало, что было установлено полковником Уорбертоном во время его похода, закончившегося у западной границы Земли Тасмана.
Теперь мы живем исключительно на припасах. Охотой их уже не сэкономишь: дичь не водится в этих угрюмых пустынных краях. Здесь можно встретить разве что стаи голубей, но к ним не приблизишься: они отдыхают между куртинами спинифекса после долгого полета, когда не имеют сил лететь дальше.
То тут, то там, затерянные среди бескрайних равнин, порхают воробышки, но тех усилий, которые нужно приложить, чтобы поймать их, они не стоят. Ну и ладно, провизии нам хватит на много месяцев — в этом отношении я спокойна. Зак Френ внимательно следит за тем, чтобы консервы, мука, чай, кофе расходовались с умом и распределялись поровну. Мы все подчиняемся общему порядку. Исключений нет ни для кого. Черные конвойные не могут пожаловаться, что белые находятся в лучших условиях, чем они.
По-прежнему мириады термитов мучают нас в часы привалов. Что касается москитов, то для них здесь слишком сухо. «Они вновь появятся во влажных местах»,— сказал Том Марикc. Ну что ж, укусы этих кровососов не слишком дорогая цена за воду, которая их привлекает.
Днем 23 января караван достиг Мэри-Спрингс, что в девятистах милях от Уотерлу. Здесь мы увидели группку хиреющих деревец. Это были эвкалипты, высосавшие всю влагу из земли и уже наполовину засохшие. «Листья у них висят, словно пересохшие от жажды языки»,— сказал Годфри. Очень точное сравнение.
По всему видно, что этот парнишка, пылкий и решительный, отнюдь не утратил свойственной его летам веселости. Тяготы не вредят здоровью Годфри — чего я опасалась, поскольку он вступил в подростковый возраст. Ах, как же он похож на моего дорогого Джона! Тот же взгляд, когда глаза его устремлены на меня, та же манера говорить, выражать свои мысли... Однажды мне захотелось обратить внимание Лена Баркера на эту особенность.
— Да нет же, Долли,— отвечал он мне.— Уверяю вас, я никакого сходства не нахожу. По-моему, оно существует исключительно в вашем воображении. Но это в конце концов не столь важно, и, если вы по этой причине испытываете интерес к мальчику...
— Нет, Лен, я прониклась горячей симпатией к Годфри, когда увидела, с какой страстью он относится к тому, что составляет цель моей жизни: отыскать и спасти Джона. Он умолял меня разрешить ему участвовать в экспедиции, и я, растроганная его настойчивостью, согласилась. И потом, это один из моих детей из Сан-Диего, один из тех несчастных сирот, что выросли в Уот-хаус. Годфри словно родной брат моего Уота...
— Знаю, Долли, знаю,— отвечал Лен Баркер,— и я вас в какой-то степени понимаю. И пусть небо сделает так, чтобы вам не пришлось раскаиваться в поступке, продиктованном более чувствами, нежели разумом.
— Не нравится мне, когда вы так говорите, Лен Баркер,— резко сказала я.— Меня обижают подобные замечания. В чем вы можете упрекнуть Годфри?
— О! Ни в чем... пока ни в чем. Но кто знает, может быть, потом он захочет злоупотребить вашей слишком выраженной к нему любовью? Подкидыш... Неизвестно, кто он такой, чья кровь течет в его жилах...
— Кровь мужественных и честных людей, ручаюсь вам! — воскликнула я.— На «Брисбене» его все любили, от начальников до товарищей, и, как сказал мне капитан, Годфри не получал ни одного нарекания! Зак Френ, который в этих делах кое-что смыслит, прекрасного мнения о мальчике! Скажите мне, Лен, почему вы не любите этого ребенка?
— Я?.. Да я никак к нему не отношусь!.. Он мне безразличен, только и всего. Что касается дружбы, то не в моих правилах дарить ее первому встречному; я думаю только о Джоне, о том, как вырвать его из рук аборигенов...
Если Лен Баркер хотел упрекнуть меня, то его упреки необоснованны. Я не забыла мужа, я просто счастлива мыслью, что Годфри вместе со мной приложит усилия к его спасению. Уверена, Джону понравится мой приемный сын, он полюбит его всей душой.
Когда я передала этот разговор Джейн, бедняжка понурила голову и ничего не сказала. Мне понятна ее сдержанность: так ей велит долг. Она не хочет, не может хулить своего супруга.
29 января.
Мы пришли на берег небольшого озера, похожего на лагуну. Том Марикc решил, что это Лейк-Уайт, «белое озеро», еще один остаток внутреннего моря, делившего некогда Австралию на два больших острова. Озеро оправдывает свое название, поскольку вместо испарившейся воды его дно покрывает соляной пласт. Зак Френ пополнил наши запасы соли, но лучше бы мы обнаружили питьевую воду.
В окрестностях полно крыс (они меньше, чем обычные крысы). Приходится оберегать себя от их нападения. Эти необычайно прожорливые звери грызут все, до чего могут добраться.
Черные конвойные, напрочь лишенные брезгливости и предрассудков белых, ухитрились изловить несколько дюжин крыс, выпотрошили, изжарили и с удовольствием съели их отвратительное мясо. Нет, нужно просто умирать с голоду, чтобы решиться отведать эдакой пищи. Не дай, Господи, нам дойти до такого!
На протяжении последних двадцати миль местность постепенно менялась. Куртины спинифекса сделались менее густыми — эта скудная растительность понемногу исчезает. Сейчас мы находимся на границе Большой Песчаной пустыни. Глядя на бескрайнюю всхолмленную равнину, покрытую красным песком, на которой нет даже следов от какого-нибудь русла, думаешь о том, что здесь, наверное, никогда, даже в зимнее время года, не бывает дождей.
Мы смотрели на эту удручающую картину, на эту грозную сушь — и всех нас охватывали самые мрачные предчувствия. Том Марикc показал мне Большую Песчаную пустыню на карте: белое пространство, исчерченное маршрутами Джайлса и Гибсона. На севере извилистый путь полковника Уорбертона свидетельствует о неуверенных попытках путешественника найти колодец. Здесь его больные изголодавшиеся люди вконец обессилели... Там пали животные, был при смерти сын полковника... Лучше не читать рассказа о его путешествии, если намереваешься пройти по тому же пути. Самые бесстрашные отступят... Но я прочла эти записки, да и теперь часто перечитываю их. Я не поддамся страху. То, на что решился Уорбертон ради изучения Австралийского континента, я сделаю ради спасения Джона.
3 февраля.
Вот уже пять дней, как мы вынуждены идти очень медленно. Сколько теряется времени на этом длинном пути! Ничто не вызывает большей досады. Наш караван из-за неровностей местности не может двигаться напрямик. Сильнохолмистый рельеф порой заставляет нас подниматься и спускаться по очень крутым склонам. То и дело попадаются дюны, и верблюдам приходится обходить их. Встречаются и песчаные холмы высотой до ста футов, отстоящие друг от друга на шестьсот — семьсот футов. Пешие увязают ногами в песке, и движение становится крайне затруднительным.
Жара изнуряющая. Невозможно даже представить себе, с какой силой солнце жжет своими лучами землю. Словно тысячи огненных стрел разом пронзают тебя. Джейн и я с трудом можем дышать под пологом кибитки. А как должны страдать наши спутники во время утренних и вечерних переходов! Зак Френ, хоть и крепкий человек, изнемогает от усталости, но верный мой друг не жалуется, он не утратил присутствия духа.
Джос Меритт переносит испытания спокойно и мужественно, его выносливости можно позавидовать. Чжин Ни, менее терпеливый, стонет, но ему не удается разжалобить своего господина. Подумать только, эти чудаки подвергают себя тяжким испытаниям ради того, чтобы заполучить шляпу!
— Славно!.. Да!.. Очень славно! — отвечает он, когда ему говорят об этом.— Но какую редкостную шляпу!
— Старый шутовской колпак! — ворчит Зак Френ и пожимает плечами.
— Рвань, которую и на ноги-то не захочешь надеть,— не преминет добавить Чжин Ци.
Днем, с восьми часов до четырех, невозможно сделать ни шагу. Лагерь разбиваем где придется, ставим две или три палатки. Конвойные, белые и черные, укладываются, как могут, в тени верблюдов. Страшит то, что скоро у нас не останется воды. А если мы найдем высохшие колодцы? Том
Марикс крайне обеспокоен, хоть и старается не подавать виду. И напрасно, лучше ничего от меня не скрывать. Я ко всему готова и не поддамся слабости...
14 февраля.
За последние одиннадцать дней дождь шел всего только два часа. Мы едва смогли наполнить наши бочонки, люди едва утолили жажду, а верблюды едва сделали собственные запасы воды. Мы прибыли в Эмили-Спринге, где источник совершенно высох. Животные обессилели. Джос Меритт, не зная, как заставить своего верблюда идти, пытается воздействовать на него лаской. Можно слышать, как он говорит ему: «Ну же! Я знаю, тебе трудно, но не стоит унывать, бедная моя скотинка!» Бедная скотинка, похоже, плохо понимает своего хозяина.
Мы снова трогаемся в путь, обеспокоенные более, чем когда-либо. Два верблюда больны. Они еле тащатся и не смогут продолжать путь. Провизию, которую вез вьючный верблюд, пришлось переложить на верхового, его забрали у одного из конвойных. Хорошо еще, что верблюд-вожак под Томом Мариксом до сего дня пребывает в полной силе. Без него все остальные животные, в особенности самки, разбежались бы и мы ничего не смогли бы сделать.
Нужно прикончить сраженных болезнью животных. Оставить несчастных подыхать от голода и жажды, в тисках долгой агонии, было бы куда более жестоко, чем одним выстрелом прекратить их мучения. Караван удаляется, огибая песчаный холм. Раздаются два выстрела... Том Марикс догоняет нас, путешествие продолжается.
Печальнее всего то, что состояние здоровья двух наших людей внушает серьезные опасения. Их бьет лихорадка, и мы не жалеем для них хинина, в достатке имеющегося в нашей походной аптечке. Но больных терзает жестокая жажда. Запасы воды уже иссякли, а надеяться на то, что где-то поблизости есть колодец, увы, не приходится.
Каждый больной лег на спину верблюду, которого ведет кто-то из конвойных. С людьми невозможно поступить так, как с животными. Наш долг — ухаживать за ними, и мы его выполним. Но беспощадная жара постепенно доканывает их...
Том Марикс, несмотря на то что он привычен к тяготам существования в пустыне, не знает, что делать. Воды!.. Воды!.. Только этого мы просим у неба.
Лучше всех переносят непомерную жару, усталость и жажду черные конвойные. Но хотя они меньше всех страдают, их недовольство растет день ото дня. Напрасно Том Марикс пытается сгладить все конфликты. Самые возбужденные из недовольных во время привалов держатся в стороне, сговариваются, горячатся,— словом, налицо признаки надвигающегося бунта.
21 февраля.
Черные конвойные отказались продолжать поход в северо-западном направлении, выставив в качестве причины то, что они умирают от жажды. Причина, увы, более чем серьезная: вот уже полсуток в наших бочонках нет ни капли воды. Мы вынуждены пить спиртное, что скверно влияет на голову.
Мне пришлось самой вступить в переговоры с аборигенами, упорно стоящими на своем. Нужно было убедить их, что остановка в пути, да еще в таких условиях, не положит конца их тяготам.
— Поэтому,— отвечал мне один из конвойных,— мы хотим вернуться назад.
— Назад?.. Но до какого места?
— До Мэри-Спрингс.
— В Мэри-Спрингс нет больше воды, и вы это прекрасно знаете,— ответила я.
— Если в Мэри-Спрингс нет воды,— продолжал абориген,— мы найдем ее немного выше, у горы Уилсон, там течет Стёрт-Крик.
Я взглянула на Тома Марикса. Он пошел за специальной картой, где подробно обозначена Большая Песчаная пустыня. Мы посмотрели в карту. Действительно, к северу от Мэри-Спрингс есть довольно большая река, которая, возможно, не совсем еще высохла. Но откуда конвойный мог знать о ней? Я задала ему этот вопрос. Он вначале поколебался, но в конце концов ответил, что о реке им сказал мистер Баркер. От него же исходило предложение подняться к Стёрт-Крик.
Я была как нельзя более раздражена тем, что Баркер имел неосторожность — только ли неосторожность? — подстрекать конвойных повернуть на восток. Следствием этого будут не только задержки, но и существенное изменение маршр\та, который уведет нас в сторону от реки Фицрой.
Я без обиняков поговорила с Леном.
— Чего вы хотите, Долли? — сказал он мне.— Уж лучше идти с задержками и в обход, чем упорно следовать по пути, где нет колодцев.
— В любом случае, мистер Баркер,— резко сказал Зак Френ,— вы должны были высказать ваши соображения миссис Бреникен, а не конвойным.
— Вы так ведете себя с нашими черными, что я уже не могу держать их в руках,— добавил Том Марикс.— Кто у них начальник, вы или я?
— Ваши замечания неуместны, сэр! — возразил Лен Баркер.
— Уместны или неуместны, но они вызваны вашим поведением, и вам следует принять их во внимание!
— Кроме миссис Бреникен, мне никто не может здесь приказывать!
— Хорошо, Лен Баркер,— ответила я,— впредь, если у вас появятся какие-нибудь критические замечания, прошу их высказывать мне, а не кому-либо другому.
— Миссис Долли, — сказал тут Годфри,— хотите, я поеду вперед и поищу колодец? В конце концов можно найти...
— ...Колодцы без воды! — проворчал Лен* Баркер, пожав плечами.
Легко представить себе, что чувствовала Джейн, присутствовавшая при этом разговоре. Поведение ее мужа, подрывающее согласие в экспедиции, может причинить нам серьезнейшие осложнения. Нам с Томом Мариксом насилу удалось убедить аборигенов отказаться от намерения вернуться назад. Тем не менее они заявили, что, если в течение двух суток мы не найдем колодец, они повернут к Мэри-Спрингс, чтобы достичь Стёрт-Крик.
23 февраля.
Какие невыразимые страдания мы испытывали в следующие два дня! Состояние наших больных ухудшилось. Еще три верблюда — два верховых и один вьючный — упали, чтобы больше уже не подняться: шеи их вытянулись на песке, животные не могли сделать ни малейшего движения. Пришлось пристрелить несчастных. Теперь четверо белых конвойных вынуждены пешими продолжать путь, очень трудный даже для тех, кто едет верхом.
Ни одного человеческого существа еще не встретилось нам в Большой Песчаной пустыне, ни одного австралийца с Земли Тасмана, который мог бы сказать, как обстоит дело с колодцами. Очевидно, наш караван отклонился от маршрута полковника Уорбертона: ему не доводилось идти так долго и не иметь при этом возможности пополнить запасы воды.
Наконец сегодня, по окончании первого этапа, мы смогли утолить жажду. Годфри нашел неподалеку колодец. Тотчас наше небольшое общество оживилось. Верблюды поднялись, словно тот, что был под Годфри, сообщил им: «Вода!.. Вода!»
Через час караван остановился под высохшей кроной деревьев, затеняющих колодец. К счастью, это были пятнистые, а не другие виды эвкалиптов, которые выпили бы из него всю воду!
Следует, однако, заметить, что довольно многочисленный отряд людей способен в одну минуту осушить колодец, находящийся в австралийской пустыне. Воды в нем совсем немного, притом до нее еще нужно добраться через слой песка. Эти колодцы — естественные впадины, образующиеся в зимний дождливый сезон. В глубину они уходят чуть больше, чем на пять-шесть футов; этого достаточно, чтобы вода, защищенная от солнечных лучей, не испарялась даже во время долгой летней жары.
Иногда возле таких природных резервуаров не растет никаких деревьев, и ничего не стоит пройти вблизи колодца, не увидев его. Вот почему нужно очень внимательно осматривать местность. Этот очень верный совет дает полковник Уорбертон, и мы к его совету прислушались.
На сей раз Годфри повезло. Колодец, возле которого мы стали лагерем в одиннадцать часов утра, содержал больше воды, чем требовалось нам, чтобы напоить верблюдов и наполнить бочонки. Вода была прозрачной, поскольку просачивалась сквозь песок, и свежей, так как впадина находилась у подножия высокой дюны и в нее не проникали прямые солнечные лучи.
С наслаждением каждый из нас припал к этому подобию водоема. Пришлось даже призывать людей не пить много, иначе они могли бы заболеть.
Невозможно вообразить себе, какое благотворное действие оказывает на человека вода, если только он не слишком долго был мучим жаждой. Результат проявляется немедленно: наиболее ослабевшие встают на ноги, тотчас возвращаются физические силы, а с ними — и духовные. Человек мало сказать оживает — он как бы заново рождается!
На следующий день, с четырех часов утра, караван вновь двинулся в путь, стремясь как можно скорее достичь Джоан-на-Спрингс, который отделяют от Мэри-Спрингс примерно сто девяносто миль.
Этих нескольких выдержек из дневника миссис Бреникен достаточно, чтобы показать, что воля и энергия не покидали эту женщину ни на минуту. А теперь поведем далее рассказ о путешествии, во время которого еще произойдет много неожиданных событий, кои будут иметь очень важные последствия.
Глава XI СВЕДЕНИЯ И ПРОИСШЕСТВИЯ
Как записано в дневнике миссис Бреникен, к людям вернулись вера и силы. Пищи имелось достаточно: ее запасли на много месяцев. Проблемы возникали только с водой, но после найденного Годфри колодца ее было предостаточно. Правда, приходилось по-прежнему переносить изнуряющую жару, дышать раскаленным воздухом, двигаясь по бесконечным равнинам, где нет ни деревца, ни тени.
Мало найдется путешественников, могущих без вреда для себя терпеть всеистребляющее пекло,— если только они не уроженцы Австралии. Там, где абориген выстоит, иноземец упадет в изнеможении.
Караван по-прежнему двигался на северо-запад, с большим трудом преодолевая все те же красные песчаные дюны и тянущиеся параллельно друг другу гряды. Создавалось впечатление, что земля эта выжжена огнем и ее яркий цвет, еще усиливающийся от солнечных лучей, беспрестанно обжигает глаза. Песок был настолько раскален, что белые люди не могли ступать по нему босыми ногами. Что до черных, то, благодаря загрубевшей коже на ногах, они шли свободно, не чувствуя никакой боли. Здесь у них не было повода для жалоб, но тем не менее их злая воля делалась все более очевидной. Если бы Том Марикс, опасаясь, что придется защищаться от каких-нибудь кочевников, не стремился сохранить конвой в полном составе, он наверняка попросил бы миссис Бреникен уволить черных конвойных.
Мужественный начальник конвоя, видя, как тяготы и лишения, неизбежные для такого рода экспедиции, растут, порой говорил себе, что они преодолеваются впустую, но в такие минуты ему удавалось хорошо владеть собой, дабы не выдать собственных мыслей. Один только Зак Френ догадывался, о чем он думает, и даже обижался на него за неверие.
— В самом деле, Том,— сказал он ему как-то,— я и не подозревал, что вы способны падать духом!
— Падать духом?.. Вы ошибаетесь, Зак. Во всяком случае, мне хватит смелости до конца выполнить свою задачу. Пугает не пустыня, а вероятность того, что, пройдя ее, мы будем вынуждены ни с чем вернуться туда, откуда пришли.
—- Так, стало быть, по-вашему, капитан Джон погиб после побега Гарри Фелтона?
— Не знаю, Зак, да и вам известно не больше моего.
— Нет, я знаю, и знаю так же точно, как то, что корабль кренится на правый борт, если переложить руль влево!
— Вы, Зак, подобно миссис Бреникен и Годфри, принимаете желаемое за действительное. Хотелось бы, чтобы это было так. Но капитан Джон, если жив, находится в руках у инда, а где они?
— Они там, где они есть, Том, и именно туда пойдет караван, даже если ему придется еще полгода двигаться против ветра. Черт побери! Когда нельзя сделать поворот оверштаг[276], поворачивают через фордевинд[277], но всегда судно возвращается на свой маршрут.
— На море, когда известен пункт назначения,— да, Зак. Но разве кто-нибудь из нас знает, куда надо идти?
— Мы это узнаем, если не будем впадать в отчаяние.
— Да я не отчаиваюсь, Зак!
— Отчаиваетесь, Том, и, что еще хуже, перестаете это скрывать. Плох тот капитан, который не прячет своей обеспокоенности и повергает в уныние команду. Следите за своим лицом, Том,— не для миссис Бреникен, ее ничто не в силах поколебать, но для наших белых конвойных! Если они начнут действовать заодно с черными...
— Я ручаюсь за них, как за себя.
— А я ручаюсь за вас, Том! И не будем говорить о спуске флага, пока стоят мачты!
— Если кто и говорит об этом, то только мистер Баркер.
— Ох, Том, если б распоряжаться пришлось мне, то этот тип давно бы сидел в самом дальнем углу трюма с ядром на каждой ноге![278] Пусть поостережется, я с него глаз не спускаю!
Зак Френ правильно поступал, наблюдая за Леном Баркером. Если в экспедиции начнется смятение, это будет делом его рук; именно он подстрекал черных конвойных к бунту, и тут таилась одна из причин, грозившая помешать успеху предприятия. Но не будь ее, Том Марикс все равно не питал бы надежд на возможность отыскать инда и вызволить капитана Джона из плена.
Конечно, нельзя сказать, что караван, направляясь в район реки Фицрой, шел совсем уж наугад. Тем не менее обстоятельства, война например, могли заставить инда уйти с Земли Тасмана. Племена, порой насчитывающие от двухсот пятидесяти до трехсот душ, редко живут между собой в мире. Существуют застарелая ненависть и соперничество, требующие пролития крови.
Надо сказать, что у каннибалов война — это охота; враг — не только враг, он еще и дичь: победитель съедает побежденного. Отсюда стычки, преследования, перемещения с места на место, порой на далекие расстояния. Вот почему важно было узнать, не ушли ли инда в другие края, а узнать об этом можно, лишь повстречав какого-нибудь австралийца, идущего с северо-запада.
Именно поисками такого вот аборигена и занимались Том Марикс и помогавший ему Годфри, который, несмотря на наставления и даже приказания миссис Бреникен, нередко удалялся от каравана на много миль. Если он не искал колодец, значит, искал аборигена, впрочем, пока безрезультатно — край был совершенно безлюден. Да и какое человеческое существо, пусть даже грубое и неприхотливое, смогло бы долго переносить тяготы здешнего климата? Кочевать вблизи телеграфной линии — на такое еще аборигены отваживались, но и в этом случае они обрекали себя на тяжкие испытания.
Наконец, девятого марта, около половины десятого утра, невдалеке послышался характерный крик.
— Где-то поблизости аборигены,— сказал Том Марикс.
— Неужели? — удивилась Долли.
— Да, мадам, именно так они обычно кричат друг другу.
— Попробуем подойти к ним,— сказал Зак Френ.
Караван прошел вперед с сотню шагов, и Годфри увидал двух черных. Захватить их — дело нелегкое, поскольку австралийцы, едва завидев белых, пускаются наутек. Эти двое пытались скрыться за высокой красноватой дюной между куртинами спинифекса. Но конвойным удалось окружить их и привести к миссис Бреникен.
Одному из них было лет пятьдесят; другому, его сыну,— лет двадцать. Оба держали путь на станцию близ озера Вудс, относящуюся к сети станций, обслуживающих телеграфную линию. Их быстро удалось задобрить подарками — тканями и несколькими фунтами табаку,— и они с готовностью отвечали на вопросы, которые задавал им Том Марикс, тут же переводя ответы для миссис Бреникен, Годфри, Зака Френа и остальных.
Вначале австралийцы сообщили, куда они направляются, что, впрочем, мало интересовало наших путников. Затем Том Марикс спросил, откуда они шли,— и ответ на этот вопрос заслуживал серьезного внимания.
— Мы идем оттуда... далеко... очень далеко,— ответил отец, показав рукой на северо-запад.
— С побережья?
— Нет.
— С Земли Тасмана?
— Да. От реки Фицрой.
Именно к этой реке, как известно, и направлялся караван.
— Из какого вы племени? — спросил Том Марикс.
— Из племени гурси.
— Это кочевники?
Абориген, похоже, не понял вопроса.
— Это племя ходит от одной стоянки к другой,— разъяснял Том Марикс,— оно не живет в деревне?
— - Оно живет в деревне Гурси,— отвечал сын, производивший впечатление довольно умного человека.
— Эта деревня находится возле реки Фицрой?
— Да, на расстоянии десяти полных дней от того места, где река впадает в море.
Река Фицрой впадает в залив Кинг, и именно там в 1883 году завершился второй поход «Долли-Хоуп». Юноша сказал о десяти днях пути, следовательно, деревня находилась в сотне миль от побережья.
Годфри отметил местонахождение деревни на крупномасштабной карте Западной Австралии, на которой была обозначена вся река Фицрой, протяженностью в двести пятьдесят миль, берущая начало где-то в глубине Земли Тасмана.
— Знаете ли вы племя инда? — спросил тогда Том Марикс.
Глаза отца и сына вспыхнули, когда они услыхали это слово.
— Очевидно, инда и гурси — два враждующих племени и между ними сейчас идет война,— заметил Том Марикс, обращаясь к миссис Бреникен.
— Похоже на то,— отвечала Долли,— и очень может быть, что наши аборигены знают, где сейчас инда. Расспросите их об этом, Том, и постарайтесь добиться ясных ответов. От них, возможно, будет зависеть успех наших поисков.
Том Марикс задал вопрос, и пожилой абориген без колебаний ответил, что племя инда обитает теперь в верховьях реки Фицрой.
- А как далеко они находятся от деревни Гурси? — спросил Том Марикс.
— Идти надо двадцать дней к восходящему солнцу,— ответил юноша.
Это расстояние было перенесено на карту, и оказалось, что стойбище инда расположено примерно в двухстах восьмидесяти милях от теперешнего местонахождения каравана. Сведения, сообщенные аборигенами, соответствовали тем, что прежде были получены от Гарри Фелтона.
— Ваше племя,— продолжал Том Марикс,— часто воюет с племенем инда?
— Всегда! — ответил сын.
Интонация его голоса и сопровождающий ответ жест выдали жгучую ненависть каннибалов к враждебному племени.
— Мы будем их преследовать,— добавил отец, кровожадно лязгая зубами,— и перебьем всех, когда там не будет белого вождя и он не сможет давать им свои советы.
Легко представить себе, как разволновалась миссис Бреникен и ее спутники, когда Том Марикс перевел ответ старшего из путников. Можно ли сомневаться, что этот белый вождь — капитан Джон, столько лет находящийся в плену у инда?
По просьбе Долли Марикс принялся расспрашивать аборигенов о белом вожде. Они могли дать лишь очень расплывчатые сведения, однако утверждали, что три месяца назад, во время последнего столкновения между гурси и инда, он еще находился в племени.
— Если бы не бледнолицый[279],— воскликнул молодой австралиец,— из инда остались бы теперь одни женщины!
Итак, от аборигенов стало известно, что Джон Бреникен до сих пор находится у инда и что племя нужно искать на берегах реки Фицрой, менее чем в трехстах милях к северо-западу.
Караван стал готовиться в путь, а Джос Меритт решил переговорить с аборигенами, которых миссис Бреникен отпустила, снабдив новыми подарками. Англичанин попросил Тома Марикса задать им вопрос по поводу шляп, надеваемых вождями племени гурси и инда в торжественных случаях.
Сказать по правде, Джос Меритт, ожидая ответа, волновался не меньше Долли. Почтенный коллекционер был удовлетворен полученными сведениями. Привычное «Славно!.. Да!.. Очень славно!» слетело с его губ, когда он узнал, что шляпы иноземного происхождения совсем не редкость в племенах северо-запада. Во время больших торжеств ими обычно покрывают головы крупных австралийских вождей.
— Понимаете, миссис Бреникен,— сказал Джос Меритт,— найти капитана Джона — это очень хорошо!.. Но завладеть историческим сокровищем, из-за которого я изъездил пять частей света,— это еще лучше!
— Ну разумеется! — ответила Долли, уже привыкшая к навязчивой идее своего чудаковатого спутника.
— Вы слышали, Чжин Ни? - обратился Джос Меритт к слуге.
— Слышал, мой господин Джос,— ответил китаец. — И когда мы отыщем эту шляпу...
— Мы вернемся в Англию, в Ливерпуль, и там, Чжин Ци, я, надев на вас великолепный наряд из красного и желтого шелка, возложу одну-единственную обязанность — показывать мою коллекцию посетителям. Вы довольны?
— О, я чувствую себя цветком, раскрывающим свои лепестки ранним утром при легком дуновении ветерка,— отвечал поэтичный Чжин Ци, тряся, однако, головой с видом человека, столь же верящего в сказанное, как если бы его господин посулил ему титул.
Лен Баркер, владеющий языком аборигенов, присутствовал при разговоре Тома Марикса с двумя австралийцами, но не принимал в нем участия. Он не задал ни одного вопроса, касающегося капитана Джона, а только внимательно слушал и запоминал подробности о местопребывании инда. Взглянув на карту, он высчитал путь, который предстояло пройти, и время, за которое караван сможет пересечь Землю Тасмана.
Реально на это уйдет несколько недель — если не возникнет никаких препятствий, если не будет недостатка в средствах передвижения, если тяготы, вызванные непомерной жарой, будут успешно преодолены. Баркер, понимая, что точность сведений придаст всем мужества, ощутил в себе глухую ярость. Как?! Капитан Джон будет освобожден?! Неужели Долли удастся вырвать его из рук инда?
Лен Баркер размышлял о возможном ходе событий, и Джейн видела, как хмурится его лоб, глаза наливаются кровью, а лицо выдает роящиеся в голове гнусные мысли. Она, понимая, что надвигается катастрофа, безумно испугалась, и когда взгляд мужа остановился на ней, Джейн почувствовала, что теряет сознание...
Несчастная женщина догадалась, о чем думает этот человек, способный на любое преступление, лишь бы завладеть состоянием миссис Бреникен.
Лен и в самом деле думал о том, что если Джон и Долли соединятся, то все его планы рухнут. Рано или поздно откроется, кто такой Годфри. Чайна эта в конце концов сорвется с языка его жены, если только он не лишит ее возможности говорить. И вместе с тем Джейн была ему необходима, чтобы через нее завладеть богатством после смерти миссис Бреникен. Стало быть, нужно разлучить Джейн с Долли и потом, в целях уничтожения капитана Джона, опередить караван на пути к инда. Для такого негодяя, как Баркер, лишенного совести и готового на все, этот план был вполне осуществим; к тому же обстоятельства не замедлили прийти ему на помощь.
В тот же день, в четыре часа пополудни, Том Марикс дал сигнал к отправлению, и караван возобновил путь в обычном порядке. Прежняя усталость была забыта. Энергия, клокотавшая в Долли, передалась и ее спутникам. Экспедиция продвигалась к цели. Успех, казалось, уже не ставился под сомнение. Даже черные конвойные как будто повиновались с большей охотой. Безусловно, Том Марикс мог бы рассчитывать на этих людей вплоть до окончания похода, если бы Лен Баркер не сеял среди них зерна предательства и бунта.
Караван, бодро снявшись со стоянки, пошел приблизительно маршрутом полковника Уорбертона. Жара все усиливалась, ночи сделались очень душными. На равнине, лишенной деревьев, тень находили лишь возле высоких дюн, но затененный участок был очень мал из-за почти отвесно льющихся на землю солнечных лучей. И все же на этой широте, лежащей севернее тропика, иначе говоря, в экваториальном поясе, люди более всего страдали не от суровости австралийского климата, а от отсутствия воды.
В поисках колодцев приходилось покрывать большие расстояния, что значительно удлиняло путь. Чаще всего этим занимались всегда готовый куда-нибудь ринуться Годфри и неутомимый Том Марикс. У миссис Бреникен сжималось сердце, когда она видела их удаляющиеся фигуры. Но на ливни уже нельзя было рассчитывать — в это время года они случаются крайне редко,— на небе, ясном до самого горизонта, не было ни облачка. Напоить могла только земля.
Когда Том Марикс и Годфри находили колодец, караван устремлялся к нему. Подгоняемые жаждой люди торопили животных. И что они чаще всего обнаруживали? Илистую воду на дне кишащей крысами впадины. Черные и белые конвойные тут же принимались пить, а Долли, Джейн, Годфри, Зак Френ и Лен Баркер, проявляя осторожность, ждали, пока Том Марикс снимет верхний, загрязненный слой и, раскопав песок, извлечет более чистую воду. Только тогда утоляли жажду и наполняли бочонки; запаса должно было хватить до следующего колодца.
Так шли восемь дней — с десятого по семнадцатое марта — без каких-либо происшествий, но с достигающей уже крайних пределов усталостью. Состояние обоих больных не улучшилось, напротив, были основания опасаться смертельного исхода. Лишившийся пятерых верблюдов, Том Марикс был озабочен проблемой транспорта. Миссис Бреникен тревожилась не меньше начальника конвоя, но тщательно скрывала это. Впереди всех на этапе, позади на привале — она подавала пример высочайшего мужества, соединенного с убежденностью, которой ничто ре могло поколебать.
Чем бы только Долли не пожертвовала, чтобы избежать постоянных задержек, чтобы сократить бесконечный путь! Как-то она спросила у Тома Марикса, почему он не ведет караван прямо к верховью реки Фицрой, где, по словам аборигенов, находится последнее стойбище инда.
— Я думал об этом, миссис Бреникен, но меня сдерживает и очень тревожит все та же проблема воды,— ответил Том Марикс.— Двигаясь к Джоанна-Спрингс, мы непременно встретим несколько колодцев, отмеченных полковником Уорбертоном.
— А разве на севере их нет?
— Может, и есть, да я в этом не уверен. К тому же не исключено, что колодцы теперь высохли, а если мы будем идти на запад, то обязательно достигнем реки Оковер, на берегу которой останавливался полковник Уорбертон. Кстати, эта река не пересыхает[280], мы запасемся водой и двинемся дальше.
— Ну хорошо, Том,— сказала миссис Бреникен,— раз нужно, пойдем к Джоанна-Спрингс.
Так и было сделано, однако тяготы на этом отрезке пути превзошли все ожидания.
Хотя был уже третий месяц лета, жара стояла нестерпимая, температура держалась на отметке сорок градусов по Цельсию в тени, причем под тенью следует понимать ночное время суток. Напрасно было искать облако в небесной выси, как напрасно было искать дерево на пустынной равнине. Атмосфера была удушливой. Воды в колодцах хватало лишь на то, чтобы люди утолили жажду. За один этап едва удавалось пройти миль десять. Пешие еле передвигали ноги. Долли, Джейн и Гарриетта, сами ослабевшие, ухаживали за больными, но старания их не приносили несчастным облегчения. Как хорошо было бы остановиться, разбить лагерь возле какой-нибудь деревушки, устроить длительный отдых, подождать, пока жара хоть немного спадет... Но это было невозможно.
После полудня семнадцатого марта пали еще два вьючных верблюда, в частности один из тех, что вез товары, предназначенные для выкупа. Том Марикс был вынужден разместить поклажу на верховых верблюдах, из-за чего пришлось спешить еще двух белых конвойных.
Наконец, вечером девятнадцатого марта караван остановился милях в пяти от Джоанна-Спрингс, возле колодца, вода в котором была засыпана слоем песка толщиной в шесть футов. Не было никакой возможности продолжать путь. Жара стояла необычайная. Воздух, раскаленный, словно в печи, обжигал легкие. Очень чистое ярко-голубое небо, какое бывает в некоторых районах Средиземноморья, когда дует мистраль[281], выглядело непривычным и грозным, что сильно беспокоило Тома Марикса.
— Вам что-то не нравится? — заметив тревогу начальника конвоя, спросил Зак Френ.
— Да, Зак. Я ожидаю самум[282], наподобие того, что свирепствует в африканских пустынях,— ответил Том Марикс.
— Вот и хорошо... Ветер... значит, и вода,— рассудил боцман.
— Вовсе нет, Зак, это значит еще более страшная сушь, и неизвестно, на что способен самум в центре Австралии!
Такие слова из уст сведущего человека не на шутку встревожили миссис Бреникен и ее спутников. В ожидании непогоды были приняты кое-какие меры. Часы показывали девять вечера. Палаток посреди песчаных дюн решили не ставить, в такие жаркие ночи они не нужны. Утолив жажду, каждый взял свою порцию провизии. Но люди не хотели есть. Желудок страдал меньше, чем органы дыхания, и все мечтали лишь о прохладе. Несколько часов сна принесли бы измученным людям больше пользы, чем несколько кусков пищи. Но возможно ли было спать в такой удушливой, точно разряженной атмосфере?
До полуночи ничего необычного не произошло. Том Марикс, Зак Френ и Годфри по очереди несли дежурство. То один, то другой вставали, чтобы осмотреть северную часть горизонта. Небо на севере было чистое, и чистота эта была даже зловещей. Луна зашла одновременно с солнцем, скрывшись за дюнами на западе. Сотни звезд светились вокруг Южного Креста[283], мерцавшего над Антарктическим полюсом Земли.
Около трех часов ночи небосвод потух. Внезапная тьма окутала равнину.
— Тревога! — закричал Том Марикс.
— Что случилось? — быстро встав, спросила миссис Бреникен. Рядом с ней находились Джейн, служанка Гарриетта, Годфри и Зак Френ, пытающиеся распознать друг друга в непроглядной темноте. Лежавшие на песке верблюды поднимали головы и хрипло, испуганно кричали.
— Да что такое?..— снова спросила Долли.
— Самум! — ответил Том Марикс, и тут же пространство наполнилось таким шумом, что ухо уже не улавливало человеческого голоса и глаза не различали во тьме ничего.
Начальник конвоя оказался прав, это действительно был самум, один из тех ураганов, которые свирепствуют на пустынных просторах Австралии. Огромное облако, состоявшее не только из песка, но и из золы, поднятой с выжженной солнцем земли, обрушилось на равнину.
Дюны двигались, словно морские волны, но вокруг летели не водяные брызги, а мельчайшие частицы пыли. Они забивали глаза, уши, не давали дышать. Создавалось впечатление, что неистовый ветер вот-вот разровняет все холмы. Если бы стояли палатки, от них не осталось бы и клочков. Бушующая стихия обрушилась на людей, словно шквал артиллерийского огня. Годфри обеими руками держал Долли, но сопротивляться ветру не было никакой возможности.
Буря продолжалась один час, но его хватило, чтобы преобразить местность, переместив дюны. Миссис Бреникен и ее спутников, в том числе обоих больных, на протяжении четырех-пяти миль тащило по земле, они пытались подняться, но снова падали, кружась порой, словно захваченные вихрем былинки. Ни видеть друг друга, ни слышать они не могли, им грозило вообще потеряться в пустыне. Так их пригнало в окрестности Джоанна-Спрингс, что неподалеку от реки Оковер. Вскоре мгла начала рассеиваться и лучи восходящего солнца возвестили о наступлении утра.
Люди стали окликать друг друга. Но все ли отозвались на зов? Миссис Бреникен, служанка Гарриетта, Годфри, Джос Меритт, Чжин Ни, Зак Френ, Том Марикс, белые конвойные были здесь и с ними четыре верховых верблюда. Но черные конвойные исчезли! Исчезли также и двадцать других верблюдов — те, что везли провизию и выкуп за капитана Джона! Долли позвала Джейн, но та не ответила: ни ее, ни Лена нигде не было.
Глава XII ПОСЛЕДНИЕ УСИЛИЯ
Исчезновение черных конвойных и верблюдов поставило Долли и верных ей людей в почти безнадежное положение... Первым о предательстве заговорил Зак Френ, Годфри с ним согласился. Если принять во внимание. обстоятельства, при которых часть членов экспедиции исчезла, то предательство становилось слишком очевидным. Таково было и мнение Тома Марикса.
— Может, Лена унесло куда-то, ведь нас самих тоже гнал ветер? — не желая верить в такую подлость и такое двурушничество, предположила Долли.
— Унесло именно с черными конвойными и верблюдами, которые везли наш провиант?! — воскликнул Зак Френ.
— А моя бедная Джейн! — прошептала Долли.— Разлучилась со мной, и я даже не заметила, как это произошло!
— Лен Баркер и не хотел, чтобы она оставалась с вами, мадам,— сказал Зак Френ.— Негодяй!..
— Негодяй?.. Славно!.. Да!.. Очень славно! — вступил в разговор Джос Меритт.— Если все это не предательство, я согласен никогда не найти... историческую... шляпу... которую...— Тут он повернулся к китайцу: — А что вы об этом думаете, Чжин Ни?
— Ай-йа, мой господин Джос! Я думаю, что было бы в тысячу и еще десять тысяч раз лучше, если бы мои ноги никогда не ступали по этой малоуютной стране!
— Возможно! - проговорил Джос Меритт.
Что ни говори, а измена была настолько явной, что миссис Бреникен в конце концов сдалась. «Но с какой стати меня обманывать? — размышляла она.— Что я сделала Лену? Не я ли забыла прошлое? Не я ли приняла его самого и его несчастную жену как родных? И он бросает нас, оставляет без пропитания, крадет то, за что можно купить свободу Джона!.. Зачем?!»
Никто не знал тайн мистера Баркера, и никто не мог бы ответить миссис Бреникен, кроме Джейн, но ее рядом с Долли уже не было.
Итак, Лен принялся осуществлять план, который вынашивал уже давно и который имел все шансы на успех. Пообещав черным конвойным хорошую плату, он легко переманил их на свою сторону. Когда ураган разыгрался в полную силу, двое аборигенов утащили Джейн, и ее криков невозможно было услышать. Другие же погнали на север разбежавшихся вокруг стоянки верблюдов. Никто ничего не заметил в кромешной тьме, в плотных вихрях пыли, и прежде чем наступил рассвет, Лен Баркер и его сообщники были уже в нескольких милях восточнее Джоанна-Спрингс.
Джейн снова была разлучена с Долли, теперь ее муж мог не опасаться, что, мучимая угрызениями совести, она откроет тайну рождения Годфри. К тому же у мерзавца имелись все основания надеяться, что, лишившись провианта и транспортных средств, миссис Бреникен и ее друзья останутся в Большой Песчаной пустыне навсегда.
Действительно, Джоанна-Спрингс, где теперь находился караван, оделяли от реки Фицрой примерно триста миль. Как во время с голь дальнего пути Том Марикс будет удовлетворять потребности людей, даже если их осталось гораздо меньше, чем было прежде?
Оковер один из главных притоков реки Де-Грей, впадающей в Индийский океан. По берегам реки Оковер, никогда не пересыхающей даже в страшную жару, Том Марикс увидел тот же ландшафт, те же тенистые уголки, которые в приступе безмерной радости описывал полковник Уорбертон; зелень, проточная вода после бесконечных песчаных холмов и спинифекса -- какая изумительная перемена!
Но если полковник Уорбертон, добравшись сюда, был почти у цели: ему оставалось лишь спуститься вниз но течению до поселка Рокбонн на побережье то нашим путешественникам до цели было еще далеко. Их положение, наоборот, ухудшится, когда экспедиция двинется по бесплодной местности, лежащей между реками Оковер и Фицрой.
Теперь караван состоял из двадцати двух человек вместо сорока трех, насчитывающихся в начале пути: Долли, ее служанка Гарриетта, Зак Френ, Том Марикс. Годфри, Джос Меритт, Чжин Пи и пятнадцать белых конвойных, двое из которых были тяжело больны. Из транспортных средств осталось только четыре верблюда, другие были угнаны Леном Баркером, в их числе — верблюд-предводитель и тот, что вез кибитку. Верблюд Джоса Меритта тоже исчез, вследствие чего англичанин был вынужден идти пешком, как и его слуга.
Из провизии сохранилось лишь очень небольшое количество консервов — их нашли в ящике, должно быть упавшем со спины какого-нибудь верблюда. Муки, кофе, чая, сахара, соли, спиртного — ничего этого больше не было, исчезла и походная аптечка. Как теперь ухаживать за больными, измученными лихорадкой? Экспедиция в бесплодной пустыне лишилась всех средств существования.
С первыми лучами зари миссис Бреникен собрала людей. Эта мужественная женщина отнюдь не утратила своей поистине сверхчеловеческой энергии. Она говорила о том, что цель уже близка, и ее ободряющие речи придали сил членам экспедиции.
Путешествие продолжилось в столь трудных условиях, что даже самые убежденные могли потерять надежду на ее удачное завершение. Из четырех верблюдов два были отданы больным, которых нельзя было оставить в ненаселенном Джо-анна-Спрингс. Полковник Уорбертон отметил много таких станций на своем маршруте. Но хватит ли несчастным сил перенести путешествие до реки Фицрой, откуда их, быть может, удастся переправить куда-нибудь на побережье? На сей счет были сомнения, и Доллино сердце разрывалось при мысли о двух новых жертвах вдобавок к тем, что уже повлекла за собой катастрофа «Франклина». И все же миссис Бреникен не откажется от своих намерений! Нет! Она не прекратит поисков, даже если останется одна!
Перейдя Оковер р миле от Джоанна-Спрингс выше по течению, караван пошел на северо-северо-восток. Беря это направление, Том Марикс рассчитывал добраться до того участка реки Фицрой, за которым она делает многочисленные изгибы, прежде чем устремиться к заливу Кинг.
Жара сделалась терпимее. После настойчивых просьб, почти приказаний Тома Марикса и Зака Френа Долли наконец согласилась взять себе верблюда. Бодрым шагом двинулись Годфри и Зак Френ. То же можно сказать и о Джосе Меритте, длинные ноги которого были тверды, словно ходули. Миссис Бреникен хотела уступить ему своего верблюда, но он отклонил предложение.
— Славно!.. Да!.. Очень славно! — по обыкновению воскликнул Джос Меритт.— Англичанин есть англичанин, мадам, но китаец — всего лишь китаец... Не вижу никаких помех к тому, чтобы вы предложили своего верблюда Чжин Ни... Вот только ему я запрещаю принимать этот подарок.
Таким образом, Чжин Ци, как и прежде, шел пешком, сетуя на судьбу и мечтая о далеких красотах Поднебесной.
Четвертый верблюд был в распоряжении то Тома Марик-са, то Годфри, когда кому-нибудь из них нужно было отъехать вперед, ибо запас воды, взятой из реки Оковер, вскоре иссяк, и вновь проблема колодцев сделалась наиважнейшей.
Экспедиция двигалась по слабохолмистой равнине с редкими дюнами, тянувшимися до самого горизонта. Куртины спинифекса были здесь гуще, и различные кустарники, начавшие желтеть, поскольку уже наступила осень, вносили некоторое разнообразие в окружающий ландшафт. Возможно, представится случай подстрелить какую-нибудь дичь. Том Марикс, Годфри и Зак Френ, никогда не расстававшиеся с оружием, к счастью, имели при себе ружья и револьверы, которыми они при случае сумели бы неплохо воспользоваться. Провизии в экспедиции осталось мало, и распределялась она очень экономно.
Так шли несколько дней: этап утром, этап вечером. Русла криков, избороздивших местность, были покрыты раскаленными камнями, между которыми торчала сухая, выгоревшая трава. В песке не обнаруживалось ни малейших следов влаги. Необходимо было раз в сутки отыскивать колодец, поскольку бочонков у экспедиции не сохранилось. А посему Годфри отклонялся то вправо, то влево от маршрута, как только ему начинало казаться, что он напал на след.
— Дитя мое,— просила его Долли,— будь осторожен! Не подвергай себя опасности...
— Как я могу не подвергать себя опасности, когда речь идет о вас, миссис Долли, о вас и о капитане Джоне?! — отвечал Годфри.
Так, проявляя самоотверженность и еще какое-то особенное чутье, Годфри отыскал несколько колодцев, и, чтобы дойти до них, караван порой был вынужден отклоняться от маршрута на много миль.
Хотя экспедиция, идущая по той части Земли Тасмана, что лежит между реками Оковер и Фицрой, не была совсем избавлена от мук жажды, все же людям и животным не приходилось оставаться без воды слишком долго. Ведь к прежним тяготам прибавились нехватка транспортных средств, скудность питания, отсутствие чая, кофе и табака, но отчего особенно страдали конвойные, так это от невозможности добавить к солоноватой воде несколько капель спиртного.
После двух часов ходьбы самые энергичные падали от усталости и истощения. К тому же верблюды с трудом отыскивали корм среди зарослей кустарника. Отсутствовала карликовая акация, смолу которой в голодные периоды собирают аборигены. Не встречалось ничего, кроме чахлой колючей мимозы вперемежку со спинифексом. Понурые животные еле передвигали ноги, а то и вовсе падали на колени, и заставить их встать удавалось с большим трудом.
Двадцать пятого, после полудня, Тому Мариксу, Годфри и Заку Френу посчастливилось раздобыть немного свежей пищи. По дороге им встретилась стая диких голубей. Очень пугливые, они тотчас вспархивали из куртин мимозы, и приблизиться к ним было нелегко. Но все же нескольких удалось подстрелить. Несчастные, изголодавшиеся люди восприняли их как самую вкусную дичь. Голубей просто изжарили на костре, сложенном из сухих корней. Два дня Том Марикс имел возможность экономить консервы.
Однако то, что могло накормить людей, не могло накормить животных. Утром двадцать шестого числа один из верблюдов, везших больного конвойного, рухнул наземь и больше уже не поднялся. Тому Мариксу вновь пришлось приканчивать животное выстрелом в голову.
Не желая терять мясо, которым, несмотря на то что верблюд очень отощал, можно было питаться много дней, начальник конвоя принялся разделывать тушу особым, бытующим в Австралии способом, исходя из того, что все части верблюжьей туши годны в пищу. Кости и частично кожу можно будет сварить в единственно оставшейся в экспедиции емкости — бульон принесет пользу измученным голодом желудкам; мясо, нарезанное в виде узких длинных тонких лент и быстро высушенное на солнце, было припасено впрок, так же как и ноги, являющиеся лучшей частью верблюжьей туши. К большому сожалению, в экспедиции не имелось соли, с помощью которой легче сохранить мясо.
Итак, путешествие продолжалось, экспедиция проходила в день несколько миль. Состояние больных, увы, не улучшилось, но не из-за недостаточного ухода, а из-за отсутствия лекарств. Не все доберутся туда, куда изо всех сил стремилась миссис Бреникен и где людям, может быть, больше не придется так страдать,— до реки Фицрой!
Двадцать восьмого и двадцать девятого марта двое белых конвойных скончались. Они были уроженцами Аделаиды, одному едва исполнилось двадцать пять, другой был лет на пятнадцать старше, и вот обоих смерть настигла в австралийской пустыне! Первые потери произвели на членов экспедиции тягостное впечатление. И что было ответить Заку Френу на слова Тома Марикса: «Двое умерли ради спасения одного, и сколько еще умрет?..»
Миссис Бреникен глубоко переживала случившееся, и все разделяли ее скорбь. Она помолилась за обоих, и на их могилах были поставлены крестики, которые жестокий климат скоро обратит в пыль.
Караван возобновил путь. Оставшимися тремя верблюдами приходилось пользоваться поочередно: выбившиеся из сил садились верхом, чтобы не отставать от товарищей. Долли отказалась от прежде отданного в ее распоряжение животного. Во время привалов верблюдов использовали то Годфри, то Том Марикс для того, чтобы искать воду: путники не встретили ни одного аборигена, у которого можно было бы справиться о местонахождении колодцев. Похоже, это обстоятельство указывало на то, что племена ушли в северо-восточную часть Земли Тасмана. В таком случае путь, который экспедиции еще предстояло пройти в поисках инда, увеличится на несколько сот миль.
В начале апреля Том Марикс сказал, что консервов осталось совсем мало. Возникла необходимость застрелить одною из трех верблюдов. Таким образом, пищи хватит еще на несколько дней, что позволит, преодолев этапов пятнадцать, добраться до реки Фицрой.
Пришлось смириться с новой потерей верблюда. Выбрали животное, казавшееся наиболее ослабленным. Его убили, тушу разделали, мясо высушили на солнце, а затем еще долго варили, после чего оно сделалось довольно вкусным. Другие части туши, в том числе сердце и печень, были тщательно уложены в запас.
Меж тем Годфри удалось подстрелить немалое число голубей, но их все равно было недостаточно, чтобы прокормить двадцать человек. На пути снова стали попадаться акации, и Том Марикс сказал, что можно использовать в пищу их семена, предварительно обжарив на огне.
Да, необходимо по возможности скорее попасть в долину реки Фицрой, где есть ресурсы, которых нет и не может быть в этом проклятом краю. Задержись караван, вернее, то, что от него осталось, в пустыне — и у большинства людей уже не будет сил двигаться дальше.
Пятого апреля кончились и консервы, и верблюжье мясо. Миссис Бреникен и ее спутникам пришлось довольствоваться лишь горсткой семян.
Том Марикс, представляя, какой путь еще предстоит пройти, не решался пристрелить двух последних верблюдов. Однако к вечеру того же дня он понял, что иного выхода нет: люди не ели уже пятнадцать часов. Вдруг во время привала один из конвойных с криком прибежал на стоянку:
— Верблюды упали!
— Попытайтесь заставить их встать...
— Это невозможно.
— Тогда нужно немедленно их пристрелить...
— Пристрелить?.. Но они умирают, если уже не умерли!
— Умерли?! — вскричал Том Марикс.
Это известие повергло его в отчаяние: мясо умерших животных нельзя употреблять в пищу. Том Марикс, миссис Бре-никен, Зак Френ, Годфри и Джос Меритт устремились к верблюдам.
Лежа на земле, животные судорожно двигались, тяжело дышали, из пасти у них шла пена, конечности напряглись. Верблюды издыхали, причем не естественной смертью.
— Что же с ними случилось? — спросила Долли.
— Боюсь, что они съели какое-нибудь ядовитое растение! — ответил Том Марикс.
— Славно!.. Да!.. Очень славно! Я знаю, что это! — воскликнул Джос Меритт.— Я уже наблюдал такое на востоке Австралии... в Квинсленде! Верблюды отравились...
— Отравились? — в недоумении повторила Долли.
— Да,— подтвердил Том Марикс,— это яд!
— Что ж,— проговорил Джос Меритт,— поскольку у нас уже нет средств существования, остается либо последовать примеру каннибалов, либо умереть с голоду!.. Что поделаешь?.. В каждой стране свои нравы, и самое лучшее — придерживаться их! — Джентльмен, исхудавший до крайности, с выпученными от голода глазами, говорил с убийственной иронией в голосе: на него было страшно смотреть.
Итак, оба верблюда пали. Джос Меритт не ошибался, отравление было вызвано разновидностью ядовитой крапивы, довольно редко встречающейся на равнинах северо-запада. Это было Moroides laportea, ягоды которого чем-то напоминают малину, а листья покрыты колючими шипами. Одно лишь прикосновение к этому растению причиняет резкую, долго не проходящую боль. Что касается ягод, то они смертельны, если не нейтрализовать их яд соком Colocasia macrorhiza, чаще всего произрастающего в тех же местах, что и ядовитая крапива. Инстинкт, не позволяющий животным прикасаться ни к чему, что способно причинить им вред, на этот раз не сработал, и оба верблюда, не сумев побороть желания съесть ягод, сдохли в муках.
Как прошли следующие два дня, ни миссис Бреникен, ни кто-либо из ее друзей не помнили. Дохлых животных пришлось бросить. Спустя час они уже полностью разложились: таким быстродействующим является отравивший их растительный яд. Потом люди, двигаясь к реке Фицрой, пытались разглядеть обрамляющие долину холмы. Все ли смогут добраться туда?.. Нет, и некоторые уже просили при-С1релить их, чтобы избавить от еще больших мучений.
Долли ходила от одного к другому, умоляя сделать последнее усилие... Цель уже недалеко... Нужно пройти еще совсем немного... Там нас ждет спасение... Но многого ли можно добиться от изможденных людей?
Вечером восьмого апреля ни у кого не было сил разбить лагерь. Несчастные, ползая между куртинами спинифекса, жевали его пыльные листья. Они не могли идти дальше, не могли даже говорить. Все упали на этом последнем привале.
Миссис Бреникен все еще сопротивлялась. Сидя подле, Годфри смотрел на нее гаснущим взором.
— Мама!.. Мама!.. — звал он, словно ребенок, умоляющий ту, что родила его на свет, не дать ему умереть...
А Долли, глядя на мучения своих друзей, кричала:
— Джон!.. Джон!..— точно капитан Джон был последним, кто мог прийти им на помощь.
Глава XIII У ИНДА
Племя инда, насчитывающее не одну сотню человек, в ту пору обитало на берегах реки Фицрой, примерно в ста сорока милях от устья. Аборигены пришли с верховьев. Вот уже несколько дней, как вследствие превратностей кочевой жизни они оказались в двадцати пяти милях от того места, где обессилевшие члены экспедиции, претерпев лишения, превзошедшие человеческие возможности, остановились на свой последний привал.
Именно у этих инда капитан Джон и его помощник Генри Фелтон жили в плену в течение девяти лет, и с первых же дней их жизнь была полна серьезных опасностей. Уже не раз говорилось, что инда, как и все кочевые и оседлые племена Северной Австралии, свирепы и кровожадны. Пленников, захватываемых в бесконечных межплеменных войнах, они безжалостно убивают и съедают. Но почему тогда капитану Джону и Гарри Фелтону была сохранена жизнь?
Известно, что аборигены, живущие как во внутренних районах материка, так и на побережье, из поколения в поколение воюют между собой. Оседлые нападают на деревни, разоряют их и съедают пленников. Тем же занимаются и кочевники: они преследуют друг друга от стойбища к стойбищу, и победы неизменно сопровождаются страшными сценами антропофагии.
Бойни эти ведут к уничтожению австралийской расы, как, впрочем, и некоторые методы англосаксов, являющиеся просто-напросто постыдным варварством. Как иначе расценить то, что белые охотятся на черных, словно на дичь, испытывая при этом все те же острые чувства, которые может доставить подобное занятие, если относиться к нему как к спорту. Как иначе расценить то, что белые устраивают пожары, охватывающие большие территории, и люди сгорают в огне, словно хворост или солома.
Завоеватели доходили даже до того, что устраивали массовое отравление аборигенов стрихнином[284], чтобы скорее истребить коренное население. В качестве иллюстрации можно привести фразу, принадлежащую перу некоего австралийского колониста: «Всех мужчин, которых я встречаю на своих пастбищах, я убиваю из ружья потому, что они могут убить мой скот; всех женщин — потому, что они рождают тех, кто может убить мой скот; и всех детей — потому, что, повзрослев, они будут убивать мой скот!»
Понятна поэтому та ненависть, которую аборигены питают к своим палачам,— ненависть, ставшая атавистической[285]. Редко когда белые, попавшие в руки аборигенов, не уничтожаются ими самым жестоким образом. Так почему же инда пощадили моряков с «Франклина»?
Очень может быть, что матрос, если б не умер вскоре после того, как попал в плен, разделил бы общую участь пленников. Что касается двух других, то вождь племени, абориген по имени Вилли, имеющий связи с колонистами, живущими на побережье, достаточно хорошо знал белых людей и сразу понял, что капитан Джон и Гарри Фелтон не простые моряки и из этого можно извлечь двойную выгоду.
Будучи воином, Вилли намеревался использовать их в борьбе с враждебными племенами; будучи же торговцем, неплохо разбирающимся в торговых делах, он предвидел прибыльное дело, иначе говоря, богатый выкуп, который ему заплатят за освобождение пленников.
Моряки, таким образом, остались в живых, но они должны были приноравливаться к условиям кочевого существования, ставшего для них еще более мучительным оттого, что инда неусыпно их стерегли. Днем и ночью пленники находились под присмотром и не имели возможности удалиться со стойбища; и все же два или три раза они пытались бежать, но попытки заканчивались неудачей и едва не стоили им жизни.
Тем временем от капитана Джона и Гарри Фелтона потребовали участия в столкновениях племени с соперниками хотя бы своими советами. Советы они давали действительно ценные, Вилли применял их с большой пользой, и победы отныне были ему обеспечены. Благодаря успехам инда стали одним из самых могущественных племен, посещающих Западную Австралию.
Народы северо-запада континента принадлежат, по-видимому, к смешанной расе австралийцев и туземцев-папуасов. Как и у других австралийских аборигенов, у инда длинные, очень темные, курчавые волосы, но не такие курчавые, как у африканских негров; цвет кожи у них светлее, чем у аборигенов из южных провинций; надбровье выступающее, а лоб хоть и покатый, но высокий, что является, если верить антропологам[286], признаком ума, но все же объем черепа у представителей инда невелик, и природа не очень щедро наделила их умственными способностями; глаза горящие, радужная оболочка темная; роста они невысокого, в среднем от метра тринадцати сантиметров до метра тридцати сантиметров, и мужчины лучше сложены, чем женщины. Их называют «черными», хотя они не настолько черны, как нубийцы[287], они «шоколадные» — слово это дает очень точное представление о цвете их кожи.
Аборигены обладают редкостным обонянием, в чем могут соперничать с лучшими охотничьими собаками. Чтобы распознать следы человека или животного, им достаточно всего лишь понюхать землю, траву, кусты. К тому же у них очень чувствителен слуховой нерв, и говорят, что австралиец может различить шорох муравьев, копошащихся внутри муравейника. Этих аборигенов справедливо будет назвать альпинистами, поскольку нет такого высокого и гладкоствольного дерева, до верхушки которого они не сумели бы добраться при помощи гибкого стебля ротанга и цепких пальцев ног.
Как уже известно на примере аборигенов, обитающих по берегам реки Финк, австралийские женщины быстро старятся и редко доживают до сорока лет (в некоторых районах Квинсленда они живут меньше, как правило, лет на десять). Несчастные создания делают самую тяжелую работу по хозяйству — это рабыни, терпящие гнет своих неумолимо суровых повелителей, вынужденные таскать на себе оружие, хозяйственные орудия и другие тяжести, отыскивать съедобные корни, ящериц, червей и змей, коими кормится племя. При всем тот австралийки заботливо ухаживают за детьми, в отличие от отцов, которые уделяют им мало внимания.
Поскольку воспитание детей целиком ложится на плечи матери и она уже не может заниматься только лишь жизнеобеспечением племени, а ответственность за это лежит на ней, бывает, что аборигены заставляют своих женщин отрезать себе грудь, чтобы лишить их возможности вскармливать детей.
Жизнь у австралийских негров, едва ли достойных принадлежать к роду человеческому, сводится к одному: «Ам-мери!.. Аммери!» Это слово очень часто слетает с языка аборигена и означает — голод. Самый распространенный жест у дикарей — похлопывание себя по животу, который очень часто бывает пуст. В краях, где нет дичи и не существует земледелия, едят в любое время дня и ночи, когда представится случай, постоянно памятуя о том, что скоро придется долгое время голодать.
В самом деле, чем могут накормить себя эти люди — без сомнения, самые убогие из всех людей, разбросанных природой по разным континентам? Чем-то вроде грубой лепешки, выпеченной в раскаленной золе и называемой «дампер»; медом, который они иногда собирают, если повалят дерево с пчелиным ульем на самой верхушке; какой-то белой кашей, приготовленной путем сложных манипуляций из плодов ядовитой пальмы; зарытыми в землю яйцами лесных кур и австралийскими голубями, вьющими гнезда на ветвях деревьев. Наконец, они употребляют в пищу личинки некоторых видов жесткокрылых насекомых, найденных то среди веток акации, то в гниющей древесине, загромождающей лесную чащу... И все.
Австралиец ежечасно ведет борьбу за существование, и в таких условиях можно найти какое-то объяснение каннибализму со всей его страшной противоестественностью. Это даже не признак природной кровожадности: природа вынуждает умирающего с голоду австралийского черного убивать себе подобных.
У племен, обитающих в нижнем течении реки Муррей и на севере континента, существует обычай убивать и затем съедать детей, и матерям же отрезают фалангу пальца за каждого ребенка, которого она вынуждена пожертвовать на пиршество антропофагам. Ужасающая деталь: когда матери нечего есть, она съедает маленькое существо, вышедшее из ее лона,— и путешественники слышали, как австралийские женщины говорили о таком чудовищном варварстве как о поступке совершенно естественном!
И все же не только голод побуждает австралийцев к людоедству. Они питают явное пристрастие к человеческой плоти, называемой дикарями со свойственной им жуткой реалистичностью «талгоро» — «говорящее мясо». И поскольку соплеменников пожирают только в крайних случаях, австралийцы охотятся на иноплеменников. Между племенами идут бесконечные войны, и все военные походы не имеют иной цели, кроме как добыть «талгоро».
Как рассказывает доктор Карл Лумхольц, во время его путешествия по северо-восточным провинциям сопровождающие его черные беспрестанно обсуждали проблему пищи, говоря: «Для австралийцев нет ничего лучше человеческого мяса». Но они не любят мяса белых людей, находя в нем очень неприятный соленый привкус.
Есть и еще одна причина, побуждающая племена уничтожать друг друга. Австралийские аборигены необычайно легковерны. Они страшатся голоса «квин’ган», злого духа, якобы обитающего на равнинах и в горных ущельях, хотя этот голос есть не что иное, как унылая песня изумительной птицы, одной из самых интересных в Австралии. Несмотря на то что аборигены верят в существование высшего недоброго существа, они, как утверждают авторитетнейшие исследователи, никогда не молятся, и следов отправления ими религиозных обрядов нигде не обнаружено. Вместе с тем дикари очень суеверны и, будучи убеждены в дурных намерениях своих недругов, торопятся убить их, боясь быть заколдованными. Все это в совокупности с каннибализмом и создает обстановку непрекращающегося взаимного истребления.
Отметим мимоходом, что австралийцы с почтением относятся к своим жертвам. Тело они хоронят так, чтобы оно не соприкасалось с землей: обкладывают его листвой и корой и кладут в неглубокую могилу ногами на восток, а в некоторых племенах мертвых хоронят в положении стоя. Над могилой вождя сооружают шалаш, вход в который располагается с восточной стороны.
Кстати, у менее диких племен бытует странное верование о том, что мертвые должны возродиться в облике белых людей, и, как заметил Карл Лумхольц, в местном языке одно и то же слово выражает понятия «дух» и «белый человек». Согласно другому поверью, животные прежде были людьми. Таковы племена, населяющие Австралийский континент. Нет сомнения, что судьбой им уготовано исчезнуть с лица земли, как уже исчезли жители Тасмании.
Инда, в руки к которым попали Джон Бреникен и Гарри Фелтон, были типичными представителями местного населения. Инда то нападали на вражеские племена, то сами подвергались нападению, но всякий раз имели бесспорное преимущество над своими врагами благодаря советам, которые давали им пленники, вынужденные следовать за аборигенами в их бесконечных скитаниях по центральным и северо-западным районам материка — от залива Кинг до залива Ван-Димен, от долины реки Фицрой до долины реки Виктория и равнин Земли Александры. Так капитан Джон и его помощник побывали в краях, неведомых даже географам, остающихся белыми пятнами на современных картах: на востоке Земли Тасмана, Арнемленда и Большой Песчаной пустыни.
Инда не обращали ни малейшего внимания на то, что пленники с трудом переносят постоянные походы. Аборигены привыкли к такой жизни и не думали ни о расстояниях, ни о времени, о которых вообще-то имели весьма смутные представления. Например, о планируемом месяцев через пять-шесть событии абориген, нисколько не сомневаясь, говорит, что оно случатся через два-три дня... Он не знает своего возраста, не более осведомлен и о том, который сейчас час. Поистине австралиец, как и некоторые животные, обитающие на этом континенте, существо совершенно особенное.
Вот к такой жизни пришлось приспосабливаться Джону Бреникену и Гарри Фелтону. Ко всему прочему, они вынуждены были довольствоваться пищей скудной и отвратительной. А чего стоило быть свидетелями омерзительных сцен каннибализма, происходивших всякий раз после сражений?
Разумеется, моряки имели твердое намерение усыпить бдительность аборигенов и бежать, как только представится подходящий случай. Однако пленников так надежно охраняли, что благоприятные для побега ситуации складывались крайне редко, и едва ли Джон и Гарри смогли бы удачно такой ситуацией воспользоваться. Один только раз — приблизительно за год до экспедиции миссис Бреникен в Австралию — идея побега могла бы осуществиться. Вот как это произошло.
В результате столкновений с племенами, обитающими во внутренних районах Австралии, инда завладели стойбищем на берегу озера Амадиес, на юго-западе Земли Александры. Редко они забирались так далеко в глубь материка. Капитан Джон и Гарри Фелтон, зная, что находятся милях в трехстах от трансавстралийской телеграфной линии, сочли обстановку для побега благоприятной. Поразмыслив, они пришли к заключению, что лучше бежать по отдельности и встретиться в нескольких милях от стойбища.
Гарри Фелтон, обманув бдительность аборигенов, довольно удачно добрался до того места, где он должен был дожидаться своего товарища. К несчастью, именно тогда, когда Джон собрался бежать, его позвал к себе Вилли, желавший, чтобы белый ухаживал за ним, поскольку в последнем бою вождь был ранен. Джон не мог отлучиться, и Гарри Фелтон напрасно прождал его несколько дней. Решив, что, если ему удастся дойти до какого-нибудь поселка внутри материка или на побережье, он сможет организовать экспедицию с целью освободить своего капитана, Гарри Фелтон направился на юго-восток. Однако в пути ему пришлось испытать столько тягот, лишений и мук, что спустя четыре месяца после побега он, изможденный, упал на берегу реки Пару, в округе Улакарара, в Новом Южном Уэльсе. Дальнейшее читателю уже известно.
То обстоятельство, что рядом не стало товарища, явилось для Джона тяжелейшим испытанием. С кем он теперь будет говорить о самом для себя дорогом: о родной стране, о Сан-Диего, о любимых людях, оставленных там,— о жене и сынишке, который рос вдали от него и которого, может, он никогда не увидит, о мистере Уильяме Эндрю, о всех своих друзьях, наконец?.. Вот уже девять лет он находится в плену у инда, и сколько еще времени пройдет, прежде чем он обретет свободу? Но надежда умирает последней... Только бы Гарри Фелтон добрался до какого-нибудь населенного пункта на побережье, а там уж он сделает все возможное, чтобы освободить своего капитана.
С самого начала пребывания в плену Джон изучил язык аборигенов. Стройность его грамматики, точность обозначения понятий и изящество выражений, быть может, указывали на то, что в давние времена австралийские аборигены достигали определенного уровня цивилизованности. Он часто говорил Вилли о том, как выгодно ему дать своим пленникам свободу и возможность добраться до Квинсленда или Южной Австралии, откуда они отправят ему такой выкуп, какой он только пожелает. Но Вилли по натуре был очень недоверчив и не желал даже слышать об этом. Будет выкуп — он освободит пленников.
После побега Гарри Фелтона сильно разозлившийся Вилли стал суровее относиться к капитану Джону. Он лишил его свободы передвижения во время походов и привалов и приставил к нему аборигена, который отвечал за пленника головой.
Прошли долгие месяцы, а капитан Джон так и не получил никакой весточки от товарища. Неужели Гарри Фелтон погиб в пути? Если бы ему удалось достичь Квинсленда или Аделаиды, разве он не предпринял бы уже попытки вырвать его из рук инда?
В первые месяцы 1891 года — то есть в начале австралийского лета — племя вернулось в долину реки Фицрой, где
Вилли обычно проводил самый жаркий период и где имелись необходимые для жизни племени ресурсы. Там же находились инда и в первые числа апреля. Стойбище располагалось в излучине реки, в месте, где в Фицрой впадает небольшой приток, спускающийся с северных равнин.
Капитан Джон знал, что находится недалеко от побережья материка, и подумывал о том, как до него добраться. В случае удачного побега он наверняка сможет укрыться в каком-нибудь населенном пункте южнее, там, где полковник Уорбертон завершил свое путешествие. Джон был преисполнен решимости все поставить на карту, даже саму жизнь, лишь бы покончить с этим невыносимым существованием.
Но, к несчастью, первоначальные намерения инда изменились, и это обстоятельство грозило опрокинуть все надежды пленника. Действительно, во второй половине апреля стало очевидно, что Вилли готовится покинуть стойбище и расположиться на зиму в верхнем течении реки. Что же случилось? Что вынудило племя раньше времени сняться с места? Капитану Джону не без труда удалось узнать истинную причину: инда стремились поскорее уйти на восток, потому что в низовьях реки появилась черная полиция.
Читатель помнит, что говорил об этой полиции Том Марикс: после того как от Гарри Фелтона были получены сведения о капитане Джоне, ей был дан приказ отправиться на северо-запад континента.
Аборигены очень боятся черной полиции, которая обычно с немыслимым ожесточением преследует их. Во главе отряда стоит капитан, именуемый «мани», у него в подчинении сержант, человек тридцать белых полицейских и восемьдесят черных — все на хороших лошадях, вооружены ружьями, саблями и пистолетами. Этот отряд призван обеспечивать порядок и безопасность граждан в подконтрольных ему районах.
Полиция безжалостна в отношении аборигенов, и если одна часть населения порицает ее за бесчеловечность, то другая хвалит за поддержание общественного порядка. Действует она очень активно, полицейские с невероятной быстротой перемещаются из одного места в другое. Кочевники страшатся встреч с нею, поэтому-то Вилли и торопился уйти в верховья реки Фицрой.
Однако то, что для инда представляло опасность, для капитана Джона могло обернуться спасением. Если он встретит отряд, свобода и возвращение домой будут обеспечены. Так, может, ему удастся обмануть инда в тот момент, когда они будут сниматься со стойбища?
Нетрудно догадаться, что Вилли подозревал о намерениях своего пленника, поэтому утром двадцатого апреля дверь хижины, где был заперт Джон, в обычное время не отворилась. Возле хижины стоял на карауле абориген. На вопросы Джона ответов не последовало. Тогда пленник попросил, чтобы его отвели к Вилли, но просьбу его караульный выполнить отказался, и сам вождь тоже к нему не пришел.
Что же случилось? Инда в спешке готовились уходить? Возможно, так оно и было. Джон, которому Вилли прислал лишь немного пищи, слышал, как невдалеке от его хижины сновали люди.
Так прошел целый день, потом другой. Ситуация ничуть не изменилась, пленника по-прежнему строго охраняли. Однако в ночь с двадцать второго на двадцать третье апреля он почувствовал, что возня снаружи прекратилась. Неужели инда окончательно покинули стойбища?
На рассвете дверь хижины резко открылась. Белый человек предстал перед капитаном Джоном.
Это был Лен Баркер.
Глава XIV ИГРА ЛЕНА БАРКЕРА
С той ночи, когда Лен Баркер, прихватив с собой Джейн, вместе с черными конвойными угнал почти всех верблюдов, в том числе и тех, что везли выкуп за капитана Джона, прошло тридцать два дня.
Теперь у Баркера было несравненно больше шансов разыскать инда, чем у Долли. К тому же, ведя бродячую жизнь, он часто имел дело с австралийскими кочевниками, знал их язык и обычаи. Украденный выкуп обеспечивал ему хороший прием у Вилли. Капитан Джон, как только он вызволит его из плена, будет принадлежать ему, и уж тогда...
Оставив экспедицию, Лен Баркер устремился на северо-запад, и к рассвету он и его сообщники были уже за много миль от нее. Джейн в слезах упрашивала мужа не бросать Долли и ее людей в пустыне, она напомнила ему, что он уже однажды совершил преступление, скрыв рождение Годфри, и теперь совершает новое. Бедная женщина умоляла негодяя искупить свою страшную вину, отдать матери сына, помочь Долли найти капитана Джона.
Но Джейн ничего не добилась. Все ее старания были напрасны. Никто не в силах был помешать Лену Баркеру идти к свой цели напролом. Еще несколько дней — и он ее достигнет. Долли и Годфри умрут от тягот и лишений, Джон Бреникен исчезнет, наследство Эдварда Стартера перейдет к Джейн, а значит, к нему, а уж он сумеет найти хорошее применение этим миллионам!
Чего можно было ожидать от такого мерзавца? Он угрозами заставил молчать свою жену, которая прекрасно понимала, что, если бы он не нуждался в ней, чтобы завладеть Доллиным состоянием, то давно бы бросил ее, а может, и того хуже. Но бежать, пробовать добраться до экспедиции — она не могла даже помыслить об этом. Что она сделает, одна? К тому же двум аборигенам было велено не спускать с нее глаз.
Не стоит подробно описывать путешествие Лена Баркера к реке Фицрой. Всего у него было в достатке: и верблюдов и провизии. Его сообщники, привыкшие к жизни в пути, со времени выхода экспедиции из Аделаиды устали гораздо меньше, чем белые люди. В таких условиях Лен Баркер мог делать большие переходы. За семнадцать дней он добрался до левого берега реки. Это произошло восьмого апреля, в тот самый день, когда миссис Бреникен и ее друзья рухнули без сил на своем последнем привале.
Повстречав аборигенов, Лен добился от них сведений о местонахождении инда. Племя ушло вдоль реки на запад, и Баркер решил тоже спуститься вниз по течению, чтобы встретиться с Вилли. Теперь все трудности были позади. В апреле в Северной Австралии погода уже не столь жаркая, на какой параллели ни находись.
Убедившись, что идти осталось не более двух-трех дней, Лен Баркер сделал остановку. Везти Джейн с собой к инда, дать ей возможность увидеться с капитаном Джоном и раскрыть правду не входило в его планы. Он велел расположиться на привал на левом берегу реки и именно там оставил несчастную женщину, несмотря на ее мольбы, под присмотром двух аборигенов. Сам же с сообщниками, двумя верховыми верблюдами и двумя верблюдами, везшими товары для обмена, продолжил путь на запад.
Двадцатого апреля Лен встретил инда, очень встревоженных присутствием в десяти милях от них черной полиции и уже готовых покинуть стойбище. Чтобы предотвратить побег пленника, Вилли велел запереть его в хижине, и Джон оставался в полном неведении относительно переговоров своего родственника с вождем инда.
Договоренность между ними была достигнута без особых затруднений. Прежде Лен Баркер уже встречался с этими аборигенами, знал их вождя, и ему надо было обсудить лишь вопрос о выкупе. Вилли выказал готовность отдать своего пленника за определенную мзду. Ткани, безделушки и в особенности запас табаку произвел на него благоприятное впечатление. Тем не менее, как опытный торговец, он сделал упор на то, что ему жаль расставаться с человеком, столько лет прожившим в племени, оказавшим инда действенную помощь и так далее и тому подобное.
Вилли знал, что капитан Джон — американец и для его освобождения была даже организована специальная экспедиция. Лена не смутила осведомленность вождя инда, и он отрекомендовал себя начальником этой экспедиции.
Баркер был крайне заинтересован в том, чтобы освобождение капитана оставалось в тайне, а с уходом инда, опасавшихся появления черной полиции, такая возможность появлялась. На него никогда не возложат вину за окончательное исчезновение Джона Бреникена, правда, если его конвойные будут молчать. Но он сумеет заткнуть им рты.
Сделка состоялась двадцать второго апреля. Вечером того же дня инда покинули стойбище и двинулись в верховья реки Фицрой. Лен Баркер своей цели добился. А теперь посмотрим, как он воспользуется сложившейся ситуацией.
Двадцать третьего, часов около восьми утра, дверь хижины распахнулась и к Джону Бреникену вошел Лен Баркер. Четырнадцать лет прошло с того дня, когда капитан, уходя в плавание, в последний раз пожал ему руку. Он не узнал его, а Лен Баркер был поражен тем, что Джон относительно мало изменился. Разумеется, постарел — теперь ему было сорок три года,— но меньше, чем можно было ожидать от человека, так долго прожившего у аборигенов: черты его лица были по-прежнему резки, взгляд — все такой же горящий и решительный, правда, густая шевелюра поседела. Как и прежде сильный и крепкий, Джон, быть может, лучше, чем Гарри Фелтон, перенес бы тяготы скитания по австралийским пустыням.
Увидев Лена Баркера, капитан Джон в первое мгновение отпрянул. Слишком долго он не видел перед собой белого человека, слишком долго никто из незнакомых людей не обращался к нему.
— Кто вы? — спросил Джон.
— Американец из Сан-Диего.
—- Из Сан-Диего?..
— Я Лен Баркер.
— Вы?
Капитан Джон бросился к Лену Баркеру, взял его за руки, обнял. Как?! Этот человек — Лен Баркер?.. Не может быть...
Ему просто показалось... Он не расслышал... Это галлюцинации... Лен Баркер... муж Джейн...
Мог ли капитан Джон помнить в ту минуту, что всегда недолюбливал Лена Баркера, испытывал к нему недоверие?
— Лен! — радостно воскликнул капитан.
— Он самый, Джон.
— Здесь... в этих краях!.. Ах!.. Вы тоже, Лен... вы тоже попали в плен...
Как иначе мог объяснить себе Джон присутствие Лена Баркера у инда?
— Нет,— поспешил ответить тот,— нет, Джон, я прибыл только затем, чтобы выкупить вас у вождя племени, чтобы вас освободить...
— Меня освободить?!
Большого труда стоило капитану Джону справиться с волнением. Когда он овладел собой, у него появилось желание броситься вон из хижины. Лен Баркер говорил ему об освобождении! Неужто он и вправду свободен? А Вилли?.. А инда?..
— Рассказывайте, Лен, рассказывайте! — попросил он, скрестив руки на груди, точно хотел не дать ей разорваться от волнения.
Баркер, следуя своему замыслу сообщить только часть сведений и все заслуги по организации экспедиции приписать себе, принялся по-своему излагать факты, как вдруг Джон сдавленным от чувств голосом вскричал:
— А Долли?.. Долли?..
— Она жива, Джон.
— А Уот... мой сын?..
— Живы, оба живы... и оба в Сан-Диего.
— Мои дорогие! — прошептал Джон, и глаза его повлажнели. Но в следующий миг он спохватился: — Ну, говорите, Лен, говорите!.. Мне хватит сил вас выслушать!
— Несколько лет назад, когда уже никто не сомневался в гибели «Франклина», я и моя жена вынуждены были покинуть Сан-Диего и вообще Америку. Серьезные дела позвали меня в Австралию, я приехал в Сидней и основал там торговую контору. После нашего отъезда Джейн и Долли постоянно переписывались, вы ведь знаете, какая их связывает дружба: ни время, ни расстояние не способны ее ослабить.
— Да... я знаю! — отвечал Джон.— Долли и Джейн были большими друзьями, и разлука, наверное, явилась для них жестоким ударом!
— Очень жестоким, Джон,— продолжал Лен Баркер,— но спустя несколько лет разлуке должен был прийти конец. Около года назад мы стали готовиться к возвращению в Сан-Диего, как вдруг нежданная новость заставила нас отложить приготовления. Стало известно, что произошло с «Франклином», где он потерпел крушение, и одновременно прошел слух, что единственный из уцелевших в катастрофе моряков находится в плену у австралийцев, что это вы, Джон...
— Но каким образом могли узнать об этом? Разве Гарри Фелтон?..
— Да, эти сведения сообщил Гарри Фелтон. Ваш помощник был подобран на берегу реки Пару, на юге Квинсленда, и перевезен в Сидней.
— Гарри! Мой славный Гарри!..— воскликнул капитан.— О, я знал, что он не забудет обо мне! Как только он прибыл в Сидней, он организовал экспедицию!..
— Он умер... умер от лишений, которые ему пришлось вынести.
— Умер?! — воскликнул Джон.— Господи... умер!
Из глаз его полились слезы.
— Но перед смертью,— продолжал Лен Баркер,— Фелтон смог сообщить о событиях, последовавших за крушением «Франклина» на рифах острова Браус. Он сообщил, как вы добрались до западного берега Австралии. Я находился у его постели... Я все узнал от него самого... Все! Потом глаза его закрылись, и он скончался с вашим именем на устах.
— Гарри!.. Бедный мой Гарри!.. — прошептал Джон, думая о страшных испытаниях, погубивших его преданного друга.
— О «Франклине» ничего не было известно четырнадцать лет,— снова заговорил Лен Баркер.— Можете себе представить, как было воспринято известие о том, что вы живы, что Гарри Фелтону несколько месяцев назад удалось бежать, а вы остались в плену у аборигенов на севере Австралии... Я немедленно отправил телеграмму Долли, уведомил ее, что отправляюсь в путь с целью вызволить вас из плена, поскольку, как сказал Гарри Фелтон, речь может идти только о выкупе. Собрав караван и взяв на себя руководство экспедицией, я вместе с Джейн покинул Сидней. И вот уже семь месяцев... Именно столько нам потребовалось времени, чтобы добраться до реки Фицрой. Наконец, с Божьей помощью мы прибыли на стоянку инда...
— Спасибо, Лен, спасибо! — воскликнул капитан Джон.— То, что вы сделали для меня...
— Сделали бы и вы, окажись я в подобной ситуации,— заключил Лен Баркер.
— Конечно!.. А ваша жена, Лен, ваша храбрая Джейн, которая не убоялась стольких трудностей, где она сейчас?
— Она в трех днях ходьбы вверх по течению, с двумя моими людьми,— ответил Лен Баркер.
— Значит, я увижу ее...
— Да, Джон, я не взял ее сюда потому, что не знал наверняка, как аборигены встретят наш небольшой караван.
— Но вы пришли не один?
— Нет, с конвоем из дюжины черных людей. Я здесь уже два дня.
— Два дня?
— Да, и все это время я употребил на то, чтобы заключить сделку. Этот Вилли дорожил вами, мой дорогой Джон. Он знал, что у него в руках важный человек, вернее, ценный... Пришлось долго беседовать с ним, чтобы он дал вам свободу в обмен на выкуп.
— Так, значит, я свободен?
— Так же, как и я.
— А аборигены?..
— Ушли вместе со своим вождем, на стоянке не осталось никого, кроме нас с вами.
— Ушли?! — воскликнул Джон.
— Взгляните сами!
Капитан опрометью кинулся из хижины; на берегу реки находились черные конвойные Лена Баркера — инда нигде не было.
Читателю ясно, что являлось правдой, что ложью в рассказе Лена Баркера, а о чем он попросту умолчал. Но мог ли Джон усомниться в достоверности его рассказа? Мог ли не выразить горячей благодарности тому, кто, презрев опасности, вернул ему свободу? Речи этого мерзавца растрогали бы кого угодно.
Теперь ничто не мешало Лену до конца осуществить свои преступные планы. Джон Бреникен поспешит с ним туда, где их ждет Джейн... К черту всякую нерешительность! В пути он найдет случай убрать капитана, причем так, чтобы черные конвойные ни о чем не догадались и не смогли бы в дальнейшем свидетельствовать против него.
Капитану Джону не терпелось поскорее отправиться в путь, и было решено выступить в тот же день. Больше всего на свете он хотел сейчас увидеться с Джейн, верной подругой его жены, расспросить о Долли, сыне, о мистере Уильяме Эндрю, обо всех, кого оставил в Сан-Диего...
После полудня тронулись в путь. Провизии имелось на несколько дней. Воду для немногочисленного каравана можно будет брать в реке Фицрой. Джон и Лен Баркер ехали на верблюдах. Это давало возможность, в случае надобности, опередить конвойных на несколько этапов, а стало быть, облегчало негодяю осуществление его замыслов. Нельзя, чтобы капитан Джон добрался до стоянки... И он до нее не доберется!
В восемь вечера Баркер остановился на левом берегу реки на ночлег. До стоянки было еще далеко, и он посчитал, что от конвойных отрываться рано: в этих краях можно нарваться на нежелательную встречу. С рассвета следующего дня он и его спутники продолжили поход. За день прошли два этапа, между которыми сделали двухчасовой привал. Не всегда было легко идти вдоль реки, на пути то попадались глубокие овраги, то вставали непроходимые дебри из эвкалиптов и камедных деревьев, не раз вынуждавшие делать большой крюк.
К вечеру все очень устали, и после ужина конвойные заснули. Несколько минут спустя уснул и капитан Джон. Не спал только Лен Баркер. Не воспользоваться ли подходящим моментом? Убить Джона, оттащить труп шагов на двадцать, а там бросить в реку... Кажется, сама обстановка способствует тому, чтобы совершить это преступление. На следующее утро, когда настанет время уходить, все будут тщетно разыскивать капитана...
Около двух часов ночи Баркер бесшумно поднялся и с кинжалом в руке подполз к жертве. Но в тот самый миг, когда он приготовился нанести удар, Джон проснулся.
— Мне почудилось, что вы меня звали,— с трудом проговорил Баркер.
— Нет, мой дорогой Лен. Я видел во сне мою милую Долли и нашего сына, но вдруг отчего-то проснулся!
В шесть утра капитан Джон и Лен Баркер продолжили путь вдоль реки. Этим вечером они должны были прибыть на стоянку, и, решив, что пора доводить задуманное до конца, Лен предложил Джону опередить конвой. Джон, горя желанием встретиться с Джейн, поговорить с ней по душам, так, как он не мог говорить с Леном, согласился. Они совсем было собрались трогаться в путь, когда один из конвойных, подойдя к ним, сообщил, что в нескольких сотнях шагов видел белого человека, с осторожностью пробирающегося в их сторону.
В следующее мгновение Лен Баркер вскрикнул.
Он узнал Годфри.
Глава XV РАЗВЯЗКА
Влекомый каким-то инстинктивным чувством, плохо осознавая, что он делает, капитан Джон устремился к мальчику.
Лен Баркер стоял неподвижно, ноги его словно вросли в землю. Перед ним был Годфри... сын Долли и Джона! Что же получается? Караван миссис Бреникен не погиб?.. Она здесь... в нескольких милях... в нескольких сотнях шагов?.. Если только Годфри не единственный, кто остался в живых.
Как бы то ни было, нежданная встреча грозила погубить все планы Лена Баркера. Если мальчишка раскроет рот, он скажет, что экспедицию снарядила миссис Бреникен, что она преодолела множество трудностей, чтобы вызволить мужа из плена, что она здесь, идет по его следам...
Как уже говорилось ранее, утром двадцать второго марта, после исчезновения Лена Баркера, ставший теперь небольшим караван возобновил движение на северо-запад, а восьмого апреля несчастные люди, обессилевшие от голода и жажды, полумертвые упали в пустыне.
Держась из последних сил, миссис Бреникен пыталась привести в чувство своих спутников, умоляла их продолжить путь, сделать последнее усилие, чтобы добраться до реки. Но все было бесполезно — даже Годфри и тог потерял сознание. Но сила духа и на этот раз не изменила Долли: она сделала то, что уже не могли сделать ее спутники. Экспедиция шла на северо-запад, именно туда Том Марикс и Зак Френ простирали свои обессилевшие руки... И Долли двинулась в этом направлении.
На что надеялась эта волевая женщина, идя по бескрайней пустыне в сторону заходящего солнца, без пищи и воды, без средств передвижения? Стремилась ли она добраться до реки Фицрой, искать помощи у белых жителей побережья или у австралийцев-кочевников? Она и сама не знала. Так за три дня было пройдено миль двадцать. И все же силы в конце концов оставили ее, она упала и погибла бы, если бы чудесным образом не подоспела помощь.
В то самое время черная полиция отправилась в разъезд к границе Большой Песчаной пустыни. Оставив человек тридцать у реки Фицрой, начальник полиции с отрядом в шестьдесят человек решил произвести разведку в этом районе провинции. Он-то и обнаружил миссис Бреникен. Придя в сознание, она сообщила, где находятся ее спутники, и ее отвезли к ним. Полицейским удалось привести в чувство несчастных людей, из которых никто не остался бы в живых, явись полиция на сутки позже.
Том Марикс, знавший начальника этого отряда еще по службе в провинции Квинсленд, рассказал ему, что происходило с момента отъезда экспедиции из Аделаиды. Офицеру было известно, с какой целью караван, руководимый миссис Бреникен, направлялся в отдаленные северо-западные районы материка, и поскольку Провидению было угодно, чтобы его отряд оказал экспедиции спасительную помощь, он предложил и далее действовать сообща. Когда речь зашла об инда, полицейский сообщил, что племя стоит теперь на берегу реки Фицрой, менее чем в шестидесяти милях.
Надо было спешить, чтобы расстроить планы Лена Баркера. Мани однажды уже получал приказ поймать его, когда тот с бандой бушрейнджеров скрывался в провинции Квинсленд. Без сомнения, если Лену Баркеру удастся освободить капитана, не имеющего никаких оснований ему не доверять, то напасть на их след будет невозможно.
Миссис Бреникен могла положиться на мани и его людей, разделивших с ее спутниками провизию и предоставивших им своих лошадей. Отряд выехал в тот же день, и двадцать первого апреля после полудня почти у самой семнадцатой параллели показались холмы, окаймляющие долину.
Вскоре мани отыскал тех своих людей, которые оставались вести наблюдение вдоль реки Фицрой. Они сообщили, что инда стоят милях в ста вверх по течению. Важно было встретиться с ними как можно раньше, хотя у миссис Бреникен ничего не осталось из вещей, предназначенных для выкупа.
Впрочем, начальник полиции, собрав весь свой отряд да еще получив пополнение в лице Тома Марикса, Зака Френа, Годфри, Джоса Меритта и остальных, без колебаний согласился силой вырвать Джона из рук инда. Но когда отряд поднялся вверх по течению до стойбища, аборигенов уже там не было. Отряд устремился за ними вдогонку, и таким образом после полудня двадцать пятого апреля Годфри, удалившийся на полмили вперед, оказался лицом к лицу с капитаном Джоном.
Лен Баркер, справившись с первым потрясением, молча смотрел на Годфри и ждал, что тот станет говорить и делать. Но мальчик его даже не заметил. Он не мог оторвать глаз от капитана. Хотя Годфри никогда его не видел, его черты были ему знакомы по фотографии, подаренной миссис Бреникен. Сомнений нет... Этот человек — капитан Джон.
Джон тоже смотрел на паренька с необычайным волнением. Он протянул к нему руки, дрожащим голосом позвал его... Да! Он звал его — ласково, как сына.
— Капитан Джон! — бросился к нему Годфри.
— Да... это я... я! — отвечал капитан.— Но ты... мой мальчик... кто ты?.. Откуда ты взялся?.. Откуда знаешь мое имя?..
Годфри не ответил. Увидев Баркера, он страшно побледнел, чувство ненависти нахлынуло на него, и из его уст вырвалось:
— Лен Баркер!
Оценив возможные последствия этой встречи, мистер Баркер испытывал радость. Ну не счастливый ли случай давал ему в руки сразу обоих — Годфри и Джона? Разве это не удача: отец и сын в его власти? Повернувшись к конвойным, он дал знак разъединить Годфри и Джона, схватить их.
— Лен Баркер!..— повторил Годфри.
— Да, мой мальчик,— сказал Джон,— он спас меня...
— Спас?! — вскричал Годфри.— Нет, капитан Джон, Баркер не спас вас!.. Он хотел вас погубить, он бросил нас в пустыне, он украл выкуп, который везла миссис Бреникен...
Услыхав это имя, Джон схватил Годфри за руку.
— Долли?.. Долли?..— в волнении повторил он.
— Да... миссис Бреникен, ваша жена... она здесь!
— Долли?..— снова воскликнул Джон.
— Этот мальчик безумен! — сказал Лен Баркер, приближаясь к Годфри.
— Да... безумен...— прошептал капитан Джон.— Бедный ребенок безумен!
— Лен Баркер,— снова заговорил Годфри, дрожа от гнева,— вы предатель... вы убийца!.. Капитан Джон, этот убийца здесь только потому, что хочет избавиться от вас, после того как он бросил миссис Бреникен и ее спутников...
— Долли!.. Долли!..— воскликнул капитан.— Нет... ты не безумен, мой мальчик!.. Я тебе верю! Идем!
Лен Баркер и его сообщники кинулись на Джона и Годфри, но тот, выхватив пистолет, уложил одного из черных выстрелом в грудь. Все же Джон и Годфри были схвачены, и черные потащили их к реке.
К счастью, выстрел был услышан. Невдалеке раздались крики, и почти тотчас показались полицейские, Том Марикс со своими людьми, миссис Бреникен, Зак Френ, Джос Меритт и Чжин Ци. Лен Баркер и его конвойные увидели, что сопротивляться бессмысленно. Минуту спустя Джон и Долли сжимали друг друга в объятиях.
Да, Баркер проиграл. Понимая, что, если его схватят, ему несдобровать, он вместе с конвойными бросился наутек вверх по течению реки. Мани, Зак Френ, Том Марикс, Джос Меритт и еще с десяток полицейских пустились за ними.
Как передать чувства, переполнившие сердца Долли и Джона? Они плакали, обнимались и целовались, и Годфри плакал, обнимался и целовался вместе с ними. Непомерная радость сделала с Долли то, что не смогли сделать непомерные трудности. Силы покинули ее, и она потеряла сознание.
Годфри, сидя возле нее на коленях, помогал Гарриетте приводить бедняжку в чувство. Он и Гариетта знали то, что не знал Джон: Долли однажды уже лишилась рассудка от горя... Не случится ли с ней того же от счастья?
— Долли!.. Долли!..— звал Джон.
А Годфри, взяв руки миссис Бреникен в свои, повторял:
— Мама!.. Мама!..
Долли открыла глаза, ее рука сжала руку Джона. Радость переполняла капитана. Протянув руки к Годфри, он сказал:
— Иди... Уот!.. Иди ко мне, мой сын!
Но Долли не могла оставить его в заблуждении.
— Нет, Джон, нет...— сказала она.— Годфри не наш сын!.. Наш бедный Уот погиб... погиб вскоре после того, как ты ушел в море!..
— Погиб?! — воскликнул Джон, не сводя, однако, глаз с Годфри.
Долли хотела рассказать, какое несчастье постигло их четырнадцать лет назад, как вдруг в той стороне, куда вдогонку за Леном Баркером устремились мани и полицейские, раздался выстрел. Неужто мерзавцу воздалось по заслугам, или же он успел совершить новое злодеяние? Все кинулись к реке. Двое полицейских несли женщину: из глубокой раны у нее сочилась кровь. Это была Джейн. И вот что произошло.
Хотя Лен Баркер удирал очень проворно, преследователи не теряли его из виду. Несколько сотен шагов отделяли их от него, как вдруг беглец остановился. Он увидал Джейн. Накануне несчастной женщине удалось бежать, она устремилась вниз по течению реки. Когда раздались первые выстрелы, Джейн находилась всего в четверти мили от места, где Джон и Годфри встретились. Она побежала и вскоре увидела своего мужа, бегущего ей навстречу.
Лен Баркер, схватив жену за руку, пытался увлечь ее за собой. Ярость захлестнула его при мысли, что Джейн встретится с Долли и раскроет ей тайну рождения Годфри. Несчастная сопротивлялась, и тогда он ударил ее кинжалом. В ту же минуту прогремел выстрел. Его сопровождали слова:
— Славно!.. Да!.. Очень славно!
Джос Меритт, взяв на прицел Лена Баркера, в следующий миг опрокинул его в воды реки Фицрой. Негодяю пришел конец. Пуля, угодившая ему прямо в сердце, была выпущена рукой джентльмена.
Том Марикс бросился к Джейн: она еще дышала, но очень слабо. Двое полицейских взяли бедную женщину и понесли к миссис Бреникен. Она припала к умирающей, пытаясь расслышать удары сердца, поймать вырывающееся изо рта дыхание. Рана была смертельна: кинжал пронзил легкое.
— Джейн!.. Джейн!..— громко звала миссис Бреникен.
Услышав этот голос, единственный, напоминающий ей о светлых минутах ее жизни, Джейн открыла глаза и увидела Долли.
— Долли!.. Дорогая Долли! — с улыбкой прошептала она. Вдруг ее взгляд оживился: перед ней был капитан Джон.— Джон... вы... Джон! — едва слышно проговорила она.
— Да, Джейн,— ответил капитан,— это я... я...
— Джон... Джон здесь...— снова прошептала Джейн.
— Да... он с нами, моя Джейн! — сказала Долли. — Он больше не покинет нас... Мы увезем его... и тебя... и тебя...
Но Джейн не слушала. Ее глаза, казалось, искали кого-то.
— Годфри!... Годфри!..— позвала она.
Тревога выразилась на ее уже искаженном агонией лице. Миссис Бреникен сделала Годфри знак подойти.
— Он!.. Он... Наконец-то! —воскликнула Джейн, приподнявшись из последних сил.— Подойди... подойди, Долли, и ты, Джон. Послушайте, что мне нужно еще вам сказать!
Оба низко склонились над Джейн, чтобы не пропустить ни единого слова.
— Джон, Долли, — сказала Джейн,— Годфри... Годфри, он здесь... Годфри ваш сын...
— Наш сын! — прошептала Долли.
Кровь прихлынула у нее к сердцу, и она сделалась такой же бледной, как умирающая Джейн.
— У нас нет сына! — сказал Джон.— Он погиб...
— Да,— отвечала Джейн,— Уот... там... в бухте Сан-Диего... Но у вас есть второй ребенок, и этот ребенок Годфри!
Несколькими прерывающимися фразами Джейн сумела рассказать о рождении Годфри, о том, что Долли, лишившаяся рассудка, вновь стала матерью, сама того не осознавая, что малютка по приказу Лена Баркера был унесен из дома и оставлен на улице, а через несколько часов его подобрали, и позже он воспитывался в Уот-хаус под именем Годфри...
— Я виновата перед тобой, моя Долли...— добавила Джейн,— мне не хватило смелости признаться тебе во всем... Прости меня... Простите меня, Джон!
— Разве тебя нужно прощать, Джейн?.. Ведь ты вернула нам сына!..
— Да... вашего сына! Перед Господом... Джон, Долли, я клянусь... Годфри — ваш сын!
Видя, что оба сжали Годфри в объятиях, Джейн счастливо улыбнулась, и с последним дыханием ее жизнь угасла.
Глава XVI ЭПИЛОГ
Нет нужды подробно описывать то, как закончилось это смелое путешествие по Австралийскому континенту. Экспедиция возвращалась в Аделаиду уже в совершенно иных условиях.
В первую очередь стали обсуждать вопрос: надо ли, двигаясь вниз по течению реки Фицрой, добраться до побережья, в частности до Рокбонна или до порта Принс-Фредерик, что в заливе Кинг? Пройдет немало времени, прежде чем туда будет послано судно. В итоге решили идти обратно приблизительно той же дорогой. Дурных встреч можно было не опасаться: караван сопровождали служащие черной полиции. Благодаря заботам мани у экспедиции всегда было много провизии; кроме того, остались верблюды, угнанные Леном Баркером.
Перед отъездом тело Джейн Баркер похоронили в могиле, вырытой среди камедных деревьев. Опустившись на колени, Долли помолилась за спасение души бедной Джейн.
Семья Бреникен и ее спутники покинули стоянку на берегу реки Фицрой двадцать пятого апреля. Мани предложил проводить караван до ближайшей станции трансавстралийского телеграфа и взял на себя руководство походом.
Все были настолько счастливы, что не замечали тягот пути, а преисполненный радости Зак Френ говорил Тому Мариксу:
— Слушай, Том, мы ведь нашли капитана!
— Да, Зак, но что этому способствовало?
— Провидение вовремя крутануло штурвал, Том. Вот и выходит, что всегда нужно уповать на Провидение!
Один только Джос Меритт был невесел. Если миссис Бреникен отыскала капитана Джона, то знаменитый коллекционер не нашел шляпы, поиски которой стоили ему многих трудов и жертв. Какая неудача! Почти добраться до инда и не связаться с Вилли, который, быть может, носил исторический головной убор! Правда, Джос Меритт несколько утешился, когда узнал от мани, что мода на европейские головные уборы так и не дошла до племен северо-запада. Стало быть, так необходимая Джосу Меритту шляпа не могла находиться у аборигенов на севере Австралии. Зато коллекционер мог поздравить себя с тем, что одним выстрелом избавил семью Бреникен «от этого мерзавца Лена Баркера», как говорил Зак Френ.
Обратный путь экспедиция проделывала так быстро, как только было возможно. Люди и животные не страдали от жажды: колодцы уже наполнились водой вследствие осенних ливней, да и температура воздуха держалась на вполне терпимом уровне. По предложению мани караван направился прямиком к телеграфной линии со множеством станций, где имеется все необходимое для путешественников и где есть возможность связаться со столицей Южной Австралии. Благодаря телеграфу вскоре во всем мире узнали о том, что смелая экспедиция миссис Бреникен счастливо завершилась.
Когда караван добрался до станции неподалеку от озера Вудс, мани и его люди из черной полиции простились с Джоном и Долли. Те горячо поблагодарили полицейских, пообещав вознаграждение, которое капитан отправит им по прибытии в Аделаиду.
Теперь экспедиция направилась к станции Алис-Спрингс. Караван прибыл туда вечером девятнадцатого июня после семи недель похода. Там, под присмотром начальника станции, мистера Флинта, находились оставленные Томом Мариксом волы, лошади, фургоны и коляски, необходимые для того, чтобы проделать оставшуюся часть пути.
Третьего июля экспедиция достигла Фарайнатауна, станции железной дороги, а на следующий день приехала в Аделаиду.
Что за прием был оказан капитану Джону и его супруге! Встречать их пришел весь город, а когда Джон Бреникен с женой и сыном появились на балконе отеля на Кинг-Уильям-стрит, крики «ура!» раздались с такой силой, что, как утверждал Чжин Пи, их должны были слышать даже у границ Поднебесной.
Пребывание в Аделаиде не было долгим. Джон и Долли спешили вернуться домой в Сан-Диего. Том Марикс и его люди получили щедрое вознаграждение. На прощание им было сказано, что служба, которую они сослужили семье Бреникен, никогда не будет забыта. Не забудется и чудак Джос Меритт, решивший тоже покинуть Австралию вместе со своим верным слугой. И все-таки если «его шляпа» находилась не в Австралии, то где же она, в конце концов, находилась? С должным почтением ее хранили в одной из королевских резиденций. Да-да! Джос Меритт ходил по ложному следу, напрасно обыскал пять частей света... Она пребывала в Виндзорском замке[288] как он узнал полгода спустя. Эта шляпа украшала голову ее величества во время визита к королю Луи-Филиппу в 1845 году, и нужно было быть по меньшей мере безумцем, чтобы вообразить, что этот шедевр, изготовленный парижской модисткой, может завершить свою карьеру на курчавой голове австралийского дикаря!
Получилось так, что странствия Джоса Меритта закончились — к несказанной радости Чжин Ци и несказанной досаде знаменитого любителя изящных вещиц! Он вернулся в Ливерпуль, очень расстроенный тем, что не смог дополнить свою коллекцию редкостным экземпляром.
Сев в Аделаиде на судно «Авраам Линкольн», Джон, Долли и Годфри в сопровождении Зака Френа и служанки Гарриетты после трехнедельного плавания прибыли в Сан-Диего. Там их встретили мистер Уильям Эндрю, капитан Эллис и еще множество жителей этого прекрасного города — все преисполненные гордости оттого, что вновь приветствуют капитана Джона, одного из самых прославленных своих сыновей.
Конец
Рассказы
Мартин Пас
I
Солнце только что скрылось за снежными пиками Кордильер, но под прекрасным перуанским небом воздух в сгущающихся сумерках уже наполнился прозрачной свежестью. Наконец-то изнурительная жара спала и можно было вдохнуть полной грудью.
Едва на небе зажглись первые звезды, улицы Лимы заполнила праздничная публика. Жители столицы неспешно прогуливались и с необычайно серьезным видом обсуждали всякую всячину. Особенно заметное оживление царило на Пласа-Майор — древнем форуме Города королей. Ремесленники, радуясь долгожданной прохладе в конце трудового дня, сновали в толпе, на разные голоса расхваливая свой товар; женщины в мантильях с капюшонами, скрывающими лица, обходили стороной стайки курильщиков; богатые сеньориты в вечерних туалетах, с великолепными прическами, украшенными живыми цветами, катили по улицам в просторных колясках; молчаливые индейцы быстро шагали, не поднимая глаз: они постоянно чувствовали свое униженное положение, однако ни словом, ни жестом не выказывали этого. Метисы же, наоборот, громко протестовали при любом намеке на принадлежность их к низшей расе. Что же касается испанцев, то эти истинные потомки Писарро, основавших когда-то Город королей, вышагивали с гордо поднятой головой. Они с одинаковым презрением относились и к индейцам, которых когда-то покорили, и к метисам, родившимся от их связей с туземками Нового Света. Как и все люди, обреченные на рабство, индейцы испытывали отвращение и к победителям древней империи инков, и к метисам, полным наглого высокомерия. И метисы, презиравшие индейцев не меньше, чем испанцы, и индейцы, полные ненависти к испанцам, нещадно истребляли друг друга. Но на этом малом пространстве все племена и расы оказались одинаково живучими.
Довольно живописная группа молодых людей собралась у фонтана на Пласа-Майор. Одетые в пончо — квадратное одеяло с прорезью для головы, — широкие ярко-полосатые панталоны и широкополые шляпы из гуаякильской соломы, они громко болтали, шумели и жестикулировали.
— Ты прав, Андрес! — заискивающе проговорил маленький человечек по имени Мильяфлорес.
Этот коротышка был неизменным подпевалой Андреса Серты, молодого метиса, являвшегося сыном богатого купца, убитого в одной из последних стычек известного заговорщика Лафуэнте. После смерти отца Андрее Серта, получив большое наследство, беспечно транжирил его вместе с друзьями, не требуя от них за это ничего, кроме подобострастия и беспрекословного подчинения.
— К чему нам вся эта смена властей, эти путчи, которые без конца потрясают страну? — громко вопрошал Андрес. — Когда в государстве не существует подлинного равенства, не все ли равно, кто в нем правит: Гамарра или Санта-Крус![289]
— Здорово сказано! Здорово сказано! — завопил коротышка Мильяфлорес, который при любом равенстве людей никогда не сумел бы подняться до уровня обыкновенного наделенного разумом человека.
— Вот посудите, — продолжал Андрес Серта. — Я, сын купца, езжу в карете, запряженной мулами, а разве не мои корабли принесли богатство и процветание этой стране? Разве наша денежная аристократия не заслужила всех этих пышных испанских титулов?
— Просто позор! — подхватил молодой метис. — Вы только поглядите! Вон дон Фернан едет в карете, запряженной парой лошадей! Дон Фернан д’Агильо! Да этот сеньор едва может прокормить собственного кучера, а туда же, явился поважничать на площадь! А вот еще и другой — маркиз дон Вегаль!
И в самом деле, на Пласа-Майор выехала великолепная карета маркиза дона Вегаля, кавалера ордена Карла II, рыцаря Мальтийского ордена и ордена Алькантары. В действительности же этого сеньора на площадь привело вовсе не бахвальство, а обыкновенная скука. Он недовольно хмурился и даже не слышал завистливых слов метиса в толпе.
— До чего же ненавижу я этого павлина! — процедил сквозь зубы Андрес Серта.
— Тебе недолго осталось его ненавидеть! — ответил ему один из приятелей.
— Все эти аристократишки — обломки былой роскоши, уж я-то знаю, куда деваются их серебро и фамильные драгоценности!
— Еще бы тебе не знать, ведь ты частый гость в доме Самуэля!
— Да, в расчетных книгах старого еврея записаны все долги местных аристократов, а его сундуки хранят остатки их огромных состояний. Настанет день, когда все эти испанцы окажутся нищими, словно дон Сезар де Базан, вот тогда-то мы повеселимся!
— Ив особенности ты, Андрес, когда станешь владельцем всех этих миллионов и удвоишь свое состояние! — заметил Мильяфлорес. — А кстати, когда ты намерен жениться на дочке старого Самуэля? Эта красотка Сарра — типичная жительница Лимы, перуанка до кончиков ногтей, еврейского в ней — только имя.
— Через месяц, — ответил Андрес Серта. — Через месяц не будет в Перу человека богаче меня.
— Но почему, — спросил молодой метис, — тебе бы не жениться на испанке знатного рода?
— Я всех их ненавижу и презираю!
Андрес Серта не желал признаваться, что ему уже отказали от дома во многих семьях аристократов, куда он пытался проникнуть.
Неожиданно какой-то человек из толпы толкнул его.
Это был высокий, крепко сложенный индеец с седеющими волосами. Как и все горцы, он был одет в коричневую куртку, из-под которой виднелась рубашка грубого полотна. Широко распахнутый ворот открывал волосатую грудь. Короткие, в зеленую полоску штаны были пристегнуты к чулкам красными подвязками. На ногах индейца были сандалии из бычьей кожи, в ушах из-под остроконечной шапочки поблескивали сережки.
Он толкнул Андреса Серту и пристально посмотрел на него.
— Ах ты, мерзавец! — воскликнул метис и замахнулся на индейца, однако товарищи удержали его.
— Андрес! Андрес! Берегись! — крикнул Мильяфлорес.
— Этот презренный раб посмел толкнуть меня!
— Да он же сумасшедший! Это Самбо!
Самбо продолжал все так же пристально смотреть на метиса. Дрожа от негодования, Андрес Серта выхватил кинжал, висевший у него на поясе, и уже готов был броситься на оскорбителя, но тут в толпе раздался гортанный крик, похожий на зов перуанской коноплянки, и Самбо исчез.
— Скотина и трус! — прорычал Андрес Серта.
— Успокойся, и давай поскорее уйдем отсюда! — сказал Мильяфлорес. — Нечего нам делать здесь, среди этих зазнаек!
В наступившей ночной темноте уже невозможно было различить скрытые мантильями лица жительниц Лимы (недаром же этих дам называют «тападас» — прячущиеся).
Молодые люди направились к чрезвычайно оживленному центру Пласа-Майор. Конным гвардейцам, охранявшим главный вход во дворец вице-короля, с трудом удавалось исправно нести службу в этой сутолоке. Казалось, все столичные торговцы назначили друг другу свидание на площади, которая превратилась в сплошную витрину. Королевский дворец и подступы к нему со всех сторон окружили лавки, образовав гигантский рынок тропических плодов.
Но вот на колокольне раздался первый удар колокола, и шум на площади мгновенно стих. Послышался шепот — все молились, женщины тихо перебирали четки.
Все замерло, и только старая дуэнья, которая вела за руку молодую девушку, продолжала куда-то быстро пробираться, не обращая внимания на возмущенные возгласы молящихся. Девушка хотела было остановиться, но старуха потащила ее за собой.
— Вы только взгляните на эту дочь сатаны! — сказал кто-то.
— Что за проклятая колдунья!
— Да, еще одна каркаманка.[290]
Девушка в нерешительности остановилась. Один из погонщиков схватил ее за плечо, пытаясь поставить на колени, но тут же чья-то сильная рука швырнула его на землю. Все это произошло в мгновенье ока.
— Бегите, мадемуазель! — прошептал тихий голос. Девушка, бледная от страха, обернулась и увидела высокого индейца — он стоял, скрестив на груди руки и сурово глядя на погонщика.
— Клянусь Богом, мы пропали! — вскрикнула дуэнья и потащила девушку дальше.
Погонщик поднялся и, не решаясь связываться с индейцем, поспешил к своим мулам, бормоча себе под нос какие-то угрозы.
II
Лима раскинулась по долине реки Римак, в десяти лье от ее устья. С севера и востока от города возвышаются холмы, примыкающие к цепи Анд. Долина Луриганчо, зажатая между горами Кристобаль и Аманкес, подступает к самым окраинам города. Собственно столица расположена на одном берегу реки, а на другом раскинулось предместье Сан-Ласаро, которое связывает с городом пятиарочный мост. Быки этого моста надежно противостоят течению, а парапет служит скамьями для местных щеголей, которые приходят сюда полюбоваться роскошным каскадом.
Город растянулся на четыре мили с востока на запад, а от моста до городской стены — ровно миля с четвертью. Эта стена, высотой в двенадцать футов и шириной у основания в десять, сложена из особого кирпича (глина, смешанная с рубленой соломой и высушенная на солнце), очень устойчива во время землетрясений. В стене прорезаны семь ворот и три потайных хода, на юго-востоке к ней примыкает маленькая крепость Санта-Катерина.
Таков древний Город королей, основанный в 1534 году Писарро — как раз в День богоявления. Он всегда был и поныне остается ареной революции. Лима издавна считалась основным американским складом на Тихом океане благодаря порту Кальяо, построенному в 1779 году весьма оригинальным способом: на берег опрокинули старый океанский корабль, наполненный камнем, песком и всяческим мусором, затем вокруг этого каркаса забили сваи из водостойкой древесины, доставленной из Гуаякиля, — сия конструкция и стала основанием для сооружения мола Кальяо.
Умеренный климат, значительно более мягкий, чем климат Картахены и Баии[291], расположенных на другом берегу Американского континента, сделали Лиму одним из самых привлекательных городов Нового Света. Ветер здесь дует либо с юго-запада, неся с собой тихоокеанскую свежесть, либо с юго-востока, и тогда веет прохладой с заснеженных вершин Кордильер.
Хороши и прозрачны ночи в тропических широтах: они дарят иссохшей за день земле благодатную росу. Обитатели Лимы долго не ложатся спать, наслаждаясь в своих домах ночной прохладой. К ночи все улицы пустеют, и редко в каком заведении еще можно встретить любителя выпивки.
Молодая девушка, которую сопровождала дуэнья, беспрепятственно добралась до моста через Римак. Она шла, беспокойно прислушиваясь к каждому шороху, в ушах ее еще звучали колокольчики мулов и свист индейца.
Сарра спешила вернуться в дом своего отца Самуэля. Темная юбка с мягкими складками была настолько сужена книзу, что девушке приходилось идти мелкими шажками, что делало ее походку необычайно грациозной — отличительная особенность жительниц Лимы. Юбка была отделана кружевами и цветами, шелковая мантилья с капюшоном ниспадала на нее. На ногах у девушки были атласные башмачки и тонкие шелковые чулки, руки ее украшали дорогие браслеты. Вся она была подлинным воплощением того очарования, которое так хорошо выражает испанское слово «донайре»[292].
Мильяфлорес был прав. В невесте Андреса Серты еврейским было только имя, это была типичная перуанка, прекрасная и очаровательная.
Старая дуэнья, на лице которой лежала печать скупости и корыстолюбия, верно служила Самуэлю, который щедро платил ей за преданность.
Когда обе женщины приблизились к предместью Сан-Ласаро, им повстречался какой-то человек в монашеской одежде. Проходя мимо, он внимательно посмотрел на них из-под своего капюшона. Высокий человек со спокойным добрым лицом по имени отец Хоакин де Камаронес заговорщически улыбнулся Сарре, и девушка, быстро оглянувшись на следующую за ней по пятам дуэнью, ответила ему грациозным жестом.
— Итак, сеньорита, — ворчливо сказала старуха, — мало того, что вас оскорбляют христиане, вы еще и сами приветствуете католического священника. Не хватало только увидеть вас с четками в руках во время обедни.
Жительницы Лимы придают особое значение посещению церкви.
— Странно слышать ваши слова! — вспыхнула девушка.
— Они не более странны, чем ваше поведение! Интересно, что скажет сеньор Самуэль, когда узнает, что случилось сегодня вечером!
— Я что же, виновата в том, что меня задел этот погонщик мулов?
— Вы же прекрасно понимаете, сеньорита, — сказала старуха, покачав головой, — что я вовсе не о нем говорю.
— Выходит, что юноша, который защитил меня, поступил плохо?
— Сдается, этот индеец не впервые встречается на нашем пути!..
К счастью, лицо молодой девушки было закрыто капюшоном, иначе никакая тьма не смогла бы скрыть от глаз старухи смятения подопечной.
— Впрочем, индеец — это моя забота, оставим его в покое. По-настоящему тревожно то, что, боясь помешать этим христианам, вы чуть было не остались в церкви во время службы! Уж не затем ли, чтобы преклонить колена?! Ах, сеньорита, если произойдет такое, ваш отец тотчас же выгонит меня вон!
Но девушка уже не слушала старушечьих упреков и причитаний. Упоминание о молодом индейце наполнило ее сердце нежностью.
Вообразив, что все происшедшее свершилось по воле Провидения, она то и дело оглядывалась, словно предчувствуя — ее защитник где-то рядом. И Сарра не ошибалась. Мартин Пас решил убедиться, что прекрасной девушке больше ничто не угрожает, и незаметно следовал за ней.
Он был очень хорош собой, этот юноша с мягким блеском выразительных глаз, прямым носом и очень красивым ртом. Его смуглое лицо обрамляли черные кудри, выбившиеся из-под широкополой соломенной шляпы. Стройность фигуры подчеркивало яркое пончо. Пас принадлежал к потомкам Манко-Капака[5 - Манко-Капак (кечуа: «государь, богатый подданными») — основатель империи инков.] и слыл отчаянным смельчаком.
Малайский кинжал — страшное оружие в умелых руках — висел у Мартина на поясе. В Северной Америке, на берегах Онтарио, этот индеец, несомненно, стал бы вождем одного из кочующих племен, которые не раз вступали в схватки с англичанами.
Мартин Пас знал, что Сарра — дочь богатого купца Самуэля и невеста заносчивого метиса Андреса Серты, сознавал он и то, что эта девушка ему не пара — ни по происхождению, ни по положению, ни по богатству, но нынче он словно забыл обо всем.
Погруженный в свои мысли, молодой человек шел очень быстро. И вдруг путь ему преградили двое индейцев.
— Сегодня вечером ты должен встретиться в горах с нашими братьями! — сказал один из них.
— Я встречусь с ними, — холодно согласился юноша.
— Шхуна «Анунсиасьон»[293] подошла к Кальяо, покрутилась там и скрылась за косой — наверняка решила подплыть поближе к устью Римака. Хорошо бы нашим долбленкам разгрузить ее. Надо и тебе быть там!
— Мартин Пас сам знает, что ему делать, — последовал гордый ответ.
— Мы говорим с тобой от имени Самбо!
— А я с вами — от своего собственного имени!
— Ты не боишься, что ему покажется странным твое присутствие в этот час в предместье Сан-Ласаро?
— Я хожу там, где мне нравится.
— Возле дома еврея?
— Те, кто находит это недостойным, пусть встретится сегодня со мной в горах!
У всех троих глаза сверкали гневом. Двое индейцев, не-произнеся больше ни слова, отправились к берегу реки, и скоро шаги их затихли в темноте.
Мартин Пас подошел к дому Самуэля. Как все жилые постройки в Лиме, эта была двухэтажной: нижний этаж — из кирпича, а верхний — из оштукатуренного тростника. Причем верхний этаж, устойчивый к землетрясениям, тоже был покрашен под кирпич. Плоская крыша, засаженная цветами, превратилась в великолепную террасу. Согласно местному обычаю, в этой части дома ни одно окно не выходило на улицу.
В церкви пробило одиннадцать, кругом было тихо. Отчего же индеец, подойдя к дому Сарры, неподвижно застыл у его стен?
На террасе, среди цветов, почти неразличимых в темноте — доносился лишь аромат, — появилась белая фигура. Мартин Пас невольно воздел руки вверх, устремив взгляд на девушку, и вдруг она испуганно присела. Юноша обернулся и встретился лицом к лицу с Андресом Сертой.
— С каких это пор индейцы бродят здесь по ночам? — грозно спросил тот.
— С тех пор, как они ходят по земле своих предков!
Андрес Серта шагнул вперед, но индеец даже не двинулся с места.
— Негодяй! Может быть, ты пропустишь меня?
— Нет! — бросил Мартин Пас.
И тут сверкнули клинки. Соперники были одного роста и казались равными по силе.
Андрес Серта замахнулся, но его удар был отбит кинжалом индейца, и раненный в плечо метис свалился на землю.
— На помощь! Сюда! — закричал он.
Дверь дома Самуэля распахнулась, и на пороге показался сам старик. Прибежали метисы, жившие по соседству. Одни бросились за индейцем, другие помогли подняться Серте.
— Если бедняга моряк, нужно доставить его в больницу Святого Духа, — решил кто-то, — а если индеец то в больницу Святой Анны.
Старик приблизился к раненому и воскликнул:
— Какое несчастье! Отнесите молодого человека ко мне!
Самуэль узнал жениха своей дочери.
Мартин Пас мчался со всех ног, надеясь под покровом темноты скрыться от преследователей. Если ему удастся выбраться за городскую черту, он спасен. Но ворота закрываются в одиннадцать часов вечера и открываются только в четыре утра.
Он вбежал на каменный мост, сзади показались метисы и присоединившиеся к ним солдаты, а впереди, как назло, шел патруль. Путь для Мартина Паса был отрезан: ни туда, ни сюда. Он перемахнул через парапет и бросился в бурный поток. Преследователи продолжали бежать по мосту, надеясь схватить беглеца, как только он достигнет берега. Но все оказалось напрасно. Мартин Пас исчез.
III
Андреса Серту внесли в дом Самуэля и уложили в постель. Он довольно скоро пришел в себя и протянул руку хозяину. Появился врач. Рана оказалась несерьезной: кинжал пронзил плечо, но не задел кость. Врач уверял, что через несколько дней раненый поправится.
Дождавшись, когда они останутся одни, метис сказал Саму элю:
— Нужно запереть дверь, ведущую на террасу.
— Вы чего-то боитесь?
— Я боюсь, что Сарра вновь выйдет на террасу, чтобы увидеть этого индейца. Понимаете, тот, кто на меня напал, вовсе не вор, это мой соперник! Я просто чудом уцелел.
— О, вы ошибаетесь! — воскликнул старый еврей. — Клянусь Торой, моя Сарра будет вам верной супругой, я постараюсь, чтобы она была достойна вас.
Андрес Серта приподнялся на постели.
— Сеньор Самуэль, вы забыли: я уплатил вам сто тысяч пиастров, чтобы получить руку вашей дочери.
— Я настолько хорошо об этом помню, молодой человек, — усмехнулся старый еврей, — что в любую минуту готов обменять расписку на золото.
С этими словами старик вынул расписку, но Андрес Серта оттолкнул ее.
— Никаких сделок, пока Сарра не станет моей женой! Однако этого никогда не случится, если мне придется отвоевывать ее у подобных соперников! Вы же знаете, к чему я стремлюсь, сеньор Самуэль: женившись на Сарре, я уже ни в чем не буду уступать всей этой аристократии, которая сейчас смотрит на меня с таким презрением!
— Да, так будет! Ведь когда вы станете мужем моей дочери, в вашем салоне начнут толпиться самые гордые испанцы!
— А где была ваша дочь сегодня вечером?
— Ходила в синагогу со старухой Аммон.
— Она исполняет все еврейские религиозные обряды?
— Иначе Сарра не была бы моей дочерью.
Самуэль обосновался в Лиме, в предместье Сан-Ласаро, десять лет назад. Поселившись здесь, он сразу стал искать возможности для торговли и занялся подозрительными сделками, которые помогли ему сколотить изрядное состояние. Он был истинный торговец, этот старик: торговал всем и повсюду и вел свое происхождение не иначе как от Иуды, за тридцать сребреников продавшего своего учителя. Дом Самуэля вскоре стал одним из самых богатых домов в городе, а его многочисленная прислуга и роскошные выезды создали ему солидную репутацию среди местной знати.
Он поселился в Лиме, когда Сарре было восемь лет. Очаровательный и грациозный ребенок пленял всех, а старый еврей просто молился на свою дочь. Прелестная девочка выросла и превратилась в ослепительную красавицу. Андрес Серта влюбился в нее без памяти, и трудно было понять, почему Самуэль согласился отдать ему дочь за сто тысяч пиастров. Впрочем, эта сделка оставалась тайной для окружающих. Самуэль даже чувствами торговал, словно товаром. Банкир, ростовщик, купец и судовладелец, он ловко заключал многочисленные сделки, как правило, с немалой выгодой для себя. Шхуна «Анунсиасьон», которая пыталась причалить этой ночью в устье Римака, как и многое другое, принадлежала старому еврею.
Однако деловитость и коммерческая сметка ничуть не мешали упрямцу купцу ревностно соблюдать все религиозные обряды. Его дочь тоже прекрасно знала их и следовала примеру отца. Поэтому, когда метис выразил свою досаду по этому поводу, старик осекся и замолчал.
Молчание прервал Андрес Серта:
— Надеюсь, вы не забыли, что, коль скоро я женюсь на Сарре, ей придется принять католичество?
— Вы правы. Но, согласно библейским заветам, Сарра останется иудейкой, пока она моя дочь!
Дверь распахнулась, и вошел дворецкий.
— Ну что? Бандит арестован? — обратился к нему Самуэль.
— Все свидетельствует о том, что он погиб.
— Погиб? — обрадовался Андрес Серта.
— На мосту он оказался в ловушке между нами и солдатами, так что ему не оставалось ничего другого, как перемахнуть через парапет и броситься в реку.
— Но где гарантия, что он не добрался до берега? — спросил Самуэль.
— После таянья снегов река стала очень бурной, — заметил дворецкий. — Да к тому же мы хорошенько осмотрели оба берега, но беглеца нигде не обнаружили. Я оставил там часовых, чтобы они наблюдали за рекой всю ночь.
— Прекрасно! — воскликнул старый Самуэль. — Этот парень сам вынес себе приговор. А вы знаете своего обидчика?
— Отлично знаю. Это Мартин Пас, индеец с гор.
— Он действительно подстерегал Сарру возле дома?
— Трудно сказать… — ответил дворецкий.
— Пришли сюда старуху Аммон.
Дворецкий вышел.
— Все эти индейцы, — сказал Самуэль, — тайно связаны между собой. Надо бы узнать, как давно власти преследуют этого парня.
Вошла дуэнья и остановилась перед хозяином.
— Аммон, что ты знаешь о событиях сегодняшнего вечера?
— Почти ничего, — отвечала дуэнья. — Крики слуг разбудили меня. Я вбежала в комнату сеньориты и нашла ее там почти без чувств.
— Продолжай, — велел Самуэль.
— Ни на какие вопросы она не пожелала отвечать и легла в постель, отказавшись от моих услуг. Мне пришлось уйти.
— Вы часто встречали этого индейца в городе?
— Не знаю, хозяин… иногда я встречала его на улицах Сан-Ласаро, а сегодня вечером он спас от беды сеньориту на Пласа-Майор.
— Спас? Каким образом?
Старуха рассказала о том, что произошло на площади.
— Ах, значит, моя дочь собиралась преклонить колена вместе с этими христианами! — в ярости завопил еврей. — А я даже ничего об этом не знаю. Ты, видно, хочешь, чтобы я выгнал тебя?
— Простите, хозяин!
— Убирайся!
Старуха поспешила удалиться.
— Вот видите, мы должны как можно скорее обвенчаться! — сказал Андрес Серта. — А теперь мне следовало бы отдохнуть. Прошу вас, оставьте меня одного.
Старик ушел. Однако, прежде чем лечь в постель, он решил увидеть дочь и тихонько вошел к ней в спальню. Сарра спала, разметавшись на шелковых простынях. Белый плафон свисал с потолка, украшенного лепным орнаментом, заливая комнату ярким светом. В полуоткрытое окно проникал ночной воздух, напоенный ароматом алоэ и магнолий. Блики света играли на многочисленных креольских безделушках в шкафах и на полках. Казалось, душа девушки должна была ликовать среди всей этой роскоши.
Самуэль приблизился к постели дочери. Девушка спала, но вот какое-то беспокойство заставило ее вздрогнуть, и с прелестных губ сорвалось имя Мартина Паса.
Старик вернулся к себе.
Сарра поднялась с первыми лучами солнца. Чернокожий слуга Либертад тут же явился на ее зов. Он запряг мула для нее и лошадь для себя.
Это была давняя привычка — совершать ранние прогулки в сопровождении верного слуги.
Сарра надела коричневую юбку и кашемировую мантилью с бахромой, дополнив этот туалет широкополой соломенной шляпой. Длинные черные косы она подбирать не стала. Желая как-то унять тревогу, она свернула себе пахитоску из листьев ароматного табака и наконец, усевшись на мула, направилась в сторону порта Кальяо.
В порту царило небывалое оживление. Береговая охрана всю ночь следила за шхуной «Анунсиасьон», подозрительные маневры которой свидетельствовали о неких противозаконных намерениях ее капитана. Казалось, «Анунсиасьон» поджидала какие-то контрабандные товары в устье Римака, держась на безопасном расстоянии от берега, чтобы в случае чего уйти от шлюпок полицейских.
Разные слухи ходили по поводу этой шхуны. Одни считали, что на ее борту находятся колумбийские солдаты, которым предписано захватить центральное здание Кальяо и отомстить за поражение солдат Боливара[294], с позором изгнанных из Перу; другие утверждали, что шхуна просто занимается контрабандой шерсти из Европы.
Не обращая внимания на эти слухи, более или менее соответствующие истине, Сарра, у которой была совсем иная цель, добралась до Кальяо, а потом снова вернулась в Лиму, на берег Римака.
Она доехала до самого моста, возле которого расположились солдаты и метисы, следившие за обоими берегами реки.
Либертад рассказал девушке о том, что случилось ночью. Сарра велела ему поговорить с солдатами на мосту, и те рассказали, что Мартин Пас, по-видимому, утонул, хотя тела его пока не нашли. Сарра собрала все свои душевные силы, чтобы не упасть в обморок.
Среди людей, бродивших по берегу, она заметила индейца со странным лицом, он был явно чем-то взволнован. Это был Самбо.
Когда они проходили мимо старого горца, Сарра услышала, как он бормочет:
— Горе мне, горе! Они убили сына Самбо! Они убили моего сына!
Девушка сделала знак чернокожему слуге следовать за ней. Нимало не заботясь о том, что ее могут заметить и рассказать обо всем отцу, она направилась в церковь Святой Анны. Девушка оставила мула на попечение слуги, а сама решительно переступила порог католического храма и спросила отца Хоакина. Затем опустилась на колени и долго молилась за спасение души Мартина Паса.
IV
Всякий другой на месте Мартина Паса погиб бы в водах бурной реки. Однако удивительная сила, несгибаемая воля, а главное — неизменное хладнокровие, которое отличает индейцев Нового Света, спасли его.
Мартин Пас знал, что солдаты попытаются подкараулить его под мостом, где течение было особенно стремительным. Работая изо всех сил руками, он старался выбраться из бурного потока. Ниже по течению река замедляла свой бег, и Мартин Пас, доплыв до берега, спрятался в кустах магнолии.
Что же дальше? Солдаты могут спуститься по реке и тогда наверняка схватят его. Решение пришло мгновенно: нужно вернуться в город и спрятаться там.
Чтобы избежать встреч с жителями окраинных улочек, он зашагал по самой широкой улице. Ему все время казалось, что за ним следят, однако раздумывать было некогда. Он на миг остановился перед ярко освещенным домом. Ворота были открыты. От подъезда то и дело отъезжали экипажи с испанскими аристократами.
Мартин Пас незаметно проскользнул в ворота, которые тут же закрылись. Он стремительно взбежал по лестнице из кедрового дерева. На стенах висели роскошные панно. Все залы, еще ярко освещенные, были безлюдны. Юноша промчался через анфиладу парадных комнат и очутился в каком-то темном помещении.
Но вот погасли последние люстры и дом погрузился во мрак и тишину.
Мартин Пас попытался выяснить, куда он попал. Окна комнаты выходили во внутренний сад — этим путем можно бежать. Он уже направился к окну, как вдруг услышал за спиной чей-то голос:
— Сеньор, вы забыли прихватить с собой мои бриллианты.
Мартин Пас обернулся и увидел надменного господина, очевидно, хозяина дома, который с усмешкой указывал пальцем на ларец, стоявший на столе.
Оскорбленный до глубины души, Мартин Пас вплотную приблизился к незнакомцу, который с невозмутимым видом разглядывал его. Выхватив кинжал, юноша приставил его острие к своей груди.
— Сеньор, — тихо сказал он, — если вы еще раз повторите это, я убью себя на ваших глазах.
Испанец удивленно вскинул брови. Он вдруг почувствовал какую-то смутную симпатию к этому странному индейцу. Подойдя к окну, он закрыл его и повернулся к своему ночному гостю. Тот выпустил из рук кинжал.
— Я индеец Мартин Пас… Скрываюсь от погони. Солдатам приказано схватить меня: защищаясь, я ударил кинжалом одного метиса. Этот человек — жених девушки, которую я люблю. А теперь, сеньор, решайте, как вам поступить.
— Знаете, дружище, — очень спокойно сказал испанец, — завтра я отправлюсь на воды в Чоррильос. Если вы согласитесь сопровождать меня, то разом избавитесь от всех своих преследователей, и, я надеюсь, у вас никогда не будет оснований жаловаться на недостаток гостеприимства маркиза дона Вегаля.
Мартин Пас молча поклонился.
— В моем доме вы можете спокойно спать до утра, никому не придет в голову искать вас здесь.
Испанец вышел, оставив молодого человека в одиночестве, тот был потрясен столь теплым приемом. Мартин Пас улегся на кровать в углу комнаты и, успокоенный словами маркиза, крепко заснул.
Они поднялись на рассвете. Маркиз отдал последние приказания слугам, велел передать Самуэлю, чтобы тот зашел к нему, а сам отправился к утренней мессе, ибо перуанская аристократия не пропускала ни одной службы. Со дня своего основания Лима считалась католическим городом: кроме многочисленных церквей, здесь было построено двадцать два женских и семнадцать мужских монастырей, а также четыре богадельни для престарелых, где, разумеется, были свои церкви. Таким образом, в Лиме оказалось свыше сотни католических храмов, где отправляли службу более восьмисот священников и монахов, причем еще более трехсот монахинь и монахов жили не в монастырях, а в городе.
Едва войдя в церковь Святой Анны, дон Вегаль заметил девушку, которая в слезах молилась, стоя на коленях. На ее лице застыло такое страдание, что маркизу захотелось сказать ей слова утешения. Но отец Хоакин, тихо подошедший к нему, чуть слышно прошептал:
— Ради Бога, дон Вегаль, не приближайтесь к ней!
Священник сделал знак Сарре, и она, поднявшись с колен, последовала за ним в пустой полуосвещенный придел.
Дон Вегаль, остановившись возле алтаря, прослушал мессу и отправился домой. Плачущая девушка все стояла у него перед глазами.
Дома его поджидал Самуэль, явившийся по его приглашению. Казалось, старик уже забыл о событиях этой ночи и теперь радовался, предвкушая очередную выгодную сделку.
— Что угодно вашей светлости? — спросил он, поздоровавшись с испанцем.
— Мне необходимо тридцать тысяч пиастров, и не позднее, чем через час.
— Тридцать тысяч пиастров!.. Откуда же взять такие деньги? Клянусь святым царем Давидом, сеньор, мне не так легко их найти!
— Вот вам несколько ларцов с драгоценностями, — сказал дон Вегаль, не обращая внимания на слова еврея. — Кроме-того, я предлагаю вам купить мои земли, и по весьма низкой цене.
— Ах, сеньор! — воскликнул Самуэль. — Эти земли — сплошное разоренье. Их некому обрабатывать. Индейцы бегут в горы, и урожаи не оправдывают затраченных денег!
— А во сколько вы оцениваете эти бриллианты?
Самуэль вынул из кармана крошечные весы и принялся взвешивать камни, не переставая бормотать и привычно занижая сумму:
— Бриллианты! Какой смысл скупать их сейчас? Ни малейшей выгоды! Все равно что зарывать деньги в землю… Обратите внимание, сеньор, вот этот камень не очень чистой воды… Вы же знаете, сеньор, как трудно в наше время продать столь дорогие украшения. Нужно очень далеко ехать… Американцы, конечно, охотно купят камни, чтобы потом перепродать их сынам Альбиона…[8 - Альбион — поэтическое название Англии.] Однако купят они их по такой цене, что я останусь внакладе… Как вы считаете, десять тысяч пиастров устроят вашу светлость? Это, конечно, не слишком много, но…
— Разве я сказал, — брезгливо поморщился испанец, — что мне мало десяти тысяч?
— Поверьте, сеньор, я не могу добавить больше ни реала!
— Забирайте камни и немедленно принесите мне деньги. Необходимо тридцать тысяч, на недостающую сумму я дам, вам залоговую квитанцию на свой дом. Надеюсь, это достаточное обеспечение?
— Ах, сеньор, в этом городе с постоянными землетрясениями никто не знает, кто умрет, а кто останется жив, что будет стоять века, а что рухнет…
Самуэль несколько раз прошелся, ступая на пятки, словно проверяя прочность паркета.
— Только чтобы услужить вашей светлости, я найду для вас деньги, хотя мне это сейчас очень непросто: я ведь выдаю замуж дочь за кавалера Андреса Серту… Вы знаете его, сеньор?
— Нет, я не знаю сеньора Андреса Серты. Прошу вас, немедленно пришлите мне деньги и заберите драгоценности!
— Хотите получить расписку?
Дон Вегаль, не удостоив торговца ответом, прошел в соседнюю комнату.
— Спесивый испанец! — пробормотал сквозь зубы Самуэль. — Ну погоди, как только ты лишишься своего богатства, я собью с тебя спесь! Хвала Соломону, он не обидел меня умом и смекалкой, я умею делать дела.
Расставшись с евреем, дон Вегаль направился в комнату, где провел ночь Мартин Пас. Маркиз нашел его в угнетенном состоянии.
— Что с вами? — спросил он.
— Сеньор, я люблю дочь человека, который приходил к вам…
— Любите еврейку! — с ужасом воскликнул дон Вегаль, но, заметив, как помрачнел молодой человек, поспешил добавить: — Сегодня нам надо ехать, но ведь мы сюда еще вернемся!
Через час Мартин Пас, одетый в испанское платье, вместе с маркизом покидал город. Дон Вегаль не взял с собой никого из слуг.
Чоррильос находился в двух лье от Лимы. Небольшая красивая церковь этого индейского прихода во время летнего сезона служила местом встреч местной аристократии. Следует заметить, что азартные игры, запрещенные в Лиме, в Чоррильосе были разрешены на весь летний сезон. Особенным пристрастием к этому делу отличались местные дамы: не один богатый кавалер за одну ночь проигрывал здесь какой-нибудь прелестнице все свое состояние.
Сезон только начался, народу в городке было еще мало, и дон Вегаль со своим спутником без труда устроились в старинном особняке на самом побережье, откуда открывался вид на Тихий океан.
Маркиз дон Вегаль принадлежал к одной из древнейших испанских фамилий и очень гордился этим. Он был последним представителем знаменитого рода. Вот отчего на лице его навсегда застыло выражение усталости и грусти. Какое-то время он активно участвовал в политической жизни страны, но в конце концов возненавидел все эти общественные потрясения, в основе которых лежали, как правило, личные амбиции политических деятелей. С тех пор он жил замкнуто, почти не принимая никого, если не считать редких вынужденных визитов вежливости.
Огромное состояние маркиза таяло день ото дня, имения его были запущены, не хватало рабочих рук, чтобы привести их в порядок, и маркиз постоянно делал разорительные займы. Однако перспектива окончательного краха ничуть не пугала его. Беззаботный, как все испанцы, проводивший все свои дни в праздности, он совершенно не заботился о будущем и не думал о том, что может разориться. Он был когда-то любящим мужем и отцом очаровательной дочери, но оба обожаемых существа погибли во время страшной катастрофы, с тех пор у маркиза не было никаких привязанностей, он жил, ни о чем не задумываясь, отдавшись на волю случая. Дон Вегаль считал, что сердце его омертвело навсегда, но внезапная встреча с Мартином Пасом оживила его — словно пламенная страсть индейца разожгла дремавший под пеплом огонь. Дон Вегаль устал от общества благородных испанских аристократов, ни одному из них он больше не верил, однако он испытывал отвращение и к метисам, которые изо всех сил стремились дотянуться до него. А вот индейцы, напротив, привлекали его. Маркиз с удовольствием общался с этими гордыми и простыми людьми, предки которых так мужественно сражались когда-то с солдатами Писарро.
Маркиз понял, что Мартина Паса считают в Лиме погибшим. Однако его пугала любовь молодого индейца к дочери старого еврея, и он решил вторично выступить в роли его спасителя: ускорить свадьбу Андресв Серта и Сарры.
В те дни, когда Мартин Пас особенно грустил, маркиз, чтобы избежать разговоров о прошлом, постоянно переводил беседу на какие-нибудь отвлеченные темы. И все же однажды, не выдержав очередного приступа тоски у Мартина Паса, дон Вегаль обратился к нему:
— Зачем, мой друг, оскорблять банальными страданиями благородство вашей натуры? Разве не был вашим предком Манко-Капак, истинный герой и патриот своей земли? На прекрасные поступки способен только человек, не униженный недостойной страстью! Разве сердце не подсказывает вам, что самое главное — это вновь обрести свою независимость?
— Мы постоянно стремимся к этому, сеньор! День, когда мои братья поднимутся на борьбу за независимость, возможно, недалек.
— Понимаю! Вы говорите о тайной войне, которую ваши братья готовят в горах? По условному сигналу они с оружием в руках спустятся в город и, как и прежде, будут разбиты! Посмотрите, как вы и ваши собратья оказались втянутыми в эти бесконечные политические потрясения, ареной которых вечно являлось Перу! А в результате всего этого выиграют метисы, которые воспользуются поражением и индейцев и испанцев!
— Мы спасем нашу страну! — воскликнул Мартин Пас.
— Да, вы спасете ее, если осознаете свою истинную роль! Послушайте меня, Мартин Пас, я люблю вас, как сына, и говорю вам с горечью: мы, испанцы, выродившиеся потомки некогда великого народа, не способны вернуть былого великолепия этой стране. А это значит, что вы должны победить в себе проклятый «американизм», который велит изгнать из страны всех европейцев, кем бы они ни были. Знайте, лишь европейская иммиграция спасет перуанскую империю. Вместо той междоусобной борьбы, в которой вы погрязли и которая принесет все касты в жертву одной-единственной, протяните лучше руку трудовым людям Старого Света!
— Индейцы, сеньор, всегда будут видеть врага в любом иностранце, кем бы он ни был, и ни за что не потерпят, чтобы он дышал воздухом наших гор. Та власть, которую я имею над своими собратьями, исчезнет в тот день, когда я изменю клятве уничтожать наших угнетателей. Да и потом, кто я сейчас? — прибавил он печально. — Беглец, которому и трех часов не позволят остаться в живых, если я появлюсь на улицах Лимы…
— Друг мой, обещайте мне больше никогда не говорить об этом.
— Как можно обещать это вам, дон Вегаль, ведь тогда я не смогу больше говорить с вами откровенно!
Маркиз замолчал.
Тоска снедала молодого индейца все сильнее день ото дня. Маркиз содрогался от ужаса при мысли о том, что молодой человек может вернуться в Лиму, где ему грозит верная смерть. Он горячо молился за него и старался насколько можно ускорить свадьбу Сарры. Именно с этой целью он отправился однажды утром из Чоррильоса в Лиму. Там он узнал, что Андрес Серта уже выздоровел и скоро состоится его свадьба, в городе только об этом и говорили.
Дону Вегалю очень хотелось собственными глазами увидеть девушку, которую так любит Мартин Пас. Дождавшись вечера, он отправился на Пласа-Майор, где всегда полно народу, и встретил там своего старого друга отца Хоакина. Священник был страшно удивлен, узнав, что Мартин Пас остался жив. Он пообещал маркизу сообщить дону Вегалю, если узнает что-то новое.
Неожиданно внимание маркиза привлекла девушка в черной мантилье, ехавшая в карете.
— Кто эта красотка? — спросил он у отца Хоакина.
— Невеста Андресв Серта, дочь еврея Самуэля.
— Эта красавица? Дочь еврея?!
С трудом сдерживая волнение, маркиз распрощался с отцом Хоакином и поспешил в Чоррильос. Он узнал в невесте Андресв Серты ту самую девушку, что молилась в церкви Святой Анны.
V
С тех пор как колумбийские войска, которые Боливар отдал под командование генерала Санта-Круса, были изгнаны из Перу, в стране, раздираемой постоянными военными мятежами, наступило относительное спокойствие. Неуемные амбиции завоевателей несколько поутихли, и укрепились позиции президента Гамарры, расположившегося во дворце на Пласа-Майор. Настоящая опасность таилась вовсе не в этих мятежах, которые угасали так же быстро, как и вспыхивали, и лишь развлекали местных жителей, обожавших военные потехи. Этой опасности не замечали ни испанцы, которые вознеслись слишком высоко, ни метисы, которые не желали смотреть вниз.
А тем временем необычное возбуждение охватило индейцев, которые зачастили в город, где они встречались с другими жителями гор. Казалось, они разом сбросили с себя апатию и перестали лениво греться на солнышке, завернувшись в свои пончо. Индейцы ходили по деревням, встречались со своими сородичами, узнавая друг друга с помощью условных знаков, они собирались в трактирах, старательно обходя места бойкой торговли.
На одной из удаленных от центра площадей Лимы стоял жалкий одноэтажный домишко. Эту дешевую таверну держала старая индианка, которая могла предложить своим непритязательным клиентам лишь маисовое пиво да напиток из сока сахарного тростника.
В определенный час, когда на крыше таверны появлялся длинный шест — сигнал сбора, индейцы всех мастей: проводники, погонщики мулов и каретники — входили в таверну по одному и рассаживались в большом зале. Хозяйка сновала взад и вперед с озабоченным видом и, отдав распоряжения служанке, старалась сама обслужить посетителей.
Несколько дней спустя после исчезновения Мартина Паса в зале таверны, утопавшем в табачном дыму, собралось около полусотни индейцев, усевшихся вокруг длинного стола. Одни жевали чайный лист, смешанный с пахучей глиной, другие потягивали маисовое пиво, но при этом все внимательно слушали выступавшего перед ними оратора. Это был Самбо.
Окинув собравшихся внимательным взглядом, он начал:
— Сыны Солнца могут говорить здесь свободно. Тут нет предательских ушей. На площади наши друзья, переодевшись уличными певцами, развлекают народ, так что мы можем ничего не опасаться.
С улицы и в самом деле доносились звуки мандолины, и поэтому индейцы в таверне чувствовали себя в полной безопасности.
— Какие новости о Мартине Пасе можешь ты сообщить нам, Самбо? — спросил один из индейцев.
— Никаких. Одному Господу Богу известно, жив он или нет. Я жду наших братьев, которые спустились до устья реки, Может быть, им удалось найти хотя бы его тело…
— Мартин Пас был настоящий вождь, — сказал Мананья-ни, индеец с суровым лицом, которого все немного побаивались. — Однако почему его не было с нами, когда подошла шхуна с оружием?
Ничего не ответив ему, Самбо опустил голову.
— Знают ли мои братья о том, — продолжал Мананьяни, — что между шхуной «Анунсиасьон» и береговой охраной произошла перестрелка? Если бы солдатам удалось захватить шхуну, рухнули бы все наши планы.
Собравшиеся встретили эти слова раздраженным гулом.
— Да будут благословенны те из моих братьев, кто предпочитает выжидать, вместо того чтобы действовать и судить о поступках других, — продолжал Самбо. — Как знать, вдруг мой сын Мартин Пас когда-нибудь вернется… Послушайте, оружие, которое нам прислали из Сечуры, уже в наших руках! Мы спрятали его в Кордильерах и пустим в ход, как только вы будете готовы выступить.
— А кто нам мешает? — выкрикнул молодой индеец. — Мы уже давно наточили ножи и только ждем сигнала.
— Скоро настанет этот час! — воскликнул Самбо. — Знают ли мои братья, по какому врагу мы должны нанести первый удар?
— По метисам, которые обращаются с нами как с рабами! — крикнул один из индейцев. — По этим наглецам, которые то и дело потчуют нас кулаками и кнутом, словно упрямых мулов.
— А я думаю, — возразил другой, — надо начинать со скупщиков драгоценных камней!
— Оба вы неправы! — перебил их Самбо. — Первый удар мы нанесем совсем не там! Наши враги — вовсе не те люди, что пришли на землю наших предков триста лет назад. И не те, что уничтожили сыновей Манко-Капака. Ваши истинные поработители — сегодняшние надменные испанцы, рабами которых вы являетесь и по сей день! Да, они утратили свое богатство, но сила по-прежнему на их стороне, и, вопреки перуанской демократии, они до сих пор попирают наши права! Забудем же, кто мы сейчас, и вспомним, кем были наши отцы!
— Верно! Верно! — подхватили собравшиеся.
Самбо уже успел опросить главных заговорщиков и убедился, что соратники из Куско и из многих областей Боливии готовы выступить все как один.
Он продолжал, все более распаляясь:
— Сравнится ли ненависть наших братьев горцев с твоей ненавистью, наш храбрый Мананьяни? Готовы ли они обрушиться на Лиму, словно горный обвал в Кордильерах?
— Наши братья не обманут твоих ожиданий, Самбо! Пусть только Самбо выйдет из города в назначенный день, ему не придется далеко идти, чтобы отыскать индейцев, готовых сражаться за свободу! На перевалах Сан-Кристобаль и Аманкес их очень много, наших братьев. Завернувшись в свои пончо, повесив кинжалы на пояс, они ждут, чтобы им дали в руки оружие. Они не забыли, что их долг — отомстить за разгром потомков Манко-Капака!
— Отлично, Мананьяни! Видно, сам Бог ненависти говорит твоими устами. Скоро мои братья узнают имя нашего нового вождя. Президент Гамарра думает не о народе, а лишь о том, чтобы укрепить свою власть, Боливар далеко, Санта-Крус изгнан… так что мы с вами должны действовать наверняка. Через несколько дней начнется праздник аманкес[295], который сулит множество удовольствий нашим угнетателям. Пусть каждый из вас будет готов к выступлению. И пусть мое слово донесется до самых отдаленных уголков Боливии!
Трое новых посетителей вошли в таверну.
— Ну что? — повернулся к ним Самбо.
— Мы не нашли тела Мартина Паса, хотя обыскали всю реку. Самые лучшие ныряльщики осмотрели дно. Мы считаем, что сын Самбо не погиб в волнах Римака.
— Значит, они убили его! О, горе вам, люди, если вы убили моего сына! Пусть мои братья расходятся тихо, пусть каждый из вас вернется на свое место, внимательно смотрит вокруг и ждет.
Индейцы вышли. Самбо остался один на один с Мананьяни, который спросил:
— Знает ли Самбо, что привело его сына в тот вечер в предместье Сан-Ласаро? Уверен ли Самбо в нем?
Глаза индейца сверкнули так гневно, что Мананьяни отпрянул назад. Однако Самбо сдержался.
— Если Мартин Пас предал своих братьев, я убью сначала тех, кому он подарил свою дружбу, потом тех, к кому обращена его любовь. После этого я убью его и себя, чтобы даже следа не осталось от рода, покрывшего себя позором!
Вошла хозяйка таверны и подала Самбо записку.
— Здесь собирались только индейцы?
— Да.
— Кто вам дал это?
— Не знаю. Я думаю, записку оставил один из посетителей, я нашла ее на столе.
Хозяйка вышла. Самбо развернул записку и громко прочел вслух:
— «Молодая девушка молит Бога за Мартина Паса, ибо не может забыть человека, который рисковал ради нее своей жизнью. Если Самбо что-нибудь знает о своем сыне или надеется найти его, пусть обернет руку красным платком. Его увидят глаза, которые следят за Самбо всегда».
Он смял записку.
— Несчастный, он влюбился в женщину!
— Что за женщина? — спросил Мананьяни.
— Она не индианка, — ответил Самбо, взглянув на записку. — Это девушка из богатой семьи… Ах, Мартин Пас, я не узнаю тебя!
— Сделаете ли вы то, о чем пишет эта женщина?
— Конечно нет. Пусть даже не надеется, пусть хоть умрет!
Самбо в бешенстве порвал записку.
— Но ведь эту записку, должно быть, принес какой-то индеец… — заметил Мананьяни.
— О, это не мог быть ни один из наших! Кто-то узнал, что я часто бываю здесь, но с этой минуты ноги моей больше в этой таверне не будет! Брат мой, возвращайся в горы, а я останусь здесь следить за городом. Посмотрим, для кого обернется весельем этот праздник: для поработителей или порабощенных.
Они разошлись в разные стороны.
План восстания был детально разработан и уже назначен его час. В это время года Перу становится малолюдным, здесь остается совсем немного испанцев и метисов. Индейцы, которые прибудут из лесов Бразилии, с равнины Ла-Плата[296] и спустятся с гор Чили, составят огромную армию. Когда удастся захватить такие большие города, как Лима, Куско и Пуно, вряд ли на помощь перуанским солдатам придут колумбийские войска, которые были недавно изгнаны перуанским правительством. Итак, восстание удастся, если каждый индеец сохранит тайну в своем сердце и среди них не окажется ни одного предателя.
Откуда было знать Самбо, что один человек, попросивший аудиенции у президента Гамарры, сообщил ему, что в устье Римака оружие со шхуны «Анунсиасьон» было выгружено в индейские пироги. Предатель получил щедрое вознаграждение за услуги, оказанные перуанскому правительству. Этот человек вел двойную игру: он за крупную сумму предоставил свою шхуну сторонникам Самбо, а затем выдал президенту план заговорщиков.
В человеке этом можно было без труда узнать еврея Самуэля.
VI
Андрес Серта окончательно выздоровел. Он был уверен в гибели Мартина Паса и теперь постоянно торопил Самуэля со свадьбой. Ему не терпелось пройтись по улицам Лимы с юной красавицей Саррой.
А она по-прежнему встречала его с высокомерным безразличием. Впрочем, это обстоятельство нимало не смущало метиса, ведь он заплатил за Сарру, словно за дорогую вещь, сто тысяч пиастров.
Нужно сказать, что Андрес Серта не слишком доверял старому еврею, и не без основания: не говоря уже о том, что сам брачный контракт не вызывал большого доверия, обе договаривающиеся стороны тоже не заслуживали уважения. Поэтому метис решил еще раз тайно встретиться с Самуэлем и пригласил его в Чоррильос, к тому же он был не прочь накануне свадьбы попытать счастья в игре.
Открытие игорного дома на курорте произошло вскоре после приезда маркиза дона Вегаля, и с этого дня движение на дороге, ведущей из Лимы, становилось все оживленнее. Одни, добравшись сюда пешком, уезжали в карете, другие просаживали все свое состояние без остатка и уходили пешком.
Дон Вегаль и Мартин Пас не принимали участия в этих развлечениях, молодого индейца лишали сна более благородные переживания.
После вечерней прогулки с маркизом Мартин Пас обычно шел к себе и, усевшись у окна, проводил томительные часы, вспоминая прошлое.
Дон Вегаль тоже никак не мог забыть девушку, которую видел в храме, но не решался рассказать об этом Мартину Пасу. Маркиз боялся, что его признание вновь возродит в сердце юноши те чувства, которые ему хотелось бы поскорее погасить, — ведь у молодого изгнанника не было никакой надежды связать когда-либо свою судьбу с Саррой.
Полиция Лимы понемногу забыла о Мартине Пасе, и юноша решил, что теперь, когда он пользуется покровительством маркиза, он может появиться среди курортников.
Прежде всего Мартин Пас решил выяснить, что стало с юной дочерью Самуэля. Одетый в испанское платье, он беспрепятственно проникнет в игорный дом и послушает, о чем там говорят. Андрес Серта достаточно заметный человек в городе, и приближавшаяся свадьба была предметом живого обсуждения у жителей столицы.
Однажды вечером, вместо того чтобы отправиться к океану, индеец поднялся на склон горы, где разместились главные здания Чоррильоса, и по широкой каменной лестнице вошел в один из домов.
Это был игорный дом. День выдался тяжелый, душный. Разбитые после изнурительной ночи, несколько посетителей улеглись прямо на полу, завернувшись в пончо. Игроки сидели за столом, покрытым зеленым сукном и расчерченным на четыре квадрата. В каждом квадрате стояли буквы «а» или «с» — первые буквы слов «асар» и «суэрте»[297]. Игроки понтировали на одну или другую букву, банкомет объявлял ставки и выбрасывал кости, которые приносили выигрыш либо «а», либо «с».
Ставки стремительно повышались. Какой-то метис с лихорадочным жаром ловил ускользавшую удачу.
— Две тысячи пиастров! — выкрикнул он.
Банкомет бросил кости, и метис разразился проклятиями, но тут же закричал снова:
— Четыре тысячи!
И снова проиграл.
Мартин Пас, старавшийся держаться в стороне, взглянул на игрока. Это был Андрес Серта. А рядом с метисом молодой человек увидел старого Самуэля.
— Хватит, остановитесь, сеньор, — уговаривал метиса Са-муэль, — сегодня фортуна явно не благоволит вам.
— Вам-то какое дело? — вспылил Андрес Серта.
— Действительно, не мое это дело, но вам следовало бы отказаться от подобных занятий накануне свадьбы.
— Восемь тысяч пиастров! — выкрикнул Андрес Серта, поставив на «с». Однако выигрыш пал на «а». Метис выругался.
— Делайте ваши ставки, сеньоры! — призывал банкомет.
Андрес Серта, вытащив из кармана пачку денег, собирался поставить на все. Он бросил пачку на стол, и банкомет уже начал встряхивать кости, но тут Самуэль решительно остановил метиса. Он наклонился к Андресу Серте и тихо сказал ему на ухо:
— Если вы проиграетесь и у вас не останется денег для заключения брачного контракта, все будет кончено сегодня же вечером!
Андрес Серта, втянув голову в плечи, молча сгреб со стола деньги и вышел.
— А вы можете продолжать! — бросил Самуэль банкомету. — У вас еще будет возможность заняться разорением этого сеньора после свадьбы.
Тот молча склонился в почтительном поклоне — ведь Самуэль был владельцем этого игорного дома. Старый еврей никогда не упускал случая заработать хотя бы реал.
Самуэль двинулся вслед за метисом и остановил его у входа.
— Мне нужно сообщить вам нечто очень важное. Где мы могли бы поговорить, чтобы нас никто не услышал?
— Да где хотите! — огрызнулся Серта.
— Сеньор, ваше раздражение может обойтись вам очень дорого! Я не доверяю ни закрытым комнатам, ни пустынным улицам. Мне нужно поведать вам одну тайну. Поверьте, она очень дорого стоит!
Они вышли из игорного дома и направились на берег океана. Добравшись до пляжа, они остановились возле пустых кабинок для купальщиков. Откуда им было знать, что Мартин Пас все видел и слышал: он, словно змея, скользил за ними в темноте.
— Возьмем лодку, — сказал Андрес Серта, — и выйдем в океан.
Он отвязал небольшую лодку и бросил несколько монет сторожу. Самуэль и метис уселись в нее и направились в открытый океан.
Стараясь не упустить из виду удаляющуюся лодку, Мартин Пас, прятавшийся в скалах, быстро разделся, оставив на себе пояс с кинжалом, и поплыл вслед за лодкой.
Последние лучи солнца утонули в волнах, и тихие сумерки окутали океан.
Мартин Пас совсем забыл, что в этих краях встречаются страшные акулы. Он приблизился к лодке настолько, что мог слышать голоса.
— Но какие доказательства, что это его дочь, могу я представить ее отцу? — спросил Андрес Серта.
— Вы напомните ему об обстоятельствах, при которых он потерял своего ребенка.
— А именно?
— Сейчас скажу…
Мартин Пас слушал, стараясь держаться над водой, но ничего не понимал.
— Отец Сарры жил тогда в Консепсьоне[298]. Как вы уже знаете, он был очень важный сеньор и столь же богат, сколь знатен. Однажды ему пришлось поехать по делам в Лиму, и он отправился туда, оставив в Консепсьоне жену и дочь, которой тогда было всего пятнадцать месяцев. Ему очень понравилось в Перу, и он попросил маркизу приехать к нему. Вместе с несколькими слугами она села на корабль «Сан-Хосе», идущий из Вальпараисо. Я плыл на том же корабле. «Сан-Хосе» должен был сделать остановку в Кальяо, но вблизи островов Хуан-Фернандес его настиг ураган. Корабль потерял управление, он сильно накренился и лег на борт. Экипаж и пассажиры пытались спастись в шлюпках. Едва взглянув на разъяренные волны, маркиза отказалась сесть в шлюпку и, прижав к груди малышку, осталась на корабле. Я тоже остался. Шлюпка с пассажирами стала удаляться, но, отойдя на сотню метров от «Сан-Хосе», она перевернулась и затонула со всеми, кто в ней находился. Мы остались одни посреди бушующего океана. Ураган становился все яростней. Поскольку мои деньги были не со мной, я не слишком отчаивался, хотя вода в трюме поднялась уже на пять футов. Вскоре волной корабль выбросило на прибрежные скалы. Молодая маркиза вместе с дочерью оказалась в воде. К счастью, я успел схватить на руки ребенка, а мать утонула у меня на глазах. Сам не понимаю, как мне удалось с ребенком добраться до берега.
— Вы все точно помните?
— Абсолютно точно. Отец не станет отрицать. Какой же чудесный выдался сегодня денек, сеньор! Он принесет сто тысяч пиастров, и вы немедленно мне их отсчитаете!
«Что бы это могло значить?» — недоумевал Мартин Пас.
— Вот кошелек, в нем сто тысяч пиастров! — произнес Андрес Серта.
— Спасибо, сеньор! — усмехнулся Самуэль, хватая добычу. — Возьмите расписку. Клянусь, я верну вам вдвое большую сумму, если вы не станете членом одной из самых знатных семей в Испании.
Но индеец уже не слышал этих слов: ему пришлось нырнуть, чтобы не столкнуться с лодкой. И тут он заметил какую-то тень, быстро приближавшуюся к нему.
Это была тинторера[299] — самая хищная и страшная из акул. Мартин Пас нырнул, но вскоре высунул голову из воды, чтобы набрать воздуха, и получил мощный удар хвостом. Он почувствовал на своей груди прикосновение липкой чешуи. Акула перевернулась на спину, чтобы схватить свою добычу, и уже разинула пасть с тремя рядами зубов. Белое брюхо было совсем рядом, и Мартин Пас с размаху вонзил в него кинжал.
Вода окрасилась кровью. Мартин Пас снова нырнул и, проплыв под водой, вынырнул на несколько метров дальше.
Лодки метиса нигде не было видно. Мартин Пас быстро поплыл к берегу, забыв об опасности, которой только что избежал.
На следующий день юноша покинул Чоррильос. Дон Вегаль, обеспокоенный исчезновением молодого индейца, вернулся в Лиму, чтобы найти его.
VII
Свадьба Андресв Серты и дочери богатого торговца Саму-эля была в центре всеобщего внимания. Знатные сеньоры без устали готовили, примеряли роскошные туалеты, придумывали замысловатые прически, короче, не отдыхали ни минуты.
Бесконечные приготовления велись и в доме Самуэля, который хотел, чтобы эта свадьба надолго запомнилась всем. Он приказал обновить фрески, украшавшие его дом, повесить на двери и окна роскошные занавеси, ниспадавшие широкими складками, расставить в просторных, прохладных комнатах резную, богато инкрустированную мебель. Вдоль террас и балюстрад были высажены редкие растения, привезенные из дальних стран.
Итак, у бедной девушки не оставалось больше никакого выхода. Раз Самбо не надел условного знака на рукав, значит, и он тоже утратил надежду. Либертад следил за каждым шагом старого индейца.
Если бы бедная Сарра могла следовать велению своего сердца, она сочла бы за благо удалиться до конца своих дней в монастырь. Ее давно влекло к католицизму. Тайно окрещенная отцом Хоакином, она была искренне предана этой религии, которая в полной мере отвечала ее душевным порывам.
Отец Хоакин, стараясь избежать скандала, как человек, который способен больше прочесть в своем требнике, нежели в человеческом сердце, делал все, чтобы Сарра поверила в смерть Мартина Паса. Самым важным для него событием был переход девушки в католицизм, и, поняв, что ее брак с Андресом Сертой — дело решенное, он старался убедить Сарру смириться с этим. Однако святой отец не догадывался, на каких условиях был заключен этот брачный контракт.
И вот настал этот день — столь радостный и долгожданный для одних и столь печальный и нежеланный для других. На свадебное торжество Андрес Серта пригласил весь город, однако большинство семей знатных аристократов под всевозможными благовидными предлогами от этого приглашения отказались.
Наступил час подписания контракта, а молодая девушка все не появлялась…
Старый Самуэль был не на шутку встревожен. Андрес Серта недовольно хмурил брови. Лица гостей, собравшихся в ярко освещенном салоне, где огни множества свечей бесконечно повторялись зеркалами, выражали смущение.
А по улице перед входом в дом Самуэля в смертной тоске бродил человек. Это был маркиз дон Вегаль.
VIII
Сарра в отчаянии закрылась в своей комнате, казалось, она была не в силах переступить ее порог. Но вот, задыхаясь от волнения, она выбежала на балкон, выходивший в сад, и вдруг заметила внизу человека, скользнувшего между кустами магнолий. Она узнала своего слугу Либертада, который, казалось, следил за кем-то: он то прятался за скульптурами, то крался, пригибаясь к земле. И вдруг она увидела, как Либертад бросился на какого-то высокого мужчину, который свалил слугу наземь и зажал ему рот.
Девушка едва не закричала, когда оба противника поднялись с земли. А негр, уставившись на незнакомца, тихо произнес:
— Вы? Так это вы!
И прежде чем Сара успела прийти в себя, высокий незнакомец предстал перед ней, словно призрак из потустороннего мира. Девушка опустила голову под взглядом Мартина Паса и так же, как ее слуга, воскликнула:
— Вы?! Неужели это вы?!
— Слышит ли невеста этот праздничный шум? — спросил юноша, не спуская с нее глаз. — Гости собрались в доме, чтобы увидеть ее сияющее от счастья лицо… А что они увидят? Лицо жертвы, обреченной на заклание! Вместо счастья они прочтут страдание в ее глазах…
Сарра слышала его как сквозь сон.
— Если юная дева страдает, пусть направит она свой взор подальше отсюда, подальше от дома своего отца, от города, который принес ей столько горя и боли!
Сарра подняла на него глаза. Мартин Пас стоял перед ней, выпрямившись во весь рост и указывая рукой на горы, — то была дорога к свободе.
За дверью послышался шум голосов. К комнате приближались какие-то люди. Очевидно, сейчас сюда войдет отец, а за ним — и жених.
Мартин Пас быстро задул лампу. Тонкий свист, подобный тому, что раздался однажды на Пласа-Майор, прорезал сумерки.
Дверь распахнулась. На пороге стояли Андрес Серта и Самуэль, пристально вглядывавшиеся в темноту. Прибежали слуги с факелами. Комната невесты была пуста…
— Проклятье! — прорычал метис.
— Где она? Где Сарра?! — воскликнул Самуэль.
— Вы мне за нее отвечаете! — вопил метис.
Старый еврей почувствовал, как его прошиб холодный пот.
— Сюда! Ко мне! — крикнул он и в сопровождении слуг бросился из дому.
Мартин Пас мчался по улицам города. В сотне шагов от дома Самуэля он наткнулся на группку индейцев, прибежавших на его свист.
— Бежим в горы! — крикнул он.
— Нет! В дом маркиза дона Вегаля! — раздался сзади негромкий голос.
Мартин Пас обернулся и увидел испанца, остановившегося в нескольких шагах от него.
— Вы доверите мне эту юную девушку? — спросил маркиз.
Индеец молча наклонил голову.
— Идем в дом маркиза дона Вегаля! — глухо приказал он Сарре.
Мартин Пас оставил девушку на попечение маркиза. Он понимал, что там она будет в абсолютной безопасности, однако долг чести не позволял ему самому провести ночь под крышей этого дома.
Он выбежал на улицу. Кровь бурлила у него в сердце, глаза пылали гневом. Не успел он пройти нескольких шагов, как на него набросились пятеро мужчин и, несмотря на отчаянное сопротивление юноши, скрутили его. Мартин Пас взвыл от отчаянья, он был уверен, что попал в руки врагов. Однако когда через несколько минут он очутился в комнате и ему развязали глаза, он увидел, что его привели в ту самую таверну, где собирались его братья, готовившие восстание. Был здесь и Самбо, ставший свидетелем похищения девушки, и Мананьяни, и еще много других. Мартин Пас окинул собравшихся невидящим взглядом.
— Сыну, видно, не жалко моих слез, — сказал Самбо, — раз он так долго не давал о себе знать…
— Разве пристойно Мартину Пасу, нашему вождю, находиться накануне восстания в стане наших врагов? — спросил Мананьяни.
Мартин Пас не удостоил ответом ни того, ни другого.
— Итак, наше святое дело принесено в жертву женщине!
Произнося эти слова, Мананьяни медленно приближался к Мартину Пасу с кинжалом в руке, но тот даже не взглянул на него.
— Сначала надо поговорить, — остановил Мананьяни старый Самбо, — а уж потом действовать. Если мой сын не будет заодно со своими братьями, я знаю, кому мстить за эту измену! Подумай лучше, Мартин Пас! Не так уж хорошо спрятана дочь еврея Самуэля, чтобы ей удалось уйти от нас… Пусть мой сын еще раз хорошенько подумает! Если он будет приговорен к смерти, он не найдет в этом городе ни одного камня, где он мог бы приклонить голову. Если же он встанет в ряды борцов за свободу, честь ему и хвала! И всеобщее уважение!
Мартин Пас молчал. В душе его шла страшная борьба, Самбо задел самые чувствительные ее струны.
Мартин Пас был необходим этим людям, он пользовался у них непререкаемым авторитетом, они были готовы идти на смерть по первому его знаку.
Самбо приказал развязать его. Мартин Пас встал.
— Сын мой, — сказал старый индеец, — завтра, во время праздника аманкес, наши братья лавиной обрушатся на безоружных жителей Лимы. Перед тобой две дороги: дорога в Кордильеры и дорога в город. Выбирай!
— В горы! — крикнул Мартин Пас. — Идем в горы! И горе нашим врагам!
Восходящее солнце осветило своими первыми лучами индейских вождей, собравшихся на свой совет в Кордильерах.
IX
Наступило двадцать четвертое июня — праздник аманкес. Жители Лимы — кто пешком, кто верхом, кто в карете — направлялись к знаменитому плато, расположенному неподалеку от города. В пестрой толпе перемешались метисы и индейцы, которые весело шагали целыми семьями или просто небольшими компаниями. Все несли с собой еду. Впереди шагал гитарист, исполнявший популярные песни. Они шли мимо кукурузных и люцерновых полей, мимо банановых рощ, по аллеям, обсаженным высокими вербами, мимо посадок лимонных и апельсиновых деревьев, и их аромат перемешивался с запахом горных трав. Кое-кто сворачивал в придорожный трактир, где угощали водкой и пивом, и после обильных возлияний с шумом и хохотом продолжал свой путь. Всадники гарцевали в толпе, демонстрируя свою удаль и ловкость.
На этом празднике, который назван по имени скромного горного цветка, царило благодушное веселье, он никогда не омрачался дракой. Однако всадники в блестящих касках на всякий случай следили за порядком.
Внизу, у их ног, лежал древний Город королей, устремивший к нему свои башни и колокольни: вон возвышается Сан-Педро, а неподалеку — Сан-Аугустин с его сверкающим куполом, еще дальше — богатая церковь Санта-Доминго, в которой Мадонна ежедневно меняет свои одежды. А вдали катит свои волны под дуновением легкого морского ветерка Тихий океан. От самого Кальяо до Лимы высятся древние памятники — реликвии великой династии инков. Великолепная панорама завершается уходящим вдаль мысом Морро-Салар.
Пока жители Лимы любовались этими красотами, на снежных вершинах Кордильер готовилась новая драма.
Как только жители покинули город, улицы столицы заполнили толпы индейцев. Обычно они принимали активное участие в празднике аманкес, но сейчас тихо шагали по улицам с какими-то странными озабоченными лицами. Время от времени какой-нибудь вождь отдавал приказ и продолжал свой путь. Наконец все они сосредоточились в богатых кварталах города.
Солнце клонилось к горизонту, приближался тот час, когда вся городская аристократия тоже отправлялась на праздник. Знать ехала в экипажах, дамы блистали роскошными туалетами. И вновь все смешалось в единую толпу: пешеходы, всадники, кареты.
Едва на башне пробило пять часов, городские улицы огласил громкий крик: со всех площадей и улиц, от всех домов бежали индейцы, сжимая в руках оружие. Богатые кварталы наполнились повстанцами. Многие поднимали над головой зажженные факелы.
— Смерть испанцам! Смерть угнетателям! — неслось со всех сторон.
С холмов спускались новые отряды повстанцев, которые присоединялись к своим собратьям. Лима превратилась в муравейник. Повстанцы заняли все кварталы. Во главе одной из колонн шел Мартин Пас, размахивая черным знаменем. Пока индейцы штурмовали дома, которые были намечены заранее, Мартин Пас со своими товарищами добрался до Пласа-Майор. Мананьяни, шагавший рядом с ним, подгонял отстающих.
Перед дворцом президента выстроились шеренги солдат. Они были предупреждены о восстании и встретили повстанцев шквальным огнем. В первую минуту индейцы растерялись от неожиданности, видя, как первый залп скосил их товарищей, но затем с новой решимостью бросились на солдат. Началась яростная схватка, люди сражались врукопашную. Мартин Пас и Мананьяни бились не на жизнь, а на смерть.
Повстанцы решили во что бы то ни стало взять дворец и укрепиться в нем.
— Вперед! — крикнул Мартин Пас и повел товарищей на приступ.
Несмотря на яростное сопротивление противника, индейцам удалось оттеснить правительственные войска, окружавшие дворец. Мананьяни уже взбежал на лестницу и вдруг остановился. Солдаты расступились, освобождая место для двух пушек, готовых начать стрельбу по осаждавшим.
Нельзя было терять ни секунды. Повстанцы должны захватить пушки, пока не раздался первый залп.
— Это под силу лишь нам двоим! — крикнул Мананьяни Мартину Пасу.
Но Мартин Пас не слышал его, ибо в этот момент наклонился к негру, который прошептал ему на ухо:
— Грабят дом дона Вегаля. А может быть, уже и убивают его самого!
Услышав эти слова, Мартин Пас замер на месте, потом отступил на шаг. Мананьяни хотел было увлечь его за собой, но в этот момент пушечный залп смел индейцев.
— Ко мне! — крикнул Мартин Пас.
Несколько верных друзей окружили его, и они, прорвав цепь солдат, бросились бежать. Это было равносильно измене. Повстанцы поняли, что восстание обезглавлено. Мананьяни не удалось повести соратников на новый штурм дворца. Пушки били по восставшим в упор, вырывая из их рядов все новых и новых бойцов. Замешательство было всеобщим, поражение — очевидным. Несколько кварталов было охвачено огнем. Солдаты с обнаженными саблями преследовали убегавших индейцев, немало повстанцев погибло в этой схватке.
Мартин Пас добежал до дома маркиза, ставшего ареной яростной битвы, которую возглавлял Самбо. Старый индеец преследовал двойную цель: расправиться с испанцем и захватить в плен Сарру, чтобы вернуть сына на праведный путь.
Ворота и ограда были уже разрушены. Вооружившись шпагой, дон Вегаль вместе со слугами отчаянно отбивался от нападавших индейцев. Этот благородный и гордый человек сражался героически, бесстрашно отражая натиск. Противники один за другим падали под его ударами.
Но что могла сделать горстка защитников дома, осажденного толпой индейцев, которая разрасталась с каждой минутой, ибо к ней присоединялись повстанцы, бежавшие с Пласа-Майор? Дон Вегаль чувствовал, как слабеют силы его защитников, и уже приготовился достойно встретить смерть, как вдруг появился Мартин Пас, который напал на индейцев сзади и заставил их повернуть оружие против него. Под градом пуль он пробрался к дону Вегалю и заслонил его своим телом.
— Прекрасно, сын мой! Прекрасно! — сказал дон Вегаль, пожав ему руку.
Но юноша в ответ лишь нахмурился.
— О, какое счастье, Мартин Пас! — услышал он позади себя голос, который пронзил его душу.
Он узнал голос Сарры, и рука его очертила кровавый круг.
Воины Самбо начали сдавать свои позиции. Не раз этот новоявленный Брут направлял свои удары против сына, но безуспешно. И каждый раз Мартин Пас опускал свое оружие, готовое поразить отца.
Внезапно рядом с Самбо появился весь залитый кровью Мананьяни.
— Ты же поклялся отомстить предателю за измену! — обратился он к Самбо. — Ты поклялся отомстить его близким, его друзьям, ему самому! Настал твой час. Самбо! Солдаты уже близко, и метис Андрес Серта с ними!
— Идем, Мананьяни, — произнес Самбо со зловещей усмешкой. — Идем.
Оставив дом маркиза Вегаля, они ринулись навстречу солдатам. Те уже прицелились в индейцев, но Самбо бесстрашно двинулся навстречу метису.
— Вы Андрес Серта? — спросил он. — Знайте, что ваша невеста находится в этом доме и Мартин Пас собирается увести ее в горы.
Сказав это, индейцы исчезли.
Так Самбо столкнул двух смертельных врагов. Солдаты, увидев Мартина Паса, бросились штурмовать дом маркиза. Андрес Серта при виде соперника обезумел от ярости и бросился на Мартина Паса.
— Третий не подходи! — крикнул индеец, сбегая вниз по лестнице, которую он так отчаянно защищал.
Они сошлись лицом к лицу, глаза обоих метали молнии. Ни друзья, ни враги не осмеливались приблизиться к ним. Соперники сошлись в смертельной схватке и старались задушить один другого. Андрес Серта ловко вывернулся, и тут у индейца выскользнул из руки кинжал. Метис уже занес руку для удара, но Мартин Пас перехватил ее. Тщетно пытался Андрес Серта вырвать руку. Мартин Пас подобрал кинжал и с силой вонзил его в сердце метиса.
Потом он бросился в дом дона Вегаля.
— В горы, сын мой! Беги в горы! Это мой приказ! — потребовал маркиз.
Неизвестно откуда появился еврей Самуэль, он наклонился над телом Андресв Серта и вытащил у него бумажник. Однако Мартин Пас заметил это и, выхватив из рук старика бумажник, раскрыл его. Достав из него бумагу, он развернул и прочел ее, а потом с радостным возгласом обернулся к маркизу. Вот что он прочел:
«Сия расписка дана сеньору Андресу Серте — в получении от него юо ооо пиастров, которые я обязуюсь вернуть ему, если не подтвердится, что Сарра, спасенная мною во время гибели шхуны «Сан-Хосе», не является дочерью и единственной наследницей маркиза дона Вегаля.
Самуэль».
— Моя дочь! — С этим возгласом маркиз бросился в комнату Сарры, однако девушки он там не нашел.
Отец Хоакин, обливавшийся кровью, смог произнести лишь несколько слов:
— Самбо!.. Ее похитили… Река Мадейра…[300]
Х
— В путь! — крикнул Мартин Пас.
Не говоря ни слова, дон Вегаль последовал за индейцем. Сарра — его дочь! Он должен найти свою дочь во что бы то ни стало!
Привели и запрягли мулов. Дон Вегаль и индеец оплели ремнями гетры и надели широкополые соломенные шляпы, затем оба прикрепили к седлам пистолеты, а к поясу — карабины. Мартин Пас обернул вокруг себя лассо, конец которого он крепко-накрепко привязал к упряжи своего мула.
Мартин Пас прекрасно знал горы и долины, по которым им предстояло проехать, он сразу догадался, в какой глухой угол постарается Самбо упрятать его невесту. Невесту! Посмеет ли он теперь назвать так эту девушку, оказавшуюся дочерью знатного сеньора?
Движимые одной мыслью и единой целью, путники углубились в горы, пробираясь по узким ущельям, заросшим соснами и пальмами. Позади остались араукариевые леса, бескрайние плантации хлопчатника и алоэ, поля, засеянные кукурузой и люцерной. То и дело натыкаясь на колючие кактусы, мулы в нерешительности останавливались, нередко замирая у самого края пропасти.
Дорога была трудна и небезопасна. Снега, таявшие в горах под лучами жаркого июньского солнца[301], обрушивались вниз водопадами, порой потоки камней с грохотом устремлялись по склону горы в пропасть. Но путники, не останавливаясь, спешили вперед и вперед. Наконец они достигли вершины — четырнадцать тысяч футов над уровнем моря — сплошной голый камень, никакой растительности. Свирепый кордильерский шквальный ветер вздымал над горами снежные вихри. Время от времени дон Вегаль останавливался перед очередным снежным заносом, и Мартин Пас помогал ему преодолеть препятствие.
На этой высоте, где человеку так трудно дышать, даже самые отчаянные смельчаки порой теряют мужество, и только очень твердая воля способна преодолеть усталость.
Спускаясь по восточному склону, они наткнулись на следы индейцев и поняли, что здесь они могут спуститься в долину, покрытую труднопроходимыми девственными лесами, — такие долины разделяли Перу и Бразилию. Здесь Мартину Пасу вновь помогли его индейская смекалка и опыт, он подмечал все: полузатухший костер, сломанные ветки, малейшие, еле заметные следы пребывания человека.
Дон Вегаль выражал опасение, что его несчастную дочь похитители ведут по дороге, усеянной острыми камнями и поросшей колючими растениями, но индеец, указав ему на несколько вдавленных в землю камней, заявил, что это следы животного, а сломанные ветки деревьев свидетельствуют о том, что здесь проехал человек верхом на лошади. Услышав эти пояснения, дон Вегаль немного успокоился. Мартин Пас так ловко и уверенно двигался по лесным и горным дорогам, словно для него не существовало никаких препятствий или опасностей.
Но вот наступил вечер, и путники, добравшись до берега реки, вынуждены были остановиться, сраженные усталостью. Это был приток Мадейры, который индеец сразу узнал. Огромные магнолии, склонившиеся над водой, были опутаны капризными лианами, которые перекинулись с одного берега на другой.
«Куда же направились похитители? — спрашивал себя Мартин Пас. — Вверх или вниз по реке? А может, они переправились здесь на другой берег?»
С трудом ориентируясь в темноте по еле заметным следам, он вышел к опушке леса и понял, что именно здесь похитители перебрались через реку. Внимательно приглядевшись, Мартин Пас заметил, как в кустарнике зашевелилась какая-то темная масса. Он уже приготовился бросить свое лассо, но, подойдя поближе, увидел раненого мула, который бился в конвульсиях. Очевидно, животное ранили далеко отсюда: кровавый след тянулся откуда-то из глубины леса. По-видимому, индейцы не смогли заставить мула войти в воду и попытались убить его ударом кинжала. Теперь Мартин Пас точно знал, в каком направлении двигались индейцы. Он вернулся к своему спутнику.
— Завтра мы должны их настигнуть! — сказал он.
— Идем сейчас же! — воодушевился дон Вегаль.
— Нам придется переправиться через реку.
— Ну и что же? Неужели мы не сможем переплыть ее?
Они разделись. Мартин Пас сложил одежду и привязал тюк на голову. Затем оба тихонько скользнули в воду, стараясь не потревожить хищных кайманов[302], которыми изобилуют реки Бразилии и Перу.
Как только они выбрались на противоположный берег, Мартин Пас снова принялся искать следы, но, сколько ни осматривал он листву на деревьях и каждый камень на земле, ничего не нашел. Путешественники поднялись выше по течению реки и там отыскали следы, которые не оставляли никаких сомнений: судя по всему. Самбо с группой людей, которая становилась все многочисленней, пересек Мадейру именно в этом месте. Очевидно, к Самбо по дороге присоединялось все больше и больше жителей здешних гор, которые, так и не дождавшись восстания, убедились, что стали жертвами предательства, и, проклиная ненавистных колонизаторов, пошли за старым индейцем…
Сарра почти не сознавала, что происходит вокруг. Она двигалась словно во сне, казалось, кто-то невидимый вел и подталкивал ее. Если бы индейцы бросили ее одну в этих безлюдных местах, она не сделала бы дальше ни шагу, ни единой попытки спастись. Иногда в памяти всплывал образ молодого индейца, но девушка тут же снова бессильно падала на шею мула. Когда они переправились через реку и Сарре пришлось идти пешком, потому что они бросили мула на другом берегу, двое индейцев просто поволокли девушку, не обращая внимания на то, что она в кровь обдирает ноги о камни. Самбо ничуть не тревожился, что следы крови на дороге могут их выдать, он думал лишь о том, что цель близка.
Наконец индейцы услышали шум речных порогов и вышли к небольшому поселку — около сотни бамбуковых, обмазанных глиной хижин. Завидев их, женщины и дети радостно выбежали им навстречу. Когда же Самбо рассказал им о предательстве Мартина Паса, радостные возгласы сменились проклятьями. Сарра безучастно смотрела на окруживших ее кривляющихся женщин, которые выкрикивали угрозы.
— Где мой муж? — вопила одна из них. — Это ты убила его?
— Мой брат никогда больше не вернется в свой дом! Что ты сделала с ним?
— Смерть! Пусть каждый вырвет кусок из ее тела! Смерть!
Вооружившись ножами, пылающими головнями и камнями, разъяренные индианки со всех сторон наступали на несчастную пленницу. Но тут вмешался Самбо.
— Назад! — крикнул он. — Мы будем ждать решения вождей!
Женщины послушно расступились, продолжая сверлить ненавидящими взглядами лежащую на камнях окровавленную жертву.
Река Мадейра, зажатая вблизи поселка в каменном горле, мощным водопадом обрушивала свои воды с высоты ста футов. Вожди вынесли свой приговор: бросить девушку в этот водопад. С первыми лучами солнца ее привяжут к лодке и бросят в реку. Так решил совет. Казнь нарочно отложили на утро, чтобы подольше помучить несчастную девушку. Женщины поселка, услышав этот приговор, разразились криками ликования.
Ночью началась настоящая оргия. Охмелевшие от водки, обезумевшие индейцы окружили девушку и повели свой дикий хоровод. Потом они принялись носиться по незасеянным полям, размахивая горящими сосновыми ветками. Это безумие продолжалось до рассвета. Наконец первые лучи солнца осветили страшную картину.
Как только девушку отвязали от позорного столба, сотни рук потянулись к ней, чтобы утащить ее к месту казни. Случайно вырвавшееся у нее имя Мартина Паса вызвало новый взрыв ярости у ее мучителей.
Чтобы добраться до водопада, нужно было пройти узкими тропинками и преодолеть несколько каменных завалов, таща за собой окровавленную жертву. Долбленка уже ждала их в нескольких шагах от водопада. Девушку посадили в лодку и привязали так крепко, что веревки глубоко врезались ей в тело.
— Месть! — ревело все племя.
Лодку оттолкнули от берега, и она закружилась в водовороте. И тут на противоположном берегу появились двое мужчин.
— Дочь моя! Дочь моя! — вскричал дон Вегаль, упав на колени.
Лодка устремилась к водопаду.
Стоя на скале, Мартин Пас занес над головой свое лассо, и в тот самый миг, когда лодка готова была низвергнуться в водопад, длинный кожаный хлыст захлестнул ее и затянулся узлом.
— Смерть! — вопила дикая орда на другом берегу.
Мартин Пас быстро выпрямился, и лодка, замерев перед самой стремниной, стала медленно подтягиваться к нему.
Внезапно в воздухе просвистела стрела, и Мартина Паса, упавшего в лодку, вместе с Саррой мгновенно поглотил водоворот. В ту же секунду вторая стрела пронзила сердце маркиза дона Вегаля. Так Мартин Пас и Сарра были повенчаны навеки, ибо в последний миг девушка успела осенить крестным знамением любимого.
Конец
Господин Ре-диез и госпожа Ми-бемоль
I
В школе городка Кальфермат нас было тридцать: двадцать мальчиков от шести до двенадцати лет и десять девочек от четырех до девяти лет. Если вы захотите узнать точное местоположение этого населенного пункта, то, согласно составленному мною учебнику географии (с. 47), он находится в одном из католических кантонов Швейцарии, неподалеку от озера Констанц, у подножия Аппенцелль.
— Эй, вы там, Йозеф Мюллер!
— Да, господин Вальрюгис?
— Чем это вы занимаетесь на уроке истории?
— Записываю.
— Хорошо.
По правде говоря, я рисовал человека, пока учитель в тысячный раз излагал нам историю Вильгельма Телля и жестокого Геслера. Никто не знал ее лучше, чем он. Оставалось лишь прояснить один вопрос: какого сорта — ранет или кальвиль — было знаменитое яблоко, возложенное швейцарским героем на голову сына? Об этом яблоке спорили не меньше, чем о том, другом, которое наша прародительница Ева сорвала с древа познания добра и зла.
Городок Кальфермат живописно расположен в глубине долины, находящейся на северном склоне гор, куда даже летом не проникают солнечные лучи,— такие долины местные жители называют трогами[303]. Школа, стоящая на окраине, в тени деревьев, совсем не походит на мрачную фабрику начального обучения. Выглядит она приветливо, воздух вокруг свеж, просторный двор засажен зеленью, есть навес на случай дождя и маленькая колокольня, колокол которой звенит, как птица в ветвях.
Господин Вальрюгис с сестрой Лисбет, весьма строгой старой девой, руководят школой. Вдвоем они справляются с преподаванием чтения, правописания, арифметики, географии и истории, разумеется, географии и истории Швейцарии. Учимся мы ежедневно, кроме четверга и воскресенья. На занятия приходим к восьми утра с корзиной и учебниками, засунутыми за пряжку ремня. В корзине есть чем подкрепиться на завтрак: хлеб, холодное мясо, сыр, фрукты и бутылка молока. В учебниках есть чему поучиться: диктанты, цифры, задачи. В четыре часа мы уносим домой пустые корзины, в которых не осталось ни крошки.
— Бетти Клер?
— Да, господин Вальрюгис?
— Вы, кажется, не слушаете мои объяснения? На чем я остановился?
— На том,— говорит Бетти, запинаясь,— что Вильгельм отказался поклониться шляпе...[304]
— Неверно. Мы уже перешли от шляпы к яблоку, какого бы сорта оно ни было!
В полном смущении Бетти Клер опустила глаза, бросив на меня милый взгляд, который мне так нравился.
— Разумеется,— продолжал господин Вальрюгис иронически,— при вашей склонности к песенкам вы бы с большим удовольствием спели эту историю. Но ни один музыкант никогда не осмелится переложить на музыку подобный сюжет![305]
Возможно, наш учитель и был прав. Кто из композиторов осмелится затронуть эти струны? Разве что... когда-нибудь... в будущем? Как знать...
Господин Вальрюгис продолжил прерванный рассказ. Все мы — и старшие и младшие — обратились в слух. Казалось, было слышно, как свистит стрела Вильгельма Телля, пролетая через наш класс уже в сотый раз в нынешнем учебном году.
II
Господин Вальрюгис отводил музыкальному искусству весьма незначительную роль. Справедливо ли это? Мы были слишком малы, чтобы судить о столь сложных предметах. Представьте себе, в свои неполные десять лет я, например, считался старшим учеником. И все-таки многие из нас очень любили местные песни, старые религиозные гимны, песнопения из антифонария[306] под аккомпанемент церковного органа. Тогда дрожат витражи, высокими голосами поют дети из хора, раскачиваются кадильницы, и кажется, что стихи, мотеты и риспосты[307] летят ввысь среди клубов сладковатого дыма.
Мне не хочется прослыть хвастуном, но я считался одним из первых учеников... И теперь, если вы спросите, почему меня, Йозефа Мюллера, потомственного почтмейстера, прозвали Ре-диезом, а Бетти Клер, дочь Жана Клера и Женни Роз, владельцев постоялого двора в нашем городке, именуют Ми-бемоль, я вам отвечу: терпение! Узнаете очень скоро. Никогда не следует забегать вперед, дети мои. Одно лишь ясно — наши голоса изумительно сочетались один с другим, наверное, в ожидании того дня, когда мы сможем сочетаться браком. А теперь, когда я пишу эти строки, мне уже немало лет, и я знаю многое из того, чего не знал в ту далекую пору, даже в области музыки.
Да! Ре-диез женился на Ми-бемоль, и мы очень счастливы. Благодаря усердию и трудолюбию наши дела процветают. Кому же быть усердным, как не почтмейстеру?
Итак, примерно сорок лет назад мы пели в церкви, поскольку в детский церковный хор входили и девочки и мальчики. Это вовсе не считалось неуместным, что вполне справедливо. Разве кому-нибудь придет в голову выяснять пол небесных серафимов?
III
Детский хор нашего городка снискал высокую репутацию благодаря своему руководителю — органисту Эглизаку. Прекрасный преподаватель сольфеджио виртуозно учил нас искусству пения! Как он умел объяснить ритм, нотную грамоту, значение тональности, многоголосие, композицию гамм! Да, достойнейший Эглизак был подлинным мастером своего дела! Поговаривали, что он — гениальный музыкант, не имевший себе равных в искусстве полифонии, и что он сочинил необыкновенную четырехчастную фугу[308].
Поскольку мы точно не знали, что сие означает, то однажды спросили.
— Это фуга,— ответил он, вскидывая голову, похожую на футляр от контрабаса.
— Музыкальный фрагмент? — спросил я.
— Самая высокая музыка, дитя мое.
— Нам бы так хотелось ее услышать! — вскричал маленький итальянец по имени Фарина, с красивым контральто, его голос поднимался вверх, вверх... до самого неба.
— Очень хотелось бы,— добавил немец Альберт Хокт, с низким голосом, который спускался вниз, вниз... и уходил прямо под землю.
— Пожалуйста, господин Эглизак! — наперебой просили остальные.
— Нет, нет, дети. Вы услышите мою фугу только тогда, когда она будет завершена.
— Когда же? — спросил я.
— Никогда.
Мы переглянулись, а наш учитель хитро усмехнулся.
— Фуга никогда не бывает закончена,— объяснил он,— в нее всегда можно вносить новое.
Так мы и не услышали знаменитую фугу Эглизака; зато специально для нас он переложил на музыку гимн Иоанну Крестителю. Вы знаете этот псалом в стихах, из которого Гвидо Аретинский[309] взял первые слоги, чтобы обозначить ими ноты гаммы:
Ut queant laxis Resonare fibris Mira gestorum Famuli tuorum, Solve polluti, Labil reatum, Sanete Joannes[310].Во времена Гвидо Аретинского ноты «си» не существовало. Только позже в гамму внесли эту чувствительную ноту, и, на мой взгляд, поступили совершенно правильно.
И в самом деле, когда мы пели сей гимн, люди приходили издалека — специально, чтобы нас послушать. Правда, никто в школе, даже сам господин Вальрюгис, не знал, что означают эти странные слова. Мы полагали, что звучит латынь, но точно уверены не были.
К несчастью, господин Эглизак страдал тяжелым недугом: с годами он слышал все хуже и хуже. Мы замечали этот недостаток, но учитель даже себе не хотел в нем признаться. Чтобы не огорчать маэстро, мы повышали голос, и наши фальцеты достигали его барабанных перепонок. Но, увы, приближался час, когда учитель полностью лишился слуха.
Произошло это в воскресенье, во время вечерни. Отзвучал последний псалом, и Эглизак начал импровизировать на органе, отдавшись воображению. Он играл и играл бесконечно. Никто не решался выйти из церкви, боясь его обиден. Но вот, выбившись из сил, остановился калкант[311]. Орган не хватало воздуха, однако Эглизак ничего не замечал. Он «рал аккорды и арпеджио, и, хотя не раздавалось ни единого звука, в своей душе музыканта Эглизак слышал мелодию... Мы поняли: произошло несчастье. А тем временем калкант уже спустился с хоров по узкой лесенке...
Эглизак играл весь вечер, всю ночь и весь следующий день — пальцы двигались по безмолвной клавиатуре. Пришлось увести музыканта силой... Бедняга наконец понял, что произошло. Однако несчастье не может помешать ему закончить фугу! Правда, сам он ее никогда не услышит...
С того дня в церкви Кальфермата больше не звучал орган.
IV
Прошло полгода. Наступил очень холодный ноябрь. Снежная пелена, спускаясь с гор, покрывала улицы. Мы приходили в школу с красными носами и посиневшими от холода щеками. Обычно я ждал Бетти на углу площадки. Какой она была хорошенькой в своем зимнем наряде!
— Это ты, Йозеф? — говорила она.
— Я, Бетти. Как сегодня холодно! Закутайся получше. Застегни шубку...
— Хорошо, Йозеф. Побежим?
— Давай. Я понесу твои книги. Смотри не простудись. Будет ужасно, если ты потеряешь свой голос!
— А ты свой, Йозеф!
Это и впрямь было бы ужасно. Подув на пальцы, мы со всех ног мчались к школе, пытаясь согреться бегом. В классе гудела печка. Дров не жалели. Ведь у подножия гор сколько угодно сучьев, наломанных ветром. Остается лишь собирать их. Господин Вальрюгис стоял на кафедре, надвинув на лоб меховую шапку. Потрескивали поленья, словно выстрелы из мушкета, сопровождая историю Вильгельма Телля. А я размышлял о том, что если эти события происходили зимой и у Геслера была всего одна шляпа, то, наверное, он простудился, пока шляпа болталась на верхушке шеста. Занимались мы усердно — чтение, правописание, арифметика, декламация, диктанты — учитель был нами доволен. А вот по музыке отставали. Найти достойную замену старому Эглизаку не удавалось. То же, чему он нас научил, в скором времени могло окончательно вылететь из головы! И если когда-нибудь в Кальфермате появится новый руководитель детской певческой школы, что за плачевное зрелище предстанет ему! Голоса утратили свою звонкость, орган тоже не звучал и требовал ремонта.
Кюре[312] не скрывал недовольства. Ведь теперь, без аккомпанемента, было слышно, что он фальшивит, особенно в префации...[313] Голос постепенно понижался, и в конце концов кюре приходилось брать ноты ниже своего голосового предела, что далеко не всегда удавалось. Некоторые прихожане начинали смеяться, а мы с Бетти жалели беднягу. Какими убогими казались теперь службы! В День поминовения вообще не звучала музыка, а уже приближалось Рождество с его торжественными песнопениями.
Кюре решил заменить орган серпаном[314] по крайней мере, так можно избежать фальшивых нот. Раздобыть сей допотопный инструмент труда не представляло. На стене ризницы уже много лет висел серпан, но где найти музыканта? А может быть, обратиться к калканту, который остался теперь не у дел?
— У тебя хватит дыхания? — спросил господин кюре.
— У меня есть мехи,— ответил калкант.
— Давай посмотрим, что получится...
Он снял серпан со стены, но сумел извлечь из него лишь какой-то сдавленный звук. Был ли тому виной музыкант или мехи — неизвестно, но затея не удалась. Похоже, что предстоящее Рождество обещало стать таким же грустным, как День поминовения. Ведь по вине Эглизака молчал не только орган, детский хор тоже бездействовал. Некому стало давать нам уроки, отбивать такт, и все это весьма удручало жителей Кальфермата. Но вечером пятнадцатого декабря произошло неожиданное.
Стоял сильный мороз, один из тех, какие приносил издалека ветер. В такие дни если крикнуть на вершине горы, то крик можно услышать в нашем городке, а звук пистолетного выстрела из Кальфермата доносился до Ришардена за добрую милю отсюда.
В субботу я отправился ужинать к Клерам. На следующий день занятий в школе не было. Если учишься всю неделю, то можно же отдохнуть в воскресенье? Вильгельм Телль тоже имеет право побездельничать: ведь и он, наверное, устал, проведя целую неделю бок о бок с господином Вальрюгисом.
Постоялый двор находился на маленькой площадке слева, напротив церкви. Было слышно, как скрипит флюгер, поворачиваясь на шпиле колокольни. У Клеров сидело шестеро — все местные жители: в тот вечер мы с Бетти обещали спеть для них красивый ноктюрн Сальвиати[315].
И вот, после ужина, когда со столов убрали посуду, составили стулья и мы уже приготовились петь, издалека донесся какой-то странный звук.
— Что это? — спросил один из посетителей.
— Похоже, из церкви,— ответил другой.
— Но это же орган!
— Скажешь еще, что он, сам играет?
Тем временем звуки становились все отчетливее, crescendo[316] сменилось diminuendo[317], мелодия ширилась, росла, словно выходила из самых низких регистров.
Несмотря на мороз, мы распахнули дверь и взглянули на церковь. Через витражи нефа[318] не пробивался ни единый луч света. Наверное, ветер ворвался сквозь трещины в стенах. Решив, что ошиблись, мы вернулись обратно, но все повторилось. На сей раз звуки раздавались так отчетливо, что сомнений не оставалось.
— Играют в церкви! — вскричал Жан Клер.
— Это дьявол! — прошептала Женни.
— Разве дьявол умеет играть на органе? — возразил ей муж.
«А почему бы и нет?» — подумал я.
Бетти взяла меня за руку.
— Дьявол? — испуганно спросила она.
Тем временем одна за другой открывались двери домов на площади; люди выглядывали из окон, удивленно переговаривались.
— Наверное, господин кюре нашел нового органиста,— предположил кто-то.
Почему нам сразу не пришло в голову простое объяснение? И тут как раз сам кюре показался на пороге своего дома.
— Что случилось? — поинтересовался он.
— Кто-то играет на органе! — крикнул в ответ хозяин постоялого двора.
— Прекрасно! Значит, Эглизак снова уселся за инструмент.
И в самом деле, глухота ведь не мешает играть! Может быть, старик поднялся на хоры в сопровождении калканта? Нужно посмотреть. Но дверь в храм оказалась запертой.
— Йозеф,— сказал мне кюре,— сбегай к Эглизаку.
Я побежал к его дому, не выпуская руки Бетти. Она ни за что не хотела отпускать меня одного.
Через пять минут мы вернулись.
— Ну что? — спросил кюре.
— Мэтр у себя,— ответил я, с трудом переводя дыхание. Так оно и было. Служанка заверила нас, что хозяин спит как убитый и ни один орган мира не в силах его разбудить.
— Кто же тогда играет в церкви? — испугался Клер.
— Сейчас узнаем! — воскликнул кюре, запахнув шубу. Орган продолжал играть. Из него вырывался целый ураган звуков. В полную силу работали низкие регистры, оглушительно звучали высокие, к ним примешивались самые глухие, гудящие ноты. Казалось, площадь захлестнула музыкальная буря, словно церковь сама превратилась в огромный орган, а колокольня — в самый низкий регистр, издававший фантастические, громовые звуки.
Как уже говорилось, вход был заперт, но, обойдя здание, я обнаружил, что открыта боковая дверь, как раз напротив постоялого двора Клеров. Наверное, через нее-то и проник самозванец. Кюре вместе с церковным сторожем вошли внутрь. На всякий случай они обмакнули пальцы в чашу со святой водой и осенили себя крестным знамением. Остальные последовали их примеру.
Внезапно орган смолк. Таинственный музыкант закончил свой отрывок квартсекстаккордом, который медленно стихал под темным сводом церкви.
Может быть, наше появление нарушило вдохновение органиста? Вероятно. Церковь, еще недавно полная музыки, погрузилась в тишину. Никто из нас не проронил ни звука; мы стояли между колоннами, испытывая то ощущение, какое бывает, когда после вспышки молнии ждешь раскатов грома.
Но это длилось лишь мгновение. Следовало узнать, что происходит. Сторож, а за ним двое или трое храбрецов ринулись к винтовой лестнице. Они взбежали на хоры, но никого не нашли. Клавиатура оказалась закрытой. Однако в мехах еще оставался воздух, а рычаг был поднят.
Вероятно, воспользовавшись суматохой и темнотой, незнакомец спустился по винтовой лестнице и скрылся через боковую дверь.
И все-таки сторож решил, что неплохо бы из предосторожности изгнать дьявола. Правда, кюре воспротивился этому: понимал, что толку все равно не будет...
V
На следующий день в Кальфермате стало на одного, вернее, даже на двух жителей больше. Они прогуливались сначала по площади, потом по главной улице — доходили до школы, а затем поворачивали к постоялому двору Клеров, где сняли на неопределенный срок комнату.
— Может быть, на день, неделю, а то, глядишь, и на месяц или даже на год,— сказал один из них, как мне передала Бетти, когда мы встретились на площади.
— А вдруг это вчерашний органист, Бетти?
— Все возможно, Йозеф.
— Со своим калкантом?
— Наверное...
— И как они выглядят?
— Как все.
Разумеется! По одной голове, по две руки и ноги. Но ведь и при этом можно отличаться от других. Именно к такому выводу я и пришел, когда увидел чужестранцев. Они шли в затылок друг другу. Один — лет сорока, худой, изможденный, похожий на цаплю. Желтый сюртук, пышные, сужавшиеся книзу брюки, откуда выглядывали остроконечные башмаки, на голове — небольшая шапочка с пером. До чего же худое, лишенное всякой растительности лицо! Узкие, проницательные глазки — в глубине затаился огонек,— хищные белые зубы, острый нос, тонкие губы, выдающийся вперед подбородок. А какие руки! Пальцы неимоверной длины! Такими пальцами легко можно взять полторы октавы!
Второй — лет тридцати — коренастый, широкоплечий, с мощной грудью и большой головой; под серой фетровой шляпой взлохмачены редкие волосы, физиономия упрямого быка, живот словно басовый ключ. Думаю, он мог бы поколотить самых отчаянных забияк нашего города.
Да, странные типы... Никто не знал этих людей. Они появились в наших местах впервые. Наверняка не швейцарцы; похоже, пришли с востока, из-за гор, со стороны Венгрии. Позже мы узнали, что так оно и было.
Заплатив на постоялом дворе за неделю вперед, они с аппетитом пообедали, не забыв отведать ни одно из блюд, и теперь гуляли: один шел впереди, другой — сзади. Высокий находился в прекрасном расположении духа: поглядывал по сторонам, дурачился, напевал, руки его пребывали в беспрестанном движении. Время от времени он хлопал себя по затылку и бормотал:
— Натуральное ля, натуральное ля... Прекрасно!
Толстяк двигался вразвалку, курил похожую на саксофон трубку, откуда вырывались клубы беловатого дыма.
Я разглядывал их во все глаза, как вдруг высокий заметил меня и сделал знак подойти.
Честное слово, я слегка оробел, но в конце концов решился, и он спросил фальцетом, как у мальчика из хора:
— Где дом кюре, малыш?
— Дом... кюре?
— Да. Проводи меня туда!
Я подумал, что кюре, пожалуй, отчитает меня за то, что я привел к нему этих людей — особенно высокого, он просто гипнотизировал меня взглядом. Хотелось отказаться, но я не посмел и повел незнакомца к дому кюре, находившемуся на расстоянии каких-нибудь пятидесяти шагов. Показав на дверь, я убежал, пока дверной молоток отбивал три восьмые, за которыми последовала четверть.
Приятели ждали на площади и с ними господин Вальрюгис, который спросил, в чем дело. Все смотрели на меня... Подумать только! Он говорил со мной!
Но мой рассказ не объяснял главного — что собирались делать в Кальфермате эти люди? Для чего им потребовалось беседовать с кюре? Как он их принял и не случилось ли чего плохого с кюре и его служанкой — женщиной почтенного возраста, которая время от времени уже заговаривалась?
Все прояснилось днем. Высокого, оказывается, звали Эффаран. Это был венгр-музыкант, настройщик, органный мастер. Говорили, что он ходит из города в город, чинит органы и таким образом зарабатывает себе на жизнь.
Ясно, что именно настройщик, вместе со своим помощником, вошел накануне в церковь через боковую дверь, пробудил дремавший орган и вызвал настоящую музыкальную бурю. Но, по его словам, инструмент требовал ремонта, и венгр брался — за весьма умеренную плату — заставить орган звучать. Мэтр Эффаран показал даже свои дипломы, свидетельствующие о том, что он действительно мастер.
— Хорошо, хорошо,— сказал кюре, торопясь принять столь неожиданный подарок судьбы, и добавил: — Да будет дважды благословенно небо, пославшее нам такого настройщика. Мы вознесли бы хвалу трижды, если бы оно дало нам еще и органиста.
— А бедняга Эглизак? — спросил Эффаран.
— Глух как пень. Вы разве знаете его?
— Кто не знает великого сочинителя фуг!
— Вот уже полгода он не играет в церкви и не преподает в школе. В День поминовения служба велась без музыки и, возможно, на Рождество...
Венгр слушал, а его длинные руки находились в непрестанном движении: он растягивал пальцы, словно резиновые перчатки, хрустел суставами.
Кюре от всего сердца поблагодарил музыканта и спросил, что тот думает о местном органе.
— Хороший инструмент,— ответил мэтр,— однако неполный.
— Чего же ему недостает? Ведь в нем двадцать четыре регистра и даже регистр человеческого голоса!
— Ах, господин кюре, не хватает одного регистра, который я сам изобрел и стараюсь вносить во все органы.
— Что же это за регистр?
— Детский голос,— ответил странный человек, выпрямившись в полный рост.— Да, это мое усовершенствование! И когда я добьюсь идеала, имя Эффаран станет известнее, чем имена Фабри, Кленг, Эрхарт, Смид, Андре, Кастендорфер, Кребс, Мюллер, Агрикола, Кранц, имена Антеньяти, Костанцо, Грациади, Серасси, Тронци, Нанкинини, Каллидо, Себастьян Эрард, Аббей, Кавайе-Колль...
Кюре вздохнул: похоже, список будет исчерпан лишь к приближающейся вечерне.
А венгр, взлохматив шевелюру, продолжал:
— И если удастся выполнить то, что задумано мною, ваш инструмент нельзя будет сравнить ни с органом собора Святого Александра в Бергамо, ни с органом собора Святого Павла в Лондоне, ни с органом Фрисбурга, Гарлема, Амстердама, Франкфурта, Вейгартена, ни с теми, что стоят в соборе Парижской Богоматери, в церквах Мадлен, Сен-Рош, Сен-Дени и Бове.
Эффаран говорил вдохновенно, сопровождая свои слова изящно округлыми жестами рук. Он мог бы, наверное, испугать кого угодно, только не кюре: ведь тот с помощью нескольких латинских слов способен уничтожить самого дьявола.
К счастью, зазвучали колокола к вечерне, мэтр Эффаран взял свою украшенную пером шляпу, почтительно раскланялся и пошел к помощнику, который ждал его на площади. Старой служанке почудилось, что запахло серой.
На самом деле пахло от печки.
VI
Само собой разумеется, весь наш городок был взбудоражен. Великий музыкант по имени Эффаран, он же великий изобретатель, взялся украсить наш орган регистром детского голоса. II тогда на Рождество после пастухов и волхвов, которым аккомпанируют низкие регистры, раздадутся чистые звонкие голоса ангелов, кружащихся над младенцем Иисусом и Марией.
Ремонт начался на следующий же день; мэтр Эффаран с помощником принялись за дело. На переменках все школьники бегали в церковь. Нам разрешали подняться на хоры при условии, что мы не помешаем. Корпус органа был открыт и возвращен к первозданному состоянию. Этот инструмент — не что иное, как флейта Пана[319], наделенная специальным деревянным устройством, мехами и регистрами, иначе говоря, приспособлениями, регулирующими доступ воздуха в трубы. Орган Кальфермага насчитывал двадцать четыре регистра, четыре клавиатуры с пятьюдесятью четырьмя клавишами, а также педальную двухоктавную клавиатуру. Каким дремучим казался нам удивительный лес деревянных и металлических труб! В нем так легко было заблудиться! А какие странные слова слетали с уст мэтра: кромхорн, бомбарда, престант, назард![320] Подумать только, в органе были шестнадцатифутовые регистры из дерева и гридцатифутовые из металла! В его трубах могла бы разместиться вся школа во главе с господином Вальрюгисом! С изумлением, граничащим с ужасом, разглядывали мы беспорядочные нагромождения труб. Один из нас, Хокт, осмелился взглянуть вниз.
— Анри,— сказал он,— это похоже на паровую машину...
— Скорее на артиллерийскую батарею,— возразил Фарина,— словно пушки, а жерла выбрасывают ядра музыки.
Мне же не удавалось придумать сравнения, но когда я представлял себе порывы ветра, вырывавшиеся из огромных труб, меня охватывала дрожь.
Мэтр Эффаран продолжал невозмутимо трудиться. Вообще-то, орган Кальфермата оказался в достаточно хорошем состоянии и требовал лишь незначительного ремонта, скорее чистки от многолетней пыли. Труднее оказалось установить регистр детского голоса. Сложное приспособление, заключенное в коробку, состояло из набора хрустальных флейт, откуда должны были литься волшебные звуки. Мэтр Эффаран — прекрасный органный мастер и не менее искусный органист — надеялся, что наконец преуспеет там, где прежде его подстерегали неудачи. Однако я заметил, что действовал он наугад, ощупью, то так, то эдак, и если не получалось, испускал крики, словно разъяренный попугай, которого дразнит хозяйка.
Брр... От этих криков я дрожал всем телом и чувствовал, как на голове волосы встают дыбом. Да, то, что довелось мне увидеть в церкви, производило неизгладимое впечатление. Инструмент напоминал огромное животное со вспоротым брюхом и лежащими отдельно внутренностями, что чрезвычайно волновало мое воображение. Я грезил об органе во сне и наяву, все время думал о нем, особенно о регистре детского голоса. Казалось, коробка с флейтами — это клетка, полная детей, которых выращивает мэтр Эффаран, чтобы их заставить потом петь в искусных руках органиста.
— Что с тобой, Йозеф? — спрашивала Бетти.
— Не знаю,— отвечал я.
— Может быть, ты слишком часто поднимаешься на хоры?
— Да... возможно.
— Не ходи туда больше!
— Хорошо, Бетти.
Но в тот же день, помимо собственной воли, я снова возвращался в церковь. Мне неудержимо хотелось затеряться среди этого леса труб, пробраться в самые затаенные уголки, следить оттуда за мэтром Эффараном, слушать, как стучит в глубине корпуса органа его молоток. Я ничего не рассказывал дома: отец и мать сочли бы, что сын их сошел с ума.
VII
Kaк-то утром за неделю до Рождества мы были в классе — девочки по одну сторону, мальчики по другую. Господин Вальрюгис восседал за кафедрой; его почтенная сестра вязала в своем углу длинными спицами, похожими на шампуры. И в ту минуту, когда Вильгельм Телль оскорбил шляпу Геслера, внезапно отворилась дверь.
Вошел кюре. Все встали, приветствуя его. Следом за ним появился мэтр Эффаран. Мы опустили глаза под проницательным взглядом музыканта. Что он делает в школе и почему его сопровождает кюре? Мне казалось, что органист рассматривает меня, и мне стало не по себе.
Господин Вальрюгис спустился с кафедры и предстал перед кюре со словами:
— Чем обязан такой чести?..
— Господин учитель, я хочу представить вам мэтра Эффарана, который пожелал познакомиться с вашими учениками.
— Но зачем?
— Он спросил у меня, есть ли в Кальфермате детская хоровая капелла. Я ответил утвердительно и добавил, что во времена, когда ею руководил бедный Эглизак, она звучала превосходно. Тогда мэтр изъявил желание послушать, поэтому я и привел его в школу. Прошу прощения за беспокойство.
Господин Вальрюгис не требовал извинений. Все, что делал кюре, было разумно. На сей раз Вильгельм Телль подождет.
Повинуясь знаку учителя, мы сели. Я пододвинул кресло господину кюре, мэтр Эффаран устроился у стола, за которым сидели девочки. Ближе всех к нему оказалась Бетти, и я видел, что бедняжку пугали длинные руки и пальцы органиста, выписывавшие в воздухе перед ее лицом причудливые арабески[321].
Мэтр Эффаран взял слово и произнес своим резким голосом:
— Это дети из хоровой капеллы?
— Не все входят в нее,— ответил учитель.
— А сколько же?
— Шестнадцать.
— Мальчики и девочки?
— Да, в этом возрасте голоса одинаковы...
— Заблуждение,— живо возразил мэтр Эффаран,— настоящего знатока не обманешь...
Удивились ли мы, услышав такое суждение? Ведь голос Бетти и мой казались настолько схожи, что невозможно было определить, кто из нас говорит. Позже это изменится, потому что у мальчиков голос ломается,— а у взрослых мужчин и женщин голоса звучат уже совсем по-разному.
Как бы то ни было, все понимали, что спорить с таким человеком, как мэтр Эффаран, бесполезно.
— Пусть выйдут вперед те, кто пел в хоре,— попросил он, подняв руку, как дирижер палочку.
Восемь мальчиков и восемь девочек, среди которых были и мы с Бетти, встали лицом друг к другу, и мэтр Эффаран подверг нас тщательной проверке, какую нам ни разу не учиняли во времена Эглизака. Следовало как можно шире открыть рот, высунуть язык, глубоко вдохнуть и не дышать, демонстрируя свои голосовые связки, которые мэтр, как видно, хотел потрогать руками. Казалось, нас будут настраивать, словно скрипку или виолончель. Честное слово, было ужасно не по себе. Тут же находились весьма смущенные господин Вальрюгис и его сестра, однако они не осмеливались произнести ни слова.
— Внимание! — крикнул мэтр Эффаран.— Распеваемся. Гамму в до-мажоре. Вот камертон.
Мы думали, он достанет из кармана маленькую вещицу с двумя ответвлениями, какой пользовался бедняга Эглизак, чтобы показать верное «ля». Но последовала новая неожиданность. Мэтр опустил голову и согнутым большим пальцем резко ударил себя чуть ниже затылка. Удивительно! Раздался металлический звук — именно «ля» со всеми обертонами[322]. Оказывается, мэтр Эффаран сам был камертоном![323] Затем он показал нам «до» на малую терцию[324]. выше и произнес, покачивая указательным пальцем:
— Внимание! Первый такт — пауза!
И вот мы запели гамму — сначала наверх, потом вниз.
— Плохо, плохо,— вскричал органист, когда стихла последняя нота.— Шестнадцать голосов вместо одного!
Мне показалось, что он слишком требователен, ведь мы часто пели хором и нас всегда хвалили.
Мэтр Эффаран качал головой, бросая направо-налево недовольные взгляды. Уши его, обладавшие некоторой подвижностью, поднимались, как у собак и кошек.
— Повторяем! — кричал он.— Теперь по очереди. Каждый должен получить свою собственную ноту, физиологичную, если можно так выразиться, одну-единственную, которую и будет петь в хоре.
Одну ноту? Физиологичную? Что это значит? Интересно, а какая в таком случае нота у этого чудака или у господина кюре? У них, должно быть, целая коллекция нот — одна фальшивее другой!
Мы запели, испытывая некоторую боязнь — а вдруг этот страшный человек будет с нами грубо обращаться — и одновременно острое любопытство — какая же нота у каждого из нас, которую мы станем взращивать в гортани, как цветок в горшке?
Первым спел гамму Хокт, и мэтр решил, что для этого ученика физиологичная нота «соль» — самая точная, самая звонкая из тех, что может издать горло мальчика. После Хокта настала очередь Фарина, которого навеки приговорили к «ля». Всех проверяли по очереди, и за каждым была закреплена нота. Наконец вышел я.
— Ах, это ты, малыш,— сказал органист.
Он сжал мне голову и стал до хруста крутить ее из стороны в сторону, но все-таки отвинтить не смог.
— Поищем твою ноту.
Я спел гамму — сначала наверх, потом вниз. Казалось, мэтр остался недоволен, потому что велел повторить сначала... Нет, не то... Плохо... Ужасно обидно! Неужели мне, одному из лучших учеников певческой школы, не достанется собственной ноты?
— А теперь,— вскричал мэтр Эффаран,— хроматическую гамму!.. [325] Может быть, там отыщется твоя нота?
Мой голос стал подниматься по полутонам к верхней октаве.
— Хорошо, хорошо! — повторял музыкант.— Мы поймали ее! Ре-диез — вот она, твоя нота.
На одном дыхании я спел ре-диез.
Кюре и учитель не могли скрыть удовлетворения.
— Теперь девочки! — скомандовал мэтр.
«Вот если бы Бетти тоже досталась ре-диез! — подумал я.— Ведь наши голоса так похожи».
Одна за другой девочки выходили вперед. У этой оказалась «си», у той — «ми». Пришел черед Бетти Клер. Она робко подошла к органисту.
— Давай, малышка.
Бетти запела нежным, мелодичным, как у щегла, голоском. Но ей, как и мне, пришлось обратиться к хроматической гамме. Ее нотой оказалась ми-бемоль.
Сначала я огорчился, но, поразмыслив, решил, что, наоборот, нужно радоваться! У Бетти — ми-бемоль, а у меня ре-диез. Разве это не одно и то же? И я захлопал в ладоши.
— Что с тобой, мальчик? — нахмурился мэтр.
— Мне нравится, что у нас с Бетти одинаковые ноты,— выпалил я.
— Одинаковые? — вскричал мэтр Эффаран. Он так резко выпрямился, что коснулся рукой потолка.— Ты полагаешь, что ре-диез и ми-бемоль одно и то же? Невежда! Ты заслужил ослиный колпак! Неужели Эглизак научил вас таким глупостям? И вы это терпели, кюре? А вы, господин учитель? Вы — тоже, достопочтенная?
Сестра господина Вальрюгиса искала чернильницу, чтобы запустить в органиста, но тот продолжал бушевать:
— Несчастный! Значит, ты не ведаешь о том, что такое комма[326], восьмая тона, на которую ми-бемоль отличается от ре-диеза? Неужто никто здесь не способен отличать восьмые тона? Или в ушах жителей Кальфермата только твердые, как камень, дырявые барабанные перепонки?
Ни один из нас не смел шелохнуться. Оконные стекла дрожали от раскатов пронзительного голоса органиста. Я был в отчаянии, что из-за меня разразилась буря, расстроен из-за того, что между нашими голосами все же существовала разница, пусть даже всего на одну восьмую тона. Кюре укоризненно качал головой, а господин Вальрюгис бросал на меня грозные взгляды...
Но внезапно органист успокоился и произнес:
— Внимание! Каждый должен встать на свое место в гамме.
Мы поняли, что это значило, и встали в соответствии со своими нотами: Бетти на четвертое место, а я как ре-диез — за ней. Теперь мы являли собой флейту Пана или скорее трубы органа, поскольку каждая из них может издавать одну-единственную ноту.
— Хроматическую гамму! — вскричал мэтр Эффаран.— И не фальшивить, иначе...
Ему не нужно было повторять. Запел первый из нас — «до»,— подхватили другие. Бетти спела ми-бемоль, я — редиез, и, казалось, тонкий слух органиста уловил между ними разницу. Мы пели сначала наверх, затем три раза подряд вниз. Похоже, нами остались довольны.
— Хорошо, дети,— сказал органист.— Я сделаю из вас живую клавиатуру.
Кюре недоверчиво покачал головой.
— Почему бы и нет? — заметил его жест мэтр.— Ведь составили же рояль из кошек, подслушав, как они мяукали, когда их тянули за хвост! Да, кошачий рояль, кошачий рояль,— повторил он.
Мы засмеялись, не совсем понимая, шутит органист или говорит серьезно. Позже я узнал, что, говоря о кошках, он не шутил... Господи! Чего только не придумают люди!
Мэтр Эффаран взял шляпу, попрощался и вышел со словами:
— Не забудьте свою ноту, особенно вы, господин Ре-диез, и вы, госпожа Ми-бемоль.
VIII
Вот так посетил нашу школу мэтр Эффаран. Он оставил сильное впечатление от своего визита. Мне, например, казалось, что в глубине моей гортани беспрерывно вибрирует ре-диез.
Тем временем ремонт органа близился к завершению. Еще неделя — и наступит Рождество. Все свободное время я проводил теперь на хорах. Как умел, помогал мастеру и его ассистенту, из которого не удавалось вытянуть ни слова. Регистры уже были настроены, мехи в порядке, и весь орган выглядел как новый, поблескивая в полутемной церкви своими трубами. Не ладилось только что-то с регистром детского голоса. Здесь-то работа и застопорилась. Органист пробовал раз, другой, третий... Напрасно! Мэтр пребывал в ярости. Не знаю, чего там недоставало... По-моему, он и сам не знал, потому-то и злился. В страшных вспышках гнева, чужестранец обрушивался на орган, мехи, помощника, на несчастного Ре-диеза, который и так выбивался из сил. Иногда мне казалось, что сейчас все будет разбито вдребезги, и тогда я спасался бегством... А что скажут жители Кальфермата, обманутые в своих надеждах, если главный праздник в году не окажется отмеченным с подобающей торжественностью? К тому же детской капеллы более не существовало и выступать на Рождество было некому. Оставался только орган.
И вот настал торжественный день. За последние сутки вконец отчаявшийся музыкант проявлял такую ярость, что мы опасались за его рассудок. Неужели ему придется отказаться от регистра детского голоса? Кто знает... Он нагонял на меня дикий страх, и больше я не осмеливался даже шагу ступить ни на хоры, ни в церковь.
В канун Рождества принято укладывать детей спать, как только начинает смеркаться, а будить перед самой службой, чтобы в полночь они могли находиться в церкви. Вечером я проводил Ми-бемоль до дверей ее дома.
— Ты не проспишь службу? — спросил я.
— Нет, Йозеф. Не забудь свой молитвенник.
— Не волнуйся.
Дома меня уже ждали.
— Иди спать! — велела мать.
— Хорошо,— ответил я,— только мне не хочется...
— Все равно.
— И все-таки...
— Делай, как говорит мать! — вмешался отец.— Мы разбудим тебя.
Поцеловав родителей, я поднялся в свою комнатку. На спинке стула уже висел отглаженный костюм, начищенные ботинки стояли у двери. Мне останется лишь встать с постели, умыться и надеть праздничную одежду. В мгновение ока я скользнул под одеяло и задул свечу, но от снега, лежавшего на крышах соседних домов, в комнату проникал слабый свет.
Само собой разумеется, я уже вышел из того возраста, когда ставят башмаки к камину в надежде найти в них подарок. Ах, это было чудесное время, жаль, что больше оно не вернется! В последний раз, года три назад, моя милая Ми-бемоль нашла в своих домашних туфельках красивый серебряный крестик. Не выдавайте меня, но это я положил его...
Мало-помалу приятные воспоминания отступали. Мне представился мэтр Эффаран. Вот он сидит в своем длиннополом сюртуке, длинноногий, длиннорукий, с длинным лицом... Как ни старался я забиться с головой под подушку, все равно лицо его качалось передо мною, а пальцы касались постели... Наконец удалось заснуть. Сколько прошло времени? Не знаю. Внезапно я проснулся от того, что на мое плечо легла чья-то рука.
— Ну, Ре-диез! — произнес знакомый голос.— Пора! Ты что, хочешь опоздать к мессе?
И — после паузы:
— Что же, вытаскивать тебя из постели, как хлеб из печи?
С меня сдернули одеяло. В ярком свете фонаря я увидел мэтра.
— Ре-диез, одевайся!
— Одеваться?
— Может быть, ты собираешься пойти в церковь в ночной рубашке? Слышишь колокола?
И правда, колокола уже звонили во всю мощь.
Я оделся мгновенно, хотя и бессознательно. Мэтр помогал мне — все, что он делал, он делал быстро.
— Пошли!
— А где мои родители?
— Они уже в церкви...
Странно, что меня не подождали. Дверь открылась, потом захлопнулась, и мы оказались на улице. До чего же холодно! Площадь белым-бела, а небо усеяно звездами. В глубине, на фоне темного неба, виднеется церковь. Верхушка колокольни освещена звездным светом. Я шел за мэтром Эффараном, но вместо того, чтобы двигаться прямо к церкви, он сворачивал то на одну, то на другую улицу, останавливался перед домами, и двери сами собой распахивались перед ним. Оттуда выходили мои товарищи в праздничной одежде: Хокт, Фарина — все, кто пел в хоре. Потом настала очередь девочек, и первой вышла моя маленькая Ми-бемоль.
— Мне страшно,— прошептала она, и я взял ее за руку, не посмев сказать: «И мне тоже», чтобы не напугать Бетти еще сильнее.
Наконец мы собрались: все, у кого была своя собственная нота. Целая хроматическая гамма, это вам не шутки! Однако что замыслил органист? Быть может, за неимением регистра, имитирующего детские голоса, он решил составить его из нашего хора?
Хотим мы того или нет, но нужно подчиняться этому фантастическому персонажу, как музыканты слушаются дирижера, когда в его пальцах вздрагивает палочка. Вот и боковая дверь в церковь, мы входим попарно. Внутри холодно, темно и тихо. А ведь мэтр говорил, что меня здесь ждут родители... Я задаю ему этот вопрос...
— Замолчи, Ре-диез,— отвечает он,— лучше помоги подняться на хоры малютке Ми-бемоль.
Так я и делаю. Мы поднимаемся по узкой винтовой лестнице и выходим к органу. Внезапно вспыхивает свет. Клавиатура открыта, калкант на своем месте — такой огромный, словно его самого надули воздухом из органных мехов.
По знаку мэтра мы выстраиваемся по порядку, он протягивает руку, корпус органа открывается и закрывается, поглотив нас...
И вот мы, все шестнадцать, заперты в органных трубах, каждый отдельно, но рядом с остальными. Бетти находится в четвертой трубе, а я — в пятой как ре-диез. Сомнений не остается! Потерпев неудачу с регистром детского голоса, мэтр Эффаран решил составить его из участников хора, и, когда через отверстие в трубе начнет поступать воздух, каждый из нас издаст свою ноту! Да, на сей раз это будут не кошки, а я, Бетти, все наши друзья — нами будут управлять клавиши органа.
— Ты здесь, Бетти? — закричал я.
— Да, Йозеф.
— Не бойся, я рядом.
— Тишина! — воскликнул дирижер. И мы замолчали.
IX
Через отверстие в трубе я видел толпу прихожан, двигавшихся по уже освещенному нефу. В толпе были наши семьи; никто из них не знал, что мы заперты в церковном органе. Отчетливо слышался шум шагов по плитам пола, грохот отодвигаемых стульев, шарканье кожаных и стук деревянных башмаков — звуки гулко раздавались под сводами церкви.
— Ты здесь? — снова спросил я у Бетти.
— Да, Йозеф,— ответил тонкий, дрожащий голосок.
— Не бойся, Бетти, не бойся... Мы здесь только на время мессы... Потом нас выпустят.
В глубине души мне в это не верилось. Ни за что на свете мэтр Эффаран не выпустит птичек из клетки и своей дьявольской властью сможет держать нас здесь долго-долго... А может быть, вечно...
Зазвучал колокольчик. Господин кюре подошел к ступеням алтаря. Началась служба.
Но почему родителей не волнует наше отсутствие? Отец и мать спокойно сидели на своих обычных местах. Непонятно... Необъяснимо...
И тут по корпусу органа пронесся вихрь. Трубы задрожали, как деревья под порывами ветра. Мехи заработали в полную мощь.
Перед входным антифоном вступил мэтр Эффаран. Низкие регистры издавали громовые раскаты. Финальный аккорд был чудовищной силы. После слов господина кюре последовал новый яростный аккорд органиста.
В ужасе ждал я того момента, когда из мехов в трубы рванутся порывы ветра, но, вероятно, дирижер приберег нас на середину мессы... После молитвы последовало чтение из апостольского послания, затем Градуел[327], завершившийся двумя превосходными аллилуйями[328] под аккомпанемент низких регистров. Затем орган смолк на некоторое время: господин кюре произносил слова благодарности тому, кто вернул кальферматской церкви давно умолкнувшие голоса...
О, если бы я мог крикнуть, чтобы мой ре-диез вырвался наружу через отверстие в трубе!..
Затем начался Офферторий[329]. При словах «Да возрадуются небеса, да возликует земля...» прозвучало блестящее вступление мэтра. Да, оно было поистине превосходно! Гармоничные звуки, полные неизъяснимого очарования, представляли небесный хор, прославляющий божественное дитя.
Это продолжалось пять минут, но мне они показались вечностью. Вот сейчас, в Возношении даров, вступят детские голоса: ведь именно здесь великие музыканты проявляли всю мощь своего вдохновения...
Сказать по правде, я был едва жив от страха. Казалось, из моего пересохшего горла не сможет вырваться ни единой ноты. Но я не представлял себе, сколь могуч порыв ветра, который обрушится на меня, когда пальцы органиста коснутся управляющей мною клавиши. И вот он настал, этот страшный миг. Раздался нежный звон колокольчика. В церкви воцарилась полная тишина. Все склонили головы, когда двое министрантов приподняли орнат[330] господина кюре. Но я, хотя и был благочестивым мальчиком, не мог слушать, а думал только о буре, которая вот-вот разразится.
— Осторожно, скоро наш черед! — сказал я вполголоса Бетти.
— О, Господи! — вскричала бедная девочка.
Раздался глухой шум выдвигаемого регистра,— того, что регулирует подачу воздуха в трубы. Нежная, проникновенная мелодия разнеслась под сводами церкви. Зазвучали «соль» Хокта, «ля» Фарина; потом ми-бемоль моей милой соседки, грудь мою наполнил ветер, сорвавший с губ ре-диез. Даже если бы я решил промолчать, то уже не смог бы, потому что превратился в послушный инструмент органиста. Клавиша на его клавиатуре стала клапаном моего сердца...
Все это было ужасно! Еще немного, и с наших губ слетят не ноты, а стоны... И как описать ту пытку, когда мэтр Эффаран брал своей страшной рукой уменьшенный септаккорд, в котором я стоял на втором месте: до, ре-диез, фа-диез, ля.
Жестокий, неумолимый музыкант держал этот аккорд бесконечно, я почувствовал, что сейчас умру, и потерял сознание... Но по правилам гармонии этот знаменитый аккорд невозможно разрешить без ре-диеза...
* * *
— Что с тобой? — спрашивает отец.
— Со мной?..
— Проснись же, пора в церковь...
— Уже?
— Конечно... Вставай, а то опоздаешь к службе и останешься без рождественского ужина.
Где я? Что со мной? Неужели все это сон? То, что нас заперли в трубах органа, что заиграли элевато[331], что сердце едва не разорвалось на части, а из горла не мог вырваться ре-диез? Да, все это только приснилось,— наверное, потому, что в последнее время я был так возбужден.
— А где мэтр Эффаран? — осторожно интересуюсь я.
— В церкви,— отвечает отец.— Твоя мать уже там... Ну, будешь ты одеваться?
В ушах по-прежнему звучит последний аккорд — бесконечный, душераздирающий...
Когда я вошел в церковь, все уже сидели на местах — мать, Бетти со своими родителями, хорошенько закутанная от холода. Долетели последние звуки колокола.
Господин кюре в праздничном облачении подошел к алтарю в ожидании торжественных звуков органа. Но вместо величественных аккордов стояла абсолютная тишина: орган безмолвствовал. Церковный сторож поднялся на хоры. Органиста там не было! Напрасно искали его. Калкант исчез тоже. Видимо, придя в неистовство, что ему не удается установить регистр детского голоса, мэтр Эффаран ушел из церкви, покинул наш городок, не спросив своего гонорара, и с тех пор никогда больше не появлялся в Кальфермате.
Признаться, я не был на него в обиде: этот странный человек преследовал меня даже во сне! Я буквально терял рассудок!
А если бы господин Ре-диез сошел с ума, то не смог бы через десять лет жениться на госпоже Ми-бемоль. Кстати, брак оказался на редкость счастливым, несмотря на разницу в одну восьмую тона, на «комму», как говорил мэтр Эффаран.
Конец
Вечный Адам
Зартог Софр-Ай-Шр, то есть «доктор, третий представитель мужского пола сто первого колена рода Софра», неторопливо шагал по главной улице Базидры, столицы Арс-Итен-Шу — Империи Четырех Морей. Именно четыре моря — Тубелон на севере, Эфон на юге, Спон на востоке и Мерой на западе — омывали берега огромного материка весьма своеобразной формы, простиравшегося (в измерениях, знакомых читателю) от четвертого градуса восточной долготы до шестьдесят второго западной и от пятьдесят второго градуса северной широты до пятьдесят пятого — южной. Что касается границ морей, то определить их можно было лишь весьма условно: моря сообщались между собой, и всякий, отплывая из любой точки и придерживаясь неизменного курса, обязательно прибывал к противоположному берегу. Ибо на поверхности земного шара не существовало другого материка, кроме Арс-Итен-Шу.
Софр не спешил; во-первых, стояла жара — начиналось лето, и на Базидру, расположенную на берегу Спон-Шу, или Восточного моря, менее чем в двадцати градусах к северу от экватора, солнце, которое приближалось в тот час к зениту, низвергало снопы жгучих лучей. А во-вторых, шаги почтенного доктора замедлял давивший ему на плечи тяжкий груз тревожных мыслей. Рассеянно вытирая пот со лба, Софр вспоминал только что окончившееся заседание, где множество велеречивых ораторов торжественно восславили сто девяносто пятую годовщину основания империи.
Ораторы красочно изложили историю страны, то есть практически историю всего человечества. Они рассказывали о Маарт-Итен-Шу, Земле Четырех Морей, разделенной между многочисленными дикими племенами, не ведавшими ничего друг о друге. Эти древние народы породили первые обычаи и традиции, оставшиеся в памяти цивилизации. Ну а более отдаленные времена были неподвластны исторической науке. Лишь науки естественные, да и то относительно недавно, начали различать слабый свет в непроницаемом мраке прошлого.
История Маарт-Итен-Шу, становившаяся все менее полной и точной по мере продвижения в глубь тысячелетий, сообщала только о битвах и войнах; сначала о единоборствах, затем о вражде семейств и соседних племен. В течение многих и многих сотен лет каждое живое существо, каждое сообщество, маленькое или большое, казалось, не имело иной цели, кроме как утвердить свое превосходство над соперниками, с переменным успехом тратя силы и жизни на порабощение себе подобных.
Так продолжалось восемь тысяч лет. Затем воспоминания человечества немного прояснились. В начале второго периода (а анналы, как правило, подразделяли историю Маарт-Итен-Шу на четыре) легенды начали превращаться в исторические факты. Впрочем, и легенды и ученые по-прежнему рассказывали о побоищах и подлых убийствах из-за угла; правда, воевали тогда между собой уже не отдельные племена, а целые народы. В общем, второй период мало отличался от первого. Третий период длился шесть веков и завершился двести лет назад. Он был почти таким же, как второй, и, вероятно, самым жестоким: люди, призванные под знамена бесчисленных армий, с неутолимой яростью истребляли друг друга и орошали землю своей и чужой кровью.
За восемьсот лет до того дня, когда зартог Софр шел по главной улице Базидры, человечество созрело для коренных перемен. Тогда оружие, огонь и грубая сила сделали часть своего черного дела; слабые уступили сильным, и люди, населявшие Маарт-Итен-Шу, образовали три однородные нации. Казалось, время сгладило противоречия между вчерашними победителями и побежденными, как вдруг одна из наций решила подчинить себе соседей. Живший в центральной части Маарт-Итен-Шу Андарти-А-Самгор, или Бронзоволицый народ, развязал беспощадную войну за расширение своих границ, слишком тесных для его гордой и быстро размножавшейся расы; после изнурительных вековых войн они поработили Андарти-Маарт-Орис, или Снежных людей, населявших южные районы, и Андарти-Митра-Псул, народ Неподвижной Звезды, чьи владения простирались на север и на запад.
Около двухсот лет прошло с тех пор, как последний бунт покоренных народов был потоплен в крови, и земля наконец познала эру мира. Наступил четвертый исторический период. Три государства заменила единая империя, послушная воле Базидры; политическая общность стремилась растворить расовые различия. Никто больше не вспоминал о Бронзоволицых и Снежных людях, а также о народе Неподвижной Звезды; теперь землю населяла одна нация — Андарт-Итен-Шу, народ Четырех Морей, вобравший в себя все остальные.
Но вот после двухсот лет мира заявил о себе новый, пятый период истории. Неприятные слухи, возникшие неизвестно где, будоражили общество. Появились мыслители, оживившие в душах сограждан прародительские чувства, казалось давно похороненные. Старое национальное самосознание возрождалось в новой форме и характеризовалось новыми терминами. Его называли обычно атавизмом, первобытным чувством, национализмом. Возникли группировки, объединявшие своих членов по общему происхождению, сходному внешнему облику, нравственным принципам или просто по интересам, месту рождения и жительства; они мало-помалу разрастались и начинали действовать. Чем обернется брожение? Империя, укрепившаяся с таким трудом, развалится на куски? Будет ли Маарт-Итен-Шу раздроблена, как в давние времена, на огромное количество отдельных государств, или ради единства придется прибегнуть к ужасающему истреблению и, как в былые тысячелетия, превратить землю в гигантскую бойню?
Софр покачал головой, пытаясь прогнать невеселые мысли. Будущее никому не известно. Зачем заранее предаваться грустным размышлениям о неведомом? К тому же сегодня не тот день, чтобы верить зловещим прогнозам. Сегодня — праздник, и надлежало думать только о Его Августейшем Величестве Могар-Си, двенадцатом императоре Арс-Итен-Шу, скипетр которого вел народы всей земли к славным победам.
У зартога были причины радоваться. Вслед за историком, изложившим содержание летописей Маарт-Итен-Шу, выступила целая группа ученых. По случаю грандиозной годовщины каждый из них подвел итоги и наметил новые рубежи в своих исследованиях. И если первый оратор наводил на неутешительные в какой-то мере выводы, рассказав, какой медленной и извилистой дорогой общество уходило от первобытной жестокости, то остальные дали пищу законной гордости современников.
И правда, сравнение между первым человеком, появившимся на земле голым и безоружным, и нынешним приводило в восхищение. Веками, несмотря на распри и братоубийственные войны, люди ни на минуту не прекращали борьбу с природой, беспрерывно приумножая свои победы. Поначалу неторопливый, их триумфальный марш удивительно ускорился в течение двух последних столетий; политическая стабильность и всеобщий мир обеспечили необыкновенный расцвет науки. Все человечество, а не только его отдельные представители, вело разумное существование: то есть мыслило, а не растрачивало себя в бесцельных битвах и потому в течение двухсот лет продвигалось все быстрее и быстрее к познанию и покорению материи...
В голове Софра, шедшего под палящим солнцем по длинной улице Базидры, в общих чертах вырисовывалась картина завоеваний человека.
Сначала — это событие терялось во мраке прошлого — возникла письменность, позволявшая фиксировать мысль; затем, более пятисот лет назад, человек придумал способ распространения печатного слова в бесконечном количестве копий с помощью матрицы, набираемой один раз для всего тиража. В сущности, это изобретение послужило толчком для всех остальных. Благодаря ему человек сдвинулся с места, разум каждого отдельного индивидуума приумножался за счет достижений другого, и открытия в теории и практике последовали одно за другим. Ныне им не было числа. Человек научился проникать в недра Земли и извлекать уголь — щедрый источник тепла; он высвободил скрытую силу воды, и теперь пар тянул по железным магистралям тяжелые составы и приводил в действие неисчислимое множество мощных, чувствительных и точных механизмов; с помощью машин человек изготовлял ткани, обрабатывал металлы, мрамор и горную породу. В области более отвлеченной человек постепенно постигал тайны чисел, продвигаясь все дальше и дальше в исследовании бесконечности математических величин. Его мысль обратилась к познанию Вселенной. Он знал, что Солнце — это звезда, которая вращается в пространстве по неизменным законам, увлекая за своим огненным шлейфом кортеж из семи планет[332]. Человек научился искусно соединять различные вещества и получать новые, не имевшие ничего общего с первоначальными, или дробить вещество на составные элементы. Он подвергал анализу звук, тепло, свет и начал постигать их природу и законы. Пятьдесят лет назад люди подчинили, сделали своей рабыней чудовищную энергию грома и молний; таинственная природная сила уже передавала на неисчислимые расстояния печатный текст; завтра она сможет транслировать звук, а послезавтра, без сомнения, и свет...[333] Да, велик человек, еще более велик, чем бескрайняя Вселенная, господином которой он станет в будущем...
Теперь для обладания истиной во всей ее полноте оставалось ответить на последний вопрос: «Человек, властелин мира, кто он? Откуда пришел? И к какой неведомой цели стремится?»
Именно об этой глобальной проблеме говорил зартог Софр на только что завершившейся церемонии. Конечно, он едва коснулся ее, так как подобная задача пока неразрешима и потребует еще очень и очень долгих размышлений. Но тайна уже не была покрыта непроглядным мраком. И разве не сам зартог Софр пролил на нее мощный свет знаний, когда, неуклонно систематизируя терпеливые опыты предшественников и свои собственные наблюдения, открыл закон развития живой материи, признанный всеми в настоящее время и не встречавший больше ни одного оппонента?
Его теория базировалась на трех основах.
Во-первых, на данных геологической науки, которая родилась в тот день, когда начали разрабатываться недра, и развивалась вместе с быстро прогрессировавшим горным делом. Оболочку планеты изучили так тщательно, что удалось определить ее возраст. По расчетам он составляет четыреста тысяч лет, а возраст материка Маарт-Итен-Шун — двадцать тысяч лет. Раньше континент покоился под океанскими водами, о чем свидетельствовала толща морского ила, которая плотно покрывала нижележащие скалистые породы. Какая сила подняла его над волнами? Без сомнения, это произошло вследствие сжатия остывшего земного шара. Как бы там ни было, всплытие Маарт-Итен-Шу считалось неопровержимым фактом.
Естественные науки предоставили Софру несколько фундаментальных положений для его системы, доказав взаимное подобие растений и тесное родство животных. Софр пошел еще дальше; он убедительно показал, что почти все существующие растения происходят от одного морского предка, а практически все птицы и наземные животные — от обитателей вод. В течение медленной, но непрерывной эволюции они понемногу приспособились сначала к сходным, а затем ко все более и более чуждым условиям жизни и шаг за шагом дали начало большинству нынешних видов, населявших небо и землю.
К несчастью, стройная теория имела свои изъяны. То, что животные и растения ведут свою родословную от морского прародителя, являлось неоспоримым практически для всех видов, но существовали и исключения. Несколько растений и животных не удавалось связать родственными узами с водными формами жизни. И в этом состоял первый из двух слабых пунктов системы.
Человек — и Софр не скрывал этого — был вторым уязвимым местом. Не находилось и признака общности людей и животных. Конечно, такие основные свойства и функции, как дыхание, питание, способы передвижения, являлись очень схожими и осуществлялись или проявлялись сравнимыми способами, но непреодолимая пропасть пролегала между формами, числом и расположением внутренних органов. Если удавалось восстановить почти все звенья цепочки, связующей большинство животных и их вышедших из моря предков, то в отношении человека подобное родство оставалось недоказуемым. Чтобы сохранить в целостности теорию эволюции, пришлось бы исходить из безосновательной гипотезы об общем для человека и обитателей глубин предке, на существование которого абсолютно ничто не указывало.
Одно время зартог надеялся обнаружить в земле какое-либо подтверждение своей теории. По его настоянию и под его руководством в течение ряда лет проводились раскопки; результат оказался прямо противоположным тому, что ожидал их инициатор.
Под тонкой пленкой перегноя из разложившихся животных и растений, вроде тех, что люди видели на земле каждодневно, обнаружился толстый слой осадочных пород, где следы прошлого изменили свой характер. Там не было никаких останков известных ныне представителей флоры или фауны — только колоссальное скопление исключительно морских ископаемых, потомки которых и до сих пор встречались в океанах, опоясывавших Маарт-Итен-Шу.
Какой же следовало сделать вывод? Что правы геологи, считавшие, будто континент давным-давно служил дном такого же океана? Выходит, Софр не заблуждался в морском происхождении современного растительного и животного царства? Ведь кроме редчайших исключений, которые можно было классифицировать как уродство, найдены следы только водных и наземных видов: первые по необходимости породили вторых...
К сожалению, пришлось сделать и другие, злополучные для обобщения системы, выводы. По всей толщине перегноя, вплоть до верхней части осадочных пород, лежали бесчисленные человеческие скелеты; их извлекали на свет. В структуре костей не обнаружили ничего особенного, и Софр вынужден был отказаться от поисков промежуточных организмов, открытие которых подтвердило бы его теорию: найденные останки были останками людей и ничем иным.
Тем не менее не прошла незамеченной одна труднообъяснимая особенность. До какой-то определенной временной границы, которая находилась приблизительно на рубеже в две-три тысячи лет, чем древнее бы погост, тем меньше становились размеры ископаемых черепов. Наоборот, после этой воображаемой границы закономерность менялась на противоположную, и чем более давними были останки, тем более объемными оказывались черепа, а значит, и их содержимое — мозг. Наибольшие черепа, весьма, впрочем, немногочисленные, покоились на поверхности осадочных пород. Скрупулезный анализ не позволял сомневаться, что люди, жившие в ту отдаленную эпоху, намного превосходили по развитию своих потомков, включая даже современников зартога Софра. Следовательно, в течение ста шестидесяти или ста семидесяти веков шло очевидное отступление, за которым последовало новое восхождение.
Софр, взволнованный странными фактами, с новыми силами продолжил раскопки. Слой за слоем он преодолел толщу осадочных пород: возраст отложений измерялся, по самым умеренным оценкам, пятнадцатью или двадцатью тысячами лет. За ними, ко всеобщему удивлению, открылся слабый пласт древнейшего гумуса, а далее в самых таинственных глубинах — твердые породы различного характера. Но несказанное изумление вызвали находки, безусловно связанные с человеком. То были частицы костей, принадлежавшие когда-то людям, а также фрагменты оружия или машин, куски глиняной посуды, обрывки надписей на неизвестном языке, искусной работы изделия из камня, иногда — почти нетронутые скульптуры, тщательно отделанные капители и т. д. Вывод напрашивался сам собой: около сорока тысяч лет назад, то есть за двадцать тысяч лет до того, как неизвестно как и откуда появились первые представители современной расы, люди уже жили в этих местах и даже достигли высокого уровня цивилизации.
Таково было общепринятое мнение. Но по меньшей мере один ученый мыслил по-другому.
Инакомыслящим оказался не кто иной, как зартог Софр. Допустить, что какие-то другие люди, отсеченные от своих потомков двадцатитысячелетней пропастью, в один прекрасный день населили Землю,— это, по его мнению, было чистой воды безумием. Откуда тогда появились потомки предков, исчезнувших так давно, если ничто их не связывало? Лучше занять выжидательную позицию, чем согласиться с таким абсурдом. То, что из ряда вон выходящие факты пока не имеют объяснения, не означает, что они не будут растолкованы никогда. Однажды все станет на свои места. А до тех пор лучше не принимать их во внимание и не отходить от принципов, полностью устраивающих нормальный, незамутненный разум.
Жизнь планеты делится на две основные эры: дочеловеческую и человеческую. Во время первой Земля пребывала в состоянии постоянной трансформации и по этой причине была непригодна для жизни и необитаема. Во второй — земная кора стабилизировалась. Вскоре на этой солидной основе возникла жизнь. Она начиналась с самых простых форм, постепенно усложнялась, чтобы в конце концов воплотиться в человеке — последнем и совершенном венце творения. Едва появившись на Земле, человек начал свое неудержимое восхождение. Медленным, но уверенным шагом он шел и идет к своей цели — полному познанию и подчинению Вселенной...
Разгоряченный убедительностью таких доводов, Софр прошел мимо собственного дома, потом резко развернулся, продолжая ворчать:
— Каково! Согласиться, что уже сорок тысяч лет назад существовала цивилизация, подобная той, к которой мы только стремимся, а может, и превосходящая ее; что знания и достижения человека того времени бесследно испарились, что вынудило его потомков начинать с нуля, словно пионеров в необитаемом мире? Признать это означало бы поставить крест на будущем, смириться с тем, что все наши усилия тщетны, а прогресс — столь же непрочная и ненадежная вещь, как хлопья пены на гребне волны!
Софр остановился у порога.
— Упса ни! Харшток!.. (Нет, нет! Поистине!) Андарт мир, хое сфа! (Человек — хозяин мира!) — пробормотал он, толкая дверь.
Передохнув несколько минут, зартог славно отобедал, а затем прилег, намереваясь, как обычно, поспать. Но вопросы, преследовавшие его на подходе к дому, продолжали осаждать разум и прогоняли сон.
Каким бы жгучим ни было желание ученого установить безупречную взаимосвязь в природе, он обладал достаточно критическим умом, чтобы признать, как слаба его система в отношении происхождения и формирования человека. Загонять факты в рамки заданной гипотезы — таким способом можно доказывать свою правоту другим, но не себе.
Если бы Софр был не именитым зартогом, а принадлежал к необразованному классу, он не ощущал бы такого смущения. В самом деле, народ, не теряя времени на глубокомысленные теории и не мудрствуя лукаво, довольствовался старыми добрыми легендами, передававшимися с незапамятных времен от отца к сыну. Объясняя одно таинство другим, древнее сказание приписывало зачатие первого человека вмешательству высшей воли. Однажды внеземная сила сотворила из ничего Хедома и Хиву, мужчину и женщину; их потомки населяли теперь Землю. Все очень просто.
Слишком просто! — думал Софр. Когда отчаиваются понять какое-нибудь явленно, его легко объясняют вмешательством богов, и, значит, бесполезно искать решение загадок Вселенной; проблемы, не успев возникнуть, отпадают сами собой.
Был ли серьезным доводом тот факт, что народная легенда просуществовала до сих пор? Но ведь она возникла на пустом месте. Это только традиция, рожденная в давние невежественные времена и передававшаяся от поколения к поколению. А это имя — Хедом! Откуда взялось столь странное олово с чуждыми звуками? Оно не могло принадлежать языку Ан-дарт-Итен-Шу! Перед одной этой маленькой филологической трудностью несчетное множество ученых бледнело и краснело, не в силах найти убедительный ответ... Какая чушь! Подобная ерунда недостойна внимания уважаемого зартога!
Следуя обыкновенному распорядку дня, раздраженный Софр спустился в сад. Клонившееся к западу солнце было уже не столь жарким; вялые дуновения бриза доносились с побережья Спон-Шу. Зартог прошелся по тенистым аллеям, обрамленным деревьями, чьи листья шептали о ветрах на просторе, и понемногу его нервы вновь обрели привычное равновесие. Он отбросил пожиравшие его мысли и рассеянно наслаждался свежим воздухом и роскошным садом, рассматривая фрукты и убранство цветов.
Прогулка увлекла его к дому, и он остановился перед глубокой ямой, в которой валялись всяческие инструменты. Здесь в самый короткий срок будет заложен фундамент нового сооружения, которое удвоит площадь его лаборатории. Но в этот праздничный день рабочие отдыхали, предаваясь разного рода удовольствиям.
Софр машинально отметил объем выполненной работы и думал о том, что еще предстояло сделать, как вдруг в сумраке котлована его взгляд наткнулся на блестящую точку. Заинтригованный, он спустился вниз и выкопал необычный предмет из земли, закрывавшей его на три четверти.
Выйдя на свет, зартог внимательно исследовал находку. Она походила на футляр, изготовленный из неизвестного серебристого металла зернистой структуры; от долгого пребывания в земле он потерял первоначальный блеск. Футляр состоял из двух частей, вставленных друг в друга, на что указывала боковая выемка. Софр попытался открыть его.
От первого же усилия металл, разъеденный временем, рассыпался в пыль, обнаружив содержимое — свиток из сложенных листков, испещренных странными знаками, регулярный характер которых говорил, что это, без сомнения, какие-то неведомые науке письмена.
Вещество, из которого был сделан свиток, тоже до сих пор не встречалось зартогу.
Софр затрепетал от возбуждения; он ворвался бегом в лабораторию и, бережно расправив на столе драгоценную находку, начал внимательно изучать ее.
Откуда эти записки? Каково их содержание? Вот два вопроса, которые сами собой возникли в его голове.
Чтобы ответить на первый, следовало сначала ответить на второй. Необходимо прочитать, а затем перевести текст.
По плечу ли ему такая задача? Зартог Софр ни секунды не сомневался в своих силах; не медля, он лихорадочно принялся за работу.
...Прошли долгие, долгие годы. Софр был неутомим. Не отчаиваясь, он продолжал методическое изучение таинственного документа, шаг за шагом продвигаясь к расшифровке. И наступил наконец час, когда ключ к, казалось бы, неразрешимому ребусу был найден. Зартог Софр не без запинок и пока с большим трудом перевел текст на язык людей Четырех Морей и прочитал следующее:
* * *
Росарио, 24 мая г.
С этой даты я поведу свой рассказ, хотя в действительности пишу его совсем в другое время и в другом месте. В подобном деле, полагаю, порядок особенно необходим. Поэтому лучше всего известные мне факты изложить в форме дневника — день за днем.
Итак, с двадцать четвертого мая я начинаю свое повествование в надежде, что ужасные события, о которых пойдет речь дальше, послужат хорошим уроком для человечества, если, конечно, человечество еще имеет право рассчитывать на какое-нибудь будущее.
Остается только решить, на каком языке писать. На хорошо знакомом английском? Или испанском? Нет! Только на языке своей родины — на французском!
В тот день, двадцать четвертого мая, я пригласил к себе в гости на виллу в Росарио ближайших друзей.
Росарио — город, вернее — бывший город в Мексике, на берегу Тихого океана, немного южнее Калифорнийского залива. Десятком лет ранее я обосновался здесь, чтобы управлять своим .серебряным рудником. Дело процветало, я был богат, даже очень богат — это здорово смешит меня сегодня! — и рассчитывал вскоре вернуться в отчий дом — во Францию.
Моя роскошнейшая вилла располагалась на вершине обрывистого берега, по стометровому склону которого был разбит сад. Позади виллы местность продолжала постепенно повышаться; извилистые тропы вели на хребет высотой более полутора тысяч метров над уровнем океана. Сколько раз я поднимался сюда пешком или на моем чудо-автомобиле мощностью в тридцать пять лошадиных сил — лучшей из лучших французских марок.
Я приехал в Росарио вместе с сыном — прелестным юношей двадцати лет; позже, после смерти дальних, но очень дорогих моему сердцу родственников, я взял на воспитание их дочь, Елену, круглую сироту без средств к существованию. С тех пор прошло пять лет. Жану исполнилось уже двадцать пять, а Елене — двадцать. В глубине души я предназначал их друг другу.
Мы обзавелись надежной прислугой: камердинер Жермен, лихой и смышленый шофер Модест Симона, две женщины — Эдит и Мари, дочери нашего садовника Джорджа Рэлея и его жены Анны.
В тот день, двадцать четвертого мая, мы собрались за столом при свете ламп, питаемых энергией от генератора, установленного в саду. Кроме нас троих присутствовали еще пятеро гостей — англичане (среди них -— доктор Бетерст) и мексиканцы (представленные, в частности, доктором Морено).
Эти два замечательных ученых крайне редко соглашались друг с другом, но для меня главным было то, что они славные люди и лучшие друзья на свете.
Еще двух англосаксов звали Уильямсон (он являлся владельцем городских рыбных промыслов) и Роулинг, выращивавший в окрестностях Росарио ранние овощи, на которых надеялся вот-вот сколотить приличное состояние.
Наконец, пятым был мексиканец дон Мендоса — председатель трибунала Росарио, человек необыкновенного ума и неподкупный судья.
Мы благополучно завершили трапезу. Я забыл те незначительные фразы, что произносились за столом. И наоборот, помню все, что было сказано за сигарами после обеда.
Не то чтобы этот разговор показался мне очень важным сам по себе, но последовавшие вскоре жестокие события придали ему столько значительности, что он никогда не сотрется из моей памяти.
Каким-то образом — не важно, каким! — наша вялая беседа коснулась темы потрясающего прогресса, достигнутого человеком. Доктор Бетерст как бы между прочим заметил:
— Наверное, Адам и Ева (понятно, что, как истинный англосакс, он произносил эти имена Эдем и Ива), возвратившись на Землю, были бы здорово удивлены!
Данное утверждение послужило толчком к дискуссии. Ревностный дарвинист, убежденный сторонник теории естественного отбора, Морено спросил ироническим тоном у Бе-терста, верит ли тот всерьез в легенду о Рае. Бетерст ответил, что он прежде всего верит в Бога, и раз существование Адама и Евы утверждается Библией, он отказывается дискутировать на эту тему. Морено быстро возразил, что в Бога он верит не меньше своего оппонента, но первый мужчина и первая женщина скорее всего были мифом, символом, и, следовательно, нет ничего святотатственного в предположении, что Библия таким образом передает то, как созидательная сила вдохнула жизнь в первую клетку, от которой произошли все остальные. Бетерст нанес ответный удар, сказав, что объяснение неправдоподобно, и что до него, то он предпочитает считать себя прямым произведением божественной воли, чем непосредственным потомком более или менее человекоподобных приматов...
В ту минуту мне казалось, что спор разгорится с новой силой, как вдруг он затих; противники случайно обрели почву для согласия. Впрочем, так частенько заканчиваются научные диспуты.
Вернувшись к первоначальной теме, соперники сошлись во мнении, что, каким бы ни было происхождение человека, высокая культура, достигнутая им, не может не восхищать. С гордостью они перечисляли победы человечества. Не пропустили ничего. Бетерст превозносил химию, та вот-вот должна была слиться с физикой и образовать единую науку, которая овладеет внутренней энергией вещества. Морено расхваливал медицину и хирургию, чьи необыкновенные открытия позволяли надеяться в ближайшем будущем на бессмертие живых организмов. После этого ученые поздравили друг друга с необычайными достижениями астрономии. В ту пору в ожидании звезд на небе мы вели речь о семи планетах Солнечной системы[334]. Утомленные собственным энтузиазмом, недавние спорщики решили немного передохнуть. Гости воспользовались моментом, чтобы в свою очередь вставить слово, прославляя практические изобретения, столь глубоко изменившие условия жизни человека. Железные дороги и пароходы применялись для перевозки тяжелых и громоздких грузов, экономичные воздушные суда — для неторопливых путешествий; пневматические и электрические поезда, мчавшиеся по трубопроводам над всеми континентами и морями, использовались теми, кто спешит. Были помянуты бесчисленные машины, одна умнее другой, заменявшие на производствах работу сотен людей. Не забыли мои гости и о книгопечатании, цветной фотографии, но особенно прославляли электричество — эту действующую силу, столь гибкую и податливую. Сущность и свойства электричества были‘так хорошо изучены, что с его помощью без всякого соединительного устройства можно было управлять на любом расстоянии каким-либо механизмом, приводить в движение морские, подводные и воздушные суда, переписываться, переговариваться и при этом видеть друг друга.
Короче говоря, то был настоящий нескончаемый дифирамб, в сочинении которого, признаюсь, и я принял участие. Все единодушно согласились с утверждением, что человечество достигло небывалого интеллектуального уровня и окончательная победа над природой близка.
— Тем не менее,— тихим мелодичным голосом произнес судья Мендоса, воспользовавшись наступившей паузой*— я позволю себе заметить, что некоторые народы, бесследно исчезнувшие с лица Земли, когда-то уже достигали цивилизации, равной или аналогичной нашей.
— Это какие же народы? — воскликнули в один голос сидевшие за столом.
— Ну как же! Например, вавилоняне...
Раздался взрыв смеха. Сравнивать жителей древнего Вавилона с современными людьми!
— Египтяне,— спокойно продолжал дон Мендоса.
Собеседники захохотали еще сильнее.
— Были еще атланты. Мы ничего не знаем о них, но от этого они становятся еще легендарнее. Учтите также, что даже до Атлантиды великое множество цивилизаций могло возникнуть, расцвести и таинственно исчезнуть.
Дон Мендоса продолжал настаивать на своем, и, чтобы не обидеть его, все сделали вид, что принимают его слова всерьез.
— Друг мой,— осторожно попытался возразить доктор Морено тем тоном, которым вразумляют ребенка,— думаю, вы не станете утверждать, что хотя бы один из этих древних народов может сравниться с нами? Я еще допускаю, что в духовном плане они поднялись до такого же уровня культуры, но в науке...
— Почему бы и нет? — не сдавался дон Мендоса.
— А потому,— поторопился объяснить Бетерст,— что особенность наших изобретений в том, что они мгновенно распространяются по всей Земле. Исчезновение одного или даже целой группы народов не может коснуться сущности достигнутого прогресса. Чтобы усилия людей оказались напрасными, все человечество должно погибнуть разом. Такая гипотеза, на ваш взгляд, приемлема?
Во время нашей беседы следствия и причины продолжали взаимно порождать друг друга, уходя в бесконечность интеллектуальной Вселенной. Не меньше чем через минуту после вопроса доктора Бетерста убедительный довод подтвердил правоту Мендосы. Мы же, ничего не подозревая, продолжали безмятежно рассуждать; одни откинулись на спинки кресел, другие облокотились на стол, устремив сочувствующие взгляды на почтенного Мендосу, который, как все надеялись, должен был быть повержен убийственной репликой англосакса.
— Во-первых,— нимало не смутился председатель суда,— надо полагать, что раньше на Земле жило меньше людей, чем сегодня, а следовательно, один народ вполне мог в одиночку обладать знанием Вселенной. А кроме того, я не вижу ничего абсурдного в предположении, что вся поверхность земного шара была разрушена в один момент.
Именно в этот миг — мы еще не успели произнести всеобщее «ну и ну!» — поднялся невообразимый грохот. Земля задрожала и стала уходить из-под ног, вилла покачнулась на своих опорах.
Охваченные невыразимым ужасом, все бросились наружу, толкаясь и сшибая друг друга с ног.
Едва мы выскочили за порог, как дом разом обрушился, похоронив под обломками председателя Мендосу и камердинера Жермена, бежавших последними. После нескольких секунд вполне естественного смятения захотелось как-то помочь им, как вдруг показались садовник Рэлей и его жена, бежавшие со всех ног из нижнего сада, где они жили.
— Море! — крикнул Рэлей во всю мощь своих легких.— Посмотрите на море!
Я повернулся в сторону океана и остолбенел: привычная перспектива резко изменилась. Впрочем, чтобы вселить в душу леденящий ужас, разве недостаточно вида мгновенно преобразившейся природы, той самой природы, которую мы считаем неизменной по определению?
И все-таки самообладание вскоре вернулось ко мне. Истинное превосходство человека не в том, чтобы порабощать и побеждать окружающую среду; для мыслителя оно в том, чтобы понять Вселенную и держать ее в микрокосме своего разума, а для людей действия — в том, чтобы сохранять спокойствие перед бунтом материи и говорить себе: «Я погибну — и пусть! Но бояться — никогда!»
Придя в себя, я понял, чем картина перед моими глазами отличалась от прежней. Прибрежные утесы просто-напросто исчезли, и мой сад опустился до уровня моря, чьи волны уже поглотили домик садовника и яростно бились в нижний цветник.
Стало очевидно, что не уровень воды поднимается, а оседает земля. Она сползла уже более чем на сотню метров, сползла постепенно. Этим объяснялось, видимо, и относительное спокойствие океана.
Быстро оглядевшись по сторонам, я убедился как в правильности своей догадки, так и « том, что оседание вовсе не прекратилось. В самом деле, вода продолжала прибывать со скоростью, которая показалась мне равной примерно двум метрам в секунду. Следовательно, если учесть расстояние до первых волн, мы будем поглощены не меньше чем через две минуты, если, конечно, скорость оседания земли не изменится.
Решение возникло мгновенно:
— Автомобиль!
Меня поняли. Мы устремились к гаражу и вывели машину наружу. В мгновение ока заполнили бак бензином и втиснулись как попало в салон. Мой шофер Симона завел мотор, прыгнул за руль, отжал сцепление и рванул по дороге на четвертой передаче, в то время как Рэлей открыл ворота и на ходу уцепился за задние рессоры.
И вовремя! Когда автомобиль уже выезжал на дорогу, позади нас с силой обрушился огромный вал, замочив колеса до половины. Ха! Теперь мы могли смеяться над морем. Несмотря на чрезмерный груз, суперлимузин избавит нас от посягательств океана, если, конечно, падение в пучину не будет бесконечным... Хорошо, что есть куда отступать и в нашем распоряжении по меньшей мере два часа подъема на высоту в полторы тысячи метров.
Однако мне очень скоро пришлось признать, что радоваться было рано. После того как первый рывок машины отбросил нас на пару десятков метров от клокочущей пены, Симона продолжал изо всех сил давить на газ, но тщетно — дистанция не увеличивалась. Конечно, вес двенадцати человек замедлял ход машины, но, как бы то ни было, наша скорость равнялась скорости наступления бурлящей торжествующей воды.
Осознав тревожность ситуации, мы все, за исключением Симона, следившего за дорогой, обернулись назад. И — о, ужас! — увидели только бескрайний водный простор. По мере того как мы преодолевали дорогу, она исчезала под волнами. Море тем временем успокоилось. За нами лежало тихое, безмятежное озеро, • которое неутомимо раздувалось и равномерно разбухало. Никогда бы не подумал, что преследование с виду спокойной воды окажется таким страшным. Тщетно мы пытались убежать от нее; она поднималась неумолимо вслед за нами...
Симона, который сконцентрировал внимание на дороге, сказал, обернувшись:
— Мы на полпути к вершине. Это час езды.
Все содрогнулись. Ого! Через час мы будем на перевале, а потом придется спускаться! И не поможет нам никакая скорость! Нас неизбежно настигнет лавина бешеной воды!
Час прошел, но ничто не изменилось. Мы уже видели высшую точку хребта, как вдруг раздался сильнейший удар и лимузин круто занесло; казалось, он вдребезги разобьется на откосе дороги. В тот же миг позади вздулся огромный вал, устремился на приступ, на мгновение завис и обрушился пенной массой на автомобиль... Итак, мы погибли?
Нет! Вода отступила, кипя от возмущения, а мотор вдруг взревел, увеличив обороты, и машина рванула вперед, ускользнув из-под удара следующей волны.
Почему вдруг резко возросла скорость? Отчаянный крик Анны Рэлей все объяснил: бедняжка увидела, что ее муж больше не цепляется за рессоры. Видимо, прибой смыл несчастного, и облегченному автомобилю удалось одолеть подъем.
Внезапно машина резко затормозила.
— Что такое? — спросил я Симона.— Авария?
Даже в таких трагических обстоятельствах Симона сохранил профессиональную гордость; он с пренебрежением пожал плечами, давая понять, что авария — невозможная вещь для шофера его класса, и без лишних слов показал рукой на дорогу. Причина остановки стала мне ясна.
Дорога была перерезана менее чем в десяти метрах от нас.
«Перерезана» — точное определение: как будто кто-то рассек ее ножом. А за острым краем открывалась темная бездна.
Мы растерянно обернулись, уверенные, что пробил наш последний час и ненасытный океан поглотит нас через несколько секунд...
Неутешная Анна и ее дочери рыдали; мы же, как это ни кощунственно звучит, вдруг испустили единый крик радостного удивления: вода отказалась от наступления, а точнее, прекратила опускаться земля. Очевидно, недавний толчок был последним проявлением чудовищного природного катаклизма. Океан остановился, линия прибоя виднелась в сотне метров ниже той точки, где замер автомобиль, похожий на запыхавшегося от быстрого бега зверя.
Усталые до предела от пережитого, мы растянулись друг подле друга на каменистой почве, и думаю, Бог простит меня за то, что я заснул!
* * *
Ночью.
Я проснулся, вздрогнув от устрашающего шума. Который час? Неизвестно. Ясно лишь, мы еще погребены в ночном мраке.
Шум исходил из бездны, в которую провалилась дорога. Что случилось? Я мог поклясться, что туда низверглись водопады и происходила гигантская битва волн и потоков. Да, все было именно так. Брызги пены долетали до нас и покрывали водяной пылью.
Затем понемногу воцарилось спокойствие... Возвратилась тишина... Небо побледнело... Утро.
* * *
25 мая.
Какое мучение — медленное осознание своего ужасного положения! Сначала были различимы только ближайшие окрестности; но постепенно обзор расширялся, словно обманчивая надежда приподнимала одну за другой бесконечное множество легких завес; и наконец настал час, который рассеял последние иллюзии — мы на острове. Со всех сторон плещется море. Еще вчера мы находились среди горных вершин, многие из которых превосходили по высоте нашу; эти вершины по совершенно непонятным причинам исчезли, осталась одна-единственная. Мы стоим на клочке тверди в центре огромного круга, очерченного горизонтом.
Одного взгляда хватило на исследование всего островка, где только чудо предоставило нам убежище. Да, он совсем невелик: от силы тысяча метров в длину и пятьсот в ширину. К северу, западу и югу от его верхней точки, приподнятой над волнами едва ли на сотню метров, идут пологие склоны. На востоке же — отвесный утес.
Именно в ту сторону обратились наши взоры. Раньше здесь громоздились горы, а за ними лежала Мексика. Какое преображение пейзажа за одну короткую весеннюю ночь! Горы и Мексика исчезли под водой! На их месте бесконечная водная пустыня! Объятые ужасом, все посмотрели друг на друга. Мы в ловушке, без продуктов, без воды, на голой узкой скале. Нет ни малейшей надежды на спасение. В отчаянии мы опустились на землю, ожидая смерти.
* * *
На борту «Вирджинии». 4 июня.
Что произошло с нами в следующие дни — не помню. Скорее всего, я полностью потерял сознание и очнулся только на корабле, подобравшем нас. Только тогда я узнал, что мы провели на островке целых десять дней. Уильямсон и Роулинг скончались от голода и жажды. Из пятнадцати человек, оказавшихся на моей вилле в момент катастрофы, осталось в живых только девять: мой сын Жан, воспитанница Елена, шофер Симона, потерявший своего железного четырехколесного друга, Анна Рэлей и две ее дочери, доктор Бетерст, профессор Морено и, наконец, автор этих торопливых строчек.
«Вирджиния» была грузовым судном смешанного типа, оснащенным и парусами, и паровой машиной — довольно старая, медлительная посудина водоизмещением в две тысячи тонн. Подчиненный капитану Моррису экипаж состоял из двадцати матросов-англичан.
Нагруженная балластом, «Вирджиния» вышла из Мельбурна около месяца назад и взяла курс на Росарио. Путешествие прошло без происшествий, только в ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое мая команда, к своему удивлению, заметила невесть откуда взявшиеся волны необыкновенной высоты и столь же необычайной длины, что делало их безопасными. Такие волны были явлением исключительным, но капитан и не подозревал о катастрофе, происходившей в ту ночь, и потому был крайне поражен, обнаружив только море на месте Росарио.
От всего мексиканского побережья остался лишь островок.
Матросы с «Вирджинии» высадились на него и обнаружили нас. Двое из одиннадцати были уже мертвы: остальных погрузили на судно. Так мы были спасены.
* * *
В поисках суши. Январь или февраль.
Около восьми месяцев отделяют предыдущие строчки от нижеследующих. Я датирую их так неопределенно, поскольку потерял точное представление о времени. Восемь месяцев длился период суровых испытаний, когда мы постепенно осознавали всю глубину своего несчастья.
Приняв нас на борт, «Вирджиния» на всех парах понеслась на восток. Когда я очнулся, остров, где, казалось, мы были обречены на смерть, скрылся далеко за горизонтом. Как показало счисление, сделанное капитаном, пока я лежал в беспамятстве, мы прошли то место, где раньше располагался Мехико. Но от огромного города не осталось даже гор, когда-то возвышавшихся в его центре. Насколько хватало глаз, не было видно вообще никакой земли; со всех сторон бушевало необъятное море.
С ума сойти! Происходящее не укладывалось в голове. Еще бы! Мексика оказалась целиком под водой! Мы с ужасом смотрели друг на друга и спрашивали себя, как далеко распространилась страшная катастрофа...
Капитан хотел это выяснить; переменив курс, он направил судно на север: если Мексика больше не существовала, отсюда не следовало, что то же самое случилось со всем Американским континентом.
Но надежды были напрасны. Мы шли на север двенадцать дней, так и не встретив берега; более того — не увидели земли и в течение следующего месяца, когда, постоянно меняя курс, направились на юг. В конце концов пришлось признать невероятное: да, Америка полностью затоплена!
Неужели нас спасли для того, чтобы дать возможность еще раз пережить муки агонии? И правда, поводов для страха хватало. Не говоря уж о продуктах, таявших с каждым днем, другая опасность подстерегала экипаж: что делать, когда кончится уголь и машина остановится, как сердце обескровленного животного. Вот почему четырнадцатого июня — мы дрейфовали тогда поблизости от прежнего местонахождения Буэнос-Айреса — капитан Моррис приказал загасить топку и поставить паруса. Затем он собрал экипаж и пассажиров «Вирджинии» и, обрисовав в нескольких словах ситуацию, попросил всех здраво поразмыслить и завтра на общем совете предложить свой выход из положения.
Не знаю, придумал ли кто-то из моих товарищей по несчастью что-нибудь более или менее подходящее. Про себя такого сказать не могу. Ночью неожиданно разразилась буря и сняла таким образом вопрос капитана с повестки дня. Яростным ветром судно понесло на запад; в любую минуту нас мог поглотить разгневанный океан.
Ураган бушевал тридцать пять дней без минуты передышки. Казалось, он никогда не стихнет, как вдруг девятнадцатого августа хорошая погода вернулась так же внезапно, как пришла непогода. Капитан взялся определить местонахождение судна; вычисления показали сорок градусов северной широты и сто четырнадцать градусов восточной долготы. Координаты Пекина.
Значит, мы, не подозревая о том, пронеслись над Полинезией, а может быть, и над Австралией, и там, где дрейфует сейчас судно, некогда простиралась столица империи с населением в четыреста миллионов душ!
Неужели Азию постигла участь Америки?
Скоро пришлось убедиться и в этом. «Вирджиния», продолжая плыть курсом на юго-восток, прошла сначала над Тибетом, а затем над Гималаями. Здесь должны были возвышаться самые высокие вершины земного шара. Но на всех направлениях виднелась лишь гладкая поверхность океана. Значит, на нашей планете нет больше ни одного клочка суши, кроме выручившего нас островка? Значит, мы одни пережили катастрофу? Мы — последние жители мира, погребенного под зыбким саваном моря?
Если дело обстоит так, скоро наступит и наш черед. Несмотря на скудный рацион, продукты на борту иссякали, и не было никакой надежды возобновить припасы.
Я сокращаю рассказ о нашем невероятном плавании, ибо если излагать его в деталях, можно сойти с ума. Скажу только, что во время этих адских скитаний мы познали настоящий ужас. О, бесконечный путь по безбрежному морю! Каждый день надеяться на высадку — и все понапрасну! Рассматривать нарисованные людьми карты извилистых берегов и приходить к выводу, что ничего не осталось от тех мест, что считались вечными! Вспоминать, что на Земле бились миллионы человеческих сердец, что мириады живых организмов кишели на ее поверхности и пронизывали атмосферу; понимать, что все в один миг погибло, что жизнь угасла, как огонек от дуновения ветерка! Повсюду искать себе подобных, но тщетно! Раз за разом убеждаться, что вокруг — ни единой души, и постепенно постигать свое одиночество в тисках безжалостной природы!
Нашел ли я слова, которые отражают нашу тоску? Не знаю. Ни в одном языке их, подходящих, просто нет.
После знакомства с морем, где ранее находился Индостан, мы в течение десяти дней шли на север, а затем направились на запад. Ничто не изменилось, когда мы пересекли Уральский хребет, ставший теперь подводным, и вышли в морские просторы над бывшей Европой. Затем мы спустились к югу до двадцатого градуса широты по ту сторону экватора, после чего, утомленные напрасными поисками, опять повернули к северу и прошли вплоть до широты Пиринеев водные пространства, покрывавшие Африку и Испанию. По правде, мы начинали привыкать к своему положению. По мере того как продвигалось судно, на карте отмечались пройденные мили и члены экипажа со все возраставшим безразличием говорили: «Здесь когда-то была Москва... Варшава... Берлин... Вена... Рим... Тунис... Тимбукту... Сент-Луис... Оран... Мадрид...» Человек приспосабливается ко всему, и эти трагичные слова стали произноситься без эмоций.
И все-таки я понял, что еще не утратил способности страдать. Однажды — это случилось приблизительно одиннадцатого декабря — капитан Моррис сказал: «Вот здесь был Париж...» При этих словах сердце мое едва не вырвалось из груди. Весь мир провалился в тартарары — и пусть! Но Франция, моя Франция! И Париж — ее символ!
Послышался плач. Я обернулся: то рыдал Симона.
Еще четыре дня мы продолжали идти на север; достигнув широты Эдинбурга, повернули на юго-запад в поисках Ирландии, затем взяли курс на восток... «Вирджиния» скиталась уже как попало, поскольку одно направление было равноценно другому...
Мы проплыли над Лондоном, приветствуя всем экипажем его подводную могилу, а пять дней спустя прошли над Данцигом[335], и капитан Моррис приказал переменить курс и опять повернуть на юго-запад. Рулевой беспрекословно подчинился. Какая разница, куда двигаться, если всюду одно и то же?
Еще через девять дней были съедены последние галеты. Мы растерянно смотрели друг на друга, когда капитан Моррис приказал развести пары. Чем он руководствовался? Я до сих пор спрашиваю себя об этом, но приказ был выполнен, и скорость судна увеличилась.
Два дня спустя начал чувствоваться жестокий голод. Еще через день почти все наотрез отказались подняться; только у капитана, Симона, нескольких человек из экипажа и меня хватало сил на управление кораблем.
На пятый день вынужденного поста число добровольных рулевых и механиков уменьшилось, а на шестой уже никто не встал на ноги.
Наше плавание длилось больше семи месяцев. Мы избороздили море во всех направлениях. И вот настало, кажется, восьмое января (я говорю: «кажется», поскольку не могу быть более точным — календарь давным-давно потерял значение для нас).
Итак, в тот день я стоял у руля, сосредоточив все свое слабеющее внимание на том, чтобы удерживать корабль на курсе, как вдруг на западе показалось что-то необычное. Боясь стать игрушкой собственного желания, я вытаращил глаза и скоро испустил самый настоящий вой (так голодный волк воет на луну). Затем, уцепившись за штурвал, чтобы не упасть, закричал изо всех сил:
— Земля! Впереди по правому борту!
Мои слова оказали магическое действие. Мертвецы воскресли, и над планширем правого борта появились их прозрачные лица.
— Действительно земля! — сказал капитан Моррис, внимательно изучив темное облако, выступавшее из воды на горизонте.
Через полчаса у нас не осталось ни малейших сомнений. То была суша посреди Атлантики! Но после осмотра столь долгожданной тверди отчаяние вновь поселилось в наших сердцах.
Берег не походил ни на какой другой, и никто не видал раньше столь первобытной дикости.
До катастрофы мы жили на земле, где преобладал зеленый цвет. Ни один из нас не бывал ранее в таких пустынных, обездоленных местах: ни кустика, ни пучка утесника, ни клочка мха или лишайника, ни стебелька. Ничего подобного. Над беспорядочной кучей скальных обломков возвышались громады мрачных утесов — само воплощение скорби и уныния.
Два дня мы продвигались вдоль обрывистого берега в поисках малейшего прохода. Только к вечеру вторых суток был найден просторный залив, хорошо защищенный от ветров открытого моря; здесь наконец «Вирджиния» стала на якорь.
Первым делом после высадки на шлюпках все занялись поисками пищи. Благо песчаный берег оказался усеянным сотнями черепах и миллионами ракушек. У прибрежных камней в баснословных количествах обнаружились крабы, омары, лангусты, не говоря о бесчисленных косяках рыбы. По всей видимости, столь плотно населенное море сможет кормить нас как угодно долго.
Восстановив силы, мы поднялись по расщелине на плато, представлявшее собой обширную равнину. Внешний вид берегов не обманул нас; со всех сторон, во всех направлениях — только голые камни, покрытые в основном высушенными водорослями, без единой травинки, без следов жизни ни на земле, ни в небе. Местами блестели на солнце небольшие лужи, иногда даже прудики. Попробовав воду, мы убедились, что она соленая.
По правде говоря, этот факт лишь подтверждал наше первоначальное предположение, что остров только-только родился из глубин моря и потому был таким бесплодным и пустынным, повсеместно покрытым толстым слоем ила, который под лучами солнца уже начал трескаться и рассыпаться в пыль...
На следующий день, в полдень, капитан определил наше местоположение: измерения показали семнадцать градусов двадцать минут северной широты и двадцать три градуса пятьдесят пять минут западной долготы. Нанеся эту точку на карту, мы увидели, что находимся посреди океана, неподалеку от бывшего Зеленого Мыса. Но теперь на западе была суша, а на востоке — море, и простиралось оно насколько хватало глаз.
После не долгих раздумий «Вирджинию» разгрузили. На плато подняли все, что имелось на корабле, без исключений. Судно надежно закрепили четырьмя якорями, спустившимися на глубину пятнадцати саженей. В этой спокойной гавани «Вирджиния» не подвергалась никаким опасностям. Высадка была закончена, и началась новая жизнь. Первым делом нужно...
* * *
Дойдя до этого места, зартог Софр остановился. Манускрипт первый раз прерывался, и, возможно, отсутствовало довольно большое число страниц; затем, насколько можно было судить, следовали еще более значительные разрывы. Несмотря на защитный футляр, большое число листков поразила сырость. Их содержание утратилось навеки. Дальше уцелели только фрагменты различного размера, следовавшие в таком порядке:
* * *
...потихоньку начинаем привыкать.
Сколько прошло времени с тех пор, как мы высадились на берег? Не знаю. Я спросил об этом у доктора Морено, который вел календарь прошедших дней. Он ответил: «Шесть месяцев»,— и добавил: «Или около того»,— так как боялся ошибиться.
Плохой признак! Всего полгода, а мы уже не в состоянии точно измерить время.
Впрочем, в нашей небрежности нет ничего удивительного. Все внимание, все силы мы тратим на то, чтобы выжить. Задача задач — добыча пропитания. Что мы едим? Рыбу, когда повезет; ловить ее с каждым разом все труднее и труднее, так как наша постоянная погоня начинает ее отпугивать. Питаемся также черепашьими яйцами и съедобными водорослями. К вечеру насыщаемся, но устаем настолько, что думаем только о сне.
Из парусов «Вирджинии» сооружены палатки. Думаю, в ближайшее время следует построить более серьезное убежище.
Иногда удается подстрелить птицу. Десяток известных нам видов пернатых, обладающих большой дальностью полета, уцелели на новом континенте — ласточки, альбатросы, чайки и некоторые другие. Они беспрерывно кружат вокруг лагеря в ожидании объедков от наших скудных трапез. Порой мы подбираем птиц, убитых голодом, и сберегаем таким образом драгоценные патроны.
К счастью, в трюме «Вирджинии» мы нашли мешок зерна и посеяли половину eго содержимого. Если пшеница вырастет, станет намного легче. Но приживется ли она? Камни покрывал толстый слой морских наносов, илистый песок, удобренный разложившимися водорослями. Когда мы только высадились, вся поверхность острова была насквозь пропитана солью; но затем проливные дожди добросовестно промыли ее, так что теперь все углубления заполнились приятной на вкус водой.
Однако почва пока еще не полностью избавилась от соли; ручьи и даже реки, которые начали формироваться, несли горьковато-соленую воду.
Когда мы решили посеять зерно, оставив половину про запас, дело чуть не дошло до драки — часть экипажа «Вирджинии» потребовала выпечь хлеб немедленно. Пришлось.,.
* * *
...которые находились на борту «Вирджинии», Эти две пары кроликов скрылись в глубине материка, и больше их никто не видел. Надеюсь, они нашли себе пропитание. Может, без нашего ведома, земля произведет...
* * *
...мы здесь уже по меньшей мере два года! Пшеница удалась на славу! У нас почти нет недостатка в хлебе, и наши поля постоянно расширяются. Но какая борьба с птицами! Они странным образом размножились и все летают вокруг наших угодий...
* * *
Несмотря на потери, о которых упоминал выше, наше маленькое племя не сократилось. Напротив, у моего сына и воспитанницы уже трое детей, и у каждой из трех других пар столько же. Вся детвора пышет здоровьем. Похоже, род человеческий после того, как численность его сократилась, окреп и стал более жизнеспособен. Но сколько еще причин...
* * *
...десять лет назад мы ничего не знали об этом континенте. Мы изучали его лишь в радиусе нескольких километров вокруг места нашей высадки. Доктор Бетерст устыдил нас за бесхарактерность: по его настоянию мы оснастили и вооружили «Вирджинию», что заняло у нас около шести месяцев, и предприняли исследовательскую экспедицию.
Позавчера мы вернулись из плавания. Путешествие продлилось дольше, чем предполагалось, ибо хотелось полностью решить поставленную задачу.
Мы обогнули континент, который приютил нас и который, думается, остался последним островком суши на всей планете. Его берега всюду одинаковы — очень крутые и очень дикие.
Плавание прерывалось несколькими вылазками в глубь материка: мы надеялись найти следы Азорских островов или Мадейры, расположенных перед катастрофой в Атлантическом океане — по всем расчетам, они неизбежно должны были стать частью нового континента. Но ни малейшего признака их существования обнаружить не удалось. Выяснилось только, что на месте островов поверхность земли как бы взорвана изнутри и покрыта толстым слоем лавы. Вероятно, они явились центром сильных вулканических извержений.
Не найдя того, что искали, мы зато обнаружили на широте Азорских островов наполовину скрытые лавой следы деятельности людей. Но не наших вчерашних современников, нет, нам открылись обломки невиданных колонн и гончарных изделий. Изучив их, доктор Морено предположил, что находки скорее всего из древней Атлантиды и вынесены наверх потоками лавы.
Возможно, доктор Морено прав. Легендарная Атлантида, если она когда-нибудь существовала, должна была располагаться приблизительно там, где находится наш новый материк. Странно, что в одном и том же месте сменилось три человечества, и каждое начинало свой путь независимо от предыдущего.
Как бы то ни было, признаюсь, этот вопрос мало меня волнует: у нас слишком много проблем в настоящем, чтобы заботиться о прошлом.
Когда мы вернулись домой, то поразились: по сравнению с остальным материком наш край казался воистину благословенным. Прежде всего потому, что зеленый цвет, в прошлом преобладавший в природе, здесь еще как-то присутствовал, тогда как все, что мы увидели во время плавания, было абсолютно лишено зелени. Раньше мы не замечали этого факта, но теперь он явно бросался в глаза. Стебельки травы, не существовавшие, когда мы только высадились на берег, теперь произрастали в достаточно большом количестве. Они принадлежали, правда, к очень малому числу самых простых видов, и, видимо, семена их занесли сюда птицы.
Не надо думать, что, кроме этих нескольких старых видов, больше ничего не было. Вследствие самого странного видоизменения, напротив, возникла новая растительность, пока, правда, в зачаточном, но многообещающем состоянии. Морские растения, покрывавшие материк, когда он вырвался из глубины океана, в большинстве своем погибли на солнечном свете. Некоторые, однако, выжили в озерах, прудах и лужах, которые постепенно пересыхали от жары. Но вскоре начали формироваться новые ручьи и реки, весьма пригодные для жизни морских водорослей, поскольку вода в них была соленой. Когда поверхность почвы, а затем и ее глубины очистились от соли, большая часть этих растений исчезла. Однако некоторая часть выходцев из моря свыклась с новыми условиями жизни и стала процветать в пресной воде так же, как раньше в соленой. Но процесс на этом не остановился: растения, наделенные сильными способностями к выживанию, приспособились к жизни на воздухе и, после того как привыкли сначала к пресной воде, затем — к жизни на берегах, принялись распространяться в глубь континента.
Всех поражала трансформация, происходившая на «наших глазах, мы убедились в том, что формы меняются одновременно с физиологией. Уже несколько стебельков тихонечко протянулись к солнцу. Можно предсказать, что когда-нибудь вновь возникнет разнообразная флора и разгорится новая жестокая война за выживание между новыми видами и старыми.
То, что происходило с флорой, происходило и с фауной. Неподалеку от водных потоков встречались старые виды морских животных, в основном моллюсков и ракообразных, которые постепенно становились наземными. Воздух рассекали летучие рыбы — уже гораздо более птицы, чем рыбы. Их крылья увеличились в размерах, а хвост позволял...
* * *
Последний фрагмент рукописи — конец — почти полностью сохранился.
* * *
...совсем старый. Капитан Моррис умер. Доктору Бетерсту исполнилось шестьдесят пять лет, доктору Морено — шестьдесят, мне — шестьдесят восемь. Скоро мы окончим свой жизненный путь. Но, несмотря ни на что, успеем выполнить свою главную миссию — помочь грядущим поколениям в ожидающей их борьбе.
Но увидят ли когда-нибудь свет эти грядущие поколения?
Я склоняюсь к положительному ответу, когда смотрю на увеличение числа мне подобных: дети рождаются и растут, к тому же благоприятный климат и отсутствие хищных животных способствует высокой продолжительности жизни. Наша колония утроилась.
С другой стороны, наблюдается постепенная умственная деградация моих товарищей по несчастью.
Наш маленький отряд, высадившийся на новый материк, обладал хорошими шансами: в него входил необычайно мужественный и предприимчивый человек — ныне покойный капитан Моррис, два человека более образованных, чем рядовые люди,— мой сын и я, и двое настоящих ученых — доктор Бетерст и доктор Морено. С таким составом можно было чего-то достичь. Но мы ничего не сделали. С самого начала и поныне главной была забота о выживании. Как и в первые дни, мы тратим наше время на поиски пропитания, а вечером, утомленные, забываемся тяжелым сном.
Увы! Слишком очевидно, что человечество, единственными представителями которого мы являемся, возвращается к первобытному состоянию. Матросы с «Вирджинии», малообразованные простые люди, ведут себя как животные, мой сын и я забыли то, что знали, даже доктор Бетерст и доктор Морено оставили всякие научные занятия и не утруждают более свой мозг. Можно сказать, наша духовная жизнь прекратилась.
Какое счастье, что много лет назад мы предприняли плавание вокруг континента! Сегодня нам уже не хватило бы мужества... К тому же капитан Моррис, который руководил той экспедицией, мертв, и вместе с ним умерла от ветхости «Вирджиния», на борту которой мы столько пережили в бескрайних океанах.
Вначале некоторые из нас пытались соорудить себе жилища. Сейчас эти недостроенные здания превратились в руины. Мы спим на голой земле в любое время года.
Уже давно ничего не осталось от нашей одежды. Несколько лет мы старались заменить ее, сплетая ткани из водорослей, сначала переплетения были довольно хитроумными, но постепенно становились все грубее и грубее. Затем мы забросили эти попытки, тем более что мягкий климат делал их излишними: мы ходим голыми, как те, кого мы когда-то называли дикарями.
Пища, пища — вот наша неизбывная цель, наше исключительное занятие.
Некоторые из наших старых идей и чувств еще не совсем стерлись. Мой сын Жан, зрелый человек и дед, не утерял своей привязанности ко мне, а мой бывший шофер Модест Симона сохранил смутное воспоминание о том, что когда-то я был его хозяином.
Но вместе с нами навсегда исчезнут малейшие следы того, что когда-то именовалось цивилизацией. В действительности мы уже не люди. Наши дети и внуки, рожденные здесь, не будут знать никакой другой жизни. Человечество сведется к этим взрослым — я смотрю на них, когда пишу эти строки,— которые не умеют ни читать, ни считать, ни говорить толком, и к этим детям с острыми зубками, которые, похоже, состоят лишь из одной ненасытной утробы. На смену им придут другие взрослые и дети, потом снова другие взрослые и дети, все более приближенные к животным, все более далекие от своих мыслящих предков.
Мне кажется, я вижу их, будущих людей, забывших членораздельную речь, с угасшим разумом и с телом, заросшим грубой шерстью. Вижу, как бредут они по этой хмурой пустыне.
Мы решили сделать хоть что-то, чтобы они не стали такими. Мы хотим предпринять все, что в нашей власти, дабы завоевания человечества, свидетелями которых мы были, не пропали бесследно на веки вечные. Доктор Морено, профессор Бетерст и я — мы разбудим наш спящий разум, заставим его вспомнить, какой мощью он обладал когда-то. Мы разделим нашу работу и чернилами, взятыми когда-то на «Вирджинии», запишем все, что знали, в самых различных научных дисциплинах. Когда-нибудь люди, потерявшие жажду знаний, после более или менее продолжительного периода дикости, почувствуют влечение к свету и найдут сей скромный свод знаний своих предшественников. Почтят ли они тогда память тех, кто старался из последних сил сократить тяжкий путь познаний для будущих неведомых братьев?
* * *
На пороге смерти.
Прошло уже пятнадцать лет с того момента, как были написаны предыдущие строчки. Доктора Морено и профессора Бетерста уже нет в живых. Из тех, кто высадился здесь, я, самый старый, остался один. Но смерть вот-вот настигнет и меня. Чувствую, как она поднимается от холодеющих ног к замирающему сердцу.
Наш труд завершен. Манускрипты, которые содержат высшие достижения человечества, я доверил стальному сейфу «Вирджинии», закопанному мной глубоко в землю. Где-нибудь рядом я зарою и этот дневник, спрятав его в алюминиевый футляр.
Обнаружит ли кто-нибудь наследие, порученное земле? Станет ли кто-нибудь хотя бы искать его?
Это дело Провидения. Это Твоя воля, Господи!
* * *
По мере того как зартог Софр переводил необычный документ, мистический страх охватывал его душу.
Еще бы! Неужели раса Андарт-Итен-Шу происходит от людей, которые после долгих месяцев скитаний по морской пустыне наткнулись на тот самый пункт побережья, где сейчас высится Базидра? Неужели эти несчастные создания были частью гордой цивилизации, по сравнению с которой современное человечество только вышло из колыбели? И что же потребовалось для того, чтобы навсегда уничтожить науку и не оставить никаких воспоминаний о столь могущественных народах? Меньше чем ничего: легкая, Неуловимая дрожь коры земного шара.
Какой невосполнимый урон — потеря документов, о которых говорилось в манускрипте! Они погибли вместе с сейфом! Рабочие, расширив раскопки, перевернули землю во всех направлениях. Видимо, сталь со временем была разъедена ржавчиной, тогда как алюминиевый футляр доблестно ей сопротивлялся.
Оптимизм Софра безвозвратно угас. Хотя дневник не содержал никаких технических деталей, в нем содержалось множество общих указаний и бесспорных доказательств того, что предыдущее человечество продвинулось гораздо дальше, чем нынешнее, по дороге познания истины. В рассказе неизвестного француза было все: и рассуждения, которые могли бы принадлежать Софру, и мысли, превосходившие все его воображение. Стало понятным даже имя «Хедом», над которым разгорелось столько напрасных дискуссий! Хедом — это измененное Эдем, произошедшее от Адама, которое, в свою очередь, наверное, происходит от какого-то совсем древнего слова.
Хедом, Эдем, Адам — вечный символ первого человека и объяснение его появления на Земле. Софр несправедливо отрицал существование этого предка, которое с очевидностью подтверждалось дневником, а народ был абсолютно прав, считая, что происходит от себе подобных. Но ни в этом и ни в чем другом Андарт-Итен-Шу не изобрели ничего нового. Они только повторяли то, что было сделано до них.
А может быть, и современники автора этого дневника не придумали ничего нового? Может быть, они тоже только повторяли путь, уже пройденный прежними цивилизациями? Разве в дневнике не упоминалось об атлантах? Без сомнения, это те самые люди, еле уловимые следы цивилизации которых Софр обнаружил во время раскопок под толщами морских глин. Каких успехов в познании природы достигла эта древнейшая нация, прежде чем вторжение океана смыло ее с лица земли?
Но какой бы мудрой она ни была, после катастрофы от ее могущества ничего не осталось, и человеку пришлось с самого начала повторять свое восхождение к свету.
Так, видимо, осваивал свой путь и народ Андарт-Итен-Шу. Вероятно, так будет и после него, до того дня, когда...
Но придет ли когда-нибудь день, когда человек утолит ненасытную жажду истины? День, когда он устанет карабкаться ввысь и сможет почивать на достигнутой вершине?
Так размышлял зартог Софр, склонившись над драгоценной рукописью.
Посмертный рассказ разбудил его воображение; он отчетливо представил себе ужасную трагедию, неоднократно повторявшуюся во вселенной, и его сердце переполнилось жалостью, закровоточили бесчисленные раны тех, кто жил и страдал до него. Преклоняясь перед тщетными усилиями, погребенными во тьме времен, зартог Софр-Ай-Шр медленно и мучительно приходил к внутреннему убеждению в вечном и всеобщем круговороте и возобновлении мира.
Конец
Мастер Захариус
Глава I ЗИМНЯЯ НОЧЬ
На западном побережье Женевского озера, откуда вытекает Рона, раскинулся город Женева. (Трудно сказать, то ли город получил от озера свое имя, то ли наоборот...) Рона делит Женеву на две неравные части, а в центре сама раздваивается, обтекая брошенный в нее остров. Подобная топография не редкость в больших промышленных или торговых районах. Несомненно, первые поселенцы прельстились именно легкостью передвижения по речным стремнинам — этим дорожкам, которые, по словам Паскаля, «ходят сами по себе». На Роне же они просто бегут.
Давным-давно, когда стройные, современные сооружения еще не возвышались на острове, засевшем в реке, как песчинка в глазу, сказочные нагромождения прильнувших друг к другу домов являли взору пленительный первозданный хаос. Остров был так мал, что постройкам приходилось громоздиться на сваях, вбитых там и сям в бурные воды. Истонченные, почерневшие от времени остовы, походившие на щупальца гигантского краба, производили фантастический эффект. Внутри этого древнего чудища паутиной раскинулись пожелтевшие сети, которые колыхались в темноте, словно ветви старой дубовой рощи, и река, врываясь в чащу, пенилась с мрачным рокотом.
Один обветшавший дом на острове особенно поражал своим необычным видом. Это жилище давало приют старому часовщику — мастеру Захариусу, его дочери Жеранде, ученику Оберу Туну и старой служанке Схоластике.
Что за странный человек был старик Захариус! Никто не знал его возраста. Никто из горожан не мог сказать, как долго болталась на тощей шее эта ссохшаяся остроконечная голова. Когда впервые его увидели в городе, он шел по улице, покачиваясь словно маятник стенных часов, и его седые длинные космы развевались на ветру. Лицо Захариуса, сморщившееся, мертвенно-бледное, с набежавшими темными тенями под глазами, похоже, сошло с полотен Леонардо да Винчи.
Жеранда жила в лучшей комнате старого дома. Через узкое окно тоскующий взгляд девушки меланхолически скользил по снежным вершинам Юры. Старик занимал нечто вроде подвала: его мастерская и спальня размещались прямо на сваях, почти на уровне реки. С незапамятных пор Захариус выходил из своего укрытия только к столу или же когда отправлялся в город чинить часы. Все оставшееся время он проводил у верстака с многочисленным инструментом, им же изобретенным. Произведения Захариуса, непревзойденного мастера своего дела, высоко ценились во всей Франции и Германии. Самые искусные женевские ремесленники снимали перед ним шапки. Горожане, указывая на старого мастера, говорили с нескрываемой гордостью: «Ему выпала честь изобрести анкерный спуск!» Изобретение спуска и впрямь произвело подлинную революцию в часовом деле.
Всякий раз, потрудившись на славу, Захариус не спеша раскладывал по местам инструменты, прикрывал невесомыми колпачками только что подогнанные для сборки детали и останавливал станок. Затем приподнимал крышку люка в полу мастерской, приникал к отверстию и, согбенный, окутанный клубами испарений грохочущей Роны, предавался долгим раздумьям.
Однажды зимним вечером старая Схоластика накрыла стол к ужину. Согласно старинному обычаю, эту трапезу со всеми разделял молодой подмастерье. И хотя кушанья на красивой бело-голубой посуде были приготовлены на славу, мастер Захариус к ним не притронулся. Он будто бы и не слышал ласковых слов Жеранды, явно встревоженной мрачным молчанием отца. Видимо, до его слуха больше не доходили ни болтовня Схоластики, ни рокот Роны. После безмолвного ужина старый часовщик встал из-за стола и, не простившись, как обычно, и даже не поцеловав дочь, скрылся за узкой дверью, ведущей в подвал. Под тяжелой поступью старика ступени заскрипели, будто жалобно застонали...
Жеранда, Обер и Схоластика некоторое время сидели молча. Вечер был на редкость темным, тучи проплывали над Альпами, угрожая разразиться дождем, южный ветер со зловещим свистом метался по окрестностям — ненастье наполняло душу тоской.
— А знаете ли вы, моя милая барышня,— первой нарушив молчание, проговорила Схоластика,— что хозяин так замкнут вот уже несколько дней и в рот не берет ни крошки? Пресвятая Дева! Он будто язык проглотил: слова из него не вытянешь!
— У отца какой-то тайный повод для огорчения,— вздохнула Жеранда, и мучительное беспокойство отразилось на ее лице.
— Мадемуазель, не позволяйте печали поселиться в вашем сердце. Пора привыкнуть к странностям мастера Захариуса. Кто может догадаться о его помыслах? Всему виной, наверное, какая-то неприятность, но завтра он о ней и не вспомнит, раскаиваясь за невольное огорчение, причиненное дочери,— так говорил Обер, глядя в прекрасные глаза Жеранды.
Этот скромный юноша был единственным учеником, кого мастер Захариус посвящал в премудрости своего ремесла, ибо ценил его ум и добрую душу. С Жерандой связывали Обера те невольные узы тайны, которые делают людей бесконечно преданными друг другу.
Девушке минуло восемнадцать. Ее чистый простодушный взор и нежные черты лица напоминали мадонн, наивные изображения которых, глубоко почитаемые в городках Бретани, еще встречаются на перекрестках старинных улочек. В легких одеждах неброских тонов, с белоснежной накидкой на плечах, походившей на церковное одеяние, дочь часовщика казалась пленительным воплощением поэтической мечты. В Женеве, тогда еще не открывшей своей души суровым догматам кальвинизма, она жила какой-то романтической, даже мистической жизнью.
Подобно тому как утром и вечером Жеранда читала по-латыни молитвенник в железном окладе, она прочитывала и глубоко запрятанные чувства Обера Туна, полные преданности и истинного самоотвержения. Для молодого человека весь мир сосредотачивался в старом домике часовщика.
Схоластика, наблюдая все это, помалкивала. Ее словоохотливость чаще всего проявлялась в бесконечных разглагольствованиях о наступивших тяжких временах и всяких хозяйственных неурядицах. Никто и не пытался ее остановить. Старушка напоминала знаменитые женевские шкатулки: чтобы они наконец замолкли, не проиграв до конца своих мелодий, следовало их разве что разбить.
Видя Жеранду столь печальной и задумчивой, Схоластика поднялась со стула, приладила свечку к подсвечнику, зажгла ее и поставила в каменной нише возле маленького образа Святой Девы. Так обычно поклоняются мадонне — хранительнице домашнего очага, моля о милости и заступничестве.
— Ну хорошо,— проговорила старая служанка, покачивая головой — ведь за вечер Жеранда не пошелохнулась,— ужин давно закончен, и пора спать. Негоже всю ночь не смыкать глаз. О, Святая Мария! Пошли моей девочке счастливые сны!
— Не позвать ли к отцу доктора? — вдруг спросила Жеранда.
— Лекаря! — воскликнула старушка.— Да разве мастер Захариус когда-либо прислушивался к их советам и бредням! Может, и существуют врачеватели для часов, но вовсе не для людей!
— Что же делать? — прошептала девушка.— Мы даже не знаем, что с ним.
— Жеранда,— тихо сказал Обер,— мастер Захариус очень встревожен.
— И вы знаете чем, Обер?
— Может быть.
— Так расскажите же нам,— живо вмешалась Схоластика, аккуратно затушив свечу.
— Вот уже несколько дней,— начал молодой подмастерье,— происходит что-то совершенно необъяснимое. Все часы, которые мастер Захариус изготовил и продал в последние годы, внезапно остановились. Множество уже возвращено. Ваш отец тщательно разобрал механизмы — пружины в полном порядке, колеса и шестеренки в прекрасном состоянии. Тогда с еще большим старанием он собрал часы, но они, несмотря на все его искусство, так и не пошли.
— Тут дело не чисто! — воскликнула Схоластика.
— Что ты хочешь сказать? — спросила Жеранда.— Это вполне естественно. Ничто не вечно на земле, и творения рук человеческих тоже имеют свой срок.
— Тем не менее,— вставил Обер,— во всем этом есть какая-то тайна. Вместе с мастером Захариусом я тщательно пытался понять, почему часы остановились, и не раз от отчаяния у меня опускались руки.
— Зачем же заниматься такой неблагодарной работой? — возразила старушка.— Видано ли, чтобы малюсенькая медная стрелка двигалась сама, да еще отмечала время? Нужно было по-прежнему придерживаться солнечных часов!
— Не говорили бы вы так, Схоластика,— возразил Обер Тун,— когда бы знали, что солнечные часы — изобретение Каина.
— Боже милостивый! Да что вы!
— А как вы думаете, пойдут ли часы, если помолиться Богу? — спросила Жеранда с присущей ей наивностью.
— Конечно, я в этом уверен,— согласно кивнул головой молодой человек.
— Молитвы бесполезны,— проворчала старая служанка,— но Бог милостив.
Вновь зажгли свечу. Схоластика, Жеранда и Обер опустились перед образом на каменный пол, и девушка молилась за упокой души своей матери, за ночное спокойствие, за узников и путешественников, за добрых и злых и особенно за неведомые печали своего отца. Помолившись, эти трое поднялись с колен уже с надеждой в сердце, ибо доверились Богу в своей печали.
Обер удалился к себе, Жеранда задумчиво присела возле окна. Над Женевой догорал последний луч солнца. Служанка загасила камин, заперла дверь на два огромных засова, бросилась на постель, умирая от страха, и вскоре заснула.
Тем временем ужасы этой зимней ночи продолжались. Ветер врывался под сваи, и тогда вместе с бешеным кружением реки сотрясался весь дом. Поглощенная горем, девушка ничего не замечала, она думала только об отце. После слов Обера Туна о болезни мастера Захариуса Жеранде даже стало казаться, что дорогое ей существо и движется с усилием, подобно часам с изношенным механизмом, который вот-вот остановится...
Внезапно неистовый ливень и шквалистый ветер ударили в окно. Девушка вздрогнула и тотчас вскочила, не понимая, откуда шум, заставивший ее очнуться. Немного успокоившись, она приоткрыла раму: сквозь разорванные облака на землю изливались мощные дождевые струи, колотившие по окрестным крышам. Жеранда высунулась, чтобы придержать бившуюся от ветра оконную створку, и испугалась. Ей вдруг почудилось, что дождь и река, смешав свои бурные воды, с чудовищной силой ринулись на ветхий домик. Она хотела было бежать, как вдруг внизу заметила отблески света из убежища мастера, и в редкий момент затишья, когда умолкли стихии, до слуха ее донеслись жалобные стоны. Девушка попыталась вновь прикрыть окно, но не сумела. Ветер с силой оттолкнул ее, как ворвавшийся в дом злоумышленник.
Жеранда чуть было не обезумела от страха! Что случилось с ее отцом? Девушка открыла дверь, которую порыв ветра вырвал из ее рук и с шумом ударил о притолоку, оказалась в темной столовой, ощупью добралась до лестницы в мастерскую и, ни жива ни мертва, сползла по ступенькам вниз.
Старый часовщик стоял посреди комнаты, а вокруг бушевали стихии. Взъерошенные волосы старика придавали ему зловещий вид. Он говорил, он жестикулировал, не видя и не слыша ничего вокруг. Жеранда остановилась на пороге.
— Пришла моя смерть! Пришла моя смерть!..— глухо повторял Захариус.— Зачем мне жить теперь, когда все созданное мной обратилось в прах, ведь я, я — мастер Захариус, истинный творец всех этих часов! Я вложил в каждый из этих железных, серебряных, золотых корпусов часть своей души! И всякий раз, когда ломаются проклятые механизмы, я чувствую, как останавливается мое сердце, бьющееся с ними в унисон!
Произнося такие странные речи, старик поглядывал на свой верстак. Там были разложены детали тщательно разобранных часов. Захариус взял полый цилиндр с пружиной внутри, называющийся барабаном, вырвал оттуда стальную спираль, которая, вместо того чтобы растянуться, согласно своей природе, свернулась, как спящая змея. Скукожившись, она стала похожа на тех немощных старичков, чья кровь давно застыла в жилах. Ослабевшими пальцами (отбросившими на стену гигантскую тень) мастер попытался разжать спираль, но не сумел, и тотчас с душераздирающим злобным криком он бросил ее в бешеный водоворот Роны.
Жеранда как вкопанная стояла на пороге. Она хотела приблизиться к отцу и не могла. У нее начались галлюцинации, голова кружилась... Вдруг в темноте кто-то прошептал ей на ухо:
— Жеранда, милая Жеранда! Страдания не дают вам заснуть. Но прошу, вернитесь в комнату, ночь такая холодная.
— Обер! — прошептала чуть слышно девушка.— Это вы, вы!
— Как же мне не тревожиться за вас!
Ласковые слова юноши согрели сердце Жеранды, она оперлась на его руку и взволнованно заговорила:
— Мой отец очень болен! Вы один можете его излечить. Ведь даже утешения дочери не в силах побороть душевный недуг отца. Это помрачение пройдет, как только будут починены часы. Вы поможете ему обрести потерянный разум, Обер, неужели жизнь моего отца зависит от хода мертвых механизмов?!
Юноша не отвечал.
— А если все так, то, видно, сам Бог осуждает его ремесло? — дрожа, прошептала Жеранда.
— Не знаю.— Обер согревал в своих руках ее ледяные пальцы.— Бедная моя девочка, возвращайтесь к себе, отдохните — и к вам снова вернется надежда!
Девушка медленно удалилась. Но до утра не сомкнула глаз. А мастер Захариус, безмолвный и неподвижный, все смотрел и смотрел на бурлящую Рону.
Глава II ГОРДОСТЬ ТВОРЦА
Точность в обязательствах женевца давно вошла в поговорку. Это непреклонная честность и безграничная порядочность делового человека. Что же должен был испытать мастер Захариус, живший одной только страстью — часами, когда отовсюду стали их возвращать.
Не было ни малейшего сомнения: они останавливались внезапно и без видимой причины. Безукоризненно налаженная система колес находилась в полном порядке, но вот пружины потеряли эластичность. Тщетны были усилия мастера их заменить: часы не шли. Захариуса стали подозревать в колдовстве. Отголоски невероятных россказней его многочисленных клиентов дошли и до Жеранды. Девушка еще больше встревожилась за отца.
Между тем на следующий день после жуткой ночи мастер Захариус уверенно принялся за работу. Утреннее солнце словно вернуло ему бодрость. Он приветливо поздоровался с учеником.
— Чувствую себя лучше,— проговорил старый часовщик.— Не знаю, что за странные головные боли неотступно преследовали меня вчера, но с восходом солнца все хвори вместе с ночной непогодой куда-то ушли.
— Честное слово, учитель,— отозвался Обер,— не люблю я ночь.
— Да, ты прав, юноша! Если станешь когда-нибудь выдающимся человеком, поймешь еще одну истину: настоящий творец принадлежит всему человечеству!
— Мастер, в вас заговорила гордыня!
— Гордость, Обер! Разрушь мое прошедшее, уничтожь мое настоящее, промотай мое будущее — и тогда мне будет позволительно жить в безвестности! Бедный мальчик, тебе недоступны предметы возвышенные, на которых зиждется великое искусство! Не означает ли это, что ты только исполнитель, орудие в моих руках?
— Но, учитель,— проговорил юноша,— я ведь не единожды заслуживал ваши похвалы за умение приладить тончайшие детали ваших часов!
— Несомненно, Обер, ты прекрасный помощник, и я люблю тебя. Но когда ты работаешь с механизмами, то воображаешь, что в твоих пальцах только медь, золото и серебро. Ты не чувствуешь трепещущей плоти металла, плоти, оживить которую способен только мой гений! Вот почему ты не умрешь смертью своих творений!
После этих слов воцарилось молчание, но Оберу не терпелось разговор продолжить.
— Сознаюсь, мастер, как радуют меня ваши неустанные труды! Если работа над хрустальными часами пойдет так же быстро, то наверняка подоспеет к празднику нашей корпорации.
— Не сомневаюсь, Обер! — воскликнул старый часовщик.— Если удастся справиться с твердым, как алмаз, материалом, это будет большое счастье. Да! Луи Бергем довел до совершенства бриллиантовое искусство, что позволило и мне обрабатывать самые прочные камни.
Говоря так, старик держал в руках малюсенькие, тончайшей работы часовые детали из граненого хрусталя. Колесики, валики, корпус были из одного материала. В этом произведении невероятной сложности проявился изумительный талант мастера.
— Не правда ли,— продолжал свой монолог Захариус, и щеки его порозовели,— как упоительно увидеть сквозь прозрачный футляр движение механизма и сверить по бою часов удары собственного сердца!
— Бьюсь об заклад, учитель,— вмешался молодой подмастерье,— что за целый год они не отстанут ни на секунду!
— Ты наверняка выиграешь пари! Разве я не вложил в эти часы всю мою душу? Неужели я так изменился?
Ученик не осмелился поднять глаза на своего учителя.
— Скажи откровенно,— задумчиво проговорил старик,— меня никогда не принимали за сумасшедшего? Не думаешь ли ты подчас, что я предаюсь гибельным безумствам? В глазах моей дочери и твоих я нередко читаю приговор. О! — воскликнул он с горечью.— Как тяжело быть непонятым даже самыми близкими людьми! Но придет, Обер, час, и ты изумишься открытию. Настанет день, ты выслушаешь меня и поймешь, что старый Захариус раскрыл секрет всего сущего, тайну загадочного слияния души и тела!
Глаза преисполненного гордости старика сверкали сверхъестественным блеском. Говоря по правде, если когда-либо грех тщеславия и был вполне оправдан, то прежде всего это относилось к Захариусу.
На самом деле, часовое искусство до нашего мастера переживало свою младенческую пору. С того момента, когда за 400 лет до Рождения Христа Платон изобрел водяные ночные часы, так называемые клепсидры, которые указывали время с помощью звучного голоса флейты, наука вперед почти не продвинулась. Мастера многих стран довольно-таки потрудились, открыв славную эру железных, медных, деревянных, серебряных часов с изысканными украшениями, подобными знаменитой солонке Бенвенуто Челлини[336]. Создавались подлинные шедевры чеканки, чудеса прикладного искусства. Но время они отмеряли весьма несовершенно. Проявляя невероятную изобретательность в создании часов с мелодичным боем, движущимися фигурами и занятно поставленными мизансценами, разве думал кто-нибудь в ту эпоху узаконить ход времени? Статьи, предусмотренные правом, еще не были сочинены, физические и астрономические науки еще не могли предложить расчетов для скрупулезно точных измерений. Да жизнь этого и не требовала. Не было ни закрывающихся в определенный час учреждений, ни отходящих секунда в секунду поездов. По вечерам звон колокола возвещал время отхода ко сну, давая сигнал к тушению свечей, а ночную тишину нарушал крик караульного, сообщающего, который час. Время не было столь ценным, а человеческое существование измерялось количеством совершенных дел; люди жили гораздо размереннее и спокойнее. Разум обогащался благородными чувствами от созерцания шедевров, а искусство не зависело от скоротечности бытия. Церковь строили два века, художник писал несколько полотен за целую жизнь, поэт создавал одно выдающееся сочинение. Но все эти шедевры не утратили в веках своей непреходящей ценности.
Поскольку в точных науках сделан был значительный прогресс, в часовом деле тоже последовал некоторый взлет. Однако непреодолимая трудность — правильное измерение непрерывно текущего времени — по-прежнему была камнем преткновения.
И вот в эту пору мастеру Захариусу удалось изобрести спуск, который с математической точностью смог подчинять движение маятника постоянной силе. Подобное изобретение вскружило голову старому часовщику. Гордыня, поднявшаяся, как ртуть в термометре, откуда-то из глубин его существа, достигла температуры горячечного умопомешательства. Он вообразил, что нашел материальную основу движущей силы, и, изготовляя часы, полагал, что постиг тайну единения души и тела.
В один прекрасный день, видя, как внимателен к нему Обер, старик заговорил убежденно и просто:
— Знаешь ли ты, дитя мое, что такое жизнь? Понимаешь ли ты действие всех этих пружин — первопричины нашего существования? Заглядывал ли ты когда-либо в глубь себя? Нет,— а будь у тебя глаза ученого, ты увидел бы самые тесные отношения между творениями Бога и моими трудами. С Его созданий я скопировал систему зубчатых колес.
— Учитель,— проговорил с живостью Обер,— не хотите ли вы сравнить ход металлического механизма с божественным дыханием, названным душой? Только это чудное дуновение, подобное легкому ветерку, колеблющему цветы, и может оживить нашу плоть. Существуют ли невидимые колеса, которые способны привести в движение наши руки и ноги? Какие детали следовало бы. так искусно приладить, чтоб они породили в нас мысли?
— Вопросы неуместны,— с упорством слепца, идущего к бездне, вымолвил мастер Захариус.— Чтобы понять меня, вспомни-ка о значении спуска, мною изобретенного. Когда я заметил сбои в ходе часов, меня осенило, что движение, замкнутое в корпусе, не может быть эталонным, что точность механизма надо было поддержать с помощью другой, независимой силы. Я подумал, что маятник смог бы сослужить эту службу, если удастся отрегулировать его колебания.
Обер сделал одобрительный знак.
— Теперь, мой мальчик,— продолжил старый часовщик, все более оживляясь,— брось взгляд на себя самого! Понимаешь ли ты, что в нас существуют две различные силы — сила души и тела, так сказать, движение и регулятор. Душа — первопричина жизни — и есть движение. Пусть она возникнет из какой-то неведомой массы, с помощью какого-то толчка или путем какого-либо другого нематериального воздействия, суть ее от этого не меняется. Но без тела это движение будет неравномерным, нерегулярным, невозможным! Поэтому тело назначено регулировать душу и, подобно маятнику, подвержено постоянным колебаниям. Все это столь же истинно, как дурное самочувствие от чрезмерного питья, еды и сна, короче говоря, когда функции тела надлежащим образом не отрегулированы. То же и в моих часах — душа придает телу силу, растраченную при колебаниях. Ну! Кто же производит это теснейшее единение тела и души, как не чудесный спуск, помогающий сложнейшему сцеплению колесиков и винтиков? Так вот что я разгадал и воплотил! И для меня нет больше тайны в жизни, которая всего лишь искусная механика!
Мастер Захариус был подлинно величествен в своем бреду, уносившем его к познанию последних тайн бесконечности. Жеранда, внезапно остановившаяся на пороге мастерской, слышала все. Она бросилась к отцу, и он судорожно сжал ее в своих объятьях.
— Что с тобой, моя девочка? — проговорил мастер Захариус.
— Если бы здесь была только одна пружина,— сказала Жеранда и приложила руку к сердцу,— то я б не смогла вас так любить, отец!
Старик внимательно посмотрел на дочь и ничего не ответил.
Внезапно он вскрикнул, схватился за грудь и упал, бездыханный, в старое кожаное кресло.
— Что с вами, отец?
— На помощь! Схоластика! — закричал Обер.
Служанка не откликнулась. На улице кто-то дубасил в дверь, и старушка пошла открывать. Когда она вернулась в мастерскую, то не успела и рта раскрыть, как мастер Захариус, придя в себя, заговорил:
— Бьюсь об заклад, моя старая Схоластика! Ты принесла еще одни чертовы часы, которые остановились!
— Боже, сущая правда! — проговорила старушка, передавая их Оберу.
— Сердце не обманет! — вздохнул Захариус.
Тем временем ученик старательно завел часы, но нет, они не шли.
Глава III СТРАННЫЙ ВИЗИТ
Бедняжка Жеранда не представляла бы, как жить дальше, если бы не тайные думы об Обере, который связывал ее с миром.
Старый часовщик тем временем мало-помалу угасал. Его мрачные мысли сводились к мономании, и земная жизнь, казалось, уступала место сверхъестественному существованию. К тому же злонамеренные соперники подняли дьявольский шум, распространяя худую молву о работах Захариуса.
Необъяснимые неисправности в часовых механизмах произвели громадное впечатление на женевских мастеров. Что означала внезапная остановка всех систем колес и откуда эта странная взаимосвязь с жизнью Захариуса? Существовала какая-то загадка, подступиться к ней без тайного ужаса было невозможно. В разных городских сословиях, от ремесленников до господ, не нашлось никого, кто бы не судачил о необычности происшедшего. Пытались добраться до самого мастера, но тщетно. Только его тяжелая болезнь и постоянное попечение дочери позволили избежать навязчивых визитов, грозивших перерасти в постоянные жалобы и упреки.
Всякого рода врачеватели были бессильны перед болезнью. Иногда казалось, что сердце старика остановилось, но потом его удары с лихорадочной беспорядочностью возобновлялись снова.
Издавна существовал обычай — произведения часовых мастеров оценивать всенародно. Главы различных корпораций искали случая отличиться совершенством и новизной своих изделий. Вот отчего здоровье мастера Захариуса вызывало такое бурное сострадание, но, увы, весьма корыстное. Конкуренты, все меньше опасаясь его соперничества, жалели старика со все большим удовольствием. Они постоянно вспоминали об успехах мастера, о его великолепных часах с движущимися фигурами, о восхитительных механизмах с боем, высоко ценившихся в Германии, Франции и Швейцарии.
Между тем благодаря неусыпным заботам Жеранды и Обера здоровье Захариуса, казалось, немного окрепло. В душевном спокойствии, обретаемом с выздоровлением, мысли, прежде его поглощавшие, постепенно отступали. С тех пор как он смог передвигаться, Жеранда стала выводить отца на улицу, куда тут же сбегались недовольные клиенты. Обер теперь жил в мастерской, где безуспешно пытался справиться с неподатливыми механизмами. Бедный юноша! Случившееся было выше его понимания. Он хватался за голову, опасаясь, чтобы и его разум тоже не помутился.
Жеранда сопровождала отца в прогулках по городу. Старик передвигался, опираясь на руку дочери, и так они добирались до Святого Антония, откуда открывался великолепный вид на озеро и холм Колони. Иногда ясным утром на горизонте внезапно вырастали мощные вершины горы Бюэ. Жеранда произносила названия всех этих мест, почти забытые ее отцом, память которого, казалось, была утрачена навсегда. Старик испытывал удовольствие малого дитяти, впервые постигающего мир, ибо прежние воспоминания словно заблудились в его голове. Так и шли они, отец и дочь, поддерживая друг друга, и две копны волос — седая и золотистая — сливались с солнечным лучом.
Наконец старый часовщик заметил, что на этом свете он не один. Любуясь своей прелестной дочерью и глядя на себя, старого и немощного, он вдруг подумал: ведь после его кончины бедняжка останется совсем одна. Пора и осмотреться вокруг... Немало молодых женевских ремесленников уже оказывали Жеранде знаки внимания, но никто не был допущен в святая святых — уединенное убежище часовщика. Вполне естественно, что в моменты просветления выбор Захариуса останавливался на Обере. Однажды, ухватившись за эту мысль, он отметил, что молодые люди воспитывались в одних и тех же традициях, в той же вере, и даже биение двух этих молодых сердец показалось ему изохронным[337]. Так он и выразился при Схоластике. Служанка, в совершенном восхищении от слова, смысл которого был ей не вполне ясен, поклялась своей небесной покровительнице, что не пройдет и четверти часа, как весь город узнает об этой новости. Мастер Захариус с трудом успокоил старушку, уговорив сохранять полное молчание.
Однако без всякого ведома Жеранды и Обера по городу уже шла молва об их будущем союзе. Случалось, что среди гомона и пересудов толпы вдруг слышался какой-то странный смешок и невесть чей голос произносил:
— Жеранда не будет женой Обера!
Когда досужие болтуны оборачивались, то оказывались лицом к лицу с маленьким старикашкой. Сколько лет было странному незнакомцу, никто не мог ответить. Можно было с уверенностью предположить, что он существовал вечно, вот и все! Его огромная сплющенная голова покоилась на плечах, равных по ширине малюсенькому туловищу. Диковинный этот персонаж был создан наподобие часов. Циферблатом служило его лицо, а маятник раскачивался на груди. При желании можно было принять его нос, такой острый и тонкий, за стрелку-указатель на циферблате солнечных часов. Его редкие зубы скрежетали во рту, как неисправный колесный механизм, где повреждены все шестеренки. Тембр голоса незнакомца напоминал металлический звук, на фоне которого слышалось биение сердца, работавшего в унисон с часами. Руки маленького человечка двигались словно стрелки на циферблате. Ходил он неровно, скачками, никогда не оборачиваясь. Следовавшие за ним полагали, что он шел по кругу и проходил не менее лье в час.
По предместьям подобные перемещения странного существа длились совсем недолго и вскоре приводили его обратно в город. Здесь могли лицезреть незнакомца каждый день возле собора Святого Петра, когда солнце пересекало небесный меридиан, но с двенадцатым ударом курантов он снова продолжал свой путь. Было замечено: маленький человечек возникал словно из-под земли при всех разговорах о старом часовщике. Люди с ужасом вопрошали себя: какая связь могла существовать между незнакомцем и мастером Захариусом? Почему странный человечек не упускает из виду старика и его дочь во время их тихих прогулок?
Однажды Жеранда заметила это чудовище, которое, осклабившись, разглядывало ее. В ужасе девушка бросилась к отцу.
— Что с тобой, милая? — спросил мастер Захариус.
— Не знаю,— ответила Жеранда.
— Дитя мое, может, и ты заболела? Ну, хорошо,— продолжал старик, печально улыбаясь,— теперь и мне пора позаботиться о твоем здоровье.
— Что вы, отец, не стоит беспокоиться. Просто меня знобит, да и вообразила я невесть что...
— Что же, Жеранда?
— Что какой-то человек всюду следует за нами,— опустила глаза девушка.
Мастер Захариус повернулся к маленькому старичку.
— Право же, все в порядке,— проговорил он удовлетворенно,— сейчас ровно четыре. Не бойся, моя девочка, ведь это не человек, а часы.
Жеранда с ужасом взглянула на отца. Как мастер Захариус смог определить время по лицу этого странного господина?
— Кстати, вот уже несколько дней я не вижу Обера,— продолжал старик, меняя тему.
— Он нас не оставляет, отец,— ответила Жеранда, и в мыслях ее вновь воцарилось спокойствие.
— И что же он делает?
— Работает, отец.
— А! Принялся за мои часы, не так ли? — закричал Захариус.— Но ему никогда не достигнуть цели. Больные механизмы требуют не простой починки, а возрождения, выздоровления!
Жеранда молчала. Старик продолжал:
— Я должен знать, сколько еще этих проклятых часов, на которые сам дьявол наслал эпидемию, принесли обратно!
Захариус затих и не вымолвил больше ни слова. Прошло некоторое время, прежде чем старик отворил дверь мастерской и в первый раз за свою болезнь спустился вниз. Не успел он переступить порог, как часы пробили пять. Обычно самые разные перезвоны тщательнейшим образом отрегулированных часов слышались одновременно, и их согласованность тешила сердце мастера. Теперь же все они звонили невпопад, одни после других, так что за четверть часа можно было просто оглохнуть. Захариус ужасно страдал, не находил себе места, бросался от одних часов к другим, отбивая такт в унисон с их ходом, словно дирижер, потерявший власть над своим оркестром.
С последним перезвоном дверь мастерской отворилась, и перед дрожавшим Захариусом возник маленький старичок. Уставившись на мастера, незваный гость произнес:
— Мэтр, не изволите ли побеседовать со мною несколько минут?
— Кто вы?
— Ваш коллега. Я взвалил на себя непосильное бремя — управлять солнцем.
— Ах, так это вы властвуете над солнцем? — живо откликнулся Захариус.— Не ждите от меня комплиментов! Ваше солнце не в своей тарелке, и, чтобы войти в согласие с ним, часы надо переставлять беспрестанно то вперед, то назад!
— Клянусь самим дьяволом, вы правы, мой мастер! — воскликнул гротескный персонаж.— Мое солнце вовсе не отмечает полдень в тот самый момент, что ваши часы. Но однажды станет ясно: проистекает это от неравномерности вращения земли, и тогда изобретут средний полдень, который устранит всякую неточность!
— Доживу ли я до этого времени? — проговорил старый часовщик, и глаза его немного оживились.
— Несомненно,— усмехнувшись, ответил маленький старичок.— Разве вы можете вообразить, что когда-нибудь умрете?
— Увы, я слишком болен!
— Тогда побеседуем о вашем здоровье. Клянусь Вельзевулом! Это сразу приведет нас к волнующей теме.
Говоря так, странное создание не церемонясь впрыгнуло в старое кожаное кресло, закинув тощие ножки одна на другую. В памяти не могли не возникнуть отменные художества мастеров похоронного жанра, изображавших скрещенные кости под голым черепом.
— Посмотрите-ка, мастер Захариус, что происходит в славном городе Женеве,— продолжал старичок усмехаясь.— Говорят, что ваше здоровье поправляется, а ваши часы нуждаются в помощи врачевателей!
— О, вы усматриваете какую-то тайную связь между моим существованием и бытием моих творений? — воскликнул часовщик.
— Мне представляется, что у ваших часов есть не только изъяны, но даже пороки. Если эти разгильдяи не ведут себя как подобает, то они должны понести наказание за свой разнузданный ход. По моему мнению, их стоило бы призвать к порядку!
— Что называете вы изъяном? — произнес мастер Захариус, краснея даже от одного вызывающего тона, который позволил себе незнакомец.— Разве мои часы не имеют права гордиться своим происхождением?
— Не слишком, не слишком! — пробурчал старичок.— Правда, они носят звучное имя и на циферблате выгравирована знаменитая подпись, но что с того! У них даже есть исключительная привилегия проникать в самые знатные дома. Однако вскоре часы останавливаются, и вы ничего не можете с ними поделать! Вас, уважаемый, заткнут за пояс даже самые неискусные женевские ремесленники!
— Это меня, меня — мастера Захариуса! — воскликнул старик, вновь исполнившись гордости.
— Да, вас — мастера Захариуса, который не способен вернуть жизнь даже собственным часам.
— Но виной всему моя лихорадка, что же касается моих механизмов...— Старец не закончил фразы, его прошиб холодный пот.
— Ну ладно! Они умрут с вами, раз вы мешаете пружинам вновь обрести их эластичность!
— Умереть? Нет! Что вы говорите! Да я не могу умереть! Я — первый часовщик мира! Ведь это я с помощью моего инструментария подчинил время точным законам. И разве теперь я не могу им распорядиться по своему усмотрению? До того мгновения, как мой величественный гений разыскал и упрятал заблудшее время в корпус часов, в какую беспредельную бездну была погружена человеческая судьба! И как далека она была от божественной гармонии. Но вы, кто бы вы ни были, человек или дьявол, вы никогда не постигнете чудодейственности моего искусства, призвавшего на подмогу все науки! Нет, нет! Я, мастер Захариус, не могу умереть, ибо я — Распорядитель времени! Оно кончится только вместе со мной! Оно возвратится в бесконечность, откуда извлек его мой гений, и безвозвратно исчезнет в бездне небытия! Нет, я никогда не умру, как и Создатель этой Вселенной, покорный собственным законам! Я стал ему равным и разделил с ним все его могущество! Мастер Захариус создал время, а Бог сотворил вечность!
Старый часовщик походил на падшего ангела, восставшего против Бога. Незнакомец ласково поглядывал на него, словно сочувствовал этой кощунственной выходке.
— По правде говоря,— отозвался он,— у Вельзевула было меньше прав равняться с Богом! Нельзя допустить, чтобы такая слава угасла! Поэтому-то один ваш покорный слуга и хотел бы представить вам средство для укрощения строптивых часов.
— Кто же он? Кто же он? — вопрошал мастер Захариус.
— Да вы его узнаете на следующий день после того, как отдадите мне руку вашей дочери.
— Моей Жеранды?
— Да!
— Но сердце моей девочки не свободно!
Возражение Захариуса не вызвало у странного гостя ни замешательства, ни удивления.
— Ба!.. Но в таком случае знайте: даже самые прекрасные из ваших часов... не избегнут участи...
— Нет!.. Моя девочка, моя Жеранда!.. Нет!..
— Ну, хорошо! Вернемся к вашим часам, мастер Захариус! Собирайте и разбирайте их! Готовьте свадьбу дочери и вашего подмастерья! Закаливайте пружины, сделанные из лучшей стали! Благословляйте Обера и прекрасную Жеранду! Но помните — ваши часы не пойдут никогда, а Жеранда не станет женой Обера!
С этими словами старичок так внезапно исчез, что мастер Захариус даже не расслышал, как в груди таинственного визитера пробило шесть.
Глава IV СОБОР СВЯТОГО ПЕТРА
Тем временем плоть и разум Захариуса все больше ослабевали. Силы его поддерживала только безмерная жажда работы. Кажется, с такой страстью, с таким лихорадочным возбуждением он не работал никогда. И теперь даже собственная дочь не могла отвлечь его от любимого дела.
Ущемленная гордость мастера, которой был нанесен предательский удар зловещим визитером, распалялась день ото дня. Старик был полон решимости силой своего гения одолеть проклятую напасть, насланную на его творения. Сперва тщательнейшим образом он осмотрел городские часы, порученные его постоянным попечениям, и убедился, что система колес в полном порядке, валики прочны, противовесы приведены в точное равновесие. Не остались без внимания и куранты, которые были выслушаны им с сосредоточенностью врача, пытающегося обнаружить хвори в груди своего пациента. Невозможно было представить, что часы, шедшие еще накануне, теперь бездействовали.
Жеранда и Обер почти всегда сопровождали старика во время визитов в город. В другое время мастер Захариус получал бы огромное удовольствие от таких прогулок и конечно бы выбросил из головы всякую мысль о скором конце, но теперь тяжкие раздумья — что станется без него с этими двумя — не давали ему покоя.
Вернувшись домой, старый часовщик с еще большей одержимостью хватался за работу. Даже убедившись в ее напрасности, он не мог взять в толк, что же произошло, и без устали вновь и вновь разбирал и собирал часы, возвратившиеся в мастерскую.
Обер тоже пытался докопаться до первопричины странных поломок, но тщетно.
— Мастер! — говорил он учителю.— Дело здесь вовсе не в износе валиков и шестеренок!
— Видно, тебе доставляет удовольствие мучить меня?! — вспыхивал Захариус.— Разве часы создавал несмышленыш? Разве меня останавливал страх повредить пальцы, когда я безжалостно выдирал из корпуса безукоризненно пригнанные медные детали? Разве я не выковывал их самолично, не закаливал пружины с редким упорством, доводя их до невиданной прочности? А замечательные, редкостные смазочные масла, которыми пропитаны мои часы? Ты согласен теперь, Обер, что все происшедшее — бессмыслица, и тут не обошлось без козней дьявола!
Между тем с утра до вечера к убежищу часовщика стекались недовольные клиенты из знатных домов. Старик не знал, кого слушать.
— Эти часы отстают, их невозможно наладить! — говорил один.
— А эти,— подхватывал другой,— как я ни бился — остановились, подобно солнцу Иисуса Навина.
— Если правда, что ваше здоровье влияет на состояние ваших часов, мастер Захариус, то излечитесь немедленно,— советовало большинство недовольных.
Старик скорбно всех оглядывал, кивал головой либо печально произносил:
— Подождите до первых теплых дней, друзья мои! Это время, когда в притихшей природе пробуждается жизнь! Пусть солнце обогреет всех нас!
— Вот так часы! Не желают переносить зимних холодов! — крикнул один из самых разъяренных клиентов.— Осознаете ли вы, мастер Захариус, что ваша подпись начертана на циферблате часов? А честь имени, клянусь Святой Девой,— превыше всего!
Наконец дошло до того, что старик, устыдившись упреков, вытащил из старого баула несколько золотых монет, чтобы выкупить поврежденные часы. Прослышав об этой новости, клиенты сбежались все разом, и очень скоро из бедного жилища утекли последние деньги. Зато честность мастера осталась вне подозрений. Жеранда всем сердцем одобрила отцовский поступок, ведущий прямехонько к разорению. И очень скоро Обер решил предложить мастеру свои сбережения.
— Что будет с моей девочкой? — причитал старик, предвидя неизбежность катастрофы.
Обер не осмеливался сказать, что Жеранде он предан безмерно и будущее его не страшит. Однажды мастер Захариус даже назвал юношу зятем, тем самым опровергнув зловещее предсказание, часто звучавшее в его ушах: «Жеранда не будет женой Обера».
Мало-помалу часовых дел мастер полностью разорился. Сначала ушли в чужие руки старинные антикварные вазы, потом он расстался с великолепным, тончайшей работы панно из дуба, украшавшим его жилище. Несравненные полотна известных фламандских мастеров больше не радовали глаза Жеранды, и все, вплоть до ценнейшего инструмента, сотворенного невероятным талантом мастера, было продано, лишь бы возместить убытки клиентам.
Только Схоластика не могла смириться с происходящим. Однако все ее усилия помешать докучливым посетителям проникнуть в дом Захариуса и вынести оттуда последнее были тщетны. Часто на соседних улицах, где знали служанку с незапамятных времен, слышались ее громкие причитания. Она во что бы то ни стало стремилась опровергнуть слухи, будто ее хозяин маг и колдун, хотя в глубине души была убеждена, что так оно и есть. Чтобы искупить свою святую ложь, старушка без передышки молилась.
Не осталось незамеченным, что уже довольно давно часовщик отказался от отправления религиозных обрядов. Случалось, что он сопровождал дочь в церковь и, видимо, находил в общении с Богом умственное отдохновение, питавшее его превосходные способности, ибо молитва — самое возвышенное упражнение фантазии. При подобном своевольном уклонении от религиозных обязанностей, которое связывалось с тайными занятиями старика, не могли не возникнуть до некоторой степени законные обвинения в колдовстве, обрушившиеся на мастера. Тогда Жеранда, чтобы обратить отца к Богу и потом вернуть к людям, прибегла к помощи католицизма. Однако догмы веры и смирения сталкивались в душе мастера с неодолимой гордыней, составлявшей теперь всю его сущность. Он и не думал доискиваться, откуда проистекают главнейшие нравственные правила. И тем не менее влияние Жеранды на него было настолько действенным, что не пообещать сопровождать дочь на большую мессу в следующее воскресенье старый часовщик просто не посмел. Девушка была на седьмом небе. Старая Схоластика не могла скрыть радости,— теперь-то злые языки, обвинявшие ее хозяина в безбожии, приумолкнут. Она без устали рассказывала всем — соседям, недругам и друзьям, знакомым и незнакомым — о решении мастера.
— Признаться, не совсем ясно, о чем вы нам толкуете, госпожа Схоластика,— отвечали ей.— Ведь мастер Захариус всегда был заодно с дьяволом!
— Да как можно говорить такое! Вспомните о часах моего хозяина на башнях наших церквей,— возражала добрая женщина.— Сколько раз своим перезвоном они возвещали о мессе, призывали к молитве?
— Все так,— отвечали ей.— Но нельзя же изобрести без посторонней помощи механизмы, которые действовали бы сами по себе и превосходили бы творения рук человеческих?
— Выходит, это бесенята сотворили бесценные часы из замка Андернатт, которые оказались не по карману даже городу Женеве? — гневно вопрошала Схоластика.— Там каждому часу соответствовало определенное правило, а христиане, которые его придерживались, попадали прямехонько в рай! Разве дьявол способен на это?
Часы из простого железа — подлинный шедевр, созданный лет двадцать назад, действительно поднял на недосягаемую высоту славу мастера. Но все равно обвинения Захариуса в колдовстве не сходили с уст злонамеренных обывателей. Впрочем, возвращение старика в лоно церкви должно было пресечь эти толки и слухи.
Старый часовщик тут же забыл об обещании, данном дочери, и отправился к себе в мастерскую. Убедившись в своем полном бессилии вдохнуть жизнь в старые, поврежденные механизмы, он обратился к новым, хрустальным часам. Они-то и должны были стать истинным чудом! Эти часы, и впрямь великолепные, выполненные тончайшими инструментами, украшенные рубинами и бриллиантами чистой воды, треснули в его руках сразу же, как только он попытался наладить их.
О случившемся не узнал никто, даже Жеранда. И с того дня жизнь мастера стала быстро угасать. Это напоминало последние судорожные колебания останавливающихся часов, которые идут, но все тише и тише. Могло даже показаться, что законы тяготения действуют прямо на старика и неумолимо влекут его в могилу.
Воскресенье, столь страстно ожидаемое Жерандой, наконец наступило. Была чудная, бодрящая погода. Женевцы высыпали на улицы и, степенно прогуливаясь, радовались приходу весны. Жеранда, бережно взяв отца под руку, направилась в сторону собора Святого Петра. Сзади плелась Схоластика с молитвенником в руках. На них взирали с любопытством. Старик передвигался словно малое дитя, а вернее сказать, как слепец. Когда прихожане не без ужаса заметили Захариуса в церкви, они притворились, будто его не видят.
Песнопения большой мессы уже потрясали церковные своды. Жеранда направилась к своей привычной скамье и в глубокой задумчивости опустилась на колени. Мастер Захариус встал рядом с ней.
Служба происходила с особой торжественностью для паствы, но старик оставался полностью безучастным — не взывал к милости неба, не восклицал с болью: «Господи, помилуй!», не пел в умилении «Слава в вышних». Совершенно не трогало этого закоренелого материалиста и чтение Евангелия. Старик не присоединился к католической клятве «Верую!». Гордый, неподвижный, бесчувственный и бессловесный, он напоминал каменное изваяние и даже в самый патетический момент, когда звон колокольчика возвестил о чуде Преображения Господня, не шелохнулся, уставившись на Святые дары, которые священник возносил над верующими.
Жеранда взглянула на отца, и обильные слезы, брызнувшие из ее глаз, оросили молитвенник. В это мгновенье куранты Святого Петра пробили половину одиннадцатого. С последним звуком мастер Захариус резко повернулся к старой колокольне. Ему почудилось, что циферблат уставился на него, цифры блестят, будто выгравированные огненными штрихами, а стрелки острыми наконечниками мечут электрические искры.
Месса закончилась. Стало уже привычкой, что молитву Angelus произносили ровно в полдень, и прихожане, прежде чем разойтись, ждали, пока на колокольне раздастся привычный звон. Еще несколько мгновений — и молитва вознесется к образу Пресвятой Девы.
Внезапно послышалось страшное скрежетание, и старый часовщик испустил вопль...
Большая стрелка, приблизившись к двенадцати, внезапно остановилась, и привычного звона не последовало.
Жеранда бросилась к отцу. Старик лежал бездыханный. Его вынесли на улицу.
«Это смерть пришла!» — думала девушка, заливаясь горючими слезами.
Мастера Захариуса перенесли домой и чуть живого уложили в постель. Казалось, от него осталась лишь тень, тонкая оболочка, похожая на последнее облачко дыма, блуждающее близ лампы, совсем уже погасшей.
Когда Захариус очнулся, он увидел склонившихся над ним Обера и Жеранду. На глаза его навернулись слезы.
— Сын мой Обер! Вручаю тебе мою дочь,— прошептал старик, простирая со смертного одра руку к своим детям.
С большим усилием Захариус приподнялся. Слова маленького старичка внезапно промелькнули в его голове.
— Не хочу умирать! — возопил часовщик.— Я не могу умереть! Я, мастер Захариус, не должен умереть... О, мои книги! О, мои счета!
Старик выскочил из постели и схватил журнал, где были отмечены имена всех его клиентов и часы, ими приобретенные. Захариус с жадностью перелистывал страницы, пока его сухой палец не остановился на одной из них.
— Здесь! —проговорил он.— Так и есть!.. Те самые старые часы из железа, проданные некоему Питтоначчо! Единственные, которые пока не возвратили! Они существуют! Они идут! Они все еще живут! О! Как я хочу вернуть их обратно! Я бы так пекся о них, что и смерть не посмела бы вернуться за мной!
После такого бурного монолога старик упал в обморок.
Обер и Жеранда преклонили колени возле его кровати и молились, молились..
Глава V СМЕРТНЫЙ ЧАС
Прошло несколько дней. Мастер Захариус, стоявший одной ногой в могиле, неожиданно вернулся к жизни. То было сверхъестественное лихорадочное существование, до предела обостренное неуемной гордыней. Жеранда не могла обмануться — тело и душа отца были навсегда для нее потеряны.
Теперь ему не было никакого дела до близких. Он из кожи лез вон, напрягая последние силы в борьбе со смертью,— расхаживал взад-вперед, рылся в своих вещах, бормоча под нос что-то загадочно-непонятное.
Утром Жеранда спустилась в мастерскую. Там не было никого. Она прождала отца целый день, но напрасно. Мастер Захариус исчез.
Девушка выплакала все глаза. Отец так и не появился.
Обер обежал весь город и с огорчением убедился — старик как в воду канул.
— Мы вернем отца! — воскликнула Жеранда, когда юноша сообщил ей печальную новость.
«Где же он может быть?» — спрашивал себя Обер.
Внезапно в памяти всплыли последние слова учителя. Конечно же, мастер Захариус продолжает жить... в старых железных часах, единственных, которые ему не возвратили!
Своей догадкой Обер поделился с Жерандой.
— Давай посмотрим счета отца! — предложила девушка.
Они спустились в мастерскую. На верстаке лежала открытая бухгалтерская книга. Всевозможные часы, когда-либо сделанные мастером и возвращенные по причине неисправности, были вычеркнуты из списка, за исключением одних, из замка Андернатт, с боем и движущимися фигурами. Это были те самые часы «с душой», которые так превозносила старая Схоластика. Принадлежали они сеньору Питтоначчо.
— Мой отец в замке! — больше не сомневалась Жеранда.
— Так бежим туда! — предложил Обер.— Мы еще можем его спасти!..
— Уж если не для этой жизни,— прошептала Жеранда,— то, может быть, для другой, вечной.
— Да, Господь милостив! Замок Андернатт спрятался в одном из ущелий горы Дан-дю-Миди, в двадцати часах ходьбы от Женевы. Поторопимся же!
Тем же вечером Обер и Жеранда, сопровождаемые верной Схоластикой, уже брели по дороге вдоль Женевского озера. Ночью они прошли пять лье, не остановившись ни в Бессенже, ни в Эрмансе с его знаменитым замком Мейор. Без большого труда пересекли они стремительную речку Дранс. Беспокойство о старом Захариусе ни на минуту не покидало путников, как и уверенность, что идут они по верному следу.
На следующий день с наступлением темноты, миновав Тонон, наша троица добралась до Эвьяна, откуда открывался изумительный вид на швейцарский берег, простирающийся пред взором путешественника на двенадцать лье. Однако обрученным не было дела до всех этих красот. Они их просто не замечали и все шли и шли вперед, словно подгоняемые какой-то сверхъестественной силой. Обер, опершись на корявую палку, предлагал помощь поочередно то Жеранде, то старой Схоластике. Все трое говорили о несчастьях и надеждах, продолжая идти восхитительной дорогой подле самой реки, вьющейся по узкому плоскогорью от берега Женевского озера до горных высот Шале. Вскоре они добрались до Бувре — там Рона впадает в озеро. А затем, миновав эти места, пошли дальше. Дорога взяла круто вверх, в горы, где маленький отряд поджидали новые испытания. Вьоназ, Шес-се, Колломбей, полузаброшенные деревеньки, остались далеко позади. Путники едва держались на ногах, колени их подгибались, а ступни были изранены острыми каменьями, торчавшими повсюду, словно гранитная щетина.
Следовало во что бы то ни стало разыскать мастера Захариуса. О передышке в уединенной хижине или в замке Монтей — владении Маргариты Савойской — не могло быть и речи. Наконец, когда день уже клонился к вечеру, бедняги, умирая от усталости, добрались до пустынного места Нотр-Дам-дю-Секс, что у самого подножия Дан-дю-Миди, в шестистах футах над Роной. С наступлением ночи, совершенно обессиленные, они нашли приют у старого отшельника, увы, ничего не знавшего о судьбе мастера. Не оставалось почти никакой надежды найти Захариуса целым и невредимым в такой чудовищной глуши! Вокруг не было видно ни зги, в горах бушевал ураган, срывая лавины с вершин сотрясавшихся скал.
Молодые люди, присев возле очага, поведали святому старцу свою горестную историю. Рядом сушилась их промокшая одежда. С улицы доносился заунывный собачий вой, сливавшийся с завываниями шквального ветра.
— Гордость, потерянная ангелом,— наставлял отшельник своих гостей,— создана во благо. Но она — тот камень преткновения, о который разбиваются судьбы людские. Гордыню — этот порок из пороков — ничем нельзя оправдать. И побороть его ох как трудно! Гордецы, по самой своей природе, не терпят никаких возражений, не слушают никаких доводов. Нам не остается ничего другого, как молиться за вашего отца!
Все четверо опустились на колени. Снова послышался собачий вой, и в дверь хижины постучали.
— Именем дьявола, откройте!
Дверь поддалась под неистовым напором, и на пороге возник дикий, взлохмаченный человек в рубище.
— Отец! — воскликнула Жеранда.
То был мастер Захариус.
— Где я? — проговорил он.— В Вечности!.. Время кончилось... часы больше не бьют... стрелки остановились!
— Отец! — повторила Жеранда таким душераздирающим шепотом, что старик, казалось, вернулся к жизни.
— Ты здесь, моя Жеранда! И ты, Обер!..— восклицал он.— О, дорогие мои жених и невеста, скоро вас обвенчают в нашей старой церкви!
— Отец! — сказала Жеранда, взяв его за руку.— Возвращайтесь домой, в Женеву, идем вместе с нами!
Старик уклонился от дочерних объятий и бросился к двери. У порога хижины возвышался сугроб. Все было завалено снегом.
— Не покидайте ваших детей! — прокричал Обер.
— Зачем возвращаться туда, где жизнь моя утекла и навсегда погребена частица меня самого? — печально ответил старик.
— Ваша душа жива! — возразил отшельник.
— Моя душа!.. О нет!.. Ее пружины в порядке!.. Я чувствую удары через равные промежутки...
— Ваша душа нематериальна! Ваша душа — бессмертна! — убеждал старика отшельник.
— Да... как и моя слава!.. Но она заточена в замке Андернатт, и я хочу снова свидеться с ней!
Отшельник молчал. Схоластика была ни жива ни мертва. Обер бережно поддерживал Жеранду.
— Замок Андернатт — проклятое жилище дьявола,— предупредил отшельник.
— Отец, не ходи туда!
— Мне надо вернуть свою душу! Моя душа принадлежит мне...
— Удержите его! Удержите моего отца! — всхлипывала Жеранда.
Но старик уже выбежал за порог и с воплем: «Мне! Мне, мою душу!..» — исчез в ночи.
Жеранда, Обер и Схоластика по непроходимым тропам, по которым ураганом пронесся мастер Захариус, бросились за ним вслед. А вокруг бушевали стихии — снежные вихри схлестывались с пеной бурных потоков, вырывавшихся из берегов.
Проходя мимо какой-то часовенки, Жеранда, Обер и Схоластика поспешно перекрестились Мастера Захариуса не было нигде.
Наконец, посреди невозделанных, забытых Богом земель показалась деревушка Эвионаз. Сердце, даже самое черствое, и то содрогнулось бы при виде такого страшного запустения. Старик Захариус продолжал свой путь. Он повернул влево и исчез в самом глубоком из ущелий горы Дан-дю-Миди, вздыбившейся в небо острыми пиками.
— Это здесь! Здесь!..— восклицал мастер, продолжая бешеную гонку.
В описываемое время от замка Андернатт остались почти что одни руины. Массивная полуразрушенная башня, возвышавшаяся над всеми постройками, казалось, вот-вот рухнет... На чудовищные нагромождения камней, которые не сегодня-завтра завалят все, было страшно смотреть. Среди всего этого хаоса сохранилось несколько мрачных зал с треснувшими потолками и грязными водоемами, кишевшими змеями.
Тесный потайной ход, заваленный мусором, вел прямо в замок Андернатт. Кто жил здесь прежде? Бог знает. Возможно, какой-нибудь маркграф, полусеньор-полу разбойник. А потом маркграфа сменили бандиты или фальшивомонетчики, повешенные прилюдно за свои преступления. Легенда гласит, что зимними ночами сам сатана, пляшущий сарабанду, появлялся в чреве разверзшихся ущелий, поглощавших тень от замка Андернатт!
Мастера Захариуса не страшил угрожающий вид чудовищного пейзажа. Через потайной ход он пробрался на обширный сумрачный двор, затем вскарабкался на какой-то наклонный уступ и попал в один из бесконечных коридоров, готовых обрушиться под тяжестью своих сводов. Вновь никто не остановил его. Жеранда, Обер и Схоластика следовали за мастером по пятам. А тот, точно ведомый невидимой рукой, двигался торопливо, не сбиваясь с дороги, сопровождаемый сонмом летучих мышей, и наконец уперся в трухлявую дверь, поддавшуюся без особого труда.
Обширная зала, совсем неплохо сохранившаяся, предстала перед ним. Казалось, к высоким скульптурным панно, украшавшим стены, прильнули ларвы[338], вампиры, тараски[339]. Рамы узких окон, напоминавших бойницы, сотрясались под порывами бешеного ветра.
Мастер Захариус, остановившись посреди залы, издал радостный вопль.
На железной подставке, вплотную к стене, стояли часы, в которых заключалась теперь вся его жизнь. Несравненный шедевр представлял собой старую романскую церковь со всевозможными деталями из кованого железа и массивной колокольней с полным набором звонов, повторяющихся изо дня в день: заутреня, месса, вечерня... Над дверью церкви, открывавшейся во время службы, была установлена розетка, в центре которой двигались две стрелки. На скульптурном циферблате с тонким рельефом помещалось двенадцать цифр. Между дверью и розеткой, как и утверждала старая Схоластика, в медной рамке появлялось некое изречение — правило, годное к исполнению в определенное время суток. В свое время мастер Захариус с прилежанием истового христианина отрегулировал последовательность этих истин: часы молитвы, работы, сна, трапезы, приятного времяпрепровождения и отдыха следовали согласно догмам религиозной дисциплины и должны были приветствовать всякого, кто внимателен к их рекомендациям.
Мастер Захариус, опьянев от радости, только попытался дотронуться до часов, как раздался чудовищный хохот. Он обернулся и при тусклом, мерцающем свете коптящей лампы различил того маленького старичка из Женевы.
— Вот вы и здесь! — воскликнул уродец.
Жеранда, полумертвая от страха, прижалась к своему жениху.
— Милости просим, мастер Захариус,— произнес чудовищный персонаж.
— Кто вы?
— Сеньор Питтоначчо, к вашим услугам! Вы явились, чтоб отдать за меня вашу дочь? Я ведь говорил: Жеранда не будет женой Обера!
Молодой человек бросился на Питтоначчо, но тот ускользнул от него, словно тень.
— Остановись, Обер! — сказал мастер Захариус.
— Доброй ночи! — пробурчал Питтоначчо и исчез.
— Отец! — взмолилась Жеранда.— Бежим из этого проклятого места!.. Отец!..
Но мастера Захариуса уж и след простыл. Он гнался за призраком Питтоначчо среди рушившихся аркад. Схоластика, Обер и Жеранда, подавленные горем, не в силах были сдвинуться с места. Девушка упала в каменное кресло, к ней бросился Обер, тут же в большой зале старая служанка на коленях молилась. Слабые отблески света струились во тьме. Тишина нарушалась только деятельной работой гнусных тварей, грызших старые деревяшки,— этот постоянный шум, казалось, указывал время «часов смерти».
С первыми проблесками дня все трое отважились наконец ступить на бесконечные лестницы, спрятавшиеся под нависшими глыбами. Часа два проблуждав, они так и не встретили ни души, не услышали ничего, кроме отдаленного эха, отзывавшегося на их крики. Путники то спускались глубоко в подземелье, то возносились к вершинам диких гор.
Случай привел их вновь в обширную залу, где пришлось провести страшную ночь. Там они застали Захариуса и Питтоначчо мирно беседующими: один, похожий на окоченевший труп,— стоял, другой — присел возле мраморного столика.
Мастер Захариус, едва заметив Жеранду, взял ее за руку и подвел к Питтоначчо со словами:
— Вот твой хозяин и повелитель, дочь моя! Вот твой супруг, Жеранда!
Девушка задрожала всем телом.
— Никогда! — воскликнул Обер.— Она моя суженая!
— Никогда! — отозвалась жалобным эхом Жеранда.
Питтоначчо захохотал.
— Стало быть, вы хотите моей смерти? — закричал старик.— Здесь, в этих часах, последних из созданных мной, единственных, продолжающих свой ход, и заключена моя жизнь. Этот человек сказал: «Отдашь мне дочь, и часы будут принадлежать тебе!» Он хочет их уничтожить, а меня ввергнуть в небытие! О, моя дочь, ты не будешь больше меня любить!
— Отец! — прошептала Жеранда, до которой дошел наконец смысл его слов.
— Если бы ты знала, как страдал я здесь, вдали! — вновь заговорил старик.— Может, и не нянчиться с этими часами? Оставить их пружины, колеса и шестеренки — пусть изнашиваются! Но своими собственными руками я должен поддержать их здоровье, столь дорогое мне, ибо я не могу умереть, я, великий женевский часовщик! Смотри, моя дочь, как эти стрелки уверенно продвигаются вперед! Слушай, сейчас прозвонит пять часов! Будь внимательна и читай прекрасное наставление, которое предстанет сию минуту пред твоими очами.
На часовенке прозвонило пять с каким-то невероятным треском, болезненно отозвавшимся в девичьей душе, и над циферблатом возникли слова, начертанные красными буквами:
«Должно вкушать плоды с древа познания».
Обер и Жеранда взглянули друг на друга в оцепенении. То не были больше ортодоксальные католические максимы, прежде появлявшиеся на часах. Вероятно, их коснулось дыхание сатаны! Мастер Захариус словно ничего не замечал.
— Ты слышишь, моя Жеранда? Я жив, я существую еще! Прислушайся к моему дыханию!.. Видишь, как кровь циркулирует в моих венах!.. Нет, ты не хочешь смерти своего отца и согласишься стать супругой этому человеку! Тогда я стану бессмертным и достигну наконец могущества Бога!
Старая Схоластика, содрогнувшись от подобного святотатства, перекрестилась, а Питтоначчо издал радостный рык.
— Ты будешь счастлива с ним, Жеранда,— продолжал Захариус.— Видишь этого человека, он — само Время! Твое существование будет выверено с абсолютной точностью! Девочка! Я дал тебе жизнь, а теперь ты даруй ее отцу!
— Жеранда,— прошептал Обер,— ведь я твой суженый!
— Но мой отец!..
— Она — твоя, Питтоначчо,— проговорил часовщик.— Теперь ты сдержишь свое обещание!
— Вот ключ от часов,— откликнулся мерзкий старикашка.
Мастер схватил этот длиннющий предмет, напоминающий размотанную змею, бросился к часам и принялся заводить их с бешеной скоростью. Невероятный скрежет пружин ударял по нервам, а старый часовщик все поворачивал и поворачивал ключ, и казалось — не по своей воле. Движения мастера становились быстрее и судорожнее, пока он совсем не лишился сил.
— Вот завод на целый век! — прокричал часовщик.
Обер опрометью бросился из залы. После долгих блужданий он нашел наконец выход из проклятого лабиринта. Юноша возвратился в святую обитель Нотр-Дам-дю-Секс и поведал отшельнику всю историю с такой горестной безнадежностью, что старец согласился отправиться с ним в замок Андернатт.
Между тем, пройдя сквозь страшные испытания, Жеранда точно окаменела, все ее слезы были давно выплаканы.
Захариус по-прежнему оставался в зале, то и дело прислушиваясь к равномерному ходу своих часов.
Наконец пробило десять, и, к ужасу старой Схоластики, в медной рамке появились слова:
«Человек может стать равным Богу».
Старик не только не был обескуражен подобным кощунственным изречением, но читал его с исступленным восторгом, находя особое удовольствие в своей гордыне и греховных мыслях. Питтоначчо не оставлял его.
Церемония бракосочетания должна была произойти в полночь. Бедная Жеранда ничего больше не видела и не слышала. Тишина вокруг лишь изредка нарушалась бормотанием мастера да подвыванием Питтоначчо.
Пробило одиннадцать. Часовщик вздрогнул и прочел зычным голосом новое богохульство:
«Человек обязан быть рабом науки и ради нее пожертвовать всем».
— Да,— воскликнул он,— в мире нет ничего, кроме науки!
Стрелки часов поползли по железному циферблату со змеиным шипением, а удары становились все лихорадочнее.
Мастер Захариус не проронил больше ни слова! Внезапно он рухнул на землю, и страшный хрип вырвался из его сдавленной груди. Можно было разобрать только отдельные слова: «Жизнь! Наука!»
Свидетелями ужасной сцены стали Обер и святой отшельник: мастер Захариус лежал на земле, Жеранда, еле живая, молилась...
Внезапно раздался сухой щелчок, всегда предшествующий бою часов.
Мастер Захариус вскочил:
— Полночь!
Отшельник протянул руку к часам... и они не прозвонили.
Раздался истошный вопль, который мог быть услышан даже в аду, и перед мастером возникли слова:
«Кто попытается стать равным Богу, тот будет проклят на веки вечные!»
Старые часы треснули с грохотом громового раската, и пружина, вырвавшись из корпуса, судорожно проскакала по комнате, выделывая фантастические коленца. Старик бросился за ней и, тщетно пытаясь схватить ее, прокричал:
— Моя душа! Моя душа!
Пружина подпрыгивала перед ним то с одной стороны, то с другой, но поймать ее было невозможно!
Наконец Питтоначчо схватил ее и, извергая чудовищные проклятья, провалился сквозь землю.
Мастер Захариус упал как подкошенный. Он был мертв.
Тело часовщика упокоилось здесь же, близ Андернатта, посреди горных круч. Обер и Жеранда вернулись в Женеву, и Бог даровал им согласие на долгие годы. Молитвой во искупление грехов они пытались вырвать из цепких когтей дьявола заблудшую душу отверженного мученика науки.
Конец
Хиль Бралтар
I
Их было по меньшей мере семь-восемь сотен. Среднего роста, но сильные, ловкие, гибкие, способные совершать поразительные прыжки, они кувыркались при последних лучах солнца, которое уже садилось за горы к западу от рейда. Скоро красноватый диск исчез, и темнота распространилась по бассейну, окаймленному горными цепями Соноры, Ронды и пустынной страны Куэрво.
Внезапно вся группа замерла. На вершине холма, похожей на спину тощего осла, показался командир.
— Свисс... свисс...— Он издал свист необычайной силы, сложив губы трубочкой.
— Свисс... свисс...— повторила странная группа удивительно стройно.
Своеобразным существом был этот командир: высокого роста, на плечи накинута шерстью вверх обезьянья шкура, всклокоченные нечесаные волосы, щетинистая короткая борода, голые ноги со ступнями, затвердевшими, как копыта.
Он поднял правую руку и показал на склон горы. Все повторили его жест с военной точностью, механически,— настоящие марионетки на одном шнурке. Командир опустил руку — и они опустили руки. Пригнулся к земле — они тоже. Он взял толстую палку, начал ею размахивать. Все замахали палками, выполняя фехтовальный прием, известный у мастеров под названием «закрытая роза».
Затем главарь повернулся, скользнул в траву и пополз под деревьями. Группа последовала за ним.
Вскоре горные тропинки, изрытые дождями, остались позади; ни один камешек не сдвинулся на пути движущейся колонны.
Через четверть часа командир остановился, и вместе с ним все застыли на месте.
В двухстах метрах ниже показался город, лежащий на берегу темного моря. Как звезды, светились многочисленные огни домов, вилл, казарм. В спокойной воде отражались фонари военных судов, сторожевые огни кораблей и барж, кинувших якоря на рейде. Далее, на оконечности мыса Европа, бросал в пролив ослепительный сноп лучей маяк.
Вот раздался пушечный выстрел с крепостной батареи, послышалась дробь барабанов, резкие свистки дудок.
Наступил час отдыха, возвращения домой. Ни один иностранец не имел более права ходить по городу без гарнизонного офицера. Экипажам надлежало возвратиться на суда, пока не закрылись городские ворота. Через каждые четверть часа проходили патрули, забирая на гауптвахту запоздавших и пьяниц. Потом все смолкло.
Генерал Мак Кекмейл мог почивать спокойно.
И никому не пришла бы в голову мысль, что Англия в эту ночь может потерять Гибралтарскую скалу.
II
Скала, высотой в четыре сотни метров, покоится на основании шириной в тысячу и длиной в четыре тысячи метров. Она напоминает огромного спящего льва, с головой, обращенной к Испании, и хвостом, опущенным в море. Лев показывает клыки — семьсот пушек, выглядывающих из амбразур, словно зубы старухи. Эта старая ведьма укусит, если ее раздразнить. Да, Англия надежно расположилась.здесь, как и в Периме, Адене, на Мальте, в Пуло-Пинанге, в Гонконге — на многих, разбросанных по миру, скалах[340].
Гибралтар обеспечивает Соединенному Королевству господство над восемнадцатью километрами пролива, пробитого дубиной Геркулеса между Абилой и Кальпой, в глубине средиземноморских вод[341].
И все же существовал человек, лелеявший мечту отобрать скалу, захваченную англичанами. Это был командир описанного нами сборища, странное создание, можно сказать — сумасшедший. Само его имя — Хиль Бралтар — говорило о патриотическом предназначении. Мозг нашего героя не выдержал жизни — следовало поместить Бралтара в дом умалишенных. Но вот уже целых десять лет никто не знал, куда тот девался. Может быть, он блуждал по свету? Нет, на самом деле Бралтар не покидал родины и вел жизнь первобытного существа в лесах, под скалами, а чаще всего в неприступных пещерах Сан-Мигеля, сообщавшихся, как говорят, с морем. Многие считали его мертвым, но наш герой жил, как те дикари, лишенные рассудка, что повинуются лишь животным инстинктам.
III
Генерал Мак Кекмейл сладко спал, прижавшись к подушке безобразным огромным ухом.
Со своими чрезмерно длинными руками, круглыми глазами, глубоко сидящими под косматыми бровями, гримасничающей физиономией, обрамленной жесткой бородой, со странными ужимками, с выдвинутой выдающейся челюстью, он был поразительно безобразен даже для английского генерала. Настоящая обезьяна, но превосходный военный, несмотря на внешность.
Он спал в уютной квартире на Мейн-стрит — извилистой улице, пересекавшей город от Морских ворот до ворот Аламеды. Быть может, ему снилось, что Англия завладела Египтом, Турцией, Голландией, Афганистаном, Суданом, страной буров[342] — словом, всеми землями, что ей придутся по вкусу,— и это в то самое время, когда державе угрожала потеря Гибралтара.
Дверь внезапно открылась.
— Что там такое? — прорычал Мак Кекмейл.
— Генерал, город захвачен! — сообщил испуганный адъютант, влетевший в комнату как торпеда.
— Испанцами?
— Надо полагать!
— Как они смели!..
Генерал вскочил, отбросил ночной колпак, натянул панталоны, мундир, впрыгнул в сапоги, нахлобучил фуражку, схватил шпагу. Все это — не переставая говорить и слушать.
— Что за шум на улице?
— Грохот камней! Куски скал катятся на город, как лавина.
— Много этих мошенников?
— Кажется, много.
— Наверное, для такого удара объединились все береговые бандиты: контрабандисты из Ронды, рыбаки Сан-Рюка, эмигранты, кишащие в деревнях?
— Боюсь, что так, генерал!
— А губернатор предупрежден?
— В его виллу на мысе Европа невозможно попасть! Городские ворота захвачены, улицы полны нападающими.
— Что с казармами у Морских ворот?
— Туда не прорваться! Артиллеристы, похоже, окружены!
— Сколько с вами людей?
— Десятка два: пехотинцы третьего полка, те, которым удалось ускользнуть.
— Клянусь святым Дустаном,— вскричал Мак Кекмейл,— эти пожиратели апельсинов хотят вырвать Гибралтар у Британии!.. Этому не бывать!.. Нет! Не бывать!..
И тут в комнату ворвалось странное создание и прыгнуло генералу на плечи.
— Сдавайтесь! — закричал нападающий резким высоким голосом.
Несколько солдат, прибежавших вслед за адъютантом, хотели броситься на человека, но вдруг узнали его при свете лампы.
— Хиль Бралтар! — воскликнули они.
Да, это был он, идальго, о котором так долго не вспоминали, дикарь из пещер Сан-Мигеля.
— Сдавайтесь! — визжал он.
— Никогда! — рявкнул в ответ генерал.
Солдаты их уже окружали, и тогда Хиль Бралтар издал свое «свисс» — резкое, продолжительное. Тотчас двор, а потом и дом наводнила толпа нападающих.
Возможно ли?.. Это были обезьяны, сотни обезьян! Пришли ли они отобрать у англичан скалу, истинными владельцами которой являлись, гору, которую занимали прежде испанцев, раньше, чем Кромвель завоевал ее для Великобритании? Воистину так! Бесхвостые обезьяны были ужасны своей численностью, с ними можно было жить в добром согласии, лишь смирившись с их мародерством. Смелые и умные, они умели мстить за оскорбление,— что иногда случалось,— скатывая на город огромные скалы!
Какой стыд для Соединенного Королевства! Англичане, покорители индейцев, абиссинцев, тасманийцев, австралийцев, готтентотов и стольких других, могут быть побеждены обезьянами моно!
Если такое случится, генералу Мак Кекмейлу останется только прострелить себе голову. Нет, подобное бесчестье пережить невозможно!
К счастью, прежде чем обезьяны, привлеченные свистом вождя, успели наводнить комнату, солдаты набросились на Хиля Бралтара. Сумасшедший, наделенный необычайной силой, сопротивлялся, и одолеть его оказалось нелегко. Его обезьянья шкура была содрана в борьбе, и он лежал в углу почти нагой, связанный, с заткнутым ртом, не в силах пошевелиться или издать свист.
Но снаружи положение по-прежнему оставалось тяжелым. Несколько пехотинцев успели собраться у Морских ворот и пробивались к жилищу генерала. Отдельные ружейные выстрелы раздавались на Мейн-стрит и Торговой площади. Численность моно все возрастала, гарнизону угрожала потеря всех важных позиций. А там уж на помощь обезьянам придут испанцы, форты будут покинуты, батареи тоже, на укреплениях не останется ни одного защитника, и англичане, сдав неприступную скалу, не сумеют больше ею овладеть.
Мак Кекмейл толкнул дверь и вышел на улицу, решившись победить или умереть, как говорят военные.
И все внезапно переменилось.
При свете факелов, освещавших двор, можно было видеть, что обезьяны начали отступать. Во главе их маршировал вождь, размахивая палкой. И моно, подражая его движениям, шагали с ним в ногу.
Неужели Хиль Бралтар освободился от уз и выскользнул из комнаты, где его караулили? Да, это так! Но куда же он теперь направлялся? На мыс Европа, к вилле губернатора, чтобы взять ее приступом?
Нет! Безумец и стая покидали крепость.
Час спустя в городе не осталось ни одного завоевателя Гибралтара.
Что же произошло?
Это стало известно, когда генерал Мак Кекмейл появился перед солдатами.
Да, именно он занял место безумца и увел за собой стаю, завернувшись в обезьянью шкуру пленника. Бравый воин так походил на обезьяну, что даже моно обманулись.
Простая, но гениальная идея вскоре была вознаграждена крестом Святого Георгия[343].
Что же касается Хиля Бралтара, то Соединенное Королевство продало его Барнуму[344], который составил себе состояние, показывая дикаря в городах Старого и Нового Света. Барнуму, кстати, охотно верили, когда тот говорил, что демонстрирует вовсе не дикого человека из Сан-Мигеля, а самого генерала сэра Мак Кекмейла.
Приключение оказалось хорошим уроком правительству Ее Величества. Стало ясно, что Гибралтар не могут взять люди, но держится он лишь по милости обезьян. И вот Англия, всегда практичная во всех делах, решила посылать туда только самых безобразных своих генералов, чтобы моно могли ошибиться.
Вероятно, эта мера навсегда обеспечит Англии владение Гибралтаром.
Конец
На дне океана
Благополучно спустившись по лестнице, мы вошли в огромный зал, освещенный ослепительными электрическими рефлекторами. Глубокая тишина, царившая здесь, нарушалась лишь шумом наших шагов.
— Где я? Зачем попал сюда? Кто этот таинственный проводник?.. — задавал я себе вопросы.
Ответов не было.
Продолжительная ночная прогулка, железные ворота, которые с шумом захлопнулись за нами, лестница, нисходившая, как мне казалось, в недра земли, — вот и все, что я мог припомнить. Впрочем, у меня и времени не было на размышления.
— Вам, наверное, интересно узнать, кто я такой? — начал мой проводник. — Ваш покорнейший слуга полковник Пирс… Где вы находитесь? — В Америке, в Бостоне, на станции Boston to Liverpool pneumatic Fubis Company[345].
— На станции?
— Да, на станции.
И, чтобы объяснить мне, в чем дело, полковник указал мне на два длинных железных цилиндра, около полутора метров в диаметре, лежавших на земле в нескольких шагах от нас.
Я взглянул на эти цилиндры, направо проникавшие в стену, а налево оканчивавшиеся гигантскими металлическими щитами, от которых поднимался вверх и исчезал в потолке целый лес трубок, — и сразу понял все.
Незадолго до того я читал в одной американской газете статью, где описывался необыкновенный проект соединения Европы с Новым Светом при помощи гигантских подводных труб. Автором этого проекта и был полковник Пирс, который в эту минуту стоял предо мною.
Я начал припоминать содержание статьи. В ней сообщалось много подробностей относительно этого грандиозного предприятия.
Для его осуществления одного железа требовалось около 1.600.000 куб. метров, то есть 13 миллионов тонн. Для перевозки всей этой массы нужно было 200 пароходов по 2000 тонн вместимостью, причем каждому из них предстояло сделать по 33 рейса. Суда этой армады должны были подвозить свой груз к двум главным пароходам, к которым прикреплялись концы труб. Последние должны были состоять из отдельных кусков, каждый длиною в три метра, ввинченных друг в друга, скрепленных тройным железным панцирем и покрытых сверху гуттаперчевым чехлом. По этим трубам проектировалось с необыкновенной быстротой пускать вереницу вагонов, движимых сильным давлением воздуха, подобно тому, как в Париже пересылаются депеши с помощью пневматической почты…
Статья заканчивалась сравнением нового способа передвижения с железными дорогами. Автор высчитывал прибыли грандиозного сооружения и восхвалял преимущества новой системы перед старой: отсутствие действующей на наши нервы тряски, благодаря шлифовке внутренности стальной трубы, одинаковая температура в туннеле, регулируемая воздушной тягой, и баснословная дешевизна переезда. По его словам, благодаря быстроте передвижения и шлифовке внутренней поверхности трубы трение будет самое незначительное, что обеспечит прочность и вечное существование проектируемой пневматической дороги…
Содержание статьи вспомнилось мне во всех подробностях.
Значит, мечты воплотились в жизнь, и эти два цилиндра, начинающиеся у моих ног идут через Атлантический океан до самых берегов Англии! Несмотря на очевидную действительность, я все еще не мог поверить в это чудо. Что трубы проложены — это казалось возможным, но чтобы люди могли путешествовать в них, — нет, с этим я никогда не соглашусь!..
— Да и возможно ли создать воздушную тягу, достаточную для такого огромного расстояния? — громко высказал я свое сомнение.
— Конечно, и даже очень легко, — сказал полковник. — Необходимое количество воздуха нагнетают громадные меха, имеющие форму высоких печей. Воздух выбрасывается из них со страшной силой и, гонимые этим вихрем, наши вагоны несутся со скоростью тысяча восемьсот километров в час, то есть со скоростью пушечного ядра. Поезд с пассажирами проходит расстояние в четыре тысячи километров, отделяющее Бостон от Ливерпуля, за каких-нибудь два часа и сорок минут.
— Тысяча восемьсот километров в час?! — воскликнул я.
— Да, и ничуть не меньше. И что за удивительные последствия такой быстроты! Часы в Ливерпуле показывают на четыре часа сорок минут больше, нежели у нас в Бостоне, и путешественник, выехавший из Бостона в девять часов утра, прибывает в Англию в тот же день, в три часа, пятьдесят четыре минуты пополудни. Вот уж действительно можно сказать — быстро провести время!.. В обратном направлении поезда наши опережают солнце на девятьсот и более километров в час, так что, покинув Ливерпуль в полдень, пассажир достигает Америки… в девять часов тридцать четыре минуты утра, то есть раньше, чем он выехал из Ливерпуля! Не правда ли, это в высшей степени забавно?! Мне кажется, что передвигаться быстрее просто невозможно…
Я не знал, что и думать обо всем этом. Уж не с сумасшедшим ли я имею дело? Мог ли я поверить в эти чудеса, когда в моей голове беспрерывно возникали все новые и новые возражения?
— Ну, ладно, пусть будет так, — сказал я наконец. — Допускаю, что путешественники изберут эту бешеную дорогу и что вам удастся достигнуть такой неслыханной быстроты. Но каким же образом вы остановите ваш поезд? Ведь при торможении все разлетится в прах!..
— Ничего подобного, — ответил полковник, пожимая плечами. — Между обеими трубами, из которых одна служит для езды в одну сторону, а другая — в противоположную, и в которых вследствие этого воздушная тяга идет в обратном направлении, существует сообщение при выходе на каждый берег. Когда поезд приближается к берегу, то электрическая искра предостерегает нас об этом и летит в Англию, чтобы там уменьшили тягу, благодаря которой поезд мчится вперед. Теперь он уже движется дальше по инерции, пока встречный ток воздуха из лежащей рядом трубы окончательно его не остановит. Впрочем, к чему все эти объяснения? Не лучше ли вам убедиться на собственном опыте?
И, не дожидаясь моего ответа, полковник Пирс нажал на медный рычажок, блестевший на одной из труб. В ту же минуту стенка отодвинулась и через образовавшееся отверстие я увидел ряд двухместных скамеек.
— Это вагон, — сказал полковник. — Входите поскорее!
Я вошел. Стенка тотчас же закрылась.
При свете лампы Эдисона, повешенной вверху, я с любопытством озирался вокруг. Ничего необыкновенного! Длинный цилиндр, хорошо отделанный внутри, с 50 креслами, расставленными попарно в 25 равных рядов, клапаны на обоих концах вагона, служащие для регулирования воздуха, — сзади для пропуска свежего, спереди — для выпуска испорченного, — вот и все.
После нескольких минут осмотра я уже начал терять терпение.
— Почему же мы не едем?
— Как не едем? Мы уже в дороге! — воскликнул полковник.
— В дороге? Не двигаясь?.. Да разве это возможно?..
Я с напряжением прислушивался, не слышно ли какого-нибудь шума, который указывал бы на движение вагонов. Если мы в самом деле тронулись со станции, и если полковник не шутил, говоря о скорости в 1800 километров, то мы должны теперь находиться далеко от земли, под волнами океана. Над нашими головами беспокойно мечутся волны, и, может быть, в эту самую минуту киты, принимая нашу длинную железную тюрьму за гигантскую змею, ударяют о нее своими могучими хвостами!..
Я ничего не слышал, кроме тихого приглушенного рокота, и погруженный в безграничное удивление, не веря в действительность того, что происходило, сидел и молчал. А время между тем летело.
Прошло около часу. Вдруг ощущение холода на лбу пробудило меня из оцепенения, в которое я мало-помалу погрузился. Я поднес руку к лицу: оно было мокро…
Мокро! Почему? Уж не лопнул ли наш туннель под давлением воды, давлением ужасающим, увеличивающимся на одну атмосферу через каждые 10 метров глубины? Уж не поглощает ли нас океан?.. Я был парализован ужасом. В отчаянии я хотел позвать на помощь, кричать… и… увидел себя в собственном тихом саду под сильным дождем, крупные капли которого и прервали мой сон.
Просто-напросто я уснул, читая статью, посвященную фантастическому проекту полковника Пирса, и во сне увидел этот проект осуществившимся…
Конец
Послесловие
В ПОИСКАХ ИДЕАЛА
Как правило, сюжеты своих произведений (а точнее, их основу или просто исходные положения) Жюль Верн брал из жизни. Нередко побудительным толчком для создания очередной книги бывали его личные впечатления. Классический тому пример — роман «Миссис Бреникен».
Пяти-шестилетним малышом Жюль вместе с братом Полем посещал в Нанте пансион для детей дошкольного возраста, принадлежавший мадам Самбен. Эта строгая дама считала себя женой капитана дальнего плавания. К несчастью, брак ее, заключенный, видимо, по большой любви, оказался трагическим. Муж мадам Самбен сразу же после свадьбы вышел в море, и всякий след его пропал. Судьба моряка оставалась неизвестной, но безутешная супруга, подобно Пенелопе, не считала любимого погибшим. В течение долгих тридцати лет она ждала его возвращения, признанного всеми невозможным. И чуда действительно не произошло.
У нас нет полной уверенности, что маленький Жюль сохранил на всю жизнь воспоминание о своей несчастной воспитательнице, хотя внук писателя Жан почти настаивает на этом, ссылаясь на исключительную память деда. Скорее всего, случай мадам Самбен все-таки отложился в душе мальчика, а позже, уже зрелым человеком, популярным писателем, Верн в деталях познакомился с этой городской легендой, положив ее в основу романа об идеальной женщине, подруге творческого, ищущего человека. Такой подруги ему самому всю жизнь недоставало.
Правда, этот собирательный образ своим обаянием во многом обязан еще и Джейн Франклин, спутнице жизни знаменитого британского полярного исследователя Джона Франклина (1786—1847). Он, будучи с юных лет военным моряком, уже в зрелые годы, тридцатилетним, увлекся арктическими путешествиями. В 1817 году Джон, лейтенант на судне «Трент», под командованием капитана Давида Бьюкена отправляется на поиски Северо-Западного прохода из Атлантического океана в Тихий. В мае 1819 года Франклин стал во главе небольшого отряда и попытался пересечь север американского материка по рекам и озерам, а в 1825— 1827 годах он осуществляет новый шлюпочный поход, исследуя побережье моря Бофорта и реку Маккензи от устья до пролива Дис.
Потом судьба отрывает Франклина от Арктики. Его, исполнительного и честного офицера, назначают губернатором английской колонии на Тасмании. Именно в это время на острове закончилась «черная война», в ходе которой было практически истреблено коренное население. Оставалось лишь несколько загнанных в горы семейств — предмет постоянной охоты белых колониальных чиновников. Тогда же из метрополии на остров стали прибывать корабли с неисправимыми преступниками, пополнявшими только что отстроенную каторжную тюрьму (Жюль Верн расскажет о ней в романе «Братья Кип»). К удивлению сослуживцев, новый губернатор повел себя совсем не так, как ожидалось. Писатель Ю. Давыдов в своей короткой повести о Франклине приводит высказывание одного из осевших в Хобарте англичан об этом странном колониальном начальнике: «Когда я посетил его на корабле с осужденными, только что прибывшими из Англии... он говорил с ними с такой добротой, искренностью и твердостью...»[346]. Кроме заботы об осужденных, Д. Франклин боролся с произволом должностных лиц, пресекая всяческие злоупотребления. Примечательно, что его вторая жена Джейн, молодая и очень привлекательная женщина, полностью разделяла взгляды мужа.
Конечно, такие действия губернатора быстро привели его к конфликту с чиновничьей массой, и гуманный, прямодушный, честный моряк был со скандалом отозван в Лондон.
И тогда Франклин снова обращается к решению одной из важнейших географических задач: отысканию Северо-Западного прохода. В марте 1845 года его назначают командиром экспедиции, в состав которой вошли два корабля: «Эребус» и «Террор».
Моряки — народ суеверный. Каждый из них знает до мелочей, чего не надо делать, чтобы не накликать беды. В отношении Франклина сохранилась следующая история: в один из вечеров, когда приготовления к выходу в море уже заканчивались, капитан уютно расположился у себя дома на кушетке, перечитывая Шекспира. Джейн дошивала мужу форменную куртку. Закончив работу, она, опасаясь, возможно, что Джон озяб, легонько набросила ее ему на плечи. Джон в испуге посмотрел на жену, и бедной женщине сразу припомнился строгий моряцкий запрет: нельзя набрасывать форменку на уходящего в море, иначе он не вернется...
19 мая 1845 года корабли оставили родные берега, как позже выяснилось — навсегда. Вскоре они бросили якорь у гренландских берегов, в заливе Диско. Там их видели в последний раз: в ноябре об этом сообщили британские газеты. В письме с острова Диско к одному из лондонских друзей Франклин заботится о своей горячо любимой Джейн: «В отношении жены я больше всего боюсь, что, если мы будем отсутствовать очень долго, она станет волноваться. И жену и дочь надо настроить так, чтобы они не особенно ждали нашего возвращения, пока запасы на борту не иссякнут»[347]. Поэтому первые две зимы о судьбе экспедиции особенно не беспокоились — разумеется, кроме Джейн, тревога которой все возрастала, временами доводя молодую женщину до отчаяния.
Время шло, и ее мрачное предположение переросло в уверенность: случилась трагедия. Джейн беспрестанно тормошила друзей и морские авторитеты, настаивая на немедленной организации спасательной экспедиции. В пользу таковой высказались известные полярники Парри, Ричардсон, Росс. Их поддержала пресса, а вслед за нею и все английское общество. Когда встал вопрос о финансировании спасателей, леди Джейн пожертвовала для этой цели свое состояние. Увы! — к благоприятному результату работы не привели: капитану Мак-Клинтоку удалось обнаружить на северо-западном побережье Земли Короля Уильяма лишь шлюпку с двумя обглоданными скелетами, ружья, карманные часы, тарелку с инициалами Джона Франклина, несколько книжек да кое-какой более мелкий скарб.
Ход экспедиций, открывших новую главу в истории американского Севера, очень широко освещался прессой. Разумеется, Жюль Верн внимательно следил за событиями, за мужественной борьбой человека с природой. Не случайно ведь один из его первых знаменитых романов был посвящен полярной Одиссее— «Приключения капитана Гаттераса». А мужество и самоотверженность Джейн Франклин вдохновили его на создание пленительного образа дочери капитана Гранта.
Задумав в 1889 году новый роман, писатель вспомнил о героях арктической эпопеи середины века. Главный герой получает, как и Франклин, имя Джон; автор наделяет его всеми привлекательными чертами знаменитого исследователя. Естественно, супруга героя не только сравнима с ним в добродетелях, но даже и превосходит их. Вот как Верн описывает миссис Бреникен: «Среднего роста, со смуглым, живым лицом, с огоньком в больших глубоких черных глазах и пышными темными волосами... Поступь твердая, но грациозная; внешность выдает волевой характер и вместе с тем душевную доброту... В любых обстоятельствах, пусть даже самых трудных, Долли... сумела бы выполнить свой долг. На жизнь она смотрела реально, а вовсе не сквозь розовые очки,^ душою обладала возвышенной... Случись надобность, она пожертвовала бы жизнью ради Джона...»
Сам Ж. Верн такой преданности не знал. Но мечтать о ней, в том числе и на страницах собственных произведений, никогда не переставал. Интересно, что, требуя безусловной самоотверженности от подруги жизни, писатель вовсе не собирался платить ей тем же, хотя в романе его герой, Джон Бреникен, готов на ответные жертвы ради жены и сына.
Итак, героиня романа вобрала в себя черты мадам Самбен и Джейн Франклин. В первой части повествования больше мотивов, связанных с обстоятельствами жизни нантской вдовы, причем, чтобы не объяснять изменения в характере и поступках героини, Ж. Верн прибегает к оригинальному решению: временно лишает ее рассудка. Этот ход дает возможность провести тонкий анализ помраченного разума, а вопрос сей очень занимал амьенского мэтра на склоне лет...
Придя в себя, Долли первым делом берется за поиски погибшего мужа (это уже прямое сходство с Джейн Франклин) и одновременно организует детский приют (последнее совпадение с судьбой мадам Самбен).
Итак, вдохновившись примером супруги английского капитана, Долли возвращается к прежней активной жизни и готова потратить состояние, чтобы только найти следы мужа и его товарищей. Но, к сожалению, все ее усилия тщетны. Безрезультатно проходит месяц за месяцем, а «надежда не может бесконечно противостоять разрушительному действию времени». Неужели Долли ожидает судьба Джейн или мадам Самбен?
Но роман — не жизнь. К тому же верновские читатели свыклись со счастливой концовкой его произведений, и автор не собирался нарушать эту традицию. Но, кажется, впервые в своем творчестве убежденный материалист Ж. Верн не может найти выход из ситуации, в которую попала Долли, без помощи Всевышнего: «То, что не под силу людям, всегда под силу Господу Богу. На него должен уповать человек, когда его собственные возможности исчерпаны». Подобные мысли, очевидно,— след острейшего физического и психологического кризиса, пережитого литератором в конце восьмидесятых годов.
Но на Долли Бреникен поиски идеальной спутницы жизни для настоящего мужчины не останавливаются. В романе изображена и вторая неразлучная пара: Джейн, кузина Долли, и ее муж Лен Баркер, основной носитель зла. Привязанность Джейн к негодяю Баркеру объясняется страхом и материальной зависимостью. Хотя такая «верность» нередко встречается в жизни и по-своему интересна для литератора, Ж. Верн не считает ее приближением к идеалу, а потому осуждает, «приговаривая» Джейн Баркер к смерти.
Работа над романом «Миссис Бреникен» шла в 1889— 1890 годах, а в январе — декабре 1891 года новое верновское сочинение появилось на страницах этцелевского журнала «Магазэн д’эдюкасьон». Тогда же вышли два книжных издания романа.
Можно было бы сказать, что поиски идеальной женщины Жюль Верн продолжает и в новелле «Мартин Пас», если бы последняя не была написана на четыре десятка лет раньше романа о Долли Бреникен — в самом начале 1850-х годов. (Впервые рассказ был опубликован в июльском номере журнала «Мюзе де фамий» за 1852 год. Тогда он назывался несколько иначе: «Перуанские нравы. Мартин Пас. Историческая новелла». Позднее, в 1875 году, был издан переработанный вариант рассказа.)
В этом произведении авторское внимание сосредоточено на истории любви молодого индейца к красавице Сарре, воспитаннице торговца-еврея, разбогатевшего на сомнительных операциях. Правда, в конце концов девушка оказывается дочерью испанского аристократа. Писатель наделяет ее привлекательной внешностью, Сарра нежна и грациозна, а в трудные часы испытаний проявляет незаурядное мужество. В глазах ревностных католиков, читателей добропорядочного семейного журнала, важнейшей добродетелью юной героини стала ее приверженность христианской вере. Однако яркого, цельного образа у писателя не получилось, хоть, как сообщал Жюль в письме отцу, в журнале рассказ «вообще понравился, а конец истории, по-видимому, как раз такой, какого хотели бы читатели»[348].
«Мартин Пас» написан в традициях романтической драмы (недаром же автор был близко знаком с Александром Дюма, одним из ее создателей) с ее четким делением на положительных и отрицательных героев, с непременным любовным треугольником, с конфликтом в душе героя между долгом и чувством, с перенесением действия в далекие края... Последнее, пожалуй, больше всего привлекло Ж. Верна. Успех новеллы «Первые корабли мексиканского флота» показал молодому автору, на каком литературном поприще его поджидает слава. В середине XIX века европейцы активно переселяются на другие континенты. Повсюду, «от Пешавара до Гибралтара», если вспомнить слова Бертольда Брехта, возникают поселения белого человека. Естественно, и у рабочего, и у мелкого буржуа, и у представителей верхних слоев французского общества пробуждается интерес к далеким странам. Жюль Верн почувствовал, что он призван удовлетворить такой интерес. Конечно, новелла во многом несовершенна: место и время действия, занятия героев выбраны случайно; перуанские реалии поверхностны; индейские персонажи действуют подобно корсиканским или сицилийским горцам; часто ситуации надуманны. В сущности, действие «Мартина Паса» могло бы происходить в любом уголке земли и никак не соотносится с реальными событиями конца 1820-х годов на Южноамериканском континенте. Чувствуется, что писатель еще не поднаторел в красочном описании далеких стран. Зрелый Ж. Верн, несомненно, повел бы своих героев дальше, вниз по Мадейре, к великой Амазонке, к спасению и счастливому концу. Молодой же автор пока не находит в себе сил для большого приключенческого романа. Именно поэтому Верн-внук впоследствии будет считать искусственной развязку этой многообещающей новеллы[349]. Однако надо повторить, что такой финал вполне соответствовал вкусам заказчика — редактора журнала «Мюзе де фамий». Современный же читатель, прочтя вводную сноску постоянного верновского издателя П.-Ж. Этцеля, поймет, что переиздание ранней вещи Ж. Верна обусловлено только одной целью: показать первые шаги будущей знаменитости ко всеобщему признанию.
Может быть, стоит еще напомнить, что в зрелые годы Жюль Верн щедро пользовался идеями своей литературной юности. В новелле «Мартин Пас» читатель впервые встречается со столь популярной впоследствии у знаменитого писателя фабулой: чудесное спасение при кораблекрушении. В данном случае речь идет о спасении ребенка с тонущего судна и воспитании его спасителем. Именно этот момент лег в дальнейшем в основу романа «Найденыш с погибшей «Цинтии».
Рассказ «Господин Ре-диез и госпожа Ми-бемоль» впервые был опубликован в рождественском номере газеты «Фигаро иллюстре» за 1893 год. Позднее, в 1910 году, новелла переиздается в сборнике «Вчера и завтра» с правкой сына писателя Мишеля.
Эта рождественская сказка (редкий для Ж. Верна жанр!) сопоставима с другим более ранним его произведением — «Семейством Ратон». Только в «Ратонах» изначальная заданность судьбы всякого живого существа определялась формой и длиной хвоста, тогда как в новой сказке ее диктует «физиологичная нота».
По предположению автора, высшая гармония между людьми достигается при совпадении таких нот у разнополых существ. Совпадение это обозначено уже в самом названии рассказа, поскольку в классической гармонии ре-диез и ми-бемоль — одно и то же. Но долгий жизненный путь убедил писателя: идеала в браке нет. Оказывается, между «физиологичными нотами» Йозефа Мюллера и Бетти Клер существует различие. Малоощутимое, но различие! Собственно говоря, этот крошечный интервал, комму, далеко не все могут услышать, но для писателя важно само его существование. Вот, кажется, две половинки пары, звучащей в одном тоне, нашли друг друга. Казалось бы, им уготовано полное согласие в жизни, но нет! Крошечная разница нарушает (и разрушает?) гармонию душ.
Йозеф и Бетти все же поженятся. Этим писатель предлагает искателю идеала путь компромисса: мелкие расхождения несущественны, и не надо обращать на них внимания.
Внешне простенькая рождественская сказка содержит необыкновенно богатый подтекст. Исследователи открывают в нем множество морально-этических и психологических проблем, поставленных и решаемых на передовом (для того времени) научном уровне. Не занимаясь сейчас их анализом, заострим внимание читателя только на одном вопросе.
Жюля Верна нередко (и не всегда обоснованно) называют генератором различных научно-технических идей, определивших пути развития человечества, и почти не обращается внимания на художественные предвидения писателя. А в рождественском рассказе «Господин Ре-диез и госпожа Ми-бемоль» мы как раз имеем дело с подобным предсказанием. Проблема мелкого интервала, восьмой или девятой доли тона, в сущности, отражает возникшее у музыкантов конца прошлого века сомнение в адекватности передачи звука в музыке только с помощью европейского двенадцатиступенчатого звукоряда, составленного из тонов и полутонов. Вряд ли можно утверждать, что Жюль Верн сам пришел к идее выйти за пределы такого звукоряда, но его друзья-музыканты определенно затрагивали этот вопрос в дружеских беседах. Реально же малый интервал был использован в музыке полвека спустя: Пьер Булез в своем вокально-симфоническом произведении «Visage nuptiale»[350] применил интервал в четвертую долю тона.
Написанная почти в одно время с «Мартином Пасом» новелла «Мастер Захариус» тоже посвящена поиску идеала, но уже не женского. Автор дал очень важный подзаголовок своему «странному» (по выражению Жана Жюль-Верна) детищу: «Часовщик, погубивший свою душу». «Рассказ этот примечателен во многих отношениях: фантастический, как сказка Гофмана, он представляет собой переплетение положительных моральных утверждений, странных фактов, поэтических порывов и размышлений, напоминающих манеру Эдгара По. Тут впервые возникает тема науки, однако лишь для того, чтобы предостеречь нас от греха гордыни»[351]. Впервые в своем творчестве писатель задумывается над вопросом об отношении художника (в широком смысле слова) к своему творению. Бесспорно, произведение искусства стоит его создателю части души. Но существует ли обратная связь между произведением и автором по окончании творческого процесса? Во время создания новеллы Жюль не был безусловным материалистом. И в первом варианте «Захариуса», напечатанном в 1854 году в журнале «Мюзе де фамий», религиозной морали отведено куда большее место — то ли в угоду редакции, то ли как уступка верующему отцу. В той ранней редакции женевский часовщик все же признает верховенство Бога, «склонившись» перед Святыми дарами. К 1874 году, когда появился книжный (окончательный) вариант рассказа, религиозные убеждения Жюля Верна претерпели значительные изменения. Безмерное восхищение писателя научным прогрессом вступает в явное противоречие с верой, налагающей стесняющие ограничения на человеческий интеллект. Жан Жюль-Верн подмечает, что у деда в то время появляется «нечто вроде угрызений совести из-за того, что {он) так высоко ценит человеческое познание».
Столкновение идеалистических и позитивистских идей вызвало в XIX веке драму в душах многих активно мыслящих людей. Жюль Верн сравнительно легко пережил подобную коллизию, свидетельством чему может как раз стать именно эта «гофмановская» новелла. Она «представляет собой обвинительный акт не столько против самой науки, сколько против пристрастия, которое она способна вызывать у тех, кто приписывает ей чрезмерные притязания. Не приходится удивляться тому, что эти вновь приобретенные познания получают некий метафизический резонанс. Ведь предельная цель науки — внести некую ясность в спор между человеком и вселенной и облегчить уразумение первопричин»[352].
Урок скромности, преподнесенный гениальному часовому мастеру, был, очевидно, полезен прежде всего самому писателю. Отныне его будет главным образом занимать «драматический конфликт человека, стремящегося властвовать над подавляющими его силами природы»[353]. В сущности, сюжеты всех многочисленных романов Жюля Верна можно рассматривать как разнообразные вариации именно этой темы.
Рассказ «Вечный Адам» был впервые напечатан в посмертном сборнике «Вчера и завтра» (1910[354]). Публикация предварялась лаконичным пояснением Мишеля Верна: «Написанная Жюлем Верном в последние годы его жизни и до сих пор не изданная, новелла эта особенна тем, что приводит к заключениям достаточно пессимистичным, противоположным гордому оптимизму, одушевлявшему «Необыкновенные путешествия». Действительно, размышляя над будущим человечества, писатель за исходный пункт взял катастрофическую гипотезу, модную на рубеже веков среди представителей наук о Земле. Теперь большинство специалистов, геологов и геофизиков, не разделяет подобных взглядов. Больше того, выяснилось, что крупномасштабное погружение материкового блока в пучины океана физически невозможно: континентальная земная кора легче океанической. Но нас здесь интересует не соответствие научных' воззрений великого писателя истине, а эволюция его взглядов на судьбы переживших катастрофу людей. Если прежде Верн, изображая жизнь спасшихся от кораблекрушения, активно помогал своим героям, наделяя их невероятной активностью, изобретательностью, находчивостью и деловитостью, то теперь, в конце литературного пути, усталый мэтр отказывается от вроде бы уже общепринятого тезиса, что именно созидательный творческий труд сформировал человека. Герои «Вечного Адама» не погибают в аномальных условиях; они выдерживают борьбу с немилосердной природой. Как биологический вид человечество сохраняется, но спасенные от физической гибели люди вырождаются, деградируют умственно, опустившись на много ступеней вниз по эволюционной лестнице. Подобный вывод приложим, естественно, не только к случаю мифических естественных катастроф. Его вполне допустимо использовать и в применении к прогнозам техногенных бедствий. Поэтому рассказ стоило бы рассматривать как предостережение большого мудрого писателя тем бездумным и бездушным людям (видимо, не в последнюю очередь — политикам), которые в своем необузданном эгоизме готовы подвергнуть мир опасности рукотворных катастроф.
Изложенные в рассказе идеи вполне справедливо рассматривать как один из заветов дерзновенного фантаста людям грядущего века.
Отметим еще, что некоторые, особенно новейшие, биографы «амьенского классика» прямо приписывают «Вечного Адама» сыну писателя Мишелю (такова, например, точка зрения Оливье Дюма). Другие (П. Костеллоу) выражаются осторожнее, увидев в новелле «холодное отрицание вечного Бога», что служит для них очевидным доказательством полного разрыва писателя с верой предков. Возможно, одно из последних верновских творений было только отредактировано сыном, хотя правка могла оказаться и очень существенной.
Том дополняют еще две миниатюры писателя.
«Хиль Бралтар» опубликован в 1887 году. Это — то, что французы называют «анекдот», красочно рассказанное действительное или мнимое происшествие, поданное в характерной для общей антианглийской направленности творчества Верна тех лет манере.
«На дне океана» занимает совершенно особое место в настоящем собрании сочинений. Рукопись рассказа до сих пор не найдена; во французских монографиях, посвященных знаменитому писателю, он не упоминается вовсе. Тем не менее в России в конце XIX века произведение это публиковалось не раз, хотя и под разными названиями. Впервые оно появилось в 1890 году в журнале «Всемирная иллюстрация» (№ 9) под заглавием «Курьерский поезд будущего» и в журнале «Вокруг света» (№ 31) — «Через океан». Позднее журнал «Природа и люди» (1893, № i) озаглавил рассказ «На дне океана», а читателям газет Санкт-Петербурга и Самары он стал известен как «Будущие поезда». Видный советский исследователь верновского творчества Е. Брандис, сличив тексты этих публикаций, пришел к выводу, что они являются различными переводами одного и того же оригинала. Разумеется, ему трудно было вести поиски подлинника, но Брандис не сомневался, что это именно переводы, а не мистификации и не ошибка. Близкое по времени появление текстов, переведенных разными людьми, исключало возможность подделки. Кроме того, рассуждал исследователь, идея пневматического поезда, курсирующего в подводном туннеле между Европой и Америкой, содержалась в рассказе «Один день американского журналиста в 2889 году», написанного — как это теперь убедительно доказано — сыном писателя Мишелем Верном при непосредственном участии самого мэтра научной фантастики. Одна из американок XXIX века, жена газетного магната Беннета, ездит по пневматической подводной трубе «за шляпками» в Париж. «Один день...» вышел в 1889 году на английском языке в США и в 1890 году — на французском на родине писателя. Возможно, в публикуемом рассказе обыгрывается уже использованный однажды сюжетный ход — теперь скорее в юмористическом виде, поскольку фантастическое содержание произведения оказывается сном.
Из найденных текстов Е. Брандис выбрал наилучший (по литературным достоинствам) — перевод М. Круковского, опубликованный в журнале «Природа и люди»; этот перевод и воспроизводится в настоящем издании.
А. МОСКВИН
Примечания
1
«Франклин». — В названии судна увековечен Бенджамин Франклин (1706—1790) 5 американский просветитель, ученый, государственный деятель, философ. Один из авторов Декларации независимости США (1776) и Конституции 1787 года. Естествоиспытатель, положивший начало исследованию атмосферного электричества, изобретатель молниеотвода (неправильно называемого в России громоотводом) . Почетный член Петербургской Академии Наук (1789).
(обратно)2
Шхуна — судно с косыми или прямыми (в XIX в.) парусами, имеющее как правило, фок-мачту (передняя), грот-мачту (средняя, самая высокая) и бизань-мачту (задняя).
(обратно)3
Водоизмещение — количество воды, вытесняемое плавающим судном и равное весу самого судна.
(обратно)4
Кливер, бизань, марсель, брамсель — различные виды парусов.
(обратно)5
Форштевень — массивная часть судна, являющаяся продолжением киля (прочной связи в основании корпуса судна по всей его длине) и образующая носовую оконечность корабля, «режущую» воду. Кормовой подзор — подводный уступ в задней части судна (корма бывает также круглой и прямой).
(обратно)6
Рангоут — все деревянные или стальные трубчатые части вооружения (оснащения) судна для постановки парусов, сигнализации, поддержания мачт, грузовых стрел и других вертикальных частей. Снасти — тросы и канаты, вырубленные по размерам, с заделанными концами; в целом составляют такелаж судна.
(обратно)7
Клипер — особо быстроходное океанское судно, существовало до конца XIX в., использовалось для дозорной и посыльной службы, перевозки особо ценных грузов.
(обратно)8
Калькутта — город и порт в Индии, крупнейший торговый центр.
(обратно)9
Сингапур — столица и порт одноименного государства на острове того же названия в Юго-Восточной Азии.
(обратно)10
Шлюпка — гребная лодка, висящая на борту корабля и спускаемая на воду в случае надобности.
(обратно)11
Сокращенное от Доротея. (Примеч. авт.)
(обратно)12
Лейтенант — в торговом флоте США и некоторых других стран младший из трех (после капитана и его помощника) лиц командного состава (до XIX в. включительно).
(обратно)13
Швартов — канат, которым судно привязывают к пристани, берегу, другому судну.
(обратно)14
Миля — путевая мера длины; географическая — 7420 м., морская — 1852 м. (принята во всех государствах).
(обратно)15
Боцман — первый среди младшего командного состава судна, в его обязанности входит содержание корабля в чистоте, руководство общекорабельными работами, обучение команды морскому делу.
(обратно)16
Трап — деревянная лестница на судне.
(обратно)17
Бак — здесь: носовая часть верхней палубы судна, а также надстройка на ней, называемая иногда полубаком.
(обратно)18
Клюз — отверстие в борту судна для выпуска за борт и выборки назад якорного каната с прикрепленным к нему якорем.
(обратно)19
Брейд-вымпел — флаг особой формы и рисунка, поднимаемый на грот-мачте в знак того, что на борту судна находится старший начальник.
(обратно)20
Клотик — толстый кружок, или сплюснутый шар, прикрывающий от дождя верхний срез мачт и других вертикальных сооружений на корабле; термин употребляется и в значении «самая верхняя точка судна».
(обратно)21
Гафель — рангоутное дерево, прикрепленное к мачте с задней стороны под углом; служит для прикрепления верхней кромки паруса.
(обратно)22
Стаксель — треугольный парус, поднимаемый впереди мачты к носу судна.
(обратно)23
Рубка — закрытая надстройка на мостике или верхней палубе судна с находящимися там служебными помещениями.
(обратно)24
Целебес — современное название этого острова Сулавеси.
(обратно)25
Котировка — биржевая цена ценных бумаг и товаров.
(обратно)26
Кузина — двоюродная сестра.
(обратно)27
Перевод М. Ивановой.
(обратно)28
Шкаторина — кромка паруса, обшитая очень гибким тросом.
(обратно)29
Бухта — небольшой залив, более или менее врезанный в глубь суши, защищенный от ветра и волнений.
(обратно)30
Грот — здесь: самый нижний парус на второй мачте.
(обратно)31
Фок — нижний прямой парус на передней мачте.
(обратно)32
Бакштаг — здесь: курс парусного судна, когда ветер дует сзади и сбоку.
(обратно)33
Галс — курс судна относительно ветра, например: судно идет левым галсом, когда ветер дует в левый борт.
(обратно)34
Кабельтов — морская мера длины, равная 185,2 м., или 1/10 морской мили.
(обратно)35
Гавань — защищенная от ветра, волн и течений прибрежная часть водного пространства, используемая для стоянки, ремонта и зимовки судов.
(обратно)36
Фарватер — путь для безопасного прохода судов, огражденный, как правило, сигнальными знаками.
(обратно)37
Гризли — крупный американский серый медведь.
(обратно)38
Янки — прозвище американцев, уроженцев Новой Англии.
(обратно)39
Новая Англия — название исторически сложившегося района в северо-восточной части США, включающего шесть штатов. Главный экономический центр — крупный промышленный город Бостон.
(обратно)40
Свояк — муж сестры жены (свояченицы).
(обратно)41
В XVI в. началась колонизация Северной Америки европейцами, наиболее успешно осуществлявшаяся Англией. Экономическая, классовая, национальная борьба между странами-колонизаторами привела к Войне за независимость (1775—1783). По Версальскому мирному договору 1783 года Англия признала независимость государства США, образованного в 1776 году. Во владении Англии остались лишь Канада (в 1867 г. получившая самоуправление) и Колумбия Британская, вошедшая в 1871 году в состав Канады.
(обратно)42
Конфедерация — союз государств, сохраняющих независимое (суверенное) существование, но объединенных некоторыми общими органами. В частности, в 1781—1787 годах конфедерацией являлись США (до принятия Конституции).
(обратно)43
Сепаратизм — движение национальных меньшинств за образование самостоятельного государства; иногда — напротив, стремление большинства «избавиться» от меньшинства.
(обратно)44
Англосаксы — общее название германских племен англов, саксов, ютов и фризов, захвативших в V—VI вв. Британию. Положили начало английской народности.
(обратно)45
Муниципалитет — городское или сельское самоуправление.
(обратно)46
Эскадра — крупное соединение кораблей.
(обратно)47
Фут — мера длины, равная 12 дюймам, или 30,479 см.
(обратно)48
Нормандия — северная, Прованс — юго-восточная исторические области Франции.
(обратно)49
Агломерации — здесь: экономические объединения населенных пунктов, предприятий.
(обратно)50
Вилла — загородный дом, дача.
(обратно)51
Шпангоуты — ребра судна, к которым крепится его наружная обшивка.
(обратно)52
Киль — основная продольная днищевая балка на судне, идущая вдоль от носовой до кормовой оконечностей; к нему крепятся шпангоуты, днище, форштевень.
(обратно)53
Кокора — нижняя часть ствола хвойного дерева вместе с перпендикулярным ему крупным корнем; идет на постройку деревянных судов.
(обратно)54
Кубрик — жилое помещение для судовой команды (когда она не размещается в каютах).
(обратно)55
Ют — кормовая часть верхней палубы судна.
(обратно)56
Шале — небольшой загородный дом, как правило, изысканно-простого стиля.
(обратно)57
Двуколка — двухколесная повозка.
(обратно)58
Судовой журнал — ведется вахтенным штурманом, в журнал записываются все события, происходящие во время плавания.
(обратно)59
Карантин — осмотр судов, экипажей, пассажиров, товаров, прибывающих из местностей, где есть какая-нибудь эпидемия, также — время, отводимое на это мероприятие.
(обратно)60
Таможня — государственное учреждение, контролирующее провоз гр\зов, почты, багажа через границу.
(обратно)61
Бриз — ветер, из-за неодинакового нагревания суши и моря дующий днем с моря на побережье, а ночью — с побережья на море.
(обратно)62
Мулаты — потомки от смешанных браков белых и негров.
(обратно)63
Амфитеатр — здесь здания, расположенные на уступах по склонам холмов.
(обратно)64
Баркас — небольшие весельные и самоходные суда различного назначения (буксиры, грузовые, пассажирские, спасательные).
(обратно)65
Банка — сиденье (скамейка) для гребцов на мелких беспалубных судах (лодках).
(обратно)66
Лье — старинная французская мера длины, морское лье составляет около 5,5 км.
(обратно)67
Пирс — сооружение для причаливания судов с двух сторон.
(обратно)68
Румб — здесь: единица угловой меры, равная 1/32 доле окружности.
(обратно)69
Бейдевинд — курс парусного судна против ветра, при котором угол между диаметральной плоскостью корабля и направлением ветра не превышает 90°, если же этот угол составляет менее 67,5°, курс называют крутым бейдевиндом.
(обратно)70
Траверз — направление, перпендикулярное ходу судна.
(обратно)71
Градусы долготы и широты — углы между плоскостью начального меридиана и меридиана данного места; между экватором и широтой данного места; скрещение этих точек определяет положение объекта на поверхности земного шара.
(обратно)72
Фор-стень-стаксель — один из косых парусов, ставящихся позади мачты.
(обратно)73
Бригантина — легкое двухмачтовое судно с косыми парусами на задней и прямыми — на передней мачте.
(обратно)74
Штурвал — рулевое колесо для управления судном.
(обратно)75
Планширь — брус, проходящий по верхнему краю бортов.
(обратно)76
Опекун — лицо, которому вверено наблюдение за недееспособным (малолетним, душевнобольным и т. п.) человеком, а также забота о его правах, обеспечении, воспитании, сохранности имущества и проч.
(обратно)77
Торнадо — сильный ураган в тропических широтах.
(обратно)78
Провидение — Высшее существо, Бог, а также Его деяния.
(обратно)79
Риф — подводные или мало выдающиеся над уровнем моря скалы, препятствующие судоходству.
(обратно)80
Батавия — административный центр Нидерландской Вест-Индии; ныне — город Джакарта, столица Индонезии.
(обратно)81
Малайзия — государство в Юго-Восточной Азии, входит в британское Содружество. Омывается Южно-Китайским морем. Основное население — малайцы и китайцы. Начало ведет от государств, образовавшихся здесь в начале н. э. В конце XVIII — начале XX вв. эти земли находились под английским владычеством.
(обратно)82
Прерии — обширные равнинные степные пространства умеренной климатической области Северной Америки.
(обратно)83
Дефицит — недостаток, нехватка, убыток, превышение расхода над доходом.
(обратно)84
Рикошет — отскакивание снаряда, пули и т. д. под некоторым углом от поверхности, о которую ударяется снаряд (пуля).
(обратно)85
Шезлонг — кресло или диванчик с покатой спинкой и удлиненным сиденьем.
(обратно)86
Католицизм — одно из направлений христианского вероучения.
(обратно)87
Приход — верующие, обслуживаемые данной церковью; прихожанин, прихожанка — члены прихода.
(обратно)88
Месса — церковная служба в католическом храме.
(обратно)89
Интерьер — архитектурно и художественно оформленное внутреннее пространство здания.
(обратно)90
Алтарь — часть христианского храма, где находится престол, т. е. высокий стол с предметами для богослужения.
(обратно)91
Апсида — полукруглая, иногда многоугольная выступающая часть храма, перекрытая сводом.
(обратно)92
Спазм(а) — длительная судорога определенной мышцы или мышечной группы.
(обратно)93
Туземный — местный, коренной.
(обратно)94
Франклин Джон (1786—1847) — английский полярный исследователь, погиб, возглавляя экспедицию, отправленную на поиски Северо-западного прохода.
(обратно)95
Неточность автора: Бенгальский залив (окраинное море Индийского океана) расположен гораздо дальше к западу, а здесь речь идет об Андаманском море; цепочка Никобарских и Андаманских островов отделяет это море от Бенгальского залива.
(обратно)96
Малезия — старое название островной области между Азией и Австралией; то же, что и Малайский архипелаг; включает в себя Индонезию и Филиппины, но в XIX веке французские географы нередко относили сюда же и западные районы Океании.
(обратно)97
Каролинского моря не существует; речь идет либо об уже упоминавшемся Филиппинском море, либо о Каролинских котловинах собственно Тихого океана.
(обратно)98
«Dolly-Hope» — «Долли-Надежда». (Примеч. перев.)
(обратно)99
Бункер — здесь: помещение для угля на судне.
(обратно)100
Узел — единица скорости судна, равная одной морской мили в час, или 1,852 км/ч.
(обратно)101
Миссионер — религиозный проповедник из развитых стран, ведущих духовное воспитание среди населения отсталых регионов Земли.
(обратно)102
Отдиа — устарелое название острова Вотье; на русских картах этот остров долгое время обозначался как остров Румянцева (название, данное Коцебу в память знаменитого полководца).
(обратно)103
Коцебу Отто Евстафьевич (1788 —1846), русский мореплаватель, провел два кругосветных путешествия, открыл ряд островов в Тихом океане, залив на Аляске.
(обратно)104
Мелгэв — сейчас этот атолл называется Милли.
(обратно)105
Пирога — узкая и длинная лодка у народов тихоокеанских островов, обычно выдалбливаемая или выжигаемая из целого древесного ствола.
(обратно)106
Бриг — двухмачтовое судно с прямыми парусами.
(обратно)107
Уэланг — сейчас этот остров называется Уджеланг.
(обратно)108
Архипелаг — совокупность большого числа отдельных островов или групп их, близко лежащих друг от друга.
(обратно)109
Очевидное недоразумение, ибо упомянутый архипелаг расположен между 1—10° северной широты и 131—163° восточной долготы (Большая Советская Энциклопедия, 3-е изд.).
(обратно)110
Литке Федор Петрович (1797—1882) — русский мореплаватель и географ, президент Петербургской Академии Наук, адмирал, полярный исследователь, руководитель кругосветного плавания (1826—1829).
(обратно)111
Дюперре Виктор Ги (1775—1846) — французский адмирал, морской министр, мореплаватель, исследователь.
(обратно)112
Дюмон-Дюрвиль Жюль Себастьен Сезар (1790—1842) — французский мореплаватель, совершил три кругосветных плавания, изучил побережья Новой Зеландии, Новой Гвинеи, проливы Торреса и Кука, сделал множество географических открытий, автор капитальных научных трудов.
(обратно)113
Мателотас — современное название этой группы — Нгулу.
(обратно)114
Ална — сейчас этот остров называется Пуло-Анна.
(обратно)115
Лорд-Норт — на старых русских картах этот остров назывался Лорд-Норсли-Невиль; современное его название — Тоби.
(обратно)116
Кораллы, коралловые полипы — морские животные с известковыми скелетами, из которых в мелководье тропических морей образуются коралловые рифы, в том числе кольцеобразные атоллы.
(обратно)117
Д’Антркастро Жозеф Антуан (1739—1793) — французский мореплаватель, обследовал берега Австралии, сделал ряд открытий, провел географические съемки. Участвовал в поисках Лаперуза.
(обратно)118
Лаперуз Жан Франсуа (1747—1788?) — французский мореплаватель, в 1785—1788 годах руководил кругосветной экспедицией, открыл пролив, названный его именем. Экспедиция пропала без вести, выйдя из Сиднея (Австралия), ее остатки найдены в 1826, 1828 и 1964 годах.
(обратно)119
Магеллан Фернан (около 1480—1521) — португалец, экспедиция которого совершила первое в истории кругосветное плавание (1519—1521). Открыл Филиппинские острова, где был убит в схватке с местными жителями.
(обратно)120
Султан — титул монархов в некоторых мусульманских странах.
(обратно)121
Алькальд — в Испании, ее владениях и странах Латинской Америки — старшина общины, судья.
(обратно)122
Каннибализм — людоедство.
(обратно)123
Фальконет — пушка малого калибра, употреблявшаяся преимущественно для вооружения небольших гребных судов.
(обратно)124
Борнео — современное название этого острова — Калимантан.
(обратно)125
Бевуан — современное название порта — Холо.
(обратно)126
Дату — название управляющего из местных жителей на небольших островах Малезии.
(обратно)127
Банджармасин — порт в устье р. Барито.
(обратно)128
Зоофиты — животно-растения (например, кораллы, различные полипы и проч.). Прикреплены к месту, не передвигаются, питаются животной пищей.
(обратно)129
Моллюски — мягкотелые животные, слизняки, в большинстве покрытые раковинами.
(обратно)130
Думаринг — современный порт Самаринда на восточном побережье острова Калимантан (Борнео).
(обратно)131
Тарантул — название различных виде» ядовитых пауков.
(обратно)132
Морские реестры — книга, ведущиеся в портах, где учитываются все прошедшие суда, их маршрут, наличие груза, состав команды и прочие данные.
(обратно)133
В XVII в. Нидерланды, одна из передовых европейских держав приступила к широким колониальным захватам. В результате образовалась колониальная «Нидерландская Индия»; в ее столице Батавии, на острове Ява, находился голландский генерал-губернатор. Сам остров был поделен на 20 административных областей — регентств; мелкими островами управляли резиденты.
(обратно)134
Зондский пролив соединяет Яванское море с Индийским океаном. Тиморское и Яванское моря непосредственно не соединяются; между ними находится ряд мелких межостровных морей.
(обратно)135
Фактория — торговая контора и поселение, организуемые европейскими купцами в колониальных странах.
(обратно)136
Упомянутые острова «ограничивают с юга» другое море — Серам.
(обратно)137
Остров Джилоло больше известен под другим местным названием — Хальмахера.
(обратно)138
Семафорная служба (сигнализация) на кораблях и в портах — система оповещения на коротких расстояниях с помощью звуковых знаков, фонарей, разноцветных флажков и комбинации этих средств.
(обратно)139
Оснастка судна — весь такелаж, т. е. совокупность деревянных, металлических, пеньковых частей, поддерживающих различные детали и приспособления и управляющие ими на судне.
(обратно)140
Юнга — подросток на судне, готовящийся стать матросом и обучающийся морскому делу.
(обратно)141
Тик (тиковое дерево) — растет в районах Индии, Индонезии. Ценная древесина используется в £удо- и вагоностроении, сооружении жилищ, изготовлении мебели.
(обратно)142
Орнамент — живописное, графическое или скульптурное украшение, художественно оформляющее предметы, архитектурные сооружения и др.
(обратно)143
Бассейн — здесь: площадь водного пространства, на котором располагается данная группа островов.
(обратно)144
Впередсмотрящий — вахтенный матрос на баке (носу корабля), наблюдающий за всем, что происходит по курсу судна.
(обратно)145
Это утверждение неверно на самом деле ширина Торресова пролива достигает 100 миль, то есть почти 200 км.
(обратно)146
Прао — легкие лодки индонезийцев, похожие на пироги
(обратно)147
Банка — здесь отдельно лежащая в море мель или отдельно расположенное возвышение морского дна.
(обратно)148
Конфигурация здесь внешнее очертание.
(обратно)149
Негроидная раса — народы и племена Африки их характерные признаки темная кожа курчавые волосы, широкий нос, толстые губы сильное выступление вперед лицевого отдела черепа.
(обратно)150
Аборигены — коренные жители какой-либо территории, страны Австралийские аборигены относятся к негро-австралоидной расе. Они, по всей видимости, прибыли из Южной Азии примерно за 10 тысяч лет до н. э. Тяжелые природные условия и оторванность от остального мира затруднили развитие австралийских племен, которые к моменту начала европейской колонизации — конец XVIII века — находились на уровне охотничьего и собирательского хозяйства, не знали земледелия и скотоводства В указанный период численность аборигенов составляла 250—300 тысяч человек, к середине XX века сократилась в 5—6 раз, значительная часть их и поныне находится в резервациях, т. е районах насильственного поселения.
(обратно)151
Трепанги — морские беспозвоночные червеобразные животные («морские огурцы»), употребляются в пищу в Китае и Японии.
(обратно)152
Абордаж — сцепление крючьями гребных или парусных судов для рукопашного боя.
(обратно)153
Дрейфовать — перемещаться под воздействием ветра или течения без помощи какого-либо двигателя.
(обратно)154
Качка судна: килевая — с носа на корму и обратно; бортовая — с одного борта на другой. Бывает качка смещенная, самая опасная.
(обратно)155
Лабиринт — сложное, запутанное расположение помещений, переходов, дорог и т. п.
(обратно)156
Эти и другие имена, как-то: Монталиве, Маре, Шампани, Ласепед, Буало, Латуш-Тревиль, Лагранж — достаточно говорят о том, какое участие приняли французские мореплаватели в исследовании этих берегов. (Примеч. автора.)
(обратно)157
Эстуарий — расширенное воронкообразное устье реки, образованное в результатe наступления моря на сушу, размывающего действия прилива, морских течений.
(обратно)158
Бурун — пенистая волна.
(обратно)159
Рей, рея — поперечное дерево у мачты, к которому подвешивается верхней кромкой прямой парус.
(обратно)160
Ванты — снасти — оттяжки из троса, которыми производится боковое крепление мачт.
(обратно)161
Купы — деревья, стоящие группами, часто сливаясь вершинами в единое целое.
(обратно)162
Плато — возвышенная равнина, поднимающаяся более чем на 200 м. над уровнем моря.
(обратно)163
Норд-вест — северо-запад, название сторон света, а также соответствующих ветров).
(обратно)164
Рейд — здесь: водное пространство вблизи берега, удобное для якорной стоянки судов.
(обратно)165
Ярд — английский мера длины, равная 0,9144 м., делится на три фута.
(обратно)166
Мадрепоровое образование — колонии некоторых видов коралловых полипов, образующие коралловые рифы.
(обратно)167
Кортик — холодное оружие, прямой тонкий кинжал с обоюдоострым клинком; предмет формы одежды морских офицеров различных государств.
(обратно)168
Мануфактура — здесь: промышленное производство, основанное на коллективном ручном труде и детальном его разделении внутри мастерской.
(обратно)169
Ямс — тропическое растение со съедобными подземными клубнями.
(обратно)170
Батат (сладкий картофель) — съедобное растение, используется и в пищевой промышленности.
(обратно)171
Акр — мера земельной площади в Англии и Северной Америке, равная 4047 кв. м.
(обратно)172
Шкив — колесо блока для подъема тяжестей.
(обратно)173
Рым — металлическое кольцо, продетое в отверстие в головке болта, винта и т. п.
(обратно)174
Ростр — здесь: запасные рангоутные деревья на судне.
(обратно)175
Транцы — поперечные доски, образующие плоскую корму на судах, шлюпках.
(обратно)176
Фальшборт — легкая обшивка судна выше верхней палубы.
(обратно)177
Грот — здесь: естественная или искусственная пещера.
(обратно)178
Патина — налет зеленого бурого или синего цвета, образующийся со временем на предметах из бронзы.
(обратно)179
Тайфун — вихреобразный ветер, буря большой разрушительной силы.
(обратно)180
Киянка — деревянный жестяницкий и плотницкий молоток.
(обратно)181
Нагель — здесь: деревянный гвоздь, которым скрепляют части деревянных судов.
(обратно)182
Становой якорь — главный якорь, на который становится судно (имеются еще вспомогательные.
(обратно)183
Сидней — крупный промышленный и административный центр в Австралии, порт.
(обратно)184
Центральная Австралия — наименее благоприятная по природно-климатическим условиям, слабо заселенная часть континента.
(обратно)185
Консилиум — совещание врачей для обсуждения состояния больного, уточнения диагноза и способов лечения.
(обратно)186
Земля Тасмана — выступ материка Австралии на севере штата Западная Австралия. Сильно расчлененное побережье между заливами, плоскогорье, плато, низменность делают этот район труднопроходимым. Назван в честь Абеля Янсзона Тасмана (1603—1659), голландского мореплавателя, исследователя Океании и Австралии.
(обратно)187
Пакетбот — устарелое название грузопассажирского судна.
(обратно)188
Лессепс Фердинанд Мари (1805—1894) — французский дипломат, предприниматель. В 1859—1869 годах руководил строительством Суэцкого канала, соединившего Средиземное и Красное моря, в 1879—1889 годах — Панамского канала, открывшего кратчайший путь из Атлантического в Тихий океан.
(обратно)189
Эти данные ошибочны. Площадь Австралийского материка составляет 7636 тысяч кв. км (примерно 7/11 площади Европы).
(обратно)190
Орография — описание различных элементов рельефа (хребтов, возвышенностей, котловин и т. п.) с точки зрения их внешних признаков. Гидрография суши — описание рек, озер, водохранилищ на конкретной территории.
(обратно)191
Впоследствии административным центром Северной территории стал порт Дарвин. Земля Александры — название, данное в 1864 году путешественником Джоном Макдоуэллом Стюартом в честь принцессы Александры; позднее называлась также Землей Принца Альберта; теперь включена в состав Северной территории.
(обратно)192
Австралийский Союз — это название Австралия получила, став по решению английского парламента федерацией, с i января 1901 года. Ж. Верн неточно передает политический режим Австралийского Союза, который был образован как федерация английских колоний, некоторые из которых, правда, еще в XIX веке добились самоуправления (а не независимости, как указывает писатель). Австралийский Союз получил право доминиона Британской империи.
(обратно)193
Кук Джеймс (1728—1779) — английский мореплаватель, руководитель трех кругосветных плаваний, много сделавший, в частности, для исследования Австралии. Убит туземцами Гавайских островов.
(обратно)194
Питт — здесь речь идет о выдающемся британском государственном деятеле Уильяме Питте Младшем (1759—1806), бывшем в течение двадцати лет премьер-министром Великобритании.
(обратно)195
Коммодор — так в британском военно-морском флоте назывался командир соединения боевых кораблей, не имеющий адмиральского звания.
(обратно)196
Рыдван — большая дорожная карета.
(обратно)197
Каботажное плавание — судоходство вблизи берегов вдоль побережья, между портами одного государства.
(обратно)198
Спардек — в XIX— нач. XX в. — верхняя легкая палуба на трехпалубных судах.
(обратно)199
Тасманийцы — коренное население острова Тасмания, насчитывало несколько тысяч человек, в 1803—1876 годах полностью истреблено английскими колонизаторами.
(обратно)200
Лагуна — мелководный залив или бухта, отделившийся от моря вследствие образования песчаной косы.
(обратно)201
Мандарин — европейское название крупных чиновников в старом феодальном Китае.
(обратно)202
Альбион — древнейшее название Англии. Сын (дочь) Альбиона — шутливо-литературное прозвище современных англичан.
(обратно)203
Остеолог — специалист-анатом, занимающийся остеологией, т. е. учением о костях.
(обратно)204
Френолог — специалист в области френологии — учения, считающегося реакционным, о связи между наружной формой черепа и умственными и моральными качествами человека.
(обратно)205
Мономания — помешательство, «зацикленность» на одном каком-либо предмете, мысли и г. п., например мания преследования, мания величия и т. д.
(обратно)206
Стюард — официант на пассажирском морском судне.
(обратно)207
Небесная (правильно — Поднебесная) империя — древнее, а ныне лирически-литературное название Китайской империи, возникшей в конце III века и существовавшей юридически до революции 1911—1913 годов.
(обратно)208
Ленч (ланч) — у англичан — второй завтрак после полудня, время краткого отдыха.
(обратно)209
Термин — в древнеримской мифологии — божество границ.
(обратно)210
Разумеется, речь здесь может идти не о независимости как таковой, а об установлении внутреннего самоуправления в австралийских колониях при now парламентском режиме.
(обратно)211
Эндемический (эндемичный) — местный, свойственный данной местности.
(обратно)212
Фунт стерлингов — денежная единица Великобритании.
(обратно)213
Фургон — большая крытая повозка, главным образом для клади; так же назывались в свое время и грузовые вагоны железной дороги.
(обратно)214
Гонконг — английское название китайской провинции Сянган на юго-востоке Китая, отторгнутой у него Великобританией в 1842 году.
(обратно)215
Манчестер — город и порт в Великобритании.
(обратно)216
Апатичный — безразличный, равнодушный, вялый.
(обратно)217
Флегматик — человек флегматического темперамента — медлительный, невозмутимо спокойный.
(обратно)218
Антропофаг — каннибал, людоед.
(обратно)219
Ротанг —- род лиановых тропических пальм; здесь: лиана как вид рознь плети.
(обратно)220
Бог Фу —- скорее всего имеется в виду бог Фу-Синь («звезда счастья»; божество счастья в китайской народной мифологии.
(обратно)221
По Библейскому преданию, когда Бог за грехи человеческие решил наслать на Землю всемирный потоп, проповедник Ной с детьми построил корабль-ковчег, погрузил в него свою семью и по одной паре всех четвероногих, пресмыкающихся и птиц. На седьмой месяц потопа ковчег осел на вершине горы Арарат на Кавказе. Бог решил больше никогда не карать род человеческий потопом.
(обратно)222
Авраам — библейский родоначальник еврейского рода. Чтобы испытать силу его веры, Бог повелел Аврааму принести в жертву своего сына Исаака. Авраам безропотно повиновался, и, убедившись в его вере, по велению Божию ангел остановил отцовскую руку с ножом, занесенную над поверженным сыном.
(обратно)223
Адам и Ева — библейские прародители человеческого рода (Адам по-еврейски — человек, Ева — земля как мать всего живущего).
(обратно)224
Маклер — посредник при совершении торговых сделок.
(обратно)225
Коммивояжер — разъездной торговый агент, предлагающий покупателям товары по образцам.
(обратно)226
Гуан-инь — одно из популярнейших буддийских божеств в Китае, спасающее людей от всевозможных бедствий, дарящее детей, помогающее при родах; богиня — охранительница женской половины дома; чаще всего изображается четырех-, восьми- и тысячерукой.
(обратно)227
Вол — кастрированный бык.
(обратно)228
Силурийские отложения — относящиеся к силурийскому периоду, начавшемуся 440 млн. лет назад, продолжительностью 30 млн. лет. В этот период на Земле появились все основные классы беспозвоночных организмов, первые растения, основные полезные ископаемые.
(обратно)229
Эвкалипт — род вечнозеленых растений. Высота до 100 м., поглощает много влаги, растет преимущественно в Австралии.
(обратно)230
Муррей делает этот поворот километрах в 80 восточнее Голера.
(обратно)231
Речь идет о хребте Маунт-Лофти; высота горы Брайан 934 м.
(обратно)232
Самая высокая точка хребта Флиндерс — гора Сент-Мэри-Пик (1189 м .
(обратно)233
Ландшафт -- общий вид местности.
(обратно)234
Сейчас это — Намбо, южная часть Вьетнама, но она, вопреки утверждению автора, расположена на 10° с. ш.!
(обратно)235
Саксонская раса — неточное название германских племен, живших между нижними течениями рек Рейн и Эльба в первых веках н. э. В переносном смысле — англичане.
(обратно)236
Зюйд-вест — юго-запад; юго-западный ветер.
(обратно)237
Шрапнель — круглые свинцовые пули, которыми начиняли ружейный патрон или артиллерийский снаряд.
(обратно)238
Крики — небольшие реки в Австралии; в жаркое время года пересыхают и превращаются в цепочку соленых луж.
(обратно)239
Оазис — место в пустыне, где есть вода и растительность.
(обратно)240
Авангард — передовой отряд.
(обратно)241
Бушрейнджеры — беглые каторжники, бродяги. Понятие это чисто австралийское. Буш — здешняя сухая равнина, покрытая жесткими кустарниками и травой; континент с 1788 по 1868 год использовался Великобританией как место ссылки каторжников.
(обратно)242
Привлекательность (англ.).
(обратно)243
Иллюзия (англ.).
(обратно)244
Галлон — мера жидких и сыпучих тел в Англии, равна 4,546 литра; в США — 3,785 литра для жидкостей и 4,405 литра для сыпучих тел.
(обратно)245
Теллурические условия — поглощение части световых лучей газами и парами, входящими в состав атмосферы Земли.
(обратно)246
Секвойя — североамериканские хвойные деревья, достигают 150 м. высоты.
(обратно)247
Дюны — песчаные холмы или гряды, возникающие под действием ветра и непрестанно им перемещаемые.
(обратно)248
Папоротники — древнейшие на Земле растения, известны с карбона, т. е. периода около 350 млн. лет назад. Травянистые, древовидные, водные, распространены по всему земному шару. Встречаются папоротники: съедобные, лекарственные, ядовитые.
(обратно)249
Скваттеры в Австралии — скотоводы, арендующие для своих стад необработанные участки земли.
(обратно)250
Игуана — крупная длиннохвостая древесная ящерица.
(обратно)251
Опоссум — двуутробка, сумчатое животное с длинным цепким хвостом. (В настоящее время название «опоссум» сохраняется за животными американского континента; для австралийских видов употребляется название поссум).
(обратно)252
Казуары — крупная бегающая птица с неразвитыми крыльями, узкими, похожими на волосы, перьями.
(обратно)253
Настоящих медведей в Австралии нет, автор здесь описывает коалу, которого называют также сумчатым медведем.
(обратно)254
Под родовым именем «потору» известны упоминаемые далее кенгуровые крысы.
(обратно)255
Скиф — легкая, длинная, узкая лодка.
(обратно)256
Пиастр — здесь: денежная единица некоторых стран Индокитая. Деньги такого названия существуют во многих странах.
(обратно)257
Молодые хулиганы (англ.).
(обратно)258
Ville — город, village — деревня, селение (фр.).
(обратно)259
Бумеранг — метательное орудие в виде изогнутой плоской заостренной деревянной палки; австралийский бумеранг, умело пущенный, возвращается на то место, откуда был брошен.
(обратно)260
«В чистой натуре», в натуральном виде (лат.).
(обратно)261
Древний род казуарин (Casuanna cunmnghamana) вообще безлистен.
(обратно)262
Миграция животных — массивные перемещения животных (не только грызунов), птиц, вызванные изменениями условий существования или связанные с циклом их развития, а также возникшей опасности.
(обратно)263
Сулой — вид волнения на море, когда сочетаются волновые и вихревые движения. Перемещение частиц воды напоминает их движение на поверхности кипящей воды. При сулое образуются крутые волны, создающие опасность для плавания небольших судов.
(обратно)264
Тропик Козерога — иное название Южного тропика.
(обратно)265
Фауна — совокупность всех видов животных какой-либо местности, страны или геологического периода.
(обратно)266
Пастер Луи (1822—1895) — французский ученый, основоположник современной микробиологии и иммунологии; разработал метод профилактической вакцинации (прививок против опасных болезней).
(обратно)267
Бунгари, или кенгуру Лумгольца — древесные валлаби, то есть небольшие кенгуру, что противоречит утверждению автора о размерах этого животного; неверно и определение цвета: шерсть у бунгари темно-серо-бурая, а брюхо и вовсе светлое.
(обратно)268
Тафта — глянцевидная шелковая ткань.
(обратно)269
Высшей точкой хребта Макдоннелл является гора Зил (1510 м).
(обратно)270
Рептилии — класс позвоночных животных, включающий ящериц, хамелеонов, змей, черепах, крокодилов, собственно рептилий как отдельного вида.
(обратно)271
Динго — дикая австралийская собака.
(обратно)272
Куртина — группой произрастающие растения одной породы.
(обратно)273
Аридный — сухой; обычно этот термин применяется к климату пустынь и полупустынь.
(обратно)274
Мириады — великое, неисчислимое множество.
(обратно)275
Танталовы муки — по древнегреческому мифу царь одной из стран Тантал был осужден богом Зевсом на вечные муки голода и жажды.
(обратно)276
Оверштаг — поворот парусного судна против ветра, при котором вместо одного борта подставляется ветру другой борт.
(обратно)277
Фордевинд — здесь: курс судна, совпадающий с направлением ветра.
(обратно)278
При перевозке морским путем каторжникам, во избежание побега, приковывали цепью к ноге пушечный снаряд-ядро. Приковать два ядра — значит, считать преступника особо опасным и способным на рискованный побег.
(обратно)279
Бледнолицый — так называли люди, принадлежащие к «цветным» расам, людей «белой» расы.
(обратно)280
Вопреки утверждению автора, река Оковер (в низовьях она называется Де-Грей) — пересыхающая река.
(обратно)281
Мистраль — сильный и холодный северный или северо-западный ветер, дующий с гор в Южной Франции.
(обратно)282
Самум — знойный сухой ветер пустынь несущий тучи песка и пыли.
(обратно)283
Южный Крест — созвездие в южном полушарии, указывающее длинной перекладиной на Антарктический (южный) полюс Земли.
(обратно)284
Стрихнин — сильный яд растительного происхождения, вызывает судороги; применяется в медицине и для уничтожения вредителей сельского хозяйства (полевых мышей, сусликов и проч.).
(обратно)285
Атавистический — характерный для далеких предков и проявляющийся у существующих организмов (например, появление хвостового отростка у человека).
(обратно)286
Антрополог — ученый, занимающийся наукой антропологией, изучающей происхождение и эволюцию человека, образование человеческих рас и нормальные вариации физического строения человека.
(обратно)287
Нубийцы — народ в Египте.
(обратно)288
Виндзорский замок — королевский замок в городе Виндзоре, летней резиденции английских королей, близ Лондона.
(обратно)289
Гаммара Августин (1785–1841) — президент Перу в 1829–1833 и в 1839–1841 годах; Санта-Крус Андрес, де (1792–1865) — один из военных руководителей освободительного движения в Перу и Боливии; избирался президентом Боливии и протектором перуанско-боливийской федерации.
(обратно)290
Каркаманка — оскорбительная кличка, которой перуанцы наградили европейцев.
(обратно)291
Баия — старое название бразильского портового города Салвадор.
(обратно)292
Донайре — изящество, привлекательность _(исп.)._
(обратно)293
Анунсиасьон — Благовещенье _(исп.)._
(обратно)294
Боливар Симон (1783–1830), прозванный «Эль Либертадор» (Освободитель) — один из вождей освободительного движения южноамериканских колоний Испании.
(обратно)295
Аманкай, аманке (Hymenocallis amancae) — желтый нарцисс, растущий на береговых склонах Анд на высотах от 200 до 1000 м; однолетнее растение, которое в июне — августе бывает усыпано душистыми цветками.
(обратно)296
Ла-Плата — здесь: название города в Боливии (ныне — Сукре).
(обратно)297
Асар — слепой случай, случайность; удар судьбы; риск; несчастливая карта, неудачный ход _(исп.);_ суэрте — удача, счастье; везение; выигрыш (исп.).
(обратно)298
Консепсьон — город на юге Чили.
(обратно)299
Тинторера — сельдевая акула (Lamna cornubica, исп.).
(обратно)300
Мадейра — один из важнейших притоков Амазонки; на территории Перу начинается один из ее истоков — река Мадре-де-Дьос.
(обратно)301
Двойная ошибка автора: во-первых, июнь в Южном полушарии — зимний месяц; во-вторых, в тропиках солнце светит круглый год почти с одинаковой силой.
(обратно)302
Кайманы — пресмыкающиеся семейства аллигаторов. Обитают в водоемах Центральной и Южной Америки.
(обратно)303
Трог — горная долина корытообразной формы с крутыми склонами, возникшая в результате деятельности ледника. (Примеч. перев.)
(обратно)304
Вильгельм Телль — герой швейцарской народной легенды, отразившей борьбу швейцарского народа в XIV веке против Габсбургов. Габсбургский фогт Геслер велел кланяться висевшей на шесте шляпе Вильгельм Телль не подчинился, и в наказание ему приказали сбить стрелой из лука яблоко с головы собственного сына.
(обратно)305
Однако на этот сюжет написаны две оперы: французским композитором Гретри (1791) и итальянским — Россини (1829). Видимо, по замыслу автора, действие рассказа происходит до этого времени.
(обратно)306
Антифонарий — церковная певческая книга, включающая в себя песнопения, исполняемые попеременно двумя сторонами молящихся (антифонами).
(обратно)307
Под стихом здесь понимается строка из Священного писания, чаще всего заключающая в себе законченную мысль; мотет — первоначально: многоголосный церковный гимн, сочетающий несколько самостоятельных мелодий, исполнявшихся одновременно, иногда даже с различным текстом; впоследствии — название разнообразных многоголосных произведений, исполнявшихся без инструментального сопровождения; риспоста — вторые и последующие голоса в церковном многоголосии (каноне), повторяющие пение первых голосов.
(обратно)308
Фуга — многоголосное музыкальное произведение, состоящее из изложения какой-нибудь темы и ее полифонической разработки.
(обратно)309
Гвидо Аретинский (995—1050) — итальянский музыкальный теоретик, придумавший название нот гаммы.
(обратно)310
Гимн написан на искаженной латыни и может быть переведен примерно таким образом: «Чтобы слуги твои могли слабонатянутыми струнами откликнуться на чудеса твоих деяний, освободи им грешные уста, святой Иоанн».
(обратно)311
Калкант — человек, накачивающий воздух в органные мехи.
(обратно)312
Кюре — священник, возглавляющий католический приход.
(обратно)313
Префация — часть католической мессы, предшествующая канону; молитва, содержащая освящение.
(обратно)314
Серпан — духовой инструмент в форме змеи, служивший для аккомпанирования вокалистам.
(обратно)315
Ноктюрн — музыкальная пьеса преимущественно мечтательного характера с певучей мелодией; обычно ноктюрны пишутся для фортепиано, реже — для других инструментов и ансамблей; вокальные ноктюрны композиторами создаются редко.
Сальвиати — известный флорентийский род, из которого вышли несколько художников и писателей, однако сколько-нибудь значительного композитора с такой фамилией не было.
(обратно)316
Усиливая (увеличивая) силу звука (ит.).
(обратно)317
Уменьшая силу звука (ит.).
(обратно)318
Неф — продольная часть христианского храма.
(обратно)319
Пастушеская свирель, изобретение которой приписывают древнегреческому богу Пану Духовой инструмент в виде связанных вместе дудочек различной величины и настройки, на котором играют, прикладывая к губам то одну, то другую дудочку, получая при вдувании в них воздуха звуки разной высоты.
(обратно)320
Название регистров органа.
(обратно)321
Арабески — сложный орнамент, сочетание геометрических и стилизованных растительных узоров, часто включающий в себя надпись арабским шрифтом.
(обратно)322
Обертоны — в музыке частичные тоны, звучащие выше и слабее основного тона, слитно с ним и на слух почти не распознаются.
(обратно)323
Камертон — прибор, служащий эталоном высоты звука при настройке музыкальных инструментов и в пении.
(обратно)324
Малая терция — музыкальный интервал в три ступени и полтора интервала.
(обратно)325
Хроматическая гамма — восходящее или нисходящее мелодическое движение по полутонам.
(обратно)326
Комма — весьма малый (меньше 1/8 целого тона), едва различимый слухом интервал, которым обычно пренебрегают Так называемая Пифагорова комма составляет 1/9 тона.
(обратно)327
Градуел — часть католической службы (между чтением апостольских посланий и чтением Евангелия).
(обратно)328
Аллилуйя — восклицание в праздничных церковных песнопениях.
(обратно)329
Офферторий — молитва и музыка в составе католической мессы, сопровождающие причащение хлебом и вином.
(обратно)330
Орнат — часть торжественного облачения священника.
(обратно)331
Элевато — приподнято, возвышенно.
(обратно)332
Андарт-Итен-Шу не знали о существовании Нептуна. (Примеч. авт.)
(обратно)333
Видимо, в тот момент, когда зартог Софр-Ай-Шр предавался этим размышлениям, Андарт-Итен-Шу уже пользовались телеграфом, но не знали телефона и электрического света. (Примеч. авт.)
(обратно)334
Из этих слов можно понять, что человеку будет известно в Солнечной системе больше восьми планет, он откроет одну или несколько планет за орбитой Нептуна. (Примеч. авт.)
(обратно)335
Современное название — Гданьск. (Примеч. aвт.)
(обратно)336
Модель из золота, исполненная для короля Франции Франциска I.
(обратно)337
Изохронный — одинаковой длительности.
(обратно)338
Ларвы — злые духи.
(обратно)339
Тараски — сказочные чудовища, персонажи народных легенд юга Франции.
(обратно)340
Перим — английский остров в Баб-эль-Мандебском проливе, соединяющем Красное море с Индийским океаном. Аден — порт на юге Аравийского полуострова, неподалеку от входа в Красное море.
Мальта — остров (и независимое государство) в Средиземном море, на котором в колониальные времена располагалась английская военная база.
Пуло-Пинанг — остров близ Индокитайского полуострова.
Гонконг — английская колония в Китае, на берегу Южно-Китайского моря.
(обратно)341
По древнегреческим сказаниям, один из самых известных мифологических героев, Геракл, или Геркулес, во время своих странствий побывал в Африке и поставил две скалы по берегам Гибралтарского пролива. Эти скалы получили название Геркулесовых столбов: северный — Кальпа, южный — Абила.
(обратно)342
Буры — потомки европейских колонистов, населяющие республики Трансвааль и Оранжевую, теперь входящие в состав Южноафриканской Республики.
(обратно)343
Крест Святого Георгия — орден Святого Георгия (Орден Подвязки) — высшая британская награда, нагрудный крест — один из символов ордена.
(обратно)344
Барнум — американский предприниматель, разъезжавший с цирком, где показывались всякие диковинки.
(обратно)345
Компания пневматического трубопровода Бостон — Ливерпуль.
(обратно)346
Давыдов Ю. Джон Франклин. Москва, 1974, с. 45.
(обратно)347
Давыдов Ю. Цит. соч., с. 51.
(обратно)348
Жюль-Верн Жан. Жюль Верн. М., 1978, с. 92.
(обратно)349
Жюль-Верн Жан. Цит. соч., с. 93.
(обратно)350
«Лицо брака» (фр.).
(обратно)351
Жюль-Верн Жан. Жюль Верн. М., 1978, с. 99.
(обратно)352
Жюль-Верн Жан. Цит. соч., с. 100.
(обратно)353
Жюль-Верн Жан. Цит. соч., с. 101.
(обратно)354
В том же году рассказ был перепечатан в «Ревю де Пари».
(обратно)
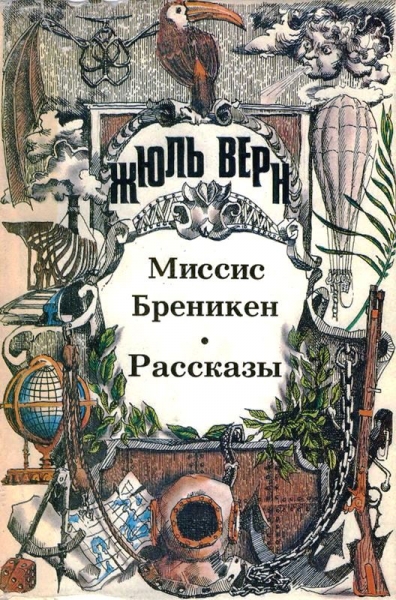



Комментарии к книге «Миссис Бреникен: Роман. Рассказы», Жюль Верн
Всего 0 комментариев