Спрятанные во времени Ефим Гаер
© Ефим Гаер, 2018
ISBN 978-5-4490-8391-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Мудрость и большое предубеждение
В маленьком высокогорном саду было солнечно, прохладно и пусто. Крохотная лужайка с жесткой травой обрывалась полукругом над пропастью, дно которой скрывала дымка и тяжелые пузатые облака, сползавшие с соседних вершин. В каменный фонарь забралась синица, выклевывая там что-то с важным видом префекта, нашедшего сор на своей веранде. А гораздо ниже в глубокой узкой долине крестьяне в травяных шляпах возделывали рисовые поля, напевая долгие унылые песни. В общем, абсолютная идиллия, если вы без ума от всего такого.
У пестреющей камнеломками стены сидел на траве огромный грузный мужчина с бычьей шеей и гладко обритой головой и прутиком чертил в цукубаи1. В водной ряби отражалась бледная весенняя синева. Сверху с выступа скалы доносилась игра кото2 — невидимый музыкант настойчиво терзал струны, пытаясь попасть в мелодию.
Одетый в черную хламиду до пят, настолько плотную, что она казалась картонной, сидящий явно был не в восторге от концерта и морщился на особо звучные «дрыньк!», долетавшие до него оттуда, где б уже быть облакам и небу, слившимся в вечном танце… Но вот же нет! — к воздушным стихиям прибился, вскарабкавшись на скалу, этот вредный старик Ясуда со страстью к музыке эпохи Кинсэй3, пытающий бедный инструмент. Впрочем, сейчас еще ничего — когда он достанет флейту, станет совершенно невыносимо.
— Уверен, что настоятель специально фальшивит… красота несовершенства… ваби-саби… — произнес сонный голос за спиной великана. Невидимый собеседник неприлично громко зевнул и щелкнул суставами, потянувшись. — Сиятельный и мудрый Ясуда-сама… долгих лет ему жизни… и нам заодно того же… чудовищно настойчив в своих упражнениях.
— И разительно не соответствует имени4, — ворчливо продолжил великан, бросая веткой в синицу. Пичуга обиженно упорхнула. — Лучше бы ему спуститься и проповедовать на полях крестьянам — было бы больше толку. И гораздо спокойней.
— Нам, во всяком случае, не крестьянам… Кстати, как он вообще туда забрался? — спросил все тот же тягучий голос, имея в виду местоположение настоятеля — отвесный кусок скалы, куда не вела ни одна лестница. Снизу его не было видно. Только иногда из-за края скалы вниз летел огрызок яблока, репки или пара вишневых косточек — единственное, чем питался почтенный старец.
Великан лишь пожал плечами:
— У просветленных свои пути.
Не будем осуждать это непочтительное занудство: в последние месяцы настоятель буквально изводил паству музыкальными экзерсисами. Это началось неожиданно, после утренней медитации у ручья и, возможно, было как-то связано с карпом, с которым старик любил разговаривать. Особо новое увлечение Ясуда-сама5 казалось неуместным Нишикори, знавшему того двенадцать жизней назад беспощадным и грубым воином, с одного удара разрубавшим противника пополам. Его музыкальные привычки тогда ограничивались пьяным ором за пиршественным столом (причем стол этот обычно принадлежал очередному только что убитому им же фермеру).
И вообще, не был тогда Ясуда-сама японцем, то есть не был ни «Ясуда», ни «сама», а звали его Кулак, и мать его чинила рыбакам сети в затерянной среди фьордов деревне Бюгде. Франки же прозвали Кулака «Жабой» — видимо, за огромный рот на плоской и лысой голове, иссеченной шрамами, практически лишенной ушей. Стоило ему явиться в людное место, мальчишки орали Кулаку вслед: «Crapaud! Crapaud! Grand crapaud!»6. Тот, сопя, поворачивался всем телом, вопросительно глядя на товарищей: мол, что значит-то это их «крапу»? «Великий воин», — успокаивал его Нишикори, звавшийся в те времена Черным Бьорном. Кулак радостно улыбался и шлепал дальше под крики сопливых оборванцев. Умом и языками он не блистал, зато руками, широкими как ляжка теленка, валил деревья. Кажется, одно из них, рухнувшее на шалаш в осеннюю бурю, и убило его где-то в дельте Шпрее лет восемьсот назад — мирная, хотя и нелепая смерть для воина.
Между тем «дрыньки» на скале прекратились, сменившись… о, нет! — трелью японской флейты. Хуже мог быть только вокал, очередь которого, мало кто сомневался, вот-вот наступит. Старый как Луна настоятель не только непостижимым образом забирался в самые непролазные места, но еще таскал за собой мешок музыкальных инструментов и свитков с песнями, весивший чуть не тонну. Сорок шесть из семидесяти монахов, постоянно живущих в монастыре, твердо считали его наказанием за грехи прошлой жизни — воплощением собственной черной кармы, которое нужно принять смиренно.
Нишикори, словно флейта дала сигнал, необыкновенно легко поднялся, в три шага пересек садик и уставился вниз на застрявшие в кронах клочки тумана с видом крайнего раздражения, превращавшего его широкое лицо в маску недовольного божества.
Сзади раздался все тот же, процеженный сквозь зевоту голос:
— Только не пытайся покончить с собой — твоя туша устроит землетрясение… и горы падут в долины, и реки потекут вспять.
Сквозь высеченную в камне арку в садик вошел мужчина лет тридцати, по наружности грек или итальянец — высокий, смуглый и черноглазый, с гладким скучающим лицом, одетый в войлочную куртку и штаны-дудочки. Худые ноги торчали из них, завершаясь в старых разношенных башмаках — возникали подозрения, уж не снял ли он их с какого-нибудь зазевавшегося дедули? Чтобы они не сваливались, ему приходилось перемещаться мелкими шаркающими шажками — как китайской принцессе, на которую он, прямо скажем, менее всего походил.
Черноглазый подошел к Нишикори и тоже посмотрел вниз, явно не впечатленный красотами простершийся там долины (весьма живописной, кстати). Его взгляд тоскливо проводил птицу, летевшую к лесу у подножия гор — туда, где, вестимо, было ее гнездо.
— Составляешь облачный атлас, великий во всех смыслах Нишикори-сама? Вон то, например, похоже на кита, страдающего запором; слева — на порванный барабан; а это — на трехногую белку в колпаке… Вообще, здесь холодно и совершенно нечем заняться. Сегодня же попрошу настоятеля отпустить меня в Кагосиму. Думаешь, если кинуть камнем, он высунется?
Трели, между тем, снова перешли в «дрыньки». Хриплый старческий голос затянул песню про морячка Сеиджи, ушедшего за крабами на Курилы.
— Мне больше нравится про красотку Ай, ставшую наложницей императора, — твердо заявил черноглазый. — Там, где она раздевается на балконе.
— Что-то происходит, Макото, — голос великана был под стать фигуре — низкий, рокочущий и густой. — Видел, как ведет себя черепаха?
— Многократно, — названный Макото всмотрелся в облака под ногами, будто пытаясь узреть там одну из них. — Обычно она ведет себя как переевший мытарь — лежит без движения в полусне и готова пожрать еще. Или теперь она ходит на задних лапах?
Он был шутником, но вовсе не был глупцом. Пока его язык молотил пустое, черные глаза не смеялись. Если уж Нишикори так озадачен, что-то действительно шло не так. А они (как некстати!) здесь именно на тот случай.
— Где? — мрачно спросил Макото.
Великан показал на Запад.
Минус голубь
На площадях и в переулках Кремля было пустынно, свежо и тихо. Ни машин, ни беготни у парадных. Вождь пребывал на даче, и свита его расползлась по норам, лишенная центра тяготения. Так и говорят: в Кремле без бояр — и в стране без смуты. (Врут, наверное, но не будем спорить…)
Москва просыпалась в воскресный день. Облака пробовали солнце на зуб, шляясь белобрысой гурьбой. Светило, распаляясь, гнало толстяков с небосклона. Река в бисере мелких волн тянулась под обветренными мостами, и пароходик катил по ней, оставляя белую строчку пены. Брякнули, как надо, куранты, отметив полдень.
Еще не растаял их зычный бой, как с пряничного парапета Теремного дворца, помнящего чуть не всех московских царей, вдруг исчез голубь. Враз, беззвучно, с куском старой добротной кладки, которой бы еще стоять и стоять — вплоть до светлого будущего России, которое когда-нибудь, верим, грянет.
Никто произошедшего не заметил, если не считать десятка других пернатых, способность строить выводы у которых весьма избирательна и касается, обычно, вещей не загадочнее кошки да корки хлеба, обойденной дворником в подворотне.
Стрелок, сидевший на Ивановой колокольне, был, конечно, ни сном, ни духом, как и его коллеги с Водовозной, Троицкой, Боровицкой башен, которым до голубей, прямо скажем, как до самурайских портянок — тут бы не упустить диверсанта, ползущего вдоль стены с гранатой! А голуби что? — так, ерунда, дрянь — плодятся, гадят, гугукают. Нет в них ни политической перспективы, ни начальственной выправки. Разве, несут на лапке вражескую депешу… — но этим занимаются по другому ведомству.
Тем паче ничего не заметил подтянутый детина в фуражке с синим околышем, что под козырьком внизу подпирал лопатками дворцовую стену. Не будет при исполнении особист пересчитывать подлых голубей, презрев основное дело — стоять в неприметном месте в лаковой портупее, охраняя покой имущих, дожидаясь очередного звания и обеда. На отдыхе, может, станет, а на посту, конечно, ни-ни.
Безымянная голубица, бывшая ближе всех к происшествию, подлетев, клюнула покрывшийся инеем кирпич, и тут же с кувыканьем повалилась на теплую кровельную жесть, где скончалась, раскинув крылья. В птичьих глазах синел лед.
Более ничего странного в тот день в Москве не произошло — даже на Краснопресненской, где во все века в редкий день не выходит какой-нибудь ерунды, и то все прошло спокойно. А вот за ее пределами, столь далекими, что не описать, нечто, чуждое разумению, не похожее на нас с вами как жук на крендель, испытало глубокое разочарование, обнаружив вместо желанного предмета сизогрудого идиота с его «курлы», тут же превратившегося в ледышку, да фунт кирпичного крошева (хотя и с кремлевских стен, что, конечно, всякому приятно иметь, да знать бы куда девать). Улов, как говориться, ни в коня, ни в красную армию — пустышка не по трудам, чудо не по надежде.
Гулкое ущелье под черным небом заполнил яростный долгий вой.
Мистика и сродство спиртов
Теплым майским вечером в кабинете, устроенном буквой Г во втором этаже здания большого московского музея, М. сидел за письменным столом с пером в руке и мучительно старался прийти к какому-то выводу.
Простертый перед ним лист был наполовину исчерчен сложно пересекающимися линиями, которые, если пристально в них вглядеться, словно менялись непрестанно местами и проваливались куда-то, переплетаясь. Он щурился, тер ладонями лоб, но никак не мог сосредоточиться и поймать глазами конец одной из них — тонкой ровной дуги, шедшей вверх от одинокой точки в нижнем углу.
По стенам и потолку двигались тени, происхождение которых было не вполне ясным. Во всяком случае, освещение и обстановка комнаты не имели к ним ни малейшего отношения (как и початая бутылка коньяку, стоявшая на столе). М. то и дело нервически озирался, вжимая голову в плечи, и снова впивался взглядом в упрямую точку внизу листа.
Тени, очертания которых менялись как кляксы в парафиновой лампе, продолжали свое движение. Он, кажется, даже начал узнавать их. Вот эту, вытянутую, ползущую дирижаблем по потолку, он назвал Хрен Летящий. Рядом с ней, не отставая, вечно лепилась небольшая почти квадратная тень (смотрите, и теперь она здесь, чуть ниже), названная Коробкой. Хрен Летящий едва приметно шипел, Коробка неприятно щелкала, словно кто-то ломал фотопленку в пальцах. То там, то тут на старую штукатурку выползали другие, шепчущие, бормочущие невнятно, непрестанно сменяющие друг друга. Но эти две, неразлучные, отчего-то присутствовали всегда.
Наконец М. справился с возникшей загвоздкой и в одно движение добавил пером округлую скобку в центре, формой напоминающую ухо. Лицо его осветилось, руки пришли в движение. Теперь линии быстро ложились на бумагу — одна, другая, третья — пока не заполнили свободную часть листа. Коробка отстала от своего спутника и зависла на потолке над головой М., игнорируя любые представления о законах оптики. Углы ее заострились, центр стал почти черным.
Когда дело было сделано, М. какое-то время еще сидел, отвалившись на спинку стула, с улыбкой глядя перед собой, затем потянулся, с жадностью глотнул из бутылки и убрал бумаги в ящик стола.
— Завтра с утра продолжу, — сказал он настольной лампе, бросив перо на стол.
Хрен Летящий, дрейфовавший снуло над книжным шкафом, вдруг остановился, будто что-то решив, отъехал к другой стене и медленно пополз вниз к чугунному радиатору, понукая своею спутницей. М. подмигнул ему как старому другу, встал и засобирался идти домой. Часы показали четверть девятого.
Тут как по команде вторая дверь, бывшая за углом, скрипнула, впуская решительные шаги и голос невидимого соседа — того, что занимал вторую, большую часть кабинета — с колонной и двумя окнами, против этой — с одной узкой как лафет прорезью, глядящей в густую крону, и без всяких колонн:
— С порога чувствую, как мне рады! Не убирай бутылку, лишенец! Амбре стоит от Пречистенки.
Дверь хлопнула, заерзали ящики стола, зашелестела бумага, кресло на колесиках отъехало в сторону, стукнувшись обо что-то.
— Ты рискуешь как гусар на бильярде! Если вдруг притащится Вскотский, аппетиты которого соответствуют фамилии, как ты знаешь… Да где она?.. А, вот… Тогда запасы мгновенно улетучатся. И еще по шее наполучаешь за пьянство. Причем ты, не он — от него, кто в два глотка приговорит твою жалкую заначку! Дай-ка я угадаю: «Абхазия» или «Арарат»?
Вслед за вопросом из-за угла явился невысокий опрятный человек с насмешливыми глазами на скуластом загорелом лице, одетый в новую пару цвета «дубовый лист» и лаковые модные туфли. В руке его лежал сверток.
— Здравствуйте, товарищ Нехитров, прошу присаживаться, — пригласил он сам себя к столу М., тут же усевшись и бахнув свертком.
Тени, лазавшие по стенам, теперь исчезли. Точнее, сменились другими — нормальными, полагающимися каждому помещению, где горит лампа и имеются окна — смирными одомашненными тенями. Может, Нехитров, этот неспокойный сосед М. по трудовому жилищу, был существо мистическое, и они страшились его?..
«Мистическое существо», между тем, бесилось:
— А заначка не так дурна, мон ами, хоть почата! Я же говорил, «Арарат». У меня, кстати, — он похлопал рукой по свертку, — совершенно случайно… редкое везение, скажу тебе… пить коньяк без закуски вредно для селезенки… есть кружок колбасы и ржаной хлеб. Но знай, пьянчуга, ты только что лишил мою многочисленную вечно голодную семью ужина. Кайся!
Иногда Нехитров был невозможен — этот его словесный понос! М. поморщился, но был слишком утомлен и доволен, чтобы ругаться. К тому же бутылка уже открыта… Да и на него вдруг нахлынуло чувство зверского голода, многократно усилившегося при слове «колбаса».
«Как собака Павлова на звонок», — грустно подумал он, воззвав к гордости, но та не откликнулась (эта дама умеет прятаться, когда надо). В то же время, помянув подопытную собаку, он искренне посочувствовал животному: его, по крайней мере, никто не бил током и не резал слюнные железы ради очередной статейки в журнале.
— Что поделываем на службе в такой час? Отчего не дома пьем-с, полуночник?
— Хватит болтать, Борь, — отмахнулся хозяин коньяка, не желая развивать тему. — Где твоя колбаса? Пока не увижу полкило «краковской» в свою пользу, ни капли не получишь нектару.
Нехитров живо развернул сверток, явив припасы.
— Угу, сойдет, подставляй…
Тот подставил стопку, затем в одно движение, пока М. не успел возразить, вырвал купу страниц из свежего альманаха, отложенного на тумбу «чтобы непременно прочесть», и расположил на них угощение: желанная «краковская», полбуханки ржаного хлеба и даже кубик сливочного масла, желтого как солнечный заяц. Запах снеди разнесся по кабинету. Что до испорченного варваром альманаха — кажется, Нехитров вообще ничего не читал. Во всяком случае, М., знавший его лет десять, ни разу не видел товарища читающим что-то, кроме афиш. Зато писал обильно и метко.
— Ножа правда нет, — посетовал Нехитров. — Кто-то, не поверишь, постоянно крадет мой инструмент из запертого стола. И, поскольку в кабинете нас только двое…
— Да-да, Борь… у меня твой нож… на, держи.
М. разлил ароматный, пахнущий спелой лозой коньяк.
— Ну, за нас с тобой и хрен с ними!
На минуту воцарилось сосредоточенное молчание. Коньяк благостно разлился по жилам.
— Знаешь, кстати, кто мне сегодня попался на глаза? — спросил улыбающийся Нехитров, опорожнивший враз свою порцию, и театрально облокотился о стол, глядя в упор на М.. Не хватало только сигары и лежащего у ног дога для образа скучающего английского пэра.
— Ну?
— Слава Ковски! Помнишь Славика-ляха?
М. кивнул.
— Так теперь он, вслушайся: Станковский! Стан-ков-ский! — повторил Нехитров по слогам, тыкая пальцем в стол. — Сволочь, даже визиткой меня одарил. Профессор, етит твою! Партийный, упитанный, все дела. «Воронок» под задом. Стан-ков-ский. А? Представляешь?! Жук белобрысый! Ну ты помнишь этого гада?
— Да помню я, помню… — тощий, вся рожа в угрях. Скользкий тип.
— Ну да! Морда в струпьях, ладошки потные. Крысеныш такой облезлый. У меня еще валенки как-то спер и толкнул в тот же день — кому? — свои-и-им! Идиотина, полный кретин!
«Уж ты б, дружище, никогда так не прокололся», — ядовито подумал М., глядя на жилистую шею Нехитрова с какой-то вампирской нежностью. Тот продолжил, упиваясь моментом:
— Ни в какую не сознавался при этом, хоть я сразу на него заподозрил. А толкнул, помнишь кому? Камскому Олегу! — соловьем заливал Нехитров, игнорируя факт того, что рассказывает историю ее участнику. — На валенках, я же не дурак! — М. пожал плечами: «Мол, как скажешь, может, и не дурак…», — в тайном месте нашивочка: бэ-а-эн.
Он радостно рассмеялся, кусая хлеб.
— Олег тогда пришел к нам… ну ты помнишь?.. а Ковски этот как раз у нас. Я Олегу — вижу ведь, мои валенки: «Откель взял? Сними-ка, друже, что покажу…» — и нашивочку ему в нос! Тот смотрит, аж покраснел. Никого, знаешь, я с таким смаком в жизни не бил по роже, как этого прыщавого недомерка Ковски! Так вот, — погрустнел Нехитров, — крысеныш этот теперь шире нас с тобой вместе сложенных. Масляный, солидный, с телячьим черным портфелем. Чуть не въехал ему по старой памяти, аж зачесалось. Но… не въехал. Потому что нельзя теперь. Долей-ка мне до черты.
— Дела-дела, — вздохнул М. и закурил, пуская дым в книжный шкаф.
Тоскливо обозрел ряды книжонок в тусклых обложках, какие-то журналишки, папки с недописанными статьями, носатый бюстик философа, неумело содранный у эллинов артельным горе-ваятелем… Сплошь — ерунда! И сам себе показался таким же дымом никому не нужных курилен — со всеми своими переживаниями, делами важными и неважными, колотящимся в клетке сердцем. Вышел прочь — и нет никого, будто не было, никто тебя и не вспомнит. «Все мы — библиотечный сор, забытый на дальней полке, который никто не станет читать…».
— Ну, сор не сор… — отозвался Нехитров, прищурив глаза на стопку. — Лично я бы еще поспорил. На философию потянуло? Это хорошо. Добрый коньяк.
М. не смутился, что, по-видимому, высказал мысль вслух, хотя раньше такого за собой не замечал даже подшофе, и протяжно мучительно зевнул.
«Все-то у него ладно выходит, у этого Бориса, сына Аркадия, — без завести подумал он про товарища. — Еще с общаги, когда ходили в обносках и жили впроголодь. Что Ковский? Тьфу! Валенки спереть — его потолок. Ну, вагон валенок, на крайняк. А Борька вечно откуда-нибудь достанет. Хоть чуть-чуть, но всегда с прибавкой. И ведь делился, пройдоха, с нами, увальнями! Пока Люсю не встретил — там уж стало, кому гостинцы носить. Люся через год понесла, Борька съехал, и стало совсем уныло…».
— Ты куда ловчее меня, — сказал М. вслух, разливая остатки коньяка. — Как-то все успеваешь? Дети, диссертация, Люська-красавица, квартира отдельная. А у меня вон — одна статейка, и та уже заржавела. Ботинки, срам сказать, не могу купить второй год, до магазина дойти. Возьмусь — брошу, возьмусь — брошу…
— Ну да, грех спорить, медуза ты косолапая, ничего с тебя толку нет. За что только Варенька тебя любит? Не то, что я! Хоть портрет пиши в Третьяковку! — отдал себе должное Нехитров, по-доброму поддержав товарища. — Ты не мельчи, не мельчи, не еврей на свадьбе — доливай мне все… вот-вот-вот… а то тебе хватит — по плодам, как говорится, не по корням. Совсем ты что-то растекся! Нализался на голодный желудок, не позвал товарища, и теперь справедливо упал в осадок. Ведь взрослый же человек! Какой из тебя пример комсомольцам и неорганизованной молодежи? Коньяк без закуси и стакана… один в пустом кабинете… Гнать тебя из Союза, брат! Гнать во Францию побираться на Пляс Пигаль. Глядя на тебя, юноши начнут в одиночку пить и писать стихи — вот к чему ведет твой буржуазный салонный формализм.
Трескотня Нехитрова действовала на М. успокаивающе. Если этот местный оракул бубнит по чем зря, значит все ништяк. Вот если он замолчит — тогда бей тревогу.
— Прав ты, прав, тысячу раз прав! — согласился М., сплюнул табачной крошкой в кулак и сунул пустую бутылку в плетеное ведро под столом. — Я вот никак не соберусь. Все — какая-то каша.
Он исподлобья оглядел кабинет, показавшийся ему вдруг чужим и враждебным как трещина в леднике.
— Все будто из картона, ненастоящее, дрянь какая-то. Бегаешь крысой по лабиринту, а чего бегаешь, сам не знаешь.
— Оно и есть ненастоящее — когито эрго сум7, как сказал хитрюга Декарт. Игра ума и не более. И ничего, окромя этого когито не существует. Зане, мир дан нам в ощущениях, приятель, так что не тушуйся, не ты один. Бабка-история видала и не таких чудаков. Так поднимем этот тост… не-не-не, обожди, сначала тост… — Нехитров вздел голову, будто провожал косяк журавлей. — За приятные мысли и ощущения! У тебя с Варенькой все в порядке? — быстро добавил он как бы невзначай, поддев ножом колбасы.
М. поперхнулся.
— Да нормально, вроде…
— Жидкое какое-то это твое «нормально». Детей вам надо. И в Крым на месяц. То есть наоборот: в Крым, а детей там и сделаете.
— Да ладно, не развивай…
— Твоя жизнь скудна, мой унылый друг! Ты слишком умен и злоупотребляешь этим не в свою пользу. Ведь нельзя же, согласись, поместить весь мир в одну голову? Поглупей чуть-чуть, моя тебе пропозиция. Даже если…
Тут ожил эбонитовый монстр с блестящим диском, спавший на широком столе Нехитрова. Воздух пронзил звонок.
— Что за хрень? Девять уже. Кто может звонить?
Аппарат все не унимался. В конце концов Нехитров не выдержал и пошел к нему. М. размялся с ним за компанию, пуская на ходу дым от очередной папиросы, хоть и обещал себе не курить.
Сняв трубку, Нехитров стоял с минуту, прижимая ее плечом, и только мычал неопределенно, выслушивая чью-то тираду. По лицу было видно, что разговор ему не по вкусу. Наконец он ответил: «Ясно…», — стукнул о рожки трубкой и вернулся к столу, увлекая товарища за собой.
— Скотина звонил, — директора музея угораздило носить фамилию Вскотский, каковая, говорили, ему очень кстати пришлась. — Сказал, нужно быть в командировке. И тебе тоже. В Дальске каком-то, пес знает где он, что-то произошло в краеведческом, какая-то пропажа у них… По дате решат отдельно, там еще следствие работает.
— А мы причем? — удивился М.. — Мы что, сыскные собаки?
Нехитров пожал плечами.
— Кто его знает? Говорит, телеграмма, комиссия, все дела. Обрадовал на ночь глядя! Не люблю я этих поездок невесть куда. Потом еще рапорт пиши, который тебе же, помяни мое слово, выйдет боком. Если бы хоть в Ливадию или в Сочи, а то — Дальск!
Монстр снова заверещал. Нехитров было дернулся к аппарату, а затем отвернулся, махнув рукой, и сел обратно на стул:
— Все, ушли мы, баста!
Когда трезвон прекратиться, он с таинственным видом встал, запер дверь на ключ и добыл из своего шкафа бутылку водки, спрятанную за массивным фотоальбомом.
— Что там говорят про сродство спиртов? По мне так главное — градус!
Эндшпиль на траве
Около двенадцати дня, когда солнце вколачивает тени отвесно в землю, у заброшенного павильона в пригороде Москвы на пустом ящике с печатью «Красного мыловара» сидел мужчина за сорок, с газетой на коленях и незажженной папиросой в руке, так и не дотянувшей до губ. Он дремал, прислонившись спиной к стене, наслаждаясь прохладой, запахами травы и своей одинокой незаметностью (и, между тем, не храпел, как вы изволили полагать).
Уже давно никто не проходил мимо и вообще местность казалась бы почти дикой, если бы ни далекие гудки паровозов, ползущих с товарняками на Астрахань, да жужжащий над лесом аэроплан, выделывающий «бочки» и «ранверсманы».
С восточной стороны павильон укрывали ветви древней раскидистой сосны, помнящей четырех самодержцев, экспрессом проскочившее Временное, толчею Великой, угар НЭПа, а ныне щедро дающей тень портрету коммунистического вождя, что следил за неметеной дорожкой с громоздкого облупившегося щита перед раскрошенным в щебенку крыльцом. Иной скажет, лучше бы починить крыльцо, чем расставлять всякие щиты у него, потворствуя запустению, но мы заметим, что фанерный лик по-своему благословлял местность и напоминал гражданам о долге перед страной, чем уже был весьма полезен.
В свежей майской зелени непрерывно возилась живность, обрадованная теплом и тишиною пустого парка — не совсем парка даже, чего-то среднего между лесом и оставленной без глаза усадьбой. Место было удаленным, даже вездесущие дачники редко достигали его, а уж эти, шляясь туда-сюда, куда только не заходят и какого беспокойства не доставляют. (Те ж из них, что охотятся на ягоды и грибы, вовсе несносны и должны отправляться на «перековку». )
Мужчина между тем уже крепко спал. Лоб его, рассеченный бороздками бледной кожи, разгладился, дыхание стало ровным, и лицо приобрело какое-то детское выражение, какое бывает у московского школьника, впервые увидевшего верблюда.
Иногда из ветвей вылетала птица, садилась у его ног в расчете получить крошек. Птичьи надежды не оправдывались, и она летела со свистом прочь, отмечая человека как бесполезного. В отличие от крылатых, белки попрошайничали навязчиво, словно цыганские дети у вокзала, чувствуя, вероятно, генетическое родство с приматом. Крутились подле него рыжими мазками, а одна, совершенно обнаглев, взобралась по лацкану на плечо, ткнулась носом в щеку и уже оттуда, кинувшись вдоль стены, нырнула в гущу боярышника, готовая рассмеяться своей проказливости.
Человек не пошевелился. В эти минуты он видел весьма необычный сон — даже по меркам последних недель, когда, стоило закрыть глаза, голову наполняли странные видения, оставлявшие послевкусие отчаянной неразберихи. Как в Содоме и Гоморре перед самым концом. В нынешнем сне он, то ли уже почив, то ли, выразимся, авансом оказавшись у Райских Врат, обнаружил вокруг себя вовсе не твердь земную и не хрусталь небесный, а бескрайнюю водную стихию — океан льдисто-голубого оттенка в безветренное чистое утро.
Он сидел один в узкой лодке, упираясь босыми ногами в мокрое шершавое дно, и в руках держал не моссельпромовскую цигарку, а маленькую необыкновенно тяжелую книгу, открывать которую не хотелось. Переплет был липким и неприятным наощупь, будто весь в непросохшем клее, пахло от него кислым. В то же время ясным было сознание того, что книгу эту никак невозможно бросить и вообще выпускать из рук — от самой мысли об этом резал ужас, как от видения бездны под ногами, словно в этой треклятой книге состояла сущность всей его жизни. Но если о ней забыть и попусту не трепаться, то все как будто становилось на свое место — лодка скользила по воде, грудь дышала, солнце золотило волну… Сделав это открытие, он тут же притворился, что руки его пусты и нет в них никакой дряни. Ему сразу стало спокойнее.
Райские Врата (имелась полная уверенность, что это они, хотя, скажем честно, указателя он не видел) были отмечены двумя островерхими утесами, едва выступающими из вод, за которыми стояло радужное свечение. В нежной дымке вдали что-то переливалось, но что именно, было не разглядеть. Оттуда же, летя над мерцающей синевой, доносилось эхо оркестровых тарелок — как на празднике дракона где-нибудь в Сычуани, только без хлопушек и едкого дыма, заставлявшего слезиться глаза — бывшего, возможно, одной из причин характерного прищура китайцев.
Метрах в десяти от невидимой черты лодка, шедшая к Раю сама собой, резко остановилась, едва не вывалив пассажира. Кое-как удержавшись, М. подобрал ноги и тревожно замер, провожая взглядом парящего над утесами пеликана, с легкостью преодолевшего барьер и скрывшегося в далеком сиянии. Одно крыло птицы было аспидно-черным. Не прошло минуты, как она пронеслась обратно — то ли была посыльной и пользовалась служебными привилегиями шастать туда-сюда, то ли бессловесным тварям был дан абонемент на сей счет — потому что тут же за пеликаном, вопреки всякому разумению, Врата преодолела собака неизвестной породы, летевшая, растопырив лапы. На незримой границе с ее шеи в воду упала веревка с камнем, обдав брызгами лодочного сидельца.
Затем М. проводил взглядом еще одну летающую собаку (без камня, но с обваренным боком, вмиг исцелившимся на границе) и стал терпеливо ждать, перебирая варианты, отчего он здесь, что может с ним дальше стать и не придется ли среди прочего также лететь по верху. Беда в том, что мысли лезли в голову разом, толкаясь и споря между собой. Ни к какому выводу в такой сумятице прийти было невозможно. Зато время мелькало со сверхъестественной быстротой.
Стало жарко. Солнце подкатило к зениту. А единственное, что произошло, была стая серебристых селедок, умчавшихся по воздуху вскоре за кабысдохом, скинув в воды обрывок сети.
Обескураженный М. ерзал на узкой банке. Спина его затекла, но встать и даже поменять позу в шатком судне виделось чреватым. Вода, хотя чистая и прозрачная, глубоко прорезанная лучами, не казалась очень уж дружелюбной, свалиться в нее совершенно не хотелось. Скрестив неудобно ноги, он задремал на своем насесте.
Минуло еще часа два, когда воды вспенились, суденышко закрутило, а вместо Святого Петра с золотым ключом, остерегающего Предел, из пучины поднялось огромное подобное осьминогу чудовище и голосом, льющимся отовсюду, без всяких предисловий возвестило: «НЕ ГОДЕН!».
Вырванный из сна М. заморгал и заозирался, пытаясь уловить суть. Однако других сообщений не последовало. Волны сошлись над «кракеном». Тут же лодку дернуло за корму и начало медленно относить назад — дальше и дальше от недостигнутого.
М. посмотрел за борт, силясь разобрать, что его несет, но не разглядел ничего, кроме неясной тени в толще воды, принадлежавшей какому-то медлительному гиганту, который, похоже, и волочил его прочь от Рая. От одной мысли, что за штука властвует над его судьбой (да еще и лодка может перевернуться!) к горлу поднимался желудок.
М. скользнул на дно, вцепился в борта руками и зажмурился, стараясь думать о чем-нибудь ободряющем. На ум пришло видение кружки пива и сосисок в томате… Неприятно удивленный своей натурой, от которой ожидал большего, хотя бы отдаленно геройского, он отругал себя за ничтожность помыслов и постарался представить что-нибудь возвышенное — святого кисти Буонарроти8 или замысловатую фигуру из геометрии… бескрайнее русское поле, в конце концов! Последнее у него получилось и даже с милой полуобнаженной крестьянкой, которая (вот же грех!) готовила на костре похлебку. Видимо, пища входила в любой, даже самый возвышенный сценарий его бытия.
Спустя какое-то время, определить которое невозможно, он обнаружил, что все также, скрючившись, лежит в лодке, но ни радуги, ни утесов уже не видно, а вокруг лишь серые холодные волны под вздувшимся низким небом, затканным облаками. Что ему делать и даже о чем в подобных обстоятельствах думать — неизвестно.
Тут он, на черте отчаяния, зацепился взглядом за лежащие вдоль бортов весла, которых, ей! — не было раньше в лодке, и возликовал: весла воплощали надежду, которой в своем безграничном милосердии огромный седой Бог, стоящий надо всем, не обошел и его — негодного мизерного гребца, блуждающего в бескрайнем. Выбрав наугад направление, он лег на них и начал движение к горизонту, коленями сжав окаянный том, так и норовивший свалиться в воду…
М. открыл глаза. Папироса была раздавлена. Курить совершенно не хотелось; с отвращением он бросил ее в траву, смутно чувствуя мягкое движение под собой, словно еще качался на волнах в лодке. Реальность растекалась как чернильное пятно на рубашке, затирала обрывки сна, возвращая скитальца в подмосковную послеполуденную жару.
Жаль было терять такой сон, снова оказываясь здесь, вблизи оскомины набившего города, его тесноты, суеты, гама, жизни, похожей на газетную полосу — тысячи штампованных букв, собранные в одну бессмысленную фразу под таким же никчемным заголовком. За восторгом дивного сновидения к сердцу подступил мрак, что бывает у нервического склада интеллигентов (к которым, уверен, не относится мой умный читатель, способный рационально смотреть на вещи).
И произошло это в тот момент, когда на дорожку справа явился человек, одетый в белую сорочку «а-ля граф Толстой», черные шаровары, стянутые шнурками у голых щиколоток, и цветные мягкие туфли со вздернутыми носками. Под мышкой у незнакомца красовалась шахматная доска, за спиной — пара складных парусиновых табуретов на лямке, и лицо выражало такую скуку, какая бывает у только что осознавшего, что еще один день безвозвратно прожит, и прожит совершенно напрасно, и что исправить положение может только хорошо проведенный эндшпиль.
Незнакомец сравнялся с ящиком, на котором сидел М., пристально осмотрел предмет, затем взглянул на оседлавшего его человека и с надеждой в голосе быстро заговорил, выдавая до крайности увлеченную натуру, пересилить которую сам бы рад, да нет никакой возможности:
— Извините, что беспокою! Я не сумасшедший и не бандит! — выпалил он с энергией. — Меня зовут Александр! У меня тут дача неподалеку!
«Дачник… — неодобрительно хмыкнул М., желая куда-нибудь провалиться. — Только этого не хватало! Сейчас справиться, каким методом я подвязываю горох или еще какую-нибудь чушь вроде этого».
Пришелец между тем продолжил, и вовсе не про горох:
— Вы, случайно, в шахматы не играете? Мой товарищ, знаете, не приехал и я, выражаясь образно, завис между черными и белыми. Прямо напасть!
Он обескураженно улыбался, будто признавая, что все это звучит глупо, но что поделать.
М., философский настрой которого перебили, встал, механически принимая рукопожатие, и представился в ответ не своим именем, желая как можно скорее избавиться от незваного компаньона, но уже наверняка зная, что согласится составить партию.
Внезапных знакомых он не любил, впрочем, как и давних. Однако этот престранный тип показался ему симпатичным. Черты его были мягки и в глубоких карих глазах не мерцало ничего отталкивающего. К тому же, кажется (к счастью, к счастью!), его совершенно не интересовал собеседник, а только сама игра. Ну, одет чуть странно, однако чисто. Правильный слог. Азартен. Возможно, он просто не умел по-другому занять себя, кроме как за доской, и за этим пришел сюда.
— Так что же вы на счет шахмат? — интересовался настырный тип, наклонив по-собачьи голову. Уши его на свет казались из розового фарфора, а весь образ необыкновенно комичен.
— Вообще-то не увлекаюсь… так… — М. пожал плечами, сдерживая смешок.
Он действительно не часто играл. Иногда с Нехитровым, но с тем редко выходило довести партию — темперамент не позволял. Нехитров был из породы людей, способных переключаться каждую минуту на новое и страдавших, когда этого нового не происходило; после десяти ходов он отвлекался, потеряв интерес к игре, тут же звонил кому-нибудь и срочно бежал на встречу по какому-то неясному поводу (лучше — далеко за пределами музея).
— Отлично! Отлично! — обрадовался пришелец, немедленно посветлев лицом, словно это «так» было выражением согласия. — Я вам скажу: и в более оживленных местах иной раз, кроме мамаш, гуляющих с детьми, никого не найти на партию. Хоть лопни! А эти дуры никогда не играют! В лучшем случае находится какой-нибудь старик, путающий слона с ферзем. А уж тут, в этой глуши, вообще… Если у вас, конечно, есть лишние полчаса?
— Увы, я никуда не спешу и буду играть вашу партию. Но не взыщите, если я перепутаю слона с ферзем или даже с пешкой. Шахматы — явно не мой конек, — шутливо сдался М., разводя руками.
— Вы не пожалеете, будет весело! — заверил его пришелец.
Слово «весело» да еще с восклицательным знаком плохо клеилось к шахматной игре, скорее уж к футболу или прыжкам в воду, но, глядя в загоревшиеся глаза гроссмейстера, приходилось согласиться, что для кого как.
Этот мятущийся шахматист, право, был колоритен. Через секунду он уже сидел на складном табурете напротив М.. На траву, заменяя стол, легла позавчерашняя «Правда».
— Стола я, разумеется, не ношу — слишком громоздкий. Но у меня он есть!
«Счастье-то какое!», — усмехнулся про себя М..
— Обычно в парках скамейки… а тут, в этой местности все как-то не приспособлено… Ну, так даже экзотичней! И я должен сразу вам сказать, — тут он посерьезнел, филином округлив глаза, — что играю я профессионально. Важно, чтобы вы знали до начала, а то нечестно будет. Ладно? Играем?
М. пожал плечами.
— Стало быть, вы не партнера, а жертву ищите в этих зарослях? Коварству шахматистов нет предела — пресса в кои-то веки сказала правду. Так и быть, играем! — согласился он, сам невольно развеселившись, хотя и пришел сюда, к павильону, именно для того, чтобы побыть одному, а не развлекаться случайным обществом.
— Может, все-таки… — завертел головой энтузиаст, — нам устроиться там, подальше? Здесь скоро солнечно будет, а жара очень отвлекает. Давайте? — указал он под деревья чуть одаль от павильона, где сходились две засыпанные листвой дорожки. — Уютное место и прохладнее.
Шахматный бивуак переместился на тенистую плешь под купой патлатых вязов. Соперники вновь расселись по табуретам.
— Слышал, на каком-то турнире один участник специально настоял на том, чтобы в зале было жарко натоплено — хотел досадить противнику.
— Сам он играл в другом?
— Чего не знаю, того не знаю.
— Если нет — не слишком умный ход с его стороны.
Словно в пику сказанному об уютности места, сзади, надрывая клаксон, на них едва не наскочил велосипедист в клетчатой куртке и очках-гогглах. Ищущие приюта шахматисты насилу успели отскочить в стороны и были награждены ругательством.
— Сволочь! — крикнул гроссмейстер, провожая нахала взглядом. Догнать его не было никакого шанса.
— Определенно, мерзавец, — согласился М., отряхивая штанину.
Гроссмейстер достал монету.
— Решка — на белые. Бросайте вы.
М. подбросил блестящий гривенник и, конечно, выиграл черные.
— Готов с вами поменяться.
— Не нужно, выйдет неспортивно, — отказался М. и принялся расставлять фигуры.
— Запись ведем самостоятельно. У вас бумага-карандаш есть?
— Нет. Можно ведь и без записи…
— Вот, возьмите, — протянул шахматист блокнотик, второй такой же положив себе на колено. — Ношу для подобных случаев — привычка. Знаете, собаковод идет в парк, чтобы выгулять питомца, влюбленные — походить под ручку, а любители гимнастики для ума — еще раз доказать, что способны натравить коня на слона.
Он замер, испытующе глядя на партнера, словно сказал какую-то шутку и теперь ожидал реакции — коей, к его досаде, не последовало. М. лишь смахнул сухой лист и пристроил в угол блестящую лаковую ладью. А когда фигуры были расставлены, прикрывая блокнот ладонью, начертил в нем один в другом два квадрата, соединив линиями вершины, и меланхолично уставился на шеренги «белых», ожидая первого хода.
— Помимо собаководов, влюбленных и шахматистов в парках бывают шулеры, карманники и, как мы теперь знаем, велосипедисты. В велогонке мы только что поучаствовали, а четвертое с пятым наказуемо. Остановимся, пожалуй, на шахматах. Ваш ход, синьоро!
Белая пешка шагнула на B4. Черная ответила симметрично.
Мы бы сказали, что все вокруг с подозрительнейшим видом затихло, сверкнула молния в чистом небе, а затем порывом ветра опрокинуло что-нибудь с громким «бах!» — например, рухнул у павильона тот самый неуклюжий плакат, до полусмерти испугав белок… Но реальность, если сравнить ее с механизмом, устроена гораздо практичней. В результате перфекционизма Творца, достигшего во всем идеала (кроме утконоса, пожалуй), ничего подобного не произошло. Если что-то и изменилось вокруг, то за пару дернувшихся листочков мы не в ответе.
Партия развивалась. Зигзагом шагали кони, подгоняемые обезумевшими ладьями; эмансипированные и могущественные «королевы» затевали перевороты, соблазняя обещаниями слонов; в авангарде рубились пешки; короли злокозненно подстрекали, притоптывая на клетке… Мироустройство, втиснутое в квадрат, кипело событиями и страстями.
Ровно через двадцать минут гроссмейстер с нескрываемым удивлением констатировал мат белым. Какое-то время он сидел молча, потирая плечи ладонями, еще раз перечитал свои записи, а затем воскликнул, спугнув из ветвей дрозда:
— Вы не просто сыграли — вы сыграли!
М. примирительно поднял руки и тут, словно обнаружив что-то в копилке памяти, ткнул пальцем в лишенную белых доску:
— Дайте вспомнить… Стратегия игры заключается в накоплении мелких преимуществ. Чьи слова, не скажу.
— Вильгельм Стейниц9, — автоматически ответил гроссмейстер.
Тут он встал и чинно обратился к партнеру:
— Спасибо вам за великолепную партию, — в его глазах читалось недоумение. — Я, право, сделал несколько пометок для размышлений. Назвал бы вашу манеру нестандартной и при этом фантастически изящной. Будто… опрокинутый полный бокал с вином, из которого ни капли не пролилось. Никогда не имел чести о вас слышать, что странно — я знаю, кажется, всех серьезных шахматистов Союза и не только. Не возражаете, если мы обменяемся адресами? Буду счастлив с вами сыграть еще.
— Приношу извинения, но я определенно не игрок и этой случайной партии мне надолго хватит. Удачи вам и спасибо еще раз, — отвернувшись, М. торопливо вырвал лист из блокнота и отдал имущество владельцу. — Извините, правда… Это не из пренебрежения вами, просто я… не приспособлен для шахмат. Да и времени вечно нет.
— О, это горчайшее заблуждение! — гроссмейстер был явно разочарован. — Впрочем… что же… может быть, когда-то еще… Позвольте на прощанье вопрос: этот ваш метод записи… я невольно обратил внимание… схемы, которые вы чертили… Вы шифруете ходы? Зачем?
— Просто привычка. До свидания.
М. развернулся и быстро пошел прочь, ругая себя за чванство.
«К чему было так стараться? Устраивать этот цирк. Задело, что назвал себя профессионалом? Повел себя как мальчишка!» — ругал он себя, стараясь быстрее вырваться из аллеи.
Как на зло по пути ему начали попадаться следы людского чревоугодия и откровенного свинства — огрызки, бутылки, бумаги вокруг кострища. М. гадливо косился на них, чувствуя себя совсем дурно. Его едва не стошнило несколько раз. Наконец добежав до станции, взмокший, он сел на случайный поезд и скоро прибыл на Саратовский, ныне Павелецкий вокзал, кишмя кишащий народом.
Оказавшись в толпе, где всякий тащил что-то на спине или в руках и двигался с явной целью, толкаясь с остервенением, какое вызывает в пассажире железная дорога, М. едва сдержался, чтобы не взвыть. Какой-то мутноглазый волжанин, сидящий у выхода на мешках, мешая всем и всеми же недовольный, нехорошо поглядел на него, когда он чуть не сорвался с лестницы, оступившись. С потолка забубнил динамик, приглашая штурмовать поезд на Кострому. Компания, устроившаяся на изгвазданном полу, живо поднялась, внимая его призыву, и двинула к назначенному перрону.
«Думают, поди, что я пьяный, — мелькнуло у него в голове. — Лучше бы, лучше бы… Больше нельзя так, покончим с этим!».
Он пронесся сквозь вестибюль, уворачиваясь от пассажиров как от чумных, выбежал на привокзальную площадь и буквально отбил извозчика у бедолаги в измятой шляпе, который уже вставал на подножку.
— Вдвое даю! — крикнул М. сутулому мужику, пристроенному судьбой к лошадиному крупу, и вскочил на теплое от солнца сиденье, отвернувшись от пунцового лица конкурента, пытавшегося восстановить справедливость.
Тот, имея вдвое лишнего весу, задохнулся, разгоняясь для крика, но извозчик энергично встряхнул вожжи, отчего тарантас покатился вслед за голенастой кобылой, оставляя возмущенного инженера из Уральска на пыльной площади искать счастья. Москва была недружественна ему, он сразу это понял, и твердо решил ни ногой в нее больше не соваться.
Кошмарное утро гражданина Гринева
Илья проснулся от бешеного звона кастрюль, которые, судя по всему, тысяча чертей начищали в эту минуту костлявыми грешниками вперемешку с галькой. Древние как динозавр часы на тумбе показали на «6». И в такую рань мир уже сорвался с катушек!
— Что за?.. — простонал Илья, не окончив фразы, и болванчиком вскочил на постели, свесив худые ноги с кровати.
Неверной со сна рукой он нащупал очки на тумбе и, не сразу нацепив их, какое-то время провел в белесой кисельной мути, хорошо знакомой всякому страдающему близорукостью человеку.
Шум на кухне между тем не только не прекратился, но дополнился шаловливыми криками и возней, которые могли происходить только из одного источника — дети. И не просто дети, а тот их самый несносный сорт, что носятся по квартире, очертя голову, воображая себя в какой-то питерпеновской Неверландии. Плюс — женские визгливые голоса, то ли скандалящие меж собой, то ли поносящие за глаза кого-то, неслись через всю квартиру и гвоздями застревали в мозгу.
— О, боже… Тундра что ли приехала и врубила телик? — простонал Илья, шаря рукой в поисках сложенных с вечера штанов.
По обыкновению, он спал совершенно голым, и так бы вышел сейчас из спальни, если бы не уверенность, что диковатая его постоялица приехала без предупреждения, и, хуже того, включив на полную какое-то дурацкое шоу с «ха-ха» за кадром, орудует на кухне с остервененьем хмельного гунна. Хорошо еще, если одна, без кого-нибудь из своей научной своры — сплошь разбойники и чудовищные зануды со степенями.
«Если одна, то голым будет как раз», — мелькнула шальная мысль, но приличия есть приличия, и штаны Илья все-таки натянул.
Ворваться так вот, ни свет, ни заря в чужое жилище — вполне было в ее стиле. Дама не отличалась излишним тактом и пренебрегала в принципе этикетом, даже профессию выбрав себе такую, которая подчеркивала мимолетность и бренность всего условного — археологию. Какие еще приличия, я вас умоляю?! Неужели кто-то может спать до шести утра?! Да ладно… Вставайте, раз я пришла, песьи дети! Что ваше удобство на фоне вечности? Там тысячелетие, здесь пятьсот, сотня туда-сюда… Перстень древнего мертвеца на мизинце — как она его только носит? Бр-р-р! А мертвец-то, может, убил за него соседа и сам за недолгим сгинул где-нибудь в Римской Галлии, когда Берлин еще был деревней — за два тысячелетия до Люфтханза10.
Чтобы успокоиться, Илья нетерпеливо досчитал до пяти, потом еще и еще раз. Без сомненья, это она; приехала из очередного похода ночью и решила обрадовать покладистого дружка утренним концертом. Отобрать ключ и точка. Может, хоть яичницу из сострадания приготовит? Дикарка… Но какая дикарка, други мои! Это же прелесть, что за дикарка!
— Тундра! — вскричал Илья, спотыкаясь. — С ума что ли сошла, в такую рань?! — его губы, помимо воли, расползались в улыбке.
Никто ему не ответил. Голоса на кухне, между тем, не затихали ни на секунду.
Тут в дверь что-то врезалось с характерным грохотом — какой-то идиот катался по коридору, а теперь велосипед вместе с седоком навернулся, протаранив вепрем старые доски. Из-под косяков на пол посыпалась штукатурка.
Раздался хриплый детский плач, как плачут только откормленные противные мальчишки с толстыми ногами и грязной шеей — ябеды и будущие мерзавцы.
— А-а-а!!! — возопил Илья, бросаясь к двери, сам едва не растянувшись на взгорбившемся за ночь паркете.
— И-и-э!!! — ответили ему снаружи, колотя ногами об пол.
— Чтоб тебя… А что с полом? — паркетные шашки дыбились под незнакомым половиком, похожим на половую тряпку. — Водой что ли залило ночью? Почему сухо тогда?
Когда Илья открыл дверь, то обнаружил подтверждение худшим из своих опасений: на полу рядом с перевернутым трехколесным велосипедом валялся и орал карапуз лет пяти, необыкновенно крепкий для своих лет — маленькая копия Халка11, только что не зеленая. Далее в темном коридоре стояли его подельники — тощий подросток в каком-то рубище и вертлявая круглолицая девочка в сарафанчике со съехавшим набок жутким бантом. Другой она держала в руке как кистень (которым он, возможно, в ее представлении и являлся).
Неудачник-рейсер продолжал колотить ногами, девочка — радостно улыбаться. Абсолютно безжалостные существа эти девочки с бантами.
Подросток при виде Ильи отступил на шаг, глядя на него исподлобья, и простуженно просипел:
— Здрассть, дядь Илья.
Все происходящее в сумме — утро, горбатый пол, голоса, и то, что совершенно незнакомый парень, неведомо как оказавшийся вдруг в квартире, назвал его по имени, совершенно выбило Гринева из колеи, вдоль которой, откровенно заметим, он и так не слишком уверенно продвигался. Жизнь предстала сплошным кошмаром, будто закулисье театра, из которого Илью, случайно туда попавшего, настойчиво толкали на сцену говорить роль, перепутав с кем-то из труппы.
Соображая, что со всем этим делать, он обошел вниманием ту секунду, в которую слева со стороны кухни явилась сухощавая высокая женщина в косынке и, гаркнув на детей «А ну!» — мгновенно очистила помещение, заставив всю банду опрометью куда-то деться, забыв ненадежный транспорт. Женщину эту с грязным полотенцем в руках, тут же вернувшуюся обратно, как и атаковавших его детишек, Илья видел первые в жизни.
Творилось что-то необъяснимое.
Идею разобраться со всем этим немедленно он раздраженно отмел и даже замахал руками на кого-то невидимого, как бы сообщая ему: «Нет, нет и нет! Полный идиотизм! Не может такого быть! Все это — дурной сумасшедший сон. Надо же, с самого утра — и все сразу…».
— Нужна горячая ванна, — выдохнул Илья обреченно, направившись босиком к спасительной ореховой двери с одутловатым путти под лейкой, купленным год назад в Амстердаме… которая отчего-то предстала перед ним грязно-белой, облупленной и к тому же запертой изнутри.
Остатки сна окончательно слетели с него.
Ремонт, творившийся по частям, недели не прошло, как облагородил санузел и прихожую старинной квартиры, придав им черты опрятного четырехзвездочного отеля.
Илья ошарашенно осмотрелся: за одну ночь «евро-парадиз», исполненный бригадой молдаван, превратился в обшарпанный кошмар коммуналки. Запахи в квартире были чужими. И сама прихожая выглядела чужой, до края запущенной, заваленной какими-то незнакомыми вещами, которые ему не принадлежали и не могли принадлежать в принципе — разве он, сам того не зная, сделался старьевщиком, пока спал.
В проволочной сетке над бурыми тушами пальто дремала длинноухая шапка. Брезентовый дождевик «друг вахтера» на вбитом в косяк гвозде. Рубильник с эбонитовой ручкой и витая проводка от него по стене. Всюду валялась дрянная обувь. Рядом с дверью на стене висел неизвестно откуда взявшийся плакат, изображавший слащавый усатый лик, обозревающий толпу взволнованных хлебопашцев. Последние, вцепившись в серпы, снопы и острые косы, с одобрения усатой головы-дирижабля норовили шагнуть с картона прямо в прихожую, чтобы увлечь Гринева с собой — в светлое будущее или еще куда-то, куда им приспичит быть. По лицам судя, спрашивать его отношения к вопросу они не собирались, а орудия труда в их руках легко превращались в оружие пролетариата. Серп, доложу я вам, очень убедительный аргумент в деле социального обустройства.
Илья помотал головой, не веря глазам своим. Точнее, не веря им десятый раз за минуту, прошедшую с его пробуждения.
— Какого?.. — начал было он.
Дверь ванной тут распахнулась, выпустив вместе с паром в прихожую лысого мужчину за пятьдесят в сахарной влажной майке и с каплями воды на ушах.
— Доброе утро, Илья Сергеевич! Доброе утро! — пропел купальщик, юркнув мимо Гринева, и скрылся в боковой комнате, которая еще вечером была его кабинетом.
За открывшейся на несколько секунд дверью мелькнул покрытый скатертью стол и угол кровати с горой подушек. Оттуда же слышалось приглушенное кудахтанье приемника, которому незнакомец решительно взялся подпевать в худшей манере доморощенных Карузо12, уверенных, что энтузиазм кроет отсутствие таланта как бык овцу.
Илья, как стоял, так застыл на месте, взывая к совести своих чувств, включая шестое, которое, как известно, обнаружено до сих пор только у дельфинов и беременных женщин. Реальность определенно шалила.
Квартира эта в доме на Мясницкой, принадлежавшая некогда мануфактурному инженеру Оскару Бенедиктовичу Штотцу, чем только не побывала — коммуналкой, приемной комиссара и жилконторой, переделана была трижды, но в итоге чудом осталась за потомками семьи Штотц. Теперь ею владел и распоряжался правнук благородной Марии Оскаровны — тридцатилетний Илья Гринев — не преуспевший программист-математик, живший со студенческих лет торговлей антиквариатом и случайными заработками. Нынче было его худшее утро, и насколько худшее, он сам еще не знал в полной мере.
Позже, в минутах до жаркого майского полудня, после ухода камфарой пропахших врачей, он сидел, согнувшись, в мятой постели, обхватив колени руками, и смотрел на молодую миловидную женщину в ситцевом ципао, хлопочущую вокруг него. На тумбе блестели пузырьки, и она капала из них им обоим в стакан с водой.
Женщина эта, сбегав дважды звонить к соседям — уведомить начальство о невозможности явиться на службу в связи с внезапной болезнью мужа и вызвать карету «скорой», была не на шутку испугана. Суть заболевания от коллег она благоразумно умолчала, соврав про пищеварительную систему — кто не поверит, что вы отравились килькой? Но себя-то ведь не обманешь! С человеком явно что-то творилось. Первый ужасающий симптом состоял в том, что он отказывался кого-либо узнавать, в том числе ее — собственную жену, от которой требовал объяснить, кто она и почему находится на жилплощади. И вообще — психовал, ведя себя как безумный. Требовал какой-то «мобильник» и желал знать, куда со стены девали «новую плазму». Хуже того, не являлась ли ночью женщина — женщина! — восточной наружности с массивным кольцом на пальце?
Что ж это происходит, скажите, а?
Подкожная инъекция, впрочем, явно пошла ему на пользу. Это ее немного успокоило, однако поведение мужа, без сомнения любимого и еще вовсе не надоевшего, оставалось пугающе ненормальным. Устроив погром в ванной и явившись по пояс голый в общую кухню, безумец обругал соседок Зинаиду Львовну и Морошку Кааповну, требуя от них немедленно убраться вон. «Прекратить бардак и убраться!» — так он и выразился, возопив с порога, будто укушенный.
Зинаида Львовна, минутой ранее покончившая с тестом для пирога, оторвалась от шинкования капусты, сплюнула в раковину окурок и сочувственно посмотрела на Вареньку:
— Эх, мужья, мужья… что творят…
Тут она, отмахнувшись от смущенной Вареньки, глубоко вдохнувшей, чтобы сказать, но еще не решившей, что именно на такое говорят, отколола невиданный пассаж — достала из буфета графин, стопку, и в один мах наполнила ее до краев, передав соседке:
— На вот, чтобы из твоих рук. Перегулял вчера, понесло умом. Пусть лечится, потом разберемся… А ты, — обратилась она к Илье, — не скандаль! Сейчас милицию позову, пятнашку отсанаторишь на шконке!
Тут гражданка Быстрова, как ни в чем не бывало, вернулась к недобитому кочану и продолжила крошить бессловесный овощ с видом опытного хирурга.
Ее весомая отповедь произвела чудодейственный эффект, подкрепленный немалых размеров стопкой, из которой Илья проглотил комком, задохнувшись на секунду от резкого вкуса водки. В желудке зажглись огни, а голову облепило ватой, переключив мысли снаружи на богатый внутренний мир.
В этот момент безволия, подхваченный неведомой ему дамой (его супругой, как она утверждала), горемыка был препровожден в ванную, где она проследила за умыванием, а затем в комнату, в которой он проснулся сегодня утром — то есть в его собственную спальню, которую он теперь делил с этой дамой на неведомых основаниях, и которая (спальня) тоже неузнаваемо изменилась. Он понять не мог, как вообще не заметил этого сразу, в первый же миг после пробуждения? Мебель другая. Обоев нет. 3D нет. Люстра… люстра осталась та же.
Там, в спальне, к нему вдруг вернулась разговорчивость, и разговоры эти Вареньке чрезвычайно не понравились — потому что нес ее правоверный всякую чушь, о которой мы уже говорили. Еще требовал срочно позвонить какому-то Каляде, который, возможно, в курсе, что именно происходит. Грозился писать в полицию, подать в суд, уведомить президента и еще что-то, что она не запомнила. Клялся перед комодом, что ничего запрещенного не употреблял — ни вчера, ни когда-либо еще в жизни, даже в Амстердаме, где это можно. Метался, просил и плакал как сумасшедший.
Супруга испуганно соглашалась, понятия не имея, о чем он вообще толдычит. Хотела позвать милицию, но что-то ее остановило в мужнином взгляде. Теперь уже, вслед за решительной соседкой, она сама себя уверила, что он пострадал от горячки «после вчерашнего», хотя прекрасно знала — никакого застолья не было: Ильюша гулял с ней в парке, после обеда посетил «Ленинку», а затем до темна сидел во дворе, чиня велосипедную цепь, и вернулся домой совершенно трезвый, хотя и поздно. И вообще не злоупотреблял, разве на чужой свадьбе.
Сердитая досада на дурака быстро сменилась страхом, уж не вовсе ли помешался муж, и что теперь делать, если так? Куда, например, сдают в Москве сумасшедших? Вестимо, в психиатрию, что в общих чертах понятно. Однако же, как их помещают туда? К кому ехать и что просить, какие заполнять документы? По дому поползут слухи… На работе — шепотки, подначки, неискренние сочувствия… Подруги, любопытные стервы, начнут выспрашивать… Ужас! Да и муж все-таки, не скотина чужая. Свой, говорящий муж, с руками, ногами и как положено. Ах, лучше бы он молчал!
Илья меж тем метался по комнате, норовя выскочить и накуролесить. Варенька преграждала ему путь, явив от себя самой нежданную силу духа и убеждения. А вечером, попросив присмотреть за больным соседа (того самого отмытого до блеска утреннего купальщика в белой майке), она выпорхнула в аптеку за валерьяной, которая ведрами шла сегодня, и очень скоро вернулась, испуганно теребя платок, ожидая увидеть худшее.
Но все было спокойно и даже мирно.
За несколько минут, что ее не было, между Ильей Сергеевичем и сторожившим его Матиасом Юховичем, супругом Морошки Кааповны, состоялся разговор, от которого первый впал в совершенный ступор и теперь молча сидел у окна на стуле, едва не забыв дышать. Сконфуженный Матиас Юхович молча стоял у двери.
Не знаем, о чем именно шла в нем речь, но на коленях у Ильи лежала газета с сочной надписью «Правда», пестревшая заголовками. Заголовки эти, по всему судя, и даже отлично исполненные фотографии, нисколько его не интересовали, потому что взгляд страдальца был прикован к строчке в самом верху: «Понедельник, 26 мая 1930 г.».
Как и что еще случилось в тот вечер в жизни Ильи Гринева, нам достоверно неизвестно. Был он, пожалуй, муторным и мутным, полным дурных предчувствий, попыток разобраться в происходящем и так далее — как у всякого нормального человека, попавшего в неописуемый кавардак.
Известно лишь, что в час, когда побронзовевшие солнечные лучи скользили с теплых московских крыш, оставляя город, он лежал, укрывшись с головой одеялом, и смотрел в уголок окна, мечтая поскорее уснуть, а проснуться уже в привычном мире, сойти по узкой лестнице вниз, выйти из подъезда и пешком пойти к кабачку на Большой Грузинской, где бы, с легкой руки, и заночевать за столом с графином — лишь бы не видеть перед собой упрямую цифирь «30», стоявшую перед взглядом.
Варенька, утомившись не меньше мужнего, сидела подле кровати, и рада была, что он затих и больше не мучил ее расспросами. Ее клонило все больше в сон, но она одергивала себя, внушив, что если заснет, то Илья непременно выберется из комнаты и отколет что-нибудь несуразное. Соседи готовились к ужину, но она все не выходила. Раз-другой заглядывали спросить — Варенька только пожимала плечами.
Наконец, не в силах больше сопротивляться, она, как была весь день — в полосатом измятом платье — легла осторожно с притихшим мужем, вслушиваясь в его дыхание.
Обоих поглотил сон.
День второй
Под утро в зыбком сумраке городской зари, наполнявшем комнату, Илья проснулся и сразу же потянулся за мобильником, чтобы посмотреть время. Ему снился спутанный колтуном кошмар — ночь, холодные переулки, люди с факелами, ищущие его. Спасаясь от них, он скрылся в канализации, где на него набросились крысы, которых он стал давить ногами, приплясывая в ледяной жиже. Короче, бесноватая ерунда.
Пошарив, вместо привычного «смарта» он схватил какой-то непонятный предмет — холодный, маленький и волнистый. Илья удивленно посмотрел на него: на ладони лежала бледная селенитовая рыбка с черным зрачком и насечкой «Пышминская Артель» вдоль брюха. Грубая копеечная поделка.
В голове галопом пронеслись картины вчерашнего.
В панике он кинулся к прикроватной тумбе: поверх кружевной салфетки стояло малахитовое нечто, изображавшее пучок водорослей, с двумя пустыми гнездами. Обитателя одного он держал в руке, второй отсутствовал. Рядом недопитый стакан, источающий запах валерианы. Никаких мобильников не было и в помине. На полу лежала проклятая газета, издевательски подмигивая заголовком.
Илья мученически застонал и зажмурился. В голове одна за другой вспыхивали болезненные картины произошедшего — какой-то ядовитый артхаус, которого не могло быть на самом деле. Сердце стукнулось о желудок.
Тут же рядом с подушки вскочила женская голова в спутанных каштановых волосах. Голова, прямо скажем, весьма-таки ничего, хотя и принадлежала гражданке, которой не могло существовать в настоящем — разве где-нибудь в доме престарелых в плюшевом чепце, или в чем там спят древние старухи по весне… На лице ее отпечаталось беспокойство, глаза искали чего-то, а чего — боги не разберут. Полосатое платье сбилось. Открывшиеся под ним виды отметали всякую возможность поместить гражданку в ряду старух, даже за хорошую плату. Варенька (так ее, кажется, называли) была красавицей, а в утренних лучах — несказанной.
На секунду панические мысли Ильи перебило идеями совершенно иными, далекими от поиска правды-истины. Задний ум услужливо прошептал, что все, в сущности, чего он в жизни искал, тут, рядом с ним — и нечего валять дурака. Так суровые аргонавты однажды превратились в не менее суровых свиней, повстречавшись с прекрасной дамой на острове. Вопреки рассудку, в свином образе было что-то притягательно-эротичное. Начитанный Илья мысленно улыбнулся, представив себя щетинистым хряком, роющимся под дубом. Дуб, кстати, доверяясь известной басне, должен был возражать и читать нотацию. И на нем, возможно, имелась обнаженная русалка с дурным характером.
Илья обессиленно завалился навзничь, стараясь вообще ни о чем не думать. Но ему, как на грех, думалось, да еще как — вьюга всяческих мыслей с воем носилась в голове, выла и корчилась, лишая его покоя. Глаза напряженно искали какую-то ускользавшую точку, в которой крылся ответ — но не находили, едва не лопаясь от напряжения.
Он вдруг даже решил, что умер, а теперь, как это описано у визионеров, духи морочат его рассудок, готовя ступень за ступенью к Страшному суду или перерождению в образе опоссума — за грехи земные… В теориях этих он не был силен, однако, волей-неволей, всякого нахватался и теперь не понимал сам — рад тому, что не особо вникал, или напротив, нужно было сосредоточится на деталях. Что, товарищи? Как в тибетской мантре поется? Хором — за-пе-вай!
Между тем соседствующая на ложе гражданка окончательно пробудилась и требовала ответа:
— Илья, ты в себе?
Что на такое скажешь?!
— Вроде, да… — промямлил безумный муж, живо представляя себя опоссумом, пытающейся вдеть голову в ворот майки.
Тут он, сам от себя не ожидая, прыснул от смеха, прикрыв рот ладонью. Злополучная каменная рыбка полетела с постели на пол. Получилось несколько истерично, однако красавица с облегчением вздохнула и улыбнулась, глядя ему в глаза. Видно, вчерашний день ей тоже вышел не пряником.
Дико! Небывальщина! Кавардак!
Предательские мысли в голове стали настойчивее и громче, и сходились в сумме к нехитрой истине, к которой сводится все на свете, сколько бы оно не петляло: будь, что будет, а есть — как есть.
Илья повернулся на бок и обнял негаданную красавицу, обомлев от собственной смелости — все же гражданка, хотя прелестна, но ему незнакома — даром что лежит рядом.
«Ну и пусть!» — решил он про себя, целуя белую открытую шею.
В этот счастливый миг четырьмя этажами ниже дворник Азиз обихаживал закрепленную за ним площадь вместе с супругой — робкой покорной Гульсибяр, которую ни разу не видели говорящей с кем-нибудь, кроме мужа, подобранного ей родственниками в Казани. Брак считался весьма удачным: муж работал в Москве, имел жилплощадь и вообще — твердо стоял на своих ногах. Девушка была милой, воспитанной в строгости, не обученной ничему, кроме дел домашних. (С образованной-то женой, известно, нахлебаешься безобразий — не должно жене быть умнее мужа, а то не брак, но одна морока!)
Примерно половина двора, влажного после ночного дождя, была на совесть подметена. Вторая, стоящая в тени дома, терпеливо дожидалась своей очереди — Азизу не хотелось уходить с солнца. Был редкий в его жизни момент, когда в голову лезли отвлеченные мысли. Сейчас он вспоминал детство: как скакал на лошади по лугам, как тепло и весело ему было. Если бы вернуться туда на час…
На видном месте в центре двора на люке восседал кот, но его не гнали — Калям из четырнадцатой квартиры, свой, проверенный и надежный, считался «котом в законе».
Мечтой Гульсибяр была шуба-мутон и расписной самовар в райских птицах, которому стоять на подносе, наполняя хозяйское сердце гордостью. Не все поймут, что такого распрекрасного в самоваре, тем более у нее имелся уже один (без птиц, правда, но вполне приличный) — однако, мечта есть мечта. Шуба — это понятно; без шубы Москве приличной даме совсем никак, хоть супруге дворника, хоть актрисе — срам показываться на людях.
К слову скажем, в коммунальном плане чета Садыковых жила в условиях не шикарных, потому что размещалась в подвале, но весьма достойных: в одной из пяти всего отдельных квартир во всем доме, четыре из которых в верхнем этаже занимало партийное начальство. Остальные шли с подселением. Что наверху, как говорится, то и внизу. Может, при такой диспозиции, и впрямь нужны шуба и расписной самовар — лицом не ударить в грязь? Паче грязь эту Азиз собственноручно выметал вон.
Намечтавшись вдоволь, высокий и грузный он снова запыхтел паровозом, выдирая из лужи сор огромной метлой, напоминавшей средневековое оружие — что-то вроде бердыша или глефа. Был Азиз всклокочен, потен, по пояс гол, в портках и брезентовом длинном фартуке — сущий багатур, вышедший стяжать славу.
Гульсибяр поглядывала на него с робким восхищением — все же подругам достались не такие красавцы. То, что уже не молод, это даже лучше: серьезней, домовитей, меньше будет гулять. Скорее бы завести детей…
Орудуя совочком и вспушенной короткой метелкой, она смотрелась рядом с мужем худосочным побегом у бычьих ног и была, за извечную женскую провинность (какую, выберите сами, ибо их не счесть), приставлена к скрипучей тележке с коробкой, в которую муж лопатой собирал мусор.
Над домами пронеслись птицы — тысячи чернокрылых птах, на миг перекрывших небо. Гульсибяр подняла глаза, да так и застыла, глядя на них из мокрого колодца двора.
— Что это, Азиз? — спросила она по-татарски.
Дворник глянул на нее исподлобья, зевнул и ничего не ответил. Кто их знает, птиц этих? — летают, гадят…
Калям смотрел на них с аппетитом и даже приподнялся на задних лапах. Хвост его беспокойно дергался. Кот он был солидный, понапрасну с теплого не вставал, но такого буйства закуски не мог снести и ринулся опрометью в квартиру — выпрашивать второй завтрак.
Изотич
Жилище древнего как латынь Изотича находилось в первом этаже в доме на углу, там, где заворачивает трамвай вблизи известного всей Москве бывшего здания Кожсиндиката13. Ранее еще, как подсказывают историки, там красовался купол над панорамой, которая теперь на Кутузовском14.
Ему действительно перевалило за сотню и в поликлинике его карта лежала на почетном особом месте — толстая как Ветхий завет, глядя на которую регистраторша невольно спрашивала себя, не сегодня ли ее отдавать в архив? Однако настырный Изотич снова и снова приходил, забирал из окошка карту и шаркал за направлением к терапевту, чтобы сдать кровь из синюшной жилы, считать кардиограмму и проверить пошаливающие почки. Никаких, к слову, отклонений, кроме тех, что предназначены самим возрастом, анализ не выявлял, отчего он становился задумчив, поскольку уже давно в приступе меланхолии собирался навестить обеих своих жен, почивших десятилетия назад.
Первая была женщиной восточной, образованной и много на него повлиявшей. Дети их жили теперь в Японии, оба — сын и дочь, занимались какими-то компьютерными кунштюками, в которых он ничего не смыслил. Видел он их в последний раз… — лет двадцать уже прошло.
Вторая, казачка — огонь, тараторка, живчик, вечно тормошившая его, с которой он жил бездетно — изменяла, уезжала с кем-то внезапно, давала страстные телеграммы, возвращалась, что-то бесконечно устраивала. Он помнил только ее лицо и общее мельтешение, от которого иной раз хотелось зажмуриться, а иной — писать навзрыд вирши.
Изотич любил их обеих сильно. Но «разлука длинней любви», как высказался поэт15…
Впрочем, не нужно думать, что старик особенно терзался этой разлукой теперь, по прошествии многих лет, будучи сам у порога жизни. Бывали, не скроем, вечера, когда он тосковал об ушедшем, сидя на стуле у окна в кухне или на скамье у пруда с расположившимся на нем рестораном.
Незнакомая, лившаяся с террасы музыка, не подсказывала ему слов, отчего он чувствовал себя забытой ненужной вещью, за которой не вернется хозяин. Девушки за столиками кутались в пледы и смеялись. Парни курили с развязным видом. Дети с бережка щипали уткам багет. Звякал трамвай и шуршали шины невиданных, похожих на снаряды автомобилей, не желавших признавать родство «Победы» и «Москвича» — как эти девушки, дети и даже утки не признавали родства наблюдающего их возню реликта, пережившего целый век. Может быть, лишь деревья, из самых старых, еще готовы были шептаться с ним, но в таком возрасте уже не удивишь ни новостью, ни воспоминанием, ни надеждой, ибо остается только одно — тонкое как батист настоящее, которому нет дела до шелухи.
Вообще же, исключая редкие моменты уныния, не осеннюю, зимнюю уже пору своей жизни бывший киноредактор проводил в ровном созерцании мира внутреннего и внешнего, все менее отличая второй от первого, наслаждаясь повседневными мелочами и целой коллекцией сновидений, которые научился с годами каким-то образом подзывать, словно безродную шавку из подворотни.
Вот он идет по набережной у Зимнего — с тростью, черным псом и кокеткой, прячущей глаза под вуалью; Нева шепчет влажно у заиндевелых камней и снег скрипит под хромовым сапогом… Вот бежит по набережной Днепра, роняя на ходу «петушок», трет его рукавом от налипшей грязи, а отец ругает его за спешку… Иркутск, экспедиция Культпросвета, лекция в чьем-то просторном доме, где пахнет шерстью и скорым ужином… Премьера в Одесском оперном… Впечатления бывшие и вымышленные мешались в воображении, делаясь все живее.
Однако, старческий сон короток — оставались еще утра, дни и бесконечные долгие вечера. Страстишка Изотича к антикварным лавкам и собирательству, и привычка к долгим пешим прогулкам награждали его занятием в часы бодрствований, пустоты, когда, лишенный цели и расписания, он был предоставлен самому себе — покуда Богу не был угоден.
Его обветшалое жилище было завалено безделушками, старыми томами и акварелями, кубками, альбомами и прочая в том же духе. Был там глобус времен Петровских с неверно отраженной Америкой. Лоцманские трубки, полированные в Голландии. Шпага, даренная царем адмиралу, отмеченному в учебниках, — богачу и головорезу, про которого никто уже не узнает правды. За эту шпажку, усыпанную алмазами, Изотича ловко могли пристукнуть, никто бы и разбираться не стал — только кто заподозрит такое диво у старого гриба под диваном?
Не копеечное богатство занимало большую часть квартиры — пол, ящики, столы, стулья, грудилось на шкафах, почти не оставляя прохода. Этакая сумма вещей на попечении старого человека не могла не быть пыльной, путанной, похожей отчасти на помойку. Однако, отдадим должное, всюду, куда Изотич дотягивался, царил относительный порядок. Ни одной брошенной в небрежении тарелки не стояло у него в кухне, как бывает у давних холостяков. Немногая посуда была чиста, сложена в проволочный поддон, а стол вытерт и лишен пятен. Беспорядок Изотич не поощрял. Из-за этого никогда не заводил кошку, хотя опасался урона от мышей. Не доверял он и соцработникам, норовившим, в его убеждении, сцапать на червонец, дав на копейку.
Каждое утро он, просыпаясь и не враз вставая с козетки, где за ночь на него наползали граммофонные пластинки и какой-нибудь потрепанный каталог оказывался поверх подушки, медленно шел на кухню, добывал из морозильника два ледяных брикета, на одном из которых готовил чай, а на втором варил овсяные хлопья в кастрюльке годов тридцатых. Сонно поглядывая в окно, он съедал их с ложкой постного масла, запивал чаем и тут же, фыркая, с удовольствием умывался, слушая стук трамваев, ломающих колею.
Что до новомодной аппаратуры, из которой, стоит кнопку нажать, узнаешь все новости на планете, то Изотича они давно уж не волновали — этого добра он за долгую жизнь наелся. Пусть на новые ворота смотрят молодые бараны, твердо решил он, щелкнув последний раз телевизором году еще в девяностом, грубо прервав генсека, сулившего «перестройку» и «ускорение». «Перестройка» ничего хорошего не добавила, а вот «ускорение», действительно вскорости наступившее, чуть не свело его экспрессом в могилу, потому что денег не хватало даже на хлеб. До сих пор им сохранялся в раме над шифоньеркой выводок анемично-бледных талонов Главного управления торговли — на хозяйственное мыло, табак и водку, отложенные им некогда для истории. И эта история миновала. Изотич выжил в который раз.
После завтрака он снимал с крюка вечное драповое пальто, подбитое окаменевшим ватином, надевал ботинки из свиной кожи и в любую погоду шел из жилища вон, сначала выходя в узкий как губа дворик, затем на бульвар, и обычно шел вдоль Покровки, пока куда-нибудь не сворачивал, смотря по текущему интересу. Никакой причины для этого не существовало, кроме нежелания оставаться дома. Гуси и грачи улетают к югу. Олени идут за солнцем. Изотич ходил гулять. По сезону прилагались калоши, шапка, шарф в «птичку», намотанный на тощую шею, рукавицы и стеганые штаны, в гололед — осиновая палка с гвоздем.
Теперь же в майский погожий вечер ни калош, ни рукавиц на нем не имелось, пальто на впалой груди было по-матросски браво расстегнуто, обнаруживая свитер домашней вязки, подаренный соседкой-поклонницей с четверть века назад. Женщины всегда к нему были падки, но женится в третий раз он не стал — хватило.
В тот день, покинув антикварную лавку на Арбате, он медленно прошел по Воздвиженке, пересек Маховую, едва не угодив под автобус, и теперь отдыхал в Александровском саду, готовясь к долгому переходу. Пары часов достанет, чтоб к полуночи вернуться домой. Главное тут — добраться до Маросейки, вырулив на прямой фарватер.
Кварталы вокруг Ильинки он не любил, старался пройти их как мог быстрее. Были они слишком официальны и на вкус его бесприютны. Горбатое здание Минфина вообще будило нехорошее чувство, какое бывает, когда проходишь у несгораемой кассы, в которой, точно тебе известно, вместо ассигнаций — журналы учета отпусков и выдохшийся «Кизляр». Старческая муть перед глазами смывала четкие линии, даже в яркий полдень окуная все в коричневые зыбкие сумерки — но он-то, хочешь не хочешь, знал, как он выглядит, Минфин этот! Еще дальше, впрочем, Изотич держался от мрачных бастионов Лубянки, о которых, несмотря на сглаженную годами память, вовсе не хотел думать.
Теперь Изотич сидел в Александровском саду и сквозь сладкую дрему наблюдал за нервным гражданином лет сорока, бывшем напротив через аллею, губы которого шевелились в беззвучном разговоре с самим собой. То и дело между ними проходили другие люди, врозь и купами, отчего картинка дробилась на неравные кадры, как когда-то в монтажной.
Было в этом человеке что-то знакомое, но что именно, Изотич не мог припомнить.
Вдруг его покой прервали грубейшим образом.
— Чем помочь, отец?!
Перед ним стоял мужик с пузом, выпирающим из-под кожаной черной куртки. Голова — мячик. Крокодиловые туфли с фальшивой пряжкой. Короче, во всей красе!
Старик по-черепашьи посмотрел на него, не соображая, что ему нужно, и уже готов был ответить, что не курит, если об этом речь, и в лотереях не участвует…
— Помочь чем? — повторил мужик, засовывая лапу в карман. Был он навеселе и держал под локоть тощую как стержень гражданку в цветастой блузе, смотревшую на старика с огорчением. — На вот, отец, пригодится на черный день, — и сунул ему в ладонь вчетверо сложенную бумажку. — Будь здоров!
Не дожидаясь «спасиба», пузан с подругой бодро отвалил в сторону и уже через секунду торговался с продавцом «красноармейского» скарба, просочившимся в аллею мимо охраны, когда старик собрался ответить, что ему ничего не нужно.
Посмотрев на деньги, Изотич почувствовал себя странно. Незнакомцы с ним редко заговаривали, тем более не стремились чем-нибудь одарить. Напротив, не раз и не два становился он жертвою «щипачей», орудовавших в трамвае. Однажды под Володарском пережил открытый разбой, едва спасся на мотоциклете с киношной кассой, и еще до этого — в экспедиции по Двине в тридцать втором, когда бродили по северам бесфамильные отчаянные людишки. Но чтобы давали деньги?
— Неужто на нищего стал похож? — дернул он щекой, бросая бумажку под скамью. Затем встал и пошел, ссутулившись, сквозь толпу, поднимая от вечерней свежести воротник.
Нервный гражданин, что сидел напротив, за это время куда-то делся.
Украшенный зеленью и витринами город торжествовал. В толкотне необыкновенной царил многоязыкий гомон, шедший от строительства вавилонского и, шажок за шажком, добравшийся в итоге сюда, в столицу не восточной и не западной стороны, а, как был убежден Изотич, северной, где б во времена Соломона не стали даже селиться.
Миновав ряды «мерседесов», блинные лотки, мрачный утес Минфина (тьфу на него!), зады Политехнического музея и уже пройдя немало по Маросейке, он свернул у нарядной церкви в заезженный тесный двор.
Дел у него здесь не было и не могло быть. В храм Изотич вообще ходил редко, молился дома, уверенный, что Бог найдет его и на кухне. Особого вида постройки тоже из себя не имели, а единственной причиной, почему старик оказался там, было не угасшее за век любопытство, водившее его немало по свету — от предгорий Лхоцзе16 до загаженной щели на Юшет17.
В будке за стеклом шевельнулся ворон-охранник, крикнув, чтобы тот убирался.
Изотич вздрогнул и обернулся, не ожидая такой засады. Под ногой что-то предательски скользануло, взлетел и разбился над головой светящийся бледный шар — фонарь или круг луны, он не разобрал, навзничь упав во тьму.
Открыв глаза, Изотич обнаружил себя лежащим под медной рогатой люстрой, свисающей с высокого потолка. Там же вокруг нее по краю лепной розетки парили щекастые путти с луками, наведенными по углам — то ли с разбойной целью, то ли разя по сердцам влюбленных, что также квалифицируется разбоем, но приятным и поощряемым18.
Так он лежал, глядя в потолок, минуту или две, прислушиваясь к себе и к обстановке вокруг. Под полом, вестимо, этажом ниже, трижды зычно пробили часы. Далеко и глухо хлопнула дверь, оборвав шаги. Лошадь процокала за окном. Уютно пахло корицей и еще чем-то. Дурного в теле не ощущалось, кроме варьете в голове и, может, легкого голода, сосущего под желудком.
Насмотревшись на гипсовых летунов, блуждая взглядом окрест, он увидел резной карниз, шторы со шнуром, громадный вишневый шкаф, натюрморт, ковер с перекрестьем сабель. Сразу над теменем — прялку под кисеей и фарфоровую сову на углу конторки, готовую, судя по выражению, издохнуть от какой-то натуги. Там же — медный блестящий горн, который сразу захотелось взять в руки.
Обстановка казалась старомодной даже для такого реликта как он, решительно отрицавшего новизну. Где именно он лежал и как в этом месте оказался, Изотич не представлял — он лишь помнил, как, поскользнувшись в темном дворе, медленно падал навзничь. Но, определенно, он был не в палате и не в мертвецкой — уже неплохо.
На краю сознания вертелось что-то, чувство глубокого удивления, но чем оно вызвано, Изотич не мог понять. А потом вдруг понял: лежа на полу, он видел каждую мельчайшую деталь обстановки, вплоть до приставшего к люстре волоска — длинного, подвитого, пожалуй, женского. На этом основании он решил, что спит или находится без сознания. В любом случае, видимое им — плод воображения, не иначе.
Идея эта придала ему смелости, и он встал — необыкновенно легко, будто мышцы не рассохлись за век — и прошелся кругом по комнате, до поры решив ничего не трогать. Хотел посмотреть в окно, где, слышимо ему, на улице что-то происходило, но подоконник оказался на уровне бровей и выглянуть за него не вышло.
Еще походив туда-сюда, разглядывая исполинскую мебель и необычную обстановку, он встал перед мутным зеркалом и долго смотрел в него, пока не осознал три удивительных вещи: что не зеркало велико, а он мал; и лет ему не больше шести-семи; и дом этот, давно забытый на вид, запахом давал ему знать, что это дом его родителей на Подоле19, откуда он бегал смотреть на пристань, потерялся, был найден перепуганной матерью, получив за тем отменных размеров взбучку, на месяц лишившись сладкого…
Из зеркала на Изотича смотрел круглолицый веснушчатый мальчишка в выбившейся из коротких штанов рубашке. Пшеничные локоны торчали будто солнечные лучи. Рука сама потянулась пригладить их.
За дверью вдруг скрипнула половица, и послышался женский голос, зовущий его к обеду.
Мальчик, стряхнув остатки чудного сна, в котором он был старик, схватил горн и выбежал из комнаты к матери, на ходу заправляя в штаны рубашку.
Голова-капуста
На улице тявкал пес и что-то беспокойно чирикало за окном, желая обустроить гнездо у водосточной трубы.
Квартира ожила. Кто-то непрерывно шастал по коридору, разговаривал, скрипел и хлопал дверями; в кухне позвякивала посуда; громко ссорились дети. В соседней комнате, где хрипела радиоточка, слышался топот в такт ее эскападам, на «раз-два» клацнули, встав на пол, гантели. Илья не сомневался, что это тот самый Матиас, или как его там — пожилой живчик с водянистым взглядом делает упражнения, настежь раскрыв окно — топ-топ, тук-тук… «Сто лет собрался прожить, лишенец…», — раздраженно подумал Илья и открыл глаза.
Он чувствовал себя мало сказать неуютно — ужасно, будто в гостях, напившись, заснул в гостиной, а проснувшись, обнаружил массу незнакомых людей, презрительно на него глядящих. Хотелось растянуть каждую секунду до бесконечности, чтобы не вставать и не выходить из комнаты, которая одна его защищала. Он цеплялся за какие-то оправдания, что, мол, не по своей воле тут оказался; убеждал себя, что на самом деле всем на него плевать, но все больше и больше волновался. Как ни здорово было найти друг друга в постели с Варенькой, с которой все было великолепно, но подкатывал новый день и день этот требовал срочных действий.
Он все выжидал, не решаясь встать, спрятавшись за дверью, под одеялом и за очками, и смотрел на окружающий мир — то перед собой в потолок, то на Вареньку, которая собиралась — выбегала из комнаты, возвращалась, хватала что-то из шкафа и прихорашивалась у зеркала, висевшего над фантазийным комодом-башенкой, хорошо знакомым Илье, продавшему его в «нулевых» корейскому пианисту за полторы тысячи «зеленых». Эта смесь знакомых и незнакомых вещей совершенно сбивала столку. Ко всему, Илье срочно требовалось в уборную.
Короче, ни при каких обстоятельствах невозможно было дальше лежать в постели.
Встав и подойдя к двери, он, словно готовясь к прыжку в ледяную воду, попытался сложить все в одну картину, но осторожно, по чуть-чуть, чтобы не разом впасть в панику. Вопросы вгрызались в темя без всякого результата. Входило то еще ведьмовское зелье, ни объяснить, ни хотя бы описать которое он не мог. Во взбаламученном рассудке боролись любопытство со страхом на фоне полной неразберихи. Глубокий вдох… выдох…
«Во-первых, самое главное — это все не сон. Не бывает таких снов! Слишком много яви, слишком долгий, подробный, цельный. Что-то там такое случалось у разных авторов? «Мост»20 Иена Бэнкса… Мэтисон21 — тот вообще!
Ладно, допустим, я по неизвестной причине впал в летаргию и теперь блуждаю, запертый в собственном сознании. Что дальше? Сесть на воображаемом коврике и скрестить воображаемые ноги?
Версия вторая: все происходит на самом деле, все реально, а значит непредсказуемо и опасно».
Хоть так, хоть этак — он попал в фантастический переплет, суливший потрясения, крах привычной жизни и множество неприятностей, которые воображение живо нарисовало в самых мрачных тонах. Ум покрывала рябь как расстроенный телевизор. «Экхарта Толле22 бы сюда, посоветоваться, найти себя в настоящем…».
С другой стороны, если подумать отвлеченно, свалившаяся на голову небывальщина представляет громадный научный интерес. Да кто еще, скажите вы мне, проделывал в жизни такой финт, как всамделишнее путешествие во времени?! (Может, впрочем, проделывал, только нам это неизвестно.)
Глубоко в сознании у Ильи дернулся червячок научного поиска, давно считавшийся мертвым, запертым на дне бутылки с текилой. Всплыла даже некая сцена из «Би-би-си», в которой настырный фотон силился лететь назад в прошлое, но ему мешали какие-то пузыри, от которых веяло безнадегой. Илья еще подумал тогда, что лететь сквозь них — все равно, что муравью продираться сквозь мыльную пену — совершенно не вариант. Одного такого муравья теперь он знал лично: это был он сам — прошу жаловать и не обделить любовью.
Но абстрактные интересы скоро были оттеснены ощущением житейской напасти, из которой надо выпутываться. В этой умственной борьбе поначалу победил страх, так что первым делом он решил сказаться больным и пробюллютенить до выяснения, больше разузнать, потянуть, сколько можно, время. Еще эта зудящая надежда, что все как-нибудь само по себе уладится, и он — ровесник XXVII съезда КПСС23 — окажется не сегодня завтра в привычном эпизоде истории и продолжит семенить к собственному, природой отведенному концу в веке двадцать первом, как изначально рассчитывал24.
Однако, вспомнив кое-что на счет отношения в Советском Союзе к «тунеядцам», решил не испытывать судьбу. Перед внутренним взором предстало черно-белое фото: молодой человек в авангарде зала суда сидит, сжав губы и склонив голову, а немолодая гражданка, не к нему, видимо, обращаясь, говорит, говорит, глаголет25… «Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке…»26 — страшно, граждане! Не хватало еще, чтобы кто-то из соседей «настучал», что, мол, завелся тут за стеной асоциальный барчук-интеллигент, ломает комедию, уклоняется, занимает напрасно площадь. Читали, слышали, знаем.
Пока Варенька сочиняла завтрак и за дверью вроде бы не топтались, Илья ободрил легкие кислородом и шагнул из укрытия — тут же нос к носу столкнувшись с невысокой скуластой женщиной с цепким взглядом.
Морошка Кааповна, в лице и угловатой фигуре которой сквозило что-то мрачное как закат над чухонскими болотами, смотрела на него из полутьмы коридора пристально-безразличным взглядом, как смотрели ее пращуры на оленя, замахиваясь копьем. А затем безмолвно удалилась, проигнорировав сдавленное «здрассьте» Ильи. Пол под ней по какой-то причине не скрипел.
— Тьфу ты! Тень отца Гамлета! — выругался он, идя к ванной. От раздражения ему стало легче.
«Демонстрируй уверенность. Веди себя как король — и будешь принят как король27. Легко сказать…».
Ему все казалось, что кто-то следит за ним. Так и есть: в конце коридора с плаката на него зыркал давешний усач в фуражке, требуя поверить в светлое будущее, осиянное мировым коммунизмом, — немедленно, полной грудью. Хлебопашцы и скотницы солидарно щерились, грозя серпами и вилами, если Илья вдруг оплошает и не уверует.
На этом переживания не иссякли, потому что на полу в ванной в тазу невероятных размеров бесились двое малолетних детей, доламывая по частям изделие, бывшее игрушечной лошадью. Вероятно, готовились «до основания разрушить» мир в более зрелом возрасте.
Действовали брат и сестра Быстровы слаженно и с энтузиазмом. Вулкан, содержавшийся в тазу, исторг к ногам Ильи деревянную голову с румяной щечкой, а затем два гуттаперчевых колесика на оси. За ними последовал восторженный карапуз, щедро роняя пену, похватал с пола свое имущество и снова забрался в воду. Его сестра заливалась смехом, сдувая с ладошек пену, хлопьями летевшую на пол. Идиллия — не то слово.
Илья сокрушенно переминался с ноги на ногу, ожидая чего-то — если не помощи, то прозрения. Последнее не пришло, а первое явилось в виде гражданки Быстровой с неприкуренной папиросой в углу рта, прервавшей водные процедуры своих отпрысков и освободившей ванное помещение: «Пусть дядя умоется, ему на работу». Самого же «дядю» она наградила таким взглядом, что Илье захотелось забиться в угол.
Глуп и самонадеян тот, кто бежит общества, но дважды глуп и самонадеян отвергающий целительную силу одиночества. Побыть наедине с собой было необходимо Илье больше стакана водки.
Закрывшись, он минут десять стоял в абсолютном оцепенении, забыв для чего пришел, пока в дверь не начали долбиться снаружи. Щеколда клацнула. Илья испугался, что сейчас кто-нибудь ворвется и выволочит его — нравы коммунального жития могли быть весьма суровы. Всю жизнь проживший в комфорте, он ожидал от новых соседей чего угодно, вплоть до судилища и сожжения у столба на кухне. Однако никто к нему не ворвался, не стал наседать и читать нотаций, а мужской голос, приглушенный фанерой, вежливо и весомо попросил его «ускорить телодвижения, потому как всем надо».
Илья внял ему, наскоро принял холодный душ, и вскоре истуканом стоял у шкафа — в сорочке с мягким воротничком, клопового цвета галстуке и ботинках сурового выражения колодок, находясь в затруднительном положении, поскольку понятия не имел, куда должен был направиться тот неведомый, за кого его принимали, в будний день с утра.
Он мучительно обозревал себя в зеркале, прислушивался к мистическим голосам, шептавшим за левым ухом, разглядывал обстановку комнаты, но не смог отметить ничего, что бы как-то свидетельствовало о роде занятий ее жильца. Рыбешка в малахитовых водорослях не в счет — не резчик же он по камню, в конце концов!
Во избежание немедленного конфуза и ссылаясь на подступившую тошноту, он попросил Вареньку проводить его до работы, и к огромному облегчению обнаружил, что просьба эта излишня, поскольку служат они в одном учреждении, куда немедленно оба и направляются. Супруга сначала настороженно посмотрела на него — уж не начался ли снова бенефис, а затем хихикнула, поправляя рукой прическу, щелкнула его в лоб, и первая вышла из квартиры.
Спрашивать, в каком именно заведении они служат, было бы слишком подозрительным, поэтому счастливая пара молча миновала подъезд, живописный скандал, устроенный дворником Азизом с жильцом из шестой квартиры, батальон влажных от тумана котов в пахнущем бензином дворе, и углубилась в свитые узлами московские переулки навстречу радостному социалистическому труду.
«Музей исторического материализма и традиций древности» АН СССР, известный всей Москве МИМ, занимавший бывший княжий дворец с пристройками, предстал перед Ильей в имперском великолепии — с римскими колоннами под фронтоном, подъездом, титанами и лепниной, давно скучавшими по каретам, парижским сплетням и, ах! — упавшим шелковым веерам. Большая вывеска шлифованного железа была солидной и казалась бы нерушимой, если бы ее не подточила основательно ржа, скрыв «Н» и пожрав половину «Р». Выходил какой-то дурацкий каламбур.
Илья с «супругой», к которой он еще не привык и дичился, когда она тянула его за рукав, обогнули бывший дворец, встав в короткую очередь у служебного входа — со стороны переулка, где извозчик за кованой оградой поил из ведра тощую утратившую окрас лошадь. Ее бока исходили паром и вид был совсем пропащий. Илье было жаль кобылу, понурую трудягу перед забоем, но тут ему стало не до нее:
— Йошкин кот… — промямлил он, глядя на сварную «вертушку», отсчитывавшую работников МИМа.
Один за другим сквозь нее проваливался народ, предъявляя охраннику солидные пунцовые книжки, которые не могли быть ничем иным, кроме удостоверений сотрудника — с фотографией, номером и печатью.
Илья начал судорожно искать в карманах и за подкладкой, но нашел лишь пачку папирос «Строим!», металлическую расческу и бланк аптекарского рецепта, исписанный неразборчиво на латыни. Задний карман широких как печная труба брюк содержал платок и потертый ключ на бечевке (хранить их рядом — весьма неосторожная привычка, из-за которой в мире теряется миллион ключей ежедневно). Отчаяние наполнило его сердце.
— Давай, Люня, люди ждут, — мягко подтолкнула его Варенька, но Илья не пошевелился.
Она посмотрела на него как на проказливого мальчишку, с прищуром:
— Что, опять пропуск забыл? Растяпа.
В состоянии аффекта он лишь робко кивнул, мысленно распрощавшись с жизнью: существовать в России без документов было дохлым номером хоть в новом, хоть в старом времени. Камера дознавателя на Лубянке встала перед ним мрачной унылой явью и гадкое существо, что живет внутри, тут же обозначило перспективы, гася окурок о грязный стол: «Не, родной… Лубянка — это для генералов. А тебя, шпану, сошлют за „сто первый“ товарняком, оттуда — на поселение под Тунгуску. Собирай вещи!».
Илья проглотил комок. Он уже видел мысленно свой замерзший труп у брошенного зимовья, когда Варенька звонко окликнула кого-то за проходной:
— Мишек! Золотой! Выглянь, а!
От неожиданности Илью передернуло. Карта северных районов СССР разбилась об этот окрик, свой труп и заметенный снегами домик он не успел рассмотреть в деталях.
В окошке за турникетом появилась рыжая вихрастая голова.
«Есенин что ли?!» — удивился Илья, но отмел мысль как несостоятельную. Не стал бы великий русский поэт торчать вахтером на проходной. Год смерти гения, к своему стыду, он не помнил, оттого не был вполне уверен, но знал по свежему впечатлению, что на улице, пока шли из дома к музею, такие типажи встречались напропалую. «Видать, мода».
— Ну-у… мы опять того, Мишек! — Варенька всплеснула руками, обращаясь к видимой части стража. — Удостоверенье свое посеяли, как только голову не забыли! — она глянула на мужа как на нерадивого первоклашку, которого не пускают в школу без дневника: мол, что с ним, паразитом, делать, а? — Научный сотрудник. Голова — капуста, хоть кол теши! Все ушло в мысли!
Этот ее «научный сотрудник» звучал как социальный приговор: не мог быть таковой дееспособен и годен к делам мирским. Впрочем, Илья, хватаясь за кривую соломину, тут же постарался сделать придурковатый вид, каким награждают интеллигентов в кино. Очки в этом деле изрядно помогали, спасали даже. Хорошо б еще, если в одном ботинке и пиджак вывернут — но одет он был, к сожалению, как положено, хотя для двухтысячных непривычно. Особо смущала шляпа, посаженная «супругой» ему на голову, несмотря на солнечную погоду.
Рыжий вахтер, между тем, метнул в него страшным взглядом из-под вихров, осуждающе поджал губы… и пустил в учреждение «под честное слово» (видно, не в первый раз).
«Тот еще разгильдяй, — заключил Илья про своего неведомого предшественника. — А как она ласково позвала ВОХРовца: Ми-и-шек… А?!», — недовольно добавил он, сам себе удивившись, поскольку ревновал к даме, которую знать не знал еще день назад.
В музеях, по роду дел, скупая кое-чего с заднего крыльца, и просто из склонности разглядывать исторические диковины, Илья частенько бывал, и тут, миновав с позором «вертушку», оказавшись в захламленной галерее, петлявшей косым зигзагом, он почувствовал себя гораздо уверенней. Важным открытием стало то, что, в сущности, ничего в этих местах не менялось — бывший там однажды видел и, считай, побывал в каждом из музеев страны на сто лет вперед. Даже старушки-смотрительницы, казалось, сидят все те же, пришпиленные временем к своим стульям, глядя на посетителей с сонной злобой.
Варенька растворилась, послав воздушный поцелуй «мужу», увлеченная какими-то своими заботами. Навстречу шагали другие люди — женщины и мужчины, одетые как в старых советских лентах. Многие с ним здоровались, на ходу делились пустыми фразами, совершенно не замечая подмены.
Сначала он чувствовал себя скованно, но вскоре поблагодарил человеческую природу с ее нерушимым инстинктом стада, и почти совершенно успокоился, когда над ухом воздух вдруг прободил зычный отрывистый контральто:
— Илья! Сергеевич!
На лестнице за перилами стояло существо неопределенного пола с широким дряблым лицом, в комковатой одежде, с короткой стрижкой, скрытой беретом цвета забродившей брусники. Чтобы определить пол объекта пришлось пристально всмотреться меж резных стоек: нижнюю его часть укрывала бурая юбка в пол, плотная, словно сшитая из портьеры. Если отринуть возможное нашествие на Москву шотландцев, оно должно было быть женщиной.
— Вы чтой-то меня рассматриваете?! — тут же возмутился объект, делая шаг назад под строгой литографией Достоевского, осуждавшего с нее людские пороки, особенно — страсть к рулетке.
Умными и усталыми глазами великий писатель глядел на Илью Гринева, явно подозревая его в распущенности. Следовало что-нибудь отвечать на немой упрек, но мозг его в этот миг обелился до хрустальной чистоты, утратив лексические способности.
Какой-то гражданин, шедший по коридору с газетой, вывернувший было из-за угла, немедленно оценил ситуацию и свалил обратно, бросив ехидный взгляд на Илью. Тот, хотя рос и развивался как личность в эпоху далекую от 30-х, сразу же догадался: перед ним местная грымза-активистка, которую все старательно избегают. И он, как на грех, попался ей в первое же утро! А сейчас, слово за слово, все пойдет прахом, потому что она его раскусит как дважды два. В воображении снова замаячили труп, зимовье, Тунгуска… Короче, «еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу…28».
От чувства опасности Илья преисполнился вдохновения, живо подался к лестнице и уже через три секунды внимал грымзе, чувствуя небывалый прилив энтузиазма:
— Да-да, я вас внимательно слушаю! — отрапортовал он, являя противоестественную готовность к общественной жизни.
Дама (и пусть видна будет натяжка в определении) опешила, но быстро преодолела замешательство:
— Илья Сергеевич… вы…
— Да-да?!
Вся его фигура демонстрировала готовность.
— Я, конечно, не претендую… на высокое звание научного сотрудника, — продолжила грымза маневр от своих позиций.
О, он знал, как он знал этот тип высокомерно уничижающихся людей, опасных как корзина со змеями!
— Ну, что вы! Для коллектива вы просто незаменимы!
«Еще бы знать, кто она такая», — черкнул он в скобках.
«Корзина со змеями» подозрительно посмотрела из-под берета и продолжила:
— Зимний сезон давно прошел. А вы до сих пор не включились в летние секции! — взвизгнула она, обороняя пространство перед собой вспушенным закладками гроссбухом.
Илья задрал подбородок, хлопнув себя по сердцу:
— Готов, готов как никто! Но прошу ваших рекомендаций.
— Кхм… Не елозьте, товарищ Гринев! Вы сами отлично знаете.
Так Илья оказался в хоре, стрелковом клубе и, кажется, еще каком-то кружке, явив все задатки всесторонне развитой личности.
Высокая идея — низкие потолки
На полу залы в косую плитку покоилась огромная ступня из папье-маше, лишенная продолжения. Ее обступало десятка два человек — в рабочей одежде, синих лаборантских халатах и строгих пиджаках со значками, выдававших ответственных работников аппарата. Царило гробовое молчание, в котором все сосредоточенно глядели на мучнисто-серую ногу так и этак, и каждый, вестимо, в ней зрел свое.
Одни кивали, другие цокали, третьи тянулись закурить, но, спохватившись, совали папиросы обратно. Грузчика Старожитнева молча и резко выперли вон из залы, чтоб не создавал угрозы для экспозиции — теперь он дымил на лестничной клетке и жаловался на начальственный произвол, доводя до каждого, кто имел оказаться рядом, какую несправедливость претерпел в оплату за тяжкий труд.
— Сколько же, позвольте спросить, это изваяние от стопы до маковки в высоту? — нарушил тишину невысокий плотный во френче, отворачиваясь болезненно от стопы, словно та давила ему глаза.
— Сверюсь с ведомостью, минуту, — отвечал ему рослый гражданин в пшеничных усах, доставая из холщовой сумки тетрадь. — Так… Двадцать метров сорок семь сантиметров. Плюс фундамент.
— Фундамент можно заподлецо наладить, — влез какой-то вертлявый тип в заломленной на затылок кепке. — Считай, двадцать с гаком выйдет. Потолки у вас сколько в учреждении? — обратился он к грузному, напоминавшему вставший на попа дирижабль, мужчине в лоснящейся серой паре, чей лоб и щеки покрывала испарина.
— По чем потолки у нас, товарищ Ужалов? — адресовал тот к френчу.
— От трех до семи сорока… плюс-минус! — рявкнул френч, раздувая ноздри. — Пятнадцать в обсерваторном.
— Плюс-минус… Вечно не знаете ничего! — возмутился «дирижабль», бывший ни кем иным как директором музея Василием Степановичем Вскотским, в эти минуты до нельзя раздраженным.
Жертва его, Тимур Багдадыч Ужалов, сверлил исполинскую стопу взглядом, не обращая внимания на патрона. Вся его фигура выражала досаду — досаду человека, которому придется, хочешь не хочешь, взвалить на себя заботы целого мира, населенного бездумными фантазерами.
— Проведем совещание, всесторонне обсудим, — пробасил Вскотский, стараясь не смотреть на пришельцев, приволокших с собою ногу (слава КПСС, что не целиком).
Какой-то веснушчатый с кривым носом потер деловито картонный палец, поглядел на него, как на родного дитя, и покачал головой:
— Обращаю внимание… хм… коллеги… в разнарядке просветкомиссии… хм… размеры изваяния не указаны. Помещение не планировалось. Куда же мы его теперь, а?
— Решение, товарищи, утверждено, — голосом с гнильцой возвестил вертлявый, отстраняя бунтовщика от казенного пальца. — Вы как хотите, а в сроки рабочего-коммуниста вам поставим, готовьте территорию. Обращаю ваше внимание, что материал будет особый, экспериментальный, мочить нельзя — раскорячит! Ставить надо под крышей. Ответственность музея, Василь Степаныч, вам лично докладывать председателю, — сухо подытожил наглец, выдавая в себе сволочь тренированную, знающую что и где говорить.
— Но размеры?! — взревел директор. — Вы отвечаете за размеры?!
— Я ж сказал, размеры утверждены, — подлец подпустил в голос нотку усталости. — Что вы, Василь Степаныч, на меня напустились? Не в нас с вами дело. Понимаете: собственной рукою, с превышением от первоначального проекта, — тут, подавшись к уху директора, мерзавец уточнил, чьей именно рукой добавлено росту треклятому истукану, олицетворявшему победу трудового элемента над капиталистической гидрой.
На это не менее опытный Вскотский, выдвинув вперед челюсть, весомо кивнул, а затем повелительно устроил лапу на загривке Ужалова, чтобы предупредить возражения. Тот лягнулся, пытаясь освободиться, но лапа, по должности обязанная быть сильной, удавом охватила его, норовя подобраться к шее. Завхоз сдался. Лицо его сделалось свекольным.
— Так, значит. Фигуру, как предписано, ставим в сроки. По месту, Тимур Багдадыч, лично мне доложите. Обеспечьте в пределах фондов по статье «Развитие экспозиции». Где главбух? Передайте ему, чтобы не как всегда… Вам спасибо, товарищи! Все на этом, — попрощался он с сопровождавшими стопу лицами, пожал отдельно ладонь усатому и удалился в недра музея, отметая возможный спор.
Возраженья Ужалова остались при нем как лишай в подмышке. Завхоз проводил директора грустным взглядом (так могла бы Серая Шейка29 смотреть на стаю из полыньи, оставаясь на съеденье голодным лисам) и выбежал иноходью из зала, никому не глядя в глаза.
Высокое собрание разошлось, бросив примерочный экспонат с неубранной упаковкой.
Когда Илья, бесцельно ошиваясь то тут, то там, решительно не зная, как себя применить, оказался в отмеченной выше зале, то — дитя современного искусства — ни на йоту не удивился, обнаружив в ее центре исполинскую отдельную от тела ступню. Брошенный дощатый поддон, который всякому говорил о безалаберности рабочих, он счел элементом инсталляции и тоже скрупулезно рассмотрел, стараясь не задеть лежащие вокруг обрывки веревок. Некоторые из них сплелись прелюбопытно — там были христианский крест и звезда Давида, а одна, рыжая и растрепанная, явственно свернулась дзенским кругляшом «энсо» (так себе достижение, потому что гурт брошенных у колонн тесемок сам собою сложился в «ВКПб»).
— Отделенная от тела ступня как символ недеяния и неизбежности жизненного пути, — заключил Илья, оставшийся приятно впечатлен инсталляцией.
Если это и не сотворил гений, то скульптор, безусловно, знающий и талантливый, подкованный философски.
— Не ждал от победившего коммунизма, — присвистнул Илья, заглядывая внутрь экспоната, и даже немного разочаровался, не встретив там какого-нибудь экспрессионистского ухищрения вроде розовой львиной морды, или пирамидки, составленной из глазных яблок. Но чувству не дано было развиться.
— Товарищ Гринев! — раздалось у него за спиной с присвистом.
Илья вздрогнул, твердо решив не оборачиваться. Дважды за битый час на него орали в музее — этом средоточии тишины! В желудке родился колючий пузырек гнева. Приняв вид увлеченного исследователя, он двинулся бочком вкруг стопы, решив ни в какую не сдаваться на этот раз.
«Чтоб им пусто было, этим надоедалам!».
Удивительно, но на мгновение у него вообще вылетело из головы, что он находится в чужом времени. Ум предательски увлекся новыми обстоятельствами, плевав на старые. Кажется, внутри за пультом управления сидел кто-то, кому вообще было все равно, где он и кто по ведомости.
— Товарищ… — голос за спиной скорее запыхался, чем угрожал. — Вы… я извиняюсь… не могли бы…
Илья медленно как в меду повернулся, готовый к решительному отпору. Какой-то общий залихватский подъем и взятый на вооружение лоск «научного сотрудника» в сумме сложились в увесистый ментальный кулак.
— Мда?.. — надменно вопросил он, поправляя пальцем очки.
Перед ним стоял толстый задыхающийся мужчина в блузе на два размера меньшей необходимого, совершенно лысый, утирающий лоб носовым платком. Его лицо выражало муку.
— Вас все ищут… — всхлипнул гонец с обидой, словно лично ему от этого было плохо.
Илья отвел лучников от бойниц: отвечать отповедью такому типу — все равно, что пинать одышливую болонку.
— Проводите! — приказал он с княжеским холодным апломбом, немало, по-видимому, удивив гонца (да и самого себя, если на то пошло).
Гонец, однако, не стал перечить и засеменил, оглядываясь, вперед, роняя на ходу пояснения:
— Срочное собрание… пх… пх… директор вне себя… пх… пх… какой-то новый проект… всех зовут… пх… пх… никого не найти на месте…
Полного гражданина терзала одышка и целая свора каких-то внутренних опасений. Он сипел, причитал и пыхал, а когда добежал до лестницы, то глянул на нее так тоскливо, что в Илье не выдержал гуманист:
— Дальше я сам, товарищ. Спасибо, — даровал он свободу оруженосцу и шагнул, не глядя, мимо него, устремившись вверх по ступеням.
Толстяк робко улыбнулся, приняв отставку.
«В сущности, симпатичный человек, — подумал Илья, — затравленный только какой-то30».
Он вошел во второй этаж, разумно положив, что широчайший из коридоров, тем более устланный зеленой с полосою дорожкой, ведет в сторону начальства.
Все это блуждание по музею и случайные диалоги казались каким-то квестом без ясной цели. Опять явилось новое чувство: за растерянностью на сцену вышел азарт; мысль о невозможности происходящего с гоготом скрылась за кулисами. Даже запах пыли и деревянных панелей, такой редкий в учреждениях двухтысячных, оставшийся разве в коридорах бывших советских посольств да в уездных библиотеках, уже казался ему родным.
Миновав несколько дверей, плакатов и фикус в кадке, он достиг цели. Приемная высшего божества, В. С. Вскотского, была обозначена, как должно, широкой медной табличкой, портретами вождей и героев, кубком в стеклянной горке и скоплением народа, не по своей воле туда прибывшего.
На ходу Илья бросил взгляд на доску почета — его черно-белая фотография висела в нижнем ряду. «Безумие!».
Сурового вида секретарь, слишком молодая и симпатичная, впрочем, для истинной суровости, безрезультатно пыталась унять гам в приемной. Посетители обступили ее стол, на повышенных тонах обсуждая что-то промеж себя, тем громче, чем сильнее галдели опричь коллеги. При этом коридор и половина приемной пустовали — кричать нужно было именно у стола канцелярской жрицы, бросая взгляды поверх ее уложенной головы, таская карандаши, скрепки, беспрестанно требуя бумагу и позвонить.
Один, щекастый мородоворот, перешел границу, попытавшись и ее вовлечь в разговор:
— А шо, гарна дэвчина, Лужанка Еухениевна? Нэ махнэти ж и вы своэю ручкой, как нам воздвихати товарыща комуныста?
Секретарь вскочила, поджав карминные губы — жест, не оставшийся без внимания, означавший по неписанным протоколам конец стихийного митинга и, возможно, конец подъехавшего нахала лично. По музейным скользнуло холодным взглядом, усмирявшим даже директора — на прочую шваль хватало одного глаза, и то с прищуром.
— Я вас лично прошу, Грыгор Богданович, удалиться в фойе. И вас, товарищи, тоже это касается.
Сослуживцы один за другим рассеялись, демонстративно утратив друг к другу интерес.
— Простите, простите, Лужаночка! — причмокнул губами какой-то похотливый сорняк за семьдесят, делая жест, будто хватает себя за щеки, и последним отчалил от стола. Ему девица, явно располагая, шутливо погрозила кулачком.
Илья вошел и смиренно опустился на стул у двери, желая быть незаметным. Секретарь ему неожиданно улыбнулась:
— Отчего на кофей не заходите, Илья Сергеевич? Пряники покупаю, покупаю, уже все посохли… — Лужана Евгеньевна надула губки, демонстративно отвернувшись к «ремингтону» — второму лучшему другу всех девиц — после бриллиантов.
Лист бумаги дернулся и застрял; агрегат, взбунтовавшись, холодно клацнул чем-то внутри, не желая отдать добычу и не желая печатать.
— Ой! Илья Сергеевич, вы мне не поможете? Оно опять зажевало!
Массивный предок «Ворда» казался живым. Не имея глаз, он угрюмо поглядывал на Илью, который неуверенно подошел, осмотрел бунтовщика с четырех сторон и наугад щелкнул какой-то пипкой.
Дама нажала пальчиком. Бумага раскрепостилась. Лужана Евгеньевна была счастлива. Илью сверлили взглядом завистники. Он молча вернулся к стулу под остервенелый стук клавиш, сделав вид, что ко всему безразличен.
Через минуту-другую из устройства, похожего на водолазный шлем, стоявшего на массивной тумбе, раздался резкий металлический звон. Секретарь вздрогнула:
— Господи, никак не могу привыкнуть! Ужасный, ужасный аппарат! — поделилась она невзгодой, ни к кому конкретно не обращаясь.
— Инновация! Терпите, свет очей наших, скоро резолюции будут по азбуке Морзе пересылать, — обнадежил ее какой-то добряк с хохолком, ищущий, куда поставить стакан.
— Я с ума сойду! — всплеснула руками девушка. — Дайте, я уберу! Что вы мечетесь, Ной Андреич? Стакан, стакан дайте! Товарищи, проходите, пожалуйста! Василий Степанович ожидают!
Собрание втянуло в длинный несветлый кабинет с портретами между окон, шкафами и несколькими дверьми, замаскированными под панели. Почти во всю длину его разместился черный полированный стол со стульями наружности самой пренеприятной — на картинах про инквизицию на такие сажали приговоренных. Ощутив лопатками жесткую массивную спинку, невольно хотелось оглянуться — не встал ли за плечами палач с гарротой. Дополнительный ряд сидений тянулся у подоконников, уставленных заботами секретарши геранью и колючими кактусами, из-за которых никто не клал туда локти.
Влившись с потоком одним из первых, Илья опять устроился у двери, подальше от председателя. Место оказалось дефицитным — не менее половины собрания рвануло туда же, и лишь убедившись, что удаленные от директора палестины оккупированы, расселось ближе вокруг стола.
Василий Степанович, боровшийся с черной папкой, не желавшей вместить таинственные бумаги, поправ ее наконец локтями, занял главное кресло и окинул паству суровым взглядом, вычисляя возможных дезертиров. Проведя таким образом инвентаризацию вверенных ему душ, он встал и подошел к такой же как в приемной, увитой проводами железке:
— Лужана, вызови Порухайло!
Вскотский отвалился на спинку кресла и принялся ждать с недовольным видом. Собрание как одна фигура поголовно заерзало на сиденьях, повторяя за директором порывистые движения бедра — будто кто-то вбил в них по нехорошему гвоздю, не дававшему сидеть прямо.
За наглухо закрытыми окнами резвился майский солнечный день, хотелось рвануть на реку или куда глаза глядят — лишь бы не оставаться до вечера в мрачном промозглом здании, выгнать из которого мзгу можно только растопив сорок сороков каминных печей, что из экономии стояли холодными, да еще и гудели сквозняком, нагоняя на всех тоску.
Директор, как свойственно от природы начальству, тонко чувствуя настроение коллектива, укрепился в намерении каждого держать до последней черты терпения, когда все планы на день валились в тартарары и оставалось лишь затемно вернуться домой, выпить чаю с «докторской» и упасть в короткий тревожный сон, чтобы утром вернуться в учреждение.
Где-то на краю слуха в коридорах скрипели доски. Внизу в первом этаже что-то глухо стукнуло.
— Чтоб их! — фыркнул Вскотский и снова потянулся к жестянке.
— Фракийскую статую понесли, — мрачно встрял Кудапов, сгибая на столе бумажонку. «Кораблик» в его руках, миновав стадию «журавля», сразу превратился в «овечку».
Директор передумал и орать в жестянку не стал, удовлетворенный объяснением Кудапова. Видно было, что до фракийских шедевров ему — через раз и опосля бани, то есть никакого дела.
Снова повисла тишина.
О прошествии нескольких минут одна из дверей, видно, выходившая в коридор, распахнулась и в кабинет в ореоле спертого воздуха из хранилищ ворвался заведующий отделением рукописей — рослый дебелый хлопец с мордой вокзальным циферблатом. «Хлопец», впрочем, вблизи оказался мужчиной за пятьдесят, чья моложавость объяснялась восковой гладкостью лица, происходившей от отека, который возникает обыкновенно от чрезмерного увлечения горячительным. Илья, погрузившись в ассоциации, про себя нарек его «сливой», и даже уточнил — «очаковская»31.
Слива-Порухайло был одет в коричневый пиджак «в елку», песочные брюки и сорочку белизны необыкновенной, подчеркивавшей болезненный оттенок лица. Громовым голосом, в котором сквозила обида человека, по блажи оторванного от дел, главный рукописец выдал почтенному собранию: «Здорово, товарищи заседанцы! Кхм…», — и уселся на единственное свободное место — ближайшее к директорскому столу, которое никто не хотел занять.
Вскотский приступил к вопросу повестки дня, не скупясь на междометия, придающие шик всякой ведомственной речи. В чем состояла его суть, мы уже знаем из предыдущего: исполина-рабочего, которого должны изготовить в Туле из экспериментального особо ценного материала, имевшего оборонное значение, нужно будет ставить в музей — при том эта сволочь ни в какую не помещалась по высоте. Отвертеться от исполина не выходило, а установить его следовало под крышей, так что теперь нужно было этакое придумать и предпринять… Что именно — пока никто не измыслил, потому что большое в малое не входило, хоть ломай крышу.
— А что, Василий Степанович, если вынести мамонтовый скелет, и поставить статую в биологическом отделении? Зверюга и так занимает места как паровоз, а идеи в нем никакой, одни мослы, — предложил зав чего-то там, фамилия которого не важна.
— Дундук! — констатировал его ближайший сосед, член-корреспондент академии. — Во-первых, оно — человек — вершина эволюции. Какого рожна ему стоять рядом с чучелами баранов? Вы на что намекаете? Да потом, штуковина в высоту не входит, а не в ширину. Мамонт этот — оно какое? Длинное! А рабочий, да член компартии, он какой? Высокий! Чуешь: две ноги — или четыре с хвостом в заду? То-то!
Какое-то время силлогизмы члена-корреспондента усваивались. Собрание сидело молча, рисуя в воображении картину изгнания останков мамонта и водворения на их место героя, устремленного ввысь, которого каждый рисовал в воображении по-своему. Ужалову, например, чудилась на нем кепка. Гавриилу Прыскину — буденовка с кокардой и макинтош.
Кто-то (видимо, первый из осознавших) закивал:
— Да-да… верно сказано…
Участники снова оживились.
— А если…
— Распилить! — звонко предложил голос от несгораемой кассы, где еще у бюстика Менделеева лежали приказы на отпуска, перекочевавшие в руки к сидевшему там товарищу, страдавшему патологическим любопытством.
— Пилить пролетария невозможно!!! Что за бред?! — возмутился Вскотский, бросая карандаш об пол, хотя, по глазам его было видно, идею эту он разделял, как еще более разделял ту, согласно которой статуе на выстрел не быть к музею.
Тут с Ильей, совершенно оторвавшимся от реальности, сыгралась дурная шутка:
— Может, на улице его установим? Где-нибудь перед входом? Сверху возведем купол. По бокам — агитация. На куполе — рубиновая звезда с подсветкой. Будут приходить пионеры, герои разные, корреспонденты, — вдохновленно выдал Илья; все ему казалось сейчас игрой.
На него посмотрели так, что лучше бы его не было. Собрание замолчало, ожидая директорского вердикта. Кое-кто напряженно усмехнулся — но таким особым манером, что усмешку можно было мгновенно превратить в гримасу гневную или одобрительную. Присутствуй при этом Леонардо да Винчи, человечество бы обогатилось тремя десятками удивительных портретов, достойных Лувра и Третьяковки. Впрочем, и служителям Мельпомены было чему учиться: Станиславский не только бы восхитился возникшей паузой, но укоротил бы ее вчетверо.
В какой-то момент Илье показалось, что директор вовсе утратил нить, и даже, словив кураж, он решил подсказать ему, чуть ни совершив фатальную ошибку неопытного в присутственных делах человека — напоминать председательствующему о себе. Кудапов, скажем ему спасибо, успел пнуть под столом разгорячившегося коллегу, и этим спас ситуацию. Лицо его при этом оставалось совершенно бесстрастным.
— Вот!!! — неожиданно взревел Вскотский, выбирая из стакана новый карандаш взамен брошенного. — Вот! Товарищ… э-мм-э…
— Гринев, — подсказал все тот же Кудапов, теперь возившийся с «китайским фонариком», игравший роль суфлера в собрании.
Илье достался пламенный взор директора, редко расточавшего комплименты:
— Товарищ Гринев-то придумал штуку! Молодец! А? Так, решено — делаем у подъезда купол! Со звездой и все как положено. Вот вы…
— Илья Сергеевич, — опять подсказал Кудапов. Вскотский глянул на него с ненавистью.
— Илья, значит, Сергеич будет руководить строительством. Возлагаю на вас бразды, товарищ Гринев! Ужалов… кто еще… ты, Порухайло… мда… Каина Владиславовна, конечно… Кудапов! — чтоб не лениво жилось… и… прочие — сами решите, кого добавить — в составе штаба. Утвердить приказом. Докладную в инстанцию мне готовьте. Чтоб через неделю утвердить план! Все, товарищи! — с облегчением выдохнул директор, ладонью хлопнув о стол. В стакане звякнули скрепки.
На этом собрание прекратилось. Порухайло весело подмигнул Илье, его похожее на сливу лицо лоснилось от удовольствия. Ужалов посмотрел исподлобья. Кудапов вручил «фонарик» и сочувственно пожал руку.
С ощущением, будто в голове у него роились пчелы, новообращенный строитель коммунизма вышел из приемной и скоро остался один в длинном и пустом коридоре, где эхом отдавал «ремингтон».
Дух и плоть
Что мы, от рожденья имеющие плоть и форму, ослепленные их достоверностью и мнимым постоянством, можем понять в переживаниях существа, наделенного лишь скитающимся рассудком?
«Мама, посмотри, что у меня тут!» — и мама терпеливо объясняет, проходя по бритвенно-тонкой линии, зачем природа приладила тебе забавную конечность ниже пупка.
Природа жестока, прекрасна, изобретательна, но имеет и чувство юмора. Взгляните, например, на бульдога.
Где-то в глубине нашей сути сквозит отпечаток древнего знания о мироустройстве — штуке отнюдь не настолько щедрой, как мы считаем, глядя сериал «Би-би-си».
Вселенная — это в основном пустота. Бездна манит нас. Вглядываясь в черные морские глубины, слышишь эхо эпох, когда мир живых существ состоял лишь из тьмы и случайной пищи, а запах разлагающейся акулы был единственной доступной роскошью.
К счастью, родственные моллюскам и жвачным, мы не способны долго думать о чем-то сложном — потому что, в самом деле, есть еще чем заняться: скоро ужин, и вон та девица с интересом на тебя посмотрела… Одно то, что человек, глядя в истинную бездну космоса, испытывает не ужас, а вдохновение, многое говорит о нас — и отнюдь не за наше здравомыслие.
Существо, собранное из обрывков чужих миров, случайно принесенных течением, пронизывающим их все, словно медленно текущий сироп, обитало в месте, походившем на мусорный остров в океане.
Камни, лед, светящаяся штуковина без названия, разгонная ступень «Восток-2», замороженный синий кит (почти целый), кентавр с трубкой в зубах, кашица из свободных мезонов и даже глыба речной долины с остатками мраморного портика, на антаблементе которого выбито чудной вязью «Καλώς ήρθατε στην Ατλαντὶς»32 — кружились в незримом водовороте.
Русло бывшей реки упиралось в громоздкое сооружение из пригнанных друг к другу стволов деревьев, напоминающее пасынка танкера и капеллы. Из откинутого люка размером с футбольные ворота свешивался широкий дощатый трап, проломленный в нескольких местах каким-то неуклюжим и большим пассажиром — один из кораблей Ноя, гротескная эскадра которых, будто вереница почтовых ящиков, смытых в ливневую канаву, некогда металась по хлябям далекой планеты. Божественная сила Потопа весьма обогатила коллекцию случайных находок, заставив ее владельца обратить особое внимание на наш мир. В чем в чем, а в сосредоточенном внимании к чему-либо он бил любые рекорды и мог, не моргая, переглядеть скопление галактик — если бы они тут имелись.
Как он сам оказался в этом вселенского масштаба «нуле» — отдельная и непростая история. А для продолжения нашей добавим, что с недавних пор, миллиард-другой лет тому, он обогатил себя именем, назвавшись Кэ. Соглашусь, что за столько времени можно было придумать что-нибудь подлиннее, но, когда впереди вечность, незачем торопиться.
В то время, еще не обремененный Жаждой, Формой и Массой, он свободно блуждал между мирами — чредой безжизненных пустошей, неотличимых друг от друга как два нейтрона. Так бы чувствовал себя Робинзон, достанься ему архипелаг голых как черепашьи панцири островов, единственная тень на которых — от него самого.
Кэ витал среди них, пока не остановился в этом, ничем не выдающемся старом мире с давно погасшими звездами, решив все хорошенько обдумать. Он провел эпоху в сосредоточенности, вытягиваясь вдоль непредставимой нам стрелы времени, пока его взору не предстали миры, расположенные гораздо дальше (или, если угодно, выше по шкале мировых энергий). По сравнению с тем, где он находился, они буквально пенились и кипели. Кэ впервые был потрясен.
Для того, чтобы узреть их, ему пришлось истончиться, почти исчезнуть, низвести себя до незримого дуновения, способного только созерцать, но не делать. Кэ чувствовал, что, поддайся он до конца, преодолей невидимую черту — и вообще исчезнет.
Из наблюдателя терпеливого и бесстрастного он превратился в неуравновешенного подростка, дорвавшегося до отцовской видеотеки. Среди открывшихся миров были буйные, сплошь заполненные кипящей плазмой, расширяющиеся, сжимающиеся, выворачивающиеся наизнанку, а также миры с настолько запутанной геометрией, что Кэ, от природы не имевшему глаз, хотелось крепко зажмуриться.
Один из таких особенно запомнился ему — статичный, твердый, словно замороженный в безвременье, все пространство которого было одним сплошным кристаллом фантастической плотности, в глубине которого таилось нечто, ответившее ему взглядом. Через долю секунды Кэ, пытавшегося как неисправимый вуайерист, заглянуть внутрь, отбросило со страшной силой назад — так, что он неизвестно где оказался, надолго потеряв ориентацию. С тех пор он сделался осторожнее, уяснив, что вселенная полным полна углов, на которые лучше не натыкаться. В том числе существ с поистине отвратительным характером и большими возможностями.
Тогда-то, после бесплодных попыток обосноваться в «высших», полных материи и формы мирах, ему пришла мысль обустроить собственный. Таская и подворовывая материю, Кэ создал этот остров, ставший его домом, посреди пустоты.
Теперь, пролетая над маленькой долиной, напоминающей суповую тарелку с присохшей клецкой, четырнадцатью тонкими пальцами (он видел такие однажды мельком, и идея ему понравилась) Кэ поднял кусок окаменевшей потертой кожи с глубоко оттиснутыми бороздками. «COMMEDIA»33. Это двойное «M», «Е» и прочее, безусловно, что-то обозначали, но что именно? Больше на странном предмете ничего не было.
Отбросив непонятную штуку, он направился дальше, пытаясь на лету не растерять кое-как приделанные конечности, собранные из подручных материалов, которые поставили бы в тупик любого анатома. Все-таки материя была чрезвычайно капризной штукой. Приходилось постоянно сосредотачиваться, чтобы та или иная часть тела не отвалилась в самый неожиданный момент. То и дело что-нибудь все же отпадало, и нужно было прилично потрудиться, вспоминая, где оно было в последний раз, прилаживая туда и сюда, пока хватало терпения. Последнее время, впрочем, у него стало получаться гораздо лучше. Например, эти пальцы… Кстати, почему их стало тринадцать?!
Над Островом моросил нудный мезонный дождь. Мутные облачка вскипали у его высокого края, проливая тонкие струи на то, что воля Кэ превратило в «низ». (Собственной гравитации тут бы не хватило, чтобы удержать муравья.)
С человеческой точки зрения остров имел какую-то неправильную, странную геометрию, из-за которой казался намного больше, чем говорил здравый смысл — словно ваш взгляд простирался вдоль невидимой ленты, многократно пересекающей саму себя, так что между пресловутыми A и B нужно было дюжину раз миновать C, обнаруживая собственные следы, идущие в другом направлении.
Насладившись полетом, Кэ отдыхал в глубине Ковчега — излюбленном своем месте34. Кажется, он лежал — в отношении существа, тело которого представляет собой мозаику случайно собранных элементов, трудно сказать точнее. Определение «он находится там-то и там-то… хм… более-менее…» в его случае подходит как нельзя лучше.
Обретя подобие тела, Кэ познал, что такое усталость и сейчас он очень устал. Ему требовалось время, чтобы привести себя в порядок. Никто бы не взялся точно описать способ его мышления, но в достойном доверия приближении одна из его мыслей была о странности того, что обретение формы делает все гораздо сложнее. Он не испытывал усталости эпохи, проведенные в пустоте, в которые не ведал ни секунды покоя, как голодный дух витая над воображаемой твердью. (Он и правда воображал ее — серую гладь, лишенную глубины, растянувшуюся через все пространство.)
Но теперь, кода голод воплощения был на жалкую кроху утолен, все значительно усложнилось. Материя была желанной, бесценной, нужной — но она же и тяготила. Ее хозяин становится ее рабом. Над этим неприятным открытием стоило хорошо подумать. Например, способен ли он теперь повторить собственный пройденный путь и создать такой вот осколок тверди, кропотливо и неустанно выскребая по атому бескрайнее пространство вокруг? Вопрос скользнул на заднем плане сознания, оставив после себя гаденький пузырек сомнений. Сомнения, страх будущего и скука тоже были плодом материи, незваными гостями, пришедшими вслед за формой.
Впрочем, сознание Кэ обогатилось опытом, выращенным из зерна, малого как нейтрино, и теперь он видел возможности, о которых раньше не мог мечтать. Нужно оставаться терпеливым — плод трудов будет сладок…
Чтобы расслабиться и подумать о будущем Кэ отринул несколько частей тела, сразу же почувствовав себя лучше.
Яичный катаклизм
«Отделение дарвинизма» занимало пятно на проходе между залом РККА и еще одним, посвященным то ли быту царской России, то ли мануфактурным достижениям советской — разношерстный набор экспонатов говорил за то и другое сразу: простенок деревенской избы, печь, люлька с фальшивым младенцем, сундуки, ведра, куклы, портрет баронессы N., клавесин, шкатулка, капот, пожарный комбинезон — и масса других предметов, позволявших составить ассортимент магазина, владельцы которого решили потрафить всем.
В этом плане «красноармейский» зал был проще, походя сотни других, посвященных военным подвигам — оружие, знамена, портреты беззаветных героев. Осмотр военных экспозиций неизменно убеждает в ограниченности человеческой фантазии. Иногда, впрочем, в них присутствуют корабли, что значительно улучшает впечатление.
Притиснутый этим краснознаменно-сабельным неистовством с одной и сарафанно-люлечным полумраком с другой стороны, висел на стене плакат, изображавший эволюционный ход обезьяны к партработнику, несправедливо обрывавшийся на последнем. Под ним на столе — мамонтовый зуб, чучело суринамской пипы в стеклянном кубе и проволочная модель Солнечной системы, немало претерпевшая от рук школьников. Был еще указатель, гласивший, что в зале номер 12 («Спросить на входе») можно ознакомиться со скелетом мамонта целиком, от которого, очевидно, и происходил зуб, бывший чем-то вроде образца навынос, сулившего незабываемые впечатления от остального.
У ножки стола, огороженный бархатным шнуром, стоял не поместившийся на него щедрый ржаной сноп, спрыснутый лаком, чтобы не разлетался. Несмотря на это вокруг снопа вечно валялись зерна, приводя в отчаяние смиренную уборщицу Глашу Адамовну, по утрам сметавшую их в совок и не знавшую как правильно поступить — выкинуть с остальным мусором, или предъявить начальству, коль скоро зерно было частью экспоната.
Литография Чарльза Дарвина, седого и грустного, дополняла коллекцию до академической. Судя по выражению лица, великий англичанин, открывший естественный отбор миру, не слишком одобрял его результаты.
Лелеял свое естественно-научное хозяйство молодой лауреат премии, светлый ликом Борис Аркадьевич Нехитров, с которым мы уже познакомились — человек увлеченный и перспективный, приятель «давешнего» Гринева.
Круг научных интересов его был сугубо сосредоточен на вопросах сельскохозяйственного прогресса страны победившего коммунизма, рост которой вечно сдерживали недостаток продовольствия и безалаберность на местах. Десять лет своей научной карьеры он посвятил решению «проблемы яйца», апологетом которой являлся, стяжав себе на этом пути некоторое имя, а также упомянутый стенд с причудами, которого был научным куратором.
Яйцо — кто поспорит с этим? — уникальный продукт, содержащий множество питательных элементов. Оно заменяет отчасти мясо, снабжает организм белками, витаминами и целым строем полезных соединений. К тому же доступно в цене и способах производства. Но, увы, весьма и весьма хрупко, став основой многих выражений и образов. Знаменитый Шалтай-болтай — неуравновешенный, докучающий коннице персонаж — писан с яйца. А «мировое яйцо»? «Колумбово яйцо»? «Яйцо выеденное35»? В общем, мир буквально помешан на яйцах.
Проблема же состоит, очевидно, в том, что миллионы таковых не доходят до трудящихся из-за боя на разных этапах транспортировки, а то и в первые минуты от производства. Проведя самые грубые расчеты, нетрудно показать, что потери яичной массы в размере государства огромны, а в переводе на калории вовсе обескураживают, портя статистику пищепрома и подтачивая державную мощь страны.
Нехитров, движимый благородством и жаждой знаний, проник в самое сердце этой проблемы, если угодно — в ее желток, и усердно искал решения, не жалея себя и окружающих.
Первым и главным результатом изысканий стало то, что извечно, от самых глубин веков, вопрос решался способом упаковки и транспортировки продукта, и что, как достоверно обнаружил ученый, не позволяет достичь желаемого даже в теории. Сложным математическим путем был выведен знаменитый «предел Нехитрова», формулу которого приводить не станем, дабы не загромождать неподготовленные умы. Отметим, что в выкладках щедро фигурировали интегралы, экспоненты и свертки, а также ряд остроумных гипотез, касающихся физиологии яйцекладущих (которые еще предстояло подтвердить в будущем).
Согласно подведенному доказательству, никакими способами, кроме как подставить под несушку ладони в ответственный момент ее жизни и употребить продукт тут же на месте в сыром виде, невозможно сохранить внушительную долю яиц, сносимых на птицефабриках и в домашних хозяйствах. Совершить это в массовом порядке, как вы понимаете, немыслимо (доказательства также приведены в исследовании). Отсюда следовал строгий вывод, что тонны сутками сносимых в стране яиц с математической достоверностью обречены не попасть на стол пролетариата, утратив кондицию на пути от куриного темного нутра к нутру просвещенному человеческому. Никакими карами упаковщиц, водителей и товароведов невозможно отвратить эту гибель высококалорийного продукта — ниже «предела Нехитрова», во всяком случае.
На этом была построена оригинальная новизной теория: для исключения досадных потерь нужно усовершенствовать само яйцо. Скорлупа его должна быть либо металлически-твердой, либо завидно эластичной. Первое, однако, весьма бы затруднило обращение в домашних условиях, так что класс твердых яиц, выше пяти по Моосу36 ученый признал лишь промышленно-пригодными и отмел. Решение мрело в эластичности.
Опустим титанический труд, в том числе экспедиционный, понадобившийся для исследования яиц в широчайшем спектре по всему миру — Амазонка, Галапагос, Нил, Валдай, Сикоку… Главным и всеобъемлющим выводом стало то, что наилучшие показатели свойственны зародышевой форме рептилий. К тому же кладки последних, на зависть старорежимным курам, достигают двухсот штук за раз! Теперь оставалось только решить, как, каким образом перестроить животноводческий комплекс СССР, обеспечив разведение довольного для страны числа кайманов и черепах в условиях коллективного хозяйства.
Этому Нехитров посвятил свою диссертацию, над которой упорно трудился в стенах музея, опираясь на доступные образцы и покровительство руководства.
Минул день и настало утро. Илья снова был в стенах МИМа, где уже чувствовал себя гораздо уверенней. Однако, оставалась одна проблема — найти наконец свое рабочее место, заветные стол со стулом, которые должны же где-нибудь быть!
Как на грех, таблички с фамилиями служащих были в музее огромной редкостью, так что большинство кабинетов населяли никак не обозначенные товарищи, выспрашивать у которых было нелепо и подозрительно.
Первый день он кое-как протянул, поучаствовав в памятном совещании, второй прошел там и тут, но в третий уже необходимо было где-то осесть. Люди начинали посматривать на шляющегося без дела коллегу с немым с упреком. Он делал вид, что увлечен и сосредоточен, прогуливаясь для лучшего хода мысли. Но не целый день же, в конце концов! К тому же от него наверняка требовалось что-нибудь по работе — составить отчет начальству и тому подобное, чем занимаются обычно в учреждениях. Еще висел над загривком вопрос по возведению купола, чтоб его! Вот уж дамоклов меч.
Пока же Илья бродил, пытаясь составить для себя карту огромного запутанного нутра здания, лестниц и переходов в котором было больше, чем в Виндзорском замке. Здание это, составленное из главного и еще нескольких, некогда соседствовавших друг с другом, соединенных со значительным произволом, напоминало клубок угрей. Только оказавшийся хоть единожды в таком месте может оценить в полной мере жестокость эксперимента над крысами, вынужденных искать корм и самок в лабиринте под наблюдением хихикающих лаборанток.
Только что миновав буфет (уже второй раз), поднявшись на этаж, он снова оказался у пожарного щита с ведром-конусом37. В глубине музея раздался тревожный гул. «Опять фракийскую понесли», — автоматически отметил Илья и свернул налево, проследовав сквозь зал РККА к противоположной двери, в которую, кажется, еще сегодня не заходил.
Миновав ряд настенных фото, среди которых Киров и Чапаев были узнаны им с беглого взгляда, а остальные неведомы совершенно, он попал в проходную закуть, бывшую чем-то средним между чуланом и лестничной клеткой, в которой молодой опрятный мужчина с живыми, словно подожженными изнутри глазами, казавшийся старше из-за пенсне, выспрашивал что-то у старой дамы. Та сидела на стуле у косяка и внимала ему со священным трепетом.
Илья прошел мимо них, озабоченно представляя себе дальнейший маршрут. Кажется, там внизу лекционный зал… Очень хороший зал — пустующий, с уютным пространством под амфитеатром сидений, где можно укрыться и подремать.
Не успел он поставить на ступень ногу, как кто-то тихонько его окликнул, будто читая казенный список, хотя и несколько театрально.
«Да чтоб тебя…», — подумал Илья, и быстрым шагом направился вниз по лестнице, делая вид, что не слышал зова. Его то записывали в кружки, то включали в состав собраний, то спрашивали что-то, о чем он понятия не имел, и приходилось выкручиваться, то вообще — просили денег взаймы до пятницы с нехорошим блеском в глазах.
Однако зов повторился, обретя оперно-зловещий оттенок.
Из любопытства, а отчасти из осторожности он все-таки обернулся, споткнувшись взглядом о рыжий сноп, затем о мятую Солнечную систему и наконец о портрет седобородого мужа, смотревшего на него с недоверием. Помимо старика Дарвина за ним пристально наблюдал персонаж, мимо которого Илья секунду назад прошел, сочтя докучливым посетителем, что-то уточняющим у дежурной. Чем, как оказалось, немало того удивил.
— Здравствуйте… уважаемый Илья Сергеевич, — вкрадчиво сказал персонаж, отстраняясь от старой дамы.
Илья вежливо кивнул ему в знак приветствия, думая про себя: «Вот влип! Еще одна история. Может, я ему денег должен?».
— Что же вы этак пролетаете мимо? Делаете вид. Чураетесь. Уж не получена ли вами премиальная надбавка, и старые друзья мгновенно отставлены? Лично я голоден как цыган и готов разделить заначку.
«Так и есть…», — Илья нащупал в кармане червонец с мелочью, доставшийся от предшественника, готовый их отдать, лишь бы незнакомец отстал. Тот явно над ним подтрунивал, сам получая удовольствие от процесса.
Илья решил ответить той же монетой:
— Не смел помешать вашей беседе с почтенной дамой.
И степенно поклонился смотрительнице.
«Почтенная дама», ноги которой были на уровне его лица, недоуменно моргнула, не понимая, что собственно происходит, и на всякий случай кивнула ему в ответ, неприязненно уставившись на ломаку сквозь очки толщиною в стену.
— Вы зря так напираете на Инфальду Строновну, — вступился за дежурную незнакомец, делая нарочито строгое лицо. — Я, пожалуй, вызвал бы вас на дуэль, милейший, но ввиду намеченного на пятницу юбилея… Всего вам доброго, дорогая и уважаемая Инфальда Строновна! Пора, пора мне уже идти, служба не терпит промедлений! Присмотрите уж, будьте так добры, за моей никчемной коллекцией. Я верю в вас! Как я верю! — и мгновенно оказался в сажени от нее, скользнув по полу как водомерка. Еще миг, и Нехитров стоял на лестнице рядом с Ильей, уставившись на него в упор. — Ну, рассказывай, что на пажитях происходит?
Он, подобно пророку, прозревшему яичный кризис в грядущем, только что и не без успеха отправил научный ритуал перед лицом комсомольской ячейки, следовавшей с экскурсией по музею. Многие благодаря его краткой лекции укрепились в дарвиновской теории, а равно стали членами-корреспондентами почетного круга исследователей яиц и яйцекладущих. Две активистки (посимпатичней) даже получили значки. Теперь он был взбудоражен и многословен — его обычное состояние, как позднее обнаружил Илья.
Они спустились по лестнице. Нехитров фамильярно держал Илью за локоть и тянул куда-то.
— Ты перепугал старушенцию. Видел ее лицо? У нее могут развиться комплексы из-за такого обращения, опасные в личной жизни. Все-таки — существо с тонкой организации сознания… Так что? Что нового в твоей недостойной жизни, Илья свет Сергеевич? Я даже заподозрил, что ты ушел в запой — это было бы для тебя выходом, учитывая… Что ты там возглавил? Какой-то штаб, говорят? Уму непостижимо! Обливаюсь слезами с досады, что не был на том собрании и не видел весь этот цирк. Еще говорят — у нас это любят — ты был в ударе. А я стою, смотрю: бежит куда-то с преступным видом… Вчера не было, того дня не было и сегодня не появился. Чуть не сдал Порухайло твой стол внаем, но из-за бардака желающий отказался. Успел продать лишь чернильницу.
Казалось, его болтовне не будет конца. Илья кожей ощущал, что такие вот разговорчивые товарищи могут быть весьма и очень опасны — для психики в первую очередь. Следуя за ним, он сам не заметил, как снова поднялся по другой лестнице и вернулся в зал, увешанный парсунами борцов за светлое будущее народа в ущерб его настоящему. Боролись, судя по экспонатам, от жаркого Туркестана до сумеречной Чухны. Этой экспозиции, кстати, также досталась пара сапог, снятых, как гласила табличка, с «красного» командира, воевавшего с «белыми» под Саранском. «Интересно, с живого или…».
— Нет новостей — хорошие новости? — осторожно спросил Илья, переключившись с обуви на Нехитрова.
— Это говорят англичане, — тут Нехитров заговорщицки приблизил свое лицо и заговорил шепотом, будто обращаясь к лацкану пиджака: — Я всегда думал, что ты японской, но теперь понял — ты агент английской разведки. Красные вибрации зала РККА выдали тебя, лишив воли, наконец заставив проговориться!
Илья вздрогнул и решил, что перед ним натуральный псих. Нехитров же стоял и светлейшим образом улыбался, будто только что выиграл в лотерею.
Илья, впрочем, не был из породы людей, которых легко запутать. Произошедшие потрясения вовсе окрылили его находчивость. Рассудок словно расслоился — большая его часть действовала сама по себе, оставшаяся старалась не вмешиваться в процесс. Так, возможно, чувствуют себя рыбы, идущие на нерест в придонной тьме — кроме одного маленького нюанса: язвительного наблюдателя внутри черепа, присматривающего за всем с высоты.
— История рассудит нас. Сам рассказывай, ибо ничего, кроме интимных подробностей будуара у меня нет, а распространяться на их счет я не намерен. Варенька заругает.
— Ну ты жук! Шляешься черт-те где. Говорят, слег. Возглавил дебильный штаб. С понедельника не являлся. Увидев, хотел сбежать. А теперь, вишь!.. Я тебя неделю не знаю после этого! Но готов выкурить папироску с незнакомцем. Естественно, его папироску. Мое расположение не может стоить еще дешевле.
Некурящий Илья похлопал по карманам доставшегося ему пиджака, в которых находил коробку позавчера. Чувство было как у стыдящегося профессии «щипача». Вещи, хотя и впору, сидели непривычно, прикасаться к ним было странно, шарить по карманам неловко.
«Принесу себя в жертву отношений, выкурю с неизвестным другом, не убудет. В выходные схожу в спортзал. Может, ГТО сдам…», — решил он про себя и добавил вслух:
— Идем, разоритель!
Через минуту оба были в курилке, устроенной из лестничной площадки плюс традиционная в этом деле консервная банка с коричневой гадкой лужицей.
— Какие слухи на счет нашей богадельни? Говорят, какая-то реформа грядет, будут ставить музей на прогрессивные рельсы, — наобум сымпровизировал Илья, и, видимо, попал в точку. Эта тема вообще работала: всегда веют какие-то перемены, которых никто не хочет.
— Он и на старых-то, не к ночи будет помянуто… — сплюнул на пол Нехитров, помрачнев лицом. — Сказал бы я — мерзкая дыра, но не могу: дыра эта кормит и даже иногда лелеет. Короче, не кусай руку кормящего. Я так понял, какой-то культурно-идеологический синдикат будут делать объединенный.
— Сокращение штата, аттестация и еще какая-то гадость, — вставил Илья.
— Посмотрим еще… Может статься, скоро будем с нежностью вспоминать Вскотского, какой бы он не был тупой скотиной.
Нехитров махнул рукой сквозь дымный протуберанец, на мгновение превратившийся в иероглиф.
— Ну, тебе-то что волноваться?
— Да как сказать? Это ты — улитка: спрятал рожки и шмыгнул с Варькой на комсомольскую стройку — повышать, поднимать, бороться. А я с четырьмя ртами? Знаешь, сколько съедает в месяц этот кагал? Образование надо дать московское и тэ-дэ. Вот нашел же, ей богу, тему! — настроение собеседника явно пошло на спад. — Давай лучше о бабах поговорим.
— А что о них говорить? Суета сует…
— Бывают у тебя эротические видения, Захар?! — накинулся вдруг Нехитров на какого-то мужика в вылинявшем халате, неспешно восходящего к ним по лестнице.
Мужик имел такой рост, что голова его уже находилась вровень с площадкой, когда ноги еще решали, куда идти.
— Да, — хрипло сказал мужик, прорастая над горизонтом.
— Что за видения? Мужчины, женщины, животные?
— Краснознаменный полк, — гавкнул тот, прикуривая от спички. Папироса терялась между огромными плоскими губами.
— Как почти биолог предрекаю тебе: с таким рефреном твой род безвозвратно вымрет. Тебе нужно меняться, Захар. Знаешь, у древних ящеров, тоже, кстати, вымерших — это тебе в назидание ремарка — было два мозга: в голове и в заду, чтобы вовремя отскочить, когда в него вцепится кто-нибудь. Отращивай второй мозг, дылда. Твоя задница под угрозой.
Названный Захаром ощерился довольной улыбкой. Даже ссутулившись, он возвышался над Ильей на локоть. В голове само собою всплыло «акромегалия».
— Не теряйте юности, поступайте, Захар, в спортивную команду, — пошутил Илья.
— Столбом ему на Красную площадь, а не в команду, — отшил предложение Нехитров. — Захар, слышь сюда! У меня над экспозицией лампа с позатой недели не светит. Сделай, уже, а? Срамота! Пионеры приходят — с верой в электрификацию всей страны, а уходят с чем? И все ты, Захар! Саботируешь.
Электрик невнятно пообещал, сунул окурок в банку и в том же темпе сошел по лестнице вниз. Илья бы не удивился, если теперь он, миновав подвал, спускается в сам Аид чинить проводку на пристани Харона, где, сплевывая на черный песок, ругается на мельтешащие души, пытающиеся проскочить мимо в лодку.
— Человек будущего, хрен его редьку, — обласкал Захара Нехитров. — Давай на Клязьму рванем? Душно в Москве. Ты с Варькой, я своих возьму. С машиной договорюсь. Выходные скоро. Что тут коптиться?
Настроение у ведущего яйцеведа страны менялось как тени над колокольней: было взбодрившийся, он снова впадал в уныние.
— Ну, давай, что… Пиво с собой берем?
«Все едино, все то же — хоть тридцатый год, хоть сто тридцатый», —думал Илья, живо представляя пикник на Клязьме. Идея не лишена была привлекательности. Очень хотелось верить, что река в тридцатые была чище.
— По дороге возьмем. Ты картошки прихвати покрупнее, запечем в углях… Кстати, что со статьей с твоей? Не вышла еще? Займись, мой тебе совет, теперь это прижмет. Если музей подстелют под институт этот, как бишь его… Начальство привалит новое, будут у каждого пересчитывать, кто да сколько родил научной мысли. Год будем одни отчеты писать. Мне, кстати, тоже на заметку — надо накропать что-нибудь эпохальное, подтвердить высоту полета. Или вместе давай? Книгу бы написать…
— У меня творческий кризис, — отмахнулся Илья, бросая окурком в тополь, шевелившийся за окном.
— Ну, как знаешь. Ждет тебя героическая стройка, философ-разнорабочий. Идем, сосед, а то обед скоро. Сыграем партию в шашки на благо родины.
Бархатные пуфы
В лето пятнадцатого М., завершив курс с отличием и от этого весьма гордый собою, жил в квартире у тетки, вдовы Колокольцевой, сыновья которой ушли на фронт. Время проводил праздно и мыслил свою будущность в неопределенно-розовых тонах, где были общественный успех, и богатство, и красавицы (как без них?), и даже свой железнодорожный вагон с бархатными зелеными пуфами и винным шкапчиком. Окончательно увязнуть в грехах ему, впрочем, мешало отсутствие денег, какие поступали от родителей очень скудно, не давая насладиться широкой жизнью.
Тетка была тяжела в общении, от страха за сыновей сделалась сварлива и нелюдима, всякое проявление радости, тем более от него, далекого от военной службы, считала едва ли не оскорблением. М. был уверен, что в сердце она винит его за то, что он гуляет в виду Днепра, а не сидит в окопе под пулями как ее возмужавшие близнецы. Жить при ней стало невыносимо. Нужно было скорее находить поприще, чтобы съехать. Однако квартиры в Киеве стоили о-го-го, а съезжать куда-то, куда Макар телят не гонял, ему не хотелось — образованному джентльмену с дивными перспективами, да в пригород на задворки? Нет уж!
То там, то там он пытался себя пристроить. Подвизался в Счетной палате, даже получив кое-что авансом, но тут начальника «замели» по старому акцизному делу, а его по-быстрому сплавили с глаз долой. С другого места, по военному ведомству, он также был скоро изгнан в результате истории с полковничьей дочкой и, не судите строго, котом. (В сущности, кот был виной всему, но что на него, скотину, пенять?) Загоревшись авантюрной идеей, подал прошения в две газеты, дерзая писать политические обзоры. «Киевская мысль» отказала сразу, а «Ведомости» посулили такой оклад, что хоть плачь — на дыру от бублика и то мало, не то что — зажить достойно. Университет в каникулярный период не принимал: начальство по отпускам, кто остался, не желали обременять себя суетой — идти в него стоило только к осени.
Бархатные пуфы таяли на глазах…
В июльский воскресный день, часа в четыре, когда жара уже шла на убыль, на набережную высыпали гуляющие. Среди множества молодых мужчин, одетых в парадную форму, безусый гражданский тип в очках и дурном костюме выглядел досадной случайностью, ягненком в стае волков. Офицеры, важно шагающие с дамами и товарищами, смотрели на него свысока. Может быть, не настолько, как ему самому казалось — скорее всего, они просто его не замечали. Но М. все мрачнел и жалел уже, что вообще вышел из дому. Если бы не тетка, вновь устроившая скандал… Возвращаясь с воскресной службы, она вечно изводила его, хотя, по всем статьям, должна была приходить умиротворенной, смягченной долгой молитвой. Наслушавшись по самые гланды, он сбежал с квартиры, даже не пообедав.
Ему нужно было встряхнуться, самому себе доказать, что не хуже этих.
М. постоял, поджав губы, резко свернул в аллею и, стараясь выглядеть важным, зашел в ближайший кабак, решив с утра же найти работу, а пока отпраздновать на что есть. Половой, чудного вида старик, приветствовал его и отвел за свободный столик, бормоча в усы «Ночь светла». М. заказал судака с «белым» и неплохо, в общем-то, провел время… если бы не одно обстоятельство.
Какой-то мальчишка лет пяти выбежал из подъезда и бесцеремонно сиганул под самой мордой у лошади, размахивая как шашкой блестящим горном, — еще не связанным в умах с пионерией и в этом смысле дикарским, чуждым идеологии инструментом, праздно расточающим гуд. Извозчик привстал на облучке, отпуская бесполезную брань, плюнул и стравил вожжи.
Ребенок, похоже, был абсолютно счастлив и вот-вот собирался осчастливить окружающих незабываемой джазовой импровизацией. Глядя на него М. улыбнулся собственному ощущению дитя, спрятавшегося внутри, под шкурой небритого молодого человека, дурно одетого, спешащего от желудочной неурядицы в аптеку, втайне надеясь там же найти работу38.
К слову, никаких познаний в аптечном деле он не имел и едва мог отличить цинковую мазь от йода. Проситься к провизору в его случае было сущей авантюрой, куда большей, чем в редакцию столичной газеты. Да и вы бы предпочли покупать лекарства не в той аптеке, где работает тип, который запросто упакует вам сурьмы вместо порошка от мигрени. Это обстоятельство его слегка беспокоило.
С другой-то стороны, химию изучал, имеет высокий балл (хотя полученный не без хитрости, но то дело мы ворошить не станем). Фосфор, сера, селен… Что еще? Латынь, латынь, дери ее! Как будет «спирт»? Spiritus! Вот, и латынь не совсем угасла. Как говориться, per aspera ad astra — через тернии к звездам.
Выбравшись с тарантайки и расплатившись, просыпав мелочь на мостовую, он зашел за угол, стараясь не растерять достоинства, и там уж кинулся к стеклянному фонарю аптеки, оказавшейся некстати закрытой. Очень некстати, потому что взбунтовавшийся судак из «Ривьеры» в нем только дыры не прожигал. «Как же быстро меня скрутило!».
Извозчик, собака, взял последние деньги и, конечно, уже уехал! Лишь эхо разнесло стук копыт.
Положение было безнадежным: до тетки версты четыре, денег — пустой кошель, в животе стреляет судак. Даже развернуться и устроить в ресторане скандал по горячим следам не выйдет — далеко, тут бы до сортира, миль пардон, добежать. Да и чем поможет ему скандал? Конфузная, конфузная ситуация.
На всякий случай побившись еще в стеклянную дверь и уже утратив надежду найти спасенье, он услышал отлетающую щеколду.
С другой стороны «фонаря» открылась узкая створа, через которую боком вышел на тротуар внушительной комплекции бородач в черной паре — чистый протодьякон. М. рядом с ним смотрелся беспородным щенком и немедленно стушевался.
— Что стряслось? — пробасил провизор, шедший, по виду судя, на какое-то вечернее торжество.
— Здрассть… простите… отравился… рыбу подали тухлую… мне бы средство, — жалобно проблеял страдалец.
— Зачем ел?
Провизор обвинительно поднял бровь, будто несчастный сам виноват в потраве.
— Половой под соусом подал, шельма… индийский, говорит, соус…
— Хм, соус — дело такое. Под соусом что угодно могут подать. Где ж вас так, молодой человек?
— В «Ривьере», на набережной.
Провизор покачал головой.
— Хаживал. Не отравляли. Ну, идемте-с…
Аптекарь отворил дверь и впустил М. за собой.
— Да не запирайте… Река, значит, рядом, а рыба тухлая? И соус из самой Индии? Может, и рыба у них оттуда же? Хм… Я вам, молодой человек, порошок дам, примите сразу же два пакета, и к ночи еще один. Воду кипяченую пейте. По-хорошему, надо желудок чистить. Рвотное средство дать? — и, глянув вскользь на клиента: — Вижу, вижу, сами справитесь с этим. Пейте больше воды. Вот вам.
— Я очень извиняюсь… — начал М..
— Что? Денег нету?
— И это тоже.
— Что же вы, в ресторанах последнее просаживаете?! — подняв бровь, воскликнул провизор, будто не знал, как оно бывает. — Молодость…
М. предпочел отмолчаться. Но тут хвостом плесканул судак…
— Вы мне не позволите воспользоваться удобствами? Ужасно крутит.
Бородач недовольно посмотрел на него. Снял шляпу и степенно положил на прилавок.
— Вообще-то, аптечный магазин такие услуги не предоставляет.
Наблюдателю стороннему, так сказать, не заинтересованному, ясно было бы, что он едва удерживался от смеха, но М. в тот момент было не до физиогномики.
— Спасите! Я вам окна потом помою и что хотите!
Причем тут окна, М. сам не понял. Видно, разум его помутился от несваренья.
— Окна действительно не ахти, — весомо сказал аптекарь, глядя на лоснящиеся разводы. — Но вы, молодой человек, лучше отхожее за собой помойте — и не потом, а сразу, по завершению. Идите уж — вон за стенкой…
Через четверть часа М. вышел на улицу, если не в счастливейшем состоянии естества, то в гораздо лучшем, чем в тарантасе. Работу он, конечно, не получил, постеснялся даже начать разговор об этом, зато получил приглашение на обед — и уже без всяких выкрутасов с тухлыми судаками.
Обед у провизора
В следующую среду в половину шестого вечера, отглаженный и выбритый до поджилок, он прибыл к заветному фонарю аптеки, вошел через ворота во двор, где был обруган собакой, и поднялся в третий этаж — к широкой медной табличке «Мильн Г. Е.» у кожей обитой двери.
Открыла ему приятная дама не первой весны, с руками, испачканными мукой, кивнула многозначительно, спросив фамилию, и проводила в гостиную ждать хозяина, бывшего «в городе по делам». Не представившись она вернулась на кухню, оставив М. развлекать себя самому.
Где именно мог быть «город», если дом стоял на Подоле, то есть в одной из оживленнейших частей Киева, М. осталось неясным, но, скорее всего, не слишком далеко, потому что господин Мильн через четверть часа явился, внеся в гостиную большой бумажный пакет с лентой цвета куриной крови.
— Добрый вечер, молодой человек! — приветствовал он гостя, рассматривавшего череп на этажерке.
Череп был имитацией, весьма искусной, того самого, известного всему миру, найденного в африканской пещере.
— Здравствуйте, Генрих Ерсович, — ответил молодой человек и неловко всучил хозяину обернутую фольгой бутылку, из-за которой залез в долги.
— Благодарю любезно, не стоило. Впрочем, не откажусь. Что за сорт? — провизор с азартом раздел бутылку. — Ого, штейнбергский рейнвейн! Первоклассно! Даже не представляете, как вы угадали: я провел там юность. Если хорошо покопаться в местных подвалах, немало еще найдется бутылок из винограда, что я собрал. Было, было дело.
— Рад потрафить вашим предпочтениям. Вино тоже — своего рода лекарство, — светски ввернул М., несколько развязно оттого, что ужасно нервничал.
— Да-да, верно сказано. Что же, я пригласил вас — и мало того, что сам опоздал, так и еще вас попрошу подождать: вышло, что гости приедут позже.
— Ничего, Генрих Ерсович, не беспокойтесь. Я прекрасно тут… И никуда не спешу.
При слове «гости» сердце молодого человека екнуло в ноги. Конечно, раз званый ужин, они должны быть, но как подать себя и о чем с ними толковать? Хорошо, если общество легкое. А вдруг дамы или такие же весомые дядьки как сам хозяин? Еще хуже, офицеры, которые станут презрительно смотреть на него и начнут с вопроса: «Отчего не служите, молодой человек?».
— Не стесняйтесь, берите книги — тут или в кабинете. Есть весьма редкие. А сейчас кофе будет. Катиш занята столом, что к лучшему — я сам недурно варю кофе и вообще считаю, что дело это не женское. Есть один секрет, но…
Провизор хитро подмигнул гостю.
— Я вовсе убежден, что лучшие повара — мужчины, — продолжил М. подпускать светского льва, представляя для ориентира какую-то обобщенную сцену раута из «Войны и мира», где, оставалось надеяться, все же не начнут танцевать — в танцах он был не ах.
«Не ляпнуть бы чего-нибудь невпопад…». Стоило об этом подумать, на язык предательски полезли дурные фразы — одна хуже другой. Он готов был схватить его пальцами, но провизор вовремя увлек гостя в свой кабинет, не дав панике совершенно овладеть мозгом.
В блестящем обществе, увы, М. никогда не случалось быть, если не считать именин богатого застройщика из Житомира, где торжественно читали поздравительный адрес от городского головы, бывшего с ним в родстве и, как легко догадаться, в доле.
— Уж не те ль повара, что обкормили вас давеча судаком? — весело поинтересовался хозяин. — Ну, да бог с ними. Наверное, в «Ривьере» шеф-повар — женщина. Катиш только не говорите на этот счет, а то мы останемся без обеда. Она ужасно обидчива, — подмигнул провизор и вышел, отирая шею бирюзовым платком, сграбастав бутылку и пакет с лентой.
М. осмотрелся — кабинет ему понравился чрезвычайно — и взял первый попавшейся том из шкафа, усевшись в мягкое высокое кресло, в котором почти мгновенно заснул. Приключения индийца Кимбола О’Хары39 так и остались ему неведомы.
На краю слуха хлопала дверь и какие-то голоса приветствовали друг друга. Пахло кофе, корицей, жареным мясом и много чем, соблазнительным для желудка. М. крепко спал, видя во сне застолье и нарядную толпу человек в пятьсот, которые, как он понял, были те самые запоздалые гости, о которых сказал провизор. Вдруг стало очень тихо, все смотрели на него с нетерпением — он должен был сделать речь…
Толпа эта и весь сон разрушились от «Вот вы где, молодой человек! Знакомьтесь!» вошедшего в кабинет хозяина.
М., сконфузившись, вскочил и еще больше смутился, увидев, что провизор явился не один, но с высокой барышней в сером платье, пристально на него смотревшей. На столике у кресла стояла остывшая чашка кофе с пирожным на белом блюдце — кто-то деликатно принес их и оставил, не став его беспокоить. Провизор мягко улыбался, поглядывая на гостя. Было видно, что происходящее его забавляло.
Барышня стояла, сложив ладони поверх передника, и смотрела молча на него так, будто он — удивительное животное, привезенное для показа в городской сад. Хорошо, не держала в пальцах гривенный билетик за вход.
На ее лице в сетке темных жилок сидели глаза, будто взятые с другой головы, — большие, круглые, с песочного цвета радужкой. Все внимание забирали эти глаза, от которых не оторваться. Рассмотреть ее целиком из-за них было невозможно. Только когда она отвернулась, что-то вороша в ридикюле, М. прошелся по фигуре, бывшей весьма приятной. «Чистая нимфа со спины. Но лицо совы — глаза эти жутко портят ее… Только бы вслух не ляпнуть!».
— Ада Анисимовна, моя племянница, — представил ее провизор.
Та дернулась в реверансе, пискнув: «Очень приятно». М. представился в ответ, отметив, что рад и что погоды стоят прекрасные. Барышня согласилась, добавив на счет поспевающих в садах яблок и какой смешной на него, М., нынче надет пиджак — будто видела его во вчерашнем. Молодой человек собирался спорить (пиджак был его единственным), но не стал, признав, что да, крапчатый и короткий, он действительно не ахти и что в модах он не силен. Барышня доложила о наличии в Киеве большого числа портних, в том числе приличных, и даже выдала на листочке адрес, где одну из них следует искать — возле мыловарен купца Осокина. На этом разговор прекратился, потому что в столовой было накрыто и их позвали.
В итоге за столом оказалось семеро — хозяин, М., четверо остальных гостей и домашняя прислуга Катиш, бойко расставлявшая блюда, и тут же со всеми усевшаяся обедать, чем, похоже, никого, кроме М., не смутила.
— Ну-с, прошу, кто чего желает боар40? — провизор обвел взглядом стол. — Кстати, благодаря заботе нашего гостя располагаем прекрасным рейнским, не откажитесь, — продолжил он, задавая тон разговору. — Поведайте нам о своих занятиях, — тут же попросил он М., накладывая себе жаркое из ушастой супницы. — Вы б мне, Розали, водочки для начала не передали?
М. кашлянул и собрался с мыслями.
— Я по образованию математик, но нынче я нигде не служу, потому что только весною окончил курс и еще никуда не успел устроиться. Осенью получу место в университете.
— Обучение планировали продолжить? — спросила дама в вязаном платье, махавшая на себя платком, которую хозяин называл Розали.
Платье было в ее представлении выходным и в приличное общество, какое одно могло собраться в доме провизора, следовало являться в нем, несмотря на июльскую жару.
— Не подать ли вам, милая, лимонаду? — воркующим голосом предложил хозяин.
Розали с готовностью закивала, не сводя пытливых глаз с М..
— Благодарю, Генри. Так что же вы, продолжить намерены высший курс? — настаивала она, мешая ему жевать.
— Мта… фозможно… — неопределенно ответил М., смущение которого оттеснило голодом — наплевав на этикет, он успел набить рот салатом с хрустящей крошкой.
— Диссертационную работу, наверно, пишете?
«Вот пристала!», — подумал М., чуть не подавившись салатом, и отделался от прилипчивой особы кивком (хотя и не писал).
— Очень положительный молодой человек, — заключила дама, склонившись к плечу провизора и прося еще лимонаду, которой залпом прикончила.
Тут (М. потянулся к паштету), по-видимому, настала очередь другой, также не представленной, широкой, широколицей в оснащенном рюшами персиковом платье, решительно декольтированном. Она, отставив аперитив и горячее, начала со сладкого и ликера.
— Ваши родители здесь живут?
— Родители мои нынче живут в Одессе.
— А раньше где?
— И раньше проживали в Одессе.
Декольтированная дама насупилась, словно пережевывая слова, и неожиданно взорвалась:
— Что же вы путаете нас?! Раз и раньше, и нынче, значит всегда там жили?! Как-то странно! Совсем странно он говорит, — повернулась она к провизору, двигая грудью блюдо.
— Ничего не странно, — вмешалась Ада Анисимовна, обводя песочными глазами присутствующих. — Вы не забывайте: наш любезный гость — математик. А у математиков и раньше, и ныне, и потом — понятия раздельные. У них все по полочкам. Так ведь? — посмотрела она на М., с которым сидела рядом. — Вы б и мне не положили салату?
Судя по «наш любезный гость», все тут были свои.
«Странная какая компания… А ведь это сговор! — осенило вдруг М.. — Это они мне смотрины устроили. Ну ж я вас…».
Та, что в рюшах, обиженно замолчала. Девица, видно, имела тут право голоса.
Пришла очередь третьего лица, молчаливого джентльмена болезненной наружности, не старше самого М.. По какой-то причине он, вероятно, не рассматривался в качестве жениха аптекарской племянницы — то ли по родству, то ли по здоровью — и сидел смиренно промеж той, что в шерстяном платье и другой — в решительном декольте, мусоля отварную с хреном говядину.
— Вы… мм-м… Знакомы вы с последней мидовской нотой?.. Преступный позор! Отвратительно! Они ведь еще топорщатся! — с его губ летела слюна.
М. отметил, из каких блюд не стоит теперь брать — в «черный список», к сожалению, попали почти все, кроме самых дальних.
— Я вообще не понимаю, как такое возможно?! Знаете, это просто… — джентльмен захлебнулся воздухом.
— Вы б, Карлуша, дали ему ответить, — весело перебил его Генрих Ерсович, снова потянувшись к графину.
— Да, но что?! — подскочил тот, роняя вилку под стул. Глаза его бешено вращались.
Ни того, какая нота имелась в виду, ни кто перед названным Карлушей так провинился — Министерство иностранных дел или те мерзавцы, кому оно слало ноту, М. совершенно не понял.
— Вы про что собственно? — честно уточнил он, о чем немедленно пожалел, пронзенный горящим взглядом и названный «коллаборационистом» поверх вазы с абрикосом в сиропе.
И был бы, наверное, вызван на дуэль, если бы в раздрай снова не вмешалась миротворица Ада, шикнувшая на политикана как кошка.
Карлуша сел, уткнулся длинным носом в тарелку и заскучал с отстраненным видом. Он был бы даже забавен, если бы не был так озлоблен и странен — словно ядовитый морской еж, кажущийся красивым, пока на него не наступишь пяткой.
М. напряженно посмотрел на Катиш, еще не нападавшую на него, но та, опрокинув рюмочку с хозяином, в диспуте не участвовала и, довольная, наслаждалась вечером. Количество блюд, включавших все «перемены», и запасы чистой посуды на столе говорили о том, что она не собиралась бегать туда-сюда, поднося одно и другое. Кто ронял вилку, брал из корзинки новую, желавший пирожных, тянулся к расписному подносу, чаю — к самовару в углу стола. Хозяин с нежностью смотрел на нее, подкладывая в тарелку лучшие кусочки. Не было сомнений, что прислугой она была с особым статусом, который никто не оспаривал в этом доме.
Трапеза продолжилась в тишине, только дама в шерстяном платье все шептала провизору на ухо и тот снисходительно улыбался.
М. положил Аде Анисимовне салату, затем копченой форели, сам едва успев урвать полбокала рейнского, которым провизор запивал водку (от бесценной бутылки, увы, осталось на смех котам), как настал перерыв в трапезе.
— Мадам и месье! Предлагаю немножко отдохнуть, — пробасил хозяин, кладя салфетку под блюдо. М. показалась, он один опустошил полстола, включая горячительные напитки. — Пардон, загибаюсь, хочу курить!
— Мы разве в «Вокруг света» играть не будем? — забеспокоилась дама номер один.
— В «Потерянные в лесу»! — бойко предложила вторая. В глазах ее мелькнул огонек.
— Лучше «Усадьба счастья», — пожелала Ада Анисимовна, вздыхая.
Карлуша, сидевший без движения над тарелкой, не предложил ничего и смотрел все так же на свои руки — несоразмерные, широкие как лопаты, которые он устроил вокруг нее. Его пришлось хватать за плечо, чтобы встал.
М. не знал этих игр — ни «Вокруг света», ни, тем паче, «Усадьбы счастья». На счет «Потерянных в лесу» у него возникла отчего-то уверенность, что игра эта — с эротическим подтекстом, где охотники неспроста спасают Красную Шапочку… В детстве у них дома была одна — военного толка, которую называли «Веллингтон», но кто-то растерял фишки и в нее не играли. Да и носиться по улицам было куда увлекательней, чем сидеть взаперти и метать на картоне кости.
Провизор душою пообещал, что настольные игры будут, и кофей, и преферанс, но — через полчаса. М. с Карлушей он забрал с собой в кабинет с деревянным балкончиком, висевшим над мостовой, предложив по толстой сигаре. Дамы остались за столом, чтобы обсудить свои важные дела без мужчин. Город погружался в бархат душистой ночи.
В сих провинциальный тонах прошел следующий год в жизни М..
Он стал мужчина, отрастил усы, завел трубку, сюртук и трость, мимолетно сходился с барышнями, яростно судил о политике, делал ставки на ипподроме (однажды выиграв рубль). Скажем, что не развил знакомства с семьей провизора, с Адой Анисимовной виделся еще раз, но совершенно случайно — оба сделали вид, что никогда не встречались раньше.
Нашлась ему должность в альма-матер, и квартира обособленная нашлась — удобная, с покладистой хозяйкой и умеренным взносом. Основным занятием стало преподавание, сулившее долгую спокойную жизнь ординарного профессора — с жалованием по выслуге лет, семьей, дачей и патефоном.
А тетка Колокольцева скончалась от сердечного приступа, не дождавшись сыновей с фронта, которые оба пришли домой, но потом эмигрировали в Италию, поскольку до войны учились художеству. Слышал он, но гораздо позже, что один стал политиком и убит, а второй действительно преуспел и даже выставки его где-то там состоялись.
Между тем в стране разливалась смута. Газеты давали новости противоположного толка, так что разобрать, что происходит на самом деле, было невозможно. Их выбирали, смотря по вкусу — от официальной позиции Двора, торжественной и патриотичной, до либерального трепа и грязно-серых листков бомбистов, за которые брали в жандармерию.
Произошла революция и много чего еще, что не охватить взглядом, находясь в беспокойной и мутной гуще. Киев перестал быть приветливым, радостно-оживленным, будто что-то важное вымело из него порывом, содрало бархатистую кожу. Фонари не манили вечером на прогулку, а рождали мысли о мертвецах. Планы на спокойную жизнь разметало в клочья. И чем страшнее казалось происходящее, тем больше М. углублялся в науку, прячась от окружающего за стройностью математических формул.
Шел тысяча девятьсот семнадцатый.
Сплошные вопросы
В позднее воскресное утро в непривычной для себя роли советского гражданина, мужа, служащего музея, да еще строителя фантасмагорического купола («Ох, расстреляют меня за этот купол…», — горько размышлял он), Илья сидел на балкончике в общей кухне, решив рассовать все по полкам, что случилось с ним за неделю. В кухне, как обычно, возились и гремели посудой, но суета ему отчего-то не докучала, а даже наоборот, как бы связывала с реальностью, о которой он принялся с усердием размышлять. Если бы еще удалить из квартиры Вальку… — пятилетний разбойник был настоящим бичом коммунального очага и кровным врагом Каляма. Только что он добрался до картофельной кожуры, сделав из нее фейерверк, и теперь с ором бежал от матери.
Что, товарищи, до реальности… Тут у многих находит коса на камень: зная, как забить гвоздь (с чего, по крайней мере, начать — то есть с поиска молотка, а уж там как пойдет), сосредоточенно думать мы не обучены. Мысли извивались как штопор и никак не шагали строем, тем паче не воспаряли. Общая картина разваливалась. Илья жевал губы и хмурил лоб — это помогало, но ненадолго.
Москва жила своей жизнью. По Бульварному катили таксомоторы. Гражданки на Тверской разглядывали витрины, примеряя в воображении то, что не по карману к тому, что не по фигуре. Парни слонялись в парках, высматривая красавиц, которые затевали амуры, искушаясь на мороженое и чубастые головы в заломленных на затылок кепках. Работники пароходства, граверы, учетчики, домоуправы и прочие серьезные люди напротив — лишались шевелюр в парикмахерских Росткомбантреста. Девицы их волновали мало — хватало проблем с супругами, учтенными в паспортах, и одинокими сослуживицами. Топали на прогулку выводки одинаково одетых детей в сопровождении дородных подрумяненных воспитательниц, ругавших карапузов за сбитый строй. Все крутилось, неслось, кипело.
Илья закрыл глаза и сосредоточился, пытаясь зацепить что-нибудь внутренним взглядом, но ничего толкового не узрел — только удовольствие от тепла, мелкий сор под пяткой и бодрые перекаты гимна, летящего из соседской радиоточки. (Когда-нибудь Матиас ее выключит?) Под музыкальную канонаду шагал, громыхая сталью, «Союз нерушимый» — он же «Священная наша держава», как позже выяснилось. Над Кремлем сияла звезда.
Когда отыграл гимн, из раскрытого окна полилось «Счастье мое!»41 — и неплохо, доложу я вам, полилось! Илья еще сильнее зажмурился, прижавшись спиной к стене, и замер, наслаждаясь хрипотцой танго, отложив свои думы тяжкие.
Но вот танго иссякло, дробным маршем понеслись новости. Волшебство момента исчезло — кареты сплошь превратились в тыквы (отдельные — в рекордный по радиусу буряк). Илья сбросил сладостный морок, открыл глаза и вернулся к мыслям о невозвратном — вечере перед тем, как обнаружил себя здесь, перенесенным назад во времени.
Необычным было произошедшее, путана суровая нить Ариадны, притащившая его на этот залитый солнцем балкончик старой московской коммуналки. Он прекрасно знал его — только застекленным, с кадкой фикуса и сломанным вентилятором «Бош», который давно надо было выбросить.
Мудрая часть натуры советовала просто жить и не рыпаться, шептала, что все уже хорошо, а станет еще лучше. Вторая, муторная и дерзкая, призывала к бунту, метаться и искать выход. На языке вертелось «фантастика», но с разным уклоном.
В иную минуту он сомневался, тот ли он еще, кем он был, и кто он теперь вообще? То есть задавался вопросом, терзающим людей с воображением (а также в меру выпивших) с древних времен, ответ на который еще никто не нашел, разве Будда или Христос, но настолько широко Илья не шагал.
«Что же, что же, что же…». Он зевнул, плюнул за перила, где бабки сидели на солнцепеке, и заерзал на неудобном шатком сидении — деревянном ящике из-под яблок, бывшем единственной мебелью на балконе. Затем решительно встал, и как был в майке и жеваных льняных брюках, вышел из дому, отправившись сквозь Ильинский сквер к набережной Москвы-реки, чтоб продолжить размышления у воды. Говорят, иным оно помогает.
Трудно не задаться вопросом, что, в конце концов, произошло с ним в ту ночь, и нас он также волнует. Хотя бы из эгоистических соображений: раз такое приключилось с Гриневым, то и мы не можем быть в безопасности. Уверены вы, что утром проснетесь в своей постели? Хорошо, с «постелью» перестарался — такое бывает без всякой мистики по причинам вполне понятным. Но в другом-то времени?! Что делать тогда и куда бежать?
«Может, пойти признаться? — рассуждал Илья, глядя на мост, по которому шныряли автомобили в сторону Кремля и обратно — красивые, словно идущие от самой идеи авто, а не прагматичные их потомки, моргающие ксеноном. — Но кому?!
А ведь я еще молодец — иной бы запаниковал и наделал дел… не считая первого дня, конечно, но тут уже извините! Шутка ли? Вареньке, кстати, спасибо, что удержала. Прихожу, например, в милицию я, и что? Даже как сказать и что писать в заявлении? Бред. Упрятали бы меня в психушку. Я б на их месте сам упрятал к ежам лесным!
Ну, а если в какой-нибудь институт?
— Добрый день! Я к вам прибыл из будущего!
— Да-да, рассказывайте, товарищ! Это же сенсация! Срочно собрать всех академиков!
— Внемлите ж, темные предки: в будущем нет СССР, доллар по сто рублей, а вода дороже бензина. Прошу незамедлительно исследовать мой феномен, я бесценен для науки и техники!
Нет, даже так:
— Прошу немедленно вернуть меня обратно с секретным заданием партии и правительства!
И вот я в той же палате, здравствуйте! Кстати, прояснить бы, кем был тот другой, за кого меня принимают, и что стало с ним? Хоть выписывай вопросы в тетрадь и ходи с ними по Москве:
— Здравствуйте, товарищ рабочий! Как прошла заводская смена? Прет ли план, все дела? Ответьте на пару простых вопросов для журнала «Наука и жизнь», я не займу у вас больше одной минуты. Первый вопрос: что вы думаете о перемещениях во времени? Мда?.. А если вообще не употребляли?
Ничего, кроме мистики не приходит в голову. Может, это вообще иллюзия? Может, сейчас двухтысячные, а Варенька, Нехитров и прочие… Ну, как в «Шоу Трумана»42?».
Тут включился прагматичный Илья и веско обозначил свою позицию: «Вот он я — благополучный советский гражданин, человек женатый и положительный, прописан в центре Москвы, знаю, как себя применить, живем с супругой не хуже других, нарожаем вскоре детей, сразу на расширение подадим… И стоит, кстати, как советовал жук Нехитров, подумать о диссертации. А то, что за спиной слышатся насмешки неведомого нахала, все это устроившего и наслаждающегося моей мукой, так это ничего, это пройдет, пройдет… Хотелось бы найти только эту личность, которая просаживает на столетье время, чтобы поморочить голову бедолаге-фарцовщику».
Когда-то, в журнале, кажется, он читал про индийского бога Индру, по прихоти обернувшегося хряком, и как непросто было этого довольного жизнью хряка убедить, чтоб вернулся назад править небесным царством. Случайно подсмотренный сюжет теперь навязчиво преследовал Илью и снился ему не раз. То он расталкивает лежащего в грязи бога, забывшего собственную природу, а тот ругает его дурными словами. То сам он — свинья свиньей и не желает стать человеком.
Дрянной сон. Индийцы бы посчитали его кощунством, а психиатры забили тревогу. Вытравить морок не помогла даже выпитая с Быстровым водка — с привкусом керосина, от которой страшно болела голова утром. (Неужто и в Союзе продавали «паленую»? )
Прошлое, в то же время, не забывалось, оставаясь вполне реальным. Он живо помнил магазин на Арбате, «тандем» в телевизоре, Киркорова в перьях, Тундру без всего на кушетке… Ничего с его памятью не происходило. А происходила вселенская тоска и невозможность спокойно спать по ночам.
В чужом времени, хотя и знакомом, по сути, месте, его мучили приступы одиночества. Варенька… Она-то как не заметила?! Во всем этом, в их случайных для него отношениях был обман, и совесть мучила его, когда он думал о ней. Комната, постель, завтраки-обеды, служба под одной крышей… Какое-то сумасшедшее шапито с элементами эротического разбоя!
А квартира? Бардак, тесно, чужие люди, ванную не примешь по-человечески. Кстати-кстати! — уж не квартирка ли тут шалит? Ведь, что ни говори, перенесся он, лежа в своей постели, и в ней проснулся, спикировав в май тридцатого. Могло, наверное, протащить и дальше — в неолит, к дикарям без примуса и сортира, если бы он, скажем, проспал до половины двенадцатого?
Идея, между прочим, не лишена привлекательности — только не в неолит, пожалуйста, а попозже. Чтобы декольте, арабские скакуны, пейзажи и непременно фонтан с медной гидрой, одевающей венок на голову героя с лицом Гринева. Век, скажем… Когда там случилось Возрождение? С его-то багажом знаний можно там неплохо устроиться. Например, «изобрести» вакцину от оспы, паровой двигатель, арифмометр, законы притяжения, импрессионизм… Нет, за импрессионизм сожгли бы. Остальное бы тоже не оценили: человечество того — штука неблагодарная. Вспомните про Бруно и Галилея.
«Кстати, пенициллин-то уже открыли? Сколько жизней можно спасти! Связаться с какими-нибудь биологами, подсказать им — пусть плотнее займутся плесенью. Анонимку, что ли им написать?
Господи! Атомная бомба! Баллистические ракеты! Интернет! Я ж такое могу устроить! — Илью подкинуло от пронзившей мысли. — Не все, конечно, мне в науке известно, не буду франтовать, но что-нибудь-то я наскребу, как-то окончил «высшее». Да он опасен для истории, этот Гринев! Хуже страшного вируса, потому что вирус лишен рассудка, а отставной программист им снабжен и легко может вывалить такое, что тряхнет мир.
А вдруг это миссия? Вдруг я избранный? Найти кнопку, от которой бабахнет. Или наоборот — не бабахнет. Мир на краю гибели, единственный шанс — отправить в прошлое шалопая а-ля Брюс Уиллис43, который что-нибудь там исправит. Инструкций никаких, некогда объяснять, сам должен догадаться. Но что? Предупредить о войне с Германией? — не поверят. В минуту пустят в расход как дезинформатора.
Как это вообще работает? Вдруг я что-нибудь сделаю и будущее нарушится? Сотру из истории сам себя? Ладно, если себя, а если, скажем, «тандем» — и Россия накроется медным тазом, а Америка совсем победит? С этим делом нужно быть осторожней. Не случайно все так гладко сложилось — происки врагов. Даже Варенька не заметила, что живет теперь с другим человеком, а уж в таких-то делах должна бы…».
Его снова придавил стыд: влез в чужую постель… Не по своей воле, конечно, но ведь, факт, влез!
«Завтра на службу, кстати…». От этой мысли нервно крутануло желудок. «А вечером с Варенькой идем в гости, и потом она обещала дома…». Крутнуло ниже, и гораздо приятней.
Так он размышлял, гуляя по шумной набережной, не придя к определенному выводу. Иные мудрецы, впрочем, утверждают, что мысль приходит сама собой, а человек — лишь пустой сосуд, который нужно мыть снаружи водой, а изнутри — вином. Может, и ему когда-то придет ответ, когда он будет готов (вечное утешение дураков).
От переживаний Илья купил эскимо и уселся на каменные ступени, глядя на печальное как старческое лицо облако над крышей будущего «Кемпински». По Москве-реке плыли утки — против течения, удивляя своим упрямством. Он был совершенно уверен, что хоть вниз, хоть вверх — им один хрен, но эти все гребли и гребли.
Исчезновение героя
В бывший дворянский дом на старом Арбате, примерно в середину его, была втиснута одна из множества антикварных лавок, которую содержали в доле Гринев, его старший приятель Каляда, и еще один, фамилия которого позабылась, а след утрачен в далекие девяностые. Его доля, имелся слух, перекочевала каким-то образом к Каляде, но история эта — не нашего ума дело. Мало ли чего переходило из рук в руки в то смутное время, когда лучшие люди страны были еще бандитами, преподавателями, разведчиками. Время оно, в которое, с хрустом отхватив от страны как от пирога с хрящеватым мясом, «большие люди» сами попадали в чей-то желудок. Когда вор отбирал у вора, чтобы стать честным. И чем больше отбирал и дольше жил — тем честнее и солиднее становился, тем лучше служил отчизне. Но не будем развивать тему, которая туда еще заведет…
Полученное Ильей от Марии Оскаровны наследство, помимо квартиры в центре Москвы, включало несметное число малоценных с исторической точки, но весьма пригодных для продажи вещиц, вроде статуэток и мелкой мебели. Это-то имущество плюс талант к торговле превратило прыщавого аспиранта, устроившегося продавцом на полставки, в полноправного участника предприятия. И момент случился удачный: Каляда как раз разводился с одной женой и боролся за счастие с другой, поначалу не дававшей ухажеру надежд, но постепенно что-то в нем разглядевшей.
В самом деле, был он не слишком опрятным толстяком, близоруким и подозрительным, привыкшим жить скрытной жизнью, предпочтительно — в сводчатой каморе под магазином, единственное окно которой вровень с тротуаром выходило в узкий и темный двор, полный голодных кошек. В дни окаянной страсти он был порывист и мягок одновременно, совершенно отстранился от дел, и Гринев «вытянул» магазин, не дав ему разориться и быть пожранным стервятниками-соседями, давно имевшими на него аппетит. В итоге Илье досталось тридцать процентов доли и даже что-то вроде сдержанной ровной дружбы — наивысшего расположения к человеку, которое мог предложить Каляда. Истиной и долгой любовью он награждал лишь потертые вещицы, с которыми просиживал сутками.
Помимо старины, смирной и безопасной, он питал приязнь к бездомным детям любой породы. Мог до икоты накормить уличного щенка, выудив из сумки бутерброд величиной с будку, в котором шесть слоев колбасы громоздились на ложе нарезного батона. Всего взрослого, загрубелого и большого он тщательно сторонился, считая его бесовским орудьем, способным только на гадость ближнему. К себе толстяк относился с отстраненным пренебрежением, отчего всегда имел хмурый вид и многую радость пропускал в жизни, ища мимолетного утешения у женщин.
Такой он человек — этот Каляда, сын Херсонского инженера, повесившегося от несчастливой любви вскоре после рождения сына.
Теперь партнер-основатель находился в полной разрухе чувств и буквально изводил себя вопросами, пытаясь угадать, что и как могло случиться с Ильей. Нет, он не терзался особенно за его судьбу — это было бы уже слишком, но беспокоился за привычный ход вещей. Потеря трудолюбивого компаньона подвигала Каляду что-то срочно предпринимать, а этого он не любил. Привык за годы к покою.
Закрыв раньше времени магазин и придя в квартиру Ильи, он обнаружил там лишь до черноты загоревшую Дэбу Батоеву, степную красавицу, вернувшуюся с очередных раскопок в Месопотамии. От прихожей до кухни валялись как тюлени ее баулы. В ванной завывала «стиралка». Каляда покосился на груду скарба, надеясь, что в него не затесалась змея или скорпион.
Дэба же, одетая в шорты и майку с надписью «OFF», ограничившись коротким «приветом», продолжила разбирать вещи, вооруженная бездонными пластиковыми мешками. Ее вид не сулил ни йоты гостеприимства — Каляда немедленно был пристроен выносить мусор, которого уже набралось с десяток мешков и предвиделось еще столько же. И тогда только, когда вынес их, он был допущен в кухню и оделен бутылкой диетической кока-колы. Затем снова поработал вьючным животным, но уже в пределах квартиры.
На вопросы Дэба только отмахивалась. Жалобы на одышку, голод, срочные дела, обеспокоенность судьбой товарища и так далее были проигнорированы — пока вещи не оказались разобраны Каляда пребывал в рабстве. Дэба не терпела беспорядка, и возражений от всяких приблудных мужиков, пытающихся отлынить от работы, не принимала.
В конце концов, уже за полночь труд Каляды был вознагражден кофе и омлетом со жгучим перцем (все же у нее оставалась совесть). Затем, помыв за собой посуду, он был беспардонно выставлен вон.
Единственное, что в итоге ему удалось узнать, что Дэба Илью не видела, приехав сегодня утром. И вообще — грузный Каляда «занимал слишком много места» и «докучал ей дурацким бредом». Для Тундры, как ее в шутку прозвал Илья, мелочь вроде отсутствия кого-то месяц-другой, не являлась поводом для раздумий. Его квартира служила для нее перевалочным пунктом, очередной точкой на карте, по которой она носилась зигзагами со школьных времен, успев к тридцати пяти выучить десяток языков, защитить докторскую и счастливо избежать брака, хотя ухаживали за ней многие и много.
— Пошляется и вернется. Ты ему что, жена? — напустилась она на Каляду, тряся перед его лицом написанной на фарси книжонкой, из которой на пол летел песок.
Не добившийся положительно ничего, усталый, поверженный и печальный, он долго спускался вниз, и на улицу вышел в крайне смятенных чувствах. Усевшись в таксомотор, обругал себя нехорошим словом, посетовал, что наткнулся на дерзкую пассию Гринева, так некстати приехавшую к нему, помянул дурно и партнера, словно провалившегося сквозь землю, а затем долго сердито перебирал в голове варианты, отчего все могло случиться, как быть дальше и стоит ли ему заявлять в полицию?
«В самом деле, что я ему — родня, что ли?!», — и решил никуда не заявлять.
Чтобы совершенно добить страдальца, погруженного в печальные мысли, таксист привез его в Коньково вместо Филевской.
— Прости, брат! Два день в Москва, — не смущаясь, объяснил тот, разворачивая дребезжащее авто, пока пассажир стучал в навигатор адрес, втолковывая вознице матом, кто он есть в этой жизни.
В ту ночь Каляда не сомкнул глаз. А на следующий день, в который Гринев, как вы догадываетесь, снова не появился, случилось нечто загадочное. Именно: с окна, служившего одновременно витриной, вдруг исчез вазон с крестьянками и снопами, годы стоявший там, — слишком большой, чтобы украшать стол, и недостаточно внушительный, чтобы облагородить сад.
В лавке при этом находились лишь сам хозяин да чахлый старик Изотич — любитель всякой мелочи вроде этикеток и талонов советского общепита, выдававшихся работникам каким-нибудь резино-асбестовым комбинатом.
Сопоставив в уме тяжесть и габариты вазона с фигурой столетнего Изотича, с трудом переставлявшего ноги, Каляда отмел подозрения в его адрес как противоречащие природе вещей, правилу рычага и законам гравитации. После этого оставалось одно: впав в состояние аффекта, он сам у себя украл предмет, спрятал его, а теперь напрочь забыл о нем, что также не лезло ни в какие ворота.
Вазон определенно имелся, когда он открывал магазин, и был на месте не далее получаса тому назад, потому что Каляда безуспешно пытался сбыть его косоротому итальянцу в шляпе (который ничего не купил, сквалыга, и ушел вон). После в магазин никто не входил, как и сам хозяин не покидал узкого прохода за прилавком — в силу тучности и природной лени он вообще старался не забираться туда, оставив эту мороку Илье, а уж если попадал, то оставался там до предела долго, когда невозможно было терпеть или пора было закрываться на ночь.
— Мистика… — пробормотал Каляда, глядя на пустой подоконник. Затем придвинулся к нему боком, смахнув с прилавка зеленую гжельскую синичку, и внимательно изучил поверхность.
Чудесам не было предела: на подоконнике отсутствовал даже след от исчезнувшего вазона. Ровный слой пыли покрывал доски. Лишь в углу пристроился виниловый диск с фортепьянными эскападами Брамса да свисал на цепи угольный чугунный утюг, стоивший двадцать долларов с пятидесятипроцентной скидкой по случаю… случай менялся от раза к разу, но утюг упорно никто не брал.
Каляда потер ладонями глаза, пригладил волоски за ушами и вздохнул как пробитая волынка. Он до изумления напился в тот вечер в своем подвале, но и литр французского коньяку не принес облегчения упавшему духом антиквару.
— Ай, мама! — взвизгнула Варенька, отскакивая от разлетающихся осколков. — Растяпа! Илья, ну ты что?!
На полу в прихожей покоились останки расписного вазона. Из дверей уже выглядывали соседи: мол, «что случилось?», «велика ли потеря?», и «у нас вот тоже был случай…».
— Ну… не удержал, — сказал Илья, разводя руками.
— Ну?! — наседала на него Варенька, осторожно переступая босыми ножками, чтобы не напороться на битье. — Шикарная ведь была ваза! Может, склеить получится? Ах, Илья…
— Что «ах, Илья»? Тяжелая как слоновий зад. Да и велика она для квартиры. Хрен с ней, с вазой с этой! Другую купим.
— Как так, хрен?! — возмутилась Варенька. — Дорогая вещь, между прочим. Ты что, барон?
— На кой ее вообще было трогать? Стояла и стояла себе. Протере-еть, протере-еть… — передразнил он супругу. — Протерла? Рада теперь?
— Ты ее уронил, а не я, и не надо спихивать!
— А… — отмахнулся Илья, потому что бывает так, когда и есть, что сказать, но сказать нечего.
По зову ОСОАВИАХИМа
Минула вторая неделя.
Вечер четверга согласно висевшему в «красном уголке» расписанию был посвящен навыкам спортивной стрельбы. Илья едва не проигнорировал этот факт, уже собравшись идти домой, когда активист, проныра и чудак Володька Зелинский, вытаращив глаза, подлетел к нему у самого выхода, сообщив фальцетом, что немедленно, не далее, чем через минуту от второго подъезда отправляется авто в стрелковый клуб, и что его только ждут.
Этот Зелинский, бывший каждой бочке затычкой, играл в самодеятельном спектакле красноармейца-разведчика с таким рвением, выкрикивая на весь зал «Тихо, нас могут услышать!», что на ум приходили мысли о сумасшествии.
Илья, отбросив всякую конспирацию, спросил его, где находится этот «второй подъезд», на что получил удивленный взгляд и никакой информации. Видение гонца сгинуло так же быстро, как явилось.
С грехом пополам, крикнув на бегу извинения ожидавшей его Вареньке, не осведомленной о тяготах общественной жизни мужа, он выбежал из музея, обогнул здание и нашел сначала грузовик крытый, увозивший, как вышло, в чистку половики, а затем уж у флигеля «Столярная М. ская» необходимый ему открытый «фиат», направлявшийся в клуб ОСОАВИАХИМа. Запыхавшийся от бега Илья вскарабкался на зеленый борт, пытаясь принять деловой и одновременно веселый вид, говоривший каждому: «Ну что же, товарищи, поехали! Пора-пора — постреляем!».
Куривший в окно водитель, позволив Илье подняться, но не сесть, дернул так резко, что тот распластался на полу, ушибив колени, принеся тем самым очередную жертву общественной жизни учреждения. Никто не видел, расползлись ли в тот момент губы шофера в мерзкой ухмылке, что могло статься, потому что позже, снова учинив такую проказу, но уже опрометчиво — с кубинским делегатом-социалистом, он был вытурен вон с работы и с тех пор развозил по столице хлеб, до конца дней ругая чернокожих, евреев и, по совершенно неизвестной причине, малоазийских болгар.
В кузове «фиата» помимо Ильи находились еще трое энтузиастов, разместившихся на жестких скамьях вдоль борта — нервического темперамента гражданин в тюбетейке, прошипевший на Гринева «растяпа», неуемный Кудапов с полотняным портфелем между колен, а также сама Каина Владиславовна Рюх, имевшая, к удивлению Ильи, разряд по стрельбе. Это обстоятельство настолько его поразило, что он пропустил мимо ушей ворчание гражданина под тюбетейкой, и всю дорогу слушал ее наставления в этом трудном, нужном для отчества деле, кидая взгляды то на диковинную Москву тридцатых, то (невольно) на содержимое кудаповского портфеля, в котором тот беспрестанно рылся, доставая неожиданные предметы — банку консервированных сардин, рукав от пиджака в клетку и тому подобное.
Когда выезжали из ворот МИМа, Илья с тоской проводил взглядом Вареньку, шедшую в ситце по тротуару, крикнув ей какую-то ерунду, махнул рукой и скроил извиняющуюся гримасу как у шимпанзе с нездоровой печенью. Она шутливо погрозила ему вслед кулачком, хотя насколько шутила — еще вопрос. Лицо новообретенной супруги выражало плохо скрываемое недовольство, ведь всегда есть подозрение, и немалое, что различного пошиба кружки и секции — только повод сбежать из дома. (Может быть, конечно, их не для того изобретали ответственные товарищи, имевшие целью облагородить, приобщить трудовые массы к цивилизации, но на деле ведь случается так и сяк…)
Грузовик долго вез в сторону Капотни, затем резко свернул на грунтовку, покрутился меж пустырей и, нырнув за рощей, остановился у КПП с длинным полосатым шлагбаумом, за которым, пропущенный часовым, встал у приземистого павильона с надписью: «ССК „Стрелок“».
Над округой слышались хлопки, пулеметный треск и несло едкой пороховой гарью. Птицы то и дело срывались стаями с крон, но, странное дело, кружили, не улетая, — то ли попривыкнув к стрельбе, то ли сознательно щекоча себе нервы.
Четверо вновь прибывших, откинув борт, ссыпались из кузова на асфальт, начинавшийся сразу же за шлагбаумом, и диковинным строем прошли в павильон, декорированный сверх всякой меры плакатами об огнестрельным оружии, саперном деле и методах распознания шпионов в трудовых коллективах. Одинокий плакат «Охраняй природу» смотрелся настоящим изгоем.
Илья, будучи на стрельбище новичком, шел последним, стараясь не ударить лицом в грязь, сделав что-нибудь неуместное, поскольку в каждом занятии есть порядок, незнание которого производит дурное впечатление на посвященных. Пройти в новом деле по тонкой грани, не тушуясь и не распуская хвост, — редкий талант.
По жизни будучи пацифистом, никогда не державшим в руках оружия, он волновался, боясь чего-нибудь напортачить, и перебирал мысленно все, что знал о стрельбе — сцены боевиков, видеоигры и даже иллюстрации книжек Пришвина44, сидевшие в голове с детства, на которых седовласый мужик с ружьем, в мешковатых штанах и блюзе бродил туда-сюда меж березок. Его старательно изображали добрым, но умный Илюша чувствовал взгляд убийцы и тихо ненавидел благообразного старикана, отказываясь читать и пересказывать с выражением.
Павильон выходил на огороженный бетонным забором пустырь, щедро освещенный прожекторами. Справа за столбами с «колючкой» виднелись массивные постройки, казавшиеся зловеще-черными в зреющих летних сумерках, мелькали часовые и стояли крытые брезентом грузовики; там происходила стрельба очередями и в россыпь, раздавались отрывистые команды, иногда бухала мина, которую, Илья на это очень рассчитывал, рвали не под живыми.
Все они — прибывшие музейные и еще четверо «увлеченцев», имевшихся в павильоне — поглядывали в ту сторону с любопытством. Стрельбище, на которое они прибыли, было чем-то вроде пристройки к настоящему армейскому полигону — шаланды, тросом подтянутой к красавцу-линкору, на борт которого не взойти ни при каких обстоятельствах.
Расписавшись в журнале и получив на руки по черному заряженному нагану, отряд музейных работников был отправлен к узким стойлам против мишеней, чтобы стрелять в них во имя ОСОАВИАХИМа.
Илья, немало ошарашенный обстановкой, отщелкнул предохранитель (пришлось подсмотреть, как это делают другие, потому что сам он понятия не имел, где находится эта штука) и нервно надавил на курок, продырявив пол под ногами и придя в ужас от перспективы второго выстрела.
Кто-то положил ему руку на плечо, сухо приказав:
— Спокойно. Дуло в пол. На предохранитель. Оружие на полку стволом к мишени, — и уже чуть благожелательнее: — Впервые, как вижу, на полигоне? Вы что, инструктажа не прошли?
Илья, не оборачиваясь, выполнил с грехом пополам команды, чувствуя испарину меж лопаток и на лице, ощущая себя униженным и покорным, как однажды в школьном спортивном зале, когда все, включая девчонок, лезли проворно на канат, а он никак не мог подтянуться и висел под хохот, раскачиваясь, пока учитель не отправил его в раздевалку утирать сопли. К счастью, из соседних кабинок не был виден позор его положения.
— Два глубоких вдоха. Раз… два. Теперь берите пистолет в правую руку. Не вертите! Дуло от себя, на мишень, сколько раз могу повторять? Руку перед собой на уровень плеча. Ствол параллельно земле. Снимайте с предохранителя. Наводите. Вдох — и задержали дыхание. Плавно жмите на спусковой крючок.
Илья, вспомнив сцену из дурного боевика, сжал губы, выдав челюсть вперед, и… произвел выстрел немногим лучший предыдущего. По крайней мере, фонтанчик брызнул не под ногами, а где-то в десяти метрах.
— Стоп! На предохранитель! Сдать оружие! — рявкнул голос из-за спины.
Илья осмелился обернуться, осторожно, как удерживаемую за голову змею, протянув пистолет инструктору, — подтянутому человеку во френче, с небывалым цветом седины ламантинового оттенка и загорелым вытянутым лицом. Маленькие глаза с гладкими веками без ресниц сверкали на мир влажной сталью. Дамасские клинки, а не глаза. Губы при этом жались в странной полуулыбке, казавшейся дружелюбной, и в то же время не предвещавшей ничего доброго. Если бы лицо Бенедикта Камбербэтча45 там немного подтянуть и здесь на чуть-чуть добавить, получилось бы нечто схожее. Но отмеченный Бенедикт тогда еще не родился, сравнить инструктора было не с кем.
— Вы неверно держите пистолет, — пенял инструктор Илье, пристально глядя на его шею, отчего ему инстинктивно хотелось вжать в плечи голову, а еще лучше — прикрыть чем-нибудь железным. — Неверно нажимаете на курок. Неправильно дышите. Дурно наводите на мишень.
— Вы перечислили все, что я делаю неправильно? — попытался пошутить Илья.
— Еще вы неудобно стоите, прогибаете спину и прижимаете локоть к животу. Так можно попасть в кита, если повезет вам и не повезет ему, — подвел инструктор сумму с неожиданной иронией.
— Как же мне стоять по-вашему?
— Как угодно — за пределами стрельбища.
Илья одновременно почувствовал обиду и вдохновение — все же инструктор был не конченной сволочью.
— Сурово, но недостижимо. Я приговорен высшим существом — Каиной Владиславовной Рюх, которая сейчас рядом и делает мировой рекорд в стрельбе по картону — и должен отбыть предписанный срок в вашем пороховом храме, — инструктор смотрел на кривляние чудака, не произнося ни слова. Несмотря на седину, он был немногим старше Ильи. — Гринев Илья Сергеевич, работник музея. По долгу службы, открою вам огромную тайну, мне приходилось стрелять только жеваной бумагой через трубочку. Но этот талант никто не ценит, так что не взыщите.
— Я тоже не ценю этот талант, находя его слишком уничтожительным. Можете называть меня Максим Палыч, — отрекомендовался инструктор.
— Очень приятно.
— Возможно. Так что, вы действительно вознамерились продвинуться в навыках стрельбы?
— Сожалею, но это так. Как сказано, это решено за меня. Можете мне помочь?
— Могу попытаться дать вам эту возможность. Стрельбу, как и любое другое дело, можно освоить только собственными стараниями, прилежно следуя инструкциям.
Было, было в этом человеке что-то, что выводило из себя меньше чем за минуту. Но имелось и едва уловимое очарование, как если бы вы вдруг встретили в очереди за мылом инопланетянина в лиловом берете, читающего Шекспира.
— Попытайтесь, очень вас прошу! Иначе мне не оправдаться перед отправившей меня кровожадной гарпией. В наказание она может определить меня в хор. Хотя, кажется, туда я тоже записан…
— Не сомневаюсь, Илья Сергеевич, вам гарантирован оперный триумф — по сравнению с тем, какой из вас стрелок. Отдышитесь от болтовни. Встаньте ровно, опустите плечи и поднимите локоть чуть выше… Без пистолета пока.
Илья протер рукавом очки и постарался предписанное исполнить со всей тщательностью.
Когда выстрелы отгремели, а две обоймы разлетелись в разные точки мира, он остался вполне доволен собой и даже поблагодарил (мысленно) Каину Рюх за новое в его жизни.
Сама она, раскрасневшаяся, с просветленным лицом, выйдя из кабины, жизнерадостно пропела: «Прекрасный вечер!», — и вышла из павильона, закурив сигарету. На земле точно бы нашелся мужчина, в этом Илья не сомневался, который, встретив гражданку Рюх в этом счастливом эпизоде ее жизни, мог пригласить ее на ужин с далеко идущими планами. Возможно, пришлось бы просеять больше, чем скромное население Европы, хорошо поискать в Индии и Китае, пошарить в прериях Колорадо, но он бы наверняка нашелся, и ему, возможно, было бы менее семидесяти.
Еще через четверть часа, когда было назначено уезжать, у выхода на полу обнаружился одинокий портфель Кудапова, обладателя которого, между тем, нигде не было видно. Ворчливый тип в тюбетейке, сидя на табурете, чистил щеткой брюки, и на вопрос, не знает ли он, где его коллега, ответил, что местопребывание Кудапова ему неизвестно и не преминул вставить, что никогда не доверял ему, и что искать его можно где угодно, даже на румынской границе.
На злопыхателя махнули рукой, потому что дело оборачивалось серьезным. Исчезать ни с того, ни с сего на военном объекте категорически запрещалось, тем более с пистолетом.
Однако же Афанасий Никитович будто провалился сквозь землю, посеяв в сослуживцах растерянность. Грешным делом, его высматривали даже на освещенном электричеством пространстве между павильоном и мишенями, но простреленного тела не обнаружили. В воздухе запахло преступным умыслом, если не сказать — мистикой.
Когда поиски ни к чему не привели, взвинченная как штопор Каина Рюх, доверившись древнему инстинкту, громко и надсадно крикнула во всю глотку: «Гражданин Кудапов! Где вы?!». Природа не обделила ее голосом, так что вздрогнули даже часовые за изгородью.
— Отставить! — заорал на нее инструктор.
Но на крик к павильону уже мчались люди в погонах, хватая на бегу револьверы, выданные им вовсе не для учебы.
— Молчать всем! Отставить стрельбы! — заорал Максим Палыч, приходя в бешенство.
В наставшие после этого секунды тишины серебристой рыбкой скользнула в волнах надежда: откуда-то из-за стен в глубине здания слышался приглушенный стук, какой бывает, когда чем-то остервенело лупят о железную дверь. Все ринулись туда, но не все были пущены, потому что шум происходил из служебных внутренних помещений.
Богу лишь известно, как, каким образом немолодой, страдающий артритом Кудапов, который, как выяснилось, искал, чем запить пилюлю, пролез через два кордона в поисках воды, и как, не имея ключа, который не мог иметь, отворил он стальную дверь, за которой был обнаружен запертым в узком и глухом коридоре с оружием в руках и эмалированной кружкой, которой колотил в дверь.
— Да как же ты, лысый боров… — вопрос застрял в горле красноармейца, когда он увидел глаза перепуганного Кудапова. — Пистолет, пистолет отдай!
Спаситель живо выпроводил лазутчика, придерживая за ворот. Такого несчастного взгляда как у завотделом античности в момент извлечения из теснин служебного коридора он не видел ни до, ни после.
Уже в темноте заждавшийся «фиат» подхватил команду и выбросил где-то у Нагорной, наотрез отказавшись везти до центра. В результате лишь к полуночи измотанный замерзший Илья очутился дома, не без труда изловив попутку и еще квартал проперев пешком.
— Настрелялся, пришел… Что, война что ли? — недовольно спросила Варенька, поворачиваясь в постели.
— Нет еще, через десять лет, — автоматически ответил Илья.
Странные люди
Удивляясь тому, что его никто, похоже, так и не вычислил, Илья невольно начал присматриваться к окружающим, пытаясь обнаружить в них признаки подмены, подобной той, что произошла с ним самим — та еще разновидность вуайеризма, не описанная ни в одном наставлении психиатру.
Вообще, руку на сердце, подглядывать — в природе человека. Уж не вы ли бросали взгляды в подсвеченные нижние окна, гуляя вечером по бульвару? А глянуть с балкона вскользь, что сосед вынимает из багажника? Страстишка, вознесенная детективным жанром на пьедестал добродетели. Скольких бы романов мы лишились, отвергнув ее как скверну!
Блуждая по лабиринтам музея, Илья, из рассудка которого не вполне еще выветрилось детство, увлекся этой идеей, представляя себя этаким циничным матерым шпиком, снующим во вражеской цитадели, которого уже воротит от скелетов в чужих шкафах. «Штирлиц, а вас я попрошу…»46. Однако до «матерого» было далеко, новое занятие он осваивал второпях, сам не зная точно, как именно считают эти скелеты — по черепам или ребрам — и вообще, что он рассчитывает увидеть.
«Если бы я был человеком, попавшим в прошлое, то, несомненно, выдал бы себя какой-нибудь странностью», — заключал он, сам пугаясь такого вывода, поскольку именно и был таким человеком.
«Если бы я был человеком, попавшим в прошлое, то, несомненно, нашел бы способ дать сигнал современнику, разделившему ту же участь», — добавлял он, мучительно измышляя, как это сделать, поскольку… смотрите выше.
Так он в сотый раз запутывал себя сам, лавируя сквозь ряды пионеров, совершающих экскурс в зале РККА, в который его по какой-то мистической причине заносило чаще всего, и который, конечно, пользовался наибольшей популярностью у детей.
Веснушчатый мальчонка лет десяти, глазевший на модель аэроплана, встретившись глазами с Ильей, на всякий случай приветствовал его «пионерским салютом». За ним повторил другой, третий — и вот уже (Илье показалось это кошмаром) ему салютовал весь отряд, включая вожатую, которой бы рекламировать «Victoria’s secret», а не стоять в сером балахоне у фото мордатого пролетария в шароварах. Нехороший дядька позировал на фоне изрытого взрывами бруствера и самодовольно указывал маузером на труп в шинели, ушедший плечами в глину. Илье стало любопытно, была ли у трупа голова и он сам себя одернул от этой мысли. (Добавим, что была — столь же бесполезная ему теперь, как если бы ее не было.)
В полном составе пионеры повернулись теперь к Илье, ожидая от него какого-нибудь революционного финта, которым в убеждении всякого визитера обучают в тайной школе работников Культпросвета.
«Уж не приняли ли они меня за Троцкого ненароком? Свердлов еще, кажется, носил очки… Или не он? — познания Ильи в этом вопросе были не шире копейки. — Надо, кстати, подучить, а то вляпаюсь».
В его воображении пронеслись парсуны коммунистических бонз, глядевших в учреждении со всех стен.
— Пионерский коммунистический салют! — разнеслось по залу девичьим голосом.
Пока мозг Ильи, застигнутого врасплох, дергался в поисках ответа, с губ чуть не сорвалось предательское «Hello people! Земляне, мы пришли с миром…» и прочая дребедень — настолько комичной ему показалась ситуация. Но он вовремя прикусил язык, выдавив какое-то «м-м-эу».
«Именно такие забеги в ширину, мой друг, и выдают во всей красе чужака. Милые детишки в санадликах на босую пятку нашкрябают куда надо большими буквами, только перья от тебя полетят».
Тут дама-экскурсовод, верная профессии (и не чуждая, видимо, состраданию), спасла его, зычно объявив, что перед отрядом живьем, как есть, находится старший научный сотрудник, истинный коммунист, спортсмен, большой друг пионерии Илья Сергеевич Гринев, ведущий важные для страны исследования прямо здесь, в стенах музея.
— Скоро, — заверила она, — в каждой библиотеке СССР можно будет прочесть полезную книжку Ильи Сергеевича!
Старшие пионеры закивали, желая получить ее для внеклассных чтений как можно скорее — идеально, с автографом прославленного ученого, истинного воспитанника Революции. Хорошо, не спросили тему…
При этом экскурсоводша как-то многозначительно улыбнулась, и улыбка эта, подсвеченная алой помадой, явно адресовалась не молодежи. Илья вовсе смешался, уставившись, как на грех, прямо на ее грудь, теснившую крепдешиновую блузу, отчего смешался еще сильнее и, кажется, до маковки покраснел.
Три десятка рук снова взметнулись в воздух:
— Товарищу Гриневу салют!
«И гип-гип ура…» — мрачно добавил чествуемый, не зная, куда деваться, нервно сунул руки в карманы, и понимая, что необходимо что-нибудь отвечать, соответствуя праздничному анонсу, затравленно кашлянул, выдавив из себя как мог бодрее и звонче:
— Здравствуйте, товарищи пионеры! Мда… Рад приветствовать вас в нашем музее! Обещаю прислать экземпляр книги, как только она выйдет! — игра слов, конечно, но хоть не сильно наврал. — Прошу продолжить познавательную экскурсию! Желаю вам успехов в учебе и политической подготовке!
За сим мгновенно ретировался. В присутствии детей он всегда немного терялся, а при большом их скоплении терялся весьма значительно. Еще эта девушка-экскурсовод, которую он впервые видел, но которая, похоже, не впервые видела его (и не факт, что только в одежде — бывает такое с девушками). Хотя то и не был он в полном смысле слова… однако же вообще, принимая во внимание обстоятельства… Тьфу, какая неразбериха!
— А теперь мы перейдем к экспозиции, посвященной подвигу красноармейцев в Средней Азии! — возвестила она за спиной Ильи. В тоне ее мелькнула усмешка.
Говоря честно, ему хотелось послушать про бои за советский Самарканд, и соблазнительную улыбку еще хотелось увидеть, и натянутую на бюсте блузу… Но третьего «салюта» он бы не вынес.
Душными, пропахшими табаком пролетами Илья спустился к подъезду, вышел вон и прошелся взад-вперед вдоль газона, пытаясь собраться с мыслями. На него презрительно смотрел Агафоныч, бывший музейным дворником, столяром и еще кем-то. Нервной интеллигенции он не одобрял и презрительно пускал дым в сторону Ильи, который, не вытерпев, нырнул обратно в подъезд, ругая себя за трусость.
Казалось, что-то важное в нем вот-вот надломится. Спрятаться, спрятаться хоть куда-нибудь! Бежать! Невозможно ведь, немыслимо дальше так! — жить в чужой личине, всего бояться, чувствовать себя жуком в муравейнике. Еще Агафоныч этот… пропитой мерзавец!
Оказавшись в пустом буфете, он почувствовал себя лучше. Кефир и булка «свердловская» отменно лечат надрыв души. «В конце концов, мы всегда там, где мы есть, и ничего в нас нет, кроме нас самих, — словно говорила она, блестя сахарным влажным боком. — Так что ешь меня и не парься! И подружки моей отведай. Мы сделаем тебя толстым и счастливым».
«А все же экскурсоводша хороша, — заключил оптимист-Гринев, живо вспоминая произошедшее и сочувствуя Гриневу-пессимисту, каким он был до того, как откусил булку. — Но — стоп! Только интрижек мне еще не хватало… — с сожалением вздохнул он, дав себе зарок ни в какие отношения не вступать, особенно с музейными барышнями — по крайней мере, пока».
Не развивая особо, скажем, что так, на протяжении полумесяца, пока занятие его окончательно не достало, Илья пытливо присматривался ко всем, выглядывая какую-нибудь нелепость, говорящую за то, что человек перед ним не тот, кем хочет казаться. Вдруг — да что-нибудь этакое проскочит?
И ведь проскакивало, граждане! Еще как проскакивало! — тем чаще, чем внимательней он присматривался. Тот был странен и этот, и те не в своей тарелке… Вообще, создавалось впечатление, что «в своей тарелке» способна пребывать лишь овсянка, вареная на воде. В каждом при пристальном наблюдении виделась сумасшедшинка, особо раскрывавшаяся в столовой и на собраниях, то есть в местах, где человек погружен в себя или напротив — вынужден максимально выпячиваться наружу, причем туда, куда ему выпячиваться не хочется.
Порухайло ерзал нервически на стуле и царапал ногтями карандаши, выскабливая их до грифеля, к тому же рисовал котиков на полях, портя важные протоколы; Кудапов, съев суп, облизывал до знойного блеска ложку и клал ее под тарелкой, замирал, шевеля губами, оглаживал пальцами подбородок и сладострастно приступал ко второму блюду, помогая пальцами вместо ножика; Вскотский ел неряшливо как дворовый пес, хватая с тарелок одновременно, а иной раз специально сыпал перловку в борщ ради сытности; на собраниях директор мог бросить в неугодного книжкой, не жалея даже старика Маркса; Ужалов имел привычку под столом разуваться, тихо затравленно матерился, глядя в окна, дергал шеей и плевал в ладонь на окурок; бухгалтер Клювин… о! этот был не в себе на одиннадцать баллов из десяти — от одного его вида подступала астма и чесалось между лопаток.
Самым неудачным стало решение изучить повадки «яичного маэстро» Нехитрова, соседа Гринева по кабинету — судя по всему, давнего товарища его предшественника, Гринева «истинного». Для наблюдений этот тип совершенно не годился, поскольку пребывал постоянно то в меланхолическом застое, то на моде крайнего возбуждения, так что вычислить его нормальное состояние вообще не представлялось возможным.
Кабинет, который Илья делил с ним — та самая выпотрошенная Г в углу здания, с двумя выходами в два не сообщающихся коридора. Если поделить его стенкой, вышло бы каждому по удобному помещению, но тогда бы Нехитров лишился общества, а из всех невзгод он, кажется, этой опасался сразу после чумы.
Очередное утро началось с того, что Илья, войдя в кабинет со своей обособленной стороны, именовавшейся Нехитровым «черным ходом» (в пику своим «золотым вратам»), застал коллегу лежащим на нейтральной территории в напряженной неестественной позе. Живот и подбородок его покоились на ворсистом половике, тогда как ноги в носках пытались вознестись к потолку. Точнее, на ладонь оторвавшись от паркета, мученически подрагивали под сползшими на лодыжки брюками.
Первая мысль Гринева была — припадок, так что он, сорвав со стола графин, быстро подскочил к телу и уже схватил его за ноги, чтобы перевернуть и брызнуть в лицо водой, но оно вдруг негодующе замычало, замахав на спасителя руками.
— Салабхасана… поза кузнечика, — простонал гимнаст, опуская ноги.
— Это что, йога, что ли?
— Ну да! Я тут книжицу обнаружил — в твоем шкафу, кстати. Удивительная вещь. Практикуешь, Раджа?
Раджой Нехитров именовал соседа в связи с его специализацией по линии Древней Индии. История вообще и линия эта, в частности, были для Ильи темным лесом. Вечера напролет он судорожно читал из шкафа предшественника все, включая просроченные афишки, чтобы не вляпаться как ярмарочный профан, но все равно ничего не мог запомнить и брался по десять раз за одно и то же.
Что до йоги… В памяти Ильи мелькнули смутные видения фитнес-клуба — за открытыми дверями небольшой залы дамы дергались под бой таблы, экзотически изгибаясь перед устрашающей худобы инструктором, скрученным в тугой узел. Чем толще дама, тем больше в ней было энтузиазма и воинственней выходили ее движения. Вестимо, то была йога. Если не румба, то точно йога… — женские занятия он отчаянно путал; сам же никогда не добирался далее беговой дорожки, на которой, хрюкая, бегал от силы десять минут, глядя на Садовое за окном, затем смывался и долго сидел в хамаме, полагая, что потеть — уже само по себе спорт. Главное, не переедать на ночь — живот к пустому не прирастет.
— Нет, я не занимаюсь, — сказал Илья. — В теории только. По мне так лучше бассейн — и лучше со стороны… Ну и напугал ты меня, Борис сын Аркадия! Я подумал, у тебя эпилепсия или с что-то сердцем.
— Припадок? Не дождетесь! Йога — фантастическая вещь, я тебе скажу! Обязательно упражняйся. Эффект выше всех ожиданий.
— Давно занимаешься?
— С полчаса. Но уже ощущаю прилив энергии.
Навязчивые мысли и эта странноватая ситуация с валяющимся на полу Нехитровым сыграла с Гриневым шутку:
— Ты не замечал чего-нибудь странного в людях… ну, в последнее время? — вдруг ни с того ни с сего брякнул Илья, заваливаясь на стул.
— Постоянно, — сходу ответил Нехитров, приступив к следующему упражнению.
На раскрытой странице рисованный тушью гражданин пытался стоять на вытянутых руках, скрестив ноги под животом. Лицо его выражало муку.
Нехитров попытался что-то такое изобразить, подкладывая под себя ладони, с элегантностью деревянной вешалки. От его брюк с щелчком отлетела пуговица.
— Тьфу ты, мать…
Илья продолжал вопросительно смотреть на него из-за письменного прибора, изображающего Новгородский Кремль — для сомневающихся на самом видном месте красовалась соответствующая надпись, изрядно портившая изделие.
— Что? Ты не даешь мне сосредоточиться. Видишь, я из-за тебя совершенно утратил навыки.
Не смущенный отповедью, Илья продолжил наблюдать акробата, решив довести разговор до какого-нибудь итога, раз уж в него ввязался. Несмотря на нервическую экстравагантность, Нехитрова он считал существом разумным, подумывал даже, не рассказать ли ему все как есть, но решил, что все же недостаточно его знает. Мало ли очаровательных доносчиков, в конце концов, видела история?
Между тем асана окончательно развалилась. «Йог» сидел теперь, более-менее, по-европейски, как должно служителю музея средних лет, расправив затекшие конечности, в привычку которых не входило завязываться и скрещиваться.
— Ноги даны человеку, чтобы ходить, — увещевал его Илья, отгоняя от себя муху. — Фу! Лети вон к этому, на полу.
— Женщинам — не только, — парировал многодетный и многоопытный Нехитров, пропуская несколько страниц и останавливаясь на той, где главный герой лежал бревном на спине. — Во! Это мне подходит.
Коврик был коротковат для подобных пассов — голова «йога» оказалась на полу. Движениями умирающей гусеницы Нехитров сполз по нему и затих, внимая внутреннему свету.
— Если ты, лишенец, не прекратишь на меня глазеть, я кину в тебя дыроколом, — монотонно сказал он, не открывая глаз. — Из всех странных людей самый странный — ты и есть, Гринев. Ты, кстати, изменился в последнее время. Да-да. К лучшему или худшему — не скажу, мучайся всю жизнь этим вопросом.
На этом «йог» замолчал и, кажется, погрузился в сон, потому что в кабинете скоро раздался храп довольного собой существа. Освоение древнего искусства было изнурительным делом, основательно подорвавшим его силы.
Нехитров оказался самым парадоксальным явлением, обнаруженным Ильей на жизненном пути, не считая утконосов и его собственного недавнего приключения. Он как будто сошел со страниц какого-то артхаусного романа, соединяя в себе несовместимые фрагменты личности. Так и крутилось назвать его «совершенным гением», но тут на ум приходила «теория сохранности яйца», ломавшая всякое представление о науке. Может ли главным достижением гениальности стать абсолютно идиотская идея, развитая до масштабов научного знания? Если считать, что цель состоит в открытии, то ни в коем случае, а вот если в обустройстве собственной тихой гавани…
Илья швырнул в коллегу ластиком, попав ему точно в грудь. Храп прервался, голова лежащего дернулась, глаза открылись, он бодро и легко подскочил, вдел в штаны ремень, влез в пижонские «оксфорды» с рыжиной и поднял пуговицу. Все произошло одним слитным движением, где второе логично следовало из первого — не исключено, что, если бы он, например, в начале не потянулся, то не обулся бы в завершении.
Достигнув таким образом полной боеготовности, Нехитров предложил выпить чаю на своей половине, которая, по его убеждению, была лучше благоустроена.
— То, что ты наблюдаешь странных индивидуумов в нашей исторической богадельне — это нормальный процесс, и, скажу тебе по секрету, я не раз проделывал то же самое. Придурков обнаруживать увлекательно, конечно, — не спорю. Еще интереснее — обсуждать за рюмкой. Но, поверь, не слишком полезно. Полезнее, камрад, искать вокруг себя сволочей. Знать их по фамилии и в лицо. А первый из них… хм… наш первый. Имей в виду.
Комната на Шулявке
Окно с клочьями серой ваты кое-как сохраняло жалкое тепло, идущее от буржуйки, сделанной из армейского бочонка. Бочонок был дважды пробит навылет. Из отверстий, забитых глиной, сочился дым, едкий от всякой дряни, которую приходилось жечь, лишь бы горела. Особая пакость случалась от резины, которую рубили и палили вперемешку со щепой. Комната тогда наполнялась жирным вонючим дымом, в котором, как в киселе, плавали чернильные комья, медленно ложась и налипая на все — стены, одежду, кожу.
Жечь или не жечь этот каучуково-древесный коктейль стало причиной «войны Лилипутии и Блефуску»47 в замерзающей комнате на Шулявке48, в которой в ту зиму обитало трое оборванцев, мечтавших лишь об одном: дожить до весенних дней и рвануть куда-нибудь, где стреляют меньше, а еды больше. Только куда? В Одессу? В Москву? В Сибирь? В Киеве творился кошмар, но и отовсюду слышалось про казаков, черносотенцев, большевиков, всяких иностранцев и прочих, внушавших страх и казавшихся наполовину вымыслом, такие ужасы рассказывали про них. Не говоря уже о войне, невиданной по масштабу, как паук высасывавшей страну.
Чтобы колесо истории не раздавило тебя, нужно быть на его оси. Только где была эта ось, никто не знал. Всюду шли бои. Разбой. Люди с оружием — в погонах и без погон. Из Петербурга летели новости, в которые невозможно было поверить. Любой товар в дефиците, кроме колючей вьюги. Что там — съездить трамваем на Демеевку за пирожными49? Плевое дело, фарс! Тут хоть на край света — вышел бы толк. Не стало хлеба, крупы, чая. Не достать даже серого золистого мыла, от которого чесалось по телу как от экземы. В желудках выло, и выло в ледяных подворотнях. Выло в головах даже, не знавших, что будет и будет ли вообще…
К марту разлилась оттепель. На сыром сопревшем снегу оставались четкие следы с серой стелькой, днем сочившейся влагой, ночью замерзавшей, скользкой как масло на булыжнике.
Впервые за три месяца решено было открыть форточку, сквозь которую с птичьим пересвистом в комнату вломился холодный хрустальный куб. Было видно, как он корчится, растворяясь в закисшем воздухе. За ним — второй, третий… Свежесть заполнила помещение, щекоча ноздри жильцам, расшевелила их смутными надеждами.
Затем Нигматуллин, которому сквозило по пояснице, поднялся и резко ее захлопнул.
Бровицкий, застегивая пальто, встал с задумчивым видом перед окном, под которым, развалившись котом на койке, Нигматуллин читал газету, обреченную скоро лететь в топку. В дурно отпечатанной полосе говорилось о перемещениях войск, финансовом пузыре во Франции и оперной постановке на Владимирской. Еще там давались объявления весьма разнообразного толка, из которых делался сам собою вывод, что мир совершенно сошел с ума. В одном из них, например, предлагалось купить персидского кота с родословной, в придачу к которому шло корыто.
— На хрена мне знать, миль пардон, что в Париже мусье устроил скандал на бирже? — недоумевал Нигматуллин, отрываясь от чтения листка, и даже привстал с кровати от возмущения. Человек солидной комплекции, он мог лежать на ней сутками. — Лишь бы чем бумагу испачкать! Нынешний редактор, этот троглодит Шпайнер, мир его пейсам, человек без мысли, принципов и воображения. Я бранил Иоанниди, да, но Шпайнер! Тот — грек. Этот — еврей. Какая лотерея раздает нашим газетам редакторов? Скажите, мама, чтоб я не стал в ней участвовать, — выдал он по-одесски, снял пенсне и переложил взгляд с газеты на небритую щеку Бровицкого, нависшего над кроватью. — Я — татарин честных правил из хорошей семьи. Что вы стоите тут и смотрите на меня как солдат на вошь?
— Откройте окно, дышать нечем, — раздраженно сказал Бровицкий. — И не стройте из себя одессита — это нелепо.
— Не вам мне указывать, Михаил Валерьевич. Прочь пожалуйте с моей территории, заслоняете свежий воздух своим миазмом.
Бровицкий сопел, не двигаясь.
— Я когда предлагал вам, милейший, поставить свою кровать сюда, вы мне что ответили? Пошел вон, нечистый татарин? А теперь, как погоды изменились, пришли хоботок выгуливать на пленэре?
Манера изъясняться у Нигматуллина была изысканно-саркастической, приличной для опиумного салона, никак не гармонировавшей с мясистым монголоидным лицом, которому бы скалиться на добычу, летя сквозь горящий стан. Был он каким-то по счету сыном богатых московских татар, неведомо где теперь обитавших. Учился в Сорбонне, работал в Лейпциге и в Нью-Йорке. Там женился на мексиканке. Она ему изменила или он ей… — Нигматуллин бросил жену и запил. Затем вернулся в Россию. Кантовался в одесских портах, торговал контрабандой, год просидел в остроге. И вот, вступив на шестой десяток, оказался в Киеве в компании двоих таких же скитальцев, оторванных от корней, и осевших тут, на промерзшем дне великого города. Как он выразился, терзаясь после кражи дров у стеклодувной артели: «Следуя принципу транзитивности на множестве жителей Шулявки, я сделался и сам теперь голодранец и почти преступник».
— Shut up my gook-friend50, Ильшат Анварович, — в тон ему ответил Бровицкий. — Это общественная территория и ваша беда, что вы устроили здесь ночлег. Место у окна немедленно национализируется. Сопротивление карается… Чем у нас сегодня карается сопротивление? — обратился он к третьему участнику, сидевшему за маленьким шатким столиком, чудом избежавшем печи.
— А?.. — поднял тот вихрастую голову. — Отстань, Миша, не сбивай с мысли.
— Мысли… А где наш Виктор? Не желает ли он принять гостей?
— Готов участвовать в делегации, — тут же отозвались с кровати.
Виктором был сосед, счастливо живущий в отдельной комнате и снабжавшийся по какой-то особой дипломатической линии, отчего был постоянным объектом зависти и набегов.
— Впрочем, он, как помню, искал в последнее время утешения у Зоеньки… или у Машеньки? Эх, Виктор, Виктор… Весна, весна, весна кругом… — завздыхал Бровицкий, хватаясь за шевелюру, хотя и была зима. — И нечего выпить, и нечем закусить! А этот, предавший веру предков и закон социального равновесия, не пускает меня к окну, собака. Как мне жить?
— Никому на свете мы не нужны, еще скажи, — отозвался М. из-за стола, поддавшись на провокацию. — Ильшат Анварович, не поможешь мне с интегралом? Прямо вертится в голове! Знакомый вид, а не вспомню.
На улице, совсем рядом, раздалось несколько выстрелов. Кто-то закричал. Все замерли, ожидая, что будет дальше. Потом снова продолжился разговор, будто ничего не случилось.
— А где ваш волшебный справочник, мой юный натуралист? — отозвался Нигматуллин, игнорируя эскапад Бровицкого, вечно страдавшего меланхолией и слонявшегося в проходе между кроватями.
— Да… отдал Жуже, а он слег. Мне завтра на кафедре доклад делать.
— Как вообще в такое время университет может работать? Это преступление! — выдал Бровицкий, которому было все равно к чему цепляться, лишь бы развеять скуку. — Не может быть, чтобы Витя не у себя! Пойду, посмотрю.
— Да он и не работает, в общем, — М. пожал плечами. — Так, собираемся… Кто-то должен за всем присматривать.
— Стережете мел? Ясно. А студентки там еще есть?
— Сходи, сходи, надоел уже, — отмахнулся от Бровицкого Нигматуллин. — В армию сдать этого лентяя — хоть большевикам, хоть германцам — в качестве диверсии. А Жужа-то, да, голова — в шашки обставил меня всухую. Жалко, что заболел, я на него планы имел сегодня. Надеюсь, не пневмония? Дрянь эта повально косит народ. Sante si fragile, mes amis51. Ну, что за интеграл?
М. ткнул пальцем в многоэтажную формулу на листке.
— Хм… можно в ряд попробовать… Тут вам, прямо скажем, не повезло, — Нигматуллин почесал подбородок. — Предлагаю… дайте-ка карандаш… эти вот экспоненты подсократить. Они же убывают? Вот и хрен с ними. Получите приближенное. На безрыбье, как говориться…
Дальше разговор превратился в чреду математических терминов, наиболее понятные из которых были «сингулярность» и «голоморфная функция», да еще звучала «константа», которую беспощадно делили на какую-то «лямбду в кубе» — разве не казнили публично.
Бровицкий, не питавший интереса к подобным темам, обмотался шарфом и решительно вышел вон. Убедился, что соседа нет дома, взвинтил себя еще больше, и решил прогуляться до зоосада, политехникума, а может, и до Караваевых дач, где старик в ушастой шапке продавал жареные на паровозном масле лепешки. Из чего они были леплены — лучше вообще не знать, и стоили при этом целое состояние, но жирные и горячие надолго теснили голод. Он искренне надеялся, что в них есть хоть какой-то процент муки.
— Лямбды-калямбды… Лучше бы с актрисами жить в соседстве. Хотя на актрис у меня денег нет.
Занятый подобными рассуждениями, он миновал лестницу и вышел через лишенный дверей подъезд, направившись быстрым шагом.
Не то, чтоб Бровицкий не любил точные науки. Может статься, это они его не любили? Цифры казались ему бездушными, а буквы, составленные не в нормальные человеческие слова, а в какие-то формулы-Франкенштейны, вызывали зубную боль. Он любил язык, его обороты и многозначность, веселую чехарду предлогов. Мысль могла быть высказана десятью разными способами, каждый из которых имел свой неповторимый оттенок, но это была все та же мысль, а ее выражающие слова — как наряды женщины, шитые по фасону. В математике все дамы ходили в униформе.
Солнце развоевалось, ветер разогнал тучи, и облезлые тротуары, с которых будто слизали снег, чернели грязью. Худые ботинки скоро напитались водой.
— Так я слягу на хрен вслед за гением Жужей, — сказал сам себе Бровицкий и вместо долгого променада уселся на солнцепеке на фундаменте кованой ограды, отделявшей двор какого-то дома от всего мира.
За ней на скамье сидел человек с головою настолько белой, что она казалась в глазури. Ограда изгибалась так, что Бровицкий невольно видел его и, поначалу лишь задев взглядом, позже стал присматриваться. Дело в том, что сидящий держался прямо как палка и вовсе не шевелился. Можно было подумать, что он замерз насмерть, но не при такой же погоде!
Это заинтриговало Бровицкого, так что он решил провести маневр, достойный героев Конан Дойла — обойти дом вокруг и, как ни в чем не бывало, зайти во двор с другой стороны, чтобы установить правду о незнакомце — то бишь, жив он в конце концов или надобно звать жандарма. Последнего, впрочем, пришлось бы еще искать, но, с другой стороны, теплилась надежда, что не понадобится.
«Шпион» небрежно поправил шарф, зевнул и, покинув резиденцию под дубком, направился к углу дома, обогнул его, сквозь арку вошел во двор — и опешил, как бывает только в кошмарном сне: объект наблюдений, словно отраженный в огромном зеркале, снова сидел к нему лицом в той же позе и на той же скамейке.
Отринув веру в рациональное, корни которого не так глубоки, как воображают, Бровицкий опрометью выбежал со двора, не чуя под собой ног.
Вскоре анекдот, лишенный сцены бегства и дополненный фантастическими деталями, стал достоянием общей комнаты.
Быстровский глаз
Большая часть жильцов собралась на кухне. На табурете у окна, где светлее, сидел Николай Быстров, тер глаз волосатой лапой и сопел как пробитое колесо. Дети лезли смотреть, что случилось с отцом и велико ли ранение. Не увидев потоков крови, Валька разочарованно удалился, уводя за собой сестренку, чтобы вместе охотится на Каляма лыжными палками.
— Надо чесноком на спирту обеззаразить, — влез Ярвинен, но Быстрова отвергла его идею:
— Каким чесноком, Матвей? Окстись, это ж глаз! Уже хлебнул, что ли, на правах именинника?
Быстрова называла его Матвеем и ничто бы не заставило ее называть его по-другому.
— Вату приложить и в тепло, — не сдавался финн, уверенный в своей правде, потрясая бутылкой мутно-желтой эссенции, которую желал применить. — Сам так лечусь.
— Заметно, — съязвила мадам Быстрова, туша окурок о блюдце, и тут же, достав из пачки, подпалила другую папиросу, обдав кухню дымом как пасечник улей. — Завари-ка, милая, чаю, промоем глаз, — обратилась она к Вареньке, которой покровительствовала на правах старшей.
— Любую заразу убивает… — не сдавался Ярвинен, но соседка наградила его таким взглядом, что финн умолк.
Сам пострадавший лишь отмахнулся, давая понять, что спорить тут бесполезно. В лучшем состоянии он бы не преминул добавить, что спирт негоже переводить на всякую ерунду, но теперь лишь посмотрел на бутылку здоровым глазом и ничего не сказал.
— Слышь, Матвей, заткни бутыль, а? Воняет как из помойки! Сейчас заварку приложим — будет как новый, — приказала глазу Зинаида Львовна таким тоном, что орган зрения просто не имел вариантов.
Каждое слово с ее губ слетало облачком дыма. Она склонилась над мужем и щелкнула его по макушке:
— Что ты трешь?! Что трешь? Тебе же сказано — не тереть!
Было сказано или нет, но Николай продолжил другой рукой, как ребенок, делая себе хуже.
— На вот, платок приложи… И не три ты, боже ж мой!
Из-за косяка показалась голова Иту — отрока пугающей худобы с запавшими старческими глазами. В спектаклях он мог играть только Смерть и Голод — обоих сразу. При этом наедался как Сезар де Базан в ночь перед казнью, но все шло не впрок. Если бы Иту Ярвинена откармливали на убой, жить ему предстояло вечно.
— Па-ап?..
Матиас, не теряющий надежды применить свое чудо-зелье, стоял, послушно заткнув бутылку.
— Молодец, Иту, забирай папку, а то он тут мозги крутит, — Зинаида Львовна покосилась на трущегося сзади соседа.
— Ма-ама зовет, — протянул отрок, лупая глазами. — А что случи-илось?
Варенька обернулась с чаем и Быстрова, подув на ватку, стала делать мужу компресс, отложив папиросу на край стола.
Тень падала на ее лицо под каким-то необычным углом, выхватывая частями нос, подбородок, скулы, вьющуюся прядь над бровями. Огромные черные как омут глаза искрились. Илья впервые увидел, как необычайно красива суровая Зинаида Львовна. Красива настолько, что у него перехватило дыхание. Теперь, наверное, встретив ее в бесформенном халате у керосинки, он уже не сможет безразлично отвести взгляд — всякий раз перед ним будет вставать этот фантастический образ, спрятанный на дне замусоренного колодца повседневности.
— Вот и хорошо. Так сиди. Может, тебе еще чего-нибудь окунуть? — подмигнула она мужу, возвращая папиросу на место. — Никаких больше хворей не намотал? Не лезь рукой, тебе говорю! Коль, ну ты что как маленький? Пойдем, я перевяжу.
Скоро, после увещеваний, слышавшихся за дверью, супруги возвратились на кухню, гоня перед собой двух детей и кота, которого на ходу пытался пнуть неуемный Валька.
Голова Николая Валериановича была замотана бинтом так, словно в нее угодил снаряд, майка в разводах чая, на губах лихая улыбка. Имел он победный вид, как спартанец, бившийся в Фермопилах52.
— Все! Завтракайте, кто что найдет, и отстаньте от меня, я опаздываю. А ты не дури, Коль, обязательно сходи к доктору, — сказала мадам Быстрова и отчалила собираться на службу.
Скоро в квартире никого не осталось, кроме Каляма. Но кот не имеет паспорта, поэтому скажем, что никого.
В то утро Гриневу приснился сон, будто он на паруснике входит в седую бухту, стоя на носу судна — ледяной ветер обжигал лицо, пробирался пальцами под кафтан, ноги в ботфортах каменели, в снастях выло как в печных трубах, и небо — низкое, полное ледяной крупы, цепляло острия мачт, заваливаясь на мыс.
Место было торжественно и мрачно. Смотреть на него — отрада, быть там самому — не приведи Бог. Ни деревца, ни подсвеченного окошка, только снег, камень да бесноватое море в ледяных оспинах.
На палубе за спиной суетились, топая башмаками, матросы — без лишнего крика, сами зная, что и как делать. Даже боцман не баловался свистком, который, обмазанный густо жиром, все равно пристывал к губам.
Все это Илье виделось в мельчайших деталях, хотя сам он никогда не выходил в море, единственно — на катамаране в Сочи катал за несусветные деньги какую-то девицу вдоль волнолома, имени которой уже не помнил. Было это сто лет назад.
Так он стоял, задрав воротник к ушам, и смотрел безотрывно на высокий ломаный берег, пока не грянули в воду цепи. Раздался окрик, команда начала спускать шлюпы. Илья этого, видно, ждавший, обернулся, чтобы пойти к ним, но не пошел, потому что в киль ударило что-то снизу и он, не удержавшись за скользкий трос, кувырком полетел в ледяную воду…
Проснувшись, хватая воздух, он в первую голову обнаружил, что лежит совершенно голый под раскрытой форточкой на кровати, весь в «гусиной коже». За окном — туман с остатками ночи. Рядом спит Варенька, замотавшись в кокон из одеяла. Илья всегда считал, что спать — его истинное призвание. Оказалось, даже сон тебя может пнуть.
Он прищурился близоруко на циферблат и с облегчением подумал о том, что еще часа полтора поспит. Даже за стеной у Ярвиненов, вечно страдающих от излишней прыти и заставляющих маяться других, было тихо как в брошенном зимовье. Видать, Матиас утомился за неделю — чаще бы так.
Выпив из графина воды, Илья с удовольствием повалился на хрусткое белье, которое Варенька всегда меняла по воскресеньям, и скоро задремал, отмотав одеяла от ее кокона.
Теперь ему снилось муторное собрание в музее, на котором обсуждали коллективную подписку на прессу. Директор что-то вещал с трибуны, ему кивали… После жути морского рейда Илья принял абсурдное вече с упоением. Вскотский казался ему чудесным существом, жрецом Благородной Скуки, которой храмом и был музей. «Вот кому следует служить!», — решил он, растворяясь в благодатном тепле.
Тут покой его был разрушен. Ярвинен, которому в этот день исполнялось пятьдесят шесть, хотя с задержкой, но таки вскочил самым первым и что-то нехорошее обнаружив, дал сигнал тревоги. В кухне заорал разбуженный им Калям, требуя завтрак и моральную компенсацию.
Оказалось, что вечно протекающий титан в ванной — предмет ожесточенной борьбы инженера-самоучки Быстрова с силами природы — снова орошает пол горячей водой, которая уже протекла в прихожую.
Спустя несколько минут три женщины, неприбранные и мокрые как русалки, вымакивали ее тряпьем, суетясь в пару, подсвеченном сороковкой. Сам Николай Валерианович стоял на пороге этого эмансипированного ада, в котором роли демонов исполняли две беспартийные и комсомолка Варенька, заведовавшая большим эмалированным тазом. Только что он перекрыл воду, и теперь с видом многоопытного хирурга наблюдал как готовят к операции пациента — предстояло что-то приладить и подкрутить у титана — это был творческий секретный процесс, требовавший глубокомыслия и таланта. У ног его стоял увесистый ящик с инструментом, в пальцах дымилась папироса, взгляд выражал решимость.
— Кругами, кругами отирайте! — командовал он с рубежа полутемной ванной, в коем-то веки получив гетманский мандат, который очень скоро будет отозван. Нужно было спешить насладиться властью.
Дамы безропотно двинулись по кругу, шлепая и бренча посудой. Зинаида Львовна метнула негодующий взгляд на мужа, но тот его с достоинством выдержал, зная, что до конца починки он в своем праве.
Илья с закатанными штанами, снаряженный ненужной никому шваброй, наблюдал техногенную катастрофу из-за широкой спины соседа. Достойного применения в постановке ему не вышло, кроме роли безымянного стражника-ополченца, слабого и телом, и духом, который первым гибнет во всякой пьесе.
Зазвонили соседи снизу, взбешенные водопадом. Слышалась их приглушенная ругань из-за двери (в потоке трехэтажного мата попадались и литературные выражения с пометкой «16+», служившие знаками препинания).
Матиас Юхович пошел открывать с философским видом. Как истинный воин и физкультурник, вступая в битву, он пригнул голову, готовый встретить удар и способный в теснине врат выдержать осаду любого войска. Отвлекать Николая Валериановича, в общих интересах жильцов, было никак нельзя.
Дети — благодарные участники всякого беспорядка — бесились в коридоре, уверенно оккупировав арьерсцену. Каждый живущий в коммуналке ребенок знает, что эта территория неприкосновенна, если а) не попадаться под ноги взрослым и б) не причинять ущерба имуществу (во всяком случае, делать это не на виду).
Для человека непривычного, жизнь в коммунальной квартире — сущая мука. Зато в отдельном жилище вам не насладиться таким разнообразием ситуаций, когда волей-неволей все вовлечены в земное существование друг друга. Ни любви, ни ненависти не скрыть в этом общинном круговороте, где знают о тебе все — кем работаешь, сколько приносишь в дом, страдаешь ли от риса запором, жива ли твоя тетка в Тюмени и от кого ее дочь беременна. Илья, привыкший к жизни уединенной, чувствовал себя тут ужасно. Самым отвратительным было ждать очереди в общую уборную утром, вечером — и в любое другое время, потому что чрево не считается с обстановкой. И вообще, ходить «по номерам» в туалет — унизительно для цивилизованного человека!
Ярвинен между тем вел переговоры с соседями, выйдя за дверь в подъезд. Напор их негодования, судя по доносившимся звукам, значительно ослабел. Сочный великорусский мат измельчал до риторического «Кто мне за побелку заплатит?», на который никто не спешил ответить.
С лучезарным и бодрым Матиасом невозможно было ругаться. Он был вежлив и рассудителен, но при этом не выглядел кровопийцей-интеллигентом, которому хотелось из принципа насолить. Поэтому ритм перепалки сбивался, аргументы истощались, личная неприязнь не питала накал сражения. Со смешанным чувством соседи слово за слово соглашались, что делов-то, конечно, на три копейки, и всего беды — прохудившийся титан, недосмотренный сволочами из жилконторы… Дальше обсуждали воров от городского хозяйства.
Дверь снова распахнулась, впуская в квартиру переговорщика. Быстров показал ему большой палец, а Илья почувствовал себя вовсе никчемным существом, как учитель географии на вечеринке одноклассников-бизнесменов.
Наконец пол был освобожден от воды, «русалки» ретировались, маэстро решительно подошел к титану, хряпнул муфту ключом… Тут-то, в ходе починки, что-то и отскочило ему в глаз.
Вечером на кухне по всем поводам сразу был накрыт стол, и запахи с него сшибали с ног еще у дверей, ввергая в истерику котов и в уныние холостяков-отщепенцев, питающихся вареными яйцами.
Скандалист Калям терся у косяка, требуя своей доли, оглашая мир нестерпимым криком, в котором отчаянье соседствовало с угрозой. В кота бросали тапком, но он не сдался, пока не получил куриных потрохов, которыми объелся до изумления.
Загодя у соседей были взяты рюмки и табуреты, потому что, помимо своих, к столу ожидались гости. Вся квартира жила предвкушением уютного и сытного праздника, «всесоюзного дня добра», как выразился Николай Быстров — человек изрядного жизнелюбия. Теперь он, щеголяя повязкой на левый глаз, стал как бы еще одним именинником, хотя и был приставлен чистить картофель. Матиаса Юховича от домашней работы освободили — он следил за поставкой водок.
Вообще, руку на сердце, Гриневым с соседями повезло. Представить себе нельзя, как это важно, когда делишь с людьми одну территорию. Любая ссора в таких условиях, кто бы ни был прав, становится очень скоро ноющим гнойником, отравляющим жизнь каждому, когда даже в комнате не отсидеться, потому что, хочешь не хочешь, а ванную принять нужно, и приготовить, и выйти из квартиры сквозь общий ход…
Обладатели коммунального счастья устроились за столом на полчаса до назначенного, чтобы пропустить по одной, а уже потом вместе встречать гостей.
— Ну, Матис! — каждый из Быстровых коверкал имя Ярвинена по-своему. Николай — на французский манер, чему бы немало удивился, если бы кто-то ему сказал. — Поднимаю этот тост за тебя! Все у тебя в жизни есть, все срослось — жена, сын, сам мужик, что надо. Физзарядка кажное утро, работаешь будто вол, дом — полная чаша… — и жене: — Ладно, не перебивай, сам собьюсь… Короче. За тебя, и чтоб все у тебя было хорошо! Ур-ра!!! — заорал он луженой глоткой, опрокидывая рюмку со скоростью, достойной олимпийского чемпиона.
По кругу пошел салат на сковороде — с гренками, редисом и чесноком, жареный на коровьем масле. Упоительная закуска, скажу я вам!
Сверх плана разлили по второй.
Илья, ободренный витавшим за столом настроением, высказался насчет того, что типографское дело — верное, сам Ярвинен — важная часть цивилизации, а его семья олицетворяет прогресс, в том числе его сын, которому непременно нужно поступать в МГУ и стать в будущем программистом.
— Кем стать? — не понял Матиас.
На него зашикали: Илья, как научный работник, имел право на странности и фантазии, лишь бы в бутылку не лез.
В итоге Иту все вместе пожелали стать программистом (что бы оно ни значило), Матиаса Юховича, немало смущенного, целовали со всех сторон, а Морошка Кааповна, цветущая как весенний луг, наплевав на порядок блюд, принесла отбивные с моченой клюквой.
Тут позвонили в дверь. Явились первые гости. Отбивные на этом остались ждать, а суета значительно приросла, потому что гостей пришло сразу пятеро, и весьма решительно настроенных. Пошли в дело бумажные пакеты, цилиндрики сладкого вина, завернутого в газету, и прочие предметы домашнего торжества, дорогие советскому человеку.
В тот вечер, впервые за свое приключение, Илья орал на балконе песни, ощущая полное счастье.
Хоровое пение
К ужасу Ильи, хоровое пение было назначено по понедельникам в семь утра, начиная с конца июня, когда ни то, что петь, но вырвать себя из сна после выходных — героический поступок, достойный саги. Трудно представить, чем, если не садизмом, руководствовались организаторы, но расписание с жирной кляксой Вскотского в верхнем углу красовалось на стене, говоря любому, что культурой тут занимаются вплотную и непрестанно, не жалея живота подчиненных (даром, что музей).
Встав первым, со злорадством погремев в ванной тазами и хлопнув дверью, Илья вышел утром из дома с твердой убежденностью сегодня же выписаться из хора, проклиная робость первого дня, когда согласился в него вступить. Предложи ему сейчас, он бы показал дулю.
Скажем, что он уже неплохо освоился в новой жизни. Смятение, возвращавшееся порой, когда он вдруг просыпался и не мог понять, где находится, уступило место каждодневным заботам и интересам. В то утро, раздраженный сверх всякой меры, он вообще не вспомнил про свое злоключение, всю дорогу придумывая жалобу в профсоюз, которая должна была начинаться: «Руководство музея саботирует завоевания революции». Пролетарская ненависть к угнетателям всех мастей распирала его как паровозный котел. Первые из них — Вскотский и Рюх — каждый на свой манер должны были пасть жертвой сияющего меча правосудия: Вскотского обезглавить, Рюх отправить на Соловки.
Встретив за воротами только дворника — тот еще не мел, а стоял, лениво оперевшись о черенок, — Илья поднялся во второй этаж, к актовому залу музея, и сел у входа на стуле — ждать компаньонов по вокальной мистерии, куда его ввергла гражданка Рюх и его собственное головотяпство.
Недовольство начинающего хориста стало еще большим, когда он понял, что не только явился первым, но станет единственным участником представления. В гулком фойе, заполненном бледным светом, ни души кроме него не было и, казалось, не может быть — как на дне Марианской впадины, до которого никогда не доберутся ни ответственные работники культуры53, ни партактив — разве в самом неблагоприятном исходе, в виде совершенно негодном для вокала.
Глубоко вздохнув, Илья назвал себя идиотом и с сомнением посмотрел на широкий как полати каменный подоконник, прикидывая, не улечься ли на него вздремнуть. Он почти решился и даже снял туфель с одной ноги, когда, вопреки волшебству момента, явился второй участник, шаркая подошвой по вощеному полу.
Руководитель хора — маленький серый человек в битых очках на коротком вздернутом носу, опоздавший на четверть часа, — обреченно посмотрел на Илью как смотрят на палача и тихо с ним поздоровался. Затем вздохнул и вяло подергал дверь — которая (естественно!) оказалась запертой, так что пришлось еще бежать к вахтеру на проходную, который долго перебирал в связках, раздобыв не сразу искомый ключ — огромный как секира образчик черной металлургии.
Когда помещение было вскрыто и «хор» с руководителем вошли внутрь, последний забрался в раковину сцены и принялся меланхолично копаться в своей бесформенной торбе, перебирая какие-то листы, вынимая, осматривая и складывая обратно. Наконец вытащил потрепанную тетрадь нездорового селитрового оттенка, установил ее на концертном «беккере», видавшем лучшие дни, и сам уселся за ним на пуф, рукой приглашая «хор» подойти к роялю.
Часы на стене показали «восемь». За дверями зала раздались первые голоса, но никто не спешил на помощь плененному Эвтерпой54 Илье. Вселенная была к нему безразлична.
В тетради, как он заметил, находились списанные от руки ноты со множеством карандашных пометок. Вынутый из нее мятый лист перекочевал к солисту, который брезгливо принял его двумя пальцами, что не укрылось от коротышки, вздохнувшего с невыразимой печалью — баллов на девять по универсальной шкале уныния. Видно было, что ни солнечное теплое утро, ни зал, весьма приличный, ни музей вообще, тем паче предстоящие вокальные экзерсисы его не радовали нисколько, что вокалист его раздражает, жизнь одаривает лишь бранью и единственным укрытием от всего этого стало болезненное бесцветное смирение, в коем он достиг совершенства.
Илья невольно разделил это настроение и тоскливо взглянул на лист, с которого ему предстояло петь. На нем в столбик теснились слова, выведенные круглым неровным почерком, немало озадачившие солиста:
Сколько по морю не плавал —
Моря дна не доставал.
Сколько в девок не влюблялся —
По Матаньке тосковал.
Говоря честно, Илья ожидал петь в это утро что-нибудь героическое, и даже поощрял себя к этому, — мол, пригодится когда-нибудь, — представляя широкое застолье в кремлевском зале и свой ведущий партию баритон, вдохновенно повествующий о Морфлоте… «Матаня» Гринева обескуражила.
Однако, пропев положенные куплеты — про самогон, падение из окна и окочурившихся клопов — Илья почувствовал вдруг кураж и потребовал от серого человечка аккомпанемент, выдав залпом, насколько помнил, «Маму Любу»55 и «Владимирский централ»56.
Проигнорировав до бесчувствия «Маму Любу», на шансоне худрук внезапно оживился и под конец расплылся в широчайшей улыбке, блеснув патронташем фиксов. Илья присмотрелся к нему внимательно, обнаружив, что руки коротышки обожжены, а от подбородка по шее вниз тянется грубый, будто от пилы, шрам с частыми следами стежков.
— Влад Мигман, — представился худрук хрипло, выйдя из-за рояля, протянув Илье узкую изуродованную ладонь. Глаза его вовсе не были мутными в этот раз, а грустными и колючими.
— Илья Гринев.
— Нищего протащил как надо57! Молодцом.
Непонятная Илье фраза, судя по тону, служила высокой похвалой творчеству.
— Спасибо и вам. Хористов только не густо. Всегда так?
— Не знаю, я первый раз тут.
Оба посмотрели на стены, двусветные окна и ряды пустующих кресел, обитых плюшем. Если бы не кумачовая агитация и портреты одухотворенно-безразличных вождей — весьма достойная зала, бывшая наверно когда-то бальной. Позлащенное рококо контрастировало с кумачом и углами фанерных стендов, несущих умам весть о победе коммунизма над природой вещей и сил. Казалось, в зале просто не окончен ремонт и как только он кончится, всю эту ненужную драпировку вывезут на помойку. Захотелось увидеть свечи, блеск камней на обнаженных плечах… «Позвольте вас познакомить с моей дочерью, — сказала графиня, слегка краснея…»58.
За окном заревел мотор. Волшебное видение растворилось.
— Подстава! Я тоже первый раз здесь. Я-то думал тут пруд пруди певунов, — усмехнулся Илья, оглядывая пустую сцену. — Прихожу — один! Ничего не понимаю. Стою как дурак — зачем приперся в такую рань? Представьте, товарищ Мигман, ловит меня наша активистка Рюх и говорит: вы, мол, никуда не записаны, так у нас нельзя; хор, например, — отличное дело, и еще там… Ладно, говорю, пишите. Жаба!
— Во-во… пишите… — худрук недобро осклабился, будто сплюнув слова на пол. — Другого занятия, как я понимаю, не будет?
— Не знаю… — отчего-то Илья смутился, глядя на маленького худрука. Хотелось как-нибудь обнадежить этого человека, который занимался своим неблагодарным ремеслом явно не из творческого порыва. — Если как сегодня, какой это хор вообще? Одно название. Формализм. Но вам я искренне благодарен. Я вообще-то никогда не пою, но сегодня получил удовольствие, сам от себя не ожидал.
— Ясно, — согласился худрук, снова превратившись в смиренного серого коротышку. Что-то в нем как будто закрылось.
— Ну, до свидания тогда, ладно? — Илья пожал ему наспех руку, выдавив улыбку, и вышел быстрым шагом из зала, оставив в пустоте собирать бумаги.
— Выписаться к хренам из хора! — прорычал он, вырвавшись в пустующее фойе, какому-то усачу в папахе, застывшему на размытом фото. И добавил, но уже тихо, чтобы не сбылось: — Поступлю в конницу.
Верный своему намерению, решив, что достаточно освоился в стрельбе, шашках и методах ужения окуней, Илья направился к местной ведьме-Урсуле59, чтобы откреститься раз навсегда от вокала. Ну, не пошло, так не пошло, что вы хотите?
Оказалось, кабинетик Каины Рюх был устроен в сущей кладовке в четвертом этаже здания, где низкие потолки издавали голубиное гуканье. Попасть в него можно было, поднявшись по боковой лестнице, которую не сразу найдешь, сквозь узкий и темный коридор, разбитый через равные промежутки нищенскими фанерными дверями, за которыми раньше поселяли прислугу. Добавьте разбитый пол, бурые вздувшиеся обои и едкий запах столетней пыли… Место ссылки. Или место свободы?
Илья был удивлен. Он-то ожидал роскошного помещения с суровой секретаршей под стать, ящиком для жалоб и предложений, кричащими на тебя плакатами и прочей атрибутикой громоздкой машины совучреждения.
В открывшейся взгляду келье, впрочем, все это присутствовало в карликовом масштабе, за исключением секретарши, которую садить было негде — разве в темном захламленном коридоре. И пусть она будет горгульей, слепой старухой, перебирающей четки, сидящей в облаке нафталина на тертой кафедральной скамейке; пусть будет не в себе, оглашая коридор злобной руганью, пугая голубей и беспечных граждан, и тут же сидя ночует с открытыми невидящими глазами… Впрочем, мы увлеклись.
Стены кабинета слоями облепляли афиши, среди которых Илья отметил «Дни Турбиных» МХАТа, куда ходил как-то с Тундрой и так расчувствовался, что едва не грянул с Шервинским «Боже, Царя храни!». Рядом красовалась цирковая реклама и объявление «Варьете» о наборе в танцевальную группу.
Против двери на подоконнике тюленем возлежал телефонный справочник циклопических размеров, рядом — эбонитовая «вертушка» и россыпь карандашных огрызков. Они, казалось, составляли собственную компанию в этом скрытом от глаз мирке, и следили за происходящим неизвестными науке органами чувств, которые отращивают с годами вещи. Возможно, так плоская придонная галька превратилась когда-то в мидий.
За узким как бойница окном, дававшем две горсти света, беспрестанно топтались птицы, шпионя в пользу таинственной мрачной гильдии, царствующей на крышах. В разыгравшемся воображении Ильи все эти крыши, башенки, шпили, даже головы памятников на площадях соединялись в огромный волшебный город, параллельный нижнему, свободный от его суеты. Астрид Линдгрен60 с ее Карлсоном Илья готов был признать пророчицей, посланницей из высшего мира.
Все это он почувствовал и увидел, открыв дверцу с отпечатанной на машинке надписью: «Культпросветотдел», пришпиленной к фанере четырьмя кнопками.
— Добрый день, Каина Владиславовна, — поздоровался он с «Урсулой», занимавшей угол у окна за придавленным папками столом.
В воздухе висела кисея дыма и тонкая ореховая сигарка тлела в переполненной пепельнице среди бумаг.
«Откуда она их берет? Очевидный импорт. Кстати, так она запросто может спалить музей, — подумал он, с беспокойством глядя на желтые уголки листов, цепляющихся за дым».
На лице хозяйки мелькнул и тут же скрылся испуг. Она молча смотрела на Илью, поджав губы, очевидно, не зная, что делать с посетителем. Никто, кроме нее самой здесь не появлялся, и протокол молчал о том, как поступать с негаданными пришельцами.
«Лишь бы не решила, что нас нужно уничтожать, — продолжил мысленный монолог Илья. — Мою высушенную тушку с пепельницей в черепе обнаружат в лучшем случае гастарбайтеры в двухтысячном, и еще поглубже упрячут, чтобы не звать полицию. Пепельницу при этом возьмут себе — этакий тихий курьер из галантереи, доставивший товар прямо в руки…».
— Здравствуйте, товарищ Гринев, — процедила Каина Рюх.
— Здравствуйте еще раз, — ответил Илья, стоя в незакрытых дверях.
Центр кабинета занимал узкий журнальный столик со спортивным кубком и загнанным под него табуретом. Свободного места здесь было на канарейку.
Тут гражданка Рюх, до того сидевшая неподвижно, произвела какую-то эволюцию. Вместе с ней задвигались предметы на письменном столе.
«Господи, уж не каракатица ли она, в самом деле, прячущая щупальца под широкой юбкой?», — в голове Ильи снова всплыл образ ведьмы из диснеевской «Русалочки», в который он готов был сейчас поверить. Вообще, все происходящее и само это место отдавали какой-то чертовщиной.
— Вы по какому делу? — осведомилась хозяйка, приглашая протиснуться внутрь и занять стул, с которого пришлось снять на пол стопу листовок.
— Мне кажется, бумаги на столе сейчас загорятся… — не вытерпел Илья, кивая на дымящуюся пепельницу.
— Вы по какому делу пришли? Если делать мне указания, то прошу очистить кабинет — на это есть полномочные органы.
— Я к вам по поводу списка секций, — примирительно ответил Илья, не желая раздувать конфликт. — Хотел внести коррективы.
— Так?
— Вычеркните меня из хора.
— Почему это? — удивилась гражданка Рюх и даже подняла бровь.
— Вы знаете, что я в нем один? Что за хор такой? И вообще, я неспособен к вокалу.
Илье это казалось достаточным аргументом, но не тут-то было:
— Это не основание, товарищ Гринев! И еще: я бы на вашем месте, — она буквально выжигала слова в воздухе, взмахивая сигаркой, и они полыхали в нем как заклятия, — озаботилась привлечь в хор других сотрудников музея или кого-нибудь из смежных организаций. Вы в курсе штатной численности музея?
Мегера за столом замолчала, явно ожидая ответа о величине личного состава учреждения. Когда его не последовало, она продолжила, взвинчивая себя:
— Более двухсот человек! И то, что вы в хоре один — ваша персональная недоработка! Ее надлежит исправить! Недостаток активности сотрудников остается огромной проблемой нашей организации, товарищ Гринев, над которой надо работать и работать. Так что идите. За помощью можете обращаться в профком или сю… — она чуть не сказала «сюда», — в культпросветотдел… Официально, в письменной форме.
На этом разговор был, очевидно, закончен. Каина Владиславовна сделала вид, что человека рядом не существует, демонстративно извлекла нижнюю папку из компостной кучи, бывшей у нее на столе, раскрыла ее и принялась изучать содержимое, слежавшееся как прошлогодняя листва.
Илья ловил себя на том, что она буквально гипнотизировала его как гипнотизирует удав обезьяну. Эта Рюх могла бы командовать армией, выпади армии такое несчастье. Однако, не зря годы юности он провел в арбатской толкучке — в Илье очухался прощелыга, которого так просто отожмешь. Он набрал в грудь воздуха и продолжил:
— Все же я настаиваю, товарищ Рюх! По факту дезорганизации общественно-просветительской работы, возымевшей, значит, место в отсутствии контингента хора, хотел бы достаточных от вас разъяснений. Как член коллектива, имею долг за него бороться — с формализмом и шапкозакидательством, — «Главное, не дать ей опомниться, — думал он. — Вставит слово — и я пропал». — Я вам тут не от дурной головы, а чтобы своевременно дать сигнал, как завотделом по кругу ведения. Посоветоваться с коллегой, принять меры, устранить просчеты в работе. Что вы ответите коллективу в моем лице?
— Коллективу в вашем лице… в вашем лице, Гринев… я сейчас отвечу! — вспылила завотделом, выскакивая в проход. — Вы даже не представляете, как отвечу!
— А вы меня не пугайте, я в своем пролетарском праве, гражданка Рюх!
«Жаль, никто не записывает за мной — такой пропадает текст. Слышал бы меня Хармс61…», — размышлял Илья задним умом, поражаясь своей вдохновенной галиматье.
Голуби за окном рассерженно захлопали крыльями, решая, чью сторону принять в схватке.
— Что вы хотите? — вдруг устало спросила Рюх, снова усаживаясь на стул. — Из хора выписаться?
— Да.
— Благоволите. Можете не посещать больше хор. Всего доброго, товарищ Гринев.
Это была победа с привкусом прокисшего супа. В смешанный чувствах Илья спустился в расположение музея, ощущая, что побывал на экскурсии в зазеркалье.
— А она не такая, как видится поначалу… — задумчиво сказал он себе, и сразу же пожалел, потому что встретился с ядовитым взглядом Нехитрова, оснащенного природой, в том числе, задатками уличного гаера.
— Да-да, женщины так специально устроены, чтобы морочить нас с головы до… ног. О ком в данном случае идет речь?
— Вам, Борис, я этого не скажу.
— Придется подключить Вареньку. Ее правоверный ходит и бубнит про какую-то заочную красавицу сам не свой. Общественный долг требует от меня… Или скоро потребует, если не угостишь товарища папиросой.
— Держи и наслаждайся, упырь, — некурящий Илья достал из неубывающей пачки ядовитый белесый сверток. — Но я пас. В горле саднит, не хочу разболеться как скотина.
— Это многое меняет: с тебя две. Давай-давай, не жмись. Я делаю это из принципа, чтобы развить в тебе чувство локтя. Ты должен ценить, что за тебя борется коллектив. Тем паче, лучшая его часть — я.
— Вот только не надо про коллектив. Что-то я им уже сегодня того — сыт по самые…
Переделкино
Музеи, библиотеки и архивы роднит многое. Все они — двоюродные братья и сестры — хранилища общественного наследия. Овощебазы, склады угля, расчесок и прочего в этом смысле мало отдалились от неолита и служат суетной повседневности — не то что архив собеса! Скажем, Григорий Афанасиевич Полушубков из совхоза «Симбирский штырник», холостяк, живший на подселении у Захаркиных — пыль мировой истории, которую, тем не менее, из картины не выкинешь, ибо с Полушубкова нужно взымать налоги, вести по военкомовской линии, учитывать по жилищной, а затем выписать по причине… кажется, было у него что-то с легкими, но в медучреждение мы соваться не станем, а то у самих чего-нибудь обнаружат.
В силу означенного родства выяснить, где прописана Лебедева-Штотц, славная прабабка Гринева, для него не составило большого труда. Через цепочку новых-старых знакомых он связался с архивом ЗАГС, те — с паспортным столом, и так далее. В неделю все утряслось.
Проехав с час в дребезжащем как посудный ящик трамвае, он явился в душную комнату паспортиста, похожего на обернутого в пиджак филина:
— Так зачем вам? — уточнил «филин», занося над графой перо.
— По краеведческой линии.
— А… — умное слово стоило тысячи аргументов. — Распишитесь вот, в правой клетке, — «филин» повернул гроссбух, протягивая перо.
Илья черкнул, забирая справку, и бережно вернул гроссбух, являя уважение принимающему.
— Благоволите. Телефончик бы мне еще?.. Ездить туда-сюда… сами знаете, как оно: дел — во! — Илья полоснул по горлу. — То комиссия, то ревизия, материал сдавать срочно нужно, начальник еще… А! Так бы позвонил — и дело с концом. Вопрос-то на шесть минут.
Илья сделал брезгливое лицо, с которым про всякую работу говорят клерки. «Филин», почувствовав в нем родню, дал телефонный номер, хотя и не должен был.
Взбудораженный мыслью увидеть свою молодую еще прабабку, Илья со скучающим лицом вышел из кабинета, прошел, зевая, сквозь темные коридоры, и только в конце, потеряв терпение, вылетел на крыльцо, жадно впившись в бумажку взглядом. Оказалось, что прописана Мария Оскаровна в Переделкино, в частном доме, а вовсе не на Мясницкой, как он думал. Никаких упоминаний квартиры не было. Сам собою возник вопрос: «Как же тебе удалось ее оттяпать, квартирку эту, ловкая ты Мария?».
Это несколько расстроило следопыта, потому что обещало транспортные издержки, из которых самая чувствительная — расходуемое на дорогу время. У человека трудящегося, хуже того — женатого, каждый час на счету и жизнь разграфлена не то, что до дня кончины, но даже дальше. Умер? И что с того? А полежать в актовом зале для сослуживцев? А речь послушать? Если герой-орденоносец — вообще не открутишься, потому что теперь ты пример для масс и воспитательный материал — твое фото пойдет в заводской музей, в купе с какой-нибудь личной вещью, вроде кружки Эсмарха с гравировкой. Вождям в этом плане вообще не везет по полной…
Через неделю подстроив себе «окно», Илья поехал на перекладных в пригород, где в заросшем зеленью тупике обнаружил искомый дом среди прозрачной сосновой рощи. Но застать там прабабку оказалось совсем непростой задачей.
Телефон не отвечал ни в какое время, а дом стоял запертый и пустой, и только во втором этаже в мансарде, видимо по забывчивости, болталась не затворенной створка окна с выцветшей синей шторой, маячившей в нем флажком.
Потоптавшись с час у калитки, Илья ни с чем вернулся в Москву.
Несколько раз еще он приезжал туда, ходил вдоль зубцов штакетника, рассматривая расположенный за ними большой удобный участок, границ которого не было видно с улицы. Дом всегда был пуст, никаких перемен в нем не отмечалось — те же два кресла на террасе и та же штора, засыпанная хвоей дорожка. Даже прохожие не водились там, в этом тупичке, обитая дальше за поворотом, где по асфальтированной дороге шныряли автомобили с праздными дачниками, слышались голоса и патефон хрипло выдавал танго, разбавляя собачий лай. Тут же все заросло травой, малиной и можжевельником, так что ни дороги, ни соседних домов совершенно не было видно. Однажды Илья прождал почти три часа, но никто даже не прошел мимо.
После нескольких бесплодных поездок он таки решился, снял кепку и шагнул за ограду, сам не зная, на что рассчитывать.
Крашеный зеленым коттедж стоял, окруженный соснами, у прорезавшего дерн ручья, почти невидного за осокой. Деревья вплотную подступали к нему, так что крыша и все вокруг было усыпано мягкой хвоей. Дорожка вела от ворот к террасе, и дальше, обогнув дом, по склону в глубину рощи, пока ни упиралась в глухой забор, густо заросший хмелем. Другая уходила к флигелю с острой башенкой, отдаленно напоминавшей Адмиралтейство. Рядом сарай и похожая на редут баня с деревянной купальней под навесом. Все — не запертые, замки на них праздно болтались в петлях.
Илья, обуянный вздорной решительностью, зашел внутрь. Там стоял приметный запах жилья. Ни следа запустения или земляной сырости, как в брошенных хозяевами местах. В бане — свежий веник в ведре, полотенце и кусок мыла. Во флигеле — примус, яблоки и графин с водой. На кожаном диване аккуратно сложенное белье, и холодные угли в печи были чернильно-черны, без налета и пауков — недавно ее топили. Здесь явно кто-то бывал и странно, что еще ни разу Илья никого не встретил, специально приезжая в разное время.
Он прошелся вокруг стола, выглянул в окно, потянулся, глядя на угол бани, задернул штору, а затем, наплевав на приличия, сел на жесткий чужой диван и как-то незаметно уснул, думая о возможной встрече, ожидание которой его изводило.
Что сказать? Как с ней объясниться? Воображение соскабливало годы с лица прабабки, которой не было теперь тридцати. Оно то улыбалось, то хмурилось, то замирало мертвенно-белой маской. Илья все повторял про себя: «Здравствуйте, Мария Оскаровна! Мне нужно с вами поговорить об одной важной вещи, которая вам покажется удивительной».
Он спал и ему снилось поле, по которому шла женщина в алом платье, с аспидно-черными волосами. Лицо ее, правильное и четкое как в афише, выражало безразличие ко всему и шла она как-то странно — рывками, будто вырезанная из картона фигурка. Жуткая кукла, короче, а не дама, и жуткий сон.
Когда Илья подошел к ней, она уставилась на него черными как деготь глазами и механическим голосом потребовала полтинник за проезд, чего от гуляющих по нивам барышень никак невозможно ожидать. Действительно, поодаль стоял автобус с зеленой крышей, в котором сидели люди. Илья, будто это было само собой, полез за кошельком, обнаружив, что платить ему совершенно нечем, поскольку он стоит голый, с грязными по щиколотку ногами. И ногти на них, бывшие на виду… ох уж эти ногти! Илья, побагровев от стыда, завертелся в поисках брюк, пискнул жалкое «извините», и уже собрался бежать, как в пятку его что-то боднуло. Он отдернул ногу от неожиданности и проснулся, не сразу разобрав, где находится.
— Тьфу ты, гад!
Большой неопрятный еж в налипших с боков опилках сделал по комнате полукруг и скрылся под громоздким буфетом, зашуршав бумагой. Похоже, там было его гнездо.
За окном темнело. Прошло больше часа, как он был во флигеле.
Илья поднялся, чтобы уйти — все же его никто не приглашал — когда хлопнула наружная дверь. Илья одеревенел. В комнату вошел высокий мужчина в сапогах, кепке и зеленом клеенчатом плаще. Посмотрев безразлично на визитера, он поставил у порога глубокую корзину с грибами, прикрыл добычу брезентом, снял плащ и повесил его на крюк, оставшись в линялом свитере. Затем молча прошел к буфету, из которого достал штоф и две граненые стопки. Также молча их поставил на стол и вопросительно посмотрел на Илью.
— Здравствуйте… не подумайте, что я вор… я по делу, вообще-то… никого не было и я случайно зашел… открыто было… — совершенно смешавшись, сказал Илья, толком ничего не сказав.
Незнакомец лишь отмахнулся.
— … да еще уснул на диване… Смех и грех, короче!
— Тогда вы не вор, а крайне беспечный человек, — констатировал незнакомец, степенно разлив по стопкам.
— Я Марию Оскаровну искал… адрес дали в столе, — все оправдывался Илья, пытаясь нащупать почву.
— Ну и хорошо, раз Марию Оскаровну. Из закуски у меня только хлеб, яблоки и, кажется, еще оставалась банка… — хозяин вновь пошарил в буфете, открывая то одну, то другую дверцу. Наконец выудил из него жестянку с говядиной, вскрыл ее карманным ножом и поставил торжественно промеж стопок. — Не волнуйтесь. Я вижу, как вы на нее похожи. Сразу понял.
— На Марию Оскаровну?
— На Машу, да.
У Ильи отлегло от сердца. «Неужели все сейчас разрешится?!». Мысли поскакали галопом, он затараторил:
— Хорошо хоть, адрес мне верный дали, на том спасибо! Я уже думал, что ошибка. Звонил — никого. Приехал — никого. Хожу-хожу — дом закрыт. Место у вас удивительное, тихое совсем, заповедник.
— Садитесь, — пригласил, не глядя, хозяин, показывая на стул.
Под буфетом раздался шорох. Тут же явился еж, видимо, рассчитывая на долю.
— Еж, — отдал дань очевидному Илья.
— Да ну? Тогда выпьем! — хозяин проглотил водку и поддел приличный кусок из банки. — Вилка одна, — серьезным тоном сказал он, передавая ее Илье, будто говорил о последней пуле. — Давайте сразу вторую выпьем. Вымотался как пес. Потом поговорим.
После второй в желудке разлился жар, вытеснивший волнение. Илья искал повода перейти к расспросам, но хозяин сидел, сгорбившись, угрюмо глядя на стол. Разговор не клеился.
— Не дурная водка.
— Не дурная, да.
— Магазинная или сами?
— Здесь живет М. ица. Близко. Познакомлю, если хотите… Ну, давайте-ка печь растопим. Сумеете? Я пока воды.
— Меня зовут Илья. А то как-то…
— Да, хорошо, Илья, — отстранился хозяин, не пожав руку. — Вы не обессудьте. Все, что напоминает ее, мне больно. Не берите на личный счет. Будем держать дистанцию. Если хотите, называйте меня Талым. Или вообще никак не зовите. Так даже лучше — без имен.
Затем он вышел и долго не возвращался, пока не вырос на пороге с большим бидоном.
— Еды с гулькин нос. Гостей не ждал. Сам я мало ем. Грибы, то да се… Если хотите, пожарьте себе, там вон лук, жир. Я уже возиться не буду.
Талый поставил на пол бидон и стал переливать из него ковшиком в чайник. Илья отрицательно помотал головой.
— Как знаете. Зато воды хоть залейся. Сладкая, родниковая. Чай на ней получается первосортный даже из моркови. Последний не загаженный родник под Москвой, возможно. Она и выбрала этот дом из-за родника. Звала его Амазонкой — родственница ваша, Мария.
Во всем облике Талого сквозила какая-то отстраненность, и в то же время — доведенная до автоматизма педантичность. Ношеные ботинки у входа, очищенные от грязи, стояли ровно, ковш и чайник он протер тряпкой, сложил ее аккуратно на край стола. Все было опрятным, прибранным и каким-то безжизненным в то же время — не считая ежа, который, выбравшись из укрытия, бродил зигзагом по комнате — свинья, а не еж! Хозяин дал ему из банки ком топленого жира, наколов на спичку, тот с жадностью его проглотил, а затем еще долго вертелся на одном месте, ожидая добавки.
— Вы по какому ведомству служите? — поинтересовался хозяин, наливая третью, уже под чай. Штоф был не меньше литра и Илью это немного пугало.
— В музее.
— М-мм… И что там? Какие нынче веяния в херитологии? Что инсталлируете? Старое, новое?
Илья, не зная, что такое «херитология»62, предпочел в теорию не вдаваться и ответил уклончиво:
— Новое в основном. В борьбе за общественный прогресс. Безудержно боремся за него.
— Что же за музей, когда одно новое? — усмехнулся Талый, быстро захмелевший, как и Илья. Скромная закуска и свежий воздух делали свое дело.
— Тогда поднимаю за ваш прогресс! Что бы он в наши дни ни значил. Sind Sie mit mir63?
Илья, знавший из кино о провокаторах, проявил бдительность:
— Прогресс, в наши дни и вообще, означает только одно: поступательное движение вперед.
— И, конечно, вверх! — поддержал его «провокатор», освобождая шею из свитера. — Жарко. Предлагаю и вам немного разоблачиться, а то спаритесь.
— Извините, что поднимаю тему… Марию Оскаровну-то мне как увидеть?
— А никак!
— С ней что-то случилось?
— С ней случился я!
— А вы…
— И она избавилась от этой болезни. Все, никаких вопросов. Пейте!
«Случился я… Уж не прадед ли? — чуть не вырвалось у Ильи. — Вот так номер. А ты что хотел? Конечно, был прадед, раз ты появился на свет, тупица! С другой стороны, мало ли могло быть поклонников у прабабки… Куда же она все-таки подевалась?».
Ни про каких прадедов в семье не упоминали. То ли не было повода, то ли по какой-то другой причине. Илья и не задумывался ни разу — это было «давным-давно», за мыслимым горизонтом. Из того поколения в живых он застал только «бабу Машу», воплощавшую собой сумму семейных древностей — считалось само собой, что остальные давным-давно умерли, будто жили в одну эпоху с Гомером, причем умерли глубокими стариками. На них, вопреки очевидной логике, примерялся серый плащ Сенектуты64. Илья бы немало удивился, узнав, например, что один из его прадедов погиб на войне в семнадцать, так что сам он, встреться они теперь, показался бы тому немолодым дядькой.
Шикарная и немногословная Мария Оскаровна оставила после себя массу материальных свидетельств: квартира, мебель, дамские штучки, но ни одного свидетельства о замужестве — ни документов, ни фото с подписью — только «чистый» паспорт и пенсионный билет. С другой стороны, никто и не поднимал этой темы: что спрашивать старуху о ее прошлом, особо — про амурные похождения? Случится настоящая катастрофа, если она вдруг начнет рассказывать.
— А дом этот… Почему вы в нем не живете?
Картинка перед глазами плыла. Илья попытался сфокусировать взгляд на собеседнике, примеривая его лицо на себя, но ни малейшего сходства не увидел. Скоро восторг открытия сменился страхом, что все впустую. Так, возможно, настырный англичанин, терзавший лягушек электричеством, боялся, что в следующий раз отрезанная лапка не дернется от прикосновения электрода, перечеркнув его открытие.
Хозяин только пожал плечами, будто это было само собой — жить одному во флигеле.
— Надеюсь, вы не из этих — нуворишей, подыскивающих имение под Москвой? Родня родней…
Он устало посмотрел на Илью, который замотал головой, пытаясь представить себе нуворишей советского периода — неужто были такие? Были, наверное, всегда есть…
— Дом этот не продается, — на всякий случай уточнил Талый.
— Рад бы, да не султан. Место действительно шикарное — лес, родник и Москва рядом. Не какие-нибудь шесть соток геморроя под Воскресенском.
— Что-что?
Тут Илья спохватился: эпоха «шести соток» еще не наступила.
— Да так, ничего. Дышится здесь легко.
— Дышится? Да. А что вам до Маши? Что-нибудь стряслось?
— Нет… Так, хотел повидать… тетку.
— А! Вы не Афонин ли сын? — просветлел хозяин, хлопнув по столу. — Жаль его, жаль, прекрасный был человек.
— Нет, не его. Я троюродный.
— А-а…
— Недавно в Москве. Ездил… в экспедицию… там, на Дальнем Востоке. Дай, думаю, проведаю тетку. Мы, кажется, еще детьми виделись. Чудная штука — одногодки племянник с теткой. Только адрес сначала дали другой — какая-то комната на Мясницкой.
— Не, там ее не ищите. Она… точно не скажу где. Может, в Казахстане. Не знаю. А комната? Давно ушла комната, лет пять как. Вы и впрямь с ней далеко разминулись. А я вас приглашаю погостить здесь, — неожиданно предложил хозяин. — Вы меня не стесните. Только привозите еду с собой, пансион вам не обеспечу.
— Спасибо, я бы рад, но какой там? Работа.
— Сегодня все равно придется заночевать — паровик ушел. Машины, как я понял, у вас нет?
— Нет, — в груди Ильи что-то екнуло, ночевать он тут не рассчитывал.
— Значит, без вариантов. Есть еще комната, пошли, покажу.
Хозяин проводил Илью в крошечный чулан со скошенным потолком, снабженный скамейкой и вделанным в стену столиком под окном, как в вагоне. Там стояла духота, сразу захотелось открыть окно, но оно было наглухо забито. Спертый воздух, отдававший мастикой, можно было резать ломтями.
— Дверь держите открытой, а то задохнетесь тут.
— Может, я лучше на улице заночую? Жалко терять такую ночь, хочется подышать после города. Carpe diem65, — блеснул Илья немногим, что знал в латыни.
— Как хотите. Под навесом тогда. Холодно будет, возвращайтесь. Я на ночь не закрываю.
Они вышли на улицу, где Талый быстро распорядился, сдвинув лодочкой две скамейки, затем принес подушку, плоскую как голодный клоп, и тулуп:
— Это вам для полноты ощущений.
Илья лег, не разуваясь, как был, завернулся в пахучую овчину и сразу же провалился в сон.
Тайский след
За полночь поднялся холодный ветер, небо прояснилось, полная колдовская луна, расчерченная ветвями, светила как безумный фонарь. Илья проснулся от холода и вертелся под тулупом не меньше часа, не в силах успокоиться и заснуть, то впадая в чуткое забытье, когда шум тревожимой ветром рощи слышался голосами, то страдал от припадка ясности, когда сна ни в одном глазу и тайны вселенной кажутся очевидными как овсянка. В такие минуты гений что-нибудь открывает, а нормальный человек ищет, чего бы выпить.
Измаявшись, так и не совладав с собой, он встал и осоловело прислонился к купальне, в которую нанесло листвы, так что воду покрывал сплошной буро-желтый слой. Было три часа. Идти на станцию еще рано. Чем занять себя — непонятно.
Илья долго смотрел на флигель с темным окном, но не пошел в него, а по-воровски пробрался к тыльной стороне дома, сам не уверенный, для чего. Походив вокруг, он вдруг ясно понял, что жаждет в него забраться — сил нет как жаждет. Какая-то его часть разумно советовала не дурить и идти в тепло, а другая подначивала и требовала.
Окна первого этажа были закрыты ставнями; обе двери, парадная и «черная», выходившая на кургузое крыльцо в три ступени, заперты.
Илье от этого стало легче: закрыто и ладно, нечего шарить в чужих домах. Еще хозяин застукает: мало того, позор — уголовка! Тем более, он сам не понимал, что хочет найти внутри.
С этой мыслью Илья вздохнул, как сомнамбула подошел к террасе, бросил на дорожку тулуп… и начал карабкаться во второй этаж, туда, где колыхалась на ветру штора.
С чего хозяин не запер это окно? Не мог не видеть. То ли не хотел появляться в доме, то ли не имел от него ключей? Или наплевал на него, во что с трудом верилось — слишком аккуратным был Талый. Во флигеле порядок был идеальным, если отринуть проходимца-ежа.
Но долго размышлять не пришлось: ноги предательски соскользнули, оставив Илью в совершенно конфузном положении — простертым на краю крыши без опоры внизу. Он чуть не слетел со ската, судорожно цепляясь за что придется. Ноги бесполезно колотились о стену, руки с налипшей хвоей скользили по мокрой жести, быстро наливаясь свинцом. Очки предательски соскочили, прощально звякнув о желоб.
В конце концов, когда надежда почти иссякла, а мысли сосредоточились на одном — как не слишком больно упасть, левая нога уперлась в какой-то выступ, горе-альпинист с трудом подтянулся, прополз вперед, ухватил раму и медленно боком пролез в окно, оказавшись в длинной и узкой комнате. Второе окно напротив выходило на задний двор, в него смотрела луна. Ее бледный свет простреливал комнату насквозь. Где-то рядом, тревожа воображение, о крышу мерно стучала ветка.
Ни малейшего плана, что делать дальше у Ильи не было. Если бы евреи бежали из Египта с таким настроем, то, не мудрено, могли через неделю повернуть обратно, спрашивая друг у друга смущенно: «Чего это мы, а?».
Минуту-другую он стоял неподвижно, глядя перед собой в надежде, что глубинное Я подвинет его к чему-то. Но оно, по-видимому, спало, оставив Илью наедине с Я поверхностным, годным лишь платить за трамвай и делать женщинам комплементы.
Насладившись видом укрытого чехлом кресла и рогов, прикрученных над столом, он пошел дальше. К комнате-пеналу ножкой от Т примыкал коридор, в конце которого находился холл, освещенный большим окном, и провал сбегающей вниз лестницы. В самом неудобном месте, так что невозможно не задеть ее, не зная, что она там, стояла консоль с бюстом, напоминавшим по форме зуб. Неловкий визитер врезался в нее животом, отправив вниз по лестнице.
Илью пробило холодным потом. Он очень надеялся, что за шумом ветра снаружи не был слышен этот бардак и сейчас не явится злобный сторож с берданкой наперевес…
Сторож никакой не явился. Но в первом этаже, где окна были забраны ставнями, возникла предсказуемая проблема — там царила непроглядная темнота, только полукруг у лестницы был скупо освещен сверху, настолько, чтобы не разбить нос, сходя с последней ступени. Дальше — полный абзац. Радовало одно: утраченные на крыше очки ничем бы не помогли ему здесь, так что хрен с ними.
Ни спичек, ни фонарика у Ильи не было. Двигаясь наощупь, хрустя осколками бюста, он по-крабьи боком маленькими шажками вошел в прихожую и уперся в большое холодное как лед зеркало. Ругаясь, распинал обувь. Ударился о трюмо. Оказался в какой-то зале и там случайно ухватил что-то, а затем разочарованно вернулся к лестнице — никакого смысла продолжать не было. Пол при этом предательски скрипел — так причудливо и многообразно, как скрипят полы, когда необходимо соблюдать скрытность.
Находка оказалась до боли знакомой фарфоровой балериной с прижатым к груди букетом. Помнится, в две тысячи десятом ее купил какой-то датчанин за приличные деньги, сказав на ломаном русском, что такая, должно быть, вдохновила на любовь его соотечественника — Стойкого оловянного солдатика66. Довольный Каляда неделю потом сиял как гривенник и искал в каталогах такую же статуэтку, но не обнаружил, решив на этом, что сильно продешевил — и еще неделю ходил как туча.
История сделала петлю и замкнулась. Илья, обуянный переживаниями, почувствовал присутствие волшебства и решил получше рассмотреть этот сувенир памяти, впитать его образ, поностальгировать… Потянулся ближе к окну, и, запнувшись, сыграл с историей злую шутку.
Каляда с трудом разлепил веки, не увидев ничего, кроме белесой гноящейся пелены. Зажмурился их и перевернулся на чем-то влажном, тонко жалобно застонав. Голова разламывалась от боли, эхом в ней отдавался мерный, трущийся о мозг шум, от которого хотелось зажать уши. Тело ныло, чесалось и вообще ломало кренделя как после безумной пьянки.
— Что с мной… — прохрипел он, ощупывая бока ладонями…
…и не узнал собственного тела — никаких выпирающих под рубахой складок не было и в помине. Под мокрой сбившейся тканью прощупывались ребра — целая батарея, едрена вошь, ребер, прикрытых кожей! Такое с ним случалось однажды, когда он месяц пролежал с пневмонией, да и то, кажется, не настолько… Вестимо, он не только страдал от чужого похмелья, но еще и похудел килограмм на сорок. За одну ночь такое точно не происходит — знающий секрет озолотился бы на его продаже дамам по всему миру.
Вновь открыв глаза, он прищурился от хлынувшего в них света и попытался рассмотреть местность. Никакого больничного потолка и ничего, напоминающего кутузку. Похоже, он… «Вспоминай! Вспоминай!», — пришпоривал себя Каляда, пытаясь восстановить цепь событий, очевидно, прерванную — иначе как он мог заснуть в своей постели, глядя на причуды Матери драконов67, а проснуться неведомо где с разламывающейся от боли башкой?
Если не больница и не «обезьянник», то что? Инопланетяне? Открывшийся случайный портал? Каляда мучительно вспоминал грехи, за которые мог поплатиться таким невиданным способом — которых, увы, набралось немало. Часть могла быть вообще забыта, так что, подойдя к ситуации с ортодоксальной точки, удивляться не приходилось.
С другой стороны, он точно помнил, как ложился вечером совершенно трезвым, поставил на семь будильник — старую «Ракету» с корабликом в циферблате — и долго ворочался, пока не врубил телик, который действовал на него как снотворное. Новости еще шли на Первом — какая-то дрянь про губера… Какого именно губернатора распекали на этот раз, Каляда прослушал, а затем и вовсе, махнув рукой, затолкал DVD в проигрыватель и честно попытался понять, кто за кого воюет, и кто с кем спит в бесконечной саге от HBO68. Перед глазами всплыл образ чудаковатой блондинки, топлесс идущей сквозь огонь — но, вопреки ожиданиям, вызвал только досаду.
Он отмахнулся от видения как от мухи, послав вслед за красоткой ее драконов, ухажеров с копьями и мечами, туда же — всех остальных — одичалых, карлика и засранцев, боровшихся за престол. Куда важнее было сейчас понять, где он сам и что стало с ним.
Еще одна попытка.
Приподнявшись на локтях, он перевернулся, утвердившись на пятой точке и болезненно осмотрелся: картинка, мутная, видимая будто сквозь полиэтиленовый пакет, постепенно образовалась, собралась кусками и позволила себя распознать.
Во-первых, он сидел на песке — само по себе ничего удивительного. Рядом в мусоре копалась собака, бесхвостая и тощая как скелет — такое тоже бывает. Но шагах в двадцати на пляж набегало море, шевеля хлопьями грязной пены, и пальмы на упругих ногах трепались во влажном бризе. Далеко над гладью у самой кромки висело солнце. По всем статьям, не Москва.
Это уже, граждане, через край!
— Ват-ди69!
— Что? — Каляда ошалело смотрел на возникшую перед ним фигуру.
Загорелый до черноты азиат в майке «I love NY» улыбался двумя зубами и что-то показывал у рта пальцами.
— Ват-ди! Смоки-смоки?
— А?..
Незнакомец, все также улыбаясь, быстро пнул его по лицу и беззаботно поплелся дальше походкой скучающего подростка. Каляда повалился на бок.
«Если это сон, пусть я проснусь!», — потребовал от он мира, судорожно вдохнув. Но, открыв глаза, снова узрел кошмар, в котором он лежит на безвестном пляже, озаренном быстро прибывающим рассветом.
Нижнюю губу саднило, во рту — вкус наполнившей его крови.
Он был настолько ошарашен, что мерзавец успел отойти на сотню шагов, прежде чем до антиквара дошло, что его только что ударили самым подлым манером, к тому же просто так, «ни за здрассьте». Задним числом стало ясно, о чем шла речь: ублюдок хотел курить, самого же Каляду, очевидно, принял за обдолбанного, забывшегося на пляже туриста.
Сзади с ревом промчался мотоцикл, выведя страдальца из ступора. Он резко обернулся, спугнув собаку. Пес с визгом порскнул за пальмы и оттуда стал смотреть за обидчиком — не жрет ли тот его завтрак.
Прямо за спиной оказалась улица — характерная «first street» курортного городка: магазины, кафешки, стриптиз-салоны — все яркое и убогое, рассчитанное на праздного визитера. Заведения сплошь закрыты. На улице почти никого — только парень моет окна закусочной, да старик в пластмассовом кресле спит у входа в замызганный отель «Ridero».
Очередной мотоциклист, без шлема, в черных очках-стрекозах, пролетел с какой-то безумной скоростью, разметав лужу. В лицо Каляды полетели брызги. Навстречу байку, тарахтя, проехал пустой тук-тук70, подло изгадив воздух.
Калада напрягся и медленно встал с колен, опрокинув урну. Затем, довольно насладившись пейзажем, осмотрел себя: джинсы сплошь залиты какой-то дрянью, босой, грязная ковбойка без рукавов. Лицо пылало после удара. Он провел по подбородку ладонью — ее приветствовала недельная щетина. Вид самый что ни есть затрапезный. А это что еще за… — руки по локоть в татуировках! Откуда?! Он на дух не выносил тату. Единственную, сделанную когда-то в армии, вывел за дикие деньги, а тут такое!
Все внутри кричало: «Это не я!», — но тогда кто, и что вообще происходит? Лидером в гонке разумных версий был «сон» (он же — единственный участник забега).
В утренней дымке, сползающей с пляжа в море, ему вдруг слепилось лицо Гринева — с ухмылкой и в интеллигентских очечках, от вида которых дыхание перебило злостью. Был бы псом — скалясь, зарычал на него. Уж не ясно, чем таким исчезнувший партнер ему насолил, Калдяда бы сам теперь не ответил, только мысль о нем его ужасно бесила. К счастью, видение пропало так же быстро и неожиданно, как возникло.
Сон или не сон, но нельзя бесконечно мусолить копчик. Раз не получилось проснуться, нужно что-то делать во сне. К тому же его мучила жажда, вполне настоящая. Горло будто натерли перцем.
Постояв немного, он двинулся по пляжу вдоль тротуара, постепенно заполнявшегося людьми. На него косились как на чумного, во взглядах читалась явная неприязнь. Респектабельный антиквар не привык к такому и вначале конфузился, но скоро смирился и перестал обращать внимание, переключив внимание на поиски воды.
Кафешки, подававшие завтрак, начали открываться. Зазывалы визгливо приглашали зайти. Ресторанчик пришелся бы в самый раз, но в карманах, по законам сюжета…
Ан, нет — в заднем кармане джинсов лежал бумажник, такой же непрезентабельный как нынешняя версия Каляды, зато пухлый, с целой коллекцией бумажек: баты, иены, пачка хрустящих «Джексонов»71. Визитка «Walee’s Place Pattaya», презерватив и права на имя «Тараса Козьмича Каляды» с цветным безобразным фото, выданные в декабре восемнадцатого. Лицо определенно было его, но не гладкое и привычно-одутловатое, а осунувшееся, с запавшими глазами, прорезями складок вдоль щек и торчащими скулами. Под горло — цепь и цветастый батник. Сутенер из дешевого детектива.
Карточка отеля что-то напоминала… Точно! — в нем он останавливался лет пять назад, когда прилетел в Паттайю. Там же познакомился с Викой. А! — Вику лучше не вспоминать!
Стоп-стоп, верните кадр назад… Когда выписаны права? Он еще и еще раз перечитал, а затем облегченно улыбнулся — выданные в не наступившем еще году, они могли быть только во сне. Перейдя улицу с легким сердцем, не обращая внимания на охранника, сверлившего его взглядом, он уселся за лучший столик и громко подозвал служку. «Двадцатка» полетела на стол. Охранник сразу же успокоился: к загулявшим фрикам не привыкать, курорт есть курорт — главное, чтоб платили.
Обследовав другие карманы, он выудил из них разряженный «HTC», карточку Bangkok Bank, пачку «кэмел» и складной нож, отругав себя за то, что не проверил содержимое сразу.
Выпив залпом стакан шипучки, Каляда с удовольствием затянулся, подставив лицо торнадо из вентилятора. В глубине заведения за стойкой аппетитно шкварчала яичница, пахло жареным беконом и луком. Официант принес громадную чашку кофе, от одного вида которой мысли приходили в порядок.
Другой неожиданной находкой стало неизвестно откуда взявшееся знание тайского языка. Во всяком случае, пацан, ни бельмеса не говоривший по-русски, его сразу понял.
Справившись, есть ли тут где помыться, он за доллар был препровожден в каморку, где долго стоял под шипящим шлангом. Затем прополоскал кое-как одежду, натянул ее мокрую на себя, рассудив, что «не Букингемский дворец», и припал к зеркалу. На него смотрел удивительной наружности тип, каким Каляда себя никогда не видел — худой и жилистый, вроде Крокодила Данди72 не первой свежести. Шрам «паучком», с детства оставшийся на груди от новогодней петарды, был на месте. Руки тоже были его, хоть и изуродованные жрущими друг друга драконами. Даже след на пальце от врезавшейся печатки, которую пришлось срезать. Вспухшая губа немного портила впечатление, но это дело быстро пройдет. Главное, зубы целы.
Сон ему начал нравиться — от него веяло приключением. Он даже старался не думать лишнего, чтобы внезапно не проснуться. Страхи, впрочем, оказались напрасны, потому что час тянулся за часом, и одежда уже просохла, и он снова сидел в кафе, отъехав от города на такси, а сон все не прекращался.
Каляда смеялся про себя, вспоминая пинок по морде, который он получил неделю назад на городском пляже Паттайи. «Обдолбанный, забывшийся на пляже турист» оказался… обдолбанным, забывшимся на пляже богатым туристом, немного задержавшемся на каникулах. Ничего из произошедшего он не мог себе объяснить. Все просто случилось. Точка. Москва, ночь, постель — жуткое похмелье на пляже… Привязанный к Vise счет, найденной в заляпанных джинсах, был слишком длинным, чтобы об этом думать. Может, это Москва ему лишь приснилась?
«Walee’s Place Pattaya», карточка которого лежала в кармане, оказалось, принадлежал ему самому — как еще десяток отелей вдоль побережья Джомтьен, игорный дом на Пхукете, ювелирная М. ская и пара бойцовских клубов. Он был упакован в золотую фольгу с головы до ног. Секретарша из обоймы Vouge-Asia, улыбаясь, принесла ему список его владений, после чего кабинет посетил бухгалтер — злобного вида человечек в сером костюме, цедивший слова сквозь зубы. Каляда владел состоянием в сотню миллионов «зеленых», постоянно приносившим доход.
С месяц после, сидя в клубном ресторане на берегу, он сосредоточенно выуживал креветку из молочно-белого супа. Есть суп фарфоровой ложкой — сущее наказание. Хуже — только цеплять рис палочками.
На сцене играл европейский лофт, и красотка Милли пела про Ипанему, сверкая сапфировым ожерельем в глубоком вырезе платья.
Каляда с улыбкой набрал «Москва веб», выбрал камеру на Тверской и отвалился в кресле, глядя на далекую картинку в планшете.
— Плесни-ка водки, Сомйинг. И садись сама.
На следующий день около трех по полудню он вышел с коктейлем на лоджию собственного отеля-виллы, в котором жил, и, посмотрев на садик внизу, чуть не подавился оливкой.
Что его напугало, спросите вы? Горничная с тележкой? Официант? Пара длинноперых фазанов? Или человек — европеец, одетый в халат и сланцы, судя по красной лысине, недавно прибывший в Тайланд из какого-то менее солнечного местечка? Каляда вперился в него взглядом, перегнувшись через перила, будто увидел двухголового кенгуру. Колыхавшиеся на бризе листья ему мешали, и он мысленно пообещал вырвать пальму с корнем! — как только разберется с этой историей.
Тот, что был у бассейна, между тем, разувшись, устроился в гамаке, и, кажется, вознамерился там поспать, опрокинув виски. Слетевший вниз Каляда, давясь от сбившегося дыхания, подошел к нему и встал в нерешительности, глядя на багровую лысину, обрамленную жиденьким каштановым «ежиком», не зная, с чего начать, и стоит ли вообще начинать.
Но, по-видимому, стоило, — потому что таких совпадений не бывает. Да-да, нужно быть оптимистом и вообще — случается всякое, тут уж не зарекайся… знаменитый «один на миллион»… макака, пишущая сонеты… Но тут уж, извините, не в какие ворота! Лешка Кит, закатанный самим Калядой в бетон, никак не мог дрыхнуть сейчас под пальмой, накачавшись с утра «Джек Дениелс».
— Простите… — прохрипел Каляда, пригвожденный взглядом к белой жилке шрама, пересекавшей лысину довольного господина в гамаке.
Нет, он не бил Кита в тот вечер по голове, тут уж никаких совпадений — честный выстрел сзади из «спиленного» ТТ. Гильзу в Москву-реку, ствол по частям туда же. Самого Кита, в нетленном малиновом пиджаке, когда-нибудь, лет через пятьдесят, непременно найдут в арбатском подвальчике под полами; полиция отпишется формальной бумагой — дело давних лет, по Марксу — эпохи первоначального накопления капитала…
Каляду до пяток прошиб озноб. Если это действительно Лешка Кит, то одно из двух: или он и сам уже мертв или второе… А вот что это за второе, очень хотелось быстрее выяснить.
— Простите, — повторил Каляда решительнее. — Уважаемый, можно с вами перетереть?
«Уважаемый» неловко дернулся в гамаке, пытаясь приподняться и посмотреть, кто с к нему визитом. Всякий знает, что, если не свесить при этом ноги, ничего положительно не получится. Кит нехотя свесил ноги. К Каляде повернулся человек, всем видом выражающий недовольство. Но тут и у него корни волос поползли к затылку.
— Эк-хм… — только промычал он. — Ты?!
Выражение брезгливого недовольства сменилось маской ужаса.
Если бы сам Каляда не был настолько ошарашен, то непременно бы догадался, что в сценарий вкралась ошибка. Кит отпрянул от него, будто увидев старика Марли73.
— Не может быть! Тарас?!
Каляда кивнул.
— Ты же умер! Умер, Тарас! Не подходи!
Потребовалось почти полминуты, чтобы смысл слов, отозвавшихся эхом в голове Каляды, дошел до него. «Я умер? Он что, бредит? Он сам покойник!».
— Не подходи ко мне! — вновь потребовал Кит, выставляя руки вперед и делая шаг назад. Каляда невольно опустил взгляд на его выступающие коленки и белые ступни в синих жилках — вся слабость человеческой природы сквозила в них. Это нелепое зрелище почему-то его успокоило.
Официант в парусиновом белом фраке открыл от удивления рот, глядя на разыгравшуюся у гамака сцену. Из-за колонн начали выглядывать горничные.
— Я не хотел. Просто бизнес, Тарас. Не хотел. Честно. Просто бизнес. Честно, — затараторил убиенный Калядой Кит словно мантру. — Все бери, все бери. Магазин бери, тачку, дом. Что хочешь, Тарас. Не мочи только меня, а? Как на духу. Просто бизнес. Что должен — отдам с маржой.
К такому обороту Каляда не был готов. Это что же, граждане, получается? Кто тут перед кем джигу пляшет? Что за покер? Кто следит за раскладом?
— Стой, Кит… Как было все расскажи, — попросил он, садясь на землю. Ноги Каляду не держали.
— Все скажу. Только без мандража, Тарас. Все скажу. Перетрем. Решим. А что не перетереть? Окей? Ты не наезжай только. Пойдем в бар, а? Освежиться мне надо, а то не соберусь что-то…
Дошли до бара, стараясь не смотреть друг на друга. Сели. Выпили коньяку. Бармен быстро умело расставил перед ними закуски и отошел на уважительное расстояние, ожидая команды. Хозяин явно был не в себе.
Кит, всегда бывший разговорчивее партнера, затараторил. Но от сумасшедшего рассказа Кита Каляде вовсе не стало лучше. По нему выходило, что это он, Кит, «замочил» Каляду из обреза, схавал его долю и теперь шарахался от него, думая, что встретил на курорте покойника.
Выпили еще по одной. Молча посидели, глядя на кривляния Бибера в телевизоре. Оба, поморщившись, отвернулись.
Тут Кит вдруг засуетился, сжал губы и кинулся за спину Каляде, быстро неловко пырнув его ниже ребер и одновременно взвыв как простреленный навылет койот.
Каляда встал, повернулся лицом к убийце и медленно сполз по стойке.
Незнакомец в поезде
Обдав перрон горячим дыханием и гудками, празднично-отмытая «сушка»74 неспешно отчалила с Саратовского вокзала, волоча за собой вереницу спальных; нырнула под гремящий путепровод, минула склады, бараки, иглу котельной, и уже пошла сквозь поля, когда Москву накрыл жесточайший ливень.
Все перевернулось вверх дном, земля и воздух вскипели в струях. В сохранившемся с обезьяньей поры рассудке, более надежном, чем знание логарифма и устава КПСС, горожанам мерещились мангры, тени голодных хищников и хотелось залезть на пальму. За ее отсутствием — на липу или березу — повыше от жутких тварей, стерегущих жертву в траве. Еще лучше — забраться всем семейством в пещеру, завалив камнем выход. Скорлупка рационального разлетелась, бразды взял древний как звезды ум — наследие пращуров столь далеких, что их не пустили на Ковчег.
Хлопали окна, бренчали запираемые щеколды, срывало белье с веревок. Бухгалтеры, швеи и профессора, и даже сотрудники, обремененные до ноздрей гостайной, — все искали себе убежищ, не желая стать щепкой в водовороте. Продлись такое бедствие месяц-два, мир бы снова скатился в хаос, кроме, разве что, высокогорных монастырей, да какой-нибудь арктической экспедиции с запасом спирта на пятилетку. Того гляди, понадобиться еще Ковчег — новый, дизельный, украшенный портретом вождя, населенный сугубо членами профсоюза.
Скорый, несущейся через тьму, резал плотный водный пирог, увлекая пассажиров, хмелеющих от «Арагви» и самогона, рассовавших наскоро вещи и едва успевших распорядиться закуской. Делегация МИМа заняла секцию в центре вагона и теперь сидела в полном составе на нижних полках, двинув под песий хвост мысли о работе и доме, наслаждаясь мимолетной командировочной свободой.
— Подтянем индустрию, и эх! — мотнул кудрями парень-провожатый, присланный заводом в Москву, чтобы без задоринки доставить «культрабов» на торжество. — Трактора! Бронемашины! Я вам говорю! У-у! Такой завод открываем! — развоевался он, опрокинув стопку — третью за три минуты, не считая вокзальной подготовки.
Умный Кудапов сделал страшные глаза и шикнул на молодца: мол, лишнего не болтай — повяжут, с поезда не сойдешь, и нас с тобой, дураком. Что танки? Ну, танки… Зачем про них расфуфыривать?
Парень махнул на него рукой, но все же осекся и продолжил гораздо тише, распространяясь в пределах плацкартной секции:
— Вы не представляете в своих там… театрах-библиотеках… какой это завод! Копаетесь в старье как… Да ну! Будет новое все, с прокатного стана, огненное, круче, чем у этих! Внуки будут гордиться, — и уже криком на весь вагон: — Наливай за рабочий класс!
На боковушке в проходе с хрюком повернулся толстяк, уронив на пол газету. Ее подобрали, но тот уже спал. «Звезду» подоткнули под матрац.
— Молодец, — похвалил толстяка Нехитров, явно раздраженный компанией, и пренебрег искусительно-румяным томатом, поднесенным Асей.
— Это надо видеть, девушка… Как зовут вас? — в глазах прыткого парня загорелось, он двинулся было к ней, но отъехал куда-то вбок, удивившись, что чудное создание не достигнуто, а за плечи его держит похожий на быка Порухайло.
— Да Ася же, — обиженно сказала она — видно, не в первый за вечер раз.
— Ах, да-да, Ася… Там у нас будет, Ася, увидите… Вы враз останетесь в Волгограде, это я вам гарантирую! Останьтесь, Асенька, а?
— Больно шустро, — сердито отворачивалась девица, ни на секунду не теряя парня из виду.
Может и остаться, кстати, а что? Ведь остаются? И парень видный, с перспективой.
— Ну же, я вас прошу! А когда передовик просит…
Никто не узнал, что бывает от просьбы передовика, потому что явился контролер с щипцами и попросил предъявить билеты. Командировочные дружно зашарили по карманам, а красавица Ася отворила сумочку-пенал шириной в ладонь, вмещавшую чулки и червонец.
Когда формальности были утрясены, первая бутыль опустела, вторая не начата, а курица, лук и яйца должным образом оформлены на столе, разговор пошел о другом. А именно, о любви, депутатом которой выступил луноликий Яков Панасович, не сводящий глаз с Асиных коленок:
— Любовь — это светлейшее чувство, она движет всем, если прицельно смотреть. Да-да! Наука, искусство, инженерия — все, что мы делаем, мы делаем ради женщин. Мир дан нам женщиной, Ася! И вы — главное оно есть.
Илья поморщился от банальностей, забытых со студенческих вечеринок. Воистину, старик Фрейд вооружил мужчин на все поколения шикарнейшим арсеналом глупостей — главное не смущаться, смакуя дурь с умным видом.
Ася сказала: «Хм…» — и одернула юбку ниже.
Порухайло ей определенно не нравился — не то, что этот парень-волжанин (где он, кстати?). Трепло, конечно, но тем не менее. Может, он вообще из-за нее петушится? Такой оборот ее устраивал. Женятся, получат квартиру, все дела…
Дородная проводница в синем фартуке принялась раздавать пассажирам чай, и компания тут же заказала себе — святое дело, побаловаться чайком в подстаканнике, слушая стук колес.
Открыли туалеты (извечная мука пассажира и предмет его пристального внимания). Тут же начались очередь, хождение взад-вперед терпельцев — с мылом, полотенцами, порошками и какими-то подозрительными кулечками, которые следовало открыть в клозете. Дети щемились пролезть в нахалку — во избежание конфуза их пропускали. Старика с недержанием, критически осмотрев, также пропустили вперед, сурово добавив от коллектива, чтоб не саботажничал, и в минуту валил обратно.
Где-то рядом громко крикнули тост. На героя весело зашикали дамы, чтоб не бузил на людях. Раздался смех. Дети тут же устроили потасовку — на них тоже шикнули, но построже. Несущийся в ночь вагон жил по полной.
Скоро передовик, вернувшийся и твердо решивший быть первым во всяком деле, в рекордный срок напился до изумления, уронил гривастый капитолий на грудь, и был отбуксирован к своей полке, располагавшейся, благо, через две секции. Не считая прекрасной дамы, о нем с облегчением забыли, ибо сил никаких не было дальше слушать про перспективы советского машиностроения и его геройское в них участие.
На очередных восклицаниях о «заводах-народах-всходах» Илья невольно переносился мыслями в родную эпоху — время, счистившее тонны прожектерских иллюзий как кожуру с гнилого банана. По всей земле русской растеклось его неприглядное содержимое. Новых бредней тоже, правда, хватало — про свободный рынок, партнерство с Западом и тому подобную дребедень. Куда не кинь — всюду клин! Он задумчиво выпил и, йошкин кот! — тоже уставился на Асины загорелые коленки! Все в этот вечер были в нее влюблены, отчего бы и ему, страннику, не быть со всеми?
«Ничто не ново под луной»75, — брякнул кто-то небрежно и гениально. Не ново, не ново — поддакнем мы согласным гуртом. Еще как не ново.
Вагону не спалось в эту ночь. То ли пассажиры подобрались как на заказ, то ли так стеклись прихотливые обстоятельства, но люди шарахались из конца в конец, знакомились и мешались. Воздух наполнился густо дымом. Гоняя облака полотенцем, проводница увещевала граждан курить в тамбуре. Ее шутливо приглашали за стол, и она отмахивалась от загулявшей паствы, устало улыбаясь, и все разносила, разносила чаи в ненавистных ей подстаканниках, сгубивших ее молодую жизнь…
Во всей этой сутолоке в проходе то и дело образовывался затор. Один такой, хвост которого пришелся на занятый музейщиками отсек, вынес из людского потока худого бесцветного человека с тревожными глазами, в байковой мышиной сорочке, черных штанах и бумажных шлепанцах, какие дают надевают на процедуры. Человек стоял и смотрел молча на Порухайло, усталую красавицу Асю, Нехитрова, Гринева, Кудапова с его «кудаповщиной» нескончаемых анекдотов, на дренькающие окна вагона, ломившегося в черную бездну ночи — словно все это было где-то далеко от него. Правой рукой незнакомец держал за горло пузатую бутыль в четверть, под мышкой левой —книгу в потертой коже, мокрую, с которой по сорочке расползалось темное, казавшееся кровавым, пятно.
— Эк ты, мил человек, попортил свое имущество, — закивал ему Порухайло, взглядом указывая на томик. — В клозете уронил что ли?
— Нет, — ответил тот, сунув книгу поспешно за ремень, будто что-то стыдное было в том, чтобы стоять на публике с мокрой книгой.
Находчивый и нетрезвый Порухайло вдруг потянул к нему лапищу и бесцеремонно взял за рукав:
— Слушайте, уважаемый! Что стоять как статуя в больничном дворе? Давай-ка к нам в санаторию! — Ася хихикнула, раззадорив приунывшего завотделом. — Входной билет, вижу, есть, — кивнул он на объемистую бутылку. — Давай, давай, не отказывай. Ты, я вижу, по библиотечной части. Мы тоже не салом по сусалам, народ культурный. А флакончик ваш сюда пожалуйте. Не керосин в нем?
Незнакомец, как стоял, сел на край нижней полки и вновь пробежал глазами по лицам в секции.
— Нет, не керосин. Коньяк. Хороший. Берите.
— Был один, и вот — не один! Человеку главное что? Именно! Ночью не оказаться без коллектива — волки пожрут! — пророкотал Порухайло, хлопая незнакомца по плечу. — Наш стол — ваш стол! Вагонное братство.
Приняв от новоприбывшего бутыль, он тут же открыл и разлил по кругу. Прогорклую вонь плацкарта перекрыл дивный аромат коньяка — и не какого-то там «из тятина погребка», а старого, цвета крепкого чая. Зря говорят, что коньяк, мол, должен пахнуть клопами — не пили эти горе-знатоки настоящего, с духом зрелой лозы, сгорченного благородным дубом коньяка, каждая капля которого — в цену золотого рубля.
Кудапов, устроившись у окна, вертел в руке оловянный стаканчик, вдыхая из него с наслаждением:
— Амброзия! Нектар богов олимпийских! Кстати, анекдот про Геракла, слушайте, — и тут же, плеснув в глотку и не дождавшись ответа публики, затараторил: — Поймали как-то Иолая и Геракла, заперли обоих в сарай. Через неделю смотрят — они сбежали. Их опять поймали и спрашивают, мол, как сбежали-то? Иолай говорит: сидим день, сидим другой, а на третий Геракл заметил, что у сарая одной стены не хватает.
Ася из приличий хихикнула, спросив, кто такой Иолай76, остальные промолчали.
Гроза все не унималась. За окном бахнуло так, что на пару секунд перекрыло даже грохот поезда. Казалось, вагон от одного звука снесет в кювет. Но не снесло.
Из дарованной бутылки снова разлили. Прервавшийся разговор пошел дальше. Поговорили коротко про искусство, про велоспорт, про Америку (тут Илья «отличился», чуть не выдав себя, будучи единственным из компании, кто в ней действительно был), про полеты в будущем на ракетах (тут уж он выдержал фасон и вставил недоверчиво: «Заливать!», — с ним поспорили на «полбанки», что человек полетит к Луне до сорокового года). Доложили соображения про женщин — присутствующих и вообще. Асе досталось произнести тост, и она сказала, как должно, «за любовь», подняв стопку левой рукой. Порухайло с ней чокнулся, усмехнувшись, и подмигнул весьма определенным манером, каким мужчины за пятьдесят пытаются охмурить студенток.
— Какой вы пошлый, Яков Панасович, — отмахнулась она, расправляя юбку, которая словно специально была скроена, чтобы открывать сокровенное.
— Старый конь борозды не портит, — парировал Порухайло, лапая Асю за плечо. — Как ты, камрад? Что молчишь? — переключился он на пришельца, так и не обронившего ни слова. — Ты закусь, закусь бери!
— Что вы, Яков Панасыч, к нему пристали! У человека, может, печаль какая-нибудь, а вы его беспокоите, — заступилась Ася, пересев на другую полку. — Не слушайте его. Не желаете яичко с солью? Вот, держите.
— Всегда дело в бабе, — Порухайло подмигнул незнакомцу и, не найдя руке применения, вновь переместил ее к пузатой бутылке, брошенной на алтарь беседы. — Ну, раз печаль-тоска, тогда надо еще по маленькой.
Выпили по маленькой, и еще. Минула полночь. Дождь давно отстал. Кудапов, хрустя огурцом, разразился очередным анекдотом, на сей раз действительно смешным — про старого еврея, сотворившего коту обрезание. Ася, жалея очень кота, заливалась смехом до слез, и петрушкой бросала в юмориста, чтобы перестал изображать в лицах.
Поговорили о пользе чтения и о том, какие книги следует читать, а какие нет. (Выяснили, что лучше никаких не читать.) Тут же приплели древних викингов, ничего из Пушкина не знававших, однако грозных, от которых многогрешный Порухайло вел свою родословную, о чем немедленно доложил, сделав геройский вид, которому очень мешал живот. Секция вновь покатилась со смеху, кроме незнакомца и молчавшего до того Нехитрова, который вдруг разозлился и отчитал коллегу за вранье:
— Нынешним любителям викингов, — плевал он словами ему в лицо, — настоящие викинги наваляли бы по первое число, не вынимая из ножен. Одно дело — жрать коньяк в вагоне, а другое — драться насмерть по пояс в болотной жиже!
Кудапов согласно закивал и уже собрался рассказать про Илью Муромца и Поганого Царя, но тут вагон качнуло на входной стрелке, поезд со свистками вкатился на станцию и начал резко сбавлять скорость. Илье всегда казалось в такие моменты, что многотонный состав — это гигантская стальная сороконожка, которая поджимает лапы, садясь всем весом на брюхо. Обычный спальный — старая, неповоротливая, выползшая из чащи, новенький «Сапсан» — редкой породы, молодая и шустрая, готовая проскочить станцию насквозь, если вовремя не спохватиться.
«Мне б мультфильмы снимать. Паровозик из Ромашкова, часть вторая, в главных ролях Джонни Депп и Светлана Ходченкова, — подумал он. — Да этот еще с книжкой, блаженный — взял бы его в команду, писать сценарий».
— Пойду, разомну задние ноги, — возвестил Нехитров и вскочил с сиденья болванчиком, вынимая из пиджака папиросы. — А историю вы свою приберегите для газеты «Школьная правда», — прошелся он еще раз по «викингу», поправляющему штаны в проходе.
Актив секции вышел на перрон, чтобы насладиться ночной прохладой. Остались Илья и таинственный незнакомец, так и не назвавший себя.
Странник этот начал утомлять Илью. Веяло от него какой-то душевной мукой. Да еще усталость навалилась, и алкоголь… Чувство было такое, будто напился в физтеховской общаге после экзамена. Хотелось быстрее отделаться от мешавшего гостя, завалиться на полку и урвать хоть пару часов покоя. Хотя, чем именно мешал гость, непонятно — сидел тихо, не трепался, не требовал, не хамил. Только напряжено смотрел.
«Еще бы Порухайло угомонился, старый кобель. Зачем вообще взяли эту Асю — с ее ногами, губками и всем прочим? Житья нет на нее смотреть! А как не смотреть? — модель! Оттого, наверное, и взяли, чтобы пофлиртовать в дороге. Не думаю, что кому-то из нас обломится… Вот и сам подумал: „из нас“ — по Фрейду, мосье Гринев, оговорочка! Тоже ведь навострился!», — с раздражением заключил Илья и решил забраться на верхнюю кудаповскую полку, не дожидаясь: пусть эти внизу шебуршат, а я посплю.
Тут незнакомец преобразился, вздохнул, налил себе до краев из случайной рюмки, резко встал и тоном отнюдь не робким подвел черту:
— Ладно! Интересно, конечно, с вами, но мне пора. Да и вы, гляжу, устали, Илья Сергеевич. До свидания. Спасибо за компанию и за все.
Илья удивленно посмотрел на него, но тот уже развернулся и сгинул в вагонном чреве. Странный какой-то человек, юрод, Пьеро из сказки.
«Кто такой? Может гэбист, за парнем этим приставленный? К хренам собачьим! Спать, спать, спать!».
Подумал, хорошо бы умыться, но воля растеклась по суглинку — остался лежать на полке.
Послышались знакомые голоса. Дурным колоколом бубнил Порухайло, на него шипели, чтоб не буянил. Ася, совершенно измученная дорогой и липким к себе вниманием, пожелала спокойной ночи и мгновенно устроилась напротив на верхней полке, укрывшись с головой одеялом.
Поезд мягко тронулся от перрона. Илья, посмотрев в окно, с удивлением обнаружил за ним странного попутчика, который стоял, как был — в тапках, сорочке и без вещей, под желтым фонарем станции. За ним, за деревянным вокзалом чернела роща и ночной туман свивался клубами.
— Мы в вагон, а чудик этот, смотрю, выходит. Вроде не пил особо. Может, до того?
— Он, может, сюда и ехал? Нам-то что.
— Да не, вроде, без вещей вышел. Псих какой-то.
— Пациент, точно.
— Пациент-то, конечно, да, а только коньяк у него отменный. Такой и в Торгсине не отхватишь, уж не говорю — в бакалейке.
Порухайло покачал в ладони бутылку. В ней уютно плеснуло темным.
— Этикетки, кстати, нет. Самопал, что ли? Не может быть.
— Дай-ка сюда, — завладев сосудом, Нехитров опрокинул его, протер дно ладонью. — По-французски… Шато де коньяк, тысяча семьсот… Да ну?
Все склонились над перевернутым дном бутылки.
— Ладно, Аркадий, мало ли что напишут. А коньяк забористый. По одной?
— Приберегу для науки, — сказал Нехитров и со скоростью змеи сунул бутыль в портфель, щелкнув как зубами замком. — Все, спать, спать! Давайте уже…
Порухайло дебиловато моргнул, открыл рот на такую наглость, но, посмотрев Нехитрову в лицо, возражать не стал.
— Спать, — повторил тот как вожатый в пионерлагере и споро улегся на своей полке, вытолкав с нее постояльцев. — Согласно купленным билетам, товарищи.
Илья вертелся и еще долго думал обо всем этом, а когда начал засыпать, за окном уже был рассвет и поезд гарцевал между дачами, стоящими в зыбкой дымке.
Магнифер
В следующий день после университетского семинара (трое чудаков в холодной преподавательской и пустой чай) М. решил пройтись, освободив голову от расчетов, совершенно измотавших его. В последнее время он, убедив себя в том, что находится буквально в шаге от открытия какой-то важной закономерности, сидел за ними безвылазно, и даже позеленел от бессонных штудий. Плохо ел. Бормотал под нос. Короче, во всей красе страдал от ума.
Словно разбуженный в полдень филин, он то и дело останавливался, щурясь на солнце, вдыхая горьковатый февральский воздух, дико поглядывал на людей. Затем решился на большой крюк, дошел до Поляны, обогнул парк и в конце концов свернул на помянутую Бровицким улицу и уже почти миновал ее, вспомнив про его вчерашний рассказ. По всему судя, дом и дворик слева были именно теми, что так огорошили Бровицкого. Дом, кстати, старый и неухоженный, дворик скудный, и деревья вокруг него — чахлые, сгорбленные и жалкие. Теперь они стояли без листьев, навевая видом тоску по чему-то безвозвратно утраченному, как бывает, когда смотришь на покинутое жильцами место.
Решив подтрунить по возвращении над соседом, М. усмехнулся, подошел и посмотрел за ограду… Где сидел тот самый старик с глазированной головой, синими как небо глазами, прямой, высокий, в черном долгополом пальто. Впрочем, не было никаких сомнений, что он жив: сидевший повернул голову и в ответ посмотрел на М. цепко и внимательно, будто искал в нем беглого вора. Затем кивнул и, опираясь на трость, поднялся, явно собираясь заговорить.
Из вежливости М. подошел вплотную к ограде, готовый выслушать всегдашнюю стариковскую чушь — про политику, погоду и вредство женщин; даже потянулся за папиросами угостить, если тот попросит… А когда моргнул, был уже внутри, во дворе, стоя на размякшем снегу перед с белоглавым. Не дав опомниться, тот сплел совершеннейшую нелепость бойким профессорским баритоном, будто возвращаясь к только что прерванному разговору:
— Так я приглашаю вас зайти в гости! Скоро время обеда, а мне строго запрещено врачами принимать пищу в одиночестве — из-за язвы: один я переедаю и потом мучаюсь коликами неделю. Хорошо? Называйте меня Магнифер Гедеонович. А вас я знаю.
М., не желая терять лица под напором старого господина, кивнул в знак согласия, даже не спросив, откуда тот его знает, и пошел за ним под взглядом какой-то женщины, вешавшей белье на грязных веревках, натянутых поперек двора. Сзади нее терся худой головастый мальчуган лет шести, норовивший стащить прищепку. У арки дворник с лопатой курил в усы. Мирная замечательная картина. М. невольно вспомнил про свое детство, проведенное в Житомире и в Одессе, — дворики, белье, кошки, запах жареной рыбы…
Сам того не заметив, он уже миновал пролет, следуя за назойливым стариком. Глянул сквозь окно и увидел, что двор теперь совершенно пуст! — ни дамы, ни мальчишки, ни дворника. Рука сама потянулась перекреститься и бежать вон. Но бросаться в панике наутек, когда уже решился идти, было неприличным. Он внутренне сжался, словно готовясь принять удар, и нащупал в кармане револьвер, с которым не расставался в последний год.
Однако нападения не последовало. Старик, шедший впереди, по-черепашьи посмотрел на него, и по взгляду его читалось, что он знает о терзаниях гостя, терзания эти считая полнейшей чушью:
— Не тревожьтесь вы так, я действительно ждал и хотел вас видеть. Вчера этот ваш товарищ, который рассмешил меня своей выходкой… Ему, кстати, не откажешь в наблюдательности. Да-да… Передавайте ему привет, если встретите. Он ведь меня каким-то колдуном посчитал, пожалуй! А с виду рациональный молодой человек. Вот к чему приводит гуманитарное образование.
Старик, пока говорил, поднялся по лестнице и толкнул лишенную таблички дверь, которая легко и беззвучно отворилась. Соседняя с надписью «Музыкальный критик П. М. Глухих» была накрест заколочена досками.
— Проходите. С вами никакой контрреволюции не станет… Революции, впрочем, тоже. Оружие свое можете оставить без опасений — никто его не сопрет в передней, и оно, уверяю, вам не понадобится.
М. словно во сне вошел внутрь и снял пальто, оставив в нем пистолет.
— Я вообще далек от каннибализма и от политики — заглавной его формации. Все теперь только об одном говорят, — ворчал старик, сдирая одну об одну колоши, — война, война… Войны начинаются в головах. Люди просто сотворены безумными. Внуки Каина. Снова на Подоле77 была стрельба! Туфли надевайте, полы холодные.
М. вдел ноги в остроносые персидские туфли, на которые указал хозяин. Целая полка таких же была в прихожей, а эти, словно ожидая его, стояли сразу у входа.
«… на Подоле была стрельба…» — в мыслях М. встал аптекарский дом с балконом, висящим над мостовой, где, будто вчера, он курил сигару, сердясь на дурацких теток. Какая ерунда, эти застольные пикировки, когда тут такое! Жив ли вообще аптекарь Мильн, владелец гипсового черепа и прекрасной библиотеки? Впрочем, на бинты сейчас самый спрос. Врачей и провизоров всякое войско должно беречь в собственных интересах. Так пусть же и его, весельчака и пропойцу, сбережет оно вместе с его Катиш. Но что имел в виду этот странный тип, сказав «если встретите» про Бровицкого?
В этих мыслях он прошел сквозь большую богато обставленную переднюю, освещенную матовыми шарами под потолком, миновал несколько дверей и оказался в совсем уже огромной гостиной, обставленной разномастно и вычурно.
Хозяин, шедший все время впереди, остановился у стеклянного столика с целым арсеналом бутылок и налил два бокала скотча.
— Но не будем о грустном, не для того я вас пригласил, молодой человек, чтобы упиваться ностальгией и беспокойством о будущем. Есть темы и поважнее.
Стены квартиры покрывали картины и коллажи всевозможных размеров (в массе весьма безвкусные), посвященные в основе морской тематике — фрегаты, форты и маяки, дополненные странными неуместными деталями, вроде сигарных этикеток или птицы додо с ведром в клюве. Самый большой коллаж находился над камином рядом с полотном Айвазовского, отчего выглядел еще уродливей и страннее. На нем был изображен двухмачтовый парусник на рейде, рядом — выступающий из моря утес. Фото, составленное из отдельно отпечатанных прямоугольников, было настолько смутным, что о том, что это именно парусник, можно было догадаться лишь стоя у противоположной стены, спиной упираясь в крейсер с ершиком вместо якоря. Флагом бригантине служил полосатый шарф, прибитый к стене гвоздями.
— Судя по теме… экспозиции… вы много путешествуете?
М., обескураженный всем увиденными и вообще смешавшийся, в глазах у которого рябило уже через пять минут в этом доме, предпочел выглянуть в окно. Как на грех, стекла в нем были цветными, превращавшими двор, без того унылый, в сущую пародию на реальность. Ни белья, ни тетки в нем так и не появилось.
— О, да! Когда-нибудь, возможно, я приглашу вас с собой, — загадочным тоном сказал Магнифер, отдернув тяжелую занавеску. — Восхитительно, правда? — и, не дождавшись ответа, крикнул прямо в ухо гостю: — Захар!!!
М. подпрыгнул от неожиданности.
На пороге вырос искомый Захар — сутулый старик с подносом под мышкой, и недружелюбным тоном спросил:
— Чего изволите?
— Скоро позвонят. Подашь. И трубку не бросай! Знаю я…
— Позвонят… — просипел слуга, глядя на хозяина исподлобья.
Вид он имел затейливый: атласная вышиванка, шаровары и бесформенные войлочные пантолеты, диссонирующие с ярмарочным нарядом. М. был уверен, что они выданы лакею специально — из тех же соображений, что усадили додо с ведром на рубку океанского лайнера.
— Чаю нам подай!
— Кушать изволите или пустой подать? — ядовито осведомился Захар.
Но хозяин уже отвернулся от него, увлек Илью к окну на другой стене, выходившему на узкий проспект, и принялся тыкать пальцем в ползущие вдоль него повозки, становившиеся синими из зеленых слева и наоборот справа, согласно череде стекол:
— Вот, посмотрите только на эти… средства передвижения! Мало бед с ямщиками, так еще нужно запрудить город авто, чтоб вообще было не повернуться!
Единственный, похожий на штиблету автомобиль, неподвижно стоял в тени на противоположной стороне улицы, и стоял там, судя по сугробу под ним, уже давно. Сетования Магнифера о запрудивших город авто, вероятно, адресовались ему персонально:
— Я каждую ночь вскакиваю от их шума. Окно не отворить! — жаловался старик.
М. не стал спорить: чего доброго, странный джентльмен распсихуется. Бежать, бежать из этого дома! Ведь чувствовал, что с дедом не все в порядке! Надо поуспокоить его и аккуратненько удалиться… Успеть бы прихватить сапоги… А пока — нейтральный вежливый разговор:
— Чего ж вы не переедете куда-нибудь? За город, в особняк? — поинтересовался М. слащавым тоном, стараясь подыграть явно безумному хозяину, потихоньку просачиваясь на выход.
Магнифер между тем бесцеремонно схватил его за локоть, всучив бокал с янтарной пахучей жидкостью.
— Не могу! Не могу оставить без присмотра, — не совсем понятно ответил он, разводя руками. — Селяви.
— Квартиру-то? — отстранился М., подозрительно глядя на бокал. — Можно консьержу заплатить. Или тот же Захар присмотрит.
— Да нет! Какой консьерж? Причем здесь квартира вообще?! — вспылил Магнифер, будто М. ляпнул несусветную глупость. — Ах, да… Я не о ней вовсе. Город, милейший. Го-род, — повторил он по слогам. — Невозможно его оставить. Немыслимо. Да что город? Вообще — все! Может, чаю еще вам, молодой человек? Отменный китайский чай! Как они его привозят теперь, в такие-то времена… Вы как считаете, а? Ведь это ж с ума сойти почем далеко — Китай! Сычуань, Цзянсу, Шаньдун, как бишь этот… Чжэцзян.
Неизвестно, сколько бы ушло времени на перечисление провинций Поднебесной, если бы внимание хозяина не переключилось вдруг на бронзовую фигуру, занимавшую консоль у окна — дама весомых форм держала за загривок козу, другой рукой защищая грудь. На то и другое, вестимо, посягал кто-то невидимый, не вошедший телесно в композицию.
— Так еще чаю? — спросил Магнифер с совершенно безумным видом.
Что сказать на это «еще», когда чаю вовсе не приносили?
— Не стоит, благодарю вас. На самом деле я ужасно спешу, совершенно забыл, что договорился и меня ждут. Такая интересная обстановка у вас…
— Захар!!! — не слушая лепет М. взревел хозяин.
В глубине квартиры что-то грохнулось, послышался зверский топот. В проеме возник лакей, держа в руках пантолеты, в которых, видимо, нельзя было споро передвигаться.
— Чаю же! Сколько ждать?!
— Пристал идол… — под нос проворчал лакей, и уже громче, будто глухому, ответил недовольно хозяину: — Когда ж мне его готовить, если вы все дергаете да дергаете? Захар, да Захар… Захар, да Захар…
— Ну хамить! А не звонили еще?
— Так вы бы первый услышали, что звонят! Аппарат-то вон он, у вас, на стене висит, чтоб его! Я вам как с кухни-то услежу?
— Ой, да ладно, ладно… — замахал руками Магнифер, примирительно морща губы. — Вот, молодой человек торопится. Вы ведь торопитесь?
— Еще как! Я пойду, пожалуй? — окончательно сконфузился М., решив, что ему прозрачно намекают на выход, что было и славно и обидно одновременно. Согласитесь, что по своему решению уходить солидней.
— Зря, зря… Мари отличные приготавливает эклеры, очень рекомендую. На правах старшего… хм… по званию… Так сказать, полковник от бижутерии… Еще раз советую вам подумать. Итак, время пошло с нуля! Ан, дуэ, туа! Не угодно ли вам откушать со мною чаю? — торжественно возвестил Магнифер, выставив вперед подбородок.
М. мог поклясться, что старый господин получал удовольствие от этого цирка. «Напрочь, напрочь безумный тип!», — заключил он и решительно двинул к выходу, где все так же стоял Захар. Подойдя вплотную к слуге, глядя сверху вниз на овитую пушком плешь, он уже хотел оттолкнуть его, как в темном коридоре явилось божественное видение — дева в васильковом кюлоте, с белозубой улыбкой на лице, прекраснее которой М. не видел в жизни…
«Ой…» — грохнулась его воля, и он остался неподвижно стоять над пахнущим мокрой псиной Захаром.
— Полно вам! — весело приказала дева, разматывая шарф у зеркала в глубине передней. — Я все слышала. Вы несносны, Магнифер Гедеонович! — она заметно грассировала и ставила ударение на «фер».
«Если это ее единственный недостаток, то она само совершенство», — подумал романтический М., не зная, что делать дальше.
— Дайте мне несколько минут привести в порядок дам шуз78! И прикажите подать обед, я голодна как зверь… А-а-а, Заха-а-ар! Живо, живо, старый лентяй! Аллюр!
— Вот и Мари! — воскликнул обрадованный хозяин. — Захарушка, голубь, ну иди, иди уже, наконец… Скатерть камчатную! — вечно ты эконом. В квадратной столовой накрывай. Радость-то! — и, М.: — Пойдемте, помоем руки, Мари ужасно строга на это. Я вас угощу табаком от «Филип Моррис» под французский старый коньяк, какого и гетману не достать! Но виски допейте все же — столетнике, как-никак.
Магнифер заговорщицки подмигнул, увлекая М. за рукав. Теперь он казался почти нормальным, разве немного возбужденным.
Через полчаса компания собралась в уютной светлой столовой, к которой примыкала остекленная веранда с мозаичным полом, уставленная бочками с деревцами. За обильной зеленью не было видно, куда она выходит, ясно лишь, что снаружи солнечный день. Воздух был наполнен цветением.
М. представлял себе так и сяк обветшалый дом, где располагалась эта квартира, но никак не мог объяснить, в какой его части они находятся. Квартира была огромна. Комнаты, переходы, лестницы… Уж тем более, никакого намека на зимний сад с улицы видно не было, за это он ручался.
Столовая, где они сидели, была совершенно не похожа на прочие помещения, которые видел М., мрачноватые и нелепо обставленные, — легкая мебель, свет, плавные беленые своды и фрески из греческой мифологии, весьма искусно написанные. Все они были посвящены одному герою, а именно Одиссею: справа от двери была Итака начальная, провожающая героя в путь, слева — вновь обретенная после странствий (убиенный женихов автор деликатно упустил).
— Не пренебрегайте и нашим обществом, не все же отдавать античным героям, — рассмеялась Мари, глядя на засмотревшегося на фрески М.. — Мы редко принимаем гостей, хотя гости не так уж редки у нас.
М. бесконечно смутился, а последнюю фразу вообще не понял, поэтому срочно схватил маслину и зачем-то начал ее анатомировать на тарелке, из чего, конечно, ни на йоту не вышло проку: скользкая штука выпрыгнула на скатерть, оставив на ней пятно.
— Ужасно извиняюсь… — промямлил молодой человек, и так рассердился на себя, что за одно рассердился и на других. — Прямо музей у вас какой-то, страшно шагу ступить.
— Возможно-возможно… А вам, я смотрю, искусство не симпатично?
— Да какое это искусство?! Ну, это-то, пожалуй, еще да — какой-то сюжет, основа, а там в комнатах, извините, пародия на живопись. Бред просто! Не все, не подумайте — я ценю. Там ведь и прекрасные картины висят. Но шарф вместо флага?! Даже как-то…
— Вы откровенны. Бред? Может быть. Это дело вкуса. А с другой стороны, этот, как вы выражаетесь, бред стоит немалых денег. С чего бы?
— От бескультурья, — отрезал М., сам себе поражаясь: зачем было встревать в этот спор, да еще в резких тонах? Хуже того, ему, ни горчичного зерна не знающего в искусстве. Тот случай, когда язык говорит за нас, и лучше бы он молчал!
— А вы каких художников предпочитаете? — поинтересовалась красавица Мари, поднимая тонкий бокал на свет. Ее губы подрагивали в полуулыбке, алые как вино.
— Я…
Почему в голове всплывает только «Шекспир», когда так надо сказать другое?! Чего такого сделал этот англичанин, если ты себя-то не сразу вспомнишь, а он, гололобый хитрец с бородкой, тут как тут, во всей красе, будто дядя родной, смотрит с портрета, врезавшегося в память с гимназии, и рассуждает многозначительно: «Быть или не быть…»?
— Я… разных предпочитаю. Голландских М. ов в основном, — выкрутился М., мысленно отмахиваясь от Гамлета, принца датского.
— Вот, Мари! — Магнифер аж подскочил на стуле. — Я всегда говорил, что молодым нравятся утрехтские караваджисты. Их живопись эротична. Это возраст. Когда смотришь на «Старый с молодой» Тербрюггена79 в двадцать, видишь только грудь и улыбку женщины. Проходят годы… и вдруг, ба! — различаешь старика, казавшегося раньше лишь темным местом, — Магнифер широко улыбнулся, обнажив белые как у юноши зубы. — К моему возрасту, миль пардон, грудь уже надоедает и очкастый пердун в берете кажется интересней дамы: с ним явно можно поболтать за стаканчиком в тихий вечер, а с этой развеселой красоткой — двух слов не свяжешь. Всему свое время, всему свое…
Мари заливисто рассмеялась.
— Вы бесподобны — оба! Один и другой порет чушь, и с такой чарующей убежденностью. Марафон абсурда. Добавлю, чтобы не отставать от вас в глупости: наречем это ординарное «кьянти» «фалернским» и выпьем за здоровье всех философов и их бочки! Vivat stulti80!
Девушка в два глотка прикончила свой бокал и встала из-за стола, бросая салфетку на пол.
— Молодой человек, хватит мучить маслину! Проводите меня в оранжерею. И возьмите вон ту корзинку, станем собирать апельсины.
Вдвоем они прошли на веранду, а Магнифер, как ни в чем не бывало, достал из кармана мышь и принялся кормить ее крошками.
В стеклянную крышу, необыкновенно чистую и прозрачную, отвесно лупило солнце. При этом воздух был прохладен и свеж.
Протиснувшись сквозь листву, М. с любопытством взглянул наружу: три четверти открывшегося пейзажа занимало небо, и лишь внизу простирался город — смутно и далеко, будто смотришь с большой горы. Что за город, М. не мог понять. По его суждению, в Киеве не было столько башен. Но он не был вполне уверен.
— Как такое возможно?.. — ошарашенно спросил он, не сводя глаз с пейзажа.
— Что именно? — спросила Мари, отрывая оранжевый плод от ветки.
— Где мы? Вы чем-нибудь меня опоили?
— Ну, в самом деле! Это просто хамство какое-то! — девушка с силой бросила апельсин в корзину, так что он вылетел из нее на цветную плитку. — Стала бы я вас опаивать, нужно очень…
— Но это ведь невозможно! Волшебство какое-то!
— Волшебство — вот! — очередной апельсин полетел в корзинку (на этот раз в ней оставшись). — Думаете, далеко забрались? Хм… Расстоянием во вселенной никого не удивишь. Вы же математик, не так ли? Знакомы как-никак с астрономией? — в ее голосе звучала издевка. — А вот апельсинов — раз-два и обчелся. И никто, заметьте, не знает, откуда они взялись. Примите же это чудо как дар и прекратите свою истерику. Наслаждайтесь!
«Оба, отец и дочь (М. почему-то сразу решил, что Мари дочь хозяина) — ужасные демагоги!».
Набрав дюжину плодов, они вернулись в столовую, где Магнифер теперь курил сигару. Мышь бесцельно бегала по столу, слишком сытая, чтобы лезть в тарелки.
— Я вам коньяку обещал, так пойдемте. Закусывать коньяк нужно сыром или устрицами, мой вам совет. Но уж никак не лимоном, конечно, как делают те, кто ничего в этой жизни не понимает, копируя за теми, кто сознательно желает перебить вкус. Вы же не из тех, я надеюсь? Сырную тарелку с собой берите… этот, проволоне81, выкиньте из нее — слишком соленый для коньяка.
Миновав галерею, полную работ Брейгелей82, и комнату с огромным пустым аквариумом, они оказались в библиотеке. По трем его стенам шли высокие шкафы с книгами, четвертую от пола до потолка занимало окном с видом на прибой. К маяку, возвышавшемуся на мысе, двигалась маленькая фигурка с собакой. К этому моменту М. уже исчерпал способность удивляться и лишь отметил, что собака — скорее всего, ретривер.
— Мне, без обиняков, нужна помощь в непростом деле, — Магнифер посмотрел в глаза М. и поднял бокал. — Мало кто для него подходит. Прозит!
— Что вы хотите?
— Есть вещи, о которых любят поговорить, но в существование которых, на самом-то деле, никто не верит. Их в большинстве и нет — пшик, фантазия. Но кое-что все-таки существует.
— Предупреждаю: я не буду участвовать ни в какой авантюре.
— Вы уже и так в ней участвуете.
— Нет, не так! Вы даже не представляете, насколько не так! Фокусами меня не обманешь.
М. с силой бросил свой бокал в окно — одно из стекол разбилось. В комнату влетел шум прибоя. «Все-таки это не картинка», — отметил он.
— Не картинка, конечно! А вы что думали? И бежать никуда не нужно. Беда в том, возвращаясь к теме, что за некоторыми вещами нужно присматривать.
— Ну и что за вещь? Не Ноев Ковчег, случайно? — ухмыльнулся М..
— У Ноя был целый флот, к слову. Не на одном же судне, представьте сами, вывезли тысячи пар зверья? А та вещь, о которой я, небольшая, не переживайте.
— Ну так выкиньте ее в море!
— Обнаружат, — с грустью сказал Магнифер. — Она сама себя обнаружит. Не считайте остальных дураками!
— Да что за вещь?! И с какой стати мне помогать? Кто решил? Вы? Да я вас впервые вижу! Простите за окно и хватит на этом. Не думаю, что вам нужен полтинник на стекольщика?
М. рассердился и совсем запутался. Ему казалось, что с минуты, когда он переступил порог квартиры, прошли годы. Магнифер, глядя ему в глаза, ответил весьма серьезно:
— Окно — пустяки. Почему вы? Потому, что вы достаточно невежественны для этого, — М. попытался протестовать, но тот остановил его жестом. — Я знаю, что ничего не знаю, как однажды сказал Сократ… когда его спросили, кто заплатит за ужин. Считайте, что вы невежественны в высшем, в сократовском смысле, если вам это потрафит. Не все ли равно, в конце концов? Мне вот абсолютно плевать, что вы считаете меня сумасшедшим. Скажу, только не обижайтесь, обида — это удел мелких: вы невежественный, но умный молодой человек, но в науке вас ничего не ждет — вы недостаточно любопытны и слишком ленивы, при том пугливы. В общем, то, что необходимо. Руки идиота ненадежны, самодовольного ханжи тем более, а трясущиеся ручонки гения слишком опасны. Когда-нибудь ваш тип личности назовут нормальным.
— И что это за штука? Краденый «парабеллум»? — М. все не сдавался, играя тоном, хотя чувствовал, что на самом деле провалил спор.
— Ценю ваше плоское чувство юмора. Нет, даже не «кольт». Будьте внимательны сейчас, потому что следующее, что я скажу — не шутка и не завеса, но абсолютная, чистая, незамутненная правда.
— Хм?
— Я. Не. Знаю. Что. Это.
Магнифер замолчал, пошел к шкафу и выдвинул из него ящик, достав оттуда длинный обитый кожей футляр; затем открыл его на столе, щелкнув рычажком. В футляре лежал черный испещренный резьбой цилиндр высотою в локоть и дюймов пяти в диаметре.
— Теперь это ваша гордость, и ваше бремя. Сегодня счастливый день!
— Да уж, счастье… — скривился М..
— Это я о себе, — Магнифер посерьезнел. — Берите. Я бы рассказал вам, но любые инструкции бесполезны. Знание само найдет вас — и будет ровно таким, как необходимо.
После этого он будто захлопнулся, больше не проронив ни слова. Глаза Магнифера сделались серы и безразличны. Человек на пирсе вошел в маяк и закрыл за собою дверь, пропустив собаку вперед. На горизонте проступили очертания корабля.
М. не помнил, как покинул загадочную квартиру, как и сколько шел, обнаружив себя стоящим с футляром в руках у дома, где, кажется, еще этим утром бился с запутанным интегралом — как давно было это утро!
Ни одного окна не светилось. Вдалеке брехали собаки. Крыса метнулась из-под ног, забежав в лишенный дверей подъезд.
Поддавшись внутреннему движению, истоки которого неизвестны, — а может таинственный предмет начал действовать на него — быстрыми шагами М. миновал дом, не зная куда идет, но уверенный, что дело само устроится. В кармане пальто рядом с револьвером лежала пачка немецких марок.
Авария на Невском
В новогоднюю полночь девятнадцатого, когда Империю трясло от междоусобиц, стокгольмская медаль обживалась у Макса Планка, а в Янцзы кишел речной дельфин, над Петроградом висела дымка, и звезды растворялись в ней как в обрате. Пахло дымной горечью и рекой. Тысячи домов, М. ских, котельных, больниц, кабаков, конюшен коптили свинец небесный, который полукружьем накрывает Чухну и приставшие к ней районы — просторы, которых бы хватило на добрую страну, а хватило вот — на вой оголодавших волков, стрельбу да выколачиванье дверей.
Город, замороженный и бездвижный, стоял, погруженный в ночь. Не было в нем балов и не было лихачей, везущих от Пассажа господ к актрисам. Вышла кутерьма торговых рядов. Только на вокзалах толпился люд: даже теперь, в праздничную ночь, многие пытались уехать, штурмуя оледенелые вагоны, — на восток, на запад, хоть на кулички.
М. сидел в комнате с занавешенным окном, ожидая по-детски чуда или хоть чего-нибудь, к чуду близкого. В раскрытую форточку долетали свистки от Николаевского вокзала, где бессонные паровозы тягали свою постылую ношу. Вдоль перегороженного проспекта изредка гремели повозки, и какие-то люди шумели у Строгановского на Мойке, палили беспорядочно из винтовок. В кого палили — знать не хотелось. Лучше б, конечно, в воздух. А еще прекрасней, чтоб они убрались отсюда вон! — из города, из страны, с планеты…
Пламя свечи, дымное и трескучее, гнало темноту из дрожащего пузыря вокруг стола, на котором, раздвинув томики и журналы, стояла кружка опилочного спирта и лежали на вощеной бумаге полкаравая с лаптем румяной ветчины, годной и не мороженной, будто только принесенной из «Елисеевского». В нынешнем положении жильца то и другое можно было считать за чудо, о большем не стоило даже думать.
С сентября у М. не было работы и денег, как и соображений на будущее. Комнату эту в солидном доме на Невском он занимал по явному недосмотру — согласно резолюции ВРИО начальника жилотдела товарища Людянского, в подселение к некоему Б. С. К. — «до истечения вопроса». Кто был этот Людянский, кого замещал и какого «истечения» ожидал, М. было неизвестно. Впрочем, и то, как выглядел и где находился истинный квартирант, означенный выше Б. С. К., он понятия не имел. Может, выехал на задание, командирован руководством в Приморск, а может и того хуже… От него остался в комнате большой зашнурованный баул, стол со стулом, заправленная кровать и пузатый английский чайник, клеймо на котором изображало шмеля над цветущим лугом, соблазняя беззаботными мыслями о лете.
К баулу М. не прикасался, решив не наглеть без меры, так что скоро под ним возник уютный пыльный колтун, терзаемый сквозняком, а прочее стал использовать, поскольку ничего из обихода, кроме смены белья, с собой не имел. Немногое, что случилось ему нажить, сгинуло в бесконечной неразберихе, в которую его сунули как в бульон клецку, где она кувыркается и разваривается в ничто — так и он, казалось, будет кипеть в этом мутном вареве, пока совершенно не растворится.
Еще этот груз, подсунутый хитрецом Магнифером, — туманного назначения штуковина, норовившая совершенно распоясаться. Нередко он находил цилиндр парящим в темном углу, вопреки всем известным правилам, будто не прятал и не запирал его на замок в футляре, и сам он не весил пуд. Вот и теперь он медленно крутился у косяка, подсвеченный мертво-синим. Вставать и водворять его на место М. не хотелось. «Все одно летает, —думал он, — так уж улетал бы на вовсе».
Квартира, куда он был подселен прихотливой жилотделовской волей, была удобна, соседи молчаливы, если не сказать незаметны, и даже отопление в доме продолжало работать, клокоча в чугунной гармони. После оледенелой киевской коммуналки, смоленских бараков, сараев, скамей, перронов — настоящий дворец, населенный бонзами новой власти вперемешку со старыми петербургскими жильцами, уплотненными и напуганными.
М. сам, насмотревшись по горло за два года, боялся, что за ним «придут». Но не приходили, и даже неизменно способствовали: как работнику новой мысли, полагался ему паек, который нужно было брать тут же недалеко, на Лиговке, в окошке, где давали расписаться в журнале. То ли документы, выправленные «по научной линии», действительно были хороши, то ли хватало забот у власти и без него, но никто не изводил участника несуществующей экспедиции, нацеленной на поиски «экземпляров скифского промысла».
Он помнил, как они сочиняли эту формулу, сидя вокруг стола на Шулявке, сколько вариантов перебрали и как смеялись. «Промысел» звучал словно пролетарский пароль и в то же время не вызывал подозрений. На «скифов», кажется, тоже никто не точил идеологического зуба — ни «белые», ни «красные», ни «зеленые». «Экземпляры» же звучали весьма научно. Бумагу отпечатали на машинке, в углу поставили оттиск, «подрезанный» в университетской канцелярии. Подобным способом «выдали» друг другу удостоверения личности, снабдив для солидности фотокарточкой — в царящей неразберихе вполне сходило за правду, большинство и этого не имело. Получились, если не соль земли, то вполне благопристойные граждане новой исторической эпохи.
Комната, где он жил, с лепным затейливым потолком, выгороженная стенкой из большей залы, имела сажени четыре в длину и в половину этого ширины, так что у дверей всегда сгущались потемки, а теперь, ночью стояла непроглядная темнота. Новая стена эта, шедшая от двери по правую руку, несмотря на революционный кавардак, была добротно оштукатурена и оснащена изумрудным ковром с залысиной от того, что он когда-то леживал в присутственном месте. Под ковром на кровати, обхватив руками колени, и сидел М., наблюдая за пляской свечных теней, прислушиваясь к проспекту и звукам старого доходного дома.
В эту ночь все чудилось ему странным, придуманным и пустым, будто карандашным наброском, отрисованным на картоне и не раскрашенным. То клонило в сон, и он клевал носом, погружаясь в смутные видения чего-то важного, что нельзя было упустить, — но Морфей неожиданно улетал, оставляя сосущую пустоту от недосказанного. То мучили его тревожные предвкушения, дергал за нервы страх, мешая сосредоточиться. М. терзался, тихо бормотал — пока линии стен и мебели снова не перекашивались, ныряя куда-то вниз, веки слепляла дрема…
Ему, в возрасте Христа, что-то все мерещилось на распутье, когда еще многое можно переменить в жизни одним стремленьем. А что менять? И к чему стремиться? Снаружи — ад кромешный. Внутри — возня торопливых мыслей, бренчащих как ложки в посудном ящике. Есть, наверное, такая порода людей — «гении», у которых эти ложки выбивают сами собой кантату — не наш, ситный друг, случай…
«От одиночества, что ли я так терзаюсь? Или дух мой окончательно разодрали, так, что уже не свяжешь? Живу как лис под корягой — ни жены, ни хозяйства нет, и прибежища своего нет. Не нажил за три десятка даже того, о чем жалеть. Одни мысли да нервный сон — все твое имущество и родня. Было бы тебя два или не было вообще — круглый ноль разницы. Исчезну — ботинки одни останутся, и то драные. Катись все! Никому и ничего я не должен. И себе тоже. Будто враг какой-то сидит внутри и корежит ум! А на новую обувь у меня денег нету…».
Отпустив мысли на самотек, он вдруг показался себе маленьким и бесплотным как переплетение лучей на воде.
«Отраженный свет и ничего больше. Тучка зашла — исчез; улетела — снова тут как тут. Был, не будем спорить, такой джентльмен, брился-мылся, разговаривал и вообще — блестел гривенником, пяткой в пруду пугал сома, улыбался на фотокарточке… И все, выбыл! Финита. Абзац параграфа».
От чувства своей ничтожности ему стало хорошо и необыкновенно спокойно. Кто-то внутри будто отпустил его. В голове произошла ясность, от которой сразу же захотелось выпить. Он протер глаза и прислушался.
В квартире снизу кто-то танцевал под романс. Раздавался смех, звон посуды, скрипел паркет. Плевицкая выводила «Чайку»83. Сверху и в соседней комнате слева, занятой, кажется, кем-то от медицины, царила тишина. Справа за тонкой стеной разговаривали двое, мужчина и женщина, — что-то обсуждали, спорили без злобы с нажимом, как спорят только супруги, не имея целью победить, а так.
Не в силах устоять пред соблазном, он прижался ухом к стене. Ничего интересного, обычный домашний треп: сомнения, знакомые, планы…
«Когда это кончится?», — спросила женщина. «Скоро, думаю… не может так долго быть… — ответил мужской голос. — Скоро…».
Затем разговор прервался, что-то из сервиза упало на пол, собеседники перешли на горячий шепот.
М., почувствовав неловкость, соскочил с кровати, стараясь ни звуком себя не выдать, на цыпочках подошел к столу и большим глотком осушил полкружки. Внутренности мгновенно обожгло, горло пережало стальной перчаткой, он мучительно закашлялся, чем, безусловно, выдал себя любовникам за стеной. Но ему уже было все равно — как, наверное, им самим.
— Господи, как они глотают такую дрянь? Впрочем, это многое объясняет… — прохрипел он, подразумевая революционных матросов и прочих любителей «балтийского чая»84.
Стараясь не обращать внимания на возню за стенкой, он жадно глотнул из чайника, отдернул штору и взялся за ветчину, мудро отложив хлеб на завтрак, но так и не успел ей распорядиться.
В темноте по пустой ленте Невского в сторону Дворцовой мчался автомобиль, слепя фарами; за ним в отдалении другой. Оба на совершенно безумной скорости. Казалось, они участвуют в гонке.
Через секунду первый, алый двухдверный «мазерати», похожий на голову крокодила, скрылся, оставив за собой долгую снежную завесу. Преследовавший его кабриолет, захлебываясь в снегу, то ли на что-то налетел, то ли просто потерял управление — его под самыми окнами закрутило, впечатав с лязгом в театральную тумбу, отнесло по наледи, и он встал, уткнувшись в поребрик. Под искореженный «ситроен» на снег быстро натекла лужа.
М. жадно прильнул к окну. Никогда раньше ему не приходилось видеть автомобильной аварии, не считая одного раза, когда порожний грузовик съехал в кювет в потемках. Но тот едва полз и никакого ущерба не причинил. А тут…
Лишенное снега место у парадной, где только что находилась тумба, с высоты казалось жерлом колодца. Сама она валялась рядом, загородив тротуар, глядя в небо драной афишей «Буфф». Около нее в брызгах разлетевшегося стекла на белом лежал продолговатый черный предмет, в котором М. не сразу разглядел человека. Тот, похоже, был без сознания, если не того хуже.
Глядя на простертое внизу тело, М. решил, что необходимо срочно что-нибудь предпринять и уже подался к двери, когда, словно повинуясь единой мысли, в нее громко и торопливо постучали. На пороге с керосинкой в одной и саквояжем в другой руке стоял тот самый сосед-медик в наброшенной на пижаму шубе:
— Внизу авария. Срочно прошу помочь, — сказал он и быстро прошел на выход.
— Да, конечно, — засуетился М., соображая, где находится его обувь и простреленный полушубок, выменянный в дороге на мыло у какой-то бабы с бельмом. — Ах ты ж! — магниферова болванка все вращалась у косяка — он забыл про нее и ткнулся на ходу лбом — ту медленно отнесло к стене.
Тут проглоченный на голодный желудок спирт сыграл с М. злую шутку: потеряв равновесие в темноте, он упал, больно ударившись коленом, и едва не оторвал ручку двери.
— Твою-то мать!
Затем, хромая и суетясь, поймал летающий артефакт, сунул под кровать и выбежал за соседом, на ходу пытаясь попасть в рукав; спустился, встал под козырьком, окунаясь в холодный воздух, и с трудом перевел дыхание. В груди колотился тяжелый ком. Колено ныло. Еще спирт этот, отдающий псиной, чтоб его…
Из окон выглядывали на улицу любопытные, но на помощь больше никто не вышел.
Сосед, звавшийся Вадим Ильичем, в самом деле бывший военным медиком, недавно вернувшимся с фронта и тихо осевшим теперь в столице, возился с лежащим на снегу телом.
— Идите сюда! Что встали?! — резко позвал он, вынимая скальпель из саквояжа. У Ильи мелькнула шальная мысль, что он собрался прирезать раненого. — Жив он. Контузия и открытый перелом — точнее не сказать. Держите вот.
Раненый, с головы до ног одетый в черную кожу, лежал без сознания на спине, глаза его были бессмысленно открыты. В них, прямо на радужку, падал и таял снег.
Доктор умело дерзко срезал с него портупею, сунул в саквояж маузер, глянув исподлобья на М., затем распорол до локтя рукав, предоставив ассистенту мокрую от крови руку с торчащей костью.
— Берите. Да не тут! Держите кисть и здесь, выше. Крепко, но не тяните.
Сам Вадим Ильич, отбросив седую прядь, пережал раненому плечо, достал блестящую планку, что-то подкрутил в ней и начал прибинтовывать к перелому.
— Отменное изделие… немцы… — сказал он М., имея в виду, вероятно, свою раздвижную шину.
М. замутило, он дернулся и чуть не упал, отпустив доверенную конечность.
— Держи, итит твою! Крепко! — заорал доктор. — Отвернись, если не можешь смотреть. Дурак…
М. отвел глаза, стараясь сохранять равновесие. Зная, что напортачил, на «ты» и «дурака» не обиделся. Доктор командовал отрывисто, четко, явно имея к тому привычку. Уверенность эта и быстрота действий невольно вызывали уважение, отметая возможность не подчиниться.
Вывернув с Мойки, мимо проехал экипаж, не остановившись на окрик. Кучер, сволочь, поддал вожжами и рванул в сторону вокзала. Было слышно, как доктор выругался под нос.
— Все, все, можете не держать больше. Просто положите вот так. Ноги, кажется, целы, что удивительно. Сюда руку теперь. Берите под колени и ме-е-едленно в парадную вслед за мной. Лампу принесете потом.
Вдвоем они внесли пострадавшего в подъезд, устроив на плитках пола. Тот, застонав, очнулся, замотал головой и попытался что-то сказать, но язык его заплетался, вместо слов вышло бестолковое «гу-у-гл».
— Молчи, молчи, после… — и М.: — Лампу принесите. Проверьте, в машине там никто не остался? И найдите срочно кого-нибудь ехать в госпиталь.
— Сейчас, — прохрипел не своим голосом М..
Принеся фонарь и кинувшись назад к «ситроену», он больше никого не нашел, испытав огромное облегчение — от второй такой операции он бы точно грохнулся в обморок.
В это время там, куда направлялся кортеж, очевидно, сообразили, что что-то пошло не так. В М., огибавшего широкую масляную лужу, натекшую из-под разбитой машины, ударило ярким светом. Два автомобиля, один из которых, красный «итальянец», ему уже был знаком, инспектировали проспект, разделившись по сторонам.
Первым подъехал грузовик. Из кузова на снег высыпала группа с винтовками, в шинелях и лохматых папахах.
— Стоять! Руки! Обыщи его, — скомандовал свирепый мужик в перевязи. — Где Гальперн, сука?! Гальперн, я сказал!
М. застыл, стараясь никому не смотреть в глаза, отчего сделался вдвойне подозрителен. Чьи-то руки шарили по нему, в лицо смотрело дуло винтовки. После недавнего общения с доктором манера разговора показалась ему знакомой, хотя и доведенной в грубости до гротеска. Все же медик, даже закаленный в окопах, — не выблядок в папахе, орущий на мирных граждан, но военная интеллигенция…
— Там, в парадной лежит раненый. Ему оказали помощь. Фамилию я не знаю, — ответил он, стараясь говорить ровно. — Уберите, пожалуйста, винтовку. Я провожу.
— Заткнись, сука! Веди! Если врешь…
Войдя в подъезд, они тут же наткнулись на потерпевшего. Доктора рядом не было. М. сообразил, что сосед его, видимо, из «старых», и не желает лишний раз попадать на вид.
— В машину! Быстро! В Александровскую85!
Раненый застонал и открыл глаза, когда его неловко подняли.
— Этажи проверьте! С нами поедешь, — добавил главный, ухватив М. за плечо, когда тот пытался уйти по лестнице. — Козинов!
В ту же секунду что-то с хрустом ударило М. по затылку и мир исчез.
Штабные муки
На большом столе в огромной, душной как нора комнате, пахнущей свежей краской, внахлест лежали чертежи и эскизы. На всех был изображен обгрызенный овал со звездой, упирающийся в заштрихованную брусчатку — анфас, в разрезе и в профиль. Вокруг стола происходило совещание штаба, созванного для решающего броска на усвоение МИМом грядущего исполинского пролетария (чья картонная лапа так и находилась в фойе, приводя в замешательство посетителей).
Пылинки вились в желтых лучах, за окнами мрела зелень и голуби гугукали на дорожке, расклевывая буханку. Казалось, там — во внешнем мире прошло уже полстолетья и, если высунуться наружу, увидишь обещанный коммунизм, скоростные поезда, а то и марсиан, прибывших в Москву на турнир по шашкам.
Собрание шло уже три часа и конца-края ему не было видно. Председательствовал на нем Илья, делая это, прямо скажем, довольно вяло, и все больше смотрел не в хитросплетения линий, покрывших ватман, а в те самые окна, веющие свободой, уничтожая на председательских правах громадный бутерброд с колбасой.
В строительно-монтажном искусстве он не разумел совершенно, и теперь с трудом ловил нить происходящего разговора, основными участниками которого был опытный в этом деле Ужалов и брезгливого вида инженер, прикомандированный из какого-то мос-гипро-краснознаменного института, который подрядили разработать проект. Последний и притащил на суд заказчика ворох чертежей, приведших в смущение большинство штабистов, не более председателя знакомых с вопросом строительства чего-либо.
Кудапов, насупившись, смотрел в какой-то случайный лист, для важности потряхивая блокнотом. Рюх сидела на стуле с прямой спиной, положив руки на черную злую папку, глядя перед собой с видом решительным и пространным как у переевшей эллинов Горгоны, готовой окаменеть по первому требованию. Порухайло нагло развалился на диване под портретом Эзопа с выражением непогрешимого мудреца, на которых одних держится этот мир, и, к счастью, ничего не высказывал по предмету — иногда гудел какую-то песню, но тихо, никому особо не докучая, больше поглядывая на Асю, писавшую протокол. Ее голые руки и туго обтянутые ситцем бедра не давали ему покоя.
Где-то в промежутке между обсуждением фундамента и архитектурной узнаваемости доцент Стропилин, сутулый, с вытянутой безволосой головой, похожий на огурец в пенсне, исподлобья посмотрел на чертеж, затем на Илью, Ужалова, на Каину Рюх, пришлого инженера и наконец уставился на свои ноги в коротких брюках, словно вот-вот собирался что-то поведать им. Это был тот редкий тип человека, который выглядел так, будто все время хотел высказаться, но никак не мог заставить себя начать, ибо мысль его была велика, а собеседники мелки и недостойны.
Даже обладая мощнейшим писательским арсеналом, позволяющим совать нос куда угодно, сложно заглянуть в его думы, чтобы разделить их с читателем. Скажем, что занимался Стропилин — пятый сын валдайского бочара, презревший родовую стезю, — всегда какой-нибудь узкой темой в обширнейшей области исследований. Изучал отдельный, по каким-то соображениям им отобранный камень в кладке этрусского храма, чем-то особый выход из лабиринта на Большом Заяцком острове, калмыцкий узел в культуре греков и тому подобное. Если бы Стропилин был зоологом, то, немудрено, выдал бы труд, посвященный прибылому пальцу среднерусской куницы — томах в шести, с иллюстрированным дополнением.
Обсуждение между тем продолжилось. Мерзавец-инженер, решив, видно, вышибить из-под заказчика ноги, спросил с язвинкой, в каком, мол, архитектурном стиле многоуважаемый МИМ хотел бы решить фактуру: псевдорусский, конструктивизм, рационализм? И, сволочь, прищурившись, закурил, упиваясь счастьем.
Вопрос идеологический, тонкий, на расчеты и балки пенять не станешь — как бы не ошибиться! Комиссионеры задумались, перебирая в умах виденные за жизнь сооружения различных эпох, понятия не имея, к каким стилям они относятся. На ум приходило разное — Сандуны, Кремль, башня Гюстава Эйфеля86. Илье пригрезился Музей Гуггенхайма в Бильбао87, повторить который МИМу не хватит фондов…
Тут Стропилин, с важным видом бродивший у всех за спинами, снова припал к столу, оттолкнул брезгливого инженера, приоткрыл рот, отерев его пальцами по углам, прокашлялся и шумно вдохнул. Собрание приготовилось внимать истине. Но ее глашатай, обманув народные чаяния, выдал только «кхм…» — с выражением крайнего недоверия, отступил и продолжил свой моцион.
Стоило, однако, разговору возобновиться, как мудрец Стропилин, грубо перебив Рюх, начавшую подводить основу (окольно, издалека, от Владимира Красно Солнышко), вне всякой связи с происходящим, поделился соображением на счет крепления брусьев «в паз»: как, под каким углом и в какую погоду их сочленять и как это делают на Алтае. Затем с достоинством развернулся и торжественно покинул собрание, сполна послужив отечеству.
Одарив коллегу недоуменными взглядами, штабисты отринули сомнительный вопрос на счет стиля, потыкали карандашами куда следует, и продолжили слушать прения Ужалова с инженером, происходившие в техническом русле. Росла убежденность, что этих двоих можно и нужно оставить вместе, и идти заниматься своим делом. Но тогда бы был нарушен порядок, не набрался кворум для протокола и вообще — формулировочка «самоустранился» никому не казалось привлекательной. Придется еще, избави Бог, рассказывать потом, отчего презрел поручение, но уже в ином месте и в других тонах…
Терпение статистов затянувшегося спектакля истончалось и в какой-то момент, услышав знакомые слова в вопросе «Клееный брус или сталь?», не вытерпел скульптурист Кудапов:
— Сталь, конечно! Сами подумайте?! — ударил он кулачком по ватману с какой-то необъяснимой решительностью.
— Стальной тяжелее будет. Да и «Металлист» под заказом по самые нимогу, полгода ждать, — через губу ответил инженер, задача которого, видимо, состояла в том, чтобы измотать «музейных» и не переделывать проект.
— Ничего не занят! Пусть только будет занят! — кипятился Кудапов, отводя полы пиджачка с живота. — Так и назовем его: Стальной Купол. На весь Союз прогремим. А, может быть… Купол Сталина?
Штаб опешил. Даже Порухайло привстал с дивана.
— Ты рехнулся, Никитыч? Это нам в ЦК что ли обращаться?
Ужалов сплюнул от негодования на паркет.
— А что? И нечего тут плевать! — кипятился завотделом античности. Все гадали: может, краска на него действует? — Нам, нашему славному музею, свойственно замахиваться на крупное!
— Думаешь, можно любую будку именем вождя называть? Это тебе не ГЭС…
— Будку?! Музей пролетариата тебе не будка!
— Не выеживайся, Никитыч, целее будешь, — усмехнулся Порухайло с дивана, вновь откинувшись и мурлыча польку. Эти друзья-враги нуждались друг в друге как два крыла. — Вот помрешь, твоим именем назовут. А я первый — может, моим.
— Скромнее нужно быть, Афанасий Никитович. Вот и товарищи говорят… — присоединилась Каина Владиславовна.
— Эти мне товарищи… — начал было Кудапов, повернувшись к дивану.
— Главное — не купол, а монумент! Знаете, кто проект утвердил? Да еще из нового инновационного материала! Вы там не забывайте, что к чему, — добавила Рюх, входя с облегчением в знакомые воды политэкономической бухты. — Вы со своими идеями в деревню какую-нибудь езжайте, в Сколково, например, бабочек ловить.
— Да-да, это вам не хухры-мухры из развалин, от которых только полы трещат, — подбросил дровишек Порухайло, намекая на всякую малонужную древность, которой занимался Кудапов. — Это, между прочим, новье, под заказ идет! А ты тут со своими финтами, впереди паровоза.
Кудапов вздернул подбородок и раздул ноздри, уже готовый ответить, но ему не дали:
— Как бы нам не прогреметь, а не загреметь плавным ходом куда-нибудь в Забайкальск, — кисло отозвался бухгалтер Клювин, взятый в штаб, чтобы не чинил потом препятствия при оплате. Единственный в мире человек, слюной которого можно прожигать камень.
До того он молча сидел в углу, откуда и подал голос. Бухгалтер физически страдал от вида всех этих чертежей, предчувствуя нутром смету — не какую-нибудь, но с огромным превышением, за которую объясняться потом до пены с фининспектором. Ему никто не сочувствовал. И вообще, он был в этом уверен, человечество его ненавидело (немногое, в чем он не ошибался, не считая годового баланса, который всегда сводил с первого раза назло ревизионной комиссии).
— А! Называйте что хотите и как хотите! Пусть теперь все летит в тартарары с вашим проектом! — с обидой сдался Кудапов. — Хоть жабой назовите, раз такие перестраховщики.
«По крайней мере, этот тоже, вроде Сторпилина, свой долг выполнил, отбарабанил для протокола, — подумали остальные. — Что же мы-то?».
— Оформите в протоколе голосованием, — умно подсказала Рюх, решая задачу «оптом».
— Без стенограммы только, — уточнил Порухайло.
— Да-да… Ты, Никитыч, там не особо языком-то… Сказал — сказал… Отметим в протоколе позицию в целом, обтекаемо. Так, Илья Сергеевич?
Илья, не приученный к бюрократии, согласно кивнул, желая прекратить спор и вообще всю эту галиматью. От жирного бутерброда и духоты его мутило, голова гудела от разговоров, и хотелось лишь одного — закрыть глаза и уснуть, проснувшись в своей квартире в нормальном времени среди относительно нормальных людей, выпить нормального аспирина и снова лечь спать. Он готов был строить хоть «Домик Барби» из леденцов, лишь бы от него все отстали.
Ужалов тем временем продолжал, проявляя чудеса стойкости. В нагловатом инженере-проектировщике он чувствовал личного врага, которого решил победить, не отдав ни пяди родной земли:
— Значит так, любезный: купол будет из нержавейки. Резон. В ногу со временем и по прочностным качествам. Заказ «Красному металлисту». Стекло «авиа» из Ленинграда поставим, — тут он с вызовом обвел взглядом комиссию, будто имел дело с непримиримыми противниками стекла и стеклодувов как класса. — Резчик чтобы их, от завода, это мы проследим. Прошу проект в сутки пересчитать! — институтский работник сморщился сушеным грибом, но сдержался. — Сметный расчет в первую голову, и сразу — на утверждение в Культпросвет. Вы согласны, Илья Сергеевич? — ядовито осведомился завхоз.
Главбух, услышав «сметный расчет», глубоко вздохнул.
Илья, насупившись как Бунша на русском троне88, изрек управленческий шедевр, спасавший председателей всех времен и народов:
— В целом согласен. Примите за основу для дальнейшей работы согласно нормам. Но, вы там посмотрите по срокам, товарищи, чтоб не слишком. И по смете тоже, — все, кроме упыря-инженера, одобрительно на него посмотрели: мол, наш человек, как надо говорит. — Статуя-то когда поступит?
— Да-да, верно, Илья Сергеевич, верно… Туда же, в Культпросвет, обозначим все в докладной, чтобы не отнекивались потом.
Розовощекая Ася строчила в блокноте карандашом. Тут она взвизгнула, подскочив на стуле. Под окнами что-то взревело и зверски хряпнуло. По зданию прокатился гул.
— Это что еще?..
Рюх споро подбежала к окну и оттуда оперно возвестила:
— Экскаватор, товарищи! Не волнуйтесь! Он, очевидно… котлован роет под фундамент.
— Этак он нам тут все обрушит, — вяло изрек бухгалтер, заранее подсчитывая убыток.
— Экскаватор…
— А, позвольте спросить, где он роет? — поинтересовался Кудапов, сам поленившись идти до окон. Вероятно, спор измотал его.
Рев, между тем, продолжился.
— Известно: под куполом под грядущим, — воспарила гражданка Рюх, обретя уверенность в собственной догадке, хотя понятия не имела на счет целей прибывшей техники.
— То есть, у входа в музей он роет? — подозрительно спокойно уточнил завотделом античности, почувствовав нужную волну подобно наторевшему серфингисту.
— У входа, конечно! Что за вопрос? Где купол, там он и роет. Где ему еще рыть? — вмешался институтский работник, которого, собственно, никто не спрашивал, и который тоже не видел экскаватора и понятия о нем не имел.
— А как же посетители попадут в музей? Он там всю дорогу перелопатит, и что? Им на дирижабле теперь летать?
— Так и место еще не утверждено! Он с каких хренов там копает?
Повисла пауза, в которую все взгляды устремились на Илью, подчеркивая, что начальник штаба все-таки он, и отдуваться, если что, ему.
— Эмм…
— Илья Сергеевич, дело пахнет скандалом.
— Ну…
— А кто его вообще запустил на территорию?.. — будто в оцепенении спросил сам себя Ужалов. Нижняя челюсть его заходила по сторонам.
— Известно, кто! Зам твой, гусья-башка-Никитский! Кто еще? — возопил Кудапов через стол, прижигая завхоза взглядом.
«Ох, опасен этот Кудапов», — заключил Илья, глядя на мстительные глазки завотделом.
— Ах ты ж, мать природа! — завхоз едва не выскочил из сандалий. — Едрена вошь! Вредитель!!!
Словно по сценарию пьесы, в залу с воплем влетел Стропилин. На узком лице его округлились глаза и рот:
— Там какая-то сволочь музей ломает! Быстрее! Я сам информирую руководство!
Прикончив заседание штаба, он тут же выбежал вон, оглашая здание криком. Всюду хлопали двери и люди выбегали на этот крик, думая, что случилось само страшное — пожар или наступление Антанты.
Огромная машина вепрем рылась в земле перед самым крыльцом музея, выкорчевывая из нее какую-то кишку. Само крыльцо, к счастью, не пострадало, не считая верхней ступени, на которую из ковша соскочил булыжник.
Во дворе начал собираться народ. Кто-то, сдуру не иначе, обронил в толпе: «Сносят музей». От этого слуха мгновенно родился активист, заоравший во всю Ивановскую: «Сносить музей не позволим!». В народе возникла смута.
У растопыренных лап машины стоял искомый гад и причиндал Никитский, по-наполеоновски сложив руки, и обозревал бедлам с видом совершенного удовольствия.
В это время Илья, продравшись со штабистами сквозь толпу, выбежал с задранной головой, поднял руки и в сердцах не глядя шагнул, загремев с поломанной ступени вниз, увлекая за собой грузную Каину Рюх, как увлекают тонущие в пучину всякого, за кого способны схватиться.
Дама рухнула безмолвным нетопырем, распластавшись на асфальте, и только после, секунду отлежавшись, огласила пространство криком.
Илья же, скатившись кубарем по ступеням, лежал теперь на спине головой к воротам и смотрел в безжизненное небо Москвы, в котором плыло одинокое облако в форме танка. «Мне все равно теперь», — подумал он, и закрыл глаза.
Непосредственный же виновник, машинист экскаватора, выглянул из кабины, и, вопреки всякому нравственному началу, покрыл музейных служащих матом, будто они, а не он, устроили кавардак. Затем заглушил мотор, хлопнул дверцей кабины и вышел, толкаясь, за территорию. В спину ему шептали: «Убийца».
Никитский, бывший чьим-то племянником и оттого неприкосновенный, продолжал стоять в гордой позе, хлопая коровьими ресницами, и, кажется, был вполне доволен происходящим.
Находясь на Сухаревской в Станции скорой помощи, Илья вдруг истерически рассмеялся и, уже почти отправленный с травмой в одну из клиник, едва не угодил в психиатрическое отделение другой, где сотрясения мозга тоже лечат, но лечат также и еще многое, что кроется в этом загадочном зыбком органе.
После он был доставлен в приемное отделение больницы, где прождал в общей сложности два часа, так что, сам не помня когда, заснул, привалившись к бачку с водой, и видел, вследствие свежей травмы, путанный странный сон — красивую женщину в нищенской комнатушке, рвущую из пламени исписанные листы. Женщина все гасила и гасила ладонями огонь, пожиравший их, а они горели, но, к удивлению сновидца, до конца не сгорали. Длилось это мучительно долго. Ее ладони стали черны, гарь на них мешалась с тягучим пламенем. Женщина рыдала и смеялась одновременно, а он силился подойти к ней, чтобы утешить, увести куда-нибудь от этих дьявольских листов, но не находил сил.
Затем что-то распахнулось сзади него, и он вылетел из комнаты вон в круговерть зимней ночи, пронесся сквозь пустые дворы, мимо спящих в миллионах спален людей, над крышами и под самыми облаками. Снег морочил его, кидал и переворачивал, а затем ударил тяжелой рукавицей, высадив в какую-то иную реальность, в которой яркая лампа слепила ему глаза в ледяном подвале. Там ему совали листок, требуя подписать, а что, он никак не соображал. Били в ребра и по лицу. Куда-то волокли по ступеням.
Затем снова возникла ночь, и летящий снег, и далекий истошный вопль, коловший сердце…
Тут Илья проснулся, потому что трясла его за рукав старая санитарка с добрыми глазами, желавшая провести в палату.
Арестант
М. проснулся от острой боли. Затылок рвался на части, и зубы ломило так, будто кто-то тянул их из десен разом. Он застонал и с трудом повернулся на бок, прижавшись виском к ледяному полу. Перед лицом встала грязно-белая дверь в потеках, огромная, верх которой терялся в дымке. Какая-то его часть сознавала, что он смотрит на обыкновенную дверь, закрытую, в пятнах и заусенцах — другая говорила, что он лежит на мосту перед огромными воротами замка и здесь умрет, так и не дождавшись, что их откроют. Чей был замок, и как он попал туда, он не знал.
Кто-то невидимый закричал над головой: «Встать!». Не понимая, ему ли, но решив, что да, скорее, ему, М. попытался подняться, но тело было слишком тяжелым. Все, что он мог — неподвижно лежать и смотреть на эту проклятую дверь и на грязный пол, уходящий под нее раскрошенной плиткой. Боль притупилась, став чем-то вроде острого блюда, от которого он отказывался. Официант, пожав плечами, ушел.
Из застилавшей взгляд мути выросла гнедая лошадиная морда… ощерилась, поплыла… превратилась в мыс над рекой… вода под ним закрутилась, схлынула, обнажая дно, сам он выгнулся, заструился вверх, соткавшись в женщину громадного роста — нагую, стоящую по щиколотки в песке…
Галлюцинация — как и все вокруг, как голос, требующий чего-то, твердящий о пожаре в товарном складе. Яркий свет, удар, крик. М. мелко отрывисто задышал, стараясь отвлечься от тревожных видений, с благодарностью уходя в песок у ног женщины, которая смотрела на него сверху спокойным взглядом. На миг он почувствовал себя дома.
Неизвестно, сколько времени он был в забытье, а когда снова открыл глаза, его обволакивал холодный бездвижный сумрак — младший брат тени, всегда готовый ей уступить.
М. лежал на животе, касаясь пересохшим языком пола. Левая скула онемела, первым чувством было, что у него отсутствует пол-лица, но его это не задело — все происходило будто далеко и не с ним, даже время текло не сквозь, а мимо него.
Затем вдруг и сразу ворохом закрутились мысли, толкаясь и наскакивая друг на друга. Пронеслись чудовищные картины, которые он не узнавал, не понимая, откуда они пришли.
Последнее, что он помнил — черный провал парадной с лицом по центру, которое крутило вместе со снегом. Затем вспомнил комнату, аварию на проспекте, мужчину с забинтованной рукой, которого несут в грузовик. По белому растекалось алым…
Он бы вновь потерял сознание, если бы где-то рядом не хлопнула громко дверь. Чувства встрепенулись, немедленно сообщив, что, во-первых, его мучает жажда и, во-вторых, он находится не в лучшем гигиеническом состоянии. В ноздри ударил резкий запах мочи.
М. привстал, опираясь на руку. Осмотрелся, обнаружив себя в пустой комнате, единственным предметом в которой была бесформенная куча тряпья: прямо перед ним сидел человек с изуродованным лицом, лоснящимся от засохшей сукровицы. Все это отняло слишком много сил. Он вновь опустился на пол, простонав: «Пить…».
Сидевший у стены дернулся и на четвереньках подполз к нему, заполнив собой обзор, показавшись М. большим как сопка. В памяти мелькнул образ нагой богини, давшей ему укрыться в своих владениях. «Уж не воплотилась ли она в этого бедолагу?».
Незнакомец помог М. сесть, а сам отошел к окну, превратившись в тщедушного человечка, слоями замотанного в тряпье, валившееся с него. Он то и дело его поддергивал, используя одну руку. Вторая с перебитыми пальцами безвольно болталась вдоль его тела.
Скоро у опухших губ М. на грязной узкой ладони появился тающий комок снега, в который он жадно впился. Затем еще. Каждый раз незнакомец отлучался минуты на две, и М. сердился на него в нетерпении, пока не понял, что тот носит снег от оледенелого маленького окна, перекрещенного решеткой, выскребая его словно драгоценное ископаемое со стекол и подоконника.
— Спасибо.
Незнакомец кивнул и снова сел у стены.
— Как вас называть?
Тот лишь покачал головой, слабо улыбнувшись. В улыбке на разбитом лице сквозила отрешенная лучистая доброта, обращенная сразу ко всему — к М., голой запертой комнате, сволочам за ее стенами, изуродовавшим его, а, возможно, и ко всякой твари наземной и водоплавающей.
«Блаженный, что ли? А, может, что подсадной. Хотя, зачем подсадного так избивать? — подумал М.. — Но где я?».
Пересилив дурноту, он проковылял к двери — запертой, с вырванной с корнем ручкой. В оставшейся от нее дыре была видна стена коридора, узкого, в две трети окрашенного в зеленый — больница или тюрьма. Затем перешел к окну, где долго стоял, прислонившись лбом к оледенелой раме. Сквозь подернутое инеем стекло проступал неизвестный двор и низкое соседнее здание. Ветер мотал фонарь. Кто-то выбежал из подъезда, бросившись бегом в арку. Взревел мотор, по стенам мазнули фары. Грузовик с крестом на зеленом кузове пересек двор и скрылся в слепой метели.
Насмотревшись на заснеженный двор, М. повернулся и окинул взглядом свое узилище: выбеленный квадрат десяти шагов; сводчатый потолок; глубокие порожние стеллажи вдоль одной стены, следы от сломанных на другой; кирпичный пол с неровной дырой в углу и затхлый зловонный воздух. Под потолком, несмотря на холод, вились жирные мухи.
Потянувшись к затылку, он нащупал большую мягкую шишку, которая безбожно саднила. На пальцах осталась кровь.
— Суки, — прошипел М., опираясь рукой о полку. Та с грохотом кувыркнулась на пол.
В эту же секунду снаружи, будто кто-то ждал там сигнала, загремел замок и в комнату ввалился похожий на бочонок мужик в бушлате, заорав на М. благим матом настолько громко, что он не разобрал слов. Раздраженный страж попытался ударить пленника, но он сам повалился на пол, не устояв на ватных ногах. «Бочонок» осклабился и плюнул ему в лицо, затем вышел, запер дверь и тяжелыми шагами утопал куда-то влево. Второй узник вытянулся в струну, придерживая здоровой мертвую руку, и, казалось, даже не дышал, бессмысленно глядя перед собой.
По комнате мотался свет фонаря, высвечивая то левую, то правую стену, как бывает в идущем поезде. В здании затихли шаги. М. заснул беспокойным сном, оставшись лежать, где упал.
Среди ночи что-то ледяное коснулось его щеки. Он вскочил, не сразу разобрав, где находится.
— Ш-ш-ш! — резко зашипела фигура, сгорбившаяся над ним, состоящая вся будто из чернильных пятен. — Ш-ш-ш…
Рядом на коленях стоял, глядя на него, тот самый, с мертвой рукой. В темноте читалось его лицо, развернутое к окну, за которым в стены кидалась вьюга. На лице этом далекие, будто с морского дна, горели две тусклых искры.
Убедившись, что М. не намерен шуметь, человек поднялся, снял с себя тряпье и аккуратно сложил у ног, оставшись в грязной набедренной повязке. Лишенный своих одежд, он был неимоверно худ, кожа с гноящимися рубцами висела на спине и груди.
Затем он перекрестился на пустой угол, повернулся к М. и указал пальцем на потолок — туда, где в кладку был вделан железный крюк, тень от которого ходила туда-сюда вслед за фонарем. Встав под ним, он на несколько секунд замер, глядя перед собой, и, дождавшись какого-то внутреннего сигнала, споро размотал обвитую вокруг пояса веревку, на концах которой было заготовлено две петли. Узники кивнули друг другу, став одним разумом в этот миг.
М. помог соседу взобраться на стеллажную полку, которая даже не прогнулась под ним, и держал, пока тот долго одной рукой прилаживал веревку на крюк, а затем отвернулся и ушел к двери, дальше которой было не убежать. Когда все было кончено, он, сам себя удивив, глубоко и мирно заснул, положив под голову оставленное компаньоном наследство.
В следующее утро, часов в одиннадцать, когда солнце выглянуло над крышей и лезло лучами в комнату, дверь открылась.
М., проснувшийся до рассвета, сидел, подобрав колени, глядя в пол в каком-то отупелом безразличии ко всему, и даже не шевельнулся, когда внутрь ввалились двое, явно бывшие с улицы. На плечах и шапках у них серебрился снег. За ними решительно вошел третий в аспидной скрипучей кожанке, кепи и отглаженных галифе. Он производил впечатление занятого спешащего человека, которому к целому вагону забот подкинули еще одно ничтожное дело, отвлекающее его от главного.
М. понял, что сейчас его расстреляют. «К лучшему», — решил он. Но дело оказалось в другом.
Черный крикнул в распахнутую дверь камеры. Его голос оказался тонким как у хориста, не вяжущимся с начальственной осанкой. Внутрь вбежали еще двое; ловко, сразу догадавшись, что от них нужно, сняли висевший труп и выволокли его из камеры. Сам же главный переключился на М., глядя на него как на вещь:
— Обвинения в поджоге с вас сняты, можете одеваться. Товарищ Недородько проводит. Возьмите, — черный кинул на пол бумажку и быстро вышел. На извинения рассчитывать было глупо.
Бумажка оказалась запиской, начертанной крупным неровным почерком: «Дорогой товарищ! Спасибо тебе за помощь! Иди с этим в Лаваль89 к Щеглову (спросишь), он поможет. Мчнс.90 М. Гальперн». «Поможет» было дважды подчеркнуто — видимо, для таинственного Щеглова, чтобы не сплоховал.
Краткое и нечаянное знакомство с могущественным Гальперном, положения которого М. так и не понял, обернулось чудом — службой в Почтамте, с жалованием, пайком и бронью, и еще каким-то жетоном с масонской кельмой, по которому пускали за блокпосты. Недородько — жестокий молчаливый мужик, ждавший восшествия коммунистического царя, — стал его личным телохранителем и навязчивым компаньоном, от которого М. хотел и боялся в то же время избавиться.
Из маргинала, выжившего, как он был убежден, благодаря бюрократической нестыковке, М. вдруг превратился в признанную властью социальную единицу, да еще начальственную, ведавшую доставкой военной почты. Как лицо официальное и полезное, он был квартирован в загогулину на Садовой — в переулок, похожий на свиной горб, недалеко от Юсуповского сада, там, где в треугольном дворе качели и чугунная скамья под каштаном.
Комнату на Невском также никто не тронул, ключи от нее болтались в его кармане. А вот сосед от медицины исчез. В его комнате жил какой-то снабженец с мятым лицом и толстухой-дочерью, которую никто не брал замуж. С той ночи М. его не видел, надеясь, что он бежал за границу — в отличие от клятого артефакта, который ждал его под кроватью и никуда не девался. Учитывая обстоятельства, в которых он был получен, выкинуть его не поднималась рука, хотя М. втайне надеялся, что он как-нибудь сам собой раствориться.
Миновала зима и настал апрель. День выдался суетным и тяжелым, будто всем и враз загорелось порохом что-нибудь отправить, да еще наорать вдобавок. Почтамт буквально завалили работой, так что М. ни на час не мог отлучиться. Привезти немногие вещи с Невского, которые все было недосуг забрать, он отправил шофера — жизнерадостного узбека с дубленой рожей, выговорить имя которого никто не мог, поэтому назвавшемуся «Володей». Тот вышел, довольно щурясь, с бумажкой и ключами в руке, и сгинул до конца дня «по ответственному делу начальства».
Когда уже за полночь М. вернулся на Садовую, то обнаружил там все — свое и чужое, сваленное в общую кучу. Даже кровать и шнурованный баул, похожий на саркофаг, были в его новом жилище. Обматерив заочно «Володю», он плюнул в раздражении и, хоть устал как гончая, с решимостью обреченного принялся разобрать вещи. В конце концов, не его руками тут все это оказалось, да и, может, сгинул прежний хозяин…
М. сдвинул к стене кровать, завалил на нее же стол, а затем, придавив коленом, взрезал шнуры баула, обнажив начинку, — тряпье, дюжину граммофонных валиков, ботильоны и обернутый в скатерть часовой механизм без корпуса. Ниже из-под заскорузлого полотна на него уставился высохший глаз покойника.
Трудно передать гамму чувств, которую испытывает нормальный в сущности человек, делая такую находку — тем более ночью у себя дома, да еще осознав, что месяцы жил в одной комнате с давним трупом. Назовем это чувством ужаса, помноженным на глубокое отвращение. Не откажем и трупу в справедливой претензии: он, в конце концов, когда-то был человеком, вполне возможно, порядочным, и не заслужил такого отношения к себе, основанного лишь на факте своей кончины.
Оставив без решения этот диспут (тут необходимо лучшее, более опытное перо), скажу, что М. — человек нервный и впечатлительный, не чуждый панике — бросился бежать из квартиры и провел бессонный остаток ночи в идущем в Москву вагоне.
В больнице
Всю неделю после памятного падения Илья провел на Яузе в железнодорожной больнице, куда его по особому направлению передали для восполнения здоровья. Варенька приезжала каждый день в разрешенный час, и профсоюзный комитет отсылал к нему депутата с чайной колбасой и конфетами. Илья чувствовал себя немножко героем, ибо нелепость ситуации из памяти скоро улетучилась, а вера в правоту укрепилась.
Варенька была свежа, изящна и немного встревожена. От строгой обстановки больницы, всех этих «Не шуметь», «Служебный вход» и «Приемная» в ее поведении явилась нотка официальности, подобающая храму Асклепия-врачевателя, искусством своим озадачившим суровых богов91. Видно было, что она рада возможности почувствовать себя нужной в особый момент их жизни — трагический в сущности, но не слишком, поскольку травма была пустяшной и в клинику Илью определили скорее из какого-то малоизвестного принципа, чем из необходимости.
«Наверное, — думал он, — мое сидение тут, в этой больнице с ничтожнейшим диагнозом, и эта ее необременительная забота посещать меня с кульком снеди, делает женщину счастливее», — и покорился, наслаждаясь ее вниманием и скромной домашней пищей (готовила Варенька так себе).
Ее визиты оставляли светлое послевкусие. Тем было оно счастливей и ярче, чем четче осознание того, что она, красивая и немного запыхавшаяся, вернется к нему завтра, сменив наряд, также к шестнадцати часам, чтобы исполнить свой краткий ритуал милосердия.
«Почему я никогда не женился? — спрашивал он себя, подразумевая свою жизнь в двухтысячных. — Женщины, что ли, не нашлось? Да нет, были женщины. Та же Тундра… Нет, Тундра за меня не подойдет — этой подавай Хейердала92 или Миклухо-Маклая93, а не арбатского антиквара. Леночка, Пелагея… Полина, например! Вариант. Только курит, но это бы мы исправили. Может, холостяков, по какому-то специальному распорядку разбрасывает во времени, чтобы не пропадали? Как кукушата в чужом гнезде — нечестно, зато работает. А все-таки я счастливый человек, — размышлял он, щурясь на солнце, бьющее сквозь листву. — Как там у Булгакова? Я — красавец. Быть может, неизвестный принц-инкогнито. И что-то еще про бабушку с водолазом…».
Депутат от профсоюза, прикативший на третий день, — немолодой, подернутый паутинкой человек с ввалившимися глазами, в застиранной бесцветной одежде, — встретив Илью во дворе, с тоской смотрел мимо него на больничные корпуса, предвидя, возможно, свою кончину в одном из таких вот, в дурно пахнущей палате с крашеной стеной и окном в газон94. Сунув подмоченный бумажный пакет и пробормотав неразборчиво про здоровье, он, не подав руки, быстро кинулся к выходу — будто не гостинец принес страждущему, а всучил ворованный у соседа будильник.
После его ухода Илью долго не отпускало предчувствие беды и еще чего-то — неясного, прогорклой пленкой оседающего на сердце. Вот бывают такие люди, одного мига с которыми довольно, чтобы ощутить себя хуже некуда! Вроде не сказал ничего, даже не посмотрел в глаза, а придвинулся неслышно тяжелой стороной, и словно отдавил что-то живое в душе, которому теперь с болью расправляться обратно.
После его ухода Илья «забыл» посылку в фойе и единственный раз воспользовался, купив у санитарки полстакана медицинского спирта, который бахнул залпом в пустой желудок. В минуту до изумления захмелел и упал на скамью под тополем на аллее.
Мимо шагали люди, и строгий молодой врач, задержавшись подле, покачал укоризненно головой, но ничего не сказал, а только сверкнул ненужным ему пенсне и удалился, махнув рукой на человеческую природу. Будущему профессору медицины Илья показался очередным работягой, лечившим срамную болезнь в букете с пропитой печенью — распущенным неотесанным мужиком с окраинной станции, от которых клиника старалась потихоньку отбиться, когда возможно (врачу приятен пациент ладный с интеллигентным бритым лицом, а не полуграмотный забулдыга).
«Сам хорош! — вслед ему подумал Илья. — Небось, с хорошенькой сестрой в ночной смене кувыркаешься, огрызок… Режешь направо-налево аппендициты… А у меня весь мир перевернулся вверх дном! Имею полное право уйти в запой. А что не брит? — побреюсь! Потом».
Он живо представил ночь, долгий больничный коридор и запертую дверь в ординаторскую, где на кожаном потертом диване, пахнущем старой ватой… И ему вдруг стало до того завидно, что сердце защемило в тисках, захотелось что-нибудь срочно предпринять, бежать куда-то и кого-то уламывать, хватая за коленки под платьем. Жизнь гусем пролетала мимо!
Но мысль эта долго не задержалась, обнаженная медицинская сестра с неясным лицом и высокой грудью растаяла, сменившись, чтоб его! — тем самым отвратным куполом, из-за которого он попал в конечном счете в больницу. Купол этот, в воображении превзошедший Кремль с его соборами, никак не выходил из головы, нависая кошмарной тенью. Из неведомого угла сознания пришла уверенность в том, что если выпить еще, то мысли сразу придут в порядок. Но силы покинули Илью и второго полстакана не вышло.
Еще ходили туда-сюда какие-то люди, но эти — безразлично и ущерба душевному строю не наносили. Веселый старик с козлиной бородкой в неуставной цветастой пижаме шустро проскакал на костылях, крича что-то необъятной улыбающейся кухарке, тащившей алюминиевую бадью. Илья уставился на него, пытаясь собрать одну фигуру из двух… но не собрал… и зажмурился, погрузившись в богатый внутренний мир, стараясь вообще ни о чем не думать.
Он бы так и сидел на своей скамейке, ожидая взыскания главврача (пациент — тот же казенный пленник), но сосед по палате, инженер путей сообщения Феодор Яковлевич Явлинский, знаток всех отраслей науки, которые та сумела отрастить на своем многотрудном теле, обнаружил и препроводил его на покой. Вечер и следующую за ним ночь Илья не запомнил, возможно (и весьма вероятно), пропустив полезные процедуры.
Вообще же, место ли виновато, или он сам, в больнице с порога его терзали назойливые жуткие сновидения, в которых он никак не мог разобраться — откуда и для каких целей они возникли. Ничего похожего в его жизни не происходило, увидено или прочитано не было. Каждое утро он просыпался совершенно разбитым с одним и тем же тяжелым чувством — случилось страшное и ничего теперь не исправить.
В первом сне он продирался сквозь метель к особняку с мезонином, не чувствуя обмороженных ног, а сзади, где о спину билась винтовка, слышались хлопки выстрелов и какой-то ужасный гул. Дом был близок, в третьем этаже, где, он знал, была спальня, горел тусклый свет, но что-то мешало ему идти, с каждым шагом растягивая пространство. Самым страшным казалось то, что вокруг не было слышно живого голоса — ни крика, ни фырканья лошадей, ни собачьего лая, и сам он не хрипел, задыхаясь, а лязгал испорченным механизмом, готовый рассыпаться под шинелью на шестеренки… О втором сне вообще не станем — он совсем жуткий.
Что за сны, к чему? Илья решил, что, верно, они чужие и пристали к нему тем же мистическим порядком, которым он сам оказался в прошлом. Отбросив их, он шел умываться, плескал в лицо холодной водой, ладонями растирал виски, затем переходил в процедурный, принимал укол в филейное место, и уже со всех сторон обработанный медленно брел в столовую.
В четвертые сутки за полночь, когда затихли даже самые шустрые, лежащие в кожном отделении, устав от духоты и не в силах заснуть на мокрых от пота простынях, Илья поднялся и вышел из палаты.
Оба его компаньона давно уснули — мерзнущий как цуцик Явлинский, зарывшийся в одеяла, и второй, серьезный и степенный Захар, развалившийся в кальсонах под раскрытым окном. Окно это было вечным предметом спора: один норовил его все время закрыть, а другой, вытаращив глаза, увещевал, что в январе или даже в марте — оно ладно, но не летом же, когда и так дышать нечем! Первый на это приводил довод о сквозняках, сгубивших легионы народа, второй ссылался на заметку в «Советском спорте» о пользе закаливания. Этот диалог, знакомый в том или ином виде всем нам, никогда не завершался окончательной победой какой-либо из сторон, так что окно то открывали настежь, то закрывали, то оставляли «самую щелку» (которая или распахивалась сама собою или напротив схлопывалась — правил тому не существовало — тогда все начиналось сызнова). Сам Илья старался в диспуте не участвовать, явив смиренность близкую к беспринципности.
Больничная тишина уныла. И вдвойне уныла она в ночи. Пусты омытые хлором коридоры. Спят туи в кадках. Прогулки, любовь и другие радости уставом запрещены. Из-за крашеных дверей слышатся храп и щелчки кровати под чьим-то тяжелым крупом. Мутный прокисший свет на лестничных переходах. Пустая утроба, ловушка, мрак…
Скажем прямо, с тех пор как Илья провалился в тридцатый год, в его манерах появилась легкая сумасшедшинка. Тот, ветхий Илья никогда бы, например, не решился, накинув оставленный без присмотра лекарский халат, направиться по чужим больничным палатам, да еще ночью — от скуки и невозможности применить себя.
Сам не зная зачем, он первым делом наведался в соседнюю урологию, расположенную там же, этажом выше за стеклянными матовыми вратами, надпись на которых остерегала входить без надобности. Бесшумные двери отворились, и он ступил в чуждое запретное царство, гражданством которого наделялись по наличию специфической болезни.
В урологии Илье не понравилось. В ближайшей к вратам палате, куда он заглянул, отвратительно пахло и на полу у входа валялись неприбранные повязки, о которые визитер запнулся, брезгливо отдернув ногу. Шагнув через гнусный ком, он решил подойти к окну, посмотреть на больничный двор: таков ли вид от соседей как из нашего этажа? Там, у окна, на первой из четырех, поставленных в ряд кроватей, пациент откинул во сне простынь, обнажив щупальца идущих из живота трубок. Все туловище его от груди и ниже было густо перебинтовано и напоминало в лунном свете сегмент гигантской личинки. Илью едва не стошнило, и он живо выбрался из палаты.
Перед ним был широкий больничный коридор, в центре которого на полу лежала желтая призма света из ординаторской. Сознание тут же подсудобило на спор — пройти через это место незамеченным и спуститься по другой лестнице в свое отделение. На вопрос «ЗАЧЕМ?!» Илья бы не смог ответить. Говоря идеями классика, мельницы в тот миг обернулись для него великанами и радостно поманили к битве.
Тихо ступая по линолеуму, он подобрался к самой открытой двери и осторожно заглянул внутрь. Там, согнувшись в три погибели над столом, спиной к входу сидел грузный мужчина в халате, с лысиной, шедшей языком от затылка к шее. Выжившая вдоль просеки опушка торчала щетками над ушами и была почти такой же белой как сам халат. Мужчина неразборчиво бормотал, правое плечо у него подрагивало. Судя по всему, он что-то писал. Под локтями лежали листы бумаги.
— Вы уже или заходите, или возвращайтесь в палату, — строго приказал он, не оборачиваясь. — Что стряслось?
Илья вздрогнул всем телом от неожиданности. Бежать было как-то глупо, совсем по-детски, объясняться — и того хуже. Сцена предстала в совершенно дурацком свете.
— Ну? — потребовал врач, глянув на пришельца через плечо.
Его немолодое лицо, от природы мягкое, сплошь из округлых дуг, выражало крайнее недовольство. Илья вышел на свет из-за косяка.
— Просто так, хожу, извините. Не мог заснуть.
— Барбитурат показан?
— Что? — не понял Илья.
— Снотворные принимаете?
— А… Нет, не нужно, спасибо. Я из другого отделения.
— Из другого? Тогда, конечно, барбитурат на вас не подействует. Что в вашем отделении показано от бессонницы?
— Я из травмы, — сообщил совершенно запутавшийся Илья, не поняв шутки.
— Здесь что делаете? Вы зачем ночью ходите по больнице? Это запрещено.
— Говорю же, не мог заснуть, встал, пошел, — повторил Илья.
— Еще один Моисей… Сейчас же в свою палату и прекратите эти прогулки раз навсегда! Понятно? Сестра выдаст вам. Скажите, Возницын назначил.
— Вы пишите что-то, я заметил?..
— Вы, батенька, не нахальничайте! Это мое дело, что я пишу.
Доктор тут надулся как кот, отодвигая листы рукой. Илья, нащупав зазор в броне, сразу почувствовал себя легче.
— Извините еще раз. Меня зовут Ильей Сергеичем. Работаю я в музее. Производственная травма, так сказать. Сам не ожидал, что музей такое опасное место, — усмехнулся он, касаясь повязки на голове. — Может быть, чаю выпьем? Вам все равно не спать, да и я… А снотворные я не употребляю, химия. С меня конфеты и бутерброд.
Доктор критически осмотрел Илью и медленно встал со стула:
— Иван Ермолаевич. Бутерброд отставьте, а от конфеты я бы не отказался. Ни головки сахару — схрумали в дневную под ноль, — пожаловался он, подавая руку.
Ординаторская была оборудована обстоятельно и надежно, приспособив идею русской избы к миру ночных дежурств, — примусом в две конфорки95, чайником, похожим на молочный бидон, неисчислимыми кружками, диваном, столом с хлебницей, полной разноцветных обрезков, и громоздким рокочущим «Одифреном»96, в котором наряду с лекарствами хранился НЗ спиртного.
— Вы, наверное, меня за сумасшедшего приняли? — спросил Илья, разливая чай.
— С чего бы? У нас другой профиль. Думал, стряслось что-то. Бывает, пациенты вовремя не расскажут, а ночью схватит, что мочи нет, и забегают как мыши на сыроварне… Вы извините, что я на вас накричал.
— Ничего страшного. Это вы извините. Честно говоря, я хотел незаметно проскочить…
— Но решили немного подсмотреть. Вуайеризм97. Нехорошая страсть, молодой человек. По счастью, я не красна девица, смотреть на меня неинтересно. Чтобы расставить все точки, скажу: я переписывал стихи. Сочиняю прилежно по ночам — курить отучил себя, вот пишу, чтобы занять время.
— Интересный повод для поэзии. Прочтете что-нибудь?
— А вы знаток?
— Чего? Поэзии-то? Нет, не знаток. Любитель низшей категории, буду аплодировать любой рифме, хоть «зайчик-пальчик».
— Хм… Я, знаете, всю жизнь в медицине, поэтому не взыщите.
Тут доктор вынул из стопки лист и заунывно, будто поменяв голос, запричитал:
Небо полно костей —
Чудовищных ребер, мысов
Подвздошной, углов локтей.
Есть ли на свете смысл
Любви и других страстей? —
Как встану, терзает мысль. 98
— … ну, и так далее. Как находите?
— Впечатляет.
— Да?
— Весьма образно, даже пугающе. Все равно, что листать анатомический атлас, оформленный Пикассо.
— Вот и славно. Вы, наверное, думаете: о чем еще он мог накропать, этот докторишка, строящий из себя пиита? А мне, знаете, всю жизнь хотелось писать и всегда это выходило урывками. Так что как поэт я не вызрел и не состоялся. Жаль, жаль… Впрочем, меня публиковали в газете! — добавил он с гордостью. — Ну да будет о поэзии, чай остынет. Если только вы что-нибудь в свою очередь?..
Илья на провокацию не поддался:
— Нет уж, увольте. Когда-то в школе учил, но уже ничего не помню.
— А еще работник культуры… — фыркнул врач-провокатор.
Это был удар ниже пояса. Не в силах не ответить на вызов, Илья выдал, стараясь как можно сильней гнусавить:
Нынче ветрено и волны с перехлестом.
Скоро осень, все изменится в округе.
Смена красок этих трогательней, Постум,
чем наряда перемена у подруги. 99
Доктор закивал, поджав губы:
— Восхитительно! Ваши?
— Нет, конечно. Все, что смог вспомнить под давлением обстоятельств. Это Бродский.
— Не слышал о таком.
— Уверен, что нет.
— Из эмигрантов?
— Вроде.
— Ну что же, тогда басня!
— С медицинским уклоном?
— А то! — повеселел Иван Ермолаевич, обнаружив благодарного слушателя, и начал декламировать, размахивая руками (Илья невольно задержался на его пальцах, чистых, коротких и сильных, привычных кромсать тела):
Судьба свела в одном дворе
Слона и мышь. Последняя страдала
Излишком веса и одышкой при ходьбе… 100
У Ильи заломило челюсть. Автор был медиком до мозга костей и тема эта, по-видимому, замыкала на себе все его воображение. Случись ему написать поэму, это будут «Страсти эндокринной системы» или «Ночные думы брыжейки».
После, когда уже выпили чаю и приняли «по чуть-чуть» из тайников «Одифрена», доктор прочел назидательную историю про недосмотр в половой гигиене, оформленную анапестом, и закончил стихотворением «Пишу тебе, тело белое» с ноткой печальной философии. На этом творческая язва была зашита и перевязана, то бишь поставлена точка в разговоре.
Илья, вежливо попрощавшись с доктором, вернулся и, едва заснув, был разбужен обходившей палаты санитаркой, знаменовавшей собой начало нового дня.
В отчаянно жаркий день, когда, вопреки протесту старшей сестры, в каждой палате держали открытыми настежь окна, и даже Феодор Явлинский, панически страшащийся сквозняков, наплевал на принцип и просил не закрывать дверь, в седьмом номере общей хирургии пациенты сидели на кроватях в ожидании приближавшегося обеда.
Все трое были травмированы, но, к счастью, не особенно тяжело, обладая от этого огромным преимуществом пред «лежачими» — гулять по больничной территории, больше напоминавшей парк, и даже за ее пределами, если удавалось сговориться с охранником. Однако гулять в такую жару не хотелось — и вообще не хотелось двигаться. Отправив утренний моцион и переиграв друг друга в шашки бессчетное число раз, обитатели «семерки» коротали время в беседах. Как обычно, ораторствовал инженер Явлинский — время перед обедом обычно отводилась социологии с уклоном в политэкономию:
— Великое благо — целостность государства, — вздевал он к потолку палец для убедительности. — В этом власть, порядок и экономический дисбаланс… то есть, баланс, конечно. Всякий раз, как показывает история, крушение империй сочеталось с их конечной деградацией и распадом, друзья мои! Это, я вам скажу, не случайно! Нет! Вот припомните… — говорил он, щурясь, словно сам был тому свидетелем и там же за кружкой пива встречал своих нынешних собеседников: — Римская Империя времен Максимина Фракийца. А? Помните? Раскол, Гордиан в Африке, в Риме смута… И что в итоге? А в итоге, — сам себе отвечал оратор, — ни-че-го! Варвары, запустение, бардак. Вы согласны? — обращался он к лежащему у окна Захару — дородному машинисту с осложненным переломом голеностопа.
Шея и плечи инженера заключались в гипсовой оболочке, так что, не имея возможности вертеть по сторонам головой, ему приходилось поворачиваться всем телом, как бы некой жабе, худой и в полосатой пижаме.
— Согласен. Бардак он и есть бардак, — отвечал всегда серьезный Захар. — Но, вишь…
— Никаких вишь! Какой из этого всего напрашивается вывод, товарищи? — Явлинский повернулся к Илье; ложе под его задом протяжно скрипнуло. — Нужно всеми силами оберегать эту целостность! Вот что. Остальное возникнет само собой, как росток из семени. Должно быть, конечно, некое право народа на самоопределение, не спорю, но… — тезис прозвучал как-то грустно, будто «самоопределение» это было срамной болезнью. — Главное, разъяснить ему, народу, который в массе своей дремуч, что так, совместно и по одним правилам всем будет лучше жить. Иной раз, может, и подтолкнуть, поднаддать. Если, например…
— А весь мир? — перебил Явлинского машинист, откладывая кроссворд.
— Что — весь мир? — не понял тот, сбитый с толку.
— Весь мир… ну, так можно сделать?
— Вы, Захар, тысячу раз правы! — просветлел Явлинский, готовый, кажется, обнять машиниста, не мешай ему гипсовая кираса. — Конечно, можно! В этом-то вся идея мирового коммунизма. Ми-ро-во-го, — повторил он по слогам, но уже поворачиваться не стал, видимо, утомившись. — В отличие от капитализма. Вы слышали хоть раз про мировой капитализм? Нет. И не услышите! Потому что у капиталистов каждый сам за себя. Капитализм в основании своем содержит зерно распада, и распадется он, поверьте мне, очень и очень скоро. Все говорит об этом, все последние новости.
У не выспавшегося Илья, зараженного цинизмом «нулевых», щемило под ложечкой от этой муры. «Покрутился бы ты на «черкизоне», кухонный романтик, со своими последними новостями, оттопыривая «крыше» по полкуска…». Но Илья благоразумно промолчал и даже кивнул в поддержку, чем весьма ободрил оратора.
— А столица тогда где будет? — терзал инженера Захар — носитель конкретных взглядов на жизнь.
— В Москве, конечно!
— А если они не захотят?
— Кто?! — Явлинский по капле выходил из себя.
— Ну те… что в других странах живут.
— Так страна-то, в том и суть, товарищ Кудрин, будет тогда одна — СССР! Только на весь мир — СССР. Это же ясно, как день! Плохо, что вы не понимаете. Это ставит вас лично в очень невыгодное исторически положение.
Захар задумался, глядя в стену, и Явлинский облегченно вздохнул, весьма довольный собой, как миссионер, убедивший папуаса идти в христианство. Но мысль машиниста, рассудившего в благовременье, приняла неожиданный оборот:
— Это к нам в Москву всякого понаедет? — спросил он серьезным тоном, явно не в восторге от идеи устроить мировую столицу прямо тут — у больничных стен.
— Ну, Захар Петрович… — обескураженный таким выпадом, Явлинский собирал аргументы. — Во-первых… Во-первых, не понаедет, как вы изволили, а прибудут. Послы, представители, атташе разные. Атташе по культуре, например, чем вам не угодили? Они же и сейчас тут со всего мира. Слияние культур! Темный вы, товарищ машинист Кудрин, как мешок с картошкой. Надо расти в понятиях. Вы сами, когда покинете больницу, что собираетесь предпринять?
— Знаю я этих аташей… — пробубнил Захар, выражая недоверие дипломатическим работникам всего мира, имеющее, заметим, под собой основание. — А выпишусь отседова, так женюсь, — сурово ответил он, затем снова ушел в газету, подведя букву в кроссворде так, что пробил бумагу карандашом.
— Вот те на! Мы про мировой коммунизм, а он — женюсь? И какая связь?
— Никакой! Дрыхну да буковьи по клеточкам расставляю, слушаю ликбезы без надобности. А там Наталья на сносях и работа колом стоит. Жесть на сарай привез, лето уходит. Лежу с вашим братом как хряк в канаве!
— Нет, вы послушайте его только?!
Илья, утомленный беспредметным спором, кашлянул, как бы извиняясь перед Явлинским, украдкой подмигнул Кудрину и вышел из палаты, оставив их добиваться истины.
В коридоре остро пахло хлоркой от только что помытого пола. В окна лезло лучами солнце, обжигая вялую зелень в кадках. Санитарки на лестничной площадке громко спорили о брошенных кем-то ведрах — событии, как можно понять, таком же неразрешимом и повторяющемся в их жизни, как спор о благе человечества у философов и доходности шекеля у евреев.
От нечего делать, он спустился в больничный двор и там сидел в полудреме, пока жажда не вынудила его вернуться. Затем претерпел укол, и читал что-то легкомысленное в журнале, дожидаясь Вареньку с морковной котлетой, или что там выпало на сегодня кухонной лотерее.
Ночная встреча
Так, день за днем, минула неделя в больнице. В ранее воскресное утро, когда за окном суетились только дворники да вороны, Илью осмотрели со всех сторон, измерили температуру под мышкой, отказали в регулярной инъекции и отправили домой самоходом, положив неделю на бюллетень. С позиции официальной медицины он был близок к выздоровлению и, если бы не являлся работником труда умственного, основанного на активности мозга, а, например, монтером пути, то вовсе был бы выписан на работу.
Собрав немногое, что имел с собой (как водится, не досчитавшись носков, которые вечно пропадают куда-то, даже если их не использовать), Илья попрощался со словоохотливым инженером, пожал руку серьезному машинисту Кудрину, пожелав ему счастливо жениться и разобраться с сараем (в любой последовательности), и, взяв с завтрака несколько кусков хлеба, отправился к автобусной остановке.
Ехать в жарком пахнущем бензином автобусе, полном случайных людей, ему не хотелось — слишком хороши стояли погоды и ровный свет, льющийся сквозь листву, доставал до сердца.
Он раз и другой пропустил свой номер, а затем встал и пошел по узкой тропинке в гущу Лосиноостровского парка, наслаждаясь напряжением мышц и тягучим, пахнущим смолой воздухом. Часа полтора он шел, то теряя, то вновь находя тропу, боролся с прилипчивой паутиной, спугнул стаю бродячих псов, с лаем сгинувших за деревьями, похвалил себя за находчивость взять в столовой хлеба и обругал за легкомыслие забыть воду. Перекусил, сидя под огромной березой, покормил нахальную белку. Немного подремал там же, почувствовав себя дома в лесной глуши, которая всегда неизменна — и столетие назад и теперь, и после останется той же самой, если какой-нибудь кретин не вырубит ее под коттеджи. Безмолвие дикого парка постепенно передалось ему, растворило его в себе.
В итоге он заблудился. Смотрел на небо, искал у деревьев мох, находя его с самых разных сторон. Выбрался, в конце концов, на дорогу, долго ждал попутку, и уже к вечеру был на Воробьевых горах. Их приметного символа, роскошного здания МГУ, еще не существовало, так что он никак не мог разобраться, в какую сторону ему нужно.
Набравшись смелости, проверив документы в кармане, Илья пристал с расспросами к постовому, охранявшему ряд пустых скамеек под липами. Для солидности отрекомендовался именем-отчеством и музейной должностью. Сознавая, какой имеет из себя вид, он ожидал немедленного ареста и водворения в самый дальний ГУЛАГ Союза, воротами выходящий к Аляске… (Вид, не будем льстить, был действительно не парадный: худой, не бритый, в одежде, перепачканной паутиной, с брезентовым рюкзаком — вылитый бродяга.)
Постовой, однако, никуда его не отправил, оказавшись дружелюбным ростовским парнем, прибывшим в Москву по обмену и готовым поболтать без всякого документа, но при этом в столице совершенно не ориентирующимся:
— Если б вы, дорогой Илья Сергеич, спросили меня как чегой-то найти в Ростове, хоть собачью будку, я б вам махом растолковал! А тут, звиняйте… Вы у жильца какого-нибудь спросите.
Парень растянулся в белозубой улыбке как чеширский кот, обутый по совместительству в сапоги, и пожал плечами. Видно было, что ему хорошо под липами и никаких погонь за бандитами у него в этот вечер не запланировано (в то же время, не исключаем, предусмотрены вальс и барышни).
Плюнув на расспросы, и решив сам как-нибудь разобраться в родном, хотя и помолодевшем, городе, Илья отправился в совершенно другую сторону, и бог весть куда бы зашел в итоге, если бы его уже у Воронцовского парка не спас какой-то старик с авоськой, идущий по своим старорежимным делам. Хотя осведомлен и весьма полезен, он был досадно словоохотлив — Илья едва отвязался от старожила, толковавшего про какие-то общественные купальни, которые сильно упали в классе. Пришлось, чтобы не обидеть, громко с ним согласиться, признать, что купальни нынче не хороши, и буквально опрометью сбежать.
Обретя фарватер, измотанный, но довольный собой, Илья напился в парке из бронзового фонтана, а затем, вконец распоясавшись, умылся там же, отплевываясь и фыркая, чем вызвал немало косых взглядов москвичей и гостей столицы.
«Вы, граждане, вообще, по всем понятиям, давно умерли», — обласкал Илья сторонящихся его прохожих, к счастью, не высказав это вслух. Шедшая с хозяйкой болонка облаяла его, возможно, прочитав мысли.
Затем купил в будке нарзан и большое мороженое на палке. От сладкого захотелось есть, что противоречит теории, привитой в детском саду, но случается сплошь и рядом.
Таким образом освеженный, от голода и усталости ощутивший необыкновенную легкость, он направился в сторону Мясницкой, решив проделать весь путь пешком, установив этим личный туристический рекорд. Еще никогда в жизни ему не выпадало столько проходить в один день — даже во время студенческого подхода на Алтай, на который единожды решившись, он твердо пообещал себе, что больше такого не повторит.
Когда, окрыленный чувством свободы, он шел сквозь лабиринты Хамовников, с запада пеленой натянуло тучи.
Над Москвой распахнула крылья гроза. Небо смешалось с камнем. Дождь гремел о жестянки крыш, слепил окна, рыл мостовые холодной мордой. Казалось, не удержись сейчас на ногах, упади в эту круговерть — и тебя, распластанного, подхватит, протащит вдоль Тверской, ГУМа, по брусчатому спуску, зашвырнет сором в Москву-реку, где ты сгинешь навсегда в небытие, растворишься, вовек исчезнешь…
Никогда еще Илья не видел такой грозы. Минуты не прошло, как он промок до костей, и, плюнув, не пытаясь ничем укрыться, пошел как есть, опустив лицо, петляя в запруженных переулках. Очки пеленой заливала вода, он снял их — картинка, без того мутная, пробитая фонарями, расплылась теперь совершенно. В ботинках отвратно хлюпало, откуда-то в них попал песок, натиравший пальцы. В конце концов, он разулся, путаясь в намокших шнурках, перекинул обувь через плечо, и двинул босиком дальше, плохо разбирая дорогу.
Место было незнакомым, дома похожи на любые старомосковские дома, без примет и без номеров. Наполненные серой водой дворы стали непроглядны, спросить в них кого-нибудь о дороге — нечего было думать.
Как еще недавно в лесу, он решил, что довольно знать направление, а там уж как-нибудь… — и ускорил шаг, сторонясь плывущего с подворотен сора. В потоках крутились щепы, бумага, ветки, всякая дрянь, лежавшая по углам, теперь вдруг вымытая оттуда и пущенная в парадный выход. Попадались гвозди и бутылочные осколки, не раз и не другой Илья наступал на них, дергая ногой как лягушка, растерзанная Гальвани101.
— Туда, вон за те дома! — подбадривал он себя.
Однако теория не сработала, потому что один переулок кругом вывел его обратно, а другой, в который он с досады свернул, натурально загнал в тупик.
Скоро ноги заледенели и плечи, по которым колотил дождь, стали словно чужие. Илью пробивала дрожь.
— Ну, что же ты?.. — спросил он сам не зная кого, который отвечал за путников в этот вечер на Небесах. Но ему никто не ответил. Вероятно, смена уже закончилась.
С трубы, идущей во двор под аркой, освещенной забранной сетью лампой, смотрела нахохлившаяся кошка, черная как маслина. Рядом с ней — того же фасона ворон. Одна страшилась воды снизу, другой — сверху. Поскольку вода была там и там, и потоп разразился совершенный, на считанные минуты они стали товарищами, и сидели вместе, едва не соприкасаясь, на этом подвесном острове.
Илья, подойдя вплотную, посмотрел им по очереди в глаза, как не смотрел, наверное, никогда и никогда больше не посмотрит. Здесь под дождем на мгновение стало три человека, три кошки и три ворона. Но вот случайная связь исчезла, взгляд метнулся дальше…
За углом следующего дома в разрыве стен моталась на ветру зелень, вселяя надежду, что там находится выход из лабиринта. Илья, усталый, замерзший, с изрезанными ступнями, уже готовый проситься хоть в чужой дом, побежал туда, молотя ботинками о колени, и вдруг уперся в калитку, ведущую в квадратный дворик, зажатый между домами. От улицы его отрезала низкая, ждущая починки ограда, за которой было совсем темно от густой листвы, так что Илья не сразу разглядел стоявшего под деревом человека. Он влетел во дворик как в спасительную гавань и почти натолкнулся на него, пытаясь укрыться под той же кроной.
— Из-з-звините… — выдавил Илья сквозь зубы, когда понял, что светлое пятно — не какая-нибудь афишка, прилепленная к стволу, а человеческое лицо.
— Ничего страшного. Здравствуйте, — ответило лицо тоном человека, никуда не спешащего и не о чем особо не беспокоящегося.
Илья впился в него глазами: это был, без сомнения, тот самый гражданин из волгоградского поезда, что дарил коньяк Порухайло.
— А м-мы ведь с в-вами уже встречались… Помните п-поезд на Волгоград? Ж-жуткая п-погода, — поделился впечатлениями Илья, бросая ботинки и рюкзак на траву. — Х-холодно… уж-жас…
— Если так, то… Не подумайте, я не подстораживаю прохожих, чтобы затащить их к себе в подвал и там уже расправиться, завладев ботинками. Впрочем, если в вашем рюкзаке сокровища Запретного Города… Соблазн будет слишком велик.
В предыдущую встречу он оставил самое мрачное впечатление у Ильи, теперь же в голосе незнакомца проскакивали веселые нотки, и вообще он казался вполне довольным, будто никакой круговерти и грохота не было вокруг, а стоял бархатный майский вечер, созданный для неспешного моциона.
— Вы ближе подойдите к стволу, здесь совсем не каплет! — потянул он Илью за насквозь промокший рукав. — Так вот, если желаете, а другого я и представить не могу в такой вечер, то милости прошу обогреться. Вам повезло, я здесь живу, — он неопределенно махнул рукой, так что в означенное «здесь» попали дворик, дом и деревья, а равно видимая часть улицы.
— Н-но…
Незнакомец не позволил Илье ответить:
— Пойдемте, пойдемте, а то простудитесь! Я живу здесь, в подвальном этаже, окна горят. Не под липой же, как вы могли подумать. Просто вышел подышать воздухом. Люблю дождь и люблю грозу!
Они быстро пересекли дворик, причем, как показалось Илье, незнакомец специально задержался, чтобы подставить лицо воде. В просвете между домами полыхнуло.
— Какая! Видели?! Это… — слова заглушил гром — такой, что отдалось в легких. — Давайте, давайте, не стесняйтесь! За мной, мой предвиденный гость!
— Здесь можете умыться, раковина с водой, — гордо объявил хозяин, указывая на эмалированный поддон с медным краном, приделанный к стене в передней.
— Как вас зовут? — спросил он из глубины комнаты, ковыряясь поленом в печке.
— Илья. А вас?
— … — снаружи снова загромыхало. — Ничего себе, разгулялась. Вот это гроза! Это я понимаю, гроза! Свирепая как дракон! Тропический ливень настоящий — большая редкость у нас. И как долго уже идет! — восхищался он, улыбаясь печке.
— Вы б-бывали в тропиках? — автоматически спросил Илья, отирая ноги о лежащую у порога тряпку и разглядывая обстановку подвальчика.
Запах в нем стоял необыкновенный: словно жгли смолу какого-то благовонного растения, и еще — оттенок старой бумаги, какой бывает в библиотеке. В стеллаже, на полках и вообще всюду тут были книги, журнальные развороты, отдельные исписанные листы — арсенал небольшого магазина.
Хозяин, не ответив, подкрутил лампу. Запах благовоний усилился.
— Мой маленький секрет, — ответил он на незаданный вопрос. — Не выношу запаха керосина, поэтому добавляю в него щепотку по собственному рецепту. К сожалению, мое волшебное средство почти иссякло и более достать неоткуда, — вздохнул он, накрывая огонек колбой. — Ну да не о том речь. Вы промокли и замерзли совсем… О, дружище, ноги-то совсем не в порядке! Нужно перевязать, — Илья посмотрел на тряпку — на ней отпечатались пятна крови. — Кто, скажите вы мне на милость, гуляет по городу босиком? Вы же себе все стопы изрезали!
В его руках возник бинтовой рулон и склянка цвета жженого сахара, в которой плескался под горло йод. Этакий доктор Айболит за работой. Дерево, под коим положено принимать корову, волчицу и прочую фауну лесную и одомашненную, прилагается — вот оно, за окном — оставлено по случаю непогоды.
— Не стесняйтесь, я вам помогу как путешественнику в пустыне. Помойте ноги в тазу. Все же, стопа — не ладонь, самому не перевязать толком.
Илья шагнул в поданный ему таз. Хозяин налил туда из кувшина и насыпал из пузырька марганцовки.
— Всех нас, опаленных великой революцией, жизнь научила немного фельдшерить. Садитесь, — хозяин присел на корточки и быстрыми уверенными движениями обработал и забинтовал раны. — Я бы предложил вам переодеться, но, боюсь, немногое из моего гардероба вам подойдет. Берите полотенце и вешайте у печки ваше тряпье! — неожиданно громко скомандовал он. — Огонь! Огонь, что сделал нас людьми! И чайник, что сделал людей философами.
С этими словами он плеснул в закопченный сосуд воды и поставил его на печь.
Через двадцать минут Илья сидел в медленно подсыхающих кальсонах, укрывшись шерстяным одеялом, и с удовольствием пил горячий чай, отдававший какой-то неизвестной травой. Хозяин подвальчика оказался весьма благодушным человеком, хотя и немного странным. Илья старался не обращать внимания на его причуды. Он не умолкал ни на миг, иногда лишь вдруг проваливаясь в какую-то мысль, и тогда неподвижно замирал, а после выкрикивал что-нибудь необычное вроде «Вознесется светило в зенит над градом!», хватаясь за случайный предмет — обычно ему попадались книги. Томик в его руке подымался вверх, разглядывался с явным недоумением, будто в его находке состоял какой-то сюрприз, и оказывался в совершенно другом месте — на обувной полке, например, или на полу.
— Что же, побуду немного дикарем, и отправлюсь в темноту от огня, — улыбаясь, сказал Илья, когда чай был выпит, а гроза ослабла. — Меня дома ждут. Варенька, жена.
Тут хозяин подвальчика вздрогнул, словно имя укололо его.
— Да-да, идите, идите… пора домой… там вас заждались совершенно, и боги знают, что думают… А боги сами знают, что они думают? — вдруг вывернул он произнесенную фразу, притих, но на сей этот раз быстро пришел в себя. — Вот это возьмите, — протянул он Илье какую-то книжку в тусклой обложке. — Прочитаете, вернете. Не торопитесь. Это хорошая книга. Рассказы на каждый день, в некотором роде.
Теперь он не смотрел гостю в глаза, и вообще возникла очень неудобная секунда, будто бы актеры увлеклись и вдруг обнаружили, глянув в зал, что публики больше нет, а они все продолжают играть.
Хозяин явно не дружил с головой, хотя в иные минуты казался почти нормальным и удивительно проницательным человеком.
— Или нет, не спешите… — забрал он книгу обратно. — Кажется, гроза почти выдохлась. Вам не ближний свет еще добираться. Полчаса погоды не сделают.
Илья покорно уселся на табурет. Хозяин был прав: стоило еще подождать — и так уже была ночь, куда спешить? Да и ноги саднило немилосердно.
— Надеюсь, я не очень стесняю?
Хозяин отрицательно помотал головой.
— Раз так, оправдывая общее мнение о гостях, попрошу у вас еще чаю. Он необыкновенно вкусный. Что вы добавляете в него, если не секрет?
— Увы, и это секрет, — улыбнулся тот, снова берясь за чайник. — Давайте о чем-нибудь говорить. Я, знаете, совершенно не могу уснуть, если не лягу до полуночи. Нужно чем-то заполнить голову, потому что дневные мысли уже иссякли, а новые появятся только утром. Ощущать пустоту и сидеть на месте невыносимо. А куда я сейчас пойду? Так что, единственный выход — разговор.
— Готов рассказать вам удивительную историю, произошедшую недавно со мной — как раз про ночные бдения.
И рассказал про ночную вылазку в урологию, врача-поэта, прошелся по товарищам по палате, сварам неуживчивых санитарок… А затем как-то сама собою сложилась повесть про всю проведенную в больнице неделю. Собранная по дням и охваченная единым взглядом, история оказалась неожиданно хороша. Илье даже захотелось ее записать, тем более, что он был уверен: так складно у него уже не получится. Если бы не усталость, он, пожалуй, размотал бы события вплоть до утра, когда все это произошло с ним… Но силы оставили его. Он ополоснул горло чаем, развел руками и замолчал — мол, радиоспектакль окончен.
— Колоритное вам выпало общество, можно считать повезло. Мне вот, как на грех, обычно попадаются весьма унылые персонажи. Хотя я всего два раза попадал в клинику, так что статистики никакой. Что бы мне такого поведать вам quid pro quo102, не хлюпнувшись в грязь лицом?.. — хозяин задумчиво уставился в потолок в птичках растрескавшихся белил.
Илье хотелось расспросить его про ту ночную поездку: зачем он ходил тогда по вагону с книгой и коньяком, отчего был грустен, почему неожиданно сошел с поезда? Но колющая смесь стеснения и уверенности, что ему не понравится ответ, мешали задать вопрос.
Тут он, вспомнив инженера Явлинского, съехал на какую-то вовсе скользкую тему:
— А у вас лично какой взгляд на государственную власть, если позволите? — в глазах Ильи мелькнул дурной огонек. — Не примите меня за подстрекателя… — спохватился он, жалея, что не сдержался. — Впрочем, вообще забудьте. Прошу меня извинить.
— Да нет же, — пожал плечами хозяин, — не смущайтесь вы так. Я вполне готов вам сказать. Хотя, есть, конечно, подвох в таком вопросе, и немалый. Следуя теории Дарвина, с молоком матери мы должны усваивать закон — избегать ответа на ваш вопрос. Не отвечать самому и, за лучшее, не выслушивать от других. Но… поскольку вы более мне знакомы, чем полагаете… извольте.
Хозяин никак не пояснил последнюю странноватую, согласитесь, фразу и подвинул табурет поближе к печи. Илья посчитал ее пустым каламбуром.
— Так вот, — продолжил хозяин, — если история нас чему-то учит, то, в первую голову, тому, что в фундаменте любой власти — ложь. Это ее кровь, ее дыхание. Никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя доверять властителю, ибо нет другого способа управлять народами, кроме лжи. Потому что, если на тысячу высоких чинов приходится один истинный патриот — праведник из Содома, так сказать — то остальные-то кровопийцы пришли к кормушке!
Тут он встал, очевидно, зажегшись темой.
— Нельзя знать правду о правителе, нельзя! Иначе станет противно, иначе люди отвернуться от власти и, подумайте, лишь прибьются к новой — потому что невозможно стаду без пастуха и всегда найдется такой — со звонкой свирелью и крепким жезлом. Правда о власти подставляет систему, а система должна работать. Мысль изреченная есть ложь103. А мысль, изреченная властью, есть ложь вдвойне! Но она при этом есть природная данность — как законы оптики, например. Власть — верхний этаж социальной башни, где ложь становиться самоданной.
— Что же делать по-вашему нам — стаду, как вы сказали? — спросил Илья, зевая вопреки этикету. Мысль на счет стада ему показалась обидной.
— Прекратить быть стадом, что еще? Нет стада — нет пастуха. Знаете, у буддистов как — ужасно умно придумано: причина страданий в нас самих, в нереализованных желаниях, по большому счету. Прекратите свои желания, не алкайте — и прекратятся страдания, иссякнут жажда и ее муки. Просто? Скажите, просто? — Илья кивнул. — Правда всегда проста и не впечатляет. Никакого праздника с ней не сделать. Правда отрезвляет, а хочется захмелеть. Поэтому — принимаем ложь, поэтому — стадо.
Разговор выходил нелепый и неуместный. Хотелось спорить, но Илья не нашелся, что возразить.
— Выходит, мы сами себя бичуем…
— Да-да! Именно!
Оратор прошел по комнате. Тень от него металась туда-сюда как сутулый маятник.
— Наш вождь у нас в голове, наш тиран, наша погибель. И согласие, и народный бунт опираются на ложь так сильно и повсеместно, что демону ничего не остается, как воплотиться. И действительно! Каждый раз он откуда-то берется и готов оправдать свое бытие. Попробуйте, брякните что-то на Красной площади — о царе-батюшке невпопад… Слово и дело104! Встретите утро в казематах. Так всюду и так всегда. Не только в России, надеюсь, вы понимаете? Власть объективно существует и готова всегда вас сцапать, как раскрученное лассо, летящее на быка. Вопрос — кто его крутит? Сама-то веревка ни на кого не бросается.
— Власть давит тех, у кого ее нет, — задумчиво произнес Илья, вспомнив из «Крестного отца». Получилось несколько помпезно, хотя…
— Вот-вот, очень точно подмечено, — согласился хозяин. — В то же время, не буду вас пытать, что вы сами думаете на этот счет. В конце концов, это не такой уж полезный разговор. Хорошие привычки лучше хороших принципов — и тому подобное. Давайте еще по чаю, хочется горячего. Извините, нет больше ничего, хоть шаром кати — неугоден власти, оттого лишен ее благ, и всякий интендант пренебрегает мною, оставляя без фуража и припасов, — он весело рассмеялся, топнув в скомканный половик. — Поленился сходить до лавки на самом деле. Страсть, как не люблю в них соваться.
Налил в стакан, шумно втянул в себя кипяток, и снова зашагал от стены к стене:
— С некоторых пор я многое, знаете, нахожу не таким, как раньше. Кто прав, кто виноват, что грустно и что смешно? Облака, пар! Есть эта печь? Этот табурет? Скажете «да», а я вот не уверен совсем. И не смейте считать меня сумасшедшим! Я нормален! Нормален даже больше, чем нужно! Просто не на все есть слова.
На этом он без объяснений вышел в другую комнату и там неподвижно сел. Видно было только его плечо, освещенное сквозь окно луной.
Илья, обескураженный переменой, сбросил оцепенение и спешно засобирался. Похоже, человек этот был глубоко, по-настоящему сумасшедшим, а не просто экстравагантным. Да и то, подумать: стоит ночью под дождем, несет всякую чушь. А это «вы более мне знакомы, чем полагаете» как вам? Подвальчик сразу стал неуютным, все в нем — каким-то неприбранным и косым. Бежать, бежать отсюда, пока не случилось чего-нибудь — какого-нибудь припадка или еще хуже…
Когда в квартире на Мясницкой хлопнула дверь, и двое уснули в одной постели, М. еще сидел, глядя в пустоту. Глаза его казались черны.
Дамские штучки
Тундра спустилась на эскалаторе в полупустой паркинг огромного московского молла, заполучив желанные очки-полароид с эмблемой в виде золотой взлохмаченной головы. Амазонка амазонкой, но у каждого свои слабости. К тому же, когда шикарное чудо от Версаче продают с такой сумасшедшей скидкой, женщина просто не имеет права пройти мимо! Еще кой-какие мелочи, о которых не рассказывают настоящие леди105, лежали в карминовом пакете с атласной лентой. Отдых — это перемена занятий, так что после нескольких месяцев в пустыне среди камней и верблюдов можно себе позволить прошвырнуться по местам, олицетворяющим западную цивилизацию. А первое из них — магазин дамского белья — показатель градуса общественного сознания.
Белый «Фольксваген Жук» моргнул, признав свою временную хозяйку, и тихо зажужжал двигателем. Когда годами кочуешь по всему миру, нет смысла обзаводиться постоянным жилищем, тем паче, автомобилем. Одна морока со всякими страховками и ТО. Гораздо надежнее — счет в хорошем банке и безлимитная Visa.
Впрочем, с домом еще так-сяк. Иногда Тундра жалела, что у нее нет увитого виноградом коттеджа в Ницце или бунгало на побережье Ямайки — с пирсом и лодкой под белым парусом. Дом, милый дом… У всякой окружности должен быть где-то центр. Говорят, даже у Вселенной есть точка, равноудаленная от других (и что находится она в Суздале на улице Виноградова). Так что иной раз на Тундру накатывало, она со вздохом садилась за ноутбук и присматривала что-нибудь на RealEstate — скромное шале в Австрии, шедшее в полцены, или уютный домик в Нормандии… Но тут звонил (скажем) Андреа, и она спешно ехала (скажем) в Ватикан.
Дом домом, но собственное авто уж точно не для жизни перекати-поле, занятого культурным наследием человечества — пришлось бы иметь их сотню по всему миру. Так что, приезжая куда-нибудь, Тундра брала экипажи напрокат. В Африке — громыхающий пикап с лебедкой и ружьем под панелью, в Баварии — «Мерседес» купе, Москве был назначен «Фольксваген Жук», непременно белый, на фоне которого смуглая леди смотрелась черной жемчужиной на атласе.
Сев за руль, она вспомнила вчерашний вечер и вздохнула, стараясь отделаться от дурного воспоминания. Несмотря на панику, устроенную этим тюленем в джинсах — Калядой или как его там, который, кажется, работал вместе с Ильей (Тундра не вдавалась в дела любовника, избегала его знакомых, к тому же не терпела тучных мужчин — Каляда казался ей грубой ошибкой эволюции), исчезновение домовладельца ее нимало не беспокоило. Жаль, конечно, что Ильи не оказалось на месте — они не виделись с полгода или чуть больше. Наверное, больше даже — в Иран она улетела, еще снег в Москве не лежал… Да, месяцев семь-восемь.
Ну нет, так нет! Скоро все равно уезжать. А, впрочем, жаль…
В известном смысле Илья ее полностью устраивал. Отношения их уже давно перешагнули формальные, затем миновали дружеские, остановившись на эпизодическом любовном добрососедстве. К тому же у них всегда имелись темы для разговора. Начитанный Илья, занятый антиквариатом, нет-нет, да пересекался с какой-нибудь штуковиной, о которой было приятно потрепаться за бокалом вина. Масштаб, конечно, не «Кристис»106, но всякий мудрый человек рано или поздно понимает: радость жизни состоит в мелочах — улыбка, милая безделушка, книга по вкусу, купленная случайно.
Глубокой ночью, в час тайн и досужей жути, она рассказывала ему про страны, где побывала. О результатах раскопок. По самой ей неизвестной причине, он бы единственным мужчиной, которому она доверяла свои надежды и страхи. Он же ей рассказывал про старых арбатских чудаков и новости российской политики — у Ильи это всегда получалось смешно и тонко. Интересно было сравнивать, что об одном и том же говорили «у них» и «здесь». Разница поражала воображение. По всему судя, головы морочили и те, и другие, так что обоих стоило слушать, деля на три. Как во все времена, правда обитала лишь в маленьком мирке на двоих, где кипит чайник и уютно пахнет лосьоном.
Так пару недель в году Илья был для Тундры кем-то вроде милого московского мужа, с которым приятнее находиться вместе, чем порознь, но и последнее — не проблема, потому что ее вечно звала дорога. И вообще, по ее мнению, самое интересное в мироздании уже давно совершилось, теперь старый потертый мир жил лишь бесконечными повторениями, в которых не стоило увязать. Первооснова же всего лежала под равнинами Конго, в горах Ирана и прочих труднодоступных местах, куда ей следует навострить «вагабонды», чтобы от души покопаться в костях земли.
Занятие это, что греха таить, приносило и кое-какие деньги. Главное — правильно все обставить, сойтись с нужными людьми и отваливать процент местным бонзам. Музеи и аукционные дома имеют много дверей, кроме парадной. Особенно в последнее время ее радовали китайцы, готовые перекупать вдвое и втрое против Европы. Даже богатая старушка Америка пасовала перед нуворишами Поднебесной. Австралийское и Кипрское гражданство, пара латвийских банков, фонд, зарегистрированный в Ирландии… Она уже не помнила, когда последний раз платила налоги. Не с научных же грантов, в самом деле! Никому не позволено обирать до нитки женщину-ученую-феминистку со связями!
Часам к пяти, когда Тундра с модной добычей приехала на Мясницкую, в квартире стояла страшная духота. Кондиционер не справлялся с липким горячим воздухом, гоняя его по кругу как болотную жижу. Уж, казалось бы, в какой жаре она только не бывала, но эта, ядовитая городская жара, пахнущая бензином, была совершенно невыносима.
Тундра открыла окна, скинула с себя все до нитки, пронеслась в спальню, и там, красуясь перед зеркалом, нацепила зеркальные очки в массивной цветной оправе. Будь на месте фотограф «Вог»107, Наоми108 бы сгрызла себе все ногти, увидев через месяц обложку.
— Умеют же делать вещи! — возликовала она, рассматривая в зеркало драгоценность. — Я заслужила пиццу и хороший сон. Как же душно, господи…
Помимо древних гробниц и модных аксессуаров, среди маленьких слабостей амазонки была «Капричоза»109 с запредельным количеством сыра и «Сан Марцано», вяленными на солнце. Забравшись в интернет, она долго выбирала доставку, остановившись на какой-то с триколором «ИТАЛИАНО», посетовала, что, конечно, это вам не Флоренция, и пицца будет так себе, а затем крепко выругалась по-русски, когда на сайте всплыло угрюмое: «Ресторан заказы не принимает». Ехать по такой жаре больше никуда не хотелось, даже если придется грызть черствые корки вместо запеченного кругляка с сыром.
В конце концов, заказав суши и бутылку «живого» портера, она, как была голышом, устроилась на диване, щелкнула пару раз управлением и с раздражением вырубила ТВ. Затем пробежала взглядом по Дауни-младшему110, развалившемуся на обложке «Мэнс хилз»111, и воскликнула, обращаясь к рогатой люстре:
— Бред! Оскорбление рассудка! Ci sono in casa del libro112, Илья Сергеевич?
С этими словами Тундра резко встала и направилась в святую святых жилища — кабинет Гринева, заваленный сверх любой возможности альбомами, статуэтками и старыми переводными изданиями. Новые книги Илья покупал редко, редко дочитывал до конца и обыкновенно оставлял где-нибудь в кафе, чтобы не выбрасывать. Зато, смущаясь говорить об этом, с упоением поглощал сентиментальные новеллы девятнадцатого столетья, уместные для употребления под ликер где-нибудь на источниках в Баден-Баден. Это его черта ей ужасно симпатизировала.
На стеллажах, полу, стульях и на столе теснились Остин, Гаскелл, Бронте, Гончаров, Бальзак, Бунин… Нарушая буколические мотивы черной кляксой лежал на подоконнике том «Красного колеса»113, придавленный бронзовой совой. Отдельная полка — «Плоский мир» сэра Пратчетта114 — великое исключение из правил. Илья хохотал как безумный, зачитывая подруге места из «Пирамид»115, упивался «Ведьмами за границей» и пел скабрезную «Песню про ежика» на дурном английском, рискуя разочаровать поколения преподавателей иняза — от Платона до наших дней.
Единственное место на стене, не занятое книжными полками, отводилось лжецу-барометру, показывавшему на «пасмурно», и наборному каменному ландшафтику с апатитовой речкой, скованной мостом, на котором барышня в дивной робе, то ли идущая с берега на берег, то ли пришедшая топиться в мозаичной синеве, томно смотрела в воду.
Тундра неодобрительно глянула на нее, назвав про себя «Анна Каренина, часть вторая», хмыкнула на общий, царящий в комнате беспорядок, и принялась осматривать полки в поисках какого-нибудь чтива. Лучше бы — хороший детектив с психопатом и алкоголиком-полицейским, знатоком древних артефактов, пусть бы даже Дэн Браун с его фантасмагорической чехардой. Но детектива, плохого или хорошего, как на грех, не было, не любил Илья детективы, а «Гордость и предубеждение»116 ни в какую не лезли в голову ни вместе, ни по-отдельности. Образно говоря, читать глянец ей не велела гордость, а плакать над любовным романом — сильнейшее предубеждение на счет любви и всего такого.
Пойдя на серьезный компромисс и остановившись на «Блеске и нищете куртизанок»117, она снова глянула на ландшафтик — и в ужасе отпрянула от него, уронив тяжелую книгу: вместо барышни с неопределенными намерениями на реке стояла лодочка с плотоядно ухмыляющемся рубакой в рыжей янтарной шляпе. Из воды на нахала смотрел серебристый карп, безнадежно застрявший поперек речки.
Пережив недолгий шок от увиденного, и решив вслед за Скарлетт О’Хара118 подумать об этом завтра, Тундра пошла на кухню, чтобы привести чувства в порядок за чашкой чая, но очень скоро вернулась в захламленный кабинет, чтобы, к хренам собачьим, разъяснить эту ерунду!
Ум ее был устроен тем негуманным способом, который ни в какую не дает затушевать очевидность. Большинство граждан (а также собаки) счастливо наделены этим даром и умело игнорируют то, что просто не хотят видеть. Особенно хорошо, когда «правильный» ответ диктуют с телеэкрана опрятные люди с умными глазами и уверенным голосом.
Возможно, впрочем, что истоки сего недуга благородны и в процессе эволюции от ящерицы к примату выработался некий защитный механизм, позволяющий не отвлекаться на лишнее: куница, озабоченная природой вещей, в лучшем случае останется без еды, а в худшем — сама станет чьим-нибудь завтраком.
— Галлюцинация? Или портрет Дориана Грея119? Хренова механика, мать ее, вот это что! — громко сказала Тундра, войдя в комнату, и решительно потянулась к ландшафтику, срывая его с гвоздя.
На стол полетели цветные камешки, плохо державшиеся в мозаике — за древностию лет к свободной жизни их тянуло безоглядно. Лодка, карп и малахитовая полянка стали безнадежно испорчены. Только парень в шпатовой телогрейке стоял как новый, хотя и ногой в реке, попирая водную гладь веслом. На стене осталось квадратное темное пятно, какое остается от рам, годы висевших на одном месте. Оттуда на распахнувшийся ему мир смотрел неприятно удивленный паук.
Продолжив каменный дождь, Тундра придирчиво осмотрела ландшафтик со всех сторон. Покрытая мастикой доска, на которую ровесник Станиславского и Немировича-Данченко с безликими инициалами «К.В.С.» когда-то посадил каменную крошку, сидя в избе над изгибом Исети, не имела скрытого механизма — честный кусок березы, побывавший в умелых руках. Тусклый дешевый материал. Археолог, она хорошо представляла себе, как он будет выглядеть лет этак через шестьсот. Такого добра, расписанного охрой, гуашами и эмалью, было полно во всяких местах. Иной раз за них случалось выручить недурные деньги. Эта же поделка не стоила ломаного гроша.
Осмотрев, она вернула на стену образчик прикладного искусства, сдула цветную крошку со стола и вернулась на кухню, где, следуя испорченной ученостями природе, достала блокнот и начертила на листе таблицу с графами: «дата», «время», «результат наблюдений». «А» — девушка, «Б» — рыбак, «В» — другое. Чем могло явиться это «другое», она решительно не знала, но всякое бывает в эксперименте. В общем и целом, чудо с ландшафтиком-перевертышем не на ту напало!
Однако, уже заварив в чашке щепоть что-то, добытого в жестяной коробке (той субстанции, которую Илья отчего-то называл чаем), Тундра поняла, что не желает провести вечер в одиночестве. Эта мысль ее не часто посещала, но такое все же случалось. Требовалось немедленно поболтать с кем-нибудь — о чем угодно, хоть о мясных консервах, только не оставаться здесь.
Лучшим собеседником она всегда считала себя саму, второе место занимал Оджас Пиллай — индус, родившийся в богемном семействе семье в Лондоне, изучавший брахманизм, кальянные смеси и живший отчего-то в Рейкьявике (возможно, все это как-то связано). Третье, не по качеству, а вообще — отводилось Илье. Про четвертое она предпочитала молчать. А пятое, так и быть, отдавала своей московской подруге Лоре, жившей в хоромах на Пречистенке. Какой-то из ее бывших, число которых Тундра все время путала (как, возможно, и сама Лора), оставил ей квартиру в целый этаж в старом московском особняке с собственной, переделанной в висячий сад крышей.
В понимании Тундры, такое колдовство как возможность валяться в шезлонге посреди города с ледяным коктейлем, да еще под гроздьями винограда — единственная причина, оправдывавшая саму идею замужества. И никаких Карлсонов120 с их нытьем, вареньем и приставаниями!
«Неплохо, впрочем, чтобы кто-нибудь и поприставал… — мелькнуло у нее в голове. — Эх! Где все-таки этот невозможный Гринев? Уж не поревновать ли мне его для разнообразия?».
Она брезгливо отодвинула чашку, в которой вяло кружили частички праха, именовавшегося «Чай юбилейный», и потянулась к мобильнику.
Через час подруги сидели рядом в огромном кресле-качалке на крыше особняка, мощеной восточной плиткой, уставленной кадками с деревцами и какой-то лохматой зеленью, захватившей большую часть пространства. Уличный шум, витавший за высокой оградой, почти не достигал их, и влажный синтетический бриз гнал с крыши московский зной. Трудно было поверить, что это место — часть суетливого мегаполиса, а не задний двор в испанской деревне. «Мои джунгли» называла это место хозяйка.
Перед креслом стоял низкий стеклянный стол с чайником в форме заглотившего мяч дракона, лесом цветных бутылок, бокалов и прочего барного антуража, который выставляют в основном для эстетики, а не для употребления. Вогнутый «Самсунг» на треноге являл миру беззвучную суету на корте: тощий ушастый серб громил очередного соперника, размахивая ракеткой как полотенцем.
Внешне Лора была полной противоположностью своей подруги: фарфоровое лицо, рыжие кудри в пояс, голубые глаза, смешок на пухлых губах — ирландская мечта в маечке от «Диор», о которую обожглось немало мужчин — жертв первобытного инстинкта. В то же время, для Барби ей явно не хватало покладистости и вообще — красотка была себе на уме, ругалась словно корсар и, совсем уже в пику образу, закончила «Крауса»121 по паталогической анатомии. Девушки по определению должны бояться покойников и мышей. Те и другие немало претерпели от Лоры, вооруженной секционным ножом, не знакомой с этим железным правилом.
В довершение образа у ног рыжей ведьмы храпел огромный палевый пес, звавшийся Бадаем, брат которого не пожелал подниматься с дивана в холле.
Подслушать разговор двух эффектных дам — непреодолимый соблазн, и мы последуем этому соблазну, еще раз подивившись, какие странные темы могут волновать женщин…
— Не представляешь — иногда мне так страшно, что я буквально превращаюсь в ледышку, боюсь думать, пошевелиться, даже смотреть боюсь, и мечтаю лишь об одном: чтобы все вокруг было ненастоящим. Смешно, — Лора повертела в пальцах бокал. — Или не смешно…
Это «не» выходило у нее каждый раз как удар молоточком по стеклу.
— Интересная философская идея. Богословская даже. Представь, что ты бог. Ну или Бог — с большой буквы. В чем разница я не знаю, потому что ни с кем таким не знакома, а когда спрашиваешь что-нибудь, глядя в небо, никто обычно не отвечает.
— А не-обычно? — Лора прекратила вертеть бокал и, наморщив нос, посмотрела вверх.
В облаке, словно давая понять, что она услышана, нечто сверкнуло красным. Затем еще и еще раз. Через секунду из серой летучей ваты выбрался невидимый с земли самолет. Знамения таким образом не случилось.
— А не-обычно — соседи сверху, если спрашивать слишком громко. Так вот, если бы ты могла быть всем-всем-всем — и при этом ничего как бы нет. Нет Земли, людей, никого. Только ты сама, то есть бог с любой буквы. Без бороды в твоем случае… И вот тебе нужно сделать выбор: чтобы все осталось как есть, или вдруг появился мир — такая здоровенная штука, которая может больно упасть на ногу. Ты бы что выбрала?
— Я бы выбрала мир, потому что вечно болтать с самой собой — скука смертная. Хотя сейчас, слушая тебя, начинаю серьезно сомневаться.
Лора шутливо толкнула подругу локтем.
— Давай еще чайничек? Я схожу.
— И ликер. Обожаю сливочный ликер!
— Фе!
— Сама ты фе… Давай быстрее, а то кто-нибудь придумает мир, в котором не существуют кресла-качалки.
Через десять минут Лора вернулась с чайником и тарелкой в сопровождении второго пса, таки соблаговолившего присоединиться к обществу за кусок сыра.
— Так! А где ликер?
— Пей что есть. И вообще, завязывай, а то снова заснешь в кресле, и я буду чувствовать себя телохранительницей в гареме. На вот, — она уселась и протянула подруге глубокую тарелку, наполненную каким-то шоколадно-фруктовым крошевом. — Специально для тебя: попадаются археологические находки, так что береги зубы. Кажется, эта штука с изюмом — ровесница моей бабушки. Косточки выбрасывай на газон, птички съедят.
— Ну, хоть «Мартини» -то налей на донышко? Я и так уже засыпаю. Хорошо тут.
На экране выигравший матч серб кланялся сторонам света, публика вставала, прикрываясь зонтами. Очередной раз крупно показали его кроссовки — продажи «Адидас» выросли на два пункта.
— Господи! Сколько они платят за продакт-плейсмент! Почему никто не хочет показать на весь мир вот это? — Лора выставила полосатые льняные носки, заменявшие ей тапки. — Я проголодалась.
— Это всегда происходит после шести. Особенно, когда сидишь на диете.
— Ага… Пойду, пошарю в холодильнике. Тебе закинуть чего-нибудь?
— Не, моя совесть и так не чиста после пирожных.
— Ладно, держись тут. И не вздумай сожрать моих собак, дикарка. Чад, умница, пойдем со мной, а то она тебя съест.
Центнер благородного пса двинул вслед за хозяйкой, рассчитывая на долю в вечерней трапезе. Второй, именуемый Бадаем, остался лежать, не обращая внимания на возню. Возможно, идею вселенского равновесия изобрели именно собаки — сытые и большие, что могли обитать во дворце юного Гаутамы…
Тундра, забравшись с ногами в кресло, зарылась в подушки и щелкнула кнопкой на подлокотнике. Огромное, словно люлька для сумоистов, оно принялось раскачиваться, убаюкивая свою невесомую пассажирку.
Этажом ниже Лора, чувствуя укол совести, самозабвенно возилась с крекерами и банкой оливок, никак не желавшей открываться. Когда наконец та была повержена, над головой раздался жуткий собачий вой — такой, что волосы встали дыбом, наплевав на дорогую укладку. Он продлился секунду-две и прервался мгновенно, будто кто-то отключил звук. Особняк словно передернуло, свет моргнул, картинка перед глазами раздвоилась, и сознание качнулось куда-то, мягко стукнувшись обо что-то.
Когда Лора пришла в себя, огромный Чад метался, наскакивая на мебель, и скулил как испуганный щенок. Опрокинув банку, она опрометью бросилась наверх.
Инфлюэнца
Сквозь не очень чистое окно, которому досталось от ночной бури, просвечивали мокрые стены и деревья. Дождь еще сочился из небесной кисеи, черня асфальтовые бугры — острова над гладью широких луж, заливающих улицы и дворы. Но то были лишь вялые остатки хлябей, разверзшихся над городом до рассвета. О том, что творилось ночью, можно было судить по устилавшим тротуары обломкам веток, мусору и сорванным кускам жести. Если бы вы были дождевым червем или медведкой, то наверняка решили бы, что таки грянул Апокалипсис — да так скоро, что даже Всадников122 не успели предупредить.
Дворник Азиз выбрался из подвала по темной лестнице, подобно Гераклу, взошедшему из Аида, и уткнулся в подступившую к порогу пучину, в которой плавал размокший газетный лист, и еще много чего такого, к чему не хотелось прикасаться — ни из любопытства, ни по долгу дворницкой службы. Почесав щетину на брылах, он вздохнул, пробурчал что-то по-татарски и, видимо для приличия, выудил газету метлой, прибив ее со шлепком к стене. Портрет министра, пожимающего руку иностранному гостю, косо повис на кирпичной кладке. Нечего было думать — прибирать двор теперь, когда в нем по щиколотку стояла вода. Буря наделала дел. К вечеру или завтра, когда, вестимо, иссохнет эта запруда, работы будет на четверых, а теперь…
Азиз постоял на крыльце еще, поглядел на одуревших от потопа котов, сидящих вдоль заплесневелых карнизов, зевнул, спрятал метлу за дверь и удалился в свое жилище — досыпать. Этот удивительный человек многое унаследовал от ящеров и мог, не терзаясь скукой, сутками лежать на тахте под гнилым тулупом в блаженной дреме — лишь бы было тепло и тихо. Водки Азиз не пил, журналов не читал, а радио считал бесовским соблазном, так что не всякому можно объяснить, чем была занята его голова в эти часы. Возможно, он медитировал или размышлял о вселенной… — нам это неизвестно. Но вряд ли.
В то утро Илья вывалился из сна словно моллюск, вдруг лишенный раковины, очнувшийся вдруг на блюде в соседстве с вилкой и четвертью лимона; огромное облачное лицо над ним, отирающее губы от «Кьянти», не сулило уютного рандеву123.
Вселенная, определенно, не была к нему дружественна сегодня124. Мокрые простыни неприятно липли к спине, одеяло давило грудь, мешая дышать, ноги ныли, и взгляд куда-то вело, вело… Перед слезящимися глазами плясали менуэт мушки, похотливо наскакивая друг на друга. К этому слышалось громкое назойливое жужжание, источник которого (Илья не сразу определил) находился в комнате, а не в его голове: стеклянную витрину буфета обшаривал огромный в полпальца шершень, дергая с мезозоя натянутые в мозгу струнки — страха быть ужаленным мерзкой тварью. Приподнявшись на подушке и вздев очки, Илья опасливо следил за ним с полминуты, пока незваный гость, подчиняясь внутреннему наитию, не спикировал, скрывшись из виду, вниз, а затем вдруг выскочил из-под тумбы, пролетев над самым лицом страдальца.
— Ай! — отпрянул тот, ударившись затылком о решетку ложа — шишковатую и массивную, снятую, похоже, с какого-то военного укрепления.
Справа от него Варенька сквозь сон пробормотала что-то дурное на счет болванов, шляющихся по ночам и утром не дающих покоя. Атакованный шершнем и супругой одновременно, Илья недовольно наморщил лоб, но возражать ничего не стал, зябко передернув плечами.
Он, безусловно, заболел. И произошло это только что, сразу после скитаний под дождем по ночной Москве, будь неладен вчерашний муторный день и все, что за ним последовало! Вернулся из больницы, называется — хоть просись обратно! Ему вспомнилось, впрочем, что еще позавчера в горле катался какой-то колючий ком, который невозможно сглотнуть, хотелось лежать и баюкать себя в тепле — до ощущения сонного небытия, в которое проваливаешься от высокой температуры. Нужно было сразу просить у дежурной аспирин, капли и полоскание, а уже вчера — точно не делать пеших рекордов.
Он сглотнул и поморщился от боли и тесноты в опухшей гортани. В голове бесформенной кучей лежали воспоминания о ночной встрече и разговоре. Разбирать их не было ни сил, ни желания.
— Я, кажется, подхватил какую-то дрянь в больнице, — хрипло сказал Илья проснувшейся от возни жене. — Грипп, наверное.
— Ой… — ответила она, повернулась на бок и снова утонула в подушках.
Похоже, весть не произвела на Вареньку должного впечатления. Илье стало обидно: как так, внезапная острая болезнь и пренеприятнейший диагноз, выданный самому себе, не только не оценены по достоинству, а вовсе оставлены без внимания? Он попробовал гордиться ими в одиночку, представляя себя кем-то вроде Леонида Рогозова125, совершившего медицинский подвиг, но чувство гордости не окрепло, улетучившись белым газом, а детская обида налилась как перезрелая слива и повисла над самым лбом, отчего-то мертвенно-холодным, какой редко бывает у больных инфлюэнцей, разве, когда совсем доходят.
— Я тут всех могу заразить… — попытался он еще раз, укрывшись одеялом до глаз. — Грипп опасен осложнениями и всякое может быть — от импотенции до туберкулеза суставов, — читал он с потолка, сверкая в него очками. — Кстати, вирусы, в отличие от бактерий, антибиотиками не лечатся… Одна надежда — на иммунитет больного, — поднажал Илья, выскребая из памяти обрывки недостоверных знаний.
Что бы еще ввернуть на предмет болезней и вообще — медицины?.. Пред мысленным взором мелькнула сценка «Поющих яичек» в программе Елены Малышевой. Если бы сам не видел — не поверил бы, что такое вообще возможно. Илья тряхнул головой, дабы извести наваждение. Веселые «яички» пропали, оборвав строфу про тестостерон — шедевр новой России.
Ну, лечатся вирусы или маются всю жизнь без терапии, мы тоже не знаем точно. Лишь два года минуло с того дня, как Александр Флеминг126, вернувшись помятый с дачи, обнаружил бесценную находку в оставленной на столе чашке Петри, так что загадочное слово «антибиотик» прошло даром, как и подельник его «иммунитет» — Варенька их не знала. Равно не возымел действия страдальческий тон, которым все было сказано. Не смотрела Варенька программы «Здоровье», не пила от кубка самопознания.
— Тебе чаю сделать? — сонно спросила она Илью, упорно отказываясь ужасаться грядущей пандемии.
— Да, неплохо бы… Сладкий, горячий и покрепче.
— Ладно… Пиши заявку. Выдача в конторе по четвергам, — ответила, зевая, супруга. — О!..— застонала она, глядя на циферблат. — Кошмар какой!.. Что стряслось? Заболел, что ли?
— Не важно!
Илье вдруг расхотелось болеть — при таком отношении к себе, и он встал на ватные ноги, чтоб вперед соседей забраться в ванную. В этот раз ему это удалось — та была пуста и таинственна как подвалы замка. Обычно в забеге лидировал Матиас Ярвинен, но тут он отчего-то замешкал и высунулся за дверь, когда соперник уже звякнул внутри крючком и как раз обнаружил, что не взял с собой полотенца. Возвращаться означало сдать цитадель врагу. Илья окинул ванную взглядом в поисках какой-нибудь тряпки, однако ничего подходящего не нашел. Не вытираться же половой, в самом деле! Придется как-нибудь обсыхать…
В топке титана слабо алели угли, и нагревшаяся за ночь вода была чудо как хороша. Уютно несло дымком, даже запах опрелых стен не колол в носу. Со временем он полюбил этот запах дыма в сочетании с горячей водой и одиночеством, которое так начинаешь ценить, когда живешь в коммуналке. Часто, стоя в щербатой ванне, он медленно тянул воздух, представляя себя далеко-далеко отсюда — где-нибудь в шале на заснеженной сопке, поросшей елью… Лучше, в горах Швейцарии — непатриотично, но хотелось именно этого, ничего не попишешь.
Сложив одежду на табурет, он подбросил еще совок из ведра с углем, помахал им в топку и забрался в ванну, вооружившись душевой лейкой. Судя по раздраженному говору за дверью там уже стояло не менее двух персон, ожидавших своей очереди на водные процедуры.
«Минут через пять начнут долбиться, — раздраженно подумал Илья, представляя лица соседей. — Пусть. Это вообще моя квартира, а вас не существует в исторической перспективе, — заключил купальщик, закрыв глаза, щедро поливая кипятком ноги».
Не прошло и минуты, как в дверь нетерпеливо постучали.
— Да?.. — мученически откликнулся Илья, демонстративно покашляв.
— Илья Сергеич! Ты скоро?! Всем надо!
«Изведу горячую воду — тогда выйду, — заключил он про себя, нехорошо улыбаясь. — Разорались…».
Этим именно, общим в жилтовариществе настроем объяснялось стремление раньше остальных получить доступ к животворному гейзеру, бившему скупо и не подолгу. Если второй в очереди еще имел шанс нормально помыться, третий был вынужден плюхаться в чуть теплой воде, четвертый же — в коледезьно-ледяной, что утром буквально невыносимо.
Илья густо намылил голову.
Тут же погасла лампочка — рачительная Быстрова подняла рубильник в передней, напрочь обесточив квартиру. Она частенько устраивала такой фокус «из экономии» и не сразу со скандалом сдавалась, когда кто-то порывался его исправить. Санкции одним словом… В сложившихся обстоятельствах это был явный сигнал Илье, который сразу понял, кто был тем компаньоном, что стоял с Матиасом за дверью. Отчего-то ему стало жаль финна: мадам Быстрова в непосредственной близости была опасна даже союзникам.
Требовать возвращения второй составляющей коммунизма — электричества127, закрывшись в ванной, было бесполезно — для этого нужен был очный непростой разговор с ретивой властительницей рубильника. Пришлось довольствоваться темной советской властью.
— Да сейчас я! Сейчас. Ох, как вы мне…
Сквозь узкое окошко с рябым стеклом глядело серое утро, втоптанное в гулкий московский дворик. С ревом в него вкатился грузовик; мерзавец, сидевший в нем, начал сигналить так, что у Ильи свело зубы. На паршивца немедленно заорали из многих окон. Завязалась красноречивая перепалка, к счастью, быстро выдохшаяся. Грузовик погудел еще на прощание, взревел и убрался прочь.
— Идиот.
Илья снова закрыл глаза. «Я в реке. Пусть река сама несет меня128…» — решил он, как мог глубоко вздохнул и…
— Сергеич! Выходи, ты там че, окопался, что ли?! — взревел Быстров, присоединившийся к очереди в прихожей.
В эту секунду Илья ненавидел человечество.
Вскоре соседи, малолетние и солидные, растворились, и Варенька ушла на работу, чмокнув Илью в висок. Начался его бюллетень. Калям, шаром надувшись у косяка, не давал о себе знать и вроде бы даже умер, но при этом внимательно следил одним глазом, храня спокойствие на расцарапанной морде. Какие-то темные делишки творились в последнее время в кошачьем обществе — то и дело общий квартирный питомец возвращался с ночных вояжей с каким-нибудь боевым уроном. Давеча сообща на кухне мазали ему ранения йодом, скотина-кот извивался, но не царапал, чуя руку кормящего, и вот, на тебе — снова нос в кровавой коросте.
Напившись чаю до изумления, належавшись, находившись по коридору, Илья совершенно раскис к полудню, не зная, как себя применить, маясь от слабости и ежа в горле. Еж ворочался, царапал воспалившуюся гортань, лез куда-то ниже. Илья топил его соленой водой, но тот не прекращал наседать. Ко всему, было невыносимо сидеть без дела в четырех стенах, слушая гудение труб и жалобный скрип полов. Радио несло какую-то чушь, телевизор отсутствовал как идея, эпоха интернета — великого всепоглощающего болота — даже не брезжила…
Илья подумал о том, как проводили время в Средневековье, и пришел к выводу, что кроме алкоголя и войн мало что оставалось, если, конечно, не горбатиться сутки напролет, зарабатывая себе на хлеб. Женщины еще… Но тут существуют определенные природой лимиты — занять ими все время категорически невозможно. (Добавим: оно и к лучшему.)
Депортировав за окно снова объявившегося шершня, он какое-то время возился с оторванной створкой шкафа, которую приделал кое-как, отменно изодрав полировку. Труд сей радости не принес ни ему, ни шкафу. Руки потели, глаза слезились, инструмент соскакивал постоянно, и прессованная стружка крошилась, отдавая запахом канифоли. Илья без иллюзий считал себя «рукожопом», М. ить умел лишь подозрительного вида скворечники, в которых никогда не селились птицы.
— Хорошо, я не часовщик, — резонно заметил он себе, оттопырив веко перед зеркалом. — Глаза красные… язык… обложен. Хрен его знает, отлежаться надо. Грипп… грипп. Почему он с двумя пэ, кстати? И почему с пэ вообще — логичнее было б с бэ… Конская доза витамина С, теплое питье, покой, оптимизм, сон…
Затем он снова заперся в ванной. Хоботил носом ромашковый отвар, фыркал, полоскал солью горло, сидел на перевернутом тазу, глядя как в разломах плитки шныряют овальные мокрицы, занятые своим делом.
«Что им за счастье? — размышлял про себя Илья. — Живут в грязи, и едят грязь. Пол скользкий и в пятнах весь, а они на нем босиком… Впрочем, и я на нем — только в тапках да таз под задом. Штаны да тапки — вот и вся разница в нас с тобою, друже сороколапое! По паспорту ты — дрянь бесштанная, а я — одетая, за что плачу подоходный налог и в профсоюз от оклада».
Комната, кухня, балкон, передняя — все наводило на него тоску, и рука уже тянулась за папиросой, но Илья отдернул ее: все же такой отравы он не позволит! Лучше стакан водки, чем закурить. Но водки ему отчего-то не хотелось. Достав Варину праздничную заначку из их шкафчика в общей кухне, он повертел в руке поллитровку, посмотрел сквозь нее на свет, открыл, отхлебнул чуть-чуть и вернул обратно, спрятав за кулек с пшенкой. Вернулся в ванную, помыл руки сто первый раз, и снова уселся на тазу, разглядывая похожие на карту пятна облупившейся краски.
Книга, нужна хорошая книга, вот что!
С этой идеей он резко встал, щелкнул коленями и потрусил в комнату. По дороге запнулся о часового-Каляма, выдавшего обиженный мявк, и выбрал наугад с полки, оставшейся, видимо, от его предшественника — пожелтевший томик с разоренной обложкой — «Гектор, моя собака» Эгертона Йонга129:
«Предлагая свое жизнеописание, Гектор покорно просит только об одном. Пусть тот, кто удостоит прочесть его правдивую повесть, постарается быть терпеливее и ласковее с своей собакой и пусть относится внимательнее к ее природе и свойствам…».
Пусть! Пусть все будут ласковы к собакам, ибо ведомо лишь богам, как им достается за близость и преданность человеку. Илья согласно кивнул, но читать не стал и потянулся за другой, оказавшейся «Богемой» Анри Мюрже130:
«Однажды утром (это было 8 апреля) Александр Шонар, посвятивший себя двум свободным искусствам — живописи и музыке, — был внезапно разбужен боем курантов, мелодию которых исполнял соседский петух, заменявший ему часы…».
И он, и он, живший век назад, писал про дурное утро! Изменилось что-нибудь в человеческой природе за эти годы? Нет! Сам он, Илья Гринев — явное тому подтверждение.
Обе книжки его не заинтересовали. Кажется, все, что могли сказать ему литераторы, он сам мог прекрасно рассказать им — про утро, про собаку и вообще.
— При таких раскладах, самому чего-нибудь нацарапать? — спросил он у Каляма. Кот согласно зажмурился.
Размяв деловито пальцы, Илья выудил в камоде тетрадь, вполовину свободную от Варенькиных рецептов, чертежный отточенный карандаш, снял с полки и устроил на коленях иллюстрированный том «Парусных судов» — широкий как детский стол, и принялся выводить с первой проскочившей в голове строчки:
«Кто-то скажет, мол, чудеса не случаются, ну а я скажу…».
Барон Клювин
«Кто-то скажет, мол, чудеса не случаются, ну а я скажу…
Однажды в ничем не примечательный вечер в крашенную зеленым, войлоком обитую дверь комнаты в Рюмином переулке постучался горбатый почтальон, и, убедившись, что живет за ней действительно некто Клювин, выпростал из котомки сложенный вдвое лист, оказавшийся небывалой по длине телеграммой.
Домочадцы удивленно переглянулись. Теща Клювина, бывшая артистка Зернова, сочинила возглас и, схватив ладонями щеки (немалые и немало на веку повидавшие), огорошила зятя, читавшего в газетной бумаге:
— Ах! Точно Митенька нам из Житомира написал!
— С чего вы взяли, мамаша? — сухо ответил Клювин и, дважды перечитав, не сразу обратился жене. — Ошибка какая-то, Александра…
Супругу он всегда называл официально, хотя было в ней метр с наперстком росту и сама, подвижная как ртуть пышка, она вечно называла его Кирюхой. Не знаем, было ли известно работнице общепита что-либо о Наполеоне Бонапарте, но хорошо подкованный физиономист мог найти немалое сходство в этих, столь далеких в историческом плане людях. Разница пола, воспитания и эпохи, впрочем, сделали свое дело, оттого, видно, владения клювинской правоверной ограничивались комнатой в коммуналке.
— Дай-ка, дай, сейчас разъясним! — подскакивала она, хватаясь за телеграмму. — Ты почтальона бы задержал. А, да ну… — в досаде махнула супруга ручкой, мотая переданным листом, будто высушивая его. — Всеже ясно, смотри! Москва, Рюмин переулок, Клювину. Согласно распоряжению… баронессы… Гоген… штауф… хенриг… Кирюх, это что, а? — растерянно округлила супруга рот, глядя на получателя снизу-вверх. — Это на каком?
Послание, между тем, определенно было на русском и адресовалось с трудом разысканному потомку древнего рода, каким оказался бухгалтер Клювин. Звался род Гогенштауфхенригзмайры. Был он славен и некогда многочисленен, а теперь совершенно бы прекратился, если бы не побочная, в сторону оттопыренная ветвь, шедшая от бухгалтеровой прабабки, сбежавшей столетие тому с драгуном из неметчины в заснеженную Московию. Нечаянному потомку легкомысленной Джоанны Гретты-Эмилии Гогенштауфхенригзмайр причитались титул и герб. Но, главное, сорок тысяч акров земли, а также замок с прудом и голубятней.
Разве не чудо сие, по-вашему?
Все это, впрочем, выяснилось позднее, ибо телеграмма не могла вместить всего, а человек, ожидавший Клювина в «Метрополе», изъяснялся скупо и непонятно, да еще через переводчика.
Потепление между Берлином и Москвой, воцарившееся в тот короткий период, сделало возможным второе чудо, еще примечательнее первого: семейство выпустили из стальных объятий Союза, навстречу их негаданному наследству.
Минул год.
— Перголы, пандусы, альпинарии… Господи, я с ума сойду!
Перед Клювиным лежал потрепанный томик по ландшафтной архитектуре — единственная книжка на русском, которая нашлась в замке. Случайно обнаружив, он купил ее у почтенной фельдшерицы Карлы Розенберг, присматривавшей за былой хозяйкой, да так и оставшейся жить во флигеле. Откуда старуха взяла ее, оставалось только догадываться.
«Вот он я, как есть, без прикрас — полтинник с гаком, не олимпиец. Гимназия, год в окопах. Служил в музее, в бакалейном на Кузнецком мосту… Да где только не служил! — в Кожсиндикате служил, в Мособхуде служил, при заводе этом еще… как его… что он делал-то, ну? Не помню, хоть пытай. Вот она — первая ласточка, вот! Мысли не соберешь — разлетелись как горох по столу. Что-то же выпускал завод этот? Трубы, лязг, пыль, директор сука… Что там проходило по бухгалтерии? Нет, не вспомню. Дома бы в раз ответил, а тут…
Не, Клюев, ты не дури мне! Там теперь все твое — твой дом и, как говорится, вишневый сад. Влупил тебе заграничный дядя наследство — сиди, проживай, ровняй клумбы и не скули. Что с того, что страна не наша? Ну, говорят себе люди по-заграничному, какие тебе от этого заусенцы? Еду-одежду приносят без подсказок. Прибирают. Вон, сутулый под окнами, скребет листья — дворник и дворник, как у нас, только опрятнее и чесноком не воняет. Да и то, нюхать их что ли, этих дворников? Жена довольна, распоряжается… садовника поменяла. Надо бы выяснить у нее, отчего без спросу — муж я ей все же или болонка? Садовник, как ни крути, мой, наследственный! Сама, дурища тамбовская, ни бельмеса не понимает по-ихнему, а туда же! Дети шкодят. Кирилл Кириллыч, нерадивый мой отпрыск — шел бы откуда взялся — статую разбил в альпинарии… О! Пригодилось слово! Пацана положено бы драть за такое, но руки не доходят и червяк какой-то все точит волю.
Не могу, не могу я так, не мое, чужое все, непонятное. Вот, не знал я этого дядю Ганса, жил себе полстолетья — не тужил, работал по бухгалтерии, а теперь… Но, сказано, не вернусь, не войду в ту же воду дважды, а то кому пергола достанется? Выпить шнапсу — и спать! Пообвыкнется, Клюев, попритрется…»
После он, выпив, как обещал, засыпал столь тревожным сном, что не только не отдыхал, но вставал на утро совершенно разбитым и недовольным. Смутные мысли терзали Клюева. Еще шнапс этот, непривычный для организма, делал лоб тяжелым и в желудке устраивал канитель. Только вино и пиво еще хуже его натуре — мутит с вина барона-Клювина, не привычен, а от пива давление скачет туда-сюда. Пробовал, пробовал он, не умничайте…».
Отложив тетрадь, Илья заснул на заправленной кровати, зрел во сне какую-то ерунду, замерз и проснулся от шума в коридоре ближе к шести, когда вернулся неугомонный Матиас, шумно атаковав переднюю с уставшими и радостными детьми. Оказалось, у него сегодня отгул, и он водил куда-то свору малолетних в полном составе.
Быстровская мелкота дралась теперь за воздушный шар и даже из-за закрытой двери было ясно, что топтун-Валька свой проколол, а теперь отбирает у сестры. Иту выдал ему леща и тот с сопением отступил, видимо, переключившись на следующую пакость, раз тут не выгорело. Зоенька же, обрадованная победой, выбежала, налетела на что-то в коридоре и с грохотом лишилась дивного чуда, рыданием огласив квартиру. Тут уже не выдержал Матиас, послав всех «немедленно!» мыть руки и велев Иту наполнить чайник и достать хлеб, — но уже чистыми руками, «а не как всегда».
— Оптимист, — проворчал Илья и перевернулся, продолжив лежать с недовольным видом.
Вскоре один за другим вернулись остальные жильцы. На кухне забренчали кастрюли. Раздались воспитательно-усмирительные вопли матерей. Обиженный детский вой. Затем — этих же детей смех. Возня с котом, не желающим бегать за бумажкой, но весьма желающим покушать. Николай Быстров, наскоро поругавшись с женой, пошел прибивать сушилку, отпавшую от стены. Долго искал пассатижи, чтобы выдрать застрявший гвоздь, но так их и не найдя, заколотил его в стену заподлицо, чтобы «не сквозил». Вся суета мира, собранная в одной коробке, предстала перед философом-Ильей, замершем в своем углу как засыхающий паучок под буфетом, не дождавшейся жирной мухи.
Погода к вечеру разгулялась. Лужи на бульварах исчезли. Над крышами бронзовел закат.
— Ну что, мой доходяжка? Хрюнишь?
Варенька переодевалась у шкафа, к счастью, не заметив урона, нанесенного ему криворуким М..
«Красивая», — невольно отметил Илья, но в голове текла река философии и члены отказывали идти, так что красота жены пролетела даром. Когда он все же уловил нужную нить и что-то такое дернулось на ее предмет, Варенька уже трамбовала вещи в своей сокровищнице, упакованная в халат.
— О, дверцу починил! Молодец!
— Это общий шкаф, и я чинил для себя, — ответствовал муж, мысленно надуваясь как больной голубь.
— Ой, тю-тю-тю! — поддразнила она его, дудочкой собрав губы. — Вот, ешь витамин, — перед носом Ильи возник веселый кругляш лимона на холодной ладошке.
— Адам и Ева с плодом познания, — пробурчал он, окунаясь в душевный мрак, никак не желавший сгущаться до нужной плотности — меланхолию вечно что-нибудь разбавляло. — Тощий лимон какой-то… — ворчал он, незаметно потягиваясь (потягиваться явно, как всем известно — признак благодушного настроения, а Илья старался держать образ).
«Лимон — это, знаете ли, банально! Мед горной пчелы, добытый монахами в Гималаях… или жир престарелого утконоса… Чего-нибудь экзотического, отчего, может, и пользы никакой нет — зато ощущение колдовства».
— Чего-чего? — не поняла Варенька, встав перед кроватью в «позу кастрюли».
— Адам и Ева, говорю. В Эдемском саду. Только плод… ну… в общем, не соответствует.
— Ах, не соответствует?! Ты, дорогой, мне тут контрреволюцию разводить не смей! Ешь, а то Каляму скормлю.
— Калям такое не принимает. Тем более я источаю бациллы — не хочу заразить кота, — вздохнул Илья, таки соскочив на шутливый тон. Невозможно было противостоять окружавшей его жизненной круговерти, тем паче одарившей полезным цитрусом и вообще приятной.
— Мда? — Варенька приблизилась с сидящему на кровати мужу и пристально посмотрела ему в глаза, развязывая пояс халата. — Бациллы, говоришь? Ну-ну. Рискну проверить.
— Страшно мне и тоскливо как-то. Кажется, Варь, вот-вот что-нибудь случиться. Сам не знаю. Точнее, знаю. Это такая беда, оказывается, знать, что будет. Не про себя самого, а вообще — про страну, про людей. Тут такое дело…
Илью так и подмывало рассказать про лагеря, голод, июнь сорок первого, лопнувший коммунизм, реформистский бред и прочее, что он знал из книг и что видел сам, только он боялся устроить худший кавардак своими рассказами: менять что-то в прошлом — дело не шуточное. К тому же, если рассказать Варе, она, конечно, решит, что он со сдвигом по фазе. Впрочем, про лагеря и без того шептались по-тихому, а еще больше красноречиво молчали. Каждый день «Правда» орала передовицей про «врагов народа» и новые зубодробительные победы, от которых у Ильи бежали мурашки — он всегда считал это далеким абстрактным прошлым, а тут оно стало явью его собственной жизни.
Илья пристально посмотрел на жену. Что он вообще про нее знает? Молода, красива, не дура, кстати. Замуж вышла за кого-то, кого он и сам бы хотел узнать. Как-то он ее охмурил? Во всей этой истории было столько непонятного, что проще отмахнуться, чем разобраться.
Медленно подбирая слова, гуляя по тонкой грани, он продолжил:
— … не важно откуда, поверь просто. И от этого тошно как с похмелья. Война будет, Варь. Жуткая война скоро.
— У беременных, говорят, такое бывает. Месяце на шестом, — шутливо ответила она. — Ты нервный, Илюша. Нельзя всю жизнь идти и перескакивать через лужи. Живем и живем. Меня все устраивает, — добавила она чисто по-женски, как, не сговариваясь, говорят мужьям жены, чтобы удержать их от плаксивого самобичевания, имеющего целью это самое и услышать.
— Ну да, наверное, ты права… Я так — из политической обстановки, вообще, — сдал назад Илья. — В Европе, говорят, назревает большая буча.
— Пусть себе назревает. Нам-то что? У нас — во! — показала она кулак. — Армия и флот! Не боись, если что, я тебе портянки налажу, научный ты мой работник. Как-нибудь проживем, — и сразу без остановки: — Я хочу ребенка. Ты как?
Илья сложил цифры — будет девять лет в сорок первом. Эвакуация. Возможно, детдом. Что сказать? Он поцеловал жену и встал, прошелся по комнате взад-вперед:
— Хорошо, конечно, я за. Ты, кстати, главное не заметила в международном положении: я попортил шкаф.
— Да ну тебя, — улыбнулась Варя. — Пойдем, я ужин сделаю. Поздно уже. Мамочки, как время летит! Скоро проснусь старухой.
Она потянулась на покрывале и томно перевернулась на живот:
— Или не идти никуда… А?
В тот вечер ужина у Гриневых так и не вышло.
Скоро вся квартира молчала. Кто-то, засидевшись, прошел от кухни по коридору. Хлопнула дверь Быстровых.
— Где бы ты хотел жить? Если бы хоть что было можно, — спросила шепотом Варя, водя пальцами в темноте. Рука ее, несмотря на загар, в лунном свете казалась мелово-белой.
— В какое время?
— То есть?
— Ну, в каком веке? Если я, допустим, австралопитек, то мне лучше, где тепло и фрукты круглый год. А если шерстяной носорог — где похолоднее, чтобы кое-чего не перегрелось.
Варенька засмеялась.
— А если… м-мм… Джордано Бруно131 в Италии ведь сожгли? Нет, не поедем туда, кто их знает, может, они до сих пор не извели инквизицию. В Африке жарко, львы и голые папуасы.
— Ты бы смотрелся.
— Да, я бы стал вождем и завел сто жен… В Китае полно китайцев. Здорово где-нибудь на берегу моря, от всех подальше, на маяке, полосатом как носок. Представь, как там в шторм: волны кипят, селедка летит тебе прямо в окна. Идешь утром в тапочках такой и с сачком к окну — цап селедку! Завтрак. Еще цап! Обед. На ужин — чайка, фаршированная морской капустой. Красота! Сплошные витамины.
— А как детям в школу ходить?
— Возьмем учебники, сами всему научим — еще получше учителей этих.
— А если зуб заболит?
— Мда, если зуб — тогда полный швах, — признал Илья. — Придется тебе в порядке трудовой дисциплины освоить профессию зубного врача, дорогая.
— У меня, кстати, наклонности к медицине. Мама с детства говорила идти в мед, а я не пошла — испугалась лягушек резать… Да я рассказывала.
— Отрывочно, весьма отрывочно. Давай еще раз про твоих лягушек, — подбодрил Илья, зарываясь лицом в подушку.
— Никакие они не мои! Фу! Ну, слушай, раз сам просил, — с азартом приступила она. — Так вот… Я помню, когда еще в началке училась…
Илья прислушался с интересом. В самом деле, за время, что они живут вместе, он ведь так толком и не узнал о ней ничего. Видел разве несколько карточек в ящике комода, но не решился спросить, кто это — родители, родственники, друзья? Вдруг не ее, а того, который тут раньше был? Эти карточки он не раз разглядывал, пытаясь прочитать в лицах что-нибудь схожее с лицом Вари или со своим даже — но, как ни фантазировал, ничего не нашел. На одной, с обглоданным уголком и надписью «Кисловодск 1929», стоял под магнолией гражданин в вислом пиджаке, пристально глядя в объектив камеры, — страшно хотелось знать, не его ли это загадочный предшественник? Глазами он напоминал того чудака из подвальчика, но лицо было гораздо дородней, круглее, глаже.
Кстати, как прикажете ему выкрутиться, если она сама начнет расспрашивать про его прошлое или их общую жизнь? Никаких сведений о своем предшественнике, кроме того, что был он книгочей и аккуратист, что служил в музее и был, по всему, безвредный образованный человек, Илья не имел.
Варенька, между тем, от школы уже дошла до курсов машинисток, пролистнула мгновенно год, проведенный в каком-то тресте, и «махнула» на исторический факультет:
— … а эта сволочь Зелинский… сын его в музее у нас работает… говорит: вы, мадамы, здря… вот так прямо, представляешь — здря! — лезете в науку… вам рожать да кашу варить… А Светка Балбегина… помнишь, в парке тогда ее встретили с мужем — толстяком в мятой шляпе… веснушчатая такая и бант как трамвайное колесо… встает и ка-ак резанет этой гниде на счет «мадамов»!
«Балбегина… Балбегина… знакомая фамилия. Хотя, нет, то был Пашка Бугулов — белобрысый мордоворот из „Кировлеса“. Сын отставного ракетчика, чуть ли не генерала. Катался на „харлее“, пока его не „пришили“ за контейнер постного масла».
Илья засыпал под Варенькино «жу-жу», вспоминая то одно, то другое из прежней жизни. Суть ее рассказа тонула в деталях, проследить его было невозможно.
— Короче, потом он к ней приходит в общагу, весь такой — с букетиком… Да ты спишь уже?! Вот нахал! Я тут распинаюсь, а он! И не умывался еще к тому же. Больной, голодный. Что я за жена?.. — Варенька лукаво посмотрела ему в лицо. В темноте глаза ее казались огромны.
— Отличная, лучшая на всем свете. Некогда было есть. Да и не хотелось. Хотя…
— Ах ты жук! — она ткнула его пальцем под ребра и легко слетела с постели. — Пошли, почистим зубы, грязнуля. Кажется, в ванной никого нет.
Варенька выскочила за дверь, кутаясь в халат. Легкие шажки метнулись по коридору. Послышался далекий шум воды.
Илья остался один со своими мыслями, но они общались между собой, не обращая внимания на владельца, так что и он махнул на них рукой, сдавшись на поруки Морфея.
Нашествие грызуна
Не был Клювин бароном, но и не был прост как копейка. Случилась с ним иная история, более достоверная, чем праздные записки Гринева.
В каждой деревне своя беда. Где топит. Где сушит. В архиве МИМа завелись мыши.
Мышей случилось фантастическое число, которому не было объяснений. Каждый день фонящий чесноком Агафоныч потрошил ловушки, из ведра насыпал отраву, мастикой уплотнял щели, но ни малого успеха не достигнув, на завтра брался за то же.
— С чегой-то грызун пошел? — спрашивали музейные, но вопрос оставался без ответа.
Взял и пошел! В мае не было. В июне, кажется, не особо. А в июле — разливанное море грызуна.
Женщины, до того населявшие архив согласно штатному расписанию, прекратили туда ходить, чураясь хвостатого зловредства, и выдали начальству протест в виде коллективной жалобы, в которой трижды было писано «страсть!» и два раза «трепет!» — но в целом говорилось не о любви. Расставив стулья у бухгалтерии, где нашли немало сторонниц, жрицы Мнемозины мигрировали стаей туда, пили целыми днями чай, обсуждая свое несчастье, и отказывались выдавать справки.
Без справок, выписок и тэ дэ, как известно, ни одно госучреждение работать не в состоянии — тем паче музей, сутью своей обращенный в прошлое и потому без архива невозможный как тело без трепетного сердца. Даже Каина Рюх, и та будто бы немного спала с лица, хотя и откровенно посмеивалась над дамской слабостью страшиться мелкого грызуна. Но Каина Владиславовна — вообще отдельная статья в гендерной разнарядке, так что ее оставим за скобкой.
Впрочем, скажет иной, экспозициипосещались гражданами, в том числе иностранными, работали буфет и канализация, и сувенирная лавка сбывала иногородним открытки со столичными видами — приличные, я вам скажу, гознаковские открытки по гривеннику за штуку. Музей, казалось, как ни в чем не бывало, сеял культуру в массах и вполне успешно со всем справлялся. Так в чем же гвоздь? Взгляд поверхностный, невежественный, которому, как говорится, что в лоб, что по лбу, не отметил бы ни малейшего отклонения. Но мы-то, мы, люди, знающие цену всякому делу, не можем не содрогаться от опасений!
Бог с ними, с этими экскурсантами, кому они вообще нужны? Ужас в том, что многочисленные отделы, подотделы и сектора, тесно набившиеся в каморы вдоль намотанных как кабель на бабовину коридоров бывшего княжеского дворца, простаивали, переписка между ними усохла. Сектор античности прекратил сообщение с египтологами, «месопотамцы» со специалистами-«иудеями». Как в былые доисторические времена, Америка рассталась с Европой и забила с верхней полки на Азию. Украина готовилась чертить глобус, на котором не будет больше России, а разлив Днепра подступает к подошвам Эйерс-Рок132 — туда, где в безвестной пещере на красных склонах прочие расы, включая чадского негра, зародились от гетмана Агапки и местной девки. В общем, неврастения, коллапс и неразбериха…
Шло к тому, и поговаривали, что, если так продолжится дальше, то придется расточать ценные кадры для проведения экскурсий и прочих увеселений, дискредитирующих музейное дело. В кабинетах зашушукались, зашептались. Доподлинно стало известно, что подписан приказ о сокращении штата — и кого-то уже спровадили, чье имя не называлась, но о ком было всем известно. Он (сокращенный этот), говорили, уходя, видел на столе целый список, из которого уже просачивались фамилии… Кадровый отдел донимали с утра до ночи, требуя предъявить его коллективу. Завотделом Куст, отчаявшись доказать, что никакого приказа не существует, кроме графика отпусков на август, прятался от напасти в кухне буфета, но и там его находили, терзали, хватая за рукава, требуя признаться во всем.
Некоторые из служащих от отчаянья выходили к экспозициям, подобно диким зверям, покинувшим родной лес, озирали их, многого из увиденного пугаясь. Не все вообще из них знали, что находится за пределами служебных кабинетов и были удивлены, обнаружив себя в музее: в воображении их музей, конечно, существовал, но «где-то там», неизвестно где… Может, в Ленинграде или в Харькове. Здесь же (так они были убеждены) в центре Москвы располагалась его дирекция, номенклатурное сердце, не замутненное лишними предметами, вроде фарфорового сервиза Екатерины Великой.
Наличие посетителей, особенно пионеров, доконало тех немногих, что вышли, и они один за другим скрывались с твердым решением никогда не выходить более. Трое потребовали путевку в Ялту. Одного увезли с инфарктом. Находчивый Нехитров подал заявку на расширение, за одно отчекрыжив шесть! рационализаторских предложений, к чему подбивал Гринева, но того подвела смекалка.
В первые дни разраставшегося кризиса делопроизводители еще как-то перебивались, запрашивая что-нибудь друг у друга и встречно уведомляя о невозможности предоставить требуемое у них — в виду отказавшего архива. По истечению срока, отведенного инструкцией на ответ, в ход пошли повторные запросы, затем претензии, объяснения, протоколы — и работа вроде бы тем наполнилась, даже замаячила прогрессивка, но, поскольку предмет так и не был удовлетворен, на следующем шаге полагалось направить доклад начальству, а то и вчинить иск… На этом переписка остановилась, потому что по иску прилетело бы в обе стороны, ибо каждая из сторон не сидела, опростав руки, а копила папку «МЫ ВАМ ПИСАЛИ».
Была у происходящего и положительная сторона. Как принято в дамском обществе, три из четырех женщин, служивших в архиве, не выносили друг друга на дух, а четвертую ненавидели все вместе. Но лишения их сплотили, и теперь невозможно было обратиться к одной, чтобы не услышать оставшихся, защищавших ее от нападок посетителя. Близость архивных дам достигла нейтронной плотности, слаженность атак — уровня гвардейских драгун. Вскотский, лично приходивший разбираться, получил от них столь необоримую отповедь, апофегмы и предикаты которой были упакованы столь прочно и идеально, что директор с позором отступил, а осаждаемые едва не перешли в контратаку. Бухгалтерия аплодировала стоя.
Скоро Агафоныч, ставший единственным официальным лицом, представлявшим человеческую расу в архиве (хотя, положа руку на сердце, в силу физиогномики и свойств рассудка, он мог представлять любую), обжил брошенное дамами помещение, разделяя его с мышами, к которым не питал вовсе никаких чувств. Единственно, не стал бы Агафоныч их есть, потому что какой с нее навар — с мыши?
Колченогий дворник в фуфайке, выправив утреннюю службу, то есть соскребя с и без того вымытого дождем асфальта нехорошую кучку, оставленную собакой, расположился на импровизированном ложе, сделанном из папок, у входа в архив, и прекрасно спал. Храп от его щедрот вился и гоготал далеко по бетонному коридору, озадачив приближавшуюся комиссию. Царившая на подходах гулкая холодная тьма (архив располагался в подвале) и этот пещерный звук…
Безусловно, комиссионеры были марксистами, ведущей религией почитая атеизм, но тут против воли остановились, переглянувшись. Кудапов, человек с необычайно развитой фантазией, читавший в оригинале Аллана По133, мучительно застонал:
— Я туда не пойду. Посылайте меня хоть к империалистам, но не пойду. Там — жуть.
— Умный нашелся, к империалистам тебя! — зачем-то громко, оглядываясь на выход, сказал Порухайло, который, оказалось, также не выносит подвалов (ведя родословную от викингов, он, безусловно, имел на это полное право, поскольку тем подавай просторы, а тесноты разные, сиречь подвалы и катакомбы — не по фасону). — Лампы у них тут что ли перегорели?.. — щелкал он безрезультатно выключателем. — Бардак.
Кудапов, не глядя тому в глаза, ответил:
— В некоторых обстоятельствах физические кондиции превалируют над умственными. Вперед должен идти не самый умный, а самый сильный. Да, Яков Панасович! Я свое слово уже сказал. Беру самоотвод, — красноречие Кудапова, вызванное стрессом, весьма озадачило комиссию.
Никитский — туповатый и сумасбродный зам Ужалова, свалившегося, не смотря на жару, с фолликулярной ангиной, — вдруг ни с того, ни с сего стащил с себя левый туфель и остервенело заколошматил им по стене, так, что фонтаном полетела известка. Кудапов вскрикнул и медленно осел на пол.
— Ты что?! Болван! Человека погубишь! — похожая на лопату порухайловская ладонь с треском врезалась в грудь Никитскому. Тот упал навзничь, не отпуская свое орудие. — Никитыч, не помирай! Сейчас я тебя вытащу.
Порухайло схватил обмякшего Кудапова поперек живота, как с кресла снимают кошку, и, волоча ногами по цементу, потащил к выходу.
— Вот люди… — цедил он сквозь зубы, не оборачиваясь. — Вот же люди… Подлое семя…
Сцена была бы трогательной, если бы троим оставшимся не предстояло-таки довершить начатое — ввергнуться в брошенный архив, выяснить что к чему и предложить по итогам меры. Собственно, для этого и собрали чрезвычайную комиссию, экспедиция которой была теперь под угрозой. Там, над головами, затаив дыхание, ждал спасительных мер музей. А между тем, ничего, кроме скандала не получалось.
Никитский встал, поглаживая ушиб, и теперь стоял в рваном носке и одной туфле, ожидая какого-то наития, которое должно было, вестимо, снизойти на него, указав, что предпринимать дальше — колотить в стену или заняться иным продуктивным делом.
Клювин и Стилетов смотрели на него как смотрят на опасное происшествие — с любопытством и облегчением, что не они его составляют.
— Ну те-с, Кирилл Андреевич, фискал вы наш незабвенный, как поступать желаете? — поинтересовался у бухгалтера Стилетов. — Последуем примеру товарищей или тут еще постоим?
Бухгалтер тускло посмотрел на Стилетова и пожал плечами. Человек он был маленький, ненавидимый по роду службы коллегами, ходивший под мечом фининспектора, живший в комнате с тещей, женой и двумя детьми… Нет, ему не было вовсе страшно. Он был убежден, что, кто бы ни населял подвал, какие бы ужасы ни таились в нем — нет ничего кошмарнее внезапной ревизионной проверки и семейного Первомая, когда и без того тесная коммуналка вовсе сходит с ума, а из Тулы приезжает родня жены.
— Пойдемте, — сухо скомандовал Клювин и тихонечко двинулся вперед, на ходу по привычке проверяя ключ от несгораемой кассы, удостоверение и пенсне. Все было на месте.
Он подошел к дверям, зачем-то расчесался, одернул заправленную в штаны толстовку и потянулся к латунной ручке, сделанной в форме шара, которую нужно было крутить, о чем не каждый мог догадаться. Подельники отстали на полпути и стояли там, ближе к выходу. Идиот Никитский — воздев руку с туфлей, Стилетов — ссутулившись и готовый сорваться в бег.
Архив не был заперт.
Клювин, решительно, не оглядываясь, вошел в него, игнорируя всхлипы и мычание Минотавра, засевшего в казенном помещении. В лицо ему ударил запах слежавшихся страниц и чего-то еще, определить которое невозможно. Так, наверное, пахло бы в юрте иннуита, если бы он время от времени не переставлял ее на новое место.
Дверь медленно затворилась за спиной бухгалтера, отделив его в воображении коллег от мира живых. Воцарилась зловещая тишина, пугавшая оставшихся больше рыка.
Через короткое время, впрочем, дверь опять открылась, выпустив наружу раздосадованного дворника с лицом, помятым больше привычного. Агафоныч зло посмотрел на стену, трубы под потолком, двух бездельников в напряженных позах, стоявших середь прохода, и, шаркая мимо них, вышел, оставив за собой шлейф сложного тяжелого аромата, в тесном помещении невыносимого как иприт.
Затем показался Клювин.
— Ну?! — враз спросили его коллеги.
— Оставьте меня здесь на ночь, — сообщил бухгалтер тоном, не терпящем возражений, и снова сгинул в архиве.
Ничего не оставалось, как подчиниться.
Что происходило в ту ночь в таинственных лабиринтах хранилищ, осталось никому неизвестно. Рассерженный Агафоныч, изгнанный в свою будку, кружил у подвальных окон, пытаясь что-нибудь разглядеть, и даже стучал черенком метлы по раме, но видел лишь темноту и ничего ровным счетом не добился. Ни звука, ни жалкой искры не покинуло архив до рассвета. Однако, на утро он был чист от мышей, а бухгалтер жив, свеж и вполне доволен, каким его ни разу еще не видели сослуживцы.
Надо ли говорить, что жена устроила Клювину скандал, начальство выдалограмоту, а контора вернулась к благополучию? Что потом еще с полгода шептались, гадая, что же такое приключилось, и о чем умолчал бухгалтер? Но тот, как сказано, молчал и своего секрета не выдал. Известно только: никогда и до сих времен в подвале музея не видно ни одной мыши.
Тьма кромешная
В подъезде стояла совершенная тишина, какая бывает в пустых пещерах, или, не к ночи сказано, в гробницах с забытыми именами на пыльных плитах, подозрительные царапины на которых заставляют думать, что кое-кто попал туда раньше времени и не по собственной воле. Что-то такое, блуждающее по свету, но не на свету, притулилось здесь, в этой парадной в центре Москвы, чуть за полночь, приглушило звуки, вычернило тени, расставив их неподвижно как часовых, угомонило детей и пьяниц, усыпило стариков с их бессонницей. Луна буравила темноту сквозь мутные стекла, смотрела на пустые лестничные пролеты, горбы отставшей штукатурки, паутину, бездвижный воздух, и двери, двери, за которыми спали люди.
Тишину эту вдруг прорезал громкий звериный вой, не сразу унявшийся, на который отчего-то никто не поднялся, не выругался матом спросонья. Через секунду внизу в подвале коротко вскрикнула женщина.
Уронив на пол что-то тяжелое и ударившись обо что-то локтем, Тундра завертела головой, ничего не видя вокруг — ни стола, ни зелени, ни ночного неба Москвы.
Было душно. В голове набатом гудел ликер, смешанный с отзвуками какого-то крика, растворявшегося в сознании, как растворяется только что пережитый сон.
Уж не она ли сама кричала только что?
Хотелось промыть мозги ледяной водой или срочно выпить еще, но только не стоять вот так, растопырив пальцы, в удушливой темноте, не представляя, где ты и что случилось.
— Лор?.. Ты тут?.. — тихо спросила Тундра, хватаясь на шерстинку надежды, что в иную бурю удерживает линкор.
Ей никто не ответил.
Тундра осторожно вытянула руки перед собой и начала вращаться, шаря ими в пространстве. Задела что-то. На пол полетел тяжелый предмет. Что именно это было, осталось неясным.
Тут бедро наткнулось на что-то мягкое. Ладонь легла на густую шерсть. Сердце Тундры подскочило к гортани, хмель мгновенно улетучился. Она отпрянула и поджалась, ожидая нападения, подтянула руки к груди, бессознательно крикнув «Фу! Сидеть!», как учат кричать кинологи, когда питомец пытается напортачить.
Однако пес не намерен был нападать и сам, похоже, был перепуган: поскуливая, он завертелся вокруг нее и уселся рядом, проверив мокрым носом ладонь. Его голова доставала ей до груди.
Все, как сказано, происходило в кромешной тьме, в которой взгляду было не за что зацепиться. Странный дурацкий сон… Если бы не густой запах каких-то забродивших отбросов, такой крепкий, что на глаза навернулись слезы, она была бы уверена, что спит, устроившись у подруги в кресле. Но такого, чтобы вонь буквально сшибала с ног, с ней во сне еще не случалось. К горлу подступала тошнота. Владей Тундра хоть сколько-то предметом благородного домоводства, то сразу и безошибочно определила бы густые ароматы квашеной капусты, оставленной по недосмотру в тепле, — результат недосмотра или попытки освоить непростое искусство русской народной кухни.
За этим произошло сразу два события: во-первых, послышался мучительный хлюпающий кашель, будто кто-то давился тяжелым воздухом или пытался кашлем сыграть токкату; во-вторых, Тундра, отступая, обнаружила сзади стену, и на ней бородок громоздкого выключателя, которым тут же щелкнула, готовая узреть худшее в своей жизни.
И узрела.
Она стояла у входа в тесное, разделенное надвое выступом стены помещение, захламленное, с серыми стенами в потеках и двумя сплюснутыми окошками под потолком. В дальнем углу на топчане лежал грузный мужчина в меховой фуфайке. Его грудь мучительно содрогалась, а глаза-щелки на мясистом лице смотрели с неприкрытой досадой.
Стоило мужчине пошевелиться, свесив с топчана ногу, как что-то большое и рычащее ринулось к нему, роняя на ходу приставленную к стене метлу. Между незнакомцем и Тундрой встал, оскалившись, небывалых размеров алабай, который мог бы сойти за пони. Тундре почему-то захотелось назвать его Бадаем и она подозвала собаку к себе, не желая становиться свидетелем кошмара, который может сотворить такая тварь с безоружным человеком (а, возможно, и с неплохо вооруженным). То, что пес был явно на ее стороне, невольно успокаивало и даже немного льстило. В неопределенных обстоятельствах это могло стать весомым аргументом в ее пользу — килограмм этак в девяносто плюс полная зубов пасть.
Алабай не сразу, но все-таки послушался, и, рыкнув для острастки на предполагаемого врага, уселся у ног предполагаемой хозяйки, высунув пятнистый язык, похожий на слюнявый совок.
Будучи верным обязательству описывать историю правдиво, отмечу, что источник зловония — прикрытый фанерой бачок с жуткой капустной массой — стоял рядом у входа в дворницкую камору, у обитой войлоком узкой двери. Он-то, точнее, идущий от него фетор, и вывел даму из ступора лучше ведра ледяной воды.
Бросив беглый взгляд на бачок, полный играющих пузырьков, на разбросанный по халупе хлам, грязные стены и подозрительного типа в фуфайке, Тундра в долю секунды перескочила стадии смятения, страха и любопытства, впав в крайнюю степень раздражения, не сулившего ничего хорошего тому, кто все это устроил, кем бы он ни был. Все ее внимание теперь было сосредоточено на обнаруженном персонаже, теперь сидевшем на своем ложе, не решаясь подняться с места. Судя по всему, пес, достойный размерами Баскервилей, произвел на него неизгладимое впечатление.
— Агрх… — прокашлялся незнакомец и, кажется, намеревался что-то сказать, но решил не использовать эту благословенную возможность.
— Speak English? Hah? I’ve called police, gay! Understand me? They’ll be here in a minute134, — сказала Тундра, идя ва-банк.
В критические моменты она всегда соскакивала на английский, который худо-бедно понимали в большинстве стран, стараясь придать голосу стальные нотки, не позволявшие усомниться, кто тут владеет ситуацией.
Ее визави, сидящий на топчане, никак не отреагировал.
— Chinese? Mongolian? Indian?135 Какого лешего происходит, ты, черт узкоглазый?! — сочно добавила она на родном, пересекая комнатенку с решительностью обезумевшей росомахи, пот ходу дав пинка алабаю.
Реакция мужчины была неожиданной: он крякнул, потер лоб ладонью и тяжело повалился набок, отвернувшись лицом к стене, явно намереваясь продолжить сон. Пес глухо зарычал, но тип лишь завернулся в тулуп, который использовал вместо одеяла, и пробормотал что-то неразборчиво в облезлый коврик с русалкой, как мог украшавший стену.
Не обращать внимания на очевидную проблему — весьма опрометчивый поступок, если иметь дело с людьми определенного склада — такими, например, как Дэба Батоева, прозванная друзьями Тундрой. В лежащего полетела ушастая алюминиевая миска с присохшим варевом — первое, что попало под руку разгневанной даме, желающей выяснить, где она находится и вообще. Особо это вообще.
— Я, мать твою, с кем сейчас толкую?! Ты, бурдюк с глазами!
Мужчина снова вскочил с лежанки, занеся над головой кулаки, но тут же сдулся, глядя на рычащего пса.
— Ты дура совсем, да, Гульсибяр?! — закричал он, прикрываясь от напасти тулупом. — Собаку убери, а?
— Сидеть! Оба!
Вернувшись после вылазки на местность, Тундра сидела в глубочайшей задумчивости, облокотившись о стол, на единственном в подвальчике шатком стуле. Говоря точнее, она была ошарашена произошедшим и всем увиденным за последний час. В частности, афиша, возвещавшая премьеру Довженковской «Земли» — 8 апреля 1930 года, на минуточку — и прочие необъяснимые вещи отдавали явной чертовщиной.
«Художественные коллективы союзных республик» … «Нигде кроме, как в Моссельпроме!» Господи! Если это и был сон, то реальный до мелочей — от необходимости немедленно посетить уборную, до газетных статей про победы коммунистической партии. А ретромобиль неизвестной марки со странным номером «Г-03-47», кативший с какой-то сонной гражданкой под вуалью по пустой улице? Как вам это? Мобильник, не ловивший ни одну сеть?
Тундра поежилась, обхватив плечи руками. Еще раз обвела взглядом подвал и с отвращением глянула на слепые окна под потолком, за которыми возились голуби.
Что стряслось? Как она попала сюда? А этот безумный мужлан Азиз, твердящий, что она, Тундра — его жена, которая, видимо, сошла с ума отчего-то ночью… но с женщинами такое бывает… и что нужно сейчас же позвать какого-то Палыча из одиннадцатого дома, который «все лечит», и что он немедленно сбегает за ним, только пусть Гульсибяр уведет собаку…
Уж не в самом ли деле она живет в подвале с мужем-дворником, а вся жизнь до ей приснилась? Да ладно! Полная чушь!
Под конец учиненного пришелицей допроса Азиз добавил, что всегда считал свою жену немного «азга тиле»136, и что это безумие, он уверен, у нее от бабки, которую боялась вся деревня, когда та бывала не в духе. (Тундра заочно черкнула «респект» неизвестной бабке и пожелала ей здоровья, если это еще актуально — женщинам приходится быть умнее мужчин, чтобы их не втоптали в грязь просто потому, что они не могут себе позволить жить только для себя.)
Между тем за приплюснутыми грязными как козлиный зад окошками, сидевшими на уровне тротуара, расцветало чарующее летнее утро. Слышалось, как хлопнула дверь подъезда, и кто-то перешел двор, стуча подбитыми железом подметками, сгинув за подворотней. За домами звякал трамвай и гудели автомобили.
Косолапый грузный Азиз все также сидел на засаленном топчане, бывшем семейным ложем Нигматуллиных, зыркая узкими глазами по сторонам. Лицо его ничего не выражало, и сам он казался совершенно спокойным, лишь косился на дремлющего пса, едва поместившегося под столом.
— Пора работать, а? — сказал он Тундре, будто ничего вообще не произошло.
— Что? — не поняла она.
Азиз кивнул в сторону опрокинутого дворницкого инвентаря, рядом с которым валялся гипсовый пионер с обломанной рукой, какие ставят на пьедестальчиках в «красном уголке» — его-то она и уронила с отменным грохотом, объявившись ночью в подвале.
— А, работать… ну, ты иди… мне еще надо тут… — ответила она, погружаясь в свои мысли.
Ни документов, ни вещей у нее не было, кроме тех, что сейчас на ней — хлопковая майка «Армани», узкие зеленые бриджи, золотые часы — хоть что-то ценное…
Пес, видя, наверное, что хозяйка перестала беситься, выглядел совершенно довольным жизнью. Ни грязь, ни вонь подвальчика его не смущали и компания, похоже, вполне устраивала. Время от времени обращенный алабаем Бадай одним глазом смотрел на дворника, вскинув карюю бровь, но без особого интереса — так, для сторожевого приличия.
Тут Азиз, не привычный к анализу действительности, совершил фатальную ошибку. Почесав свисающий подбородок, он снова обратился к «жене»:
— Ты, э… давай уже, а? — и снова кивнул на метлы.
Сцена безобразного утреннего скандала, разразившаяся в подвальчике, не стоит того, чтоб ее описывать. Скажем лишь, что Тундра не стеснялась в выражениях, едва удержавшись от того, чтобы натравить на мерзавца пса. Обстановке дворницкой, и без того не блестящей, был нанесен катастрофический ущерб, а сам трудовой элемент выбежал из нее, ссутулившись, без метлы и сапог — и не сразу за ними вернулся, опасаясь опять нарваться.
Его мясистую сгорбленную фигуру проводила смешливыми взглядами чета прилично одетых граждан, шедших в эти минуты через двор.
— Что это с Азизом? — спросила Варя.
— С женой, может, поругался, — ответил Илья. — Жены — страшная сила!
Словно подтверждая его слова, в подвальчике разбилось окно.
ГУМ
После полутора месяцев в чужом времени, когда все более-менее утряслось, Илья вдруг понял, чего ему не хватает — не мифической свободы слова или Галкина в телевизоре, а огромных столичных моллов, в которых можно перекусить, посмотреть кино, сдать в химчистку брюки и обзавестись сотой футболкой «Найк» (потому что скидки).
Дитя новой России, он не застал такого чуда как магазины с вывеской «Молоко», в которых, не поверите, не купишь ничего, кроме молочных продуктов. Хочешь к кефиру булку — шагай по улице дальше: там, в квартале, будет искомый «Хлеб». Бросить на булку «Докторской» — милости просим: в соседнем переулке «Диета»; там же консервы в банках цвета щучьего плавника и замороженные обрубки под лозунгом «Субпродукты». За мылом — извольте в универмаг — через улицу за банями, совсем рядом.
«В один клик» не закажешь пиццу, суши вовсе неизвестны природе, и даже пару сапог тебе не доставят с сезонной скидкой. Ближайший телефон — у соседей, единственный в подъезде — предмет зависти остальных жильцов и ненависти обладателей к окружающим.
Где же ты, уютный ярлычок «Твиттера» с дурой-птичкой?! Где сто видов туалетной бумаги?
Илья сидел на стуле у подоконника, уперевшись коленями в батарею, и клеил по журналу модель доколумбовой каравеллы, в его исполнении больше походившей на ванну для мышей, пробитую барабанной палкой. Увлечение это было для него новым и необычным — он сам себе удивлялся, но теперь вечерами оставалась пропасть свободного времени, которое нужно было чем-то заполнить. У соседей его заполняли дети, рюмочка под огурчик, какие-то вечные походы куда-то и починка всего на свете — вещи буквально обязаны были ломаться, чтобы придать смысл жизни своих владельцев. Все это их с Варей не занимало (хотя над первым они прилежно трудились).
Илья решил читать больше книг, но столкнулся с нежданной проблемой: купить привычной литературы было решительно невозможно. Полки ужасали однообразием. Он уже был согласен на «Мушкетеров» — хоть двадцать, хоть сорок лет спустя, но и духу их не было в магазинах. Борьба старого и нового — «Жизнь Клима Самгина», «Хождение по мукам», «Тихий Дон» — слышанное, но не читанное им. Про нервного адвокатишку не хотелось, тем паче про поэтов и офицеров — ни свои, ни классово чуждые ему были неинтересны. Разве, «Тихий Дон» почитать? Он помнил великую экранизацию Герасимова137, которую смотрел когда-то в гостинице под Самарой, где застрял почти на неделю и чуть не спился. Взял в библиотеке подборку «Роман-газеты»138, в ней добрался до речи Штокмана139, потиранил себя еще и, в конце концов, отложил, заблудившись в титаническом полотне, сломавшись о непривычный язык и непонятную мотивацию.
Добрался до Тверской и спросил Бальзака, получив в ответ злой непонимающий взгляд девицы из-за прилавка, мгновенно уяснив, что требовать такое бесполезно и даже, очевидно, опасно. Едва ли она знала о Бальзаке и что такое он там писал, закрывшись в кабинете на Рейнуар, но это бы нисколько не помешало ей сдать «вредителя» «куда надо» и где наверняка знают. Илья поспешил убраться из магазина. В «Ленинку» с такой заявкой он тоже не стал соваться — за буржуазные вкусы могли «прописать» на Беломорканале.
Полстены в комнате на Мясницкой занимали книжные полки. Кое-что, задвинутое подальше, откуда не видно, — еще дореволюционные издания. Была там, среди романов на французском, немецком и итальянском (коими Илья не владел) подборка наивной русской фантастики. Листая ее, он вновь подумал, уж не написать ли самому со знанием дела книжицу футуристики? Имела бы, наверно, успех у рабочего класса ошеломительный. Что там — неуклюжий дирижабль с винтом под брюхом? Примитив. Районный масштаб. Звездные войны! Искусственный интеллект! Зомби! Мутанты! Бэтмэн! Известность. Авто с шофером. Почетное место на партсобрании. Или нет? — посадили бы, чтоб не сеял смуту, сгинул бы в Магадане, проклиная несуществующих марсиан. Поддавшись панике, Илья сжег рассказ про Клювина, нацарапанный в горячечном бреду, — на всякий случай.
«Мда, — рассуждал он, покрывая паруса клеем, — литературные экзерсисы лучше упражнять за границей. Останусь, товарищи, скромным читателем разрешенной литературы. А от иностранных книжек надо незаметно избавиться, да простит мне мой неизвестный предшественник. Надеюсь, не из-за них он растворился в пространстве?».
Так что, наткнувшись на статью о моделировании кораблей, занятии со всякой стороны положительном, Илья решил попытать счастья и, купив на толкучке инструмент, клея и пучок реек, занялся изготовлением первого своего шедевра. Результат оставлял желать лучшего, но он не сдавался, памятуя, что упорство даже дурака начиняет мудростью.
Суббота между тем тянулась как резиновый шланг. Утро прошло в постели… гулять было не охота… потом обед, сон… улицы спрыснул дождь… Минуло пять, а из дома еще не выходили.
Варенька что-то подшивала, сидя у шкафа, и была неразговорчива. За окном кто-то истово бил ковер, вытрясая пыль, шелестела радиоточка и Быстровы жарко спорили о каких-то дачных делах — где брать штакетник и куда ставить, и отчего он, собака, портится…
Тут Зинаида Львовна перешла на крик, проделав это у самой двери Гриневых. Николай Валерианович не остался перед супругой в долгу. Валька, скакавший в коридоре на коне-палке, свалился и заревел, врезавшись в какую-то дрянь. Ребенок этот, пусть ему будет счастье, никогда не хныкал и не гнусавил, а орал юным басом так, что кора летела с деревьев.
Терпение Ильи лопнуло.
— Варь…
— Да-а?
— Может, пойдем куда-нибудь? Что дома сидеть?
— Ну, пошли… А куда-а?
— По центру прогуляемся, что ли? В ГУМ, может?
— Ой! В ГУМ — пошли.
— Тебе бы чего хотелось?
— Ну-у… — Варенька надула губки. — А сколько есть денег?
— Допустим, сорок копеек.
— Да ну тебя! — шутливо рассердилась она. — Какие сорок копеек?
— Хорошо, не сорок. Ну, не знаю… Рублей ндцать можно в расход. Идем?
— Я девушка трудящаяся, свою зарплату имею, — особым тоном сказала Варенька, откладывая шитье, и даже голову наклонила для эффекта. — Кладу на бочку еще червонец к твоему ндцать. Идем, кавалер! Ща, тапки только протру… Я же тебе не жаловалась еще! — всплеснула она руками, будто что-то ему рассказывала, а про главное забыла сказать. — Представляешь, какой-то жлоб на Лубянке накатил мне вчера на ногу велосипедом. Мерзавец! Впрочем, он извинился. Симпатичный такой мерзавец…
— Так, сердце мое болтливое, еще слово — и я ухожу в горы. Видела, объявление в музее? Набирают в геологоразведку на Урал. Запишусь, и пусть меня пожрут там караморы.
— Караморы никого не жрут. Даже я их не боюсь. Темнота!
Через двадцать минут они уже летели по Китай-городу. Было к шести и солнце валилось за теплые скаты крыш. Асфальт был черным и чистым. С тенями растекалась прохлада.
В сравнении с Москвой будущей на улицах почти не было авто, так что Илье, привыкшему к толчее шныряющих колесниц, проспекты казались пешеходными зонами — в лучших традициях «мэра три-эс» — там, где следовало больше бояться посконного наглеца-извозчика, а не пары выползающих за ворота «Фордов» с дачниками. Варенька же, напротив, опасалась урчания каждой развалюхи с мотором и то и дело дергала мужа за рукав, чтоб смотрел в оба. В то же время могла легко наорать на ломовика, сунувшись под самую морду лошади, да еще и потянуть ее за уздцы. Илья лошадей боялся, они его тоже недолюбливали.
Так, гуляя об руку по Ильинке, они добрались до ГУМа и встали во втекающий в здание поток — разномастный, словно идущий на карнавал. «Братья» из Средней Азии шли на приступ целыми аулами, утомившись, садились кагалом на пол и пытались обосноваться прямо посреди галереи, мешая всем и вся подходить к витринам. Илье казалось, вот-вот — и они разведут костры, установят юрты и достанут откуда-нибудь овец… Но тут являлся суровый страж и стойбище разгонял, холодно игнорируя национальные традиции и чувства верующих. Илья не раз слышал в толпе английскую и немецкую речь, но, когда оборачивался, никак не мог разобрать, кто и с кем говорил. Огромный и усатый поляк гордо обгрызал эскимо, казавшееся спичкой в его руке, разговаривая с худосочной девицей в шляпке, которой досталась сладкая вата размером с испуганную сову.
Насмотревшись на пестрый люд и сами схватив мороженое, они поднялись во второй этаж, где было чуть посвободней, и начали изучать товар. Точнее, этим занялась Варенька. Илья же больше разглядывал потолок, вспоминая, как недавно ходил по ГУМу с деловой знакомой из РБК, подыскивая подарок нужному человеку. Знакомая, кстати, была симпатичной и имелась у них с Ильей история несколько лет назад, прервавшаяся как-то из-за отъезда и не нашедшая продолжения. Тундра бывала от раза к разу, так что Илья был весьма настроен возобновить, тем более, по слухам, знакомая эта только что развелась… Но, что об этом теперь?
Если смотреть на потолок, мало меняющийся с годами, то можно было представить, что сейчас двухтысячные и немножко поностальгировать, чем он и занялся, ведомый зигзагами за рукав, пока не ткнулся грудью в косяк какого-то входа.
— Ты что, Гринев, уснул на ходу? Ну-ка просыпайся. Я сюда, — пропела Варенька и мгновенно растворилась в отделе.
От двери вглубь, минуя манекены и продавщиц в синем, тянулась металлическая стойка с образцами. Десятки жакетов разных фасонов висели на плечиках рядком, являя собой, по-видимому, соблазнительнейшую картину для дам, которые деловито крутились вокруг них, что-то такое нащупывая в манжетах, будто там им могли оставить тайное послание английского короля. Такового не обнаружив в одном, они спешно переходили к другому экземпляру, проделывая с ним то же, а затем шли к третьему, четвертому, и дальше, дальше, поддевая взглядом облака разноцветных шарфиков у прохода.
По какой-то системе жакет вдруг выдергивался из ряда и оказывался тщательно рассмотрен с фронта, с боков и сзади — до шовчиков на подкладке. Большая часть изделий отсеивалась, и лишь одно-два переносились дамою, имевшей загадочное выражение лица, в тесную примерочную кабину. Остальные, кружащие у ассортимента, провожали ее взглядами, делая мысленную отметку.
— Как у Марлен! — радостно воскликнула Варенька, рассматривая покупку.
— Куда лучше. Ты в нем просто сияешь! — поспешно отозвался Илья, не сразу сообразив, о какой Марлен идет речь. Затем в памяти вспыхнул образ дамы с мундштуком на черно-белом фото — элегантный и наигранно-синтетический.
— Госпожа Дитрих была бы польщена знакомством с такой красавицей, дорогая, — светски добавил он, зарабатывая очки, за что был награжден поцелуем.
«Значит, правильно вспомнил…».
Покупка привнесла в отношения невиданный подъем чувств. Илья невольно вспомнил знакомых женщин из своей прежней жизни, удивить которых можно было лишь купив Виндзорский замок и тут же под камеры покончив в нем с собой во имя добра. Единственным отличием была Тундра — вот уж уникальная личность! — привести в восторг которую мог, наверное, только какой-нибудь древний, неизвестный науке досель горшок с прахом доисторического мурзы, и чтобы упокоенный с ним гарем сам ей откатил камень, провел экскурсию и вписал себя в каталог.
Они шли вдоль Москвы-реки, глядя на воду и ряд освещенных закатом зданий. Вечер сложился как нельзя лучше, погоды стояли великолепные. Варенька пританцовывала от счастья и непрерывно о чем-то говорила: речи не могло быть — надеть драгоценную вещь сейчас… она блеснет в ней потом… над поводом нужно еще подумать… одно ясно: Ирка сто раз издохнет от зависти, и Дарья Петровна тоже, и остальные, коим несть числа. Тут же Илье было открыто, что Ирка эта беременна, только скрывает, хотя всем понятно, и что это от того самого (кто он, не уточнялось, но ясно было, что проходимец), а Дарья Петровна — тупая старая грымза, пропахшая нафталином.
Жизнь крутилась как никогда и радость наполнила Илью под завязку, отчего он вдруг ощутил пинок энтузиазма в районе крупа и решился на то, чего отчаянно и справедливо боялся: поведать тайну первого утра здесь, о котором так неловко было вспоминать.
Начал издалека, несколько раз сбивался, перешел в конце концов к главному и не успел закончить, когда Варенька странно на него посмотрела. Он, конечно, ожидал ее недоверия, утомительного долгого разговора или насмешки… Но ничего этого не случилось — только испытующий острый взгляд, прижавший его к земле. Нет, не так даже: сквозь ее глаза на него взглянула какая-то древняя общая для всех женщин мудрость, возникшая раньше членораздельной речи, позволявшая им бессчетные века вынашивать и растить детей, кормить, лечить и оберегать, а также удерживать мужей от очередной опасной глупости. Поскольку в процессе эволюции в основном выживали мужчины, способные прочесть этот сигнал, и счастливое это свойство нам передается от пращуров, Илье на секунду показалось, что под ногами разверзлась пропасть, а сверху хлынул ледяной дождь.
— Только пообещай больше никому никогда об этом не говорить, ладно?
Поверила она ему или нет — невозможно было понять. Сам бы он себе не поверил. Где-то глубоко зашевелилась досада и смутное прозрение того, что женщине важна не какая-то там «правда-истина», любимая Пифагором, а то, что сейчас все в порядке и не должно становиться хуже, и что для этого нужно делать поменьше глупостей. А также нет никаких сомнений, кто именно из них двоих к глупостям тяготеет как кот к рыбьему хвосту.
Не успел Илья собраться с ответом, как Варенька вдруг снова превратилась в понятную и простую, довольную мужниным подарком жену, за которой он шел, словно причастившейся, в бессловесном сне до самого дома, подбирая слова, которые все оказывались не теми. Уже во дворе, миновав ворота, ступив в гулкую темноту подъезда, он наконец пришел к чему-то, и впервые сказал ей то, что не говорил никому со студенческой скамьи и, определенно, еще никогда не говорил всерьез.
Лиловый свет
М. прошелся по комнатке взад-вперед, нервно ополоснул пальцы под ледяной струйкой в прихожей и вытер их о висящий там же сатиновый халат, на который уставился с удивлением, будто обнаружив осиное гнездо в гардеробе. Затем сорвал его, скомкал и в негодовании бросил к входной двери. Снова сполоснул пальцы, избавляясь от приставшей к ним невидимой скверны, запустил их в жидкие волосы и, недобро глянув на безвинную вещь, напомнившую ему о службе в музее, пошел к столу, твердо решив сей час же закончить прерванную главу.
Но за стол не сел и главы не кончил, продолжив метаться по квартире, спотыкаясь о вещи.
Как змеи из открытой корзины наружу лезли воспоминания — не воспоминания даже — отголоски нелепейших ситуаций, участники которых превратились в плоские фигуры без лиц. Имена и обстоятельства стерлись, но эмоции от этого сделались только ярче, будто реальные детали отвлекали от главного. Гнев сменяло чувство стыда. Школьные неприятности. Пренебрежение барышень. Упущенные возможности. Всякая труха лезла наверх как пена на кипящий бульон.
Воспоминания мерзкие сменились приятными. Образы женщин, лишенные индивидуальности, мягкой соблазнительной теплоты — жгли изнутри, подвигая бежать куда-то, что-то срочно делать и добиваться. Но в старое жерло не вложили пороха — никуда он не побежал, а только почесал грудь и поставил чайник на печь.
Что правда, то правда: М. ненавидел бывшую службу, жалел о растраченном на ней времени и не мог простить себе слабость духа, лежащую, он был в этом уверен, в основе его бесплодного прозябания (что бы это ни значило). Ругал себя безвольным слепцом, идиотом, тряпкой, когда думал о прежней жизни, которой (в его нынешнем представлении) будто вовсе не было, ощущая себя стареющим младенцем без прошлого. Настоящая его жизнь, так он себе внушил, началась лишь с той счастливой минуты, когда он стал чужим всему и оставил мир за порогом, ликуя в бескрайнем пространстве мысли… То есть несколько месяцев назад, переехав в этот подвал, что не всякий бы назвал ликованием.
Сейчас, сейчас! — поймать мысль и выплеснуть ее на бумагу, схватить и не отпускать, выдавливая по букве! Хорошо придумано у китайцев — одним росчерком писать по целому слову. Вот бы так ему, и не по одному слову, а сразу целиком книгу, в одно движение, одним душевным порывом…
М. налил чаю и замер перед столом.
На нем лежала пачка чистых листов, мимо которых он ходил уже час, тщательно игнорируя и сам стол, и эти листы, манящие его, как безумного манит бездна. Картина в голове не срасталась — в ней все время не хватало чего-то важного, без которого нельзя идти дальше. Ни одной правдивой строчки не выбалтывалось наружу. Ум будто упавшая в банку мышь тщетно царапал когтями стену, после каждого рывка сползая безрезультатно ко дну.
В конце концов, что-то неясное блеснуло на горизонте, по незримой стене пробежали трещины, он заставил себя сесть и взять перо.
«Жар раскаленных камней на площади проникал сквозь тонкие подошвы сандалий…» — медленно вывел М. и замер, прикрыв глаза. Перед мысленным взором плыл выжженный солнцем город на фоне призрачно-белесых холмов, пылающий в полуденном тяжком мареве. Человек со скрытым капюшоном лицом уверенно шел по солнцепеку, будто не замечая жары, и редкие в этот час прохожие расступались перед ним, стараясь не задеть рукавом… Да — это то, что нужно!
В окно подвальчика постучали.
— Вот зараза! — прошипел М..
Холмы разлетелись мыльными пузырями. Солнце враз погасло. Город погрузился во тьму.
Пришелец, неведомый и невидимый, и уж точно — незваный, снова постучал, уже энергичнее.
Объятый праведным гневом М. отодвинулся от окна, стараясь не распугать роящиеся в голове образы и ничем не выдать свое присутствие. Пусть считают, что его нету — самый надежный способ отвертеться от нежеланных гостей. Он даже специально сменил кружевную штору, доставшуюся в наследство от предыдущего жильца, на кусок толстого шифона, что тоже было не ах, потому что теперь он, затемнив окно, лишался вида на двор и зелень, которым подолгу мог любоваться. В иные минуты этот парадокс изводил его. Откуда вообще берутся эти незваные ходоки?! Неужели одного неприметного человека невозможно оставить в покое в многомиллионной Москве?
Стук еще повторился, а затем, к огромному облегчению М., докучливый посетитель ретировался. Когда его шаги удалились и хлопнула за спиной калитка, М. снова придвинулся к столу, но вернуть ускользнувшую в тартарары картину не смог — мозг будто опутала шерсть. Нужно было все начинать сначала.
В раздражении он снова наполнил чайник, выплеснув в раковину остывший чай, к которому так и не притронулся, вынул сверток с остатками творожного сыра и кусок хлеба, решив перекусить, этим подстегнув готовность к работе. Но тут нечто вновь отвлекло его, заставив забыть про обед и книгу: в соседней комнате, бывшей спальней, свет заметно сгустился и начал наливаться лиловым.
Теперь уже без всяких раздумий М. подлетел к столу и набросился на бумагу, начав судорожно чертить в ней, едва не прорывая насквозь. В одно движение по диагонали легла прямая, надвое разделив желтоватый лист. Начало ее в верхнем правом углу короновал похожий на сороконожку знак, умащенный кляксой. Затем одна за другой к линии начали приставать черточки и дужки. Пламя в печи окрасилось зеленым, и тени на стенах зашевелились как от вращающейся китайской лампы.
Над столом расцветало нечто, грубую проекцию которого выводила на листе дрожащая рука М.. Тесный подвал раздался, превратившись в гулкие бескрайние залы, освещенные сквозь аркады солнцем. За ними виднелись горы. Но тут же реальность спохватилась, стянув пространство обратно в жалкий пятак. Лиловое свечение прекратилось, уступив жидковато-серому свету, сочащемуся из окна.
М. в изнеможении отстранился и прикрыл ладонью глаза. За его спиной над печкой вращалась магниферова болванка, будь она неладна — источник вечного беспокойства.
Отвлекаясь от перипетий того многосложного периода, описать который мы не ставим себе задачи, вернемся к таинственному артефакту, переданному Магнифером М., так его в итоге обременившему. Предметец был по всем статьям любопытный.
Первая странность, которую мы уже отметили, состояла в его сверхъестественной способности исчезать и появляться не в том же месте, где был оставлен, да еще летать в подозрительной манере по помещению, вращаясь вокруг оси; ко всему, порою штука светилась, становясь похожей на зловещий фонарь. Хуже не придумаешь для предмета, который усердно прячут. Как-то раз под Витебском в пустом хлеву, где заночевал М., его увидела трепетная хозяйка, после чего, оставив без опеки имущество, ринулась в Саров на богомолье.
Второе же, с чем столкнулся М., вглядываясь в испещрявшие его закорючки, было стойкое ощущение того, что тебя кто-то наблюдает в ответ. Не «за» тобой, и не просто смотрит, но, заметьте, читает как спортивную газету, пробегая сначала с интересом, а затем небрежно и вскользь, убедившись, что «наши» все-таки проиграли, и ничего на полосе больше нет, кроме черно-белой парсуны ямайского бегуна, которого ты и знать не знаешь. Восторг, удивление, суеверный ужас — ничто в сравнении с буравящим кости взглядом разумной пустоты, решившей разобраться, кто ее потревожил.
Что еще хуже, казалось, как ни вертись, невидимый персонаж находится у тебя за спиной, а время от времени к нему присоединяются другие, от которых по коже гуляет холодок. М. даже начал различать их (или убедил себя в этом, поскольку тут мало чего докажешь), именуя про себя Первым, Вторым и Третьей.
Первый был мудр, безлик и патологически любопытен. Второй раздражителен и критичен — пропитанный сарказмом несносный сноб. Третья казалась нежной и одновременно жестокой, способной на злую шутку, если гибель целого мира укладывается в ваше чувство юмора. Все они при этом обладали какой-то неумолимой бездонностью — будто под ногами разверзлась пропасть, в которой ни огонька.
Нередко в унылые вечера или на пике творческого экстаза М. подмывало обратиться к троим незримым, мысленно или вслух, но каждый раз он одергивал себя, представляя худшее, если они ему вдруг ответят. Что изольется на него в этом разговоре с космосом и выдержит ли он это? Самым доходчивым было видение угольной сороковки, на которую подали мегаватт заводской сети, и как она разлетается в горячую пыль быстрее, чем еж моргнет. Постепенно М. пришел к убеждению, что, переусердствуй он с артефактом, такое с ним примерно и выйдет. В лучшем случае, млеть ему до седин в психушке, в худшем — придется отмывать стены. Кесарю, как говориться, кесарево, и что положено Юпитеру — губит быка от хвоста до кольца в ноздре.
«Может, — подумал он, — поэтому Бог не спешит нам ответить прямо: мы бы просто этого не вынесли?».
Иной раз, вчитываясь в плотно прорезанные на поверхности цилиндра иероглифы, М. вдруг испытывал приступ страха, неожиданную сонливость, гнев или, что вовсе выбивало из колеи, без причин заходился смехом. Иногда болванка, весившая не меньше пуда, вдруг становилась легкой, будто из нее вынули сердцевину, пустой и гладкой как обрезок сливной трубы — такую непримечательную жестянку не сбыть и старьевщику в трудный год. (М. казалось, что это проделки Третьей, как и множество других странных штук, начавших происходить в его жизни.)
Весною девятнадцатого, сбежав из Ленинграда после отвратительного открытия в вещах того самого Б. С. К., что так и остался ему неведом, М. поселился на севере Москвы, в добротном нестаром доме, руководимом очаровательной хозяйкой Марией Александровной Парамоновой, с которой у него сразу заладилось, так что их общение стало даже несколько фамильярным, если не сказать — двусмысленным. Была ему отведена часть общей просторной комнаты, за дощатой перегородкой, со столом, раскладной кроватью и умывальником, которую М. в шутку называл «шкапом».
Хозяйство Марии Александровны не было обширным, как у соседей; из живности только куры, носившиеся повсюду, — тощие, пестрые и безумные. Бытовала она в счет каких-то неведомых поступлений от родни, или бывшего мужа или еще кого-то, о ком не распространялась. Вдобавок — кров и прокорм жильца.
Никто его, кажется, не преследовал с бывшей службы, чего М. поначалу боялся. Не однажды ночью он твердо решал вернуться, каяться и сдаться кому-то, но утром отступал от намерений; кроме одного раза — тогда, сев на поезд, он доехал до Тосно, где все-таки не вытерпел и сошел, со стыдом вернувшись назад. Чем ближе был Ленинград, тем яснее виделось изуродованное лицо сокамерника, повесившегося ночью в бывшем аптечном складе старой петербургской больницы, превращенной в пролетарский застенок.
В Киев не тянуло. В Житомир, где, наверное, могли еще оставаться его родители и кое-какие родственники, тоже. Не раз он посылал им письма с неясными ему самому намереньями, но каждый раз ответа не приходило, будто под Украиной разверзлась пропасть.
В Москве, вопреки сомнениям, он неожиданно легко нашел службу, весьма необременительную, по делам которой ездил в ростокинскую контору раз или два в неделю, забирая работу на дом. Теперь был еще четверг, а «разы» эти уже счастливо миновали, работа была сдана, аванс за неделю вперед получен, так что оставалось несколько дней свободы, которыми следовало распорядиться умно, тем паче погода была промозглой и желания выходить из дому не было никакого.
В обеденный час он сидел за столиком в своем «шкапе», перебирая накопившиеся бумаги, решая — сжечь или сохранить накопившиеся черновики. Пробовал начать повесть, но в голову лезла только дурь про заблудившихся грибников, которых спасла собака — что-то подобное он читал недавно в местном листке, издаваемым кооперативным хозяйством «Зори». Про грибников писать не хотелось. Сама идея шарить под кустами с корзиной вызывала у М. протест; он даже немного пенял собаке: стоило ли спасать? Впрочем, тогда ее некому бы было кормить, что собаку вполне оправдывало.
Тихо было так, что часы с кукушкой казались громогласными как курьерский. Пробило уже четыре, а он все сидел. И толку от сидения не было никакого. Он уже и стучал карандашом по колену и тряс ногой, и весь исчесался, но вдохновение все не шло. Того хуже, вообще ничего не хотелось делать.
— Манюнь, поставь чаю, а?
За перегородкой резко скрипнул стул.
«Разбудил ее, что ли?».
— Манюнь?..
— Да отстань ты, какого чаю?.. Нету чаю. Воды могу вскипятить, —ответил раздраженный женский голос.
— Ну, воды…
— Раз воды, так сходи за ней.
С «мужской» половины раздался вздох.
— И нечего мне вздыхать. Вздыхатель…
— Манюнь, я занят.
— Так сиди покойно, — резонно заметили на «женской».
— Ты — моя погибель, — печально констатировали на «мужской».
«Покойно… Что я ей — покойник, сидеть покойно? Дура!».
Переговорить Манюню, не желавшую что-то делать, было затеей безнадежной. М. еще раз вздохнул, но уже тихо, не напоказ, и вновь углубился в штудии.
Учебник санскрита Кнауэра140 казался ему орудием пытки. Но без него, увы, нечего было мечтать прочесть написанное на треклятой болванке, доставшейся ему от старого колдуна Магнифера. Вот уж сбыл так сбыл, умыл руки! Впрочем, и с санскритом пока выходило так себе. Он уже почти отчаялся понять что-то в заковыристой вязи, сплошь покрывавшей ее поверхность, когда вдруг отыскал кончик вьющейся нити, за которую вытянул нечто знакомое — описание игры в шахматы — однако, с парой отличий: доска была двухсторонней, а коней почему-то одиннадцать. Он даже соорудил такую из любопытства, но, как шагать с одной стороны на другую и на чьей стороне играет подлый одиннадцатый конь, так и не разобрался, поэтому затею отринул.
Теперь, чуть поднаторев, он выписывал в тетрадь закорючки, закорючки, а потом еще закорючки, которые — эврика! — складывались в периодическую систему элементов. Но и система эта, хоть лопни, содержала в себе изъян: лишний элемент легче водорода, которого, как известно, не существует.
М. отбросил карандаш и закрыл тетрадь. Болванка медленно вращалась над умывальником, будто надсмехаясь над неумехой.
— Манюнь?..
Тишина.
— Ушла что ли? Ты тут, Манюнь?
— Нет меня.
— За водой схожу?
— Сходи.
М. вышел в сени и взял ведро. Нога никак не лезла в обрезок валенка. Голенище было разношенным, широким, а нога узкой — оттого, наверное, ничего и не выходило. В конце концов, разум победил, но не тем способом, которого ожидали: он стянул носки и выбежал босиком на снег. Звякнула цепь колодца.
— Ох, мороз! Вот тебе, хозяйка, воды студеной!
— Ты что же, босой ходил? — недоуменно спросила барышня, похожая на куклу для чайника.
До того она вышивала, а теперь смотрела на безумного постояльца круглыми как у совки глазами. М., страдающий всеми ментальными неурядицами русской интеллигенции, мешающей ей, в отличие от европейской, счастливо жить и размножаться, восхищался цельностью ее образа. Была Манюня румяна и круглолица, невысока, ладна, опрятна, носила вышивки, оторочки, беличьи телогрейки, козлиные сапожки и лисьи шапочки — все добротное, чистенькое, прилаженное. Вечно терзаемый не тем, так другим, а еще чаще — несварением, он чувствовал радостный покой рядом с ней и отчего-то вечно пытался распустить хвост:
— Непальская система закаливания! — ну, «непальская» -то должна ее пронять!
— Вижу, что не пальская. Все пальцы поотморозил поди!
Никакого восхищения не случилось: беготню по снегу без валенок Манюня считала дурью — и нет такой силы, чтобы убедила ее в обратном. Еще этот фонетический прокол с Непалом! Тьфу!
М. взял ведро и пошел к бочонку.
— Так!
Манюня, как ни в чем не бывало, колола иголкой лен, облагораживая полотенце «гусями».
— Воды-то полный бачок! И что?
— Что?
— Так я зачем бегал?
— А кто тебя знает. Поглядел бы сначала, потом бегал.
М. развел руками.
— Так и чай, может, еще есть?
— Чаю нет, — отрезала барышня. — Мята токмо. Вона там, в коробке.
Еще это: весь дом был заставлен коробками, шкатулками, ящичками; добро хранилось в ларях и сундуках; ягоды, мед и крупы — в туесках, баночках и бочонках. Шредингеру с его котом, прежде чем выяснить, жив ли он, наконец, или издох от космических лучей, пришлось бы сначала поискать, в каком ящике тот находится. Поиск мог занять годы, так что у кота не было ни шанса.
Манюня заварила душистых трав и ушла в свою комнату — отдельную чистенькую светелку за русской печью, куда приблудным философам вход была заказан — и вынесла оттуда на блюде пряник. Такого М. в жизни не видел: с купеческую морду в обхвате, с глазурью, печатью в форме оленя, усыпанный цветной крошкой. В другой руке она держала штоф темной жидкости, желанной для каждого, кому посчастливилось ее пробовать — собственного рецепта настойки, крепкой и забористой, из которой, разведя один к одному, выходила ароматная и мягкая водка.
— Праздник у меня, аменины.
Хозяйка поставила на стол блюдо, наотрез отказавшись тыкать свечи в пряник, бывший за место торта:
— Нечего добро изводить. Курицу-то достань из ледника, ужинать будем. А настойку тудысь, в ледник. Только уж ты обуйся, пожалуйста, прямо страсть на тебя смотреть! Беспалого тебя — ни в солдаты, ни в женихи.
Манюня изжарила в печи курицу, запекла горох и картофель с луком, накрыла. Чинно справили «аменины».
Под конец ужина М. разобрало так, что он решил поделиться своим секретом, рассказав ей про таинственный артефакт, по большей части наплетя всякого, потому что сам еще толком не много знал.
— Вот же какая штука! — восхитилась Манюня. — А я еще думала: чтой-то по ней написано?
— Когда? — удивился М..
— Да кажный раз, как протру, смотрю, смотрю на нее — в воздухе висит и не падает. Думаю, хитрущая ж это вещь! Хлеще велосипеда.
М. так и осел. Хмель слетел с него покрывалом.
Находки своей в этом доме он не особо стеснялся, часто оставлял ее в «шкапе» на видном месте, думая, что уж если кому не любопытно, так Манюне, барышне практичной и (что греха таить) без фантазии. Он, в сущности, угадал: интерес к артефакту у нее был сугубо житейский: как по всякой домашней вещи, она прохаживалась по нему тряпкой.
— И как?
— Что?
— Что-нибудь… ну, со штукой этой… происходило?
— Да не! Искрится токмо чуть-чуть. А то иной раз шувелится. Но я ее того, аккуратно. Понимаю — вещь дорогая. Давай-ка, бери кусочек, бледный какой, совсем зачах. И чо босым бегал? Как мальчишка!
— Искрится?! — воскликнул М.. Кусок ему не лез в горло.
— Не оно, рядом будто искрит, — нетерпеливо ответила Манюня, устраивая ему в тарелку чуть не полкурицы. Сама она ела мало. — Вот пристал! Ну чего ишшо? Я ее испужалась вначале, а потом — вроде, ничего, не огонь, а так, как от фонаря. А чего это?
— Сам не знаю, — честно признался М..
В ту ночь он не мог уснуть. Сознание каталось как шарик в чашке. В дреме виделись шахматные слоны, ломающие доску насквозь, склянки с летучим газом; из-за комода выглянул, подмигнув ему, Менделеев. Дмитрий Иванович по виду был подшофе.
«Жаль, таблица уже открыта», — с завистью подумал М. и тут же мысленно себя высек: за подлое чувство зависти и за то, что великого ученого нарисовал в воображении пьяным. Потом еще за леность в трудах и похотливые мысли о Манюне. Все смешалось у него в голове, хоть бей в нее колотушкой.
Он вздул лампу и сел работать.
Нет никакой возможности отследить ход его ночных мыслей. Он бы и сам не смог — барышня, настойка, бессонница, тайны мироустройства… Пару раз он добавил из штофа «горькой», оставшейся на столе, закусил грибом. Выходил на крыльцо дышать. Снова усаживался за стол, листал Кнауэра и чертил, чертил…
Утро началось с крика.
— Господи, что же это! — за перегородкой возопила Манюня. — Ой, ой, ой, мамочки мои!
М., перепугавшись со сна, выбежал к ней в подштанниках, готовясь к самому худшему.
Барышня стояла у печи, держась за грудь, глядя в бревенчатую стену напротив, будто от нее исходила опасность. Но ни разрушений, ни мышей, ни разбойников не было видно. Комната как комната, в совершенном порядке, только что посуду со вчера не убрали… М. осоловело потряс головой, пытаясь сфокусировать взгляд. В руке его была лампа, взятая как оружие.
— Что случилось-то?
— Окно, — жалобно пропела Манюня.
— Окно? — не понял он.
Хозяйка дрожащим пальцем показала на стену.
«Свихнулась девица, что ли?» — грешным делом подумал М..
— Там стена, Манюнь. Вон окно.
— Ну так я ж!
— Да что ты ж?! Ты скажи нормально!
— Окно-то там было! А теперь стена! А оно — вон, ушло куды! Разве так бывает?
Барышня чуть не плакала, глядя на скобленую стену.
М. принялся мучительно вспоминать, где вчера было окно. Вроде, там и было? Или не там? Но Манюня-то должна знать, где у ней окна в доме! Не может такого быть… И, главное, никаких следов!
С окна-то все началось, но дальше как прорвало. Водокачка на Алексеевской вдруг сместилась на сажень вбок, а вода из нее полдня (и многие видели!) сама собою висела в воздухе, пока все также само собой не исправилось. Вороны, летавшие задом наперед по Замоскворечью. Яузский мостик, вставший ни с того ни с сего вдоль русла, так перепугавший бывших на нем, что они попрыгали в воду, включая дам. Всего и не перечислить.
Окно в Манюнином доме, кстати, так и осталось на новом месте.
И все это, известно одному М., имело своей причиной зловредный распоясавшийся цилиндрик, который он теперь исследовал день и ночь, заработав на этом первые неизгладимые морщины лица.
Терра инкогнита
В ветряный августовский день, в начале третьего по полудню, когда обед уже завершился, но столовая еще принимала нерасторопных, Илья вышел из нее в одиночестве и там, спасаясь от запаха вареной капусты, назойливых коллег и зеленой скуки, поднялся по узкой, лепившейся к стене лесенке. Она кончалась небольшой замусоренной площадкой с низким потолком и железной дверцей, в которую человек комплекции выше средней не пролез бы даже смазанный маслом.
Не будем скрывать, Илья был любопытен, даже любознателен иной раз. Совсем уж ватные фуфелы в жизни не пойдут на матфак (авторская шпилька гуманитариям) и вряд ли в чем-нибудь вообще преуспеют. Илья успешно его закончил, не менее успешно «забил» на науку в поисках пропитания, кое-что заработал на «черный день», но все еще грезил немного тайной, разбавленной до случайных статей и сериалов от «Би-би-си».
Теперь, поддавшись благородному чувству, он дернул на себя дверцу, ожидая, что та закрыта. Но она отворилась. В лицо ударил сквозняк с амбре душной складской утробы. За дверцей было темно.
Илья не был юн, но в происходящем виделось что-то сказочное, сматывавшее со счетчика годы — заброшенные тоннели, шкафы с секретом и тому подобные инструменты волшебного ремесла так преступно притягательны… Тем более, когда одолевает скука после обеда, основанного на капусте, постном масле и болтовне.
Глянув вниз и не обнаружив свидетелей, Илья боком шагнул за дверь. Сквозняк тут же с лязгом ее захлопнул.
Подавив едкую волну паники, он глубоко и шумно вдохнул, вытащил из кармана коробок и зажег спичку, обнаружив себя внутри длинного коридора, конец которого терялся где-то вдали. Спичка, от которой и так было мало толку, погасла, не дав рассмотреть детали. Когда сгорели вторая и третья, а глаза привыкли к темноте, оказалось, что проход слабо освещен — достаточно, чтобы продвигаться по нему, минуя расставленные преграды.
Илья медленно двинулся вперед, стараясь себя не выдать. Забытый коридор в старом огромном доме, буде не ведет к чулану со швабрами, непременно должен вести к загадке — общеизвестный в литературе факт.
Долгий и узкий, он тянулся, похоже, вдоль всего здания, иногда расширяясь до целых комнат. Свет в него пробивался из-за дверей, закрашенных окошечек-вееров и вентиляционных отверстий, зиявших под потолком. Ни одной лампы в нем не горело, пыльные рожки были пусты и упакованы в паутину. Под ногами постоянно что-то хрустело; пол прогибался и предательски скрипел на октаву — доски во многих местах подгнили.
Илья шел от двери к двери, методично исследуя каждую. Все они были заперты. Многие, судя по звукам, вели в музейные залы. Он вспомнил, что задрапированные или крашеные в цвет стен они действительно встречались тут и там, но вопросов, куда они ведут, у него раньше не возникало. Оказалось, что на темную изнанку храма Клио141, куда редко захаживали ее жрецы.
Скорее всего, изначально коридор предназначался для слуг, обязанных принять у барина шубу, подать перемену блюд, собрать с барского стола, и мгновенно раствориться, ожидая следующих велений. Теперь в нем хранился музейный хлам, миллион засохших пауков да обитало семейство кошек, совершенно одичавших, метавшихся под ногами. Это было их царство, их неприкасаемая территория, на которую высадился вдруг, изнывая от изжоги и скуки, вражеский двуногий десант.
В полоске света мелькнула тень, быстрый шорох и чей-то предсмертный писк. Сверху, с губы карниза раздалось недовольное урчание. Илья счел за лучшее, пригнувшись, прикрывая лицо руками, быстро проскочить мимо. Кто знает, во что превращаются кошки в музейных закоулках, и какого становятся размера? На счет дурного характера сомневаться не приходилось. Подцепив с грохотом в потемках ведро, он миновал угрожающий перешеек и продолжил путь в неизвестность, стирая паутину с лица.
Еще одна лестница, шаткая и скрипучая, увела его вверх, где слышались женские голоса и остервенело печатала машинка, вторая спустила вниз, где что-то капало и журчало, третья — в неведомую подсобку, где, по звукам, возились двое (Илья глянул в выбитое окно, покраснел и деликатно удалился, отметив про себя на счет электрика).
Все страсти и грехи этого мира оказались зримы ему как бы некому бесплотному духу, витающему по замку. Прорезавший здание коридор становился то шире, то уже, спускался, поднимался, бессчетно поворачивал, и ни в какую не желал прекратиться. Иные его части были до потолка заставлены ящиками, там и тут стояли шкафы с моделями из папье-маше, подшивками и какой-то посудой… стремянки, фанера, доски… и пыль, пыль, пыль.
Он все шел и шел, и уже мерещилось, что теперь никогда не выйти, что он так и сгинет здесь, отделенный от мира лишь зыбкой стенкой. Однако, как нас учит наука, все имеет размеры и все конечно, даже Великая стена в Поднебесной. Завершался этот продолжительный лаз выводком несгораемых шкафов, за которыми была дверь, запертая изнутри на щеколду. Илья, вдоволь насладившийся зазеркальем, с облегчением шагнул за нее, и, щурясь от света, оказался на просторной площадке, с которой сбегала вниз широкая каменная лестница — такая же запущенная, в трещинах и потеках, как все вокруг.
Вероятно, лестница эта, ведущая во внутренний двор, раньше была парадной: кольца от испарившейся бесследно дорожки, обрубки резных перил, потолок с лепниной, на стенах — остатки цветной мозаики, изображавшей сцены древнегреческих мифов. Во всяком случае, Геракл с рахитичным летящим из кустов львом был узнаваем даже для дилетанта. Если представить себе, как это выглядело раньше… Странно было видеть такое расточительство, тем более в стенах учреждения, созданного оберегать прошлое для потомков, но — увы, увы…
Облик этого места разительно контрастировал с символикой диктатуры пролетариата, в чем, видно, и состояла причина ярого небрежения им и его упадка. Все здесь безмолвно кричало о том, что лишь недостойный невежда может подать к обеду белое сухое после красного полусладкого или не знать французского.
«Сколько ж мы потеряли вечного, пытаясь обрести новое», — философично посетовал Илья, разглядывая Геракловы распущенные вихры. Герой не обратил на него внимания, поглощенный ловлей коротколапого льва, у которого не было ни шанса.
Затем М. спустился вниз — до заколоченного досками выхода. Развернувшись, пройдя под изогнутым пролетом, «на удачу» толкнул массивную створу, которая нехотя поддалась, и оказался на пороге длинной двухсветной залы, от вида которой перехватывало дыхание.
Часть окон в ней были намертво забита фанерой, сквозь оставшиеся сочился тусклый окрашенный цветными стеклами свет, превращавший залу в подводный фантастический мир, заселенный неподвижными фигурами. От входа во все стороны и до противоположной стены пространство в ней занимали тесно расставленные фигуры. В иных местах между ними не осталось даже прохода — помещение явно не предназначалось для показа, а использовалось как скопище «старорежимного хлама», к которому, видно, относилось все, что успело накопить человечество. Пол, кроме узкой тропинки в центре, был густо покрыт пылью — ровеснице пещерной живописи.
Илья вошел, притворив за собою дверь, и медленно двинулся между разновеликих статуй, озираясь как турист в джунглях. Дальние, тронутые основательно паутиной, терялись за пьедесталами, головами и торсами ближайших, за ветвями их рук, мечей и простертых жезлов. Богиня в шлеме взирала с укоризной на возню обнаженных борцов, сцепившихся в каком-то интимном действе; вепрь хватал за бедро свирепого мужика с копьем; пастушок, подмигивая крестьянке, играл на обломанной свирели с явным расчетом на поцелуй… Целый мир был втиснут в эту заброшенную галерею, и всяк вошедший невольно становился ее частью.
Как сомнамбула Илья прошел сквозь неровный строй, стараясь ничего не задеть. Добравшись до середины прохода, со всех сторон окруженный застывшими фигурами, он, сам себя удивив, испытал какой-то животный ужас, и готов был бежать оттуда, сломя голову, лишь бы самому не окаменеть среди статуй, не видеть бесконечную чреду теней, которым они были свидетелями, не слышать шепот сгинувших поколений. Разум его на мгновение помутился, так что он — случайный комок живого среди каменного безмолвия — упал на колени и зажмурился.
Какое-то время он стоял так, стараясь уцепиться за нить рассудка, пока птичий свист за окнами не привел его снова в чувства. Стоило вновь посмотреть туда, на цветной витраж, озаренный солнцем, — морок расточился, на его месте осталась лишь эта запруженная как трамвай зала, полная старых статуй, забытая на полу газета и терпкий запах каменной пыли.
— Я рехнулся! — громко сказал он сам себе, и резко с вызовом распрямился, угодив теменем в свиток какого-то римского протектора, недовольного восстаниями плебеев.
Илья погрозил протектору кулаком (видимо, от лица всех плебеев), и пошел дальше, наметив целью темную высокую дверь в конце — сестру той, через которую оказался здесь.
— Как пить дать, она заперта еще с семнадцатого, и за ней — мумия старого графа у карточного стола, — бодро сказал он, решив, что разговор с собой — лучший способ поддержать сокрушенный дух.
Душевные масти горожан вообще пребывают в хроническом авитаминозе, а тут еще эти полеты во времени и дворцовые тайные коридоры…
— Подумать только, — качал головой Илья, всматриваясь в диковинного грифона, — да все, что выставлено там наверху, не стоит сотой доли того, что брошено здесь как ненужный хлам. С ума сойти! Идиоты!
Тут он живо представил бесформенную, словно вылепленную из глины фигуру Вскотского в черном нахохленном пиджаке. На фоне напряженного торса дискобола, созданного древним гением, она напоминала…
— На кого же он похож, этот Вскотский?.. На глиняного голема, вот на кого! — заключил Илья. — «Господин Горшок». Истукан с газетной вырезкой в башке вместо заклинаний142. Долой ублюдка с престола! — пророкотал он, задрав голову, и тут же оглянулся, не в силах отделаться от мысли, что пара-другая статуй над ним презрительно усмехнулись.
Пройдя галерею, он обнаружил, что и там дверь не заперта, а за нею находится просторный кабинет с кладовкой, заполненной всяким хламом, с разбитыми фаянсовыми удобствами. Высокие окна кабинета не были изгажены фанерой, все стекла, хотя и грязные, стояли на месте, отчего Илья испытал необъяснимую радость — хоть что-то посреди этой разрухи оставалось в порядке! Сквозь них проступали кроны, внутренний двор покоем с заросшей плиткой, и облезлый забор, рассекавший его надвое, — символ так и не начатого ремонта.
Нижняя часть окон находилась почти вровень с землей, так что Илья легко выбрался наружу, оказавшись в уединенном тенистом месте, с которого не было видно ни одного официального присутствия в этажах напротив, а кроны и балкон укрывали сверху. Звуки городской возни долетали из-за окружающих крыш будто бы из другого мира.
— Добро пожаловать в заброшенное поместье, князь! Земля Санникова какая-то, терра инкогнита посреди Москвы.
Илья уселся на каменном уступе, слушая возню голубей, а затем, вдоволь насладившись уединением, забрался обратно в кабинет и решил, пока светло, исследовать его содержимое. Зажигать свет, буде лампа еще годна, казалось ему рискованным — обнаружат и выпрут, да еще подвергнут обструкции, лишенцы.
С первой же минуты он намерился сделать это место своим тайным убежищем… и, возможно, источником дополнительных поступлений.
Невозможно поверить, что в Москве в какую-то эпоху не было «черного рынка». Илья, не подумайте, не был вором, но если вещь лежит просто так, не нужная никому?.. Жизнь кое-чему его научила. В эти минуты его наполнял восторг незадачливого пирата, ставшего вдруг хозяином несметных сокровищ — оставалось только как-нибудь уберечь себя и свое добро посреди кишащего эскадрами океана.
Кабинет был обставлен в том самом, знакомом по кино стиле, предполагающем бокал бренди и трубку у пылающего камина. Дремлющий бульдог прилагался, как и миссис Хадсон — с чайником и пресловутой овсянкой. Большой стол с зеленым сукном, кожаные кресла, необъятный массивный шкаф. Даже напольный глобус стоял в углу, выставив наружу бурое пятно Африки с жилами потемневших рек.
Место буквально взывало к любопытству. И начинать, как в детективном романе, надлежало с письменного стола, которым мог владеть только высшей касты чиновник, при звании и регалиях, какие оборванцу Гриневу даже не снились.
— А экспроприация — это весело, господа! — подмигнул он глобусу.
По виду, столом кто-то часто пользовался — если не буквально вчера, то в последнее время точно. Он был примерно чист, и двуцветный карандаш лежал на стопке серых блокнотов, приготовленных для письма. На крышке — миллион разновеликих предметов: подсвечники, фигурка обнаженной плясуньи, батальон нэцкэ (примерно одетых), колокольчик в форме сидящего на пне кролика, башенка-хронограф, застывший на половине десятого — и дальше в ассортименте. Не хватало только ценников на бечевке.
С привычкой арбатского антиквара Илья прикинул возможные барыши — выходило не так уж дурно. Не родившийся еще Каляда пришел бы в полный восторг и не меньше месяца просидел, шлифуя выводок тучных путти слоновой кости — века, может статься, семнадцатого.
Рядом с гигантом — пасынок — низкий малахитовый столик с прибившимся к нему пуфом, кофейной чашкой и погашенным билетом на «Турбиных».
На пуфе — книжка с интендантским отчетом экспедиции, шедшей в Индию сквозь Тибет и Непал. Географические познания Ильи были так себе, но куда поместить Лхасу, Дели и Катманду он нашелся, хотя и не в один миг. Не считая карандашных набросков гор, сплошь координаты и столбики, под каждым — сумма с загадочной припиской «З. р.» — не иначе «Золотой рубль». Судя по итогу, экспедиция влетела казне в копеечку.
Бросив, где была, книжку, Илья переключился на ящики большого стола. Один был пуст. В другом — разбросаны кнопки и лежал малиновый томик, немало его озадачивший: «О половом вопросе. Мысли Гр. Л. Н. Толстого, собранные Владимиром Чертковым». Забираться в такие дебри Илья не рискнул и графские мысли преступно проигнорировал.
В нижнем, рядом с шикарной кожаной готовальней, он обнаружил целую кипу подшитых в папку листов, испещренных черточками и точками, как в игре в «феодала», только линии здесь часто пересекались и кружили спиралями, заставляя глаза слезиться. Усевшись с находкой на подоконник, он несколько раз попытался проследить какую-нибудь из них, но каждый раз сбивался, как если бы хотел пересчитать деревья на ходу поезда.
— Мистика какая-то… — бормотал он, снова соскакивая с маршрута.
Хуже того, если неподвижно смотреть, начинало казаться, что сквозь лист прорезываются объемные фигуры, как в картинках «волшебный глаз», мешавшиеся между собой самым неприятным манером.
Все страницы в кипе были пронумерованы и аккуратно сложены по порядку — 400 эпизодов неведомой бумажной баталии. Многие из них сильно выбивались по форме — кусок упаковочной бумаги, перевернутый бланк учета, пара промокашек, и даже страница с рецептом пудинга, злостно вырванная из поваренной книги. Такое впечатление, будто неизвестному приходилось вдруг и без подготовки продолжить игру в самый неподходящий момент, так что он выкручивался как мог.
Кто-то провел, наверное, сотни часов, вычерчивая эту странную паутину. Илья припомнил голливудские триллеры, в которых безумцы вели кошмарные дневники, сшитые жилами мертвецов. В голове завертелись мысли про смертные грехи, древние эстампы и бруклинских полицейских с бумажными стаканчиками, по которым служителя порядка отличить вернее, чем по значку.
— Какой-то безумный геймер, скрывающийся под личиной госслужащего. А ведь, очень может быть, я сегодня видел его в столовой, или еще где-нибудь — здесь, в музее, — подумал Илья и из озорства подрисовал в листе закорючку.
В галерее за дверью раздался скрежет. Илья не обратил на него внимания. В эту минуту его терзали вопросы: кто бывает тут и на каких правах — официально или так? Подумав, Илья решил, что так — вряд ли кому-то могли выделить лучший, чем директорский, кабинет да еще в заброшенном крыле здания.
Бросив обратно папку, он помассировал пальцами глаза, оглядел пол, стены и потолок на предмет колдовских орнаментов (как он их себе представлял), но те были чисты и вполне нормальны, если не считать громоздкой потрескавшейся лепнины, угрожающе висевшей над головой.
— Не обвалилась бы эта хрень…
В шкафу был хлам в паутине и засохших личинках — туда не заглядывали лет двадцать. На видном месте, отдельно от остальных бумаг десяток рукописных доносов с начальственной резолюцией на верхнем: «Вон обоих в шею!».
Внушительная газетная подшивка царственно возлежала в одном из кресел, прикрытая выцветшей картой Польши. Илья решил ее полистать и тут совершил ошибку: с размаху метнул на стол, едва не задохнувшись от едкой пыли. Он минуту давился ею, вылезши по плечи в окно, и желал только одного — глотка ржавой гнилой воды смыть с горла эту отраву. Прокашлявшись до горючих слез, он посмотрел на часы: почти семь, пора покидать оазис.
Илья решил не оставлять следов своего посещения — из какой-то деликатности, что ли… не хотелось казаться варваром — место было слишком торжественно и обязывало к порядку. Но в последнюю минуту он передумал и оставил на столе записку «to whom it may concern»143 с просьбой ответить тут же (правда, не подписавшись и печатными буквами).
Затворив окно, он бережно вернул на место подшивку, прикрыл картой, оглядел еще раз с порога кабинет и вышел из него в залу. Ее наполняли тени, ставшие теперь почти черными. На Илью снова накатил ужас — бездонный и беспредметный, будто сейчас вся эта каменная армада двинется на него и сделает что-нибудь нехорошее. Странно, в обыденной жизни и не подумаешь, что взрослый человек может пугаться каких-то статуй, но механика наших чувств не слишком от нас зависит.
— Что за глупости, Илья Сергеевич! Мыслишь мозгом ящерицы, словно дикарь, — пристыдил он себя.
Но облегчения не почувствовал. Ящерицын мозг не склонен к самоанализу, но делает, что умеет от сотворенья: требует убраться от непонятного (возможно, отбросив хвост).
Илья ускорил шаг, но не мог не заглядеться на этот каменный лес. Статуи завораживали. Дискобол, Венера (ведь это Венера?), юноша с мечом (явный сноб, которому хотелось поддать пинка)…
У самого выхода (как он не заметил ее сначала?) на низком пьедестале, похожем на кусок железнодорожной платформы, стояла скульптура болезненно-желтого оттенка, изображавшая обнаженного мужчину в нетипичной для антики позе идущего. В натуральную величину ростом, она была лишена героической выправки, и вообще смотрелась обескураживающе просто — средних лет обыватель, бредущий по дому голышом в поисках пижамы. Казалось, автор задался целью отразить каждый нюанс человеческого тела в ущерб высокой идее, остановившись в миллиметре от того, чтобы сотворить из камня живое: скульптура поражала натуралистичностью. Если так изобразить женщину… Миф про Пигмалиона явно имел под собой основу.
Коротковатые пальцы, жилы и волоски, складки под никчемными мужскими сосками. Ни тебе пружинистых мышц, ни тупой убежденности на лице, которая так завораживает художников. Мужское достоинство не трепетных габаритов… Сеть морщинок вокруг глаз прорезали контуры, которые могли означать лишь одно — очки…
Илья замер, не в силах оторвать взгляд. И тут его пробрал холод: в чужом времени и в чужой личине, в этом странном месте он смотрел на свое собственное лицо, вырезанное богам лишь известно когда и как из куска паросского мрамора!
Все смешалось в доме Облонских, как писал нам классик. Все смешалось. Никакие правила не работали. В голове Ильи летали коровы и раки свистели на пригорках.
Он собрал в кулак волю и обошел вокруг изваяния. Все так, все на месте, даже родинка на плече отмечена резцом М.. Никаких имен и прославляющих изречений. Единственный символ на пьедестале — глубоко вырезанная «лямбда», напоминавшая усталого пешехода.
Проделав обратный путь тем же способом, Илья сбежал по лестнице у столовой, пересек пустующее фойе, сдал ключ недовольному задержкой вахтеру, и вырвался из музея прочь, растворившись среди прохожих, желая одного — не увидеть во сне продолжения этой сумасшедшей встречи.
Прибытие Нишикори
Из мокрого от дождя вагона на перрон Казанского вокзала Москвы вышел одетый в черное гражданин лет за пятьдесят выраженной азиатской наружности, бывший по виду китайцем или японцем, хотя и необычайно рослым — за два метра, похожий более на скалу, чем на человека. Его плащ толстой кожи мотнулся из стороны в сторону и завис колоколом, готовый оборонить владельца не только от непогоды, но и от легких стенобитных орудий. У какого-нибудь копья или секиры вообще не было ни шанса. Впрочем, судя по сложению и свирепому взгляду, с большинством неприятностей он мог справиться голыми руками и без доспехов.
Тут же за ним со скользких ступенек «рица» на асфальт спрыгнул юноша, одетый в мешковатый синий комбинезон, в котором как шпрота в ведре болталось его тощее тело. Макушкой он едва доставал до плеча патрона и был в этом смысле типичным жителем префектуры Киото, если не считать странного выражения лица, какое бывает у человека, надышавшегося дымом от пожара в аптеке.
Высокий был гладко выбрит, держал в руке крокодиловый чемодан и обозревал перрон сквозь круглые затемненные очки. Всякий безошибочно признал бы в нем иностранца, настолько необычно смотрелся он в толкотне московского вокзала.
Тощий же сходил за бурята, продавшего соседу холбожку144, и приехавшего в столицу в поисках лучшей жизни. Нагруженный двумя большими тюками, на фоне своего спутника он смотрелся муравьем, очков на лице не имел, зато носил на верхней губе жалкие усы-перышки, которыми может дорожить только очень молодой человек, еще уверенный, что усы придают убедительности мужчине. Может, оно и так — но, точно, не такие и не при доставшейся ему внешности (среди предков юноши наверняка проскочила выхухоль). В довершение, его шею украшала бардовая, выглядывавшая из-под воротника татуировка в форме лабиринта, похожая на родимое пятно, значение которой вряд ли кто-нибудь мог понять западнее Шикотана.
Небо до краев заволокло серым, дождь назойливо моросил, заставляя усталых людей спешить, поднимал вороты пальто на дрянном ватине, гнал под узкие козырьки подъездов. Вокруг стоял необыкновенный гул, прорезаемый паровозными гудками и криками чудовищного вида носильщиков в грязных фартуках, от одного взгляда на которых хотелось покрепче вцепиться в свое добро — даже Сизиф не доверил бы им булыжник.
Высокий неподвижно стоял с минуту, вдыхая ноздрями воздух, а затем, следуя по прямой, что казалось невозможным в такой толпе, уверенно двинулся на выход. За ним, путаясь и сталкиваясь с народом, едва поспевал помощник. То правый, то левый тюк срывались с его спины, плюхаясь в истоптанную жижу, куда добавлял по капле вечерний дождь. От этого ноша и спина его стали черны задолго до того, как он выбрался к Площади трех вокзалов — главным вратам столицы.
Три круглых как луна циферблата с разных сторон проспекта, следуя Ильфу и Петрову, показывали время с разницей в пять минут. К сумме мелькающих пассажиров на площади добавлялись всех мастей проходимцы, извозчики и улитки таксомоторов, ожидавших наивного пассажира, готового вчетверо заплатить, чтобы добраться до живущей рядом московской тетки. Бабы торговали с лотков горелыми пирогами невесть с чем, и, что удивительно, дрянь эту у них покупали наперебой.
Высокий брезгливо отодвинул лоток, надвигавшийся на него, прицепленный к укутанной в платки женщине, и по-наполеоновски обозрел окрестность, не снимая темных очков.
— Керо145, — обратился к юноше великан.
— Хай… гэнки дэс146, — запыхавшись, ответил тот, продолжая борьбу с тюками, которые будто специально были устроены так, чтобы доставлять наибольшее неудобство.
— Говори на языке той страны, где находишься, Керо, — назидательно ответил ему патрон. — Это правило не раз выручит тебя в сложных непредвиденных обстоятельствах.
— Да, Нишикори-сама.
— Нам нужен транспорт.
Статная фигура японца, да еще со слугой, произвела настоящий переполох в кооперативе вокзального извоза. Двое таксистов уже дрались, не поделив клиента на подступах. Самые ловкие плотным кольцом окружили прибывших, стараясь друг друга перекричать, предлагая доставку в любую точку СССР — хоть до Харькова. На ком еще нагреть руки, как не на чудаке-иностранце, у которого, сразу видно, куры не клюют денег?
Какой-то неосторожный в широкой клетчатой кепке, зараженный коммерческим непокоем, дернул юношу за рукав и, сам незнамо как, мгновенно оказался лежащим в луже у его ног, выдувая пузыри из грязной воды. Для верности Керо взгромоздил на него половину своей ноши, бывшей в два пуда весом.
Остальные претенденты отпрянули в стороны как от бомбы. Послышались матерки и сопение, какое бывает перед дракой. Вокруг начала скапливаться толпа, теснившая таксистов к пришельцам, делая столкновение неизбежным.
Кто-то из закипающего кольца, сжимавшегося вокруг, дернулся было выручить распластанного товарища, и юноша напрягся под одеждой, готовый победить или погибнуть в неравной схватке, но тут вперед подался широкий как буфет вихрастый мужик, задвинув драчуна обратно одной рукой, будто тот ничего не весил. Мужик пристально с прищуром посмотрел на приезжих и неожиданно громко расхохотался, сверкая рядом стальных коронок. Ростом экземпляр был с Керо, но раза в четыре шире; все в нем было увесисто и крупно, даже голос раздавался словно из бочки, отлетая эхом от ребер, обтянутых тертым морским бушлатом.
— Э, паря, стой… — осадил он очередного борца за справедливость, толкая его лапищей в грудь. Борец отлетел в толпу. — Ну, что, барин? Поехали, что ли? — подмигнул он стоявшему с каменным лицом Нишикори, развернулся и пошел так, будто мысли не могло быть за ним не следовать. — Не обману, не боись. Вона туда идем, к тарантасу.
Нишикори одобрительно кивнул и с достоинством снялся с места, держа чемодан так ровно, будто нес трехлитровку нитроглицерина. Керо освободил от спуда ошарашенного таксиста, который бы еще не скоро поднялся, если бы его с хохотом не подхватили под мышки и не поставили на ватные ноги. Кто-то взял его шикарную кепку, но владельцу ее не отдал, потому что, как известно в народе, что упало, то пропало…
Раздвинув перед собой толпу (в этом таланты извозчика и японца поразительно совпадали), рыжий проводил пассажиров к странного фасона экипажу, собранному из несоразмерных частей, включая пушечный лафет и Онегинские славные дровни147, что, вестимо, должно обновив путь, были брошены за непригодностью у обочины. В передней части повозки красовался ухоженный толстомясый рысак, немало напоминавший владельца.
Когда все разместились, уяснив, что ехать надобно к «Метрополю», жеребец стреканул ушами, и без хлыста мягко подался вперед, увлекая за собой полутонный короб с легкостью детских санок.
— Полог-то над барином подыми, — сказал он Керо, в котором мгновенно признал слугу.
Бывший впервые в Москве и вообще в России, тот уже по горло насытился путешествием, хотя и старался держаться бодро. Неудобно усевшись между тюков, юноша ерзал на поворотах и имел изнуренный вид — в отличие от патрона, являвшего образ величественного безмолвия.
— Меня Владимиром кличут. Из далёка будете?
— Долго ехать? — спросил Нишикори вместо ответа.
— Ехать-то? В два притопа допрем, — отозвался извозчик с козел, сворачивая на Сухаревку. — Значит, из дальних стран… Из Японии, что ль? Я вот, когда во флоте служил, тоже бывал в Японии. В Кобе. О, скажу я, порт! Красота! На Кипре порты — сени против японских.
— Почему считаешь, что мы из Японии? — спросил Нишикори.
— А? С лица фамилью видать, — и неторопливо продолжил. — Так вот, в Кобе был конторщик, пулеметом шпарил по-русски. Звали Харчилой, а сам тощ как червь. Весь день, значит, гуторит по-нашему, а как выпьет, наука от него отпадает, и опять: яки-коцу-намедни… Ни хрена не понятно. Без обид, я так, по-доброму. Речь у вас диковинная, чище чем у турок.
— Хачиро, — поправил Нишикори. — Восьмой сын.
— Может и восьмой, не знаю. Тот еще душегуб — без монеты вошь в подмышку не пустит, — извозчик сплюнул в бесконечную лужу, покрывавшую переулок.
— И что стало с ним?
— С кем?
— С Хачиро, конторщиком.
— Кто его знает, барин. Жениться, вроде, хотел. Дело для мужика доброе, для бабы — горшее редьки. Мы-то снялись в обратку, пошли во Владик, я его больше не встречал. Знакомый вашенский, что ли?
— Сам-то ты, Владимир, женат?
— Не, сам нет. Не в пору мне. Потом, может…
За поворотом с Петровки просунулся углом «Метрополь», блестя намытыми окнами. Тарантас, влекомый умницей-рысаком, выехал в Театральный и остановился у детища Саввы Мамонтова.
— О, народу тьма. Праздник, что ль? Приехали, барин! — прогудел извозчик, истребовав свою плату, вполне разумную. — Если что, ты свистни, я подскачу. Меня тут все знают. Уж я таких господ возил — закачаешься! Куда по нужде или для забавы — лучшего не сыскать. Тута по Москве есть куда навостриться…
Извозчик озорно подмигнул и дернул мокрые вожжи, предав пассажиров в руки ливрейного седовласого швейцара. Из аркады живо подскочил породистый носильщик в фуражке — аристократ против коллег-неандертальцев с Казанского. Ни жилкой не показав небрежения, белыми перчатками он похватал с мостовой тюки, крякнув, посадил на тележку, и пошел с ней за Нишикори.
Делегация проследовала в фойе. У стойки, за которой царствовал рыхлый как квашня гражданин с косым ртом, оказалось, что люкс для иностранных гостей готов наилучшим образом и уже их ждет:
— Оплачен на месяц вперед Торгпредством. Пожалуйте во второй этаж! — с уважением сказал администратор, двигая письменный прибор и глядя с лакейской издевкой на Керо, как бы подтрунивая над ним, что, мол, барин-то твой богат, а тебя держит похуже твари.
Керо расписался за обоих в журнале, и скоро новые постояльцы оказались в шикарных апартаментах, выходящих окнами на Большой театр. Его портик был торжественно освещен, и четверка неслась сквозь дождь, желая растоптать клумбу. К подъезду подъезжали пары на вечерний репертуар.
Нишикори, не глядя на высокую обстановку, будто оказался в притоне, а не в лучшей гостинице Союза, передал чемодан Керо, и сразу же направился в ванную, загремев массивной щеколдой. Послышался стук сброшенных тяжелых ботинок и шум воды. В глубине здания, едва слышно, кто-то высоко тянул Виолетту148; в коридоре раздался хрустальный смех, скоро растворившийся внизу лестницы — счастливая пара летела в ресторан.
Керо водрузил чемодан на стол и принялся с обреченным видом извлекать из него предметы. Первым была увесистая шкатулка, внутри которой что-то скреблось — размеренно и ритмично, как может скрестись только лишенное воображения существо, уверенное, что любое препятствие — это дело времени, которого всегда вдоволь. Шкатулка была отставлена, а за ней на свет одна за другой показались детали какого-то сложного механизма, обернутые в телячью кожу. Пальцы Керо заработали с фантастической быстротой. Выражение лица стало строгим.
Когда Нишикори вернулся, юноша собрал на ковре замысловатую конструкцию из листов и стержней, напоминавшую многомерный цветок, втиснутый с грехом пополам в тесную тройку измерений, каким его мог изобразить Наум Габо149. В центре располагалось что-то вроде блюда с мандалой «Шри-янтра» и совершенно неуместными ремешками.
Вытерев руки о штаны, Керо щелкнул замком шкатулки. Из ее глубин показались когтистые лапы и голова водяной черепахи, решившей немедленно выбраться наружу. (Если кто-то считает черепах медлительными и неуклюжими существами, пусть попробует удержать эту тварь в руках.)
Нишикори бережно поддел рептилию под живот, отчего та воспылала энтузиазмом и начала отчаянно царапаться, пока ее не перевернули. (Метод действует на большинство разновидностей черепах, можете проверить самостоятельно.)
— Тихо, тихо, Фуджи… — увещевал он питомицу, пристраивая к мандале в центре «цветка».
Пока патрон сковывал движения заключенной, Керо закрепил ее ремешками на медном «блюде», будто готового к старту космонавта. Рептилия отчаянно вырывалась, расшатывая конструкцию. Вездесущие лапы задевали то одну, то другую ее деталь. Несколько тут же оказались на ковре.
— Большего размера у нас нет? — спросил Нишикори, отступая на шаг от бренчащего шедевра конструктивизма.
— Нет, сэнсей.
— Фуджи определенно подросла… — задумчиво произнес он.
— Ей почти шестьдесят, сэнсей.
— М-мм… Крепление надо увеличить.
— Уже пытались — больше не поместится в Лотос, сэнсей. Прибор не будет работать.
— Впрочем, ее предшественница была еще больше, — по лицу Нишикори пронеслась дымка. — Черепахи живут долго, Керо. Но, увы, не бесконечно.
— Кажется, Иоши подпирал Лотос палками, чтобы он не развалился, — заметил юноша.
— Кто тебе сказал?
— Он сам, сэнсей.
— Старый прощелыга. Так и было, впрочем.
— А мы не можем взять существо поменьше? Я пробовал использовать хомяка…
Нишикори махнул рукой с недовольным видом, как отмахиваются от молодежи старики, когда не хотят менять привычки в угоду какому-то там «прогрессу» (даже если это действительно работает). Без очков, когда были видны глаза, он казался гораздо старше. Возможно, он уже сам не помнил, сколько ему лет.
— Хомяк? Что за глупость?!
— Но если Лотос развалиться, сэнсей… У нас нет другого.
— Задерни шторы и стой там, — он указал ему место возле дивана — достаточно далеко от себя, чтобы юноша понял, что наказан. — Нард150…
(Справедливости ради скажем, что ученый муж и великий воин, очередным воплощением которого являлся похожий на гору японец, в быту был раздражителен и ворчлив как отставной ростовщик. Есть такая порода людей, которые совершенно невыносимы в нормальной жизни. От мягкого кресла под торшером такие типы вообще слетают с катушек, но становятся сущей душой компании, когда дерутся со отрядом альпийских троллей. Сторонитесь их, мой вам совет, если хотите потягаться с ними в долголетии.)
Нишикори, лишившийся плаща и очков, босой, одетый в кимоно сливочного оттенка, опустился перед Лотосом на колени. Его спина, гладкая как плита, совершенно застыла под тонкой тканью, глаза превратились в щелки151, подбородок почти касался груди. Воздух вокруг него загустел, звуки стихли, разлился легкий цветочный запах. По стенам поползли тени, напоминающие кальмаров, играющих в бадминтон. Вот-вот должно было послышаться тягучее глиссандо, располагающее к медитации… И оно раздалось. Тихо и мелодично зазвучал стоящий на полу Лотос. Черепаха в его центре оцепенела. Если бы воображение позволяло проделать такие штуки, мы бы сказали, что песнь Лотоса была пронзительна и прекрасна, проникала в самое сердце, минуя уши, и исходила от замершей в центре Лотоса черепахи. Но это было бы уже слишком, хотя и является сущей правдой.
Лепестки металлического «цветка» пришли в движение. Какое-то время это продолжалось… а потом продлилось еще немного… и еще — пока маска глубокой сосредоточенности на лице Нишикори ни сменилась недоумением. Он подождал с минуту, пристально глядя на прибор, а затем встал и прошелся по номеру взад-вперед, то и дело натыкаясь на вычурные предметы, которые мы считаем желанной роскошью, а его жутко раздражали.
Резной обитый шагренью стул с грохотом упал на паркет, заставив нервно дернуться Керо, так и не посмевшего приблизиться к занятому наставнику, который отвык от тесноты помещений меньших церемониального зала монастыря, да еще с бестолковыми штуками, расставленными повсюду будто назло. Он остановился, с недовольством посмотрел на поверженный фрагмент рококо, затем обвел взглядом весь номер и проронил самое неодобрительное «Кхм…» в новейшей истории, относившееся в равной степени к обстановке и к юному подопечному, пытавшемуся принять официальный вид (что вышло бы лучше у весенней макаки, но даже у Керо достало проницательности понять, что не стоит сильно раздувать щеки). Нишикори хмыкнул еще раз, но уже более снисходительно. Керо позволил себе выдохнуть и опереться задом о край стола.
Лотос продолжал свои эволюции вокруг центра маленькой вселенной, сосредоточенной в черепахе. Птолемей бы одобрил такой подход152.
— Это очень странно, Керо, — задумчиво констатировал Нишикори.
— Да, сэнсей, — ответил тот, ни йоты не поняв, в чем вообще проблема.
— Лотос давно должен был остановиться. Понимаешь, что это значит?
— У Фуджи проблемы с пищеварением? — предложил Керо, перебирая в голове варианты.
По-видимому, версия была не из худших, потому что Нишикори задумался, проверяя в уме такую возможность.
— Нет. Думаю, что нет.
— Но ведь дело в черепахе? — с надеждой в голосе спросил ученик, все не оставлявший надежды использовать кого-нибудь вместо ластоногой рептилии.
— Нет.
— А если попробовать…
— Дело не в черепахе, Керо. К сожалению, это так.
— К сожалению?
Юноша не верил своим ушам. Он-то был убежден, что наставник полмира променяет на эту живую каменюку. Для привязанности к черепахам вообще давно пора придумать специальный термин психиатрии.
— Что вы имеете в виду, сэнсей?
— Я имею в виду, что у нас гораздо меньше времени, чем мы рассчитывали. Зря я не взял с собой Иоши…
— Я справлюсь, учитель! — обиженно пискнул Керо, прорастивший горчичное зерно гордости.
— Я знаю, я знаю…
Кошмар дворника Азиза
Похоже, она задремала прямо тут, сидя за столом, и теперь, проснувшись, не могла понять, где находится. Будто уперлась в стену. В голове мелькнула тысяча вариантов — от мысли, что ее похитили моджахеды, до того, что она заблудилась в квартире Лоры (такое уже бывало).
Встав со стула, Тундра разбудила Бадая, наступив псу на лапу. Он вскочил, по-щенячьи тявкнув, и уставился на нее с укором. Затем, будто всю жизнь провел в этом месте, затрусил к двери, сел у нее и выразительно потянулся, просясь на выход. Даже лапой заскреб по полу, косматый олух.
Тундра была из той породы людей, которыми не щедро человечество, неприятности и колебания духа у которых неизменно вызывают сердитость. Важно при этом помнить: сердитость эта — еще не есть конечная стадия, так что будьте осторожны — за нею следует злость и ярость153.
Выпустив пса наружу, она поднялась вслед за ним во двор. Тот был пуст, лишь неведомая старушка сидела у подъезда, лузгая семечки из кулька, соря шелухой, в которой возились птицы. Она неодобрительно посмотрела на одетую в джинсы Тундру и заерзала на своем седалище, желая скорее поделиться сплетней с товарками, так некстати отсутствующими.
Дворника не было видно, только из-за угла слышался звук метлы. Азиз, ставший дворником не за научные достижения, был по всем понятиям увальнем, не хватал ниоткуда звезд и в целом воплощал невежество бриллиантовой чистоты, но при этом не был лишен инстинкта самосохранения. Разбушевавшаяся белка — и та заставляет отдернуть руку. Тундра в этом плане была похожа на росомаху.
Работа для мужчины — это убежище. Быть нужным у себя дома не так круто, как просаживать жизнь на службе. К тому же дома вы бессильны как обритый Самсон154 — вас слишком хорошо знают, чтобы почитать и бояться, и достанут в любом месте, включая туалет и гараж. Им все время что-нибудь надо, они таскают ваши носки (на четыре размера больше, чем нужно любому из них!) и те бесследно десятками исчезают. Чуть не забыл про духовный поиск — это, конечно, главное для всякого мужика.
После того, как Гульсибяр обезумела этой ночью, Азиз не стал рисковать и, схватив метлу, отправившись подметать двор. А когда этот двор закончится, всегда можно подмести другой, или бульвар, и вообще страна велика — мети, где хочешь… Можно, в конце концов, просто постоять на солнце. А там, глядишь, она сама успокоится.
Бадай походил кругами, справил дюжину раз нужду, отметив каждый фонарь и угол, напился из грязной лужи и лег посреди двора, словно король, потеснив Каляма с канализационного люка.
Тундра покосилась на бабку с семечками и вернулась в подвал, принявшись размышлять с производительностью Deep Blue155, к выключателю которого тянется рука шахматиста. Ее деятельная природа срочно требовала… м-мм… каких-то действий. Но что можно предпринять в ситуации, когда ты провалилась во времени и какой-то дворник, похоже, считает тебя женой?
Ну, допустим, с дворником этим она разберется. Где он, кстати?.. Впрочем, хрен с ним — без него есть, о чем подумать. Пройдет как-нибудь сегодня, наступит завтра — и завтра это потребует от нее решений. Опыт экспедиций в места, куда не заезжают любители легкой жизни, закалил ее разум; программа действий быстро прорисовывалась в голове.
Первое: нужно на что-то и где-то жить. И чем больше этого «что-то» у тебя есть, тем легче разговаривать с окружающими и решить с «где-то».
Второе: не наступать на мозоль властям, иначе аттракцион легко превращается в кошмар. Это правило она выучила тверже, чем «London is the capital of Great Britain»156.
Третье: должен быть способ все исправить. Нет, даже не третье — первое! Срочно нужна машина времени с хорошим запасом топлива. Где тут печатают объявления?
Беда в том, что она понятия не имела, как все случилось. Инстинкт ученого говорил за то, что разгадка кроится в мельчайших деталях. Только художники-наркоманы видят «картину в целом» — люди с тренированным интеллектом никогда не пренебрегают подробностями. Вот только процесс, приведший ее сюда, драли б его коты, проходил во сне и в другом месте, а не в этом захолустном подвале с метлами! А что из этого, в первую голову, логически следует? Что нужно пойти туда же и там заснуть, надеясь, что тоннель работает в обе стороны. Логично?
Тундра решительно умылась отдающей ржавчиной водой, пренебрегла полотенцем дворника, напоминавшим флаг поверженной империи, над которым потрудились победители, и покинула дом, накинув какой-то халат из шкафа, фасоном… Тундра была до сих пор уверена, что такого фасона не существует в природе.
Когда она снова вышла во двор, ее взгляд что-то такое сказал вышедшему из-за угла Азизу, что он не стал ее ни о чем спрашивать и угрюмо поковылял к кидающей шелуху бабульке, к которой присоединились подруги. Он даже не стал им пенять за мусор.
К его огромному облегчению, пес пошел вместе с «Гульсибяр» — еще вчера нормальной женой, за одну ночь превратившейся в фурию157. Жуткая тварь! Где она только взяла его? Впрочем, пусть охраняет дом, а его он привадит мозговой костью. Дружить с собаками Азиз умел с детства: как с людьми, только меньше слов.
«Ай-яй-яй…», — качал головой Азиз, провожая взглядом жену.
Он слышал, что на баб иногда «находит», но Гульсибяр вроде не беременна, а ведь всем известно, что дело обычно в этом. Только почему она босиком и в каких-то странных штанах, спросил он сам себя, но махнул на это рукой и решил подумать о приятном: хорошая погода, привычный двор, люди ходят туда-сюда — с кем-нибудь можно поговорить, а потом обед…
Первое, что обнаружила Тундра, выйдя на бульвар, было то, что центр Москвы не сильно изменился за годы. Здания сплошь те же самые, только другого цвета, без пластиковых окон и кафе в первых этажах, асфальт похуже и нет волшебной плитки двух мэров. Тут только, придирчиво разглядывая тротуар, она поняла, что босая на обе ноги. К счастью, в карманах неуклюжего халата обнаружились бумажка и мелочь, которых хватило на простые сандалии — под стать халату.
В ее голове мелькнула и тут же погасла мысль о судьбе самой Гульсибяр — так он, кажется, называл ее. Если та появилась у Лорки в кресле… Видимо, обеих уже забрали в психушку.
Тундра с Бадаем подошли к дому, где очень еще нескоро поселится ее богатая мужьями подруга, и осмотрела его со всех сторон. Крыша, конечно, была цела и крыта без затей жестью. Ее облепили голуби. Хуже того, пары этажей, надстроенных в девяностые, явно недоставало. А это означало…
— Дерьмо собачье! — Бадай недовольно дернул ушами, готовый спорить, что он тут ни при чем. — Я же не могу зависнуть над крышей! Даже если надраться как вчера вечером… Лора, Лора, не могла поселиться на первом этаже, капризная стерва!
Простой и ясный план возвращения провалился на самых подступах.
Шедший впереди молодой человек с балеткой обернулся на ее ругань, настороженно посмотрел на пса, но все же решился заговорить:
— Вам помочь?
— Нет, спасибо, — отрезала Тундра, глядя на него с раздражением.
«Хренов сердобольный сопляк! Вали, куда шел!» — не вслух, но глазами сказала она ему.
— Я извиняюсь, у вас, наверное, какая-нибудь трагедия.
«Еще какая, чтоб ты знал, кретин!».
— Вот вам подарок. Просто так, — протянул он ей контрамарку. — На две персоны во МХАТ, так что сможете пригласить кого-нибудь. Извините, что помешал вашему разговору с самой собой. До свидания.
Сердце женщины устроено таким образом, что внезапные романтические презенты не могут его не тронуть.
— Спасибо, — ответила Тундра гораздо мягче.
— Не стоит. Вы очень красивы и выглядите встревоженной, как человек, который оказался в чужом месте.
«А эта сероглазая сволочь проницательна… Вообще-то, он симпатичный».
— Просто я сам недавно переехал в Москву. Из Киева. По работе. Я служу в киноиндустрии, — с гордостью поведал он о себе.
Видно было, что даже если бы он захотел сказать менее помпезно о своем деле, то не смог бы — язык сам ввернул «киноиндустрию», слишком уж шикарно звучало слово.
— Я кинокритик, Василий Изотов, — подчеркнул он, что, по его мнению, существа юного и заносчивого, звучало более весомо, нежели «режиссер», и уж тем паче — «артист».
— Хм… Очень приятно. Меня зовут Дэба.
— Очень приятно, товарищ Дэба! Вы в какую сторону идете?
«Совсем юноша… — подумала Тундра. — Господи! А мне-то сколько теперь?!».
Она метнула взгляд на свое отражение в витрине с домашней утварью: между терками и кастрюлями на нее смотрела стройная двадцатилетняя девушка в уродливом халате и дурацких сандалиях.
«Минус десяток! Минимум! Ничего себе!».
Тут же на всякий случай она проверила свою память (Василий, не отрываясь, смотрел на нее, ожидая продолжения разговора): арабский, фарси, немецкий… Столица Лидии? — Милет… нет, Сарды! Вроде бы все на месте.
В ее уме вдруг мелькнула шальная мысль, в которой было место всему — экспедициям, орденам и званию первой женщины-академика, пусть даже СССР, что с того? (Признаем, Тундра была немного тщеславна.)
«А ведь, похоже, не все так плохо, мон шери! Вернуться срочно и забрать документы жены у этого тролля! Почему я сразу не догадалась?!», — и уже Василию:
— Спасибо за ваш подарок. Я не могу принять. Но… если пригласите в качестве «второй персоны», то обещаю подумать.
Эксперимент, аптекарь, падение
Позавтракав и аккуратно одевшись, Илья вышел из дома и направился к автобусной остановке, проводив взглядом показавшуюся знакомой фигуру. Молодая женщина как раз покидала двор в сопровождении огромного пса, довольно вилявшего хвостом. Присмотревшись, он узнал жену дворника. «Только походка у нее как на подиуме, не то, что раньше», — довольно отметил он: обычно Гульсибяр семенила, словно пытаясь проскочить открытое место и спрятаться где-нибудь.
Дребезжащий стеклами автобус, час пропетляв по улицам, привез его на север Москвы, в зеленый тихий тупик, где за кронами вился дым и слышались гудки паровозов. Пройдя от конечной метров пятьсот, сверяясь с начерченной от руки схемой, он вышел к массивному окруженному газонами зданию, казавшемуся колоссом на фоне низкорослых построек окраины. Привязанная к столбу коза щипала чахлую траву у дороги, с завистью поглядывая на сочный палисад института. Рядом с ней спала бабка, расстелив покрывало под одичавшей смородиной. Идиллия Передвижников158.
Миновав ворота, стоянку и крыльцо с группой оживленных курильщиков, он вошел через стеклянный портал в пустой отделанный мрамором вестибюль, удивившись стилю, который, по его убеждению, был придуман не раньше семидесятых специально для безликих институтских коробок, вроде захудалого НИИ кибернетики, в котором он подрабатывал аспирантом. Вероятно, безликость эта, как идея в архитектуре пустила корни гораздо раньше, на заре кубизма.
Тут же из-за напоминающего редут ресепшена, где сидела девица в копне кудряшек, его попросили расписаться в журнале, надеть халат и переменить обувь. Илья в жизни столько не расписывался во всяких графах и формулярах, как за эти несколько недель, и не удивился бы, если Варенька перед тем как пустить на общее ложе, предложила ему поставить закорючку в бланке учета или потребовала «розовый билетик»159.
За «редутом» находился стеллаж с коричневыми похожими на раздавленных клопов шлепанцами, какие дают в больнице, и больничного же фасона халатами, сложенными в стопку как для продажи. Над ними доминировал барельеф вооруженного винтовкой красногвардейца со скуластым лицом, смотревшего на чахлый трахикарпус160, над которым вились серые мушки.
В глубине этого больнично-воинственного фойе у ступеней короткой лестницы Илью поджидал угрюмый молодой человек в очках с роговой оправой, надетых, вероятно, специально, чтобы выглядеть старше своих лет. От этого его внешность еще сильнее кричала о грешной юности, не побрезговавшей отобрать очки у какой-то древней старухи, видимо, оказавшей сопротивление, поскольку на щеке отрока алела свежая ссадина. Он был молчалив и груб, не желал здороваться, поддерживать разговор и скрывать досады, вызванной утренним визитером, и вообще миром, занятым лишь тем, чтобы его изводить. Короче, юноша во всей красе своей юности.
Пройдя широкими коридорами без окон, вид которых внушал ощущение опасности, они оказались в ярко освещенной лаборатории с низким потолком и кафельным белым полом, большую часть которого занимал неглубокий круглый бассейн, наполненный до краев водой. В нем находились двое, мужчина и женщина лет по тридцать, неспортивного рыхлого сложения, с незапоминающимися лицами, бывшими, скорее, данью человеческой анатомии, нежели высокому духу — среднестатистические граждане, которых можно встретить у бакалеи, в кинотеатре, в трамвае — где угодно, столько их развелось на свете. Эксперимент, наверное, требовал именно такого подхода, а может, более ценные экземпляры общество просто не желало растрачивать на него.
Над бассейном в свете ртутных ламп клубился жидкий парок, питавший сыростью воздух. С ним боролась гудящая труба вентиляции, добавляя к запаху старой бани мерзкие холодные сквозняки, гуляющие по полу. Вдетые в разношенные шлепанцы ноги тут же заявили протест, желая ворсистого ковра, песка, паркета — чего угодно, лишь бы не топтать мертвый кафель. Илья невольно потер одну о другую, стоя с растерянным глупым видом, глядя на полуобнаженных подопытных человеков, которых, судя по всему, происходящее нисколько не занимало.
Облаченный в купальный комбинезон мужчина плавал безвольно на поверхности кверху брюхом, делая из воды «пх-пх-пх…», и время от времени смеялся никому не известной шутке. Женщина со скучающим лицом сидела по грудь в воде у кафельного бордюра, рассматривая ногти на руках, сосредоточенная как снайпер. Партнер по эксперименту на ее фоне выглядел совершенным дебилом. Илья без всякой на то причины начал ненавидеть обоих.
На скользком полу напротив двое в белых халатах, масках до самых глаз и черных резиновых сапогах «мечта туриста» подкручивали сложную аппаратуру, облеплявшую жесткий клеенчатый трон, щетинившийся проводами и лампами. В воображении Ильи они казались бесполыми искусственно выведенными существами, действующими согласно программе и, не исключено, плюющими при необходимости кислотой.
Его пробрал иррациональный, не поддающийся никакому объяснению страх: уж не для него ли приготовлено дьявольское седалище, и что предпринимать, если так? Ноги, без того начавшие коченеть, вовсе похолодели.
Но юноша в роговой оправе, выждав театральную паузу, молча указал Илье на блестящий хирургический столик в углу, прижатый к парусиновой ширме, и, не дожидаясь ответа, убрался, бросив ревнивый взгляд на колдующих с приборами лаборантов.
На столике, холодном как арктический лед, лежали блокнот в клетку, самопишущее перо и широкая марлевая повязка. Листы, как на выпускном экзамене, были опечатаны и пронумерованы.
Повинуясь общему стилю, Илья нацепил повязку, почувствовав себя гораздо уверенней: такие штуки все равно, что погоны в штабе — делают тебя своим среди своих, будь ты хоть пустышка на постном масле, случайно попавшая в помещение. Наклонившись над стальным столиком и посмотрев в свое отражение, он вспомнил беднягу Пятачка с повязанной на морду салфеткой из «Винни-Пух идет в гости»161, до которого, дай Бог памяти, оставалось каких-то сорок с небольшим лет. «… а не зайти ли нам к Кролику?», — бессмертный монолог медвежонка, осветивший детство нескольких поколений.
Вопреки поверью, что человек способен часами наслаждаться видом чужой работы, очень скоро Илью одолела скука смертная. И «трон», и купальщики, облачившиеся в байковые халаты, пьющие теперь чай, и деловито суетящиеся лаборанты, коих стало четыре штуки, совершенно его не развлекали и сами не обращали на него внимания, будто Ильи вовсе не было в помещении. Грешным делом, он задремал, ежась от сквозняков на неудобной «вертушке», и проснулся от резкого телефонного звонка, раздавшегося за ширмой.
Один из лаборантов живо подскочил к аппарату, подтвердив в него, что, да, мол, все готово к эксперименту. Другой отобрал чашки у подопытных и погнал их к краю бассейна, на ходу сдирая халаты. Он заметно нервничал. Будь у чудака палка, можно спорить, он бы дал ей ходу, гуртуя свое водоплавающее стадо. Третий и четвертый встали по стойке «смирно» с обеих сторон от «трона» — в руки им просились секиры. Вообще во всем происходящем был какой-то оттенок мистерии. По логике сюжета вот-вот должен был явиться верховный жрец в сопровождении телохранителя и наложницы, выпотрошить купальщиков, воздеть руки к небу и потребовать обильного урожая.
Примерно так и случилось. В лабораторию вошли трое: важного вида коротышка в блестящих туфлях и халате, небрежно накинутом поверх «тройки»; за ним — фигуристая дама с планшетом, алые губы которой были единственным ярким пятном в лаборатории; и худой коричневый от загара гражданин с впалыми глазами, грудью и животом, в набедренной повязке и шлепанцах того же «клопового» образца, какие раздавали на входе. Он, не останавливаясь, сразу взгромоздился на «трон», предоставив оживившимся лаборантам лепить к себе датчики. Скоро его шея и голова ощетинились пришпандоренными пластырем проводками.
Между тем подопытные с плеском сошли в бассейн. Мужчина из воды уже поздоровался за руку с «верховным», назвав его Голиафом Ивановичем. Папа ли его был с фантазией или мама, но еще большую фантазию проявила природа, наградив тезку филистмлянского воина метром с кепкой роста и фигурой шарика для пинг-понга.
«Верховный» степенно уселся в кресло, расправил галстук на животе и, вскинув брови, испытующе посмотрел на Илью, будто обнаружив варвара в своем храме. Затем перевел вопросительный взгляд на даму, желая уточнить на счет визитера. Та вынула откуда-то список и сунула пред очи начальству, ткнув в него длинным ногтем. Голиаф Иванович понимающе закивал, одобрив присутствие летописца, и махнул своей «белой гвардии» пухлой ручкой:
— Три, два… Начали!
Задача Ильи в этом деле, как ему объяснили «компетентные товарищи», состояла в том, чтобы от лица интеллигенции, так сказать, гуманитарного русла, а именно деятелей исторической науки, свидетельствовать в веках о победе человеческого разума над природой… Проще говоря, записывать в блокнот, что получится, для передачи в институтский архив. «Вроде независимого наблюдателя на выборах», — усмехнулся про себя Илья, но любопытство взяло в нем верх, и он согласился на это дело (за которое, кстати, шла двойная ставка плюс бесплатный обед на фабрике-кухне — не хухры-мухры для советского гражданина!).
Ему (чтоб лучше писалось) даже попытались растолковать суть эксперимента — что второстепенно, а что важно в будущем отчете с позиции далеких потомков. Соль состояла в том, чтобы, во благо краснознаменного флота, научиться мысленной передаче воздуха под воду лицу, погруженному в нее с головой. Обретение такого важного преимущества перед странами-агрессорами, буквально окружившими молодую республику, трудно было переоценить. Илья, несколько ошарашенный идеей, тем не менее не мог с этим не согласиться.
Губастый с датчиками на лбу и являлся тем самым уникумом, через которого достигалось решение сей нетривиальной задачи. Теперь он, поощряемый кивками «верховного», очевидно, приступил к телепортации воздушной среды подопытным, поскольку его лицо и шея побагровели, а глаза едва не вылезли из орбит. Правый «страж» мерил бедняге пульс, левый подклеивал отвалившийся электрод.
Притопленный терпело-мужик, которого, чтобы не всплывал, придерживал на дне лаборант со шваброй, приобрел сходные с медиумом цвета, что могло равно свидетельствовать об успехе эксперимента или его провале. Дама, лежащая рядом с ним, была неподвижна и мертвенно бледна, однако моргала под водой, подавая признаки жизни.
Сбросив оцепенение, Илья протер запотевшие очки и аккуратно вписал в блокнот два абзаца, опуская художественные подробности. Затем снова поднял глаза.
«Бесполые» вытянулись в струну, будто доберманы, почуявшие жертву, и что-то такое подкрутили в аппаратуре, отчего губастый всем телом наклонился вперед.
Тут подопытный, наплевав на интересы науки, выпрыгнул из воды, яростно вдохнул и плюхнулся обессиленный на поверхность. Его напарница продолжала смирно лежать на дне.
Илья, смахнувший с рукава брызги и отметивший в блокноте произошедшее, даже подумал, что эксперимент удался и теперь всех водолазов в СССР заменят на женщин, более, по-видимому, приспособленных к ментальному восприятию кислорода, но тут и дама завертелась ужом, вскинувшись с такой силой, что отбросила державшего ее лаборанта (того самого, который отнимал халаты).
— Совершенный и предсказуемый конфуз, — прошептал сам себе Илья и, сделав отметку внизу страницы, окинул всю компанию взглядом.
Как ни странно, на лице «верховного» не было и следа разочарования. Напротив, он, похоже, был совершенно доволен результатом и даже имел вид таинственный, которому бы считаться возвышенным, будь в нем побольше росту. Дама с планшетом, тоже, видимо, понимавшая какую-то скрытую от глаз правду, страстно поздравила патрона, расцеловав его в обе щеки. Уникум в тот момент находился в бессознательном состоянии, его, словно пойманную треску, волочили с кресла к носилкам.
— Каково, Голиаф Иваныч?! А?! Секунд шесть прибавили, не иначе! — счастливо восклицал купальщик, с которого текло на пол, желая обнять «верховного», а для начала обняв его ассистентшу, стоявшую к нему крупом.
Дама, не оборачиваясь, четко и выразительно послала его на три буквы и проход не освободила. Риторика была ненаучной, но доходчивой.
«Верховный», оставшись недосягаемым для объятий, потребовал спирта и полотенец подопытным и спешно прошел на выход, прокудахтав над бесчувственным телом «йога»: «Ай-яй-яй! Не бережет себя Светозар Аркадиевич, не бережет! Весь растратился для науки».
Ассистентша согласно закивала, подгоняя патрона планшетом в спину, и назвала его Гогой. Светоч науки, продолжая цыкать на счет лежащего, выскочил как шарик за дверь, скрывшись в недрах НИИ со своею спутницей. Двое в белом вынесли за ними бесчувственное Светозарово тело, щедро наделенное телепатическими талантами.
Купальщик же, отвергнутый недоступной по чину ассистентшей «верховного», переключился на партнершу по эксперименту и полез целоваться к ней, будучи в этот раз одобрен и поощрен.
Ошарашенный происходящим Илья решил не записывать итог «марлезонского балета», чиркнул закорючку в блокноте и вышел, пока не началось что-нибудь еще, о чем придется потом жалеть.
В смешанных чувствах, долго блуждая по коридорам, так и не обнаружив уборной, он покинул наконец здание, миновал садик с запущенными кустами и оказался на долгой тенистой улице, совершенно безлюдной, шедшей вдоль железной дороги — не той, по которой прибыл с утра в НИИ, а другой, отрезанной от нее стеной домов и сплошных дворовых построек.
Болезненно-желтые двухэтажки стояли над узкой песчаной тропкой, отгороженной от проезжей части строем развесистых тополей. Кроны их разрослись, отчего, несмотря на предобеденный час, казалось, что близок вечер. Всюду валялся древесный сор и воздух наполнял какой-то особый уютный пар с запахом домашней еды, чердаков и трав, будивший воспоминания о дачных вечерах в детстве.
По дороге, почти скрытой густой листвой, изредка катились автомобили, ни в какую не желавшие останавливаться. Илья четверть часа простоял там с вытянутой рукой, размахивая красным удостоверением МИМа, но никто его так и не подобрал.
Между тем времени оставалось в обрез: в любую секунду могло случиться непоправимое, мочевой пузырь держался на честном слове. Встать прямиком под окна и справить свою нужду Илье не позволял этикет. В проходах между домами заманчиво мелькали дворы с кустами… Но, как на грех, в каждом кто-то был — женщины развешивали белье, старцы протирали скамейки, и дети носились с криком, пугая всклокоченных голубей. В одном происходил форменный домашний скандал с киданием стульев и мордобоем. Дама со щеткой на длинной ручке в духе Делакруа162 попирала обломки мебели, грозя расправой «козлу», которого держали за руки дед с бабкой, попутно ругая «стерву». Остальные участники занимали друг друга дракой.
Нечего было думать обнаружить тут ресторан, где, пожертвовав денег на чашку кофе, можно цивилизованно решить щекотливый вопрос бытия. Сколько бы он ни шел — все одно — фатум!
Единственным общественным учреждением оказалась маленькая аптека, втиснутая в фасад одного из одинаковых как гривенники домов — между колонн убогого портика, облупившегося на треть. Ее дверь, служившая также и окном, была настежь открыта, приглашая за мазью и порошками.
— Здравствуйте! — поздоровался с невидимым обитателем Илья, входя в полутемный зальчик, чуть не налетев на прилавок, таким крошечным было пространство. — Я…
— Здравствуйте, — ответили ему из-за ширмы приятным баритоном, выдававшим мужчину лет тридцати (в отличие от знаменитого сыщика с Беккер-стрит, ничего определеннее Илья не мог сказать; добавим: со значительной вероятностью незнакомец был фармацевтом).
— У меня тут возникла… м-мм… неординарная проблема… — сказал Илья, просовывая голову в окошко над кассой.
— Ртутную мазь? — в голосе мелькнули нотки энтузиазма — сифилис все же интереснее ушибов и кашля. Стукнул выдвигаемый ящик.
Илья, не сведущий в аптечных материях, резко замотал головой, чуть не выбив верхнюю планку рамы.
— Теперь, кажется, еще йод, — сдавленно пошутил он, выбираясь из хомута. — У вас тут гвозди торчат, гражданин прозектор. Кажется, я рассадил шею.
— Провизор, — поправил его аптекарь. — Если вы еще можете говорить, вам, скорее всего, нужен провизор. Прозектор тоже понадобиться, но позже, — пошутил словоохотливый фармацевт, выбираясь из тайника.
Его лицо, похожее на урюк, счастливо улыбалось. Моложавый голос никак не клеился к облику человека пожилого, не сказать старого — с седым пушком над ушами, обвислой шеей и в очках-лупах, выдававших сильную дальнозоркость.
— На самом деле, очень извиняюсь, мне срочно нужна уборная, — смущенно сказал Илья, муки которого достигли предела.
Провизор явно обиделся:
— Справляйте свою нужду под кустом, молодой человек! — крикнул он фальцетом, указывая пальцем на выход. — Здесь вам не это! Никогда еще…
— Вы же аптекарь, почти доктор… Сжальтесь и спасите меня!
На «аптекарь» старик еще сильнее надулся. А это нахальное «почти»? На Илью смотрели круглые вдвое увеличенные линзами глаза, лишенные всякого сочувствия.
— Я научный сотрудник, не пьяница какой-нибудь! — испытал Илья последнее средство и уже почти вышел, когда провизор его окликнул:
— Хорошо, заходите. Только приберете там за собой, это вам не трактир! Научный сотрудник…
Оказалось, что в самой аптеке нужника не имеется. Илье пришлось карабкаться по узкой почти вертикальной лестнице в квартиру этажом выше, где в полу был устроен ход. Хозяин предусмотрительно пошел с ним, охраняя свое имущество.
Запах лекарств и пыли там был гораздо сильнее. Всюду — ряды склянок, коробки и пакеты с этикетками на латыни. Вероятно, сверх прямого назначения, квартира использовалась как склад химического сырья и лаборатория.
Через пару минут, все-таки оступившись и устроив легкий погром, на взгляд Илья мало что изменивший в обстановке, он выбрался из каморки, служившей провизору для известной цели, и жарко его поблагодарил.
— Если я могу что-нибудь для вас сделать? Меня зовут Илья, — отчество как-то само по себе отпало в присутствии недовольного старика.
— На здоровье, — аптекарь театрально склонил голову. — Как «почти доктор», обойдусь чувством исполненного долга. Вы все? Выход там же, не стану вас провожать. Как, кстати, ваша шея? Поранились?
Илья провел по шее ладонью, на ней остался кровавый след.
— Вижу. Идемте.
— Опасное у вас место.
— Не представляю, как вы умудрились…
— Голову просунул в окошко.
— И такие индивидуумы служат у нас в науке? — покачал головой провизор, доставая склянку с ближайшей полки.
— Как-то неудобно, не знаю, как вас называть.
— Нестор Петрович меня называть. Я, кстати, действительно прозектор. И провизор тоже, не беспокойтесь, так что йод с мышьяком не путаю. Оттяните ворот, а лучше вообще снимите, испорчу воротник йодом.
Когда ранение было обработано, а колкости истощились, оба пожали друг другу руки в знак примирения.
— Что я вам должен?
— Бросьте! Еще ославите меня как держателя платного туалета, — замахал руками Нестор Петрович. — Что вас занесло на наши галеры? Да еще в такой… хм… безнадежной кондиции?
Тело старика, вопреки законам природы, состояло большей частью не из воды, как у всех, а выдержанного в дубовых бочках сарказма. Илья, подписавший накануне на счет секретности, не удержался и рассказал ему про эксперимент, стараясь не упустить ничего. Под конец рассказа оба захлебывались от смеха.
— И такая чушь происходит в этом солидном доме с золотой вывеской?! Боже правый! — провизор хлопал себя по бедрам. — Никогда бы не подумал. Лучше им кур держать — было бы больше пользы.
Тут Илью прорвало на рассказ про «проблему яйца в народном хозяйстве» и труды Нехитрова на этом поприще. Ничто, скажу я вам, так не сближает людей, как совместная истерика от анекдота. Нестор Петрович гоготал, преломившись над склянкой с йодом (которую в конце концов опрокинул).
— Ой… Господи… Вот что: за щедрый дар хорошего настроения приглашаю вас, товарищ научный сотрудник Илья, отобедать в обществе старого аптекаря-почти-доктора. Чем могу. Я как раз собирался на рекреацию. Если кому приспичит, тут все знают, где меня искать.
Квартира Нестора Петровича устройством напоминала трилистник: забитый скарбом коридорчик с дырой в полу продолжался комнатой, имевшей ходы влево и вправо. Справа в закутке размещалась кухня с громадным примусом, напротив — дверь в соседнюю комнату. Гостю полагалось ожидать в кресле спиной к распахнутому окну, стоящем перед шахматным столиком, с прошлогодним номером «Огонька» и прозрачной склянкой, сомнений в содержимом которой не могло быть.
Пока хозяин сочинял что-то в сковороде, шипящей над керосиновым цветком, Илья отвалился на спинку кресла, стараясь рассмотреть обстановку соседней комнаты сквозь щель приоткрытой двери. Там царил такой же кавардак, как во всей квартире. Тускло блестели колбы и вентили на резиновых трубках, свисавших как лианы вокруг стола, поставленного углом к двери. На полу зеленый снарядный ящик. Книжный шкаф у дальней стены. Короче, кабинет алхимика.
Илья уже почти отвернулся, когда в сознании что-то дернулось, заставив снова взглянуть за дверь. Над краем стола торчала коричневая стопа с растопыренными пальцами, почти неразличимая на беглый взгляд в переплетении медицинских трубок.
В животе визитера похолодело.
Говорят, что многие жертвы насилия успели бы спастись, если бы не приличное воспитание, мешавшее им бежать, пока преступник им заговаривал зубы. Это же клятущее воспитание помешало Илье вскочить и бросится наутек с криком: «Милиция, помогите!».
Не может такого быть, чтобы этот сутулый старик-аптекарь, полный жизнерадостного сарказма, тощая спина которого в ношенной сорочке и трогательно-лысый затылок маячили в дверях кухни, был жестоким убежденным убийцей! А если нет, что такое у него в кабинете, скажите вы мне на милость? Разве дома держат такие штуки? И этот человек только что прикасался к его шее…
В руке аптекаря блеснул нож — на пол полетел кусок огурца. Илья вздрогнул, вспомнив сцену из «Суини Тодда»163.
«Если этот Нестор Петрович кинется на меня? — оценивал он свои шансы, глядя на мышцы под рубахой, не особо внушительные. — Ну, допустим, пну его в грудь ногой. А вдруг он наскочит сзади? Йошкин кот! Старый хрен ведь в аптеке служит! — Илью снова прошибло потом. — Ничего не стоит ему подсыпать мне какой-нибудь дряни в чай, и дело с концом! Обед устроил, сукин сын. Бежать! Бежать! Не теряя ни минуты, бежать!».
На Илью, что называется, накатило. Схватив в прихожей пиджак и воспользовавшись тем, что старик увлекся готовкой, он влез на подоконник, и, толкнувшись двумя руками, выпрыгнул из окна на улицу…
Вместо прыжка вышел неуклюжий кульбит, после которого, под треск расползающейся штанины, он ударился сначала о выступ стены, а затем уже о шедшую вдоль дома дорожку, оказавшуюся, хотя и без асфальта, но весьма твердой.
Илья медленно отворил глаза и первое, что увидел — шиншиллово-серый потолок, угол книжного шкафа и трехглазую операционную лампу. Последнее не на шутку пугало.
Он дернулся, сбросив что-то со звоном на пол, и окончательно пришел в себя, сразу же почувствовав боль в колене. Отвратительным было то, что он не мог разобрать, в каком именно. Затем сразу же — в плече и в ушибленном затылке.
Не успел он встать, как натюрморт дополнился до портрета вытянутым лицом, склонившимся над ним, загородив лампу. Незримый диктор где-то внутри промямлил: «Спокойно, это Нехитров». Лицо, кажется, что-то говорило. Во всяком случае, рот на нем открывался и закрывался. Следом явился голос:
— Слышишь меня?
— Мм-м…
— Двигаться можешь?
Илья пошевелил членами и кивнул. За одно определил, какое колено ныло: правое. Глянув вниз, он обнаружил, что лежит без брюк, а колено действительно забинтовано.
— Положительно, сумасшедший, — констатировал второй голос.
В кадр явилось лицо провизора.
— Ваш товарищ, — продолжил тот, очевидно, обращаясь к Нехитрову, — редкостный идиот с суицидальными наклонностями. С таким за стол страшно сесть — он вилкой может проткнуть.
Нехитров (предатель!) горестно закивал.
— Ну что, до машины доковыляешь?
Илья пожал плечами и попробовал повернуться на бок, чтобы встать.
Тут его взгляд уперся в ту самую кошмарную ногу, которая, продолжаясь, переходила в разнятый труп с выпотрошенной грудиной, коричневый, распространяющий химический запах. Как ни в чем не бывало, он лежал на полу и мутными лишенными век глазами наблюдал что-то в потолке.
— А… — Илья схватился за край стола, поджимая ноги.
— Вы его, что ли, испугались?! — воскликнул провизор, простирая руки горе. В тоне его сквозило недоумение, будто речь шла о брошенном на пол валенке. — Все в вашем музее такие? Господи, для чего ты сотворил дураков…
Да, в самом деле, для чего?
Нервный тип
— Этот лабиринт высосал меня как паук!
Худощавый сгорбленный человек сидел на корточках перед дверцей пузатой печи, напоминающей формой колбу, яростно бросая в нее бумагу. По комнате расползался едкий белесый дым, тянувшийся ремнями под потолком.
— Сингулярности, голоморфы… Тьфу! — сплюнул он, попав себе на колено, и с досадой растер ладонью. — Бред! Маразм! Не то! Все не то! Ты-то понимаешь, что не то?!
Поскольку человек в комнате был один, можно предположить, что он обращался к печке. Если на то пошло, она отвечала ему выразительным шипением непросушенной древесины, честно пытающейся гореть, и стоном погибающей рукописи.
Впрочем, может быть, он говорил с кем-то, кого мы не заметили рядом. Возможно, возможно… Последнее время он видел намного больше, чем остальные — это и не давало ему покоя. Например, весьма странную сущность, звавшую себя «Кэ», будто явившуюся из бредового сна, — алкающего маньяка, стремящегося прорваться в человеческий мир. Больной придурок…
Мозг человека не приспособлен ко всяким штукам вроде смеющихся собак, многомерных бубликов и прочего в том же духе, от рождения умея проделывать с нами отменный фокус — успешно их игнорировать, создавая ощущение нормальности бытия. Вообще, ментальная слепота и хороший аппетит — основа здорового организма. С годами эта ценная способность лишь развивается, к сорока почти ослепляя большинство двуногих (к их собственной вящей радости).
Между тем, наблюдаемый гражданин продолжал высказывать мысли, в основном критического свойства, с ответом на которые никто не спешил:
— Четыреста! Что за число! Четкое, симметричное как два зеркала, отражающие друг друга. Шикарное число, я вам говорю! Идеал. Четыреста грамм сорокоградусной водки на четверых… — тут он замолчал, видно, сообразив, что выходит мало, особо если с закуской. Затем отмахнулся и снова запричитал, роняя с колен бумаги. — Но стоит добавить одну химеру, эту извивающуюся тварь, единицу, как все летит на хрен! На, эти тоже жри, ненасытный монстр!
Он засунул в печь оставшиеся листы, на одном задержавшись взглядом. Затем разочарованно смял его и отправил за остальными. Следом — папку коричневого картона с завязками, похожими на усы Дали. Туда же полетела заляпанная книжонка со стершимся заголовком, которая зашипела как клубок змей.
С силой хлопнув дверцей, человек на несколько секунд замер, глядя в пустую стену. Известь на ней растрескалась, черные жилки разбегались, сплетаясь в неопрятную паутину — карту выдуманной страны, иссеченной реками. Проследив одну из них, от верха до облупившегося плинтуса, он ни с того, ни с сего вскочил, схватил полено и бросил его о стену, так что на пол посыпалась штукатурка. Затем отвернулся и отхлестал себя ладонями по щекам.
Отколов означенный номер, по одному которому судя, гражданин был мало сказать «не в себе», но далеко за границей здравого, он вновь подошел к печи, настойчиво возвращавшей его внимание, и, глядя на отблески огня под конфоркой, продолжил докучать своему невидимому компаньону:
— Как это тебе, а? Каково? — спрашивал он, победно скрестив на груди руки. — Вот и все, делов-то! А ты? Хочешь еще, толстуха? Первосортной мелованной нету, извиняйте, придется жрать ту, что есть. Не угодил, не угодил, мадам, уж не обессудьте — вашему нутру да газетный лист…
Он переломился в шутовском поклоне, едва не стукнувшись лбом о горячий край (теперь явно общаясь с печью, необходимо это признать).
Оставив пламя переваривать отданное ему, человек несколько раз прошелся туда-сюда по мягко освещенной комнате, солнечный свет в которую просачивался сквозь зелень; тощая бузина, росшая перед окнами, казалась изнутри гребнем водорослей, занавесивших вход в морскую пещеру. Затем подскочил к столу и начал лихорадочно искать на нем среди сложенных в стопки книг — выдвигал ящики и судорожно в них шарил, смотрел под буфетом и под столом. Не обнаружив искомого, ушел в соседнюю комнатушку с разворошенной постелью, что-то перевернул там, закашлялся и вернулся с записной книжкой, которую с силой швырнул в прихожую, словно изгоняя из дома.
— Ты во всем виновата, дрянь! — обвинил он безвинный канцелярский предмет, схватился за голову и, неудачно сев мимо стула, больно ушиб копчик.
Когда пароксизм душевной болезни схлынул, он выбрался во двор одноэтажного дома, в цоколе которого располагалась его квартирка, и уселся на скамью у стола под раскидистым старым вязом. Его щеки горели как в лихорадке и плечи дергались под рубахой. Было видно, что он измотан до крайности какой-то непрестанной работой, которая жгла его изнутри, не давая ни минуты покоя.
То ли цоколь дома был низок, то ли строение значительно осело с годами, но большая часть квартиры находилась ниже тротуара. Окна, отгороженные кустами, едва возвышались над утоптанной землей дворика и дарили помещению только свет, но не вид, если не считать туфли, ботильоны и сапоги, мелькавшие сквозь листву. Малюсенькое окошко, выходившее в переулок, было заколочено и закрашено.
Предупреждая ваше сочувствие, отмечу, что нынешний жилец, сменивший старого холостяка счетовода, наконец женившегося и съехавшего в Кузбасс, специально выбрал такое место, позволявшее ему быть в полном уединении, при том не в лесной глуши, а в столичной гуще, что, согласитесь, не так легко обеспечить за небольшой капитал. Если растянуть занавески и закрыть дверь, казалось, находишься в утробе какого-то гигантского дремлющего животного. Попади он, подобно ветхозаветному пророку164, в утробу доброжелательного кита, то бы не стал особенно возражать.
Нередко человек, желавший уединения, получив его, как дитя игрушку, быстро от него устает. У нашего же героя тяга к одиночеству с годами все упрочнялась, сделавшись основой натуры. Не к тому эффектному одиночеству, глупому, полному ложной гордости, от которого ломит зубы, но одиночеству Алисы в Стране Чудес165 — человека, окруженного торжеством абсурда.
Иной раз, возвращаясь мыслями к прежней жизни, он недоумевал, как вообще мог существовать в безумной тесноте коммуналки, да еще в одной комнате с женщиной — милой, кажется, но такой чужой ему нынешнему, о которой он мало думал. Варенька, кажется, ее звали… Или не Варенька? Может, Машенька? Ольга или Ирина? Сумочка, помада, резная рыбка…
— Господи, да откуда ж они — эти Ольга, Ирина, Маша? — мучительно вспоминал он, массируя виски пальцами. — Три сестры, верно? Чехов Антон Павлович написал. А ее как звали? Лиф атласный, полосатое платье, пузырек лавандовый на комоде… Пусть, впрочем… Что за разница мне теперь?
В конце концов, он как мог возместил ей свое предательство. Ведь предал же он ее? По сути? Обманул. Сбежал. Но так это сделал, что она не только не осталась в накладе, а даже, наверно, выиграла. Так что заключаем: больше всех он обманул сам себя, а это, миль пардон, неподсудно.
Смутный образ супруги уплыл куда-то, сменившись видением залитого солнцем города. М. облегченно вздохнул и в воображении пошел по нему, касаясь рукавами прохожих.
В итоге он больше часа просидел в неподвижности, уставившись в одну точку, под кроной безразличного всему дерева, пьющего соки древней, погребенной под толщей новостроя Москвы, где бродят призраки бояр, стерегущих забытые свои клады. Никто не входил во двор и не выходил из него. Верхние жильцы, которых он избегал, кажется, вообще куда-то уехали и уже с неделю не проявлялись. Двери их квартиры сразу шли в переулок, минуя двор, так что встречаться с ними приходилось не часто, что было еще одним плюсом его жилища.
Солнце медленно опускалось, скругляя углы тенями. Сделалось прохладно сидеть на улице. М. стряхнул с себя забытье, развеял воображаемый город, где уже давно сочинил себе дом и сад и башенку с плоской крышей, и поднялся из-за стола, над которым вились бестолковые осы. Одна попыталась усесться ему на лоб, он раздраженно от нее отмахнулся, рискуя быть ужаленным. Но оса пренебрегла хамством, отстала, решив не связываться.
Сделав глубокий вдох, он только сейчас почувствовал, что в горле пересохло и на желудок давит сосущий ком, неудобный как булыжник в постели. Попытавшись вспомнить, когда последний раз ел, М. пришел к тому, что, по-видимому, вчерашним утром. Или не вчерашним, а еще раньше? Нужно было немедленно разобраться с приемом пищи, а то, чего доброго, можно хлопнуться в обморок — это, согласитесь, неудобно и неприлично.
Напившись из-под крана в прихожей и проведя инвентаризацию запасов, он обнаружил: вареное яйцо (сомнительной свежести), луковицу и несколько картофелин на дне корзины — чумазых, зеленоватых, с ростками. Яйцо пришлось выбросить за негодностью, а картофель с луком он запек и съел с крупной как галька солью.
— Надо все-таки сходить за продуктами… надо бы, надо бы сходить… — решил он.
И никуда не пошел, взявшись за оставленный в прихожей толстый журнал в анемично-серой обложке. Вчера он преодолел себя, совершив вылазку к киоску за папиросами, и этот дурной журнал там купил зачем-то. Он и не хотел его брать — просто рассматривал на витрине, а затем как-то не нашелся отказать продавцу, усатому дядьке с черными ногтями, всучившему ему номер «Нового мира»166 с таким видом, будто не купить его преступление.
Хорошо, он станет его читать! Прямо сейчас, не сходя с места! А магазин подождет.
Но, начавшись с редакторской колонки, в которой человек по фамилии Кучерена муссировал вопрос о месте «деревенской прозы» в советской литературе, тот вызвал у М. раздражение. Пропустив вихрастые эскапады о «нравственных ориентирах», затем «о роли труда в сюжете», он все перелистывал, перелистывал, надеясь натолкнуться на что-то стоящее, и в конце концов бросил журнал вслед за безвинной записной книжкой, решительно двинувшись из квартиры. Даже накинул на себя плащ, ругая узкие рукава, хотя и не переменил обувь, оставшись в домашних туфлях.
Однако идти оказалось поздно, за окнами синел вечер и единственным местом, где можно было что-то купить, оставался дежурный магазин Наркомпроса, расположенный через три квартала. Тащиться в такую даль ради провизии?..
— Завтра с утра же займусь покупками, — пообещал он себе, вернулся и обозрел царящий в комнатах беспорядок. — Ну… и приберусь тоже завтра.
Вечером приходили часы той хрустальной ясности, когда мысли и предметы обретают живую резкость, когда кажется, что можешь распутать все тайны мира, хоть клубок Парок — от старика Адама до Второго Пришествия, за которым недалеко и до мирового коммунизма. Это благословенное время немыслимо было тратить на домострой.
Сев за письменный стол, он привычным движением запустил руку в верхний ящик, пошарил и с недоумением заглянул в него. Тот был пуст.
— Странно, куда же они… Ах, господи! — вскричал он, досадуя на себя. — Зачем было жечь?!
Тогда его рука потянулась к нижнему и добыла из него вспушенную вставками объемистую рукопись без заглавия, связанную тесьмой. Какая-то его часть радовалась тому, что все эти докучливые бумажки, от которых, взявшись, не оторваться, безвозвратно сгорели и теперь можно, не отвлекаясь, заняться главным — писать роман.
— Целебная пустота.
Развязав тесьму и отложив часть бумажной кипы, М. отыскал нужную страницу, строка на которой обрывалась жирным многоточием.
— Эту нужно закончить сегодня в ночь, — торжественно объявил он, поджигая фитиль на лампе.
Тени попятились, сокращая щупальца, но вовсе из комнаты не ушли, дожидаясь своего часа.
Накропав с десяток страниц, все более мучаясь от голода, он совершенно потерял нить и перенесся мыслями к брошенной им работе — службе в большом московском музее, которая неизменно вставала перед ним в такие минуты, словно ненавистная подворотня, сквозь которую, хоть лопни, нужно проходить, огибая лужи: захватанная вертушка, коридоры, курилки, касса, запах столовой, от которого выворачивает желудок… Сон разума. Ужас!
Тут в унылом мраке вспыхивало пятно — благородной ветхости кабинет в брошенной части здания, в который он зашел однажды тайком, как бы некий вор, превратив в свое тайное убежище. Работать в нем нужно было осторожно и быстро, возвращаясь на службу так, чтобы не вызвать ни у кого подозрения. Эти ощущения скрытности и опасности быть разоблаченным часто возвращались к нему во сне — тогда М. вставал наутро разбитым и раздраженным. Из-за них он, может, и решался все поменять, почувствовав, что дальше так жить не может.
Благодаря директорской безалаберности, вечным сменам патриотических экспозиций, выжимавших на задворки последние капли «старого мира», урезанным фондам и ограниченным бюджетам, в здании музея были брошены огромные помещения. Целое крыло бывшего дворца пустовало, забытое даже сторожами. Там протекала настоящая жизнь М.. Там горела лампа, и портьера была задернута, не давая просочиться ни капле света. Там над крепким и широким столом, медленно вращаясь, в воздухе висела магниферова болванка, густо испещренная знаками — столь частыми и мелкими, что различить их можно было лишь через лупу.
Глядя сквозь самое мощное стекло, какое удалось раздобыть, М. видел, как эти знаки продолжаются, становясь все меньше, один прорастая из другого — слой за слоем, шепчущих тайной вязью. За шестнадцать лет ему удалось прочесть и записать только два — на первый ушел год, на второй — оставшиеся пятнадцать. Фрактальный хаос третьего поначалу ему не давал покоя, а затем он отказался от идеи с ним разобраться, рассудив, что на это не хватит жизни167.
На изучении этих текстов было сосредоточено все напряжение его мысли, пущены в ход все знания, которые удалось добыть в окружающем чуждом мире, который становился ему все менее интересен, все больше напоминал неуклюжую декорацию постановки, где актеры сменяются непрерывно, но вечно твердят одно, написанное на перепутанных старых карточках.
По губам М. метнулся ядовитый смешок. В тот вечер — кажется, в сентябре — он сидел в огромном удобном кресле, глядя на парящее над столом сокровище, которое, как ни был самонадеян, он никогда не считал своим: предмет было чем-то гораздо большим, нежели вещь, которая может кому-то принадлежать — разве, сотворившему ее божественному инкогнито, о котором он много бесплодно думал.
За стеной вдруг раздался грохот. Начался спектакль повседневности: занавес расступился, выползли актеры нового акта — заспанные и жалкие… М. вздрогнул, затушил лампу и щелкнул ручным фонариком.
Что-то с треском выворачивали из стен и роняли на пол. Если бы у здания были зубы, такой звук стоял бы в кабинете дантиста. К грохоту добавились спор и ругань.
Дверь внутри кабинета вела в узкую как стакан камору, бывшую приватной уборной. Теперь она стояла заваленной всяким хламом и отчаянно пахла мышами, поколения которых нашли приют в башнях из старых стульев. Стараясь ничего не задеть, М. протиснулся между ними и приложил ухо к холодному кафелю стены, вслушиваясь в происходящее.
А случилось в тот вечер вот что.
Афанасий Никитович был, через Василия Степановича, весьма обижен Яковом Панасовичем, оттяпавшим у него помещения «ввиду запредельной тесноты и невозможности хранить бесценные единицы в угрожающих им условиях». Все это и даже более, со ссылками на установленные нормы, перечислением неурядиц, касаясь мимоходом личности самого Афанасия Никитовича (представленной не в лучших тонах), было изложено Василию Степановичу в записке от Якова Панасовича за номером 117.
Директор выдал гневную резолюцию и теперь по слову его совершалось изгнание предметов, бывших за Афанасием Никитовичем, из помещения А в помещение Б, а проще говоря — в бывшую кучерскую, до сих пор перегороженную полатями, на которых спали дворовые. Теперь эти полати ломали, чтобы расквартировать экспонаты.
История была известна всему музею.
Ругались меж собою в тот вечер все: рабочие, сносившие заступами оснастку, Кудапов и Порухайло — по известной причине, а равно грузчики Новосельский со Старожитневым, на горбы которых пал переезд. Новосельский был недоволен, но не так недоволен, как Старожитнев, привлеченный в чужую смену за крайнюю срочность дела. Впрочем, последние, выторговав по отгулу с сохранением, ругались скорее из трудового принципа, гласившего, что без мата тяжелый груз не идет, а начальство сплошь кровососы.
Сторона обороняющаяся (Кудапов) тормозила процесс, сторона-агрессор (Порухайло) напирала. Обе орали на рабочих и грузчиков, тоже не остававшихся в долгу.
— Клепсидра пусть стоит, где стояла — до разбирательства! Несите ее обратно! Я не допущу произвола! — орал Кудапов, тыча Старожитнева в потный бицепс. — Я уже направил докладную о невозможности такой постановки дела! Директор должен знать правду! Вы затмили его сознание ложью! — кричал он на Порухайло, быстро развернувшего оккупацию, пожиная плоды интриги. — Прекратите надругательство над историей! Я иду к нему! С жалобой на всех вас!
Вскотский, о чем надежно знал Порухайло, его не принимал, ссылаясь на дела с Просветкультом и прочая в том же духе, и кричал в коммутатор на секретаршу, которая, свекольно побагровев, гнала просителя вон с приемной. Кудапов блеял и восклицал, требуя впустить его на минуту. Но хуже того — директору, он ужасно не нравился секретарше, что делало его фигурой нон-грата музейной жизни. Лужана Евгеньевна, отрубив к чертям коммутатор, гнала прочь дебошира, грозя всеми земными карами и несколькими небесными. Кудапов отступал, но не унимался, ища сторонников в коридоре, но никто ему не соратствовал — хватало своего геморроя.
Разобравшись в происходящем и брезгливо поморщившись, М. выбрался из каморы, спрятал артефакт в нише под подоконником, прикрыл плотнее за собой дверь и вернулся в чрево организации, чтобы с достоинством работника умственного труда покинуть ее пределы в означенное внутренним распорядком время…
Видения М. расточились, мысли вернулись к настоящему. За окнами шелестели кроны, и алая муть сочилась из-за домов, знаменуя ветреный рассвет над столицей. Печь давно прогорела, в подвальчике стало холодно. Он поднялся из-за стола, размял затекшую спину и побрел спать на пустой желудок, мысленно ругая себя за небрежение домашним хозяйством.
Неисправимый антиквар
Илья снова пришел в заброшенное крыло музея — тем же путем, сквозь лакейский ход. Рысцой пробежал через галерею, стараясь не смотреть на свою окаменевшую копию (мраморный гражданин, зараза, никуда не девался), и нашел в кабинете то же — стол и свою записку. Судя по всему, никто в него больше не заходил. Его планы на счет брошенного имущества окрепли.
По-хозяйски, не торопясь, Илья рассмотрел безделицы на столе, отметив про себя, что легче вынести и втихую сбыть. Где — он еще не знал, но непременно узнает. Всегда и при любой власти есть «черный рынок», в этом он был уверен.
Решив подстраховаться, он выяснил у стоокой директорской секретарши, державшей его среди фаворитов, кто из сослуживцев находился в отлучке, вычислив четверых, могущих претендовать на ключи от пещеры Али-Бабы. Скоро все они объявились, но не были в «его» кабинете — щепочки, волоски и прочие шпионские штуки, оставленные Ильей, были на своем месте. Судя по всему, туда вообще никто не ходил.
Выждав еще с неделю, он вернулся домой с вместительным портфелем под мышкой и сразу закрылся в ванной.
— Горбатого, как говориться…
Илья изучал на свое лицо в зеркале над щербатой мойкой, в которую вечно текло из крана. Ему вдруг показалось, что в нем многое изменилось за эти месяцы: скулы четче рисовались под тонкой кожей, подбородок будто бы заострился, глаза запали и потемнели, и нос стал какой-то… приплюснутые ноздри карманами смотрели по сторонам, а еще недавно не смотрели.
— Ну да, ну да… — закивал он своему отражению, двинув босой ногой по холодному шершавому полу.
Ощущение было таким, будто он стоит на асфальте после дождя. Вспомнилась ночь после клиники, когда он продирался через грозу. Под мойкой от пинка что-то глухо звякнуло.
— Старого пса новому фокусу не обучишь. Здравствуй, фарца родимая!
Он нагнулся и поднял ношу, оперев ее о край раковины. С портфелем вскинулось и чувство опасности. Илья не был особенно щепетилен, но какая-то часть рассудка обозвала его идиотом. Он всецело с ней согласился, тем не менее, твердо решив продолжить.
Разорив гнездо из бумаг, он вынул статуэтку африканской плясуньи, подсвечники старой бронзы с буколическими пейзажиками и хрустальное пресс-папье. Улов был, признаемся, так себе — мещанская ерунда, радость мелкого лавочника. Но в свете угольной сороковки, да на фоне-то коммунальной ванной, завешанной несвежим тряпьем, вещи смотрелись весьма прилично, по-графски прямо.
Илья повертел подсвечник, соскреб с него каплю воска, приблизил к свету. Эмалевая березка стояла над сонным лугом, на котором паслась кобыла. По всему видно, кобыле там было хорошо.
— Для раскачки пойдет, — заключил он, сложил вещицы обратно и вышел в коридор, принадлежавший ему безраздельно лишь в недосягаемом будущем.
В субботу ехать с добром на Сходню — «толкать» хабар. Жила там, как он узнал, древнейшая бабка Софья Астаховна, торговавшая в обычные часы пирогами, а поверх того бравшая по доброй цене кунштюки — без расспросов и всяких справок.
В квартире не было в эту ночь никого, кроме них с Варей. Быстровы всем кагалом съехали в «пансион», о чем говорили с гордостью чуть не месяц (заводской санаторий под Домодедово). Морошка с сыном тоже куда-то смылись. Матиас сутками пропадал на службе, возвращаясь вымотанным как конь, спал и снова уходил на работу. Произошел у них в издательстве какой-то аврал — то ли прогрессивку тянули, то ли грохнулся большой заказ сверху. Даже Калям куда-то запропастился, не путался под ногами. Наверное, где-то плодил котят.
Илья стоял в притихшей квартире, которая существовала в его жизни всегда, сколько он помнил, и чувствовал себя будто бы вернувшимся в детство. Темнота потакала наваждению. Нет и не было коммуналки, а есть он, привычные тени и повороты, и худой кран каплет как метроном… Кажется, даже слышен голос прабабки, говорящей с подругой по телефону. Он помнил ее — обширную как сундук бабу Элю, жившую через дом. Кухонное окно у нее выходило на козырек парикмахерской и Илью все подмывало на него выбраться, отчего, видимо, ему и запрещалось туда входить. Баба Эля тряпкой отгоняла его, пугая конем без кожи, что живет у нее за холодильником. В детском сознании он путался с Коньком-горбунком, отчего мальчик боялся сказки и вообще с недоверием относился к лошадям, досадуя, что их столько расплодилось в различных книжках.
Единственная полоска света падала на изъеденный пол из комнаты, где Варенька хлопала дверцей шкафа.
— Холодно, одеяло ватное постелю. Что это ты на ночь глядя с портфелем?
— С работы просили передать… так, чтобы не забыть… — буркнул он, ставя багаж под стол.
Одеяло было бардовым, толстым, тяжелым как асфальт. Варенька тряхнула им, расправляя, и принялась заправлять сквозь отверстие в центре пододеяльника. Впечатление было таким, будто белый осьминог всасывает загустевшую кровь.
— Что-то ты с лица спал. Заболел опять?
Юбка вокруг ее ног заманчиво колебалась. Но Илья, лишь мазнув взглядом, отвернулся, и даже прикрыл глаза, чтобы не соблазниться — настроение было хуже некуда. Голова гудела, хотелось забраться в нору и спать до конца времен.
— Скоро уже? — раздраженно спросил он, щурясь на лампу. — Все возишься, возишься… Может, перекус устроим по-быстрому? Что-то выпить хочется.
Варя театрально вздохнула, бросила одеяло и пошла на кухню, объявив впавшему в задумчивость кавалеру:
— Картошку чистишь ты. И — по маленькой.
Часам к десяти в субботу Илья приехал на Сходню и пошел с портфелем и пустой банкой через пути, как было ему подсказано — и кем?! — прытким проходимцем Нехитровым, в рот ему ноги! Оказалось, тот уже давно промышляет, сбывая кое-какой товарец, привозимый из командировок или взятый незаметно в музее, хозяйство которого было объемно и велось из рук вон плохо. Главное, объяснял он товарищу, которого наивно считал неопытным и лишенным торговой хватки, не трогать драных командирских сапог и прочей «краснознаменной бутафории» — это малонужное добро находилось на особом учете, ибо идеология зиждиться на кумирах, а кумиры, как известно, редко ходят босые. Достойный же товар зачастую просто гниет, так что пускать его в оборот по-тихому можно считать благородным делом.
Если бы Илья не посмотрел на распалившегося товарища особенным насмешливо-печальным взглядом, свойственным пчелам и спаниелям, слушать бы ему битый час лекцию про Робина Гуда и прочих борцов за правду.
— А чем ты, кстати, разжился? И где? — поинтересовался Борис Аркадьевич, желая сам купить у Ильи, а еще лучше — помочить клюв в том же источнике. В глазах его влажно мерцали звезды, какие возникают в предвкушении денег. — Извини, не замечал как-то за тобой практичности в таких делах.
Но Илья не сдался: зачем знать то, что не нужно знать?
— Повяжут, только хуже обоим будет.
Нехитров махнул рукой и сдал козырной контакт, заставив Илью поклясться, что он его, Нехитрова, знать не знает и видит впервые в жизни, да и то мельком со спины… Илья пообещал стереть его из памяти навсегда.
Ушлая бабка сидела на чурбане у спуска с платформы, где валом валил народ — с поезда, на поезд и просто так. Николаевская железная дорога рассекала местность, ускоряя, как водится, сообщение вдоль — и чудовищно затрудняя поперек. То и дело проходил паровоз с составом, волоча клубы плотного как шерсть дыма. Виадук, дочерна закопченный снизу, стягивал воронкой людскую массу, направляя ее прямо к предприимчивой старушенции. Место было неприятным, грязным, но бойким, выбранным со знанием дела.
На лотке перед старухой, покрытые льняным полотенцем, лежали пироги — тонкие, жареные в жиру, со сплющенным защипом с торца, делавшим их похожими на селедок. В стоявшем рядом ведре болтались изумрудные огурцы в рассоле, густо пахшем укропом. То и дело очередной покупатель выручал «селедку» в газетном ушке и овощ, наколотый на лучину. Бабка улыбалась беззубым ртом, благословляя пешехода на трапезу. Карман фартука, набрякший от выручки, тяжело покоился на ее коленях, спрятанных под толстыми юбками.
Лотка хватало на четверть часа, и он тут же сменялся новым, подносимым «внучком» в кепи на глаза и в чистой рубахе, являвшемся словно из-под земли. Судя по запаху, перебивавшему паровозный дым, жарили пироги где-то рядом, за одной из притулившихся к путям стаек.
Угрюмый потный мужик, тащивший вязанку дров, уронил полено у ведра с огурцами. Торговка ойкнула. Мужика тут же подхватили двое, тершиеся в толпе, оттеснили прочь, не дав подобрать потерю. Он было возмутился, но притих, прочитав в их глазах недоброе. Бабку навязчиво опекали.
«Звезда бизнеса!», — подумал Илья, усмехнувшись, и уселся на облезлой скамейке под козырьком, с удовольствием наблюдая за коммерсанткой. Подходить к ней нужно было минута в минуту в специально отведенное время, которое, как понял Илья, особым образом вычислялось: Нехитров что-то черкал в бумажке, которую прикрывал ладонью, и назвал, во сколько нужно соваться к даме.
В десять двадцать три Илья встал, подошел к торговке в общем потоке, потряс банкой в сетке и истребовал малосола в свою тару, наотрез отказавшись от пирогов, которые та ему совала, делая дурные глаза. Рассердившись для вида на надоеду, бабка велела ждать, махнув рукой в сторону забора, на котором сидел огромный кот цвета леденца, упавшего в грязь. Илья, мотая банкой, пошел к нему. Животное посмотрело на него как на дурака и смежило янтарные очи.
Вскоре в графике «вип-персоны» наступил перерыв. Старуху сменила баба лет сорока с трясущимися щеками, подвывавшая «пироги-и… огурчики-и…». С таким же успехом она могла выводить «чума-а… мо-ор…», сидя на стене средневекового города. Если бы ее не зашибли камнем, то сделали бы пророчицей.
«Бизнес-вуман» Софья Астаховна, кутаясь в суконную телогрейку, прошла, не оглядываясь, к сараю. Илья с портфелем и клятой банкой, бившейся о колено, пошел за ней, нервно озираясь вокруг. Было в божьем одуванчике что-то холодно-неприятное. Чудилось, оставшимися зубами она сдирает кожу живьем с котят, или гложет скальпы должникам в безлунную ночь, пока не отдадут долг с процентом. То ли от страха преступить невидимую черту, то ли от стыда за себя, с каждым шагом Илья все больше ненавидел ее, впервые в жизни понимая сердцем Раскольникова.
За сараем стоял навес, под которым в чане жарились те самые пироги, что расхватывал «на ура» народ. Между чаном и крепко сбитым столом орудовали две женщины с голыми по локоть руками, смутно похожие на старуху. Две бадьи с начинкой и тестом стояли тут же на табуретах. Женщины ловко, не глядя и не останавливаясь, черпали начинку, лепили и жарили тестяные «селедки», складывая готовые на лотки.
Когда Илья подошел, шустрая старуха уже нацедила чай в граненый стакан из маленького медного чайничка, стоявшего тут же на очаге, кипятившем жир. Ее глазки в мутных старческих ободках испытующе на него поглядывали:
— Пойдем, чито ли?
Сцапав стакан, она поковыляла к сараю, дверь которого будто сама собой отворилась. За ней стоял рослый мордоворот с глазами, напоминающими щебенку. Илья готов был спорить, что он, как и две бабы на пирогах, родственники старухи.
Каменноглазый захлопнул за Ильей дверь и встал, дыша чесноком в затылок. В сарае было темно и тесно, пахло огуречным рассолом. В углу под электрической лампой, не видный от окна стоял стол с бортами, какие ставят на кораблях, чтобы вещи не летели от качки на пол. Старуха уселась возле него, шумно прихлебывая и морщась:
— Так шо скажешь, мил человек?
Илья, во рту у которого стало капустно-кисло, начал издалека:
— Тетка у меня недавно скончалась…
Старуха кивнула, как бы подтверждая: бывает.
— Оставила кой-чего по мелочи… то да се…
Старуха и на это кивнула, полностью согласная с ходом дел, в результате которых мрут бездетные тетки, оставляя племянникам то да се.
— Мне не надо, а людям может сгодиться…
— Торговать не воровать, — молвила старуха, ставя пустой стакан. — Ну, покаж, чего перепало с тетки. Не боись, не у докхура, в ноздри глядеть не буду.
Илья подошел к столу и начал вынимать из портфеля.
Старуха, не прикасаясь, долго рассматривала вещицы, и даже, показалось Илье, заснула за этим делом. Но тут вдруг, причмокнув ртом, повернулась к нему и посмотрела гаденько-гаденько:
— Шо просишь?
— Слышал, что у вас без обмана. Скажите сами, а я соглашусь.
— Дурковать решил? Ну, ну… — и назвала цену в три раза ниже, чем рассчитывал получить Илья.
Он даже не повел бровью, глядя в лицо старухе, похожее на печеное яблоко:
— Воля ваша, как скажете. Где расписаться?
Астаховна улыбнулась, не разжимая засохших губ.
— На столбе за баней распишешься. Ладно, к цене докину, не мое это — людей обдирать. Старая я уже. А ты, погляжу, шкода, мил человек? Андрей, дай ему…
За спиной Ильи зашелестели бумажки.
— Банку-то не забудь, нам чужого не надо. Положи огурцов из кадки… Да не руками ж! — и уже из-за порога, с усмешкой: — Приходи еще как-нибудь. Чаю, тетка у тебя не одна?
Сомнения Нишикори
Октябрь в одну ночь обнял землю холодом, отшвырнув надежды на бабье лето. Граждане намотали шарфы и переобулись. Коты больше не валялись на солнцепеке, а только воровато трусили у самых стен, стараясь быстрее исчезнуть с виду. И деревья, шепнув «увы…», раскидывали оставшуюся листву, будто отказывая в родстве миллионам нищих, цепляющихся за рукава.
Нишикори бодрствовал шестую ночь. Керо, веривший в могущество своего патрона, все же начал беспокоиться за него. Никогда раньше он не слышал, чтобы учитель разговаривал сам с собой. Ему самому едва удавалось прикорнуть из-за этой неуемной возни. Скоро, если все пойдет как идет, кому-то придется беспокоиться уже за него, Керо, буде найдется такой доброжелательный человек в этой варварской стране, поклоняющейся звезде на башне168.
В какой-то момент, отмечая результаты измерений в блокноте, Керо поймал себя на мысли, что перестал понимать, где он, который час и что вообще происходит, а просто записывал за учителем, когда тот требовал, не вдаваясь в смысл.
Отдернув штору, он долго смотрел на Театральный проезд осоловелыми от недосыпа глазами, пока Нишикори не окликнул его, в тысячный раз колдуя над механизмом — таинственным Лотосом Да-Он-Ли, созданным древними М. ми. Керо в этот миг остро завидовал идущим за окном пешеходам и всерьез задумался стать бухгалтером…
— Считаешь, проблема в этом старье?
Нишикори ткнул пальцем в бесценную реликвию, смутив трепетного в вопросах веры ученика: Лотос, как-никак, считался священной штукой. Вообще-то Керо учили как-раз ничему не верить и опираться на личный опыт. Но когда опыта гораздо меньше, чем вещей вокруг, как еще компенсировать недостаток?
Он не в первый раз замечал, что учитель имеет… весьма практичный взгляд на такие вещи. Смутное чувство подсказывало, что, если бы выдалась суровая зима и нужно было согреться, сэнсэй, не моргнув глазом, бросил бы в жаровню Двенадцать Священных Статуй. Хуже того, он бы приказал Керо трясущимися руками разжечь огонь, да еще поставить на него чайник!
— Нужно покормить черепаху, — тут уж, будь спок, это предназначалось ему.
Нишикори потер глаза и зевнул, будто не был «великим» и тэ дэ, а всего лишь усталым немолодым человеком, неделю просидевшем на корточках, беседуя сам с собой.
— И проветри тут. Душно, хоть топор вешай.
Последней фразы юноша не понял вообще, но по тону уловил, что учителя наконец добила усталость и есть шанс немного отдохнуть от его активности. Словно в наказание за такие мысли, Нишикори потребовал почистить и набить ему трубку мятным табаком, потому что от вишневого у него «уже ком стоит в горле».
Когда довольная жизнью черепаха была торпедой пущена в ванну с теплой водой и накормлена «беф а ля фисель» от шеф-повара «Метрополя», трубка вычищена, набита чем надо и почтительно подана учителю, а окно открыто осеннему хрусталю, пахнущему листвой и бензином, Керо сел на ковер и закрыл глаза, мечтая лишь об одном: превратиться в какой-нибудь предмет, которому плевать, что происходит вокруг. Камень в лесной глуши подошел бы лучше всего.
— Камни испытывают все то же, — раздалось над ухом юноши, вздрогнувшего от неожиданности. — Только процесс происходит медленнее. Они, как и мы — рождаются, сознают свою идентичность и сходят в круговороте бытия, воплощаясь в других камнях, пока ложность индивидуального Я не станет очевидной и ясной. Отличие составляют горы, но это сложно объяснить словами.
Учитель иногда вспоминал про свою роль и делился мудростью — как правило, в самый неподходящий момент.
— Да, сэнсей, — только нашелся ответить юноша, прокручивая пленку назад: уж не взболтнул ли он мысль вслух. Смущением Керо можно было дробить орехи.
— Кажется, я нашел ответ на вопрос, так волновавший меня в эти дни, — «и ночи», тут же добавил Керо. — Понятое мной отмечено печатью невероятности, — вещал Нишикори, прохаживаясь по номеру, в свойственной ему витиеватой манере средневекового правоведа.
К словам он относился бережно как к жемчужинам, с упоением пересыпая их в своей ментальной шкатулке — или, лучше сказать, в сундуке размером с амбар, вмещавшем массу полезных штук, о которых пишут наугад щелкоперы-фантасты и псевдо-визионеры всех мастей. В монастыре Керо заставляли читать множество трудов этих расплодившихся проходимцев, чтобы привить от ложного знания. Иногда оно было… весьма увлекательно. Он бы под пыткой никому не признался, что сам не свой от «Таинственного острова» Жюля Верна и даже помышлял украсть книжку из монастырской библиотеки, после чего в раскаянии три ночи просидел лицом к стене. (После «Мадам Бовари» Флобера он сидел перед стеной шесть.)
Предметы мебели, стоявшие на пути Нишикори, были сдвинуты к стенам, чтобы он на них не натыкался. Японец так и не понял назначения сумасшедшего количества безделушек, собранных в одном месте. Трюмо приводило его в бешенство, остальное раздражало в различной степени. Значительным прогрессом стало освоение вертящегося рабочего кресла, изобретенного гораздо позже его первого воплощения в безымянной северной деревушке, что вполне его извиняло. Единственной же бесспорно положительной частью «люкса» японец упорно считал ванную, так что, отвлекаясь по естественной нужде от занятий, он ворчал о том, чтобы съехать в какое-нибудь «нормальное место» с этого «портового склада», лишь бы там было «сие чудо городского обихода».
Повисла минута неловкой тишины. Точнее, неловкость чувствовал Керо, который был отчего-то убежден, что должен всегда отвечать на слова учителя, хотя последний так вовсе не считал.
— Вот ответ: вблизи нас находится не менее двух искомых. В этом заключено все дело. Там, на сто сороковой долготе169, — он показал трубкой на восток, — это невозможно определить, а здесь совершенно ясно.
Несмотря на предобморочное состояние, Керо понял, о чем толковал учитель. Трудно представить степень совершенства в Игре, позволявшую провернуть такое. Чисто теоретически это, безусловно, было возможным, но настолько невероятно, что даже близкому к просветлению Нишикори понадобилось несколько суток, чтобы смириться с такой идеей.
В дверь постучали. Керо уже подскочил, чтобы снова развернуть горничную, неделю пробивавшуюся в номер навести порядок, но Нишикори примирительно махнул рукой:
— Пусть женщина выполнит свою работу, у нас весьма неопрятно.
Горы грязной посуды, по-цирковому балансирующие на всех поверхностях, красноречиво подтверждали эту теорию. Захваченные с собой припасы подошли к концу еще под Иркутском и вылазки Керо в ресторан были единственным развлечением последних недель. Поначалу пришлось смириться с тем, что требование кина170 сырого палтуса и горшка риса вызывает у торговцев и официантов истерику. Не было ни маринованных слив, ни тофу, ни пучка нори, которые можно найти в лачуге всякого бедняка на родине. Кажется, в этой варварской стране вообще не понимали, чем и как следует питаться. Принцип пяти цветов на столе также был неизвестен аборигенам. В результате, поселившись в гостинице, Керо просто приказывал нести в номер все, что казалось ему наименее подозрительным, и уже там омлет с севрюжьей икрой и порционные судачки а-натюрель проходили оценку на съедобность.
Юноша пошел к двери, на ходу заправляя в штаны рубаху. Встреча с дамами всегда вызывала у него нервозность, в отличие от учителя, равнодушно смотревшего на грешные красоты и вообще на большинство существ, предметов и общественных проявлений. Из всего разнообразия живого он более всего почитал черепах, утверждая, что те успешно воплощают принципы вселенской гармонии, хотя, да, необходимо признать, являются безнадежно тупыми тварями.
Перед тем как отодвинуть щеколду, Керо глубоко вдохнул, дважды поплевал на ладони и провел ими по «ежику» волос. Затем, спохватившись, отхлестал себя по щекам, чтобы взбодриться от недосыпа. Таким образом приведя себя в порядок, он предстал гостье во всей красе…
Настенька Ключевская впервые наяву увидела призрака, который оказался еще страшнее, чем те, снившиеся ей порой по ночам, когда она засыпала на диване с книжкой Лавкрафта.
Существо, открывшее дверь «люкса», имело плоское пергаментное лицо, почти лишенное подбородка, покрытое подозрительными пунцовыми пятнами, будто кто-то отходил его отборной керченской сельдью за бранные слова на Пасхальной службе. Узкие щелки глаз на опухших веках, небритые щеки и жидкая кисточка усов под приплюснутым мягким носом идеально подчеркивали образ.
Простим девушке из добропорядочной семьи невольный вопль ужаса. В самом деле, постояльцы «Метрополя» обычно выглядят совершенно иначе. Не будет преувеличением сказать, что, обычно они выглядят как полная противоположность уведенному — солидные люди в дорогой одежде без огрызка карандаша за ухом и запаха непроветренного подвала.
Керо, нервы которого и так были на пределе, отпрянул от двери и упал навзничь, споткнувшись о собственную ногу. В целом монастырская подготовка делала его чем-то средним между гимнастом и диверсантом, отлично владеющим своим телом и шестьюдесятью тремя видами оружия, но в частности его никогда не учили правильно реагировать на перепуганных девушек, тем более с визгом швыряющих в него тряпкой.
После нескольких междометий и потирания ушибленных частей тела инцидент был исчерпан и стороны снова встретились на пороге, разглядывая друг друга в упор. В то же время нервозность юноши не только не улетучилась, но значительно укрепилась, поскольку он, кажется, в жизни не видел ничего прекраснее Настеньки. Тряпка сама собой перекочевала из рук в руки — и это было трогательно как сцена в слезливом фильме, в которой дева на прощанье одаряет платком любимого, уходящего на войну. В подходящей ситуации кусок мокрой фланели прекрасно заменяет платок и дает не меньший подвод для поцелуя.
Парень бы так и стоял, уставившись на атласный воротничок гостьи, если бы в ванной не послышались плеск и стук падающего на пол камня.
— Ахо!171 — воскликнул Нишикори.
Керо дернулся как марионетка, исчезнув в глубине номера. Забренчали перекрываемые вентили, шум воды стих, и какой-то великан в белой пижаме прошлепал босыми ногами через номер, держа в руках черепаху. Настенька, верная профессиональному долгу, уже было собравшаяся помочь, снова замерла на пороге, приняв за лучшее вызвать администратора.
Когда, в конце концов, номер был приведен в порядок (не считая мебели, расставлять которую по местам Нишикори категорически запретил), и настало время вечерней молитвы, Керо, шатаясь от усталости, опустился коленями на ковер, закрыл глаза… а затем открыл их, обнаружив себя лежащим на том же месте. Только в окна теперь ярко светило солнце и на низком столике у дивана кто-то расставил нарядный золоченый сервиз с видами сельской жизни. Жизнерадостный чайник по-свойски подмигнул ему «зайчиком» и продолжил неспешную беседу со сливочником в форме коровы. В открытое окно летели гудки автомобилей, говор и цок копыт. Было никак не меньше десяти.
Нишикори горой восседал на стуле, казавшемся под ним щепкой, и намазывал ложкой толстый слой икры на ломоть батона. Лицо его было сосредоточенным и бесстрастным, словно он готовился к битве. Поверженный бутерброд исчез в один мах, вслед за ним опрокинулась ажурная чашка чая, щедро сдобренная сливками из «коровы».
Керо чувствовал себя опозоренным. Развалиться на ковре перед учителем как собака… Кошмар! Он болванчиком вскочил на ноги и почтительно поклонился, не смея поднять глаза, и так остался стоять, пока его патрон расправлялся с очередным бутербродом.
Нишикори раскурил трубку и удовлетворенно откинулся на спинку дивана.
— Ты бы мог изобрести сон, если бы его не придумали до тебя, — тяжелым басом произнес он с необычным добродушием в тоне.
Керо решил на него не покупаться, считая провинность слишком тяжелой. Скажем прямо, ему вообще было не до нюансов.
— Простите, учитель, — промямлил он во впалую грудь, глядя на зеленые ромбики ковра, плывущие в ворсистом бежевом океане.
Тут, будто на грех, он почувствовал адский голод, неуместный как жаба на подушке, и громко сглотнул слюну. Ароматы накрытого к завтраку стола были сногсшибательны.
Нишикори еще какое-то время держал паузу, которой, казалось, не будет конца. Если бы Керо посмел посмотреть ему в лицо, то с удивлением обнаружил бы на нем усмешку.
— Что же, считай, что твоя провинность исчерпана, — наконец смилостивился он. — Ешь.
К своему удивлению, вышедший из оцепенения Керо обнаружил на столике второй прибор, включая кучу неудобных стальных предметов на крахмальной салфетке, к которым никак не мог привыкнуть.
Вряд ли Нишикори руководствовался гуманными соображениями, когда, отложив трубку, приступил к поглощению блинчиков с вареньем, но юноша почувствовал себя гораздо свободнее, увидев, что патрон занят своими делами и не собирается развивать скользкую тему дисциплины. Он почтительно подошел к столу, опустился на колени и вцепился сразу в три куска ветчины, выложенной веером поверх нарисованного луга с косцами. Счастье было так близко…
— Ты должен научиться есть вилкой, — тут же все испортил Нишикори, указывая подбородком на чайник.
Керо с сожалением отложил ветчину, вытер руки о салфетку и почтительно налил учителю чаю.
После чаепития Нишикори сел на пол лицом к двери, взял со стула газету, пробежал глазами передовицу, а затем отринул ее, взял другую и тоже не стал читать, переключившись на третью.
В номер постучали — меленько и гадко, будто не для того, чтоб ему открыли, а посмеяться над постояльцами. Нишикори насупился — его лоб наехал на лицо, а глаза совершенно сузились, так что было не ясно, видел он ими что-нибудь, кроме изнанки век, или нет. Керо, нормально поесть которому, видимо, было не суждено, разочарованно поплелся к двери.
Не успел он к ней подойти, та начала сама собой открываться. Послышался стон заунывной песни, от которой у юноши зачесались уши. Он невольно обернулся на патрона, но тот все так же сидел, напоминая одетый в кимоно камень, к которому ветром прибило «Правду». Песенка стала громче, дверь полностью раскрылась, а между тем, за нею никого не было.
Керо посмотрел влево и вправо, пытаясь понять, что тут, к хренам собачьим, происходит, но не обнаружил ничего, кроме пустого коридора с изумрудной дорожкой. В конце его из-за угла вышел официант в белом пиджаке с большим подносом в руках, на котором стоял одинокий чайник. Двигался он фантастически быстро и в три секунды уже был у номера, толкая Керо подносом. На узком смуглом лице горели угольки глаз. Тощий нахал отвратительно улыбался и лез в номер, плюя на элементарные приличия.
Керо уже собрался ударить его в колено, но тот неведомо как протиснулся, оказавшись прямо перед Нишикори, поставил на пол блестящий чайник и с размаху огрел японца подносом. Надоедливая песенка прекратилась.
Сцена была комичной и странной одновременно, похожей на дурной сон. Керо подлетел к патрону, чтобы защитить его, недоумевая, почему грозный воин сам не вышиб вон наглеца, а продолжил неподвижно сидеть, получив удар по макушке. Вместо этого Нишикори расплылся в идиотской улыбке. Керо совершено растерялся.
Наглый официант, между тем, словно у себя дома, упал в кресло и выдал, лениво жестикулируя:
— Однажды… когда Седьмой Патриарх прогуливался по улицам… к нему подошел человек с вопросом, его ли он встретил. Меня, ответил Патриарх. Потом подумал и сказал: нет, не меня. А потом подумал еще: все-таки меня, но не ты.
— Я давно понял эту притчу, Макото. Много раз. И всегда по-новому, — сказал Нишикори, доставая из кармана очки. Ни следа оцепенения на нем больше не было. — Ты, я вижу, преодолел скуку и все же отправился в путешествие. Благодарю, что заехал. Как поживает настоятель, веселого ему Колеса Сансары?
— Я ненадолго, у меня дела… в как бишь его?.. Ужгороде. Славяне и вообще — азиаты придумали столько забавных звуков! У-у-у-ж-ж-ж, — протянул Макото, вытянув губы трубочкой. — Simpatico! Милый городок, я там бывал и оставил, кажется, одну вещь… Настоятель? Знаешь, после твоего отъезда он перестал музицировать, за что вся братия тебе благодарна, поскольку общеизвестно, что после этого — значит по причине этого. Так что не возвращайся, прошу тебя от лица несчастных. Теперь он коллекционирует открытки со слонами, что гораздо спокойнее для нас всех. Надеюсь, он не ринется разводить их самих — это станет настоящей катастрофой для монастыря.
— Макото, ты явился вовремя и сделал, что было необходимо. Еще раз благодарю. Теперь я твердо знаю ответ.
— Надеюсь, ты знаешь и вопрос?
— Несомненно.
Нишикори встал, оправил складки одежды и воззрился с высоты на Керо, стоявшего рядом с ним и совершенно обалдевшего от происходящей муры:
— Сегодня седьмой день — день отдохновения. Мы выйдем в город.
Это прозвучало торжественно и нелепо — будто они и так не находились в центре огромного людского термитника.
Макото между тем растворился, оставив после себя впечатление сверхъестественного нахальства и простывший чайник с инвентарным номером на боку. Керо было потянулся к нему, но патрон предостерег его это делать. Через короткое время чайник также исчез.
Марсианские коровы
Никто из вас не задумывался, сколь нелепо выглядят галифе? Эти уши на мужских бедрах, заправленные мочками в сапоги? Да-да, если вы кавалерист и тому подобное, в духе монгольских воинов сутками скачете на спине у несчастного существа со взглядом ангела и норовом сумасшедшего — от них вам сплошная польза. Но на кой они пешему милиционеру, подпирающему пыльную липу у тротуара? На ком скачет этот заспанный толстопят, какие степи пересекает? Впрочем, сдаюсь-сдаюсь! Вообще, всякие там писаки и звонари последнее время берут на себя слишком много…
В переулке близ Крестьянской заставы в шлеме и галифе стоял постовой, имя которого затерялось, а фамилия дошла до нас с медицинской картой из архива старого госпиталя в Лефортово.
Фамилия постового была Чудинов, которая вам ничего не скажет — мало ли проживало в СССР Чудиновых, Чудаковых, Чудницких? В сводке о ночном происшествии он фигурирует под табельным номером 6354, который интересен лишь нумерологам, давая суммой крайних пар по девятке, но в честном повествовании бесполезен.
Нам же любопытна отметка, оставленная в карте дежурным фельдшером — тем, кто первым, так сказать, в профессиональном плане обследовал пострадавшего (после разнорабочего Непотребко, нашедшего его без сознания и стащившего из кармана червонец): «Множественные закрытые травмы конечностей и грудины, сочетанные со сдавливанием оных».
Как показывают последующие записи, хирурги, вооруженные дипломами и рентгеном, мало что добавили к первой по ее сути, кроме уточнения о двух сломанных ребрах и еще какой-то рекомендации, связанной с застарелой пупочной грыжей, не имеющей к делу ни малейшего отношения.
Чудинов этот, согласно Anamnesis morbi172, пробыл в госпитале неделю, счастливо избежал осложнений и, к слову, не стал разбираться с грыжей, хотя имел к тому преотличный шанс. Ни предшествующий тому, ни дальнейший жизненный путь постового нам не известны, кроме того отрезка, что он числился пациентом госпиталя. Зато уж он — во всех подробностях терапии, вплоть до пульса и температуры под мышкой. Не имея аргументов в пользу иного, будем считать Чудинова образцом доблести, порядочным семьянином и вообще цельным благополучным человеком (хотя зря он, конечно, запустил с грыжей).
Дело же в ту ночь обстояло так.
Пустой переулок, давно распрощавшийся с пешеходами, подсвеченный лишь луной и одинокой лампочкой на углу, был грязен и неуютен. От каждой стены в нем веяло безнадежностью. Окна домов, боками навалившихся друг на друга, светились холодно как в мертвецкой. И лампочка то мерцала скупо, выхватывая унылый кусок пейзажа, то вовсе гасла, оставляя луне трудиться в одиночку.
В доме 17, где ранее жил мельник с семьей, а теперь какие-то заводские, скрипела от ветра ставня, донимая пса за худым забором. Пес этот, вторя ей, поскуливал гадским образом, ни на минуту не затыкаясь, но на лай не переходил, ученый поленом брехать за полночь. Очень скоро от такой симфонии начинало казаться, что вам медленно пилят уши суровой нитью.
Постовой Чудинов стоял напротив по долгу службы, мучаясь скукой и сквозняками, и так бы простоял до утра, если бы в конце переулка вдруг не мелькнула тень в сопровождении какого-то хлюпающего звука, будто о мостовую кидали блин.
За оградой придушенно гавкнул пес — инстинкт пересилил страх получить по ребрам.
Чудинов встрепенулся и напряг зрение, но ничего не увидел. Он уже расслабился и зажег папиросу, когда тень, исчезнувшая было, вновь мелькнула у тесной будки башмачника — нищей части городского устройства, которую вменено охранять милиции наряду с кремлевскими парадизами.
Бросив папиросу и думая, свистеть — не свистеть, сей Чудинов, держась за кобуру, рысью кинулся к ней, чтобы разъяснить обстановку и пресечь злонамеренные деяния. Но не пробежал он и полпути, как хлюпанье уже раздалось у него за спиной.
Пес во всю заливался лаем, кидаясь на забор. Выше по переулку поднялись его собратья. Творилось что-то неладное.
Ладони постового похолодели. Хватая на ходу револьвер, он обернулся, но не успел ничего увидеть, поваленный кем-то навзничь на асфальт переулка. Затылок тюкнулся об него, глаза наполнились фейерверком, а над самым лицом, проступая сквозь зеленые и коричневые бутоны, возникла неожиданная фигура… Лучшее сравнение для нее — трехглазая бычья морда с нависающими бровями. Морда была лиловой и с нее текло в три ручья, так что вид постовому сразу заволокло, а сверху, не дав вскочить, навалилась тяжесть.
Лай и топот заполнили переулок. Со всех сторон раздавалось что-то среднее между вздохом, рыком и мыком — как мог бы вокалировать бегемот, обманутый любимой супругой.
В ушибленной голове Чудинова сам собою мелькнул параграф из уложения о прогоне скота, в коем запрещалось его водить по московским гужевым улицам. Нарушение было вопиющим и очевидным — потому как, что это еще могло быть, как не запрудившее переулок коровье стадо? Ясно, что злоумышленники воспользовались покровом ночи, чтобы сэкономить на извозе скота. К тому же коровы были явно породистые, «голландские», хотя и с лишним глазом во лбу. Чистая контрабанда, как ни крути.
Тем паче постовому было обидно гибнуть под коровьим копытом, когда впереди могло быть отмеченное начальством геройство — прояви он большую осмотрительность и не поддайся на провокацию, хитро исполненную злодеями!
Силясь что-нибудь предпринять, он нашарил опустевшую кобуру и выругался от отчаяния матом, обвинив неизвестных в скотоложстве. О свистке, болтавшемся на шнуре под кителем, нечего было думать, потому что диковинные коровы неслись по нему галопом, вминая служителя закона в асфальт как ветошь.
Вскоре сознание оставило его, и седой фельдшер, еще при Николае II правивший вывихи у армейских, принял воина в свои многоопытные руки, записав известный нам диагноз круглыми улыбающимися буквами (в то время работники медицины еще умели писать понятно).
М., тяжело дыша, повалился на взвизгнувший диван. Руки его дрожали, лоб и крылья носа покрывала испарина, будто только что ему пришлось взобраться бегом на гору. На полу была разбросана груда листов и несколько увечных карандашей, не поспевших, видно, за судорожной рукой. Секунду еще в подвальчике раздавался гул. Затем все внезапно стихло.
— О боже… — простонал М., закрывая ладонями глаза. — Это невыносимо.
Шатаясь, он прошел в переднюю, и там долго устало пил из-под крана воду, глядя как черный коротконогий паук возится в шелковой западне, пристроенной к краю раковины. М. никогда не убивал пауков, считая, что это грех, однако и не поощрял их. Квартирант был пойман и выдворен за порог, где ему положено быть природой.
— Теперь спать! Спать, спать, спать. Скоро опять начнется — ни одно, так другое, наверняка. Что-то часто оно теперь…
Его волосы отрасли и были взъерошены. Он долго приглаживал их перед зеркалом, откуда на него смотрел человек, лет на десять старше, чем было на самом деле. Затем нашел какой-то шнурок и завязал сзади косичку. В итоге его голова стала похожа на несвежую луковицу.
Отломив лист алоэ, росшего на подоконнике, М. достал из буфета бумажный сверток с горбушкой ржаного хлеба, посыпал ее солью и жадно съел, хрустя зеленью.
Сквозняк из открытой двери шевелил бумагами на полу и тащил в переднюю засохшие листья с улицы. Поежившись, М. закрыл ее, собрал и сжег в печи писанину, смел ногой листву в угол, взял со стула халат, расстелил на полу и лег, подложив под затылок том Брокгауза и Ефрона — тот, что от Конкорда до Кояловича173. Глаза его закрывались и кровь билась накатами о виски, превращая голову в неподъемный тигель, в котором застыл свинец. Но сон не шел к нему, перебиваемый образами, которые трудно описать и в которые еще труднее поверить.
…огромную пылающую спираль сменило чье-то лицо, не похожее ни на одно из виденных наяву — вытянутое, с маленькой нижней челюстью и бородкой в три волоска. С бледной узкой ладони на пустой стол упала горсть черных кубиков — все остановились на «6». Слева от него до самого горизонта плескалось алое, будто сердцевина арбуза море с длинным и узким мысом; справа — вязкая с наплывами темнота, в которой зрело что-то кошмарное…
Незыблемое пространство, основа основ всего, оказалось податливым как прибрежный ил — кучей слежавшихся лепестков, преющих в черной яме бытия. Когда что-то срывалось с одного, падая на соседний, тот мучился и рвался от неподъемной для него ноши. Таковы были законы этого мира. Знать бы, кто их придумал…
М. дернулся и открыл глаза. Виденное явно не предназначалось для человека, было слишком сложным для его плоского восприятия, как статуя Афродиты для инфузории.
Что за существа ворвались в наш мир сегодня? Откуда они? С каких чужеродных прерий? Сколько еще их будет, если он упустит нужный момент? И опять этот идиот, обвешанный голубями, попытался пробраться в щель! Из всех виденных М. тварей, Кэ единственный, кто проявлял такую настойчивость. Однажды они даже обменялись словами:
— Пусти, — сказал собранный из кусков пришелец.
— Отвали, — сказал М. и закрыл «кротовую нору».
Сон не шел и руки продолжали дрожать. Глаза мучительно искали чего-то, какого-нибудь дефекта пространства — признака назревающего разрыва. Но комната выглядела обычно — бедно, просто и тесно. Вся мистика из нее исчезла.
Семь часов труда, едва не оказавшегося бесплодным, когда они все-таки прорвались. До этого момента М. не представлял, с кем точно имеет дело — оказалось, что сущие коровы, хотя и необычного вида. Хорошо, не какой-нибудь саблезубый тигр или крыса размером с велосипед, которые бы весьма обогатили городские легенды.
Обезумевшее стадо ринулось в ночной переулок где-то на востоке Москвы — он так и не разобрал где именно. Прореху между мирами едва удалось закрыть, пока твари не разбежались по всему городу. Переполох, следующий за этим, не хотелось даже воображать! Впрочем, отдадим должное зловредной человечьей природе, ситуация была не лишена юмора. Например, этот ошарашенный постовой, кувырком полетевший на мостовую.
— Надеюсь, его не слишком заслюнявили мои случайные визитеры.
М. мысленно подчеркнул «мои». Где-то глубоко в сердце он гордился своим исключительным положением и весьма эффектными штуками, что ему открылись, сколь бы они ни тяготили его.
— Как жестоко я наказан за любопытство! Кошмар всевластия, оказавшегося в слабых руках. Нужна целая армия таких как я, чтобы перенести все это, — причитал он, лелея свою хандру. — Что будет, когда моих сил не хватит?
М. хотел посетовать на что-нибудь еще, и уже выбирал — на одиночество или отвратительность социума — когда в дверь кто-то забарабанил.
— Кто еще?.. — слабым голосом спросил он, повернув голову.
— Открывайте немедленно!!!
Да, социум являл себя отвратительно.
Голос за дверью показался знакомым. М. встал, для света приоткрыл печь, накинул халат и отодвинул щеколду, впустив в подвальчик волну холодного воздуха.
Ну конечно! На пороге стоял жилец сверху — низкий и черноглазый, с изумительно густой шевелюрой, жесткой как кабанья щетина, которого называли Бердых. М. вообще никогда не обращался к нему, только сдержанно кивая при встрече.
Он был редкой породы скандалистом, упорным и глухим в споре, убежденным в собственной правоте настолько, что готов был препираться с кротами о темноте. Теперь ноздри Бердыха раздувались, и вся фигура говорила о крайней степени возмущения.
— Что вы себе допускаете?! — закричал он вместо приветствия.
— Что? — не понял М..
— Прекратить! Штукатурка сыпется с потолка! Я не могу спать! — прокаркал сосед, словно соскребая слова с гортани.
Опешивший от нападок М. попробовал пошутить, заметив, что живет в подвале и уже к чему-чему, но к соседскому потолку не имеет ни малейшего отношения. Помянул даже вектор гравитации, стрелой обращенный вниз, но щетиноголовый сарказм не понял и застыл в негодующем ожидании, сверля взглядом грудь оппонента.
Не зная, что добавить еще, М. скис и уставился поверх зловредного карла на ступени лестницы, присыпанные листвой.
— Пьянствуешь?! Я все знаю! Знаю! — продолжил гнуть свое коротышка, делая полшага вперед.
Пахло от него перепревшей хвоей. Но не так, как это бывает свежо в лесу, а так, словно лапник закис в болоте. М. брезгливо отстранился.
— Ответишь по советским законам! — молотил пришелец, округлив рот.
— Послушайте. Я в квартире один, уже лег спать, вы меня разбудили. И вообще не понимаю, в чем дело. Отстаньте, пожалуйста, от меня. И прекратите скандал!
— Не дури мне! Я тебя предам в руки милиции!
Тут что-то щелкнуло в сознании М., и он резко с чудовищной силой схватил верхнего жильца, бросив его как тюк через всю прихожую. Затем встал над ним, уперев руки в бока, с таким лицом, что незваный гость решил за лучшее проглотить подоспевшее ругательство и остался сидеть на энциклопедии, служившей подушкой М..
— Я. Не. Шумел. Ясно?! Убирайтесь вон! Иначе я сам позову милицию! — взревел он, с удовольствием ощущая, как гнев очищает разум. — У меня вообще бронь от комиссариата! — выпалил М., решив добить противника, сам не представляя, какая-такая у него бронь.
Однако угроза подействовала, потому что Бердых, поджав губы, встал и молча пошел вон из квартиры.
— Утром напишу заявление, — тихо, но внятно произнес М., с удовольствием отметив, как дернулись плечи скандалиста, будто в загривок ему угодило камнем.
Выпроводив бесноватого соседа, он сел на табурет, чтобы успокоиться.
За окном светлело. По улице с шумом пронеслась конка — лихач присвистнул, натянув вожжи. Раздался собачий лай. Совсем скоро заскребут дворники — хоть беги: он терпеть не мог всех этих скребуще-шуршащих звуков, наматывающих на кулак нервы. М. встал и с силой захлопнул форточку.
Как это бывает у людей нервического склада натуры, чувства опустошенности и крайнего измождения сменились у М. жаждой срочного действия, которому первый выход — в словах. Он вбежал в переднюю, снял и вновь повесил пальто, замер, собрался с мыслями и убедительно выдал мойке, провожая взглядом каплю воды:
— Затеряться во времени проще, чем где-нибудь еще! Ибо, — вздел он указательный палец, — времени больше, чем суши и моря совместно взятых. Больше любого мыслимого пространства. Да.
На этом мысль оборвалась. Монолог, достойный Римского Форума, прекратился, смусоленный в самокрутку нищенского подвальчика. Тени проезжавших машин волочились и вздрагивали на стенах.
Постояв с одухотворенным лицом минуту, он продолжил, расхаживая туда-сюда, словно маятник, отрастивший ноги:
— Секунда сильнее и вместительнее всего! Она, даже невесомая ее часть, исчезающе-крохотный осколок, отражает все как в гигантском зеркале. Это…
Тут он снова сбился. Невидимый собеседник пытливо всмотрелся в его лицо, а затем, не дождавшись продолжения речи, занялся своими делами, плюнув на философские измышления явно сумасшедшего человека.
М. выдохнул, раздувая щеки, и вышел вон из квартиры, оставив открытой дверь.
Фуражка в пустоте
Над медленно вращавшимся островком поднималась заря. Ее источник — искра в чернилах космоса — находился так далеко, что наверняка уже не существовал, выгорев миллиарды лет назад и распавшись в прах. Красноватый след последней звезды высвечивал холодные, не знавшие ветров дюны, над которыми словно безумный дух носился их господин. Ни один телескоп не различил бы в черном небе ни огонька, но Кэ мог видеть почти незримое, слышать шорох самой вселенной, стряхивающей крошки за край.
Он смотрел на свои владения, медленно витая над ними, что гораздо приятнее, чем шагать, перебирая конечностями (тем более, когда можешь немного помухлевать, на время отбросив лишнее). Наслаждаясь видами своего творения, он всегда испытывал блаженство и гордость. Теперь к ним добавилось раздражение.
Собранный из ничтожных фрагментов, астероид имел рельеф, запутанный как овечья шерсть — сущий кошмар гольфиста и головоломка для топографа. Оба, попав сюда, через неделю бы спились от безнадеги.
В несколько прыжков Кэ переместился от подсвеченного звездой края к другому, за которым стояла лишь пустота. Узрев молекулу нафталина174, тяжелую и громадную в сравнении с водородом — мелкой ненадежной добычей — он схватил ее, присоединив к общей массе острова. В последнее время ему везло: летя сквозь рассеянную туманность, он собрал уже полсотни таких жемчужин.
Опять-таки, раньше это привело бы его в восторг, но теперь он безразлично полетел дальше, словно отдал дань никчемной привычке.
Мелькнуло отвратительное сомнение: зачем вообще это нужно? К чему стараться? Не лучше ли, в самом деле, быть лишенным плоти и направления? Столько забот, переживаний, усилий… Кто он вообще? Кто мыслит? Летит? Желает? «Да кто ж я наконец?!», — мысленно возопил он за немцем Гете, о котором и знать не знал. Перед мысленным взором пронеслась цепочка воспоминаний.
Когда-то, еще не имевший имени, вечность бывший в одиночестве и покое, он вдруг обнаружил кого-то рядом, кто явился и, не замолкая, шептал ему о каких-то глупостях, рисовал нелепые устрашающие картины. Он сопротивлялся и старался его не слушать, но чем больше старался, тем громче и навязчивей становился шепот.
Измучившись, он долго напряженно следил за неприятным пришельцем… Пока однажды не пришел к выводу, что этот «другой» — он сам, непостижимым образом раздвоившийся. Тогда он впервые испытал страх и назвал себя Кэ, чтобы уберечься от всего, чем он не был сам.
Кэ терял покой, страдал от страха и одиночества. Его терзал голод. Мягкая пустота, частью которой он считал себя раньше, стала тяготить его. Желание чем-то ее заполнить росло, доводя до полного исступления. Но вокруг были лишь останки погасших звезд — холодные безжизненные туманности, разбросанные на необозримых пространствах. На них он и нацелил свои усилия, желая завладеть, сделать частью себя.
(Желать облако? Что за глупость? Но древний ребенок играл тем, что есть вокруг.)
Когда впервые, сосредоточившись, он сумел притянуть маленькую льдинку метана, то возблагодарил кого-то незримого, о ком ничего не знал, кроме своей вдруг возникшей веры, что этот неизвестный следит за ним и помогает ему добиться желаемого.
Так у Кэ появился бог. И появился алтарь — та самая ледяная крошка, рядом с которой он плыл, собираясь с силами.
Кэ одернул себя, возвращаясь к делам насущным. С таким упадническим настроем он бы до сих пор был бесплотен, бесформен и бесцелен — мыслящее ничто, растворенное в безграничном. Каждая молекула, атом, запутавшийся в его сетях — драгоценность. Нельзя это забывать! Нельзя отступать от главного! Масса, тяготение, форма — смысл его бытия. Долг перед ними — тот же долг перед богом. А сомнения… эти лживые червячки сомнений…
С новой силой подступил голод. Вспомнился огромный, наполненный материей мир, который сиял, тяготел, взрывался, рождая бесчисленные формы, от одного вида которых пробирала сладкая дрожь. Все это, все до последней капли, может стать им. И должно им стать! Если бы он только добрался до него!
Кэ не находил себе места, жаждал умчаться куда-нибудь, почувствовать стремительный и долгий полет, но знал, что стоит ему слишком удалиться от острова, тот разлетится в сосущей тьме, все усилия пойдут прахом. Еще немного, и он бы познал иронию, возможно, даже разразился гомерическим хохотом: стремясь обрести форму, стать ее господином, он сделался пленником и рабом своего собственного мирка, своего труда, плодами которого дорожил.
Кэ заложил петлю и резко остановился. У серого обелиска, прихваченного с пролетавшей кометы (то-то выдался праздник!), валялся необычный предмет, которого еще недавно здесь не было. Любой мальчишка в необъятном СССР в секунду распознал бы в нем милицейскую фуражку — сигнал опасности. Дети инстинктивно чувствуют угрозу, скрытую за благими намерениями. Их ненависть к учителям и цирковым дрессировщикам найдет немалое в оправдание. И вполне логично, что с трехлетнего возраста любой нормальный пацан чурается всяких типов, гоняющих его с соседского дерева. Вы спросите, откуда тогда берутся постовые, участковые и, тем более, высочайшего класса следователи, населяющие здание на Лубянке? Оттуда, оттуда же, милейший читатель, — из числа особо непримиримых хулиганов, тиранивших целые районы. Что если Тимур со своей командой в конце концов занялся разбоем? А Мишка Квакин — в погонах, с лоснящимся наганом и стальным взором — конвоировал бывших конкурентов куда-нибудь под Владимир?
Кэ всмотрелся в алую звезду на околыше. Она показалась ему прекрасной — застывшим в неподвижности совершенством. С внутренней стороны фуражки рыжей тушью значилось «с. Чудинов». Для Кэ это был просто узор.
Миры определенно сближались, оболочки сталкивались и рвались, внутрь одного то и дело просачивался другой. Кэ со злобой вспоминал тщедушное суетливое существо, закрывшее переход за секунду до того, как он успел им воспользоваться. Впрочем, форма существа показалась ему удобной. Он решил сделать себя таким же, но мороженые голуби, собаки и камни плохо для этого подходили. Нужно было еще подумать: возможно, он упустил что-то важное в конструкции.
Кэ поддел находку и, довольный собой, нацепил на яйцевидный покатый выступ, который вполне мог сойти за голову.
Нескучный сад
В солнечных пятнах, в пожелтевшей резной листве — всюду щебетала пернатая мелочь, ободренная последним в году теплом. На рассвете восток затянуло ряской, в кухнях и трамваях говорили о скорой буре, но ветер переменился, прогнав ее в сторону Рязани — дальше от Москвы с ее ворчливыми ямщиками и служащими в мятых плащах.
После двух недель дождя над городом разлился погожий день. Школьники поголовно сбегали с уроков, и в прокуренных комнатах бухгалтерий через силу сводили баланс расходов, уныло читая сквозь муть окна иероглифы осеннего торжества. Деятели культуры насвистывали Вивальди. Простые люди шли в гастроном за пивом.
Нишикори расположился на скамье в Нескучном саду, время от времени бросая на дорожку кулак пшена, за которое тут же устраивалась драка среди пернатых. Это продолжалось уже около двух часов и конца-края не было видно сему занятию, поскольку рядом с японцем стоял пузатый мешок крупы, предназначенный для кормленья крылатой своры.
Керо, сидевший на той же скамейке слева, отделенный от патрона мешком, орудовал завязками, подобно кладовщику отпуская корм и перекрывая доступ к нему, иначе птицы норовили нырнуть прямиком в хранилище, минуя заведенный порядок.
Дополним натюрморт черепахой, привязанной шнурком к ноге юноши, — шнурком, ни разу не натянувшимся, поскольку Фуджи неподвижно наслаждалась теплом, выбравшись на середину дорожки и замерев, далекая от идеи бегства, приводя в смущение прохожих, непривычных к виду рептилии на выпасе.
Нишикори пребывал в философско-лирическом настроении, отчего был разговорчив и склонен обсуждать отвлеченное:
— Не находишь ли ты, Керо, что мы весьма ошиблись в ожидании погоды на русской земле? Еще под Иркутском и когда проезжали Новгород — каждый раз прогнозы не подтверждались. Ты заметил это? — спрашивал Нишикори, старательно выговаривая по-русски, как того желали его принципы.
Юноша вежливо кивал, давая понять учителю: да, мол, ошиблись, ничего не попишешь, но я в этом деле не виноват. При этом взгляд его, обращенный к птицам, явственно выражал: «Кого бы что волновало…».
— Да-да, — вторил сам себе Нишикори. — Необычная страна. Не Азия, не Европа, но что-то среднее. Хотя, верно, больше все-таки Европа?
Керо согласно кивнул на это — если уж сравнивать с Нагасаки, то Москва определенно была Европой.
Снова воцарялось молчание. На дорожку полетело пшено.
— Сколько народу проживает в Москве?
Керо, было задремавший, порылся секунду в памяти, отыскивая нужную карточку:
— Более двух с половиной миллионов, сэнсей.
— Мм-м? Немало. Хотя… Шанхай, полагаю, не менее населен? Город этот в дельте реки Янцзы похож на кипящий котел со вчерашним маслом: что ни брось в него, будет вкус как у подгоревшего куска тофу.
Юноша и на это почтительно кивнул, едва удержав зевок. Он бы не отказался от куска тофу. А о Шанхае лишь однажды читал и вообще ни разу не был в Китае, хотя мог перечислить все провинции Поднебесной и с точностью до собачьей будки начертить схему Запретного города175. Монастырская библиотека была богата, а память и любопытство Керо казались безграничными.
Скажем начистоту, положение помощника Великого Стража было занятием, по большому счету, невеселым и весьма муторным. В частности, понятие «отдых» всегда распространялось только на Нишикори.
«Бездельничать, так бездельничать, что трепаться? — ворчал Керо. — Не в гору и не с горы, как упрямый… — назвать патрона ослом ему не позволило воспитание».
Будем справедливы, сам Нишикори на месте ученика давно бы дал себе пинка за дурной нрав и еще ввернул пару словечек из лексикона турецких евнухов. Такие как он редко кому-то служат. А если вдруг такое случается, то участь их господина часто бывает незавидной и довольно короткой.
— Я не был в Шанхае, — продолжил Нишикори, глядя на счастливую черепаху, — более трехсот лет… Что меня всегда отталкивало от этого города, и от множества городов вообще — это несмолкаемый шум торговцев. С каждой миской риса тебе на голову выльют целое море гвалта — больше, чем за год можно услышать в Исландии.
Керо посочувствовал Исландии, где бы она ни находилась — ничего дурного в уличной толкотне он не видел. Вообще, эти философские штуки… Созерцание сакуры, например: что хорошего в том, чтобы на рассвете, запрокинув голову, сопеть под цветущей вишней, переминаясь от холода с ноги на ногу? Лучше съесть горячего супа на рыбном рынке.
Магазинчик его родителей располагался у доков Осаки, в которых день и ночь творилось столпотворение, так что о городском шуме Керо знал все задолго до появления на свет. Он помнил, как однажды утром, когда проснулся и выглянул за окно, на улице было тихо, почти безлюдно — в городе началась эпидемия, косившая кварталы бедняков семьями. После этого, осиротев, они с братом попали в монастырь.
«Лучше пусть будет шумно», — заключил про себя Керо, снова открывая мешок. На дорожку полетело пшено.
Какая-то гражданка в нарядных туфлях брезгливо обогнула пернатых, ступая на цыпочках по траве — влажной, еще зеленой, присыпанной опавшей листвой. Черепаха проводила ее долгим ничего не выражающим взглядом.
Нишикори снова заговорил:
— Раньше самым мрачным я считал берег, к которому нас однажды прибило штормом — его назвали потом Нормандией. Кроме того, что там приготавливают недурной самогон из яблок, это опаснейшее место для чужаков. Нам, впрочем, тогда вообще никто не был рад, даже собственные семьи. Скалы там обрываются прямо в море, а где отступает камень — бесконечные пляжи, плоские как стол, на которых негде укрыться. Каждую секунду жди стрелы в глаз. Мы так и не рискнули сойти. Запаслись водой и отвалили по-тихому.
Никто бы не назвал Нишикори многословным, но иногда на него находило. Взгляд воина подернулся ностальгическим туманцем, огромные ладони нависли над бедрами, готовые схватить меч, нижняя челюсть выступила вперед.
Бросив еще зерна переевшим птицам, которые, ей-ей, смотрели на своих благодетелей как на идиотов, он продолжил, откинувшись на скамье:
— Потом, гораздо позже, я познакомился с множеством мест куда худших. А в Нормандии был раз десять и уже не считаю ее дикой. (За высокую оценку европейцы мысленно сняли шляпы и даже шаркнули ножкой — французы дважды.)
Из-за порыжевших кустов на дорожку вышел худой мужчина в обвислом сером пальто, застегнутом под самое горло. Нишикори глянул на него, тот ответил пристальным нервным взглядом и быстро отвел глаза. В отличие других, кто проследовал в это утро мимо эксцентричной компании иностранцев, этот, безучастно перешагнув Фуджи, врезался в птичью гущу, устроив настоящий переполох. Воздух наполнился шумом крыльев. Когда пернатые разлетелись, незнакомец будто растворился в пространстве. Нишикори стоял, вертя головой. Ни йоты недавней флегматичности не было в его позе.
— Это он, — коротко заключил японец.
Керо, вскочивший вслед за патроном, не стал спрашивать, кого он имел в виду — это мог быть лишь тот, ради кого они пересекли континент. Кинувшись вслед за незнакомцем, сбежав по склону к Москве-реке, юноша вернулся ни с чем.
Еще какое-то время Нишикори напряженно вглядывался в увядшую зелень сада, в небо над головой, в прутья решетки, мелькающие в прогалинах за стволами, а затем сделал знак двигаться на выход.
М. с трудом сфокусировал взгляд на корешке лежащей перед ним книги. Попытался прочесть название, но не смог — выцветшие буквы плясали как марионетки в пьяных руках. Он зажмурился, глубоко вдохнул и минуту неподвижно сидел, пытаясь избавиться от видения мельтешащих птиц и противной рожи какого-то азиата, уставившегося на него, будто он медведь в цирке. Хотя на медведя больше смахивал сам нагловатый зритель, развалившейся на скамейке в компании молодого узбека.
М. еще раз глубоко вздохнул и с опаской приоткрыл глаз. К огромному его облегчению, вокруг был тот же полуподвал, который он занимал с весны. Печь, буфет и стол, на котором плита «Декамерона» Боккаччо соседствовала со стаканом и старой лампой.
— Отлично, — выдохнул он с облегчением, будто находится в нищем подвальчике было большой удачей.
Желая полностью убедиться в том, что и пол находится там, где должно, М. посмотрел под ноги и брезгливо поморщился от увиденного.
— Надо бы прибраться…
Решив, что любое дело лучше, чем ждать очередного… как это назвать, он не знал… прыжка? — он кинул на стул пальто, закатал рукава рубашки и направился к раковине в передней, в которой долго размачивал окаменевшую тряпку. Затем протер ею пол, табуреты и подоконник, с удовлетворением отметив, что руки перестали дрожать и металлический вкус во рту тоже почти исчез.
Сунув в печь полено поверх газеты, М. с довольным видом разжег огонь, поставил на него чайник и даже помыл стакан, что не часто делал. Сумма возбуждения с малой площадью жилища привела к тому, что уже через двадцать минут после нечаянной встречи с Нишикори М. стоял перед буфетом, выискивая в нем что-нибудь съестное. В воздухе радостно вилась пыль, поднятая во время уборки.
Как обычно, в буфете ничего не было. На выразительно пустой полке лежала вилка с кривыми зубьями, скучающая по рыбе. И, словно в насмешку, этикетка от консервированной свинины.
Сказав «нет» отшельничеству, М. решил идти! И вообще — проявить себя в социальном плане. «Хорошо б еще справиться у домовладельца на счет потека на стене в спальне. За что деньги плачены? Дожди, видно, размыли чего-то там…». Он не знал, каким точно образом борются с протечками стен, но это самое неплохо бы проверить и починить.
Вновь накинув пальто, он вышел, захлопнул дверь и старательно повертел ключом, закрыв ее на три оборота; миновал дворик, калитку и вышел на угол дома… обнаружив, что не взял с собой ни копейки денег. Нужно было возвращаться обратно.
Тут случился семантический кризис, сгубивший некогда ослика философа Буридана, коему (философу) приписывается многое, в том числе непокой в королевской спальне, дурно для него кончившийся176. Мы же не последуем за средневековыми сплетниками, а смиренно поплетемся за М., который, проявив мудрость, предпочел потакать не лени, но голоду и вернулся за червонцем в подвальчик.
Посмотревшись перед уходом в зеркало, чтобы отвести сглаз177, он вновь закрыл дверь на ключ, придирчиво осмотрел ее, твердо решив утеплить к зиме, вышел на улицу и направился не в ближайшую бакалею, а в просторный магазин на Тверской с лучшим в столице ассортиментом.
Только что произошедшее потрясение, когда он, орудуя артефактом, вдруг обнаружил себя последовательно — на безлюдном тропическом побережье, у подошвы гигантского ледника, пронесся мимо черного шара в протуберанцах, а затем очнулся на подстилке из резеды в Нескучном саду —по загадочному свойству души возбудило в нем неутолимую жажду жизни, которой часто сопутствуют аппетит и желание побыть с людьми. То и другое как-то связано с ощущением реальности настоящего. Пишут (вы, уверен, об этом не раз читали), такое происходит, когда человек проходит по самой кромке. (Кое-кто даже специально прыгает с парашютом, снимая себя на камеру, — да-да, доходит и до такого!)
Это настроение, прямо скажем, уникальное для героя повествования, привело его в «Елисеевский» — в знаменитый гастрономический оазис, попасть в который мечтал каждый житель Союза, и попасть, конечно, с деньгами. Семга лоснилась на широком прилавке; хлеба бесстыдно выставляли края, похотливо жаждущие икры; отборные соленья в соседстве с пузатыми рядами «Московской» подмигивали призывно; оливы, жареный терпкий кофе, фрукты, сыр, тонкошеие журавлики «Саперави»…
От запахов голову кружило как в вальсе — с той разницей, что успешный тур с незнакомкой грозит дуэлью и скандалом с законной пассией, в то время как добрый стол — лишь приятной тяжестью и сытым беспечным сном. А уже во сне этом — пусть будут вальс и признания в любви и прочие избыточные явленья…
Примерившись взять из мясного ряда (а там, вишь, дело дойдет до водок), М. принялся выбирать с порывистостью голодного аспиранта.
Тут его словно прошибло током: у праздничных витрин бакалеи, под шкапом «Сардины-Омары», где четыре колонны держат уступ, похожий на обувную коробку, с озабоченным видом стоял Кудапов и смотрел в бочонок, наполненный курагой, что-то нашептывая ему. И бочонок, похоже, ему ответил, потому что, постояв еще короткое время, тот пошел от него к пирамиде консервированных стерлядок, недобро оглядываясь, и казался совсем расстроенным.
М., заложив вираж вокруг кассы, следил за бывшим коллегой из-за прилавка, для виду примеряясь к промасленным пакетам с халвой.
Кудапов слонялся туда-сюда, томно глядя на ветчину, пренебрег пирожными «птифур», грустно миновал сидр и остановился возле хорошо одетой гражданки, показавшейся М. знакомой. Идеально подогнанное пальто тонкой шерсти облегало точеную фигуру. Повернувшись, она оказалась ни кем иной, как Лужаной Евгеньевной Чвыкарь — личным секретарем Вскотского — писаной красавицей и изрядной стервой, ненавидимой женской частью музея.
(Отметем немедленно все подозрения на счет этих двоих. Проще представить… все, что угодно представить проще, чем романтический альянс этой пары! Для него, как минимум, Кудапову нужно было стать принцем, а Лужане Евгеньевне — умирающей с голоду модисткой.)
— Что вы смотрите как барашек, Афанасий Никитович? Что брать будем? — раздраженно спросила дама, вертя жестяную коробку с фрачником и вторую — с жизнерадостным ковбоем Сэмом.
— Мнэ-э… Сигары, может? — рассеянно ответил Кудапов, озирая ряды бутылок.
— Мнэ да мнэ… — передразнила она. — Да ну вас совсем! Ничего не выходит толку из вашей помощи! Ну, допустим, сигары… Какие, например? Эти? Или вот, с мужиком в шляпе?
— Эти как-то солиднее… Ковбой — он вроде пастух коровий? Зачем же нам Василия Степановича пастухом конфузить? Пусть эти будут.
— А что, если они… — Лужана Евгеньевна задумалась, прищурившись на лоток с сельдью. — Ну, что-нибудь не так с ними? Если они попорчены? Кто тут вообще мужчина? Кто должен знать, какие сигары нужно? Я лично никогда сигар не употребляю, — отрезала она, топнув ножкой от нетерпения. — И вообще, почему сигары? Вон там коньяк есть в красивой бутылке, большой. Василий Степанович помалу не пьет, не приучен — давайте ему подарим для дозаправки.
— Я, знаете, с товарищем директором не на брудершафт! — вспылил Кудапов, алея. — Как уж вы скажете, дорогая Лужана Евгеньевна.
В его взгляде блеснул нехороший огонек и прошелся по девичьей фигуре, отмечая по этажам наилучшее.
— А вот не надо мне тут пошлить! Не в домоуправлении. Свечку что ли держали? Ну, так что? Коньяк брать или сигары? — наседала красавица на Кудапова, ставшего совершенно несчастным от ее отповеди. Тему, впрямь, не стоило задевать — и совестно и опасно. — Надо было мне Якова Панасовича позвать с собой, он человек инициативный, не то, что вы…
Кудапова передернуло от упоминания его извечного недруга — злодейского Порухайло, с которым он лаялся в присутственных местах и в приватных, без которого, в то же время, жить не мог совершенно. Тянулось их противостояние уже с четверть века — и конца-края ему не было видно. Уже, казалось, истощена всякая почва для конфликта, перебраны все возможные поводы, но вот же нет, на тебе! — всегда находился еще один.
Афанасий Никитович собрал остатки терпения и сквозь зубы процедил, не глядя на свою спутницу:
— Сигары, — втайне пожелав директору подавиться дымом.
— Вы вот говорите: «сигары», а сами имеете такой вид, будто желаете Василию Степанычу подавиться, — не в бровь, а в глаз резанула дама. — Держите! Касса там. Ковбой… — и протянула ему коробку.
Совершенно подавленный Кудапов поплелся платить за подарок из общих фондов.
Напрасно М. беспокоился, что его узнают бывшие сослуживцы. Они, углом обогнув прилавки, вынырнули из толпы перед ним, оба на разный лад глянули в упор, а Кудапов даже наступил на ногу, буркнув на ходу извинения, однако признаков знакомства не обнаружили.
Великолепная Лужана Евгеньевна вышла из гастронома первой, вздернув носик, и уселась в служебный автомобиль директора. Вскоре за ней, отлепившись от кассы с упакованной в фольгу коробкой, выбрался сконфуженный завотделом.
Потолкавшись еще немного, купив менее, чем рассчитывал, и потратив втрое, М. в сумерках вернулся в квартиру, разулся, не сняв пальто, и бросил на пол пакет с продуктами. Аппетит совершенно испарился. Что-то такое заволокло сердце, от чего хотелось спрятаться в темноте, раствориться в ней и родиться позже кем-то другим — в отличном времени, месте, с иной судьбой.
На столе лежал все тот же «Декамерон» пятнадцатого века издания, стоивший больше, чем многоэтажка напротив — продать который все равно было некому, и который он листал, листал последние дни, но так и не прошел дальше седьмой новеллы, в коей Бергамино бичует скупость. Девятая, где король «из бесхребетного превращается в решительного», была куда уместнее в этот вечер, но только М. не открыл книгу, а лег в дальней комнате на диван и долго смотрел в крестовину темнеющего окна, не засыпая и не бодрствуя. Его рассудок сковал лед, и лед этот не был частью пейзажа, ограниченной трафаретом, но, древнейший любого из языков, был стихией, которой поклонялись, принося жертвы, от которой не спастись бегством.
После приключения в Нескучном Саду Нишикори отменил свою рекреацию, вернулся в «Метрополь» и снова засел за Лотос. Теперь уже он искал двоих, возмущающих ткань миров самым непростительным образом — «норами» между ними и путешествиями во времени.
Такие преступления следовало пресечь любым способом, включая полное истребление индивида без права перерождения даже в форме больной улитки. В случае высокого снисхождения, им обоим будет позволено стать зеленой водорослью в каком-нибудь отдаленном болоте Англии, что с кармической точки зрения является эквивалентом максимального отстоя. Вообще было замечено (и пока не объяснено), что на великом острове эволюция происходит медленнее всего — даже у пучеглазого рачка в Антарктиде больше шансов продвинуться вверх по лестнице жизни, чем у клерка в английском банке.
К разочарованию Нишикори, считавшего дело почти решенным, на показаниях величайшего в истории магического прибора, сказывалось еще какое-то возмущение. Ничего не могло быть хуже: рядом завелся третий. Прямо слет путешественников во времени!
Открутив от прибора какой-то усик и вставив на его место засушенного сверчка (со второй попытки, потому что до первого дотянулась старушка Фуджи) Нишикори определил направление, в каком следовало искать, и немедленно выдвинулся туда, желая скорее со всем покончить.
Прощай, палец
В это время Илья пребывал в ужаснейшем положении, отчитываясь комиссии, собравшейся смотреть ход строительства купола.
(Собрания, комиссии и планерки занимают шестое место во вселенной по отвратительности, всего в трех строчках от поэзии Воганов178, так что можете судить сами, в каком дерьме большинство из нас проводит свою жизнь.)
Заседанию были по очереди предъявлены — концепция, чертежи, акварели анфас и в профиль, отменная проволочная модель! и, в конце концов, продемонстрирован сам объект строительства — опутанное лесами нечто, которое меньше чем через месяц должно было воссиять шедевром конструктивизма.
Комиссия же, драли б ее коты, кажется, откровенно издевалась: то марка бетона ей казалась неподходящей, то формы не тех пропорций… а еще идеологическая подоплека… архитектурный ландшафт… Мрак!
Вскотский мычал и тужился, Ужалов тихо ярился, Кудапов, вернувшийся некстати из «Елисеевского» и попавший в самый разгар дискуссии, лез сказать, сам не зная кому и что, Лужана Евгеньевна, пришедшая вместе с ним, демонстрировала новый блузон «а-ля Марлен» — настолько откровенный, что мужчины не могли сосредоточится на работе, а сама дива никогда бы не решилась такой надеть.
— Вы… я к вам, товарищ Гринев, значит, как к руководителю штаба… обождите, Афанасий Никитыч!.. вы тут нам график показывали… так на счет строительства, будьте добры, доложите-ка вот в каком аспекте…
И понеслось! Дальше можете ставить любой абсурд — от «почему небо голубое?» до «зачем вода мокрая?» — важно, чтобы назидательным тоном и с такой прозрачной издевочкой. Будьте уверены, если кто-то добавляет мерзкое «-ка» да еще присовокупит к нему «будьте добры» и «значит» — это сволочь, от которой срочно надо бежать.
Время тянулось шлангом. За окном стемнело. Выкатилась луна. Улицы спрыснул дождь, перестал и зарядил снова. Пешеходы семенили домой с работы, скрываясь под зонтами и обвислыми шляпами Москвошвея. Повизгивал пес от скуки. Комиссия продолжалась.
Отпыхтев четыре часа баталий, не приведших ни к каким выводам, на закуску перешли к проекту иллюминации, что могло занять еще битый час — и заняло бы его, если б наконец не пригласили к столу, благоразумно накрытому в смежной зале. Воздух наполнил запах лососины и сервелата. Время заторопилось.
— Ну, товарищи, да… заслушав, значит, доклады… с учетом замечаний комиссии… предлагаю проект одобрить! Кто «за»?
Краткие прочувственные аплодисменты.
Недели три до того, в пасмурный сентябрьский день во дворе музея заложили первый камень утилитарно-величественного сооружения, которому предстояло осенить грядущего «Коммуниста», но, спаси-сохрани! — не превзойти его, чтоб высокая, утвердившая проект длань, не утвердила еще что-нибудь недоброе на счет зарвавшихся созидателей.
Около четырех по полудню уже сгущались серые тени, солнце сидело за облаками, и погода стояла преотвратная. Мелкий как кошачья слеза дождик сек прохожих с разных сторон, непрестанно меняя направление. Лошади за оградой угрюмо смотрели на грязные копыта и не сразу двигались с места, когда извозчик дергал за вожжи. Милиционер в клеенчатом дождевике уныло горбился в будке, словно изваяние скорбящего в нише склепа. Удивительной стойкости женщина, опоясанная шерстяным платком, торговала у ворот сладкой ватой — от ее тележки доносился запах жженого сахара, зовущего, сбивая с панталыка, на променад. Хотелось датского хюгге179 — у камина, со стаканчиком клюквенной настойки и куском баранины на тарелке.
Партактив, штаб (с пошлыми цветками в петлицах) и прочий музейный люд построились у неглубокого котлована, следуя природному влечению масс с неэвклидовой геометрии. Параллельные тут бодро пересекались, окружности не делились на «пи», общественники-организаторы сбивались с ног, ровняя неуклюжие построения, и шипели на недотеп, не соблюдающих строя. Кепки и шляпы, утратившие от влаги форму и свисавшие на головах лавашами, покачивались, хаотически перемещаясь между рядами.
Какой-нибудь немолодой осетин, родившийся до исторического материализма, буде пришло ему оказаться там, обронил бы философски: «Отара…» — и ушел прочь заниматься полезным делом. Людям с высшим образованием такая вольница недоступна. Притиснутые драконом трудовой дисциплины, они радуются начальственной речи под холодной осенней моросью, простуженно хлюпая носами, отринув мыслительный процесс как ненужный и дела как второстепенные.
— Товарищи! — неслось над мокрыми головами музейных и «шишкой» из Наркомпроса Володаром Семеновичем Нежнейшим, страдающим базедовой болезнью, которого все хотели рассмотреть, будто волосатую даму в цирке. — Сегодня мы закладываем…
Тут порывом ветра качнуло плакат с изображением будущего колосса. Электрик Захар, распластавшись поползнем по фанере, не дал ему рухнуть в лужу. Оборванная фраза директора в итоге прозвучала неоднозначно: хотелось уточнить, кого именно и в каком деле решили «заложить»?
— Закладываем! — не сдавался Вскотский. — Будущее, товарищи, всей исторической науки, поставленной на службу коммунизму!
Глубину постулата смог оценить лишь Илья, видавший последствия его воплощения. Чего только не поставили на службу, а победила опричнина, затем бюрократия, а после все вернулось на круги своя, воздав алчной обезьяньей природе. Республиканские царьки расползлись по своим уездам, подозрительно зыркая друг на друга, приплясывая под банджо ковбоя-Сэма. Держава по краям обвалилась. История щелкнула затвором, обнулив счетчик в девяносто третьем — и стало нам не тысяча лет во Христе, а «18+» под палящим солнцем. Страна с выкорчеванной памятью только что окончила вуз и судорожно ищет себя во взрослом мире, словно безумная, впавшая в детство старуха с факелом. Наследие былой империи в нас, ободренных ценой на нефть и успехами шоу «Голос», не бредящих чем-то большим, чем воскресный поход в IKEA, — подобие первородного греха, о котором слышали, каялись даже, но лично не участвовали… Впрочем, мы отвлеклись.
— Интересно, если… — начал сдавленным шепотом Нехитров, но не договорил, потому что порывом ветра ему в рот внесло подлый березовый листок, который мгновенно прилип к небу.
— …передовые работники музея! — неистовствовал Вскотский, стоя на дощатой трибуне у края залитого водой котлована.
— Тьфу, зараза! — выплюнул лист Нехитров, точно попав в конец директорской сентенции, надломив этим шквал аплодисментов, уже заготовленный коллективом.
Получилось не очень. Многие посмотрели на него с укоризной, а некоторые даже со злостью. Ему не оставалось ничего другого, как вдруг, замахав руками, разразиться приступом кашля: мол, продолжайте-продолжайте, не обращайте внимания — и демонстративно отплюнуться от несуществующего комка мокроты.
Вскотский пристально посмотрел на бунтовщика, и, видимо, удовлетворенный пантомимой, продолжил, ввернув: «Не щадя сил и здоровья!» — в начало следующей фразы. Так кашляющий ложно Нехитров стал символом трудового героизма.
Речь директора наконец иссякла. Грянул сводный оркестр.
«Первый камень» — кусок гранита, нарочито грубо отесанный, крупный и незатейливый, с выбитой на нем датой, — был спущен в котлован на веревках, отчего церемония досадно напоминала похороны. Илья никак не мог отделаться от мысли, что булыжник этот — вовсе не булыжник на самом деле, а гроб какого-то партработника, столь ответственного и стойкого, что он сжался, достигнув еще при жизни гранитной плотности, а если бы прожил еще немного, то превратился бы в единственную во вселенной черную дыру с портфелем и значком Наркомпроса.
Все закончилось около семи в каком-то инфернальном дождливом сумраке докладом Каины Рюх о задачах массовой культуры. Перед ней выступило едва ли не полмузея, как на доброй казацкой свадьбе, даже Илья двинул десяток слов, судорожно выискивая бодрящее и звонкое в лексиконе. Отчего-то крутилось и лезло на язык: «Эй, Спартак — давай вперед, вся Москва победы ждет!», — что имело бы, наверное, определенный успех, но продлился бы он недолго, и закончился голом в свои ворота. В итоге он отчеканил: «Оправдаем доверие коллективу!», — и вернулся на место, сам не свой от сказанной ерунды.
Впереди маячило худшее: купол, будь он неладен, нужно было как-нибудь, да построить, и отвечал за это никто иной, как он — Гринев, прибившийся к чужому островку времени и до сих пор с него не отпущенный. Глубина печали его в эту секунду была невыразима, к желудку подкатывала тошнота от страха провалить стройку, и еще большего — остаться в тридцатых до конца дней. Вдобавок ему казалось, что в его голове поселился кто-то еще, претендующий на жилплощадь и собственный взгляд на вещи. Хотелось открыть ее и проветрить, но мешало подозрение, что квартирант прицепился крепко и удержится, если что, а вот его-то, истинного Гринева, выдует как бумажку вон. Человек сведущий назвал бы это «кризисом самоидентификации», от которого, как известно, помогает водка и долгое сидение в бане.
Пока Илья занимался своими мыслями, прозвучал «отбой». Собрание с дивной скоростью рассосалось. Уже через минуту они с Нехитровым стояли вдвоем на мокром дворе, как три тополя на Плющихе, утратившие товарища. Плакат, оставленный без присмотра, немедленно рухнул в лужу.
— Зайдем куда? — предложил Нехитров, нахохлившийся как грач.
Плащ его был устроен каким-то особым образом, так что за оттопыренный воротник непременно попадала вода, как он его ни поправлял. Достав из портфеля шарф, он обмотал им шею до подбородка, тихо пожелав Вскосткому издохнуть в корчах на Красной площади.
— Как то? — осведомился Илья.
— Опрокинем по рюмке в теплом углу. Я прям окоченел. И жрать охота, сил нет.
Илья пошевелил холодными пальцами в ботинках, философично воззрился на душевные пажити, подмоченные осенней хлябью, и, все взвесив, скомандовал:
— Веди! Хочется напиться и все забыть.
Хорошо бы предупредить Варю, мелькнуло у него. Но он тут же себя одернул: с каких это пор он так обабился, да еще при чужой, в общем и целом, жене, что непременно должен отпрашиваться? Напиться, напиться и напиться! — как говорил… или не говорил… или не он. Короче, «день добра» — праздник веселой пятницы!
Они вышли за ворота музея, где, как на грех, теперь не стоял ни один извозчик. Последний на их глазах сцапал гражданина Кудапова и умчал куда-то — вестимо, к коммунальному очагу с борщом и водкой, отмерянной в графинчике «вот по сюда и ни-ни» умной женой. Кричать было неприлично, а главное бесполезно. Пришлось тащиться пешком по лужам, ободряясь мыслью быть скоро в волшебном месте.
Хотя кое-где места эти попадались, неугомонный Нехитров вел, и никак иначе, в примыкавший к Сретенке переулок, до которого они тащились сорок минут, совершенно промокнув и озверев от холода.
Заведение без вывески, куда они столько шли, располагалось в старом купеческом доме, со времен изгнания владельца, видно, не подновляемого. В сумерках залитый дождем он казался совершенно заброшенным, ждущем со дня на день бульдозер. Ни одно окно не светилось, кроме малюсенького лючка у тяжелой двери. Лишь вблизи становилось ясно, что этажи обитаемы, только не напоказ, а дело в тяжелых плотно пригнанных ставнях, перечеркнутых ржавыми полосами. Дверь на массивных петлях была под стать им. Судя по всему, кто-то, превративший этот дом в крепость, старательно поддерживал вид упадка не только самого здания, но и места вокруг него — на замусоренных вытоптанных газонах, поросших чахлым кустарником, никто бы не захотел устроить пикник.
Илья с недоверием вошел внутрь, надеясь, что Нехитров знает, что делает. Вспомнилась сцена из незабвенного фильма: «Теперь Горбатый! Я сказал: „Горбатый“!».
В общей зале, где они взяли столик, выцветшие обои «в розу» со следами когда-то висевших на них картин контрастировали с обстановкой заштатного кабака. Дым, хоть топор вешай. Публика за столами — конченые бандюги. Одним словом, воровская малина, оформленная со сценическим М. ством. Илья не ожидал увидеть такое в советской России, да еще под боком у стен кремлевских, но факт остается фактом.
— За каким хреном мы сюда притащились? Гадюшник какой-то, — прошипел он на ухо компаньону, на что тот лишь поднял указательный палец, улыбаясь как Мона Лиза.
В зале орудовал половой — бритый «ежиком» парень лет двадцати с лицом батрака-волжанина, длинными безвольно болтавшимися руками, одетый в льняную рубаху и клеенчатый фартук. На полках за низкой стойкой мерцали ряды одинаковых бутылок с рукописными этикетками, названия на которых хотелось закончить жирным знаком вопроса. Там же на козлах лежал бочонок литров на пятьдесят с латунным носом, капавшим по чуть-чуть в ведро пенной жижей. В камине с вырванной полкой вяло клевал поленья огонь. И в воздухе стоял тяжелый запах подвала, курева, пота и близкой кухни. Освещала сцену пятирогая бронзовая люстра, начищенная до блеска — кто-то определенно питал к ней слабость.
В пику обстановке, на столе как по волшебству появились скатерть, запотевший графинчик и хрустальная розетка с грибами, переложенными луковыми кольцами. Нехитров с удовольствием потянулся, выловил один вилкой, кинул в рот и посмотрел на Илью, обсасывая что-то в уме, но не успел и слова сказать, как на скатерть приземлился окурок. Пара низколобых мужиков за соседним столиком пьяно загоготали, глянув на них, и тут же отвернулись, чтобы досадить половому. Следующие несколько минут они гоняли его туда-сюда с какими-то мелочными придирками, щедро матерясь и роняя на пол посуду. Тот безропотно сносил козни. Остальные посетители не обращали на происходящее ни малейшего внимания.
Когда «героям» наскучило измываться над половым, один из них встал, подошел, шатаясь, к Илье и толкнул его в затылок ладонью. Илья вскочил, опрокинув стул, и повернулся к обидчику. На него уставилось два мутных глубоко засунутых в череп глаза из-под нависающих балконом бровей. Молодчик в анораке, бывший кило на тридцать тяжелее Гринева, плюнул ему на галстук и явно нарывался на драку.
Илья не был крепышом, но кое-что усвоил с детства, пропадая пропадом в петляющих московских дворах, полных гопоты и прочего сброда. Например, бей первым, даже если сомневаешься. (Особенно, если сомневаешься.)
Неловким, но точным движением, которое бы освистали в боксерской лиге, он въехал кулаком в нос обидчику, заставив того откинуться, повернувшись боком к противнику, — вечная ошибка неумелых бойцов. Тут Илья прицельно, вложившись весом, ударил сверху вниз по открытому уху неприятеля, отправив того в нокдаун.
Второй с матами схватился за стул, но тут же без видимых причин осел на пол, по-детски всхлипнув. Над ним стоял половой с безразличным рыбьим лицом, с каким разносил заказы. В руке его мелькнула и мгновенно исчезла серая свинцовая грушка. Оценив взглядом первого, стонавшего под столом, парень выглянул в коридор и тихо свистнул кому-то, затем тут же без послесловий принял из-за стойки поднос со штофом и отбуксировал его к столику в углу, где неспешно и чинно резались в очко.
Беззубый урка, мучавший губную гармошку, одобрительно подмигнул Илье и жахнул «Оду к радости» Баха, под которую из-за шторы явился угрюмый, похожий на садового гнома бородач и сначала вытолкал первого — с расквашенным носом, добавив ему под дых, а затем выволок за руки второго, лежащего без движения на полу. Обыденность и четкость, с которой он все это сделал, производили впечатление. Во взгляде его Илья отметил что-то такое, после чего хотелось вести себя примерно, а еще лучше — убраться вон. Поддавшись драматической нотке, назовем это взглядом палача, способного без терзаний подвесить человека на дыбе, выпустить кишки, теми же кишками и придушив, а после выпить чаю из кружки «Лучшему в мире папе!».
— Валим отсюда на хрен! — повернулся Илья к Нехитрову, вынимая трясущейся рукой отглаженный Варенькой носовой платок. Галстук он сорвал и брезгливо бросил под стол.
Нехитров же, сволочь этакая, расплывшись масленичным блином, лыбился как ни в чем не бывало, цепляя лук из розетки, и никуда, похоже, не собирался, а даже наоборот — разлил под край из графинчика, приглашая глазами занять место.
— Ты что, ошалел?! — не вытерпел Илья. Внутри него все кипело.
— Да ладно, не переживай, — отмахнулся вилкой Нехитров. — Место надежное, ничего бы не было в любом случае — тут ребята умеют успокоить залетных. А ты молодцом! Крут. Прими поздравления.
— Иди нахрен, Боря! Что за цирк?
— Ну уж, цирк! Так… Зашли два урода, отхватили и пошли дальше. Диалектика бытия. Не переживай, правда. Приезжие какие-то, хрен бы с ними. Здесь вообще чужие редко бывают. Ты не смотри, что выглядит как сортир — место хорошее. Стефана Пална в «Астории» служила, готовит — мм-м! — Нехитров поцеловал щепоть. — Цапнем корейку «а-ля Орлофф», водочки по двести — и на боковую. Не пожалеешь, верь моему слову! Чин-чин! Выпей, выпей, Илья… Василий!
В секунду подскочил половой, от которого по спине бежали мурашки. Илья невольно посмотрел на его руки: нет ли в них кистеня. Кистеня не было. И руки, что похвально, были чистыми, с аккуратно обрезанными ногтями.
— Так, Вась, клади в память: нам ухи горшок, корейку сделай два раза, еще белых, ржаного и бакинских помидоров с маслицем в стол. Мокрое полотенце принеси чемпиону, — он кивнул он Илью, потиравшему разбитый кулак.
— С нашим удовольствием, — на стол опустилась тарелка языка с хреном. — От заведения. Тихон Сергеевич сказал кланяться, — пояснил Василий и скрылся за шторой, той самой, из-за которой являлся бородатый грум, так смутивший Илью.
Прошло какое-то время. Посидели. И славно, скажу я вам, посидели! Место, как обещал Нехитров, было хоть и подозрительным на все сто, но кухня в нем была бесподобна, прислуга обходительна и быстра, а посуда чиста слезой. Таинственная Стефана Пална, наплевавшая на «Асторию» повариха, творила кулинарные чудеса, и Тихон Сергеевич вслед за языками не забыл про второй графинчик. Веселый урка, исполнив неопознанную сюиту, заткнулся, что очень радовало, занявшись сельдью под шубой. В общем, не местечко — отрада и парадиз.
— Прав ты! Тысячу раз прав: надо уметь жить — и жить! То есть подтверждать теорию практикой, — разглагольствовал выпивший Нехитров, толкая Илью в плечо.
— Угу, — соглашался тот, глядя осоловело на стакан с ледяным нарзаном, в котором прыгали пузырьки.
— И, ка-анешно, приносить пользу обществу! Как без этого? — кивал в соленья Нехитров.
— А ты знаешь, кстати, сколько бьется яйца при транспортировке? — оседлал он ни с того, ни с сего любимого своего конька. — До, вдумайся только, двенадцати процентов от массы! Это где дороги плохие, в Москве поменьше, конечно. Но, поскольку дороги у нас в основном дерьмо… Вот и прикинь теперь, сколько по стране не доезжает яйца. И не только яйца! Вот, — он схватил бутылку, — нарзана тоже будь здоров бьется. Но… пф! Нельзя объять необъятное. Сохраним яйца — сохраним и все остальное.
Илья и на это кивнул согласно, приняв холодную рюмку. Что было дальше, он помнил смутно.
В залу от входной двери вел широкий коридор с гардеробной. Второй — домовый, узкий и скупо освещенный — вел в кухню, подсобки и дальше на задний двор. Кажется, по нему он и шел зачем-то. Там из пара и темноты вынырнуло лицо монголоида, невероятно огромного и свирепого. Грудь будто сходу натолкнулась на стену, дыхание перебило. Илья потерял сознание.
Когда он очнулся, то увидел искру, затем еще, и не сразу понял, что смотрит на ряд фонарей из-под Патриаршего моста — на изогнутый рожок острова, где дети — жертвы пороков взрослых180, еще просто гуляют, без назиданий гражданина Шемякина, которому б самому…
Илья попробовал шевельнуться, из чего не вышло ни йоты толку — тело стягивали тонкие упругие струны, больно врезавшиеся в кожу. Мышцы словно стали чужими. Городские огни плясали перед глазами (каждый глаз при этом смотрел на что-то свое).
В приступе паники он решил кричать, но и в этом не преуспел — рот был забит кляпом. Вполне приличным на вкус. Илья мысленно поблагодарил неизвестного злодея за гигиену — могли ведь и старыми носками забить и вообще всякой случайной гадостью. Только вот на случайность это совсем не было похоже.
Когда картинка по кусочку срослась и мозг дал знать о своем пробуждении, Илья сделал неутешительный вывод, что находится связанным под мостом, что вокруг темно и темная сгорбленная фигура размером больше любого виденного им человека колдует над коллекцией блестящих в свете фонаря инструментов, разложенных прямо на мостовой. Инструменты мерзко позвякивали, когда он перебирал их, по-видимому, выискивая сообразный намереньям.
Илью пронзила раскаленная игла ужаса. Хмель, секунду назад круживший голову, испарился. Наступил миг отвратительной ясности, когда жизнь пробегает перед глазами и увиденное совсем не радует — особенно приближающаяся черта суммы, которую вот-вот подведет безумец с хирургическими щипцами. Ни к селу, ни к городу вспомнилось: «Злые тролли живут под каменными мостами». Сознание работало по своим понятиям, штампуя ассоциации как оладьи.
Между тем, фигура устрашающего гиганта склонилась к его ногам, в одно движение сорвав правый туфель. Движение было такой силы, что шнурки лопнули, а ступню едва не вырвало из сустава. Тут же ногу прострелила резкая боль, по всему телу разлился жар.
Гигант поднялся, рассматривая белую продолговатую штуку, скрюченную, похожую на страдающую аутизмом личинку, бывшую ничем иным, как только что отделенным от ступни пальцем. Затем с сосредоточенным видом он прошел за спину Ильи, и занялся там каким-то бренчащим и поскрипывающим механизмом.
М. проснулся от резкой боли. Правую ступню свело судорогой. Он вскочил, свесив с постели ноги, и принялся ее растирать. Та словно окаменела. Ковыляя, он прошел в гостиную, зажег лампу и вскинул ногу на табурет, увидев, что один из пальцев стал черным, будто отмороженным. Он с испугом посмотрел на него, а затем, словно вспомнив что-то, бросился к письменному столу. Очевидно, какая-то связь еще оставалась, и, что бы он ни предпринимал, не удавалось ее окончательно истребить. Например, когда Илья с Варей… ну, в общем, М. кое-что чувствовал — и это его бесило.
С проблемой стоило повозиться. Он также очень надеялся, что связь эта не работает в обратную сторону — мысль жить как на ладони была совершенно невыносимой.
Схватив бумагу, он начал чертил, путаясь в завитках, ломал и отбрасывал карандаш, что-то вычислял на углу листа. На лбу его выступила испарина. Артефакт, медленно крутившийся над столом, занялся тусклым светом.
Нишикори вернулся к складному креслу, в котором только что сидел пленник. Оно было пустым, если не считать шелковых веревок, повисших на подлокотниках. Никаких следов, лишь ненужный туфель на мостовой и маленькая лужица крови от отрезанного мизинца, недостойная внимания в глазах воина.
Лотос Да-Он-Ли за спинкой кресла бешено вращался, совершенно дезориентировав черепаху, и так недружную с географией.
Нежелательный визитер
Около четырех утра Илья, грязный, исцарапанный, без очков и в одном ботинке (да-да, с недостающим пальцем ноги, я не забыл) стоял в прихожей, пытаясь объяснить Вареньке совокупно все перечисленное. Хуже всего пришлось придумывать на счет пальца, потому что история с маньяком под Патриаршим мостом и последующем чудесным перемещением на Пречистенку потребовала бы развить сюжет — но в другом совершенно месте, где непременно бы выплыло кое-что, что он точно не хотел объяснять. (Илья был убежден, что ему не место в психушке, хотя все меньше и меньше.)
Отмытый и перевязанный молчаливой недовольной супругой, он устроился, насупившись, на кровати, более всего боясь заснуть, потому что чувствовал, что реальность стала какой-то уж совсем ненадежной, мягкой и дырявой как кусок сыра. Но тело взяло свое и к шести утра он мертвецки спал, ощущая себя летящим в бездну. Вокруг кружила мучная пыль, забиваясь в нос, глаза и рот, в облаках которой всплывали неизвестные ему символы. Аппетитно пахло свежей выпечкой.
«Зовите меня Алисой!», — приветствовал он группу граждан, с любопытством рассматривавших его, пролетая мимо них вниз. Блеснули вспышки щекастых «никонов», послышался непонятный говор.
— Дэва о-карада-о таисэцу-ни181! — крикнул ему вслед толстяк с узкими как ребро монеты глазами.
— А, етит твою! Интуристы! Фак ю, япона-мать! — прокричал Илья, проваливаясь все глубже, отплевываясь кусочками теста.
Оживленные встречей граждане остались далеко вверху.
Наконец впереди показалось дно, что радовало и пугало одновременно. Никакого спасительного стога под Ильей не было — только серые плиты, твердые и неприветливые на вид.
Мистерию прервал звон будильника.
— Ну, ты как? — спросил женский голос — откуда, Илья не понял. С пространством вообще творилось что-то неладное.
— Нормуль, — неожиданно бодро ответил он и перевернулся на другой бок. Простыня под ним была мокрой, хоть выжимай.
— Как нога? Чай пойдешь пить? Или принести?
Илья отдался женскому милосердию и напился чаю в постели.
— Болит?
«Еще как», — сказал он про себя Илья и отрицательно замотал головой. Варя сдернула с него одеяло. Бинт пропитался кровью.
— Нужно срочно наложить швы, а то воспалится. Как тебя угораздило вообще?! Сейчас же рассказывай. Голову скоро потеряешь!
— Голову пусть — умнее буду. Лишь бы не другое, — хмыкнул он, слезая с кровати на пол.
— Да иди ты… дурак, — отмахнулась Варенька и вышла, не забрав чашку.
Теперь Илья сидел на балкончике, стараясь не обращать внимания на кухонный шум. Быстровы затеяли званый ужин, оккупировали все чашки, ножи и примусы, пытались даже его увести в рабство, заставив чистить картофель, но Илья, ссылаясь на боевое ранение, сбежал от них, театрально подволакивая ногу.
Не было отбоя от желавших индивидуально и скопом посмотреть на его увечье. На фоне быстровского глаза, травмированного при починке титана в ванной, потеря пальца при загадочных обстоятельствах было событием в высшей степени интригующим, сделав Илью на час героем и жертвой навязчивой популярности.
Утром, по настоянию супруги, они смотались вместе в травмпункт, вызвав удивление фельдшерицы: культя сформировалась и почти заросла, чего по хирургическим канонам не могло быть. В графу «диагноз» поставили: «Травматическая ампутация мизинца правой стопы (застарелая)», на чем страдальца отпустили домой, на всякий случай прописав йод и разрешив в лечебных целях испить водки, но не более полулитра, с закуской, малыми дозами в течение дня.
— На тебе прям как на коту зарастает! — похвалил Гринева Быстров и удалился нарезать сало. Калям проводил его алчным взглядом.
Итак, Илья сидел, глядя на пустой двор, и пытался сложить очередную головоломку. На душе его было неспокойно.
Митинг в музее. Кабак. Драка. Кошмарный монгол с щипцами. Асфальт Пречистенки, на котором он оказался, не помня, как, лежа на животе перед булочной. Путь домой. Досада за потерянный туфель (стоило подумать о нем, заныл фонтом пальца). По крайней мере, не мутило голову от похмелья, что уже неплохо — выпили они вчера порядочно.
Тут возникла гнусная мысль: не Нехитровым ли все это подстроено? Изворотливый типчик этот Борис! Умный приспособленец и вообще подозрительный. Мысль была такой скверной и в то же время логичной, что отделаться от нее было невозможно. И местечко-то выбрал он, и вел туда так упорно. Илья в конце концов утвердился в своей догадке, и даже решил позвонить коллеге, напроситься на разговор «по душам», но осекся, вспомнив факт своего спасения, который никак не мог объяснить. Поверить, что Нехитров способен к телепортации, даже с его талантами проходимца, было невозможно. Скорее всего (тут мы проголосуем двумя руками), дело состояло в чем-то другом.
Что касается Бориса Аркадьевича, раз зашел разговор о нем, то он не был он ни виновным, ни правым, и вообще к истории под мостом не имел ни малого отношения, а маялся сейчас с компрессом на голове, уговаривая жену налить водки или добить его прямо тут — что она обещала сделать, если он не прекратит ныть. Вернувшись на извозчике ночью, он долго стоял у двери, убеждая заплетающимся языком супругу впустить его; обещал провести над собой работу, отдых в Крыму и колонковую шубу. Наконец был впущен, раздет и под наблюдением препровожден в ванную — но в правах не восстановлен до вечера, пока все ни забылось само собой.
— А не тот ли нервный тип из подвальчика все подстроил? — кольнуло Илью прозрение. — Надо бы навестить его…
Так оно или нет, но Илья пришел к убеждению, что все это неспроста, и великан этот, мать его, имеет отношение к его необыкновенной истории. Впервые он почувствовал, что нашел зацепку, которая может ему помочь во всем разобраться. Как бы теперь ее обнаружить? Только в каком-нибудь… хм… более безопасном виде.
Но иные зацепки приходят сами.
Нишикори крепко врезался в его память. Он вообще, как бы это сказать… запоминался. И вот кошмар ожил: несколько дней спустя на Манежной Илья увидел его в толпе.
Он не побежал и не стушевался, но, объятый решительностью, проводил великана до «Метрополя» и неделю после следил за ним, взяв в счет отпуска.
На грех, японец (Илья скоро убедился в том, что он японец) ни полдня не сидел спокойно в своем роскошном номере, а мотался взад-вперед по Москве и пригородам, ехал то в Мытищи, то в Одинцово, однажды укатил в Ленинград и пробыл там двое суток, чуть не сведя с ума своего преследователя, который все время ждал на вокзале, кидаясь к каждому поезду. Пришлось соврать жене о командировке — рискованный шаг, когда работаешь с благоверной в одном учреждении.
Упорству Ильи мог позавидовать инспектор Мегре, если бы не один нюанс: всюду рядом с кустарем-детективом терся неприметный раскосый парень, известный под именем Керо, вполне сходивший за сына казахской степи, на которого никто не обращал внимания.
Вернувшись из Ленинграда, Нишикори направился в «Метрополь», из которого очень скоро вышел, чтобы сесть на поезд в Дубну.
По дороге Илья его потерял.
Не было ни малейшего сомнения в том, что японец садился в соседний с ним вагон, заняв один сиденье, рассчитанное на троих обычных людей, и что не было его среди выходивших, но… факт остается фактом — интурист сгинул.
Когда Илья, взвинченный и разбитый, наплевав на все, вернулся домой, его поджидал пренеприятный сюрприз: жуткий тип, за которым он бегал почти неделю, сидел на стуле в их с Варей комнате, положив руки на колени, и пристально смотрел на него. Рядом на полу, как ни в чем не бывало, в солнечном пятне вылизывался предатель Калям, вполне довольный собой и гостем.
Бежать, очевидно, было бессмысленно. Но Илья попробовал.
Минутой позже он смотрел на комнату снизу вверх, прижатый к половику двумя центнерами японца.
— Что вам нужно? — промычал он, стараясь вдохнуть поглубже.
Ему было страшно и к тому же жалко новых раздавленных очков, лежавших у него перед носом.
— Решение, — пространно ответил гость.
— Какое? — просипел Илья, царапая щеку о половик.
— Я буду спрашивать и слушать. Ты — отвечать правду. Можешь выбрать смерть.
Илья оценил талант убеждения, дарованный его гостю, и лихорадочно согласился, не заботясь о чувстве собственного достоинства и прочих штуках, сильно мешающих выживанию. В итоге в ближайший час он по шагам рассказал о себе, своей жизни «до», «после» и вообще, помянув М. и старательно обходя Вареньку, которую (ему было приятно это осознавать) он хотел максимально оградить от всех неурядиц. И еще он понял, что впервые так последовательно и просто излагает суть происшедшего с ним, в том числе самому себе, и что сердце утешается этим, а ум приходит в порядок.
Японец внимательно его выслушал, глядя в пол. Лицо его ничего не выражало.
Судя по шуму, раздавшемуся за дверью, в квартиру начали возвращаться жильцы. Илья заметался мыслями, не представляя, как предупредить Вареньку об опасности, но тут Нишикори встал и молча вышел, буднично и просто, словно приходил спросить спичек. На минуту в квартире затихли крики, что казалось в принципе невозможным.
Илья в лицах представил эту картину: огромный японец в черном является в коридоре ошарашенной коммуналки и движется как танкер к выходу, заслоняя собою свет. Уверенный, что сейчас же в дверь просунется чья-нибудь любопытная голова, он подошел к окну и принял скучающий вид, на ходу пнув кота-коллаборациониста, всю историю дремавшего у ног заморского гада. Беспринципная тварь не пожелала пошевелиться, лениво приоткрыв один глаз.
— Получишь ты у меня селедки, контра! — погрозил Каляму Илья, выглядывая из-за шторы во двор.
Интуриста не было видно. Откуда-то возникла уверенность, что вопрос исчерпан и сюда он никогда не вернется. Наконец за долгие месяцы Илья почувствовал мир в душе и даже какую-то окрыленность.
Действительно, не прошло минуты, как дверь отошла без стука и в щель между нею и косяком протиснулась голова Ярвинена — самого, по-видимому, шустрого, благодаря зарядке и растираниям. Илья лениво по-мхатовски обернулся, вопросительно взглянув на пришельца.
— Э?.. — лишь проблеял тот.
Илья непонимающе поднял бровь.
— Ах, этот… По работе, коллега из Японии, академик и самурай. Будет делать доклад в Кремле, просил консультаций, — небрежно сказал Илья, будто о самом пустячном деле. — Там немец пожилой сегодня не появлялся? С переводчиком?
Сосед отрицательно потряс головой, вытаращив глаза.
«С немцем я, однако, переборщил», — подумал Илья, но слово не воробей.
— Ну, ладно, ладно… Если придет, скажите, что приму после чая.
Матиас Юхович отчаянно закивал, пообещав, что вдруг если, то он немедленно.
После этого японец Илью действительно больше не беспокоил (хотя, мерзавец, и не вернул пальца!).
В следующий вечер Илья постучался в квартиру М..
Разговор
Поздним вечером в нижнем этаже дома, затерянного среди тысяч домов Москвы, М. сидел в пол-оборота к Илье и посматривал то на собеседника, то на пламя в открытой печной топке. Ужин был прикончен. На полу стоял ряд порожних бутылок «Kopke»182. Очередная, залитая сургучом, ждала своей минуты у кипы книг, устроенной тут же на полу вроде маленькой Вавилонской башни.
Разговор развивался медленно, часто прерываясь. После очередной паузы М. прокашлялся и продолжил:
— Поначалу я припрятал эту штуку в сарае. Была у меня стайка, знаете, где дрова держат и всякий хлам. Нести в общую комнату не хотелось, оставил до весны — разобраться, когда на улице потеплеет. Пока нес, боялся, что напорюсь на патруль… Хрен знает на какой — всегда какой-нибудь да найдется! Примут за оружие, расстреляют на месте: этот nodum virtus183 ужасно похож на снаряд. Вообще-то в мире много что напоминает снаряд — бревна, например, или слоновьи ноги. Арестовать всех слонов!
М. нервически усмехнулся.
— Я, конечно, старался не верить в мистику и так далее, что он мне наплел, тот чудак с Шулявки. Вы бы сами, думаю, не поверили. Мэрлин и его волшебная палочка! Я остановился на том, что эта штуковина механическая, вроде умного фонаря, показывающего кино. А все, что увидел тогда в квартире — плод наркотического тумана.
Но, уверяю вас, теперь-то я точно знаю: никакой химией там не пахло. Кто он, этот Магнифер, и кто та дама, которую я посчитал его дочерью, не представляю. Сильнее всего, уверяю вас, мне бы хотелось сейчас вернуться и поговорить с ними. Но в этом, возможно, юмор бытия — лучшие мысли приходят после.
Я там, кстати, был один раз потом, случилось приехать в командировку. Когда подошел к дому, коленки задрожали как у худого поросенка. Постоял, собрался с духом, поднялся. И дверь оказалась не заперта, представляете! А за нею — пошлая коммуналка, представьте себе фокус! Кем бы они ни были, эти двое и еще слуга их, но унесли свое пространство с собой. А какой вид открывался с оранжереи! На всякий случай я даже написал там на стене углем — вдруг, они иногда бывают. Но это, сами понимаете… Вы-то мне, кстати, верите? А то я распинаюсь тут как юродивый.
— Скорее да, чем нет, — ответил Илья. — Продолжайте, пожалуйста. У меня тоже есть история, в которую невозможно поверить, так что не мне судить о невероятном.
— На том спасибо. Во всяком случае, вам любопытно, а любопытство плюс способность обманывать — две вещи, сотворившие наш биологический вид. Еще чувство юмора, впрочем — вот уж что нельзя переоценить.
Ну так вот… Потом настала весна. Выбрав момент, вооружившись… Тьфу! — про оружие всплывает само собой. Ненавижу его и ненавижу себя за то, что в каждом крюке мне видится пистолет. До чего нас довели эти воинственные безумцы!
Короче, вооружившись отверткой и фонарем, я пошел в сарай, и знаете, что я там обнаружил? — М. выдержал паузу. — Ни-че-го! Пшик. В футляре ничего не было. Такая досада меня взяла, что я бросил фонарь об пол. По счастью, он не разбился… отличный немецкий фонарь. Но — кто украл?! Замок на месте, все на месте. Стоит велосипед, исправный смазанный «штевер»184 с целой резиной — не взяли! Сумасшедший вор? Скажите, мог вор не украсть «штевер»? Мог, отвечу я вам, при одном условии: что вместо него забрал золото. Но золота в сарае, увы, не было в мою бытность.
Я посмотрел вокруг — и обнаружил эту штуку под крышей, висящей в воздухе! Вот тогда я по-настоящему испугался. И уверовал! Как святой Фома, прости Господи, вложивший пальцы в раны Христовы. Но даже тогда, прости еще раз, на всякий случай проверил, не подвесил ли какой-то шутник болванку за нить. Никакой нити там не было… к сожалению.
Прикоснуться к неизвестному, совсем не то же, что прикоснуться к неведомому: первое ты худо-бедно придумаешь, как объяснить, в худшем случае — напьешься и забудешь об этом знать, а последнее — огромный геморрой на всю жизнь. Возможно, это самая сложная и загадочная вещь, попавшая в руки человека за всю историю. Тот, кто принес ее в наш мир, всучив любопытной обезьяне, — большой шутник и мерзавец. В общем, хватит слов. Вот она, смотрите.
М. вытащил из-под стола и открыл большой жестяной пенал с чемоданной ручкой. В нем на бархатном ложе располагался черный цилиндр, испещренный мелкими знаками, который действительно можно было принять за гильзу.
— Забыл сказать: вуаля!
Пошутив, он не рассмеялся, а напротив, скроил какую-то жалкую гримасу, будто доставал из банки тарантула; вынул цилиндр из пенала и поставил вертикально прямо на воздух. Тот завис без движения.
— Ну вот, теперь вы приобщились к великой тайне. Это — врата мира. По меньшей мере. Поверьте, я не преувеличиваю. Да-да, вот так вот, в нищенском московском подвале находится то, по сравнению с чем бомбы и дирижабли так же впечатляют, как пастушья свистулька Иоганна Баха.
Разговор вновь остановился. Пригубив портвейн, он помолчали, глядя на огонь и на чудовищную штуковину, висевшую в воздухе. За окном стемнело, поднялся ветер. М. встал и закрыл его на щеколду.
— А ведь ваша история, дорогой Илья Сергеевич, имеет к этому артефакту прямое отношение. Знаете, как у Данте в «Комедии»? Мне, пожалуй, место в восьмом кругу, среди колдуний и звездочетов… где-то между церковных и взяточников — хотя бы в этом не грешен.
Илья ничего не понял, хотя, как известно, портвейн укрепляет логическое мышление.
— Ну же! Круг обманувших недоверившихся, ров четыре. Звучит как почтовый адрес, не находите? Вы что, совсем не читали Данте?
М. усмехнулся, но как-то криво. В эту минуту, в полутьме с ухмылкой и отсветами пламени на лице, он выглядел совершенно безумным. Илья невольно бросил взгляд на его руки: нет ли в них зазубренного кинжала? А то, чего доброго… Пальца вот уже не хватает. Но висящий в воздухе артефакт его как-то подуспокоил, будто расширяя своим присутствием границы нормального до абсолютно фантастического, где безумный собеседник был меньшей из бед.
— Я вас в некотором смысле обманул, мой друг. Заочно и весьма мягко, хотя с большими для вас последствиями. Чтобы как-то обелиться в ваших глазах, скажу, что, во-первых, это было необходимо, а во-вторых, весьма и весьма непросто — с технической точки. Но, главное, конечно, необходимо. Вы нужны мне, чтобы спасти мир.
Теперь уж Илья скривился, будто вместо Библии ему предложили поклясться на книжке комиксов.
— Не беспокойтесь, ничего предпринимать не придется, в жертву вас тоже приносить не нужно — это было бы просто, но, к сожалению, совершенно бесполезно. Ваше появление здесь, я имею в виду наше теперешнее время, освобождает меня от необходимости объясняться перед супругой.
На этот раз М. не улыбался.
— Да-да, — продолжил он серьезно, — именно. Не только, конечно, но в каком-то суммарном смысле, речь идет об этом. Согласитесь, нехорошо просто исчезать из собственной жизни — это травмирует окружающих… если вы, конечно, не фантастического масштаба засранец, пропаже которого все порадуются. А я, смею надеяться, не он. Ранить, даже ради целого мира? Нет, это недопустимо. Стоит ли Рим жизни одного хорошего человека? Стоит, наверное, но стоит и усилий его спасти.
— То есть… — до Ильи начало медленно доходить. Кажется, его догадка на счет этого типа имела под собой почву.
— То есть! Вы здесь потому, что я так решил. Вы стали мной, в некотором роде. Что не ясно? Это и есть ваша история, в которую невозможно поверить?! Так? Уж не знаю, чем вы там занимались в своих двухтысячных — я же не гадалка, в конце концов! — но тут вы остро нужны.
— Я здесь, чтобы развязать вам руки? — прозрел Илья.
— Именно! Вы умный человек, Илья Сергеевич. Отлично найдете себя на службе, продвинетесь и заживете прекрасно. Варенька — замечательная женщина. Крыша над головой. Все, уверен, у вас будет прекрасно! Только будьте, пожалуйста, осмотрительны: в наше время можно угодить в дурную историю на раз-два. Уверен, в вашем об этом немало пишут. Кстати, в будущем все иначе?
— Да так… — честно признал Илья. — По анонимкам, по крайней мере, не расстреливают, не слышал. Хотя дерьма хватает. Но ведь это подло!
— Подло, — согласился М..
— Вы просто взяли и преломили весь ход истории!
— Ну-те! Вы — это еще не весь ход истории! Что касается личной вашей трагедии…
— Я по вашей милости — как вы там говорите? — исчез из собственной жизни! Со всеми последствиями. Ну, ты и сука!
— Конечно! Пришлось выбирать: я плюс спасение всего мира или вы без всякого плюса. Говорю же: круг восемь, ров четыре, не помню индекса.
Илья чувствовал, что на грани, но вспышки гнева отчего-то не вышло — с бледной искоркой все потухло. Доброжелательный сарказм М., что ли так действовал на него?
— Кстати, согласно некоторым законам, которым начхать на судей с высокой полки, если меня не станет, моя ноша перевалится на ваш горб. Учитывая, что вы понятия не имеете, что делать, это приведет катастрофе. Одно могу обещать: я довольно хорошо защищен от всяких превратностей — это, так сказать, обратная сторона медали. Вроде мухи в янтаре: моя тюрьма — моя же защита. И отчасти ваша, тем самым.
М. помолчал, глядя на Илью.
— Ну, что намерены предпринять теперь, когда все раскрылось?
— Не знаю, — угрюмо ответил тот.
— Мой вам совет…
— Да пошел ты со своими советами, — вяло отозвался Илья, глядя на свои ноги. «Сам-то я еще я или уже не я? — вертелось у него в голове. — Мои это ноги вообще?».
— Это ваши ноги, смею вас заверить. И советую просто жить, наслаждаться судьбой счастливого обывателя. Говорю же, продвинетесь по службе, заведете детей, станете уважаемым членом общества. Разве не об этом вы мечтали там? Впрочем, — М. вдруг показался испуганным, — вы случайно не писатель или художник? Творчество — это бесценный дар. Надеюсь, я не лишил вселенную нового Дона Кихота?
Илья отрицательно покачал головой, вспомнив годы, проведенные за прилавком. Определенно, художественной ценности он для человечества не представлял.
— Хорошо, — облегченно выдохнул М.. — Я не сильно вас удивлю, если скажу, что мы проживаем много жизней? Наверняка знаете о таком взгляде? Это правда. Моя, боюсь только, затянется… А дело вот в чем — примите как есть, не спорьте: если таскать через плотину воду в ведре, ничего особого не случиться… кроме, пожалуй, что вас сочтут идиотом. Но вот если ее прорвет! Тут мало никому не покажется.
Со вселенной дела обстоят подобно. Где-нибудь у края галактики вдруг возникает маленький светящийся пузырек — милая игрушка сантиметр в диаметре, которая светится потому, что кусочек чужого мира прорвался в наш, коверкая саму пустоту… Восхититься этим зрелищем вряд ли кому удаться, потому что примерно через секунду на месте галактики остается только яркий «чпок!». А еще через двадцать пять — вся вселенная стерта огромным ластиком, будто ее не существовало. Во всяком случае, ни одного альбома с фотокарточками в ней уже не найти, пока какой-нибудь кусок слизи, подчиняющийся совершенно другим, не похожим на прежние, законам физики, не проделает достаточный путь, чтобы снова сочинить фотографию. Мое дело — позаботиться, чтобы этого не случилось. Так что выпьем, Илья Сергеевич, за наш невероятный союз!
Последний день Дэбы Батоевой
Настал последний день Дэбы Батоевой.
С возвращения в «Метрополь», то есть часа четыре уже Нишикори не выходил из ванной, закрывшись там со своим прибором. Керо, привычный к странностям патрона, устроился на диване, прихватив в фойе вазу с печеньем и кувшин морса. То и другое приводили его, выросшего в монашеском ордене, в гастрономический экстаз. Со времени приезда в Москву юноша заметно поправился и уже не напоминал обернутую тряпьем жердь, а что-то среднее между нормальным человеком и сушилкой для рабочих комбинезонов.
Для большего удовольствия он выкрутил ручку радио. Из полированной башенки с циферблатом полилась «Патетическая» симфония Чайковского. Такой сложной прекрасной музыки Керо не слышал никогда в жизни. Бряцанье цимбал и кокю, к которым он привык с детства, казалось на ее фоне незатейливой кустарщиной. Сознание уносилось куда-то в даль, где над океаном взметались краски зари… На пике удовольствия, когда уже, кажется, само тело растворилось в потоке звуков, щелкнула задвижка. На пороге ванной, заслоняя дверной проем, стоял босой Нишикори, вертя в руке черепаху.
Фуджи, втянув голову в панцирь, сонно посмотрела на стену, потолок, вскочившего с дивана Керо, ковер и голые ступни Нишикори, опять на стену, потолок… в ее частной черепашьей вселенной происходил топологический апокалипсис.
— Едем! — коротко скомандовал Нишикори, не объясняя для чего и куда; вид у него был самый решительный.
Приемник надрывался крещендо.
Через десять минут у подъезда ждала двуколка. Белобрысый лентяй на козлах даже присвистнул, увидев экзотических пассажиров с путанной металлической штуковиной, напоминавшей клетку для попугая, пропущенную сквозь пресс, к которой ремнями было пристегнуто существо неизвестной породы, которое шевелило лапами, словно пытаясь плыть, безмолвно открывая и закрывая костистый клюв, напоминавший резак для проволоки.
Тощий, помоложе, быстро вскочил в двуколку. Второй, огромный, одетый в черное, державший невиданную конструкцию, чинно взгромоздился за ним. Рессоры прогнулись до осей, будто он весил не меньше тонны.
Рыжая донская дернулась в хомуте и впервые в жизни понесла иноходью, нервно поглядывая за спину. Никогда в жизни она не видела волков, тигров и крокодилов, никогда не слышала про драконов, не имела воображения их представить, но была лошадью, то есть кое-что унаследовала от предков — глубинный страх травоядного перед всем названным185.
Несмотря на раннее утро, улицы наводняли повозки и пешеходы. Из арок и переулков выезжали чистые «воронки», неся начальственные тела в сторону великой государственной службы. Где-то коротко звякнул колокол. Другие не отозвались.
Двуколка обогнула гостиницу, пронеслась через Театральную, миновала Охотный ряд и вкатилась, накренившись, на Тверскую в общем суетливом потоке. Совсем скоро на углу большого многоэтажного дома, стеной уходящего вниз к Петровке, Нишикори крикнул вознице: «Стой!».
Тот с усмешкой глянул на чудаковатого пассажира, натянув вожжи, — отъехали всего ничего. Кобыла, дергая рыжей шкурой, переминалась с ноги на ногу, будто собиралась станцевать минует.
— Здесь!
Нишикори обвел взглядом дома вокруг, критически посмотрел на голубей, герань в окнах, напирающую листьями на стекло, на ямщика и широкий круп лошади, бешено мотавшей хвостом. Он явно ошибся с расстоянием и теперь торопливо соображал, что его подвело в расчетах: цель оказалась гораздо ближе, чем он решил.
— Извольте, ваше благородие! Доставлены в лучшем виде. Два золотых червонца! По числу пассажиров.
Несмотря на всю озабоченность спасением мира, Нишикори переключился на наглеца, перегнувшего в сотню раз, и назвал свою цену. Извозчик принялся торговаться, крестясь и кидая шапку. Нишикори пошел на принцип. Поняв после короткого диалога, что вообще ни гроша не получит от интуристов, белобрысый с матом умчался прочь (с той же суммой глаз и конечностей, к которой привык за годы — мы, более осведомленные на счет его пассажиров, безусловно считаем это удачей).
Пройдя сотню метров вверх и свернув в проулок, Нишикори с Керо углубилась в кирпичный кавардак старой Москвы, где, дважды перескочив ограду, вышли к особнячку, пристроившемуся во дворе огромного здания. С одной его стороны была молочная кухня, и мамочки стояли в очереди с корзинами, с другой — приемная доктора Иссяу-Бочкина, работавшего по легочной линии. Там в сени деревьев ожидали унылого вида пациенты, вопреки здравому смыслу курившие паровозом, потакая своим недугам. Иные пытались пристроить в окошко банки, перетянутые резинкой, которые принимала старая санитарка в крахмально-белом чепце с лапками, делавшей ее похожей на монахиню. Там же, расталкивая больных, из грузовика выгружали мебель.
Нишикори пересчитал «легочников» и буркнул себе под нос: «симулянт», «поправится», «безнадежные»; глянув в угловое окно, быстро и криво усмехнулся, будто застал светило с хорошенькой медсестрой (что, не будем юлить, было сущей правдой — Иссяу-Бочкин, день-деньской наблюдавший плевриты и пневмонии, утро предпочитал проводить приятно).
Теперь оставалось смотреть и ждать.
Прибор не давал точного портрета персоны, с которой (к ее несчастью) стремился встретиться Нишикори. По слабым неверным признакам, доступным лишь ему, он предполагал, что искомая личность — женщина, нестарая, скорее, восточной крови — и очень надеялся, что, благодаря близости к объекту, удастся различить какие-нибудь еще приметы, ибо женщин, попадавших под такое пространное описание, было пруд пруди.
Нишикори поставил прибор на землю, отцепил Фуджи и достал из заплечного кожаного мешка, терявшегося на широкой спине, низенький складной табурет, на который уселся, соединив ладони замком, с видом человека, способного пробыть в этой позе долго. Керо, не обеспеченный индивидуальным сидением, оседлал какую-то железную перекладину, торчавшую из трансформаторной будки, которая мелко вибрировала под ним, навевая дремоту. Оба принялись сосредоточенно ждать, более полагаясь на везенье, чем на систему.
Проблемы, однако, начались сразу — слишком приметными были иностранцы, и дом не из рядовых, у которых хоть сутки сиди, всем на тебя плевать. Начальственный квартал охраняли переодетые в штатское товарищи.
К Нишикори подошли сразу двое с мертвыми лицами и попросили показать документы. Горстка ожидавших у крыльца пациентов-легочников как-то сама собой растворилась, то ли разом поправ недуг, то ли предпочтя прийти вдругорядь. К Керо из-за угла будки синхронно подошел третий, в лавандовой тертой блузе, ужасно не шедшей к его обрюзглому лицу с черными сердитыми глазками. Кобура топорщила ее край — укором нерадивому реквизитору.
— Попрошу проехать, — предложил товарищ в черном плаще, показав на стоявший за кустами автомобиль.
— Никак нельзя, — на ломаном русском ответил Нишикори, тыкая ногтем в угол предъявленной им бумаги. — Сегодня у меня важная встреча там, — теперь палец показывал в сторону Кремля. — Меня весьма ждут. Узнавайте. Я суть должен сосредоточенно думать и найти слова для значительный господин об отношении наших стран. Это мой секретарь и слуга, — кивнул он на растерянного Керо, не знавшего, драться или бежать.
Что-то, вероятно, и впрямь было в документе, потому что, переглянувшись, товарищи отошли, но вовсе из виду не пропали и даже не старались вести себя неприметно. Один уселся на скамейку у входа в легочную приемную, второй, полный, похожий на вареную клецку, отошел, переваливаясь, к машине. «Франт» в блузе остался стоять у будки, терзая пачку «Казбека».
Нишикори с упоением вспомнил хаос восточных городов, многолюдных, шумных, где легко затеряться. Где-нибудь в Иокогаме или Чэнду на него никто бы и не взглянул. В крайнем случае, всегда можно вырядиться носильщиком или чистильщиком ушей. Что у них тут в Москве, ушей не чистят?!
В голове его пронеслась дюжина вариантов дальнейших действий, ни один из которых не подходил. Оставаться здесь во дворе было бессмысленно и опасно — «заметут», как выражаются русские. Все же гипотетическая дама была лишь третьестепенной целью, из-за которой не стоило рисковать. Всегда, конечно, можно перейти на нелегальное положение, но это чревато своими трудностями…
Не пробыв и получаса в засаде, воины-монахи направились обратно в гостиницу, сопровождаемые балаганно выряженным филером. Когда двери «Метрополя» бесшумно затворились за ними, тот еще остался и с минуту говорил о чем-то с седым швейцаром, коротко кивавшем ему в ответ, а затем растворился среди прохожих.
Она никак не могла привыкнуть к расположению выключателей в огромной как герцогский склеп квартире, которую занимал ее новый друг, и в которую она сама переехала вскоре после знакомства. В результате чьей-то странной фантазии они были разбросаны в самой прихотливой манере — на разной высоте и далеко не всегда у входа. Чтобы осветить гостиную, например, нужно было добраться в темноте до окна и нашарить выключатель за шторой на уровне колен. На кухне он был за посудным шкафом. В спальне вообще отсутствовал, устроившись снаружи на стене коридора, что казалось совсем уж диким.
— Электрика, может, вызвать? Пусть переставит, — предложила она как-то Василию.
— Нельзя ничего менять, госимущество. Не самая большая проблема, в конце концов, — он махнул рукой и перешел к шкафу. — Какой мне галстук надеть, а?
«Вся квартира, наверное, в „жучках“, поэтому и трогать нельзя», — подумала Тундра. От этой мысли ей сделалось неуютно: будто голая стоишь на балконе.
Хотя квартира была казенной, выданной по временному ордеру за отличия в учебе и политработе, но жил Василий в ней на полных правах, то есть с пропиской и приветствиями консьержа — наушника и шпиона, но приятного пожилого человека с образованием. С ним Тундра поддерживала добрые отношения, быстро обнаружив общую тему, а именно древнюю культуру Востока, о которой рассуждать было безопасно, если не проводить неуместных параллелей. В отчетах консьержа она значилась культурной девушкой, не вызывающей подозрений.
Василий еще вчера уехал в Северную столицу на какой-то театральный дебют, откуда должен был позвонить и вызвать ее к себе. С Тундрой, провожавшей его на поезд, он расставался неохотно, ревнуя к неопределенному кругу окружавших ее мужчин, так что она с удовольствием отпустила его, сделав обиженное лицо. Пусть мучается.
Ум, энергия и опытность зрелой дамы в сочетании с девичьим молодым телом обеспечили ей быстрый успех в вопросах приручения «работника киноиндустрии» и расширения круга знакомств вообще. Это было тем легче, что сам Василий ей нравился — был он чистоплотен, вежлив, старателен, несмотря на молодость имел приличные связи и перспективы. Назойливый «украинский» говорок только, режущий ее ухо… Ну да над ним он сам активно работал и уже почти избавился от всяких «ну шо вы, мама», выдававших в нем провинциала и выскочку. Так что «женское коварство» в синергии с искренним увлечением скоро привели Тундру в молодую московскую богему, чутко руководимую сверху, но недурно при том живущую. Она и правда не ожидала, что такое возможно в «темные века диктатуры».
За всю жизнь, наверное, Тундра столько не бывала в театре и кино, как за эту осень, волей-неволей начиная втягиваться и даже кое в чем разбираться. Читала Юткевича, Муссинака и Пиотровского186, чтобы «соответствовать» в разговоре. Даже помогала проектировать декорации к какому-то учебному фильму.
Была, помимо квартиры и хорошей зарплаты, у Василия еще одна привилегия — постоянно пополняемая библиотека, выписываемая по какой-то особой разнарядке «для проработки образов будущего советского кинематографа». В нее поступали книги на восьми языках, в том числе с грифом «Не распространять!» на форзаце. Тундра быстро добилась от возлюбленного права доступа к этому складу знаний (мало чем ее, впрочем, впечатлившему, но гораздо лучшему, чем можно взять в магазине).
Через знакомого Василия, питавшего к ней романтические надежды, она поступила на истфак МГУ, освоилась в Комсомоле, выбирала тему для диссертации — и вообще принялась налаживать свою жизнь, будто ничего невероятного не случилось. Подумаешь, переместилась во времени, стала кем-то другим и в другом теле (спасибо за него, кстати) — и что с того? В иные минуты она сама себе удивлялась: как можно так относиться к невероятному? Но потом решила, что объяснения лежат за пределами ее компетенций — пусть физики разбираются, если нужно, а у нее другие задачи.
В планах, она узнала, была большая экспедиция в Среднюю Азию с переходом на Кавказ и дальше — к границе с Турцией. Года на полтора с зимовкой. Ее материалы она, кажется, в свое время читала в аспирантуре. Хорошие, цельные публикации, профессиональный состав, широкий охват темы — в общем то, что нужно. Идея поучаствовать в ней полностью ее поглотила. Необходимо было во что бы то ни стало войти в основную группу. Как это сделать первокурснице — еще тот вопрос. Скинуть маску и заявить о себе «в полный рост»? Девочка-татарка с мозгами профи? Жена дворника (как бишь его?), знающая больше МГУшных преподавателей? Рискованно… Соблазнить какого-нибудь профессора — помоложе? Вариант, в сущности. Но как быть с Василием?..
Мысли, мысли… Нужно выйти на воздух!
Бадай терся о ее ногу как кот, выпрашивая сыр со стола.
— На, держи, троглодит. Гулять идем?
Пес засуетился, умчавшись в переднюю за ошейником. Гулять? — всегда пожалуйста!
Тундра прошла в спальню переодеться. Из большого зеркала «в пол» на нее смотрела молодая брюнетка совершенных пропорций с бронзовой кожей и правильными чертами лица, только приобретающего от легкого прищура и высоких монгольских скул. С косметикой было скудно, но пока она и не особо нуждалась в ней. Достаточно помады и туши — остальное дано природой.
Натянув шерстяную юбку и толстый уютный свитер, Тундра поймала за морду пса, застегнула ему ошейник, обулась, надела плащ и спустилась вниз, как вдруг, не лишенная женских слабостей, поняла, что забыла выключить утюг — здоровенный как баржа монстр остался на гладильной доске в спальне. Так выключила? Кажется, все же, нет…
Тихо выругавшись, она взлетела по лестнице и, конечно, обнаружила выключенный утюг там, где ему должно быть в любом доме — в гостиной на подоконнике между горшков с бегонией. Да что же это такое?!
— Извини, Бадай, что-то я не в форме… Сначала кофе, потом гулять. Держи еще сыру за моральный урон.
В это время трое вышли из машины, припаркованной во дворе, обратив внимание на огромного одетого в черное японца, сидящего на складном табурете у приемной легочного светила.
Последний день Дэбы Батоевой отменился.
Хижина на скале
Нишикори стоял под тем самым вязом, под которым Илья встретил М. в бурную июльскую ночь — теперь облетевшим, черным на фоне снега как вставшая на дыбы трещина. Вдоль оштукатуренного забора в щетине голых ветвей темнело еще несколько стволов, разбавленных вечнозеленой пихтой. Упадок облупившихся стен подчеркивал прелесть ее приглушенной зелени. Пахло снегом, лошадьми и дымом от бывшей вблизи котельной — не печным уютным, а резким с примесью какой-то отравы, портившей волшебную пастораль этого закутка, словно перенесенного из деревни в город, и еще не сросшегося с ним — только узкой жилкой следов, ведущих сквозь калитку к лестнице обжитого подвальчика.
Стоял ранний вечер. Над печной трубой вился сизый податливый завиток. Зашторенные окна верхней квартиры были темны как омут с плавающей в нем тряпкой. В окнах нижней, почти скрытых сугробом, горел приглушенный свет.
Нишикори убедился, что переулок у дома пуст, пересек двор и сошел по лестнице к низкой крашеной синим двери, за которой слышался голос М.. Ему не впервые предстояло прекратить жизнь. Это не было хорошо. Но, по-видимому, оставалось единственным разумным решением. Он помнил лицо этого человека, его худобу и дерганую походку. «Невероятно, что он вообще еще держится», — подумал японец, постучав в дверь. Иногда того, кому сворачиваешь во благо шею, ты искренне уважаешь.
На стене дальней комнаты (именно там по какой-то прихоти норовили проклюнуться все эти «кротовые норы», как если бы узкий бельевой шкаф с исподним М. состоял в сговоре с мирозданием) повис чернильный овал с резкими границами, словно вырезанными бритвой в картоне.
М., не спавший почти неделю и ожидавший чего угодно — летающих бобров, поющих фальцетом ящеров, гигантских улиток с нехорошими намерениями — сдернул со стола чистый лист и начал чертить в нем, стараясь поспеть к одному ему известной черте, после которой в мир хлынет хаос. При этом он выкрикивал бессвязные вещи, которые бы очень не понравились психиатру, если бы он оказался рядом.
Между тем овал рос и в него как в раму, застив черноту, вписалось что-то белесое, намеренное сделать визит и занятое именно тем, чтобы пролезть как можно скорее в нору между мирами, пока она не закрылась. Через несколько секунд ему это удалось. В комнате посыпались на пол книги и послышался хруст раздавленной гостем мебели.
Вероятно, старания М. также не прошли даром, потому что овал начал стягиваться, искря краями, став в охвате не больше шляпы187. Но было поздно: в щепы разломав косяки, гость застыл на пороге комнаты. М. бросил в него стаканом, который, отлетев на пол и расколовшись, на секунду отвлек пришельца. Тонкое узловатое щупальце потянулось к осколкам.
Я бы не стал описывать представшее перед М. существо, если бы не прижало. Но даже в тисках необходимости, навязанной ролью автора, не стану углубляться в детали. Во-первых, я еще не ужинал, а во-вторых, граждане нынче сплошь нервны и впечатлительны — не то, что в оные времена, когда описание всякой жути вызывало лишь ехидную ухмылку. «Да ладно, — отмахнулся бы какой-нибудь писарь в заляпанном балахоне, очиняя гусиное перо, — на прошлой неделе у ратуши четвертовали Ганса-конюха за то, что навел порчу на герцогских лошадей. Вот это, доложу я вам, было зрелище! Потроха так и вывалились наружу! А тут — скукотень…». Поэтому ограничусь упоминанием того, что издаваемый гостем утробный рык был не таким уж громким, а связки голубей, частей тел собачьих и человеческих (разной степени сохранности), а также множество случайных предметов, из которых он состоял, смотрелись вполне опрятно.
Одна из голов, с пшеничными усиками колечком и внушительными щеками, прежний обладатель которой, перед тем как пасть жертвой Кэ, пал жертвой земного чревоугодия, разомкнула губы и прохрипела:
— Жа-жду-у…
М. сжал кулаки и выпрямился, с вызовом глядя на пришельца, словно карапуз у песочницы, защищая выстраданный «куличек» (действие не слишком разумное, когда стоишь перед пугалом в три центнера весом, способным отколоть такой фокус как говорящая мертвая голова).
Между тем вторая, женская, украшенная мелованными барашками, несколько помятыми, но сохранившими привлекательность, решила не отставать, повторив за первой певучим голосом, подпорченным отсутствием тела ниже ключиц, совершенно необходимого для резонанса. (Не исключаем, что при жизни дама обладала недурным сопрано и пользовалась популярностью на банкетах.)
Что-то ухнуло во входную дверь. М. не обратил на это внимания, медленно отступая перед надвигавшимся визитером. За его спиной в воздухе вращался подлый цилиндр, подсвеченный изнутри фиолетовым потусторонне-холодным светом. Пара присвоенных существом рук и еще что-то, определить которое не возьмемся, потянулись к нему через комнату.
М. резко шагнул назад, опрокинув стул, с которого с глухим «дынь!» упала керосиновая лампа без колбы. Керосин пролился и тут же вспыхнул, подпалив валявшийся на полу томик «Что дѣлать?» издания М. Элпидина188. Старая бумага занялась как бездымный порох. Внимание чужака переключилось на гибнущую брошюру.
Этого хватило, чтобы М. успел отступить в переднюю, сцапать висящий в воздухе артефакт и выметнуться на лестницу — сразу за дверью налетев на японца, размерами почти не уступающего пришельцу. Тот как раз отошел для броска на дверь, оказавшуюся прочнее, чем он рассчитывал.
М. отлетел от него обратно, выронив артефакт, который будто никчемная вещь, а не великое и загадочное нечто, подло закатился под мойку. Светиться он перестал и лежал болванкой, уткнувшись в разношенные ботинки.
Великого воина Нишикори-сама, иерарха Ордена Подметальщиков, следящего за магической чистотой планеты, было невозможно испугать в принципе. Уж точно — последние несколько земных жизней. Среди немного, что могло пробить брешь в его тектонического масштаба спокойствии — горные синицы (номер один в «Рейтинге наглых птиц Азии»), музыкальные упражнения настоятеля и, по неизвестной причине, палочки для еды, что рождает кучу проблем, если вы живете в Японии. Однако, отринув страх и массу остальных слабостей, он не лишился способности удивляться. Ближайшим переводом японской фразы, слетевшей с его губ, когда он сквозь дым увидел, от кого пытался сбежать М., является: «Что это за едрическая хрень, вашу мать?!».
Нишикори влетел в переднюю. «Едрическая хрень» уставилась на него одиннадцатью мертвыми глазами (пожилой кондитер Труве189, чья голова среди прочих украшала кошмарный букет из плоти, при жизни был одноглазым190). Японец вопросительно посмотрел на М.. Тот, словно цепляющийся за соломинку утопающий, ответил ему исполненным страдания взглядом:
— Мне нужно меньше минуты. Я должен закончить это, — показал он на подобранную с пола бумажку, исчерченную кривыми.
В сознании «Франкенштейна» что-то переключилось, и он снова пришел в движение. Поправ огненную лужу с погибшим томиком и попутно раздавив лампу, пришелец пересек комнату, готовый схватить любого, приобщив его к своей личной коллекции мертвой плоти.
К чести Нишикори отметим, что опыт древнего воина, привычного к рукопашной, позволил ему мгновенно оценить обстановку. В один миг, сам не разобрав как, М. оказался выставленным на лестницу, держа в руке лист бумаги. Спешно подобрав кусок угля, валявшегося на нижней ступени, он замкнул на нем пару линий, тяжело осел на пол и уставился в открытую дверь подвальчика. Больше он ничего не мог сделать.
Сцена, разыгравшаяся в передней, напоминала скульптуру «Лаокоон и его сыновья»191: монстр охватил могучую фигуру японца, пытаясь сдавить его с нескольких сторон сразу. Тот яростно орудовал узким черным ножом, отсекая от «Франкенштейна» куски.
Возможно, если все оставить как есть, Нишикори бы скоро разобрал на части этот кошмарный конструктор «Лего», но треклятый пространственно-временной тоннель, едва не вышедший боком М., вновь расширился и со звуком «сщщщщ…» втянул в себя шкаф, диван и воздушным потоком повалил Кэ.
В этот момент Нишикори, на секунду получивший свободу, в одно слитное движение выхватил из заплечного мешка предмет, напоминающий куклу Каса-обакэ192 с бронзовой петлей вместо ноги, выставил его перед собой и щелкнул нефритовым рычажком в виде большеголового, похожего на мопса дракона, которого, несомненно, дразнили в школе за странный вид.
Раздался звук раскрываемого зонта — большого и сильно заржавленного, изготавливая который явно переборщили с заклепками.
Между Нишикори и Кэ возникла тщательно выписанная мандала, каждый фрагмент которой был изображен на отдельной медной чешуйке — одной из десятка тысяч, находившихся в постоянном движении, так что рисунок постоянно менялся, удивительным образом сохраняя симметричность. Надо сказать, краски на нем поблекли, синий почти сливался с зеленым, и красный не сильно отличался от желтого, но общее впечатление потрясало. Над хитроумным устройством некогда потрудился гений — тот же, что над известным вам Лотосом Да-Он-Ли193.
Кэ быстро повернулся на звук. Точнее, прихотливо подобранные предметы, составлявшие его «тело», перестроились со стуком, хлюпом и бряцаньем таким образом, что пара лиц и какое-то число рук оказались обращены к Нишикори — и замер, уставившись на мандалу.
Окружающее пространство словно перестало существовать для него — весь мир заполнила эта, сводящая с ума круговерть, в которой хаос и порядок сплелись неведомым образом в одно целое. Казалось, стоит только сосредоточится, еще и еще немного, и станет ясен какой-то удивительный смысл, стоящий за этим танцем цвета и формы, а все смутные, таящиеся в душе прозрения вдруг найдут свой выход. Мандала поглотила все внимание Кэ. Он стоял, шатаясь, впившись в нее тем, что служило ему глазами.
Полсекунды. Четверть. Восьмая часть. Время и картинка будто застыли, проступило что-то неуловимое, словно очертания горы сквозь туман… Тут чешуйки снова пришли в движение, гора исчезла, скрывшись густым туманом. Кэ напрягал внимание, но каждый раз ему не хватало одного исчезающе малого мгновения: рисунок менялся, суть его ускользала, заставляя Кэ по спирали замыкаться в собственных мыслях, несущихся в безнадежной погоне. Он сделал невероятное усилие еще сильнее сосредоточился, сжавшись в одну полыхающую частицу.
С минуту ничего не происходило, только с легким скрипом работала механика «волшебного зонтика».
От «тела» Кэ начали отваливаться куски. Головы, голуби и собаки — груда гнилого праха. С грустным «брямс» упал молочный бидон; осыпался целый водопад бижутерии, монет, обойных гвоздей и скрепок; под ноги Нишикори откатился медный барометр, показывая на «ясно».
— Это все? — с надеждой спросил М., отступая от выводка бодрых оранжевых клизм, скакавших подобно теннисным мячикам. Целый взвод страдающих запором москвичей, вестимо, остался без спасительных приборов.
Нишикори покачал головой, что у разных народов значит разное — «да» или «нет» — смотря к чему вы привыкли. М. подумал и решил, что кивок японца означает именно «да» или, еще лучше, «конечно, да, какие вопросы» — что бы он там ни имел в виду.
«Зонт» со щелчком и скрипом сложился. Нишикори сунул его в мешок, а затем вытащил из кучи, оставшейся от пришельца, скрипку работы старого итальянца. Возможно, двум гениям, создавшим переменчивую мандалу и этот прекрасный инструмент, было бы, о чем поговорить, если бы они когда-нибудь встретились.
В это время в подвальчике возник еще один персонаж — одетый в телогрейку Керо, недоуменно рассматривающий разгромленную квартиру.
— Отправляйся, купи на вечерний поезд, мы уезжаем, — приказал ему Нишикори, когда тот уже открыл рот для вопроса.
— На восток или на запад, сэнсей?
— На восток.
— То есть все закончено, сэнсей? — с надеждой спросил Керо.
Нишикори сурово посмотрел на ученика:
— Лишние слова губят доброе дело.
Керо поклонился и одновременно пожал плечами (навык, который приобретаешь, общаясь с Великими Наставниками). Затем подтянул пояс и быстро вышел — очень и очень вовремя.
Скрипка дернулась в руках Нишикори.
Кэ восстал.
Все чувства Кэ соединились в одно — глубокую, безграничную ярость. Впервые материя, плоть, которой он так жаждал, по-настоящему мешала ему. Предметы, составлявшие его «тело», вспыхнули, превратившись в пепел, в воздухе повис яркий белый шар чистой неистовствующей энергии. Повинуясь законам жанра, из пламени выкатилось одинокое горящее колесо от игрушечного грузовика194.
Шар ударил Нишикори в живот и, прожигая одежду и кожу, врезался в могучие мышцы. Вопреки всякой логике японец не отпрянул, пытаясь освободиться, а накрыл его ладонями и с силой вдавил в себя, заставляя врезаться еще глубже. Из-под широких ладоней шел пар и дым.
Кэ заметался, чувствуя, что попал в ловушку, и сгинул после краткой борьбы в обожженной ране на теле воина, с неслышным воплем растворившись в его сознании… Где узрел покрытые снегом горы и языки ледников, сползающих в океан, плюс одинокая хижина над обрывом, с висящими на кольях сетями.
Кэ стоял на склоне седой скалы, основание которой терялось в снежном тумане, и не мог определить, что он есть теперь. Опустив глаза, он увидел ноги, замотанные в тряпье. Щеки и голые кисти рук щипало от холодного ветра.
На него смотрел огромный вороной конь, привязанный к кольцу в стене хижины. Спустя минуту, показавшуюся Кэ вечностью, на ее порог вышла недовольная женщина с топором и огромной кружкой. Ее рогатый шлем нестерпимо горел на солнце, а нагрудник можно было использовать вместо шлюпки (двух шлюпок, если говорить точно).
— Ты от Бьорна?
— Не знаю… наверное, — ответил Кэ, заслоняя глаза ладонью.
— Тогда пошли.
— А?..
— Заткнись.
— А.
— Умеешь петь? Или играть на фидле 195 ?
— …?
— Ясно. Дикарь. Будешь прибираться после попойки. А там посмотрим.
М. и Нишикори сидели перед пузатой печью в разгромленном подвальчике и пили горячий чай. Японец держал забинтованными руками медный ковшик, хозяину досталась щербатая миска — другой посуды не уцелело. Разбитая форточка, в лучших традициях домоводства, была наглухо забита подушкой. Среди комнаты на полу чернело большое выжженное пятно. Квартира превратилась в склад древесной щепы и всевозможных осколков. Не говоря уже о неприятном запахе и тяжелом, мелком как пудра пепле, устилавшим пол и предметы — все, что осталось от «тела» Кэ. Проклятый артефакт, как ни в чем не бывало, кружил над горой мусора, когда-то бывшей буфетом.
То немногое, что осталось целым — пара табуретов и узкий письменный стол — было подтянуто к печи. Японец неловко взгромоздился на один, который под его весом грозил в любую секунду присоединиться к куче хлама, сваленного в углу, и больше, кажется, опирался на ноги, чем на табурет.
— Я могу создать для вас чудный уголок, в котором ничто не будет мешать покою. Посмотрите, — М. достал из стола открытку с видами Гималаев.
Нишикори покосился на раскрашенный черно-белый пейзаж, запечатленный энтузиастом-фотографом.
— И что — там будут горы, снег и долины с тысячами озер, чья гладь отражает небо?
— Конечно!
— И ветер, играющий с облаками?
— Именно, — с улыбкой подтвердил М..
— Проклятье!
— Что не так?
— Вы вообще когда-нибудь бывали в горах?
— Очень живописное место…
— Я спрашиваю: жили вы в горах?
— Нет, если честно, — признался М..
— Вы правда считаете, что мучиться от жажды, холода, скудной пищи и нехватки воздуха — все сразу — лучший способ проводить время?
— Но… там же есть эти… горные монастыри, например? Средоточие великой культуры.
— Провести годы, сидя лицом к стене, разглядывая каракули, написанные какими-то фантазерами в балахонах из ячьей шерсти? Благовония, знаете, действуют на сознание по-разному…
М. кивнул, не уверенный, что уловил суть.
— Я лишь…
— Забраться в задницу к леднику и сидеть там, стуча зубами, — это, по-вашему, то, что нужно?
Нишикори неожиданно рассмеялся. Его глаза превратились в щелки.
— Я как-то по-другому все представлял, — сказал М., задумавшись, вертя открытку в руках.
Японец хлопнул его по загривку, чуть не выбив вчерашний завтрак.
— Даже слушать не желаю об этом! Если говорить о покое, пусть там будет дом с очагом, теплый туалет и винный погреб размером с Поднебесную. А в саду — хочу, чтобы там был сад, дери вас яки! — пусть цветут вишни и рыбина с мордой как у трактирщика, — для верности он показал, какого именно размера должна быть морда, — плавает в фонтане у тенистой беседки. Не забудьте ванну. Резиновый утенок, так и быть, не нужен. Ясно?
— У тенистой беседки… — повторил М..
На его вкус вид на заснеженные вершины как нельзя лучше подходил для отдохновения души. Во всяком случае, еще минуту назад ему так казалось.
— То есть вы не хотите, чтобы я перенес вас на окраину живописной горной деревни где-нибудь в Непале?..
— Ты меня вообще слушаешь?
— Да-да, просто мне казалось… Ну, ладно. Раз идея с горами решительно не подходит, предлагаю вам скучное шале под Женевой. Если угодно — с велосипедом и геранью на подоконнике. Пойдет?
— Как нельзя лучше.
— Хорошо.
— Но этого ничего не будет, — отрезал Нишикори.
— Почему?
— Не в этой жизни — так, кажется, говорят в России?
М. кивнул. Кто ж не знает: баранки и хоровод — символы Колеса Сансары, известные на Руси с древности. Где-где, а тут разбираются в этом деле.
— Вы прекрасно владеете русским. Позвольте полюбопытствовать?
— Быстро учусь.
— Но, готов спорить, одно слово точно не знаете.
Нишикори пристально посмотрел на М..
— На посошок! И за дом в Швейцарии, кому бы он ни достался!
Подводя итоги
Чепец из стекла и стали на внушительной бетонной основе предвестником будущего «Зарядья» стоял во дворе музея, обметенный снегом. Голуби и вороны на него не садились, потому что не за что было зацепиться, их сдувало ветром. Внутри него было пусто, гулко и неуютно. Только в центре фундамент для постамента с торчащей в стороны арматурой постепенно превращался в сугроб.
Пурга поднялась такая, что в полдень горели лампы. Ярче всех — в директорском кабинете, похожем на захламленный гимнастический зал.
— Не будет никакой торжественной сдачи. Кто вам лично сказал, что она будет?
— Ну как же? Да здесь, за этим столом…
Вскотский ядовито прищурился.
— Но ведь…
— Ясно, товарищ директор! Разрешите исполнять?
— Идите.
Сияющий как пятак Гринев первым вышел из кабинета, гордо выставив подбородок.
— Великий человек, наш директор, — безапелляционно заявил он в приемной так, что все повернули головы.
Следом вышла Каина Рюх с пустым выражением лица, сломанной папиросой и в надвинутом до бровей берете. Кудапов, еще пытавшийся что-то возражать, вылетел за ними красный как взопревший рачок:
— Это немыслимо! — возопил он, пытаясь обнаружить сочувствующих среди ожидавших в приемной лиц, но, натолкнувшись на взгляд Гринева, опустил плечи и закивал: — Да-да, вы правы, что это я…
Лужана Евгеньевна широко улыбнулась Илье Сергеевичу, так точно и верно постигшему самую суть вопроса. Он мысленно раздел ее взглядом, затем (мысленно же) махнул рукой и удалился как победитель.
Никакого изваяния в МИМ в итоге не поступило. Рука, утвердившая высокий проект, гнила теперь в яме под Сыктывкаром вместе с высоким и умным лбом, прострелянным навылет чекистом. Конструкция стояла пустая, директивы сносить ее тоже не было — на нее старались лишний раз не смотреть. Стопу из папье-маше вывезли прочь на свалку, документы сдали в архив, где, если что-нибудь когда-то теряется, то на веки вечные. Штаб, работу которого приостановили «до особого циркуляра» (и которого, каждый понимал, никогда не будет) собрался еще единожды уже в мае тридцать первого года, чтобы констатировать свой конец и готовность объекта за одно, как его счастливый итог (все же главбух настоял на этом, чтобы списать расход).
Илья Сергеевич уже привычно со скукой председательствовал; дело, казавшееся ему год назад новым, стало обыденным и понятным:
— Товарищи, все знакомы с повесткой дня… По сумме вопросов сразу, их два, голосуем поднятием руки. Кто «за», «воздержался», «против»? Спасибо, товарищи. Единогласно.
Был на нем приличный серый костюм, галстук и удостоверение в нагрудном кармане, которое, впрочем, теперь не требовали с него, потому что знали в лицо нового заместителя директора, сменившего на посту некоего Завадского, которого сразу же перестали помнить всем коллективом.
И в заброшенный кабинет он более не ходил, а ездил с парадного крыльца на служебном ГАЗе в свою новую квартиру в Замоскворечье, к беременной всем довольной Вареньке, занятой обустройством. Перестал искать встречи с теткой, так и не состоявшейся. Отставил бредни безумца М.. Выучил устав партии. И вообще, зажил человек нормальной жизнью, встал на ноги, приобрел даже некий лоск — и за какое краткое время! Талантлив оказался Илья Сергеевич. А Нехитрова на всякий случай он сдал в Лубянку.
Дэба Батоева тоже вполне устроилась, уехав-таки в желанную экспедицию, хотя и «второй волной». Занялась наукой. Экстерном сдала весь курс, выпустила десяток статей и претендовала на ученую степень, чем снискала скромную славу и могущественных завистников. Спасло ее только долгое отсутствие в Москве — на вундеркинда поступил ворох анонимок, две из которых авторитетные, известно кем именно не подписанные.
Нишикори вернулся в монастырь, где в сосредоточенном покое пробыл три года, отправившись за тем на поиски нового воплощения настоятеля, которого обнаружил в тридцать шестом на рыбном рынке в Даляне — мало того, что крикливым непоседливым карапузом, к тому же еще и девочкой. Лин Чжан узнала свой старый посох, флейту и чашу для подаяний, с прищуром посмотрела на Нишикори, горой возвышавшегося над ней, и ответила странствующим монахам, вытащив изо рта палец:
— Мудрец сказал: «В собственном доме трудно иметь дело с женщинами и слугами. Если приблизить их — они станут развязными, если удалить от себя — возненавидят»196. Я же стану женщиной и слугой. Возвращайтесь с пустой повозкой, — и добавила, словно придя в себя: — Хосю писенье!
Нишикори остался в Даляне рядом с семейством Чжан, нанявшись грузчиком в порт, и встретил свой конец в лачуге на берегу, задавленный сорвавшимся с каната бревном. Такова была милость Лин, служанки в доме торговца рыбой, отпустившей старого друга.
Что стало с М., мы не знаем. Последнее, известное нам, то, что он стоял в зимний вечер на холме в Лефортово с вороной болванкой в руках, и то, что болванка эта, подброшенная им, полетела вверх, будто чуждая притяжению, скрывшись в синеве над Москвой.
Примечания
1
Цукубаи — Сосуд для омовения в традиционном японском саду.
(обратно)2
Кото — японский щипковый музыкальный инструмент.
(обратно)3
Эпоха Кинсэй — период японской истории с 1573 год по 1868 год.
(обратно)4
«Ясуда» на японском означает «спокойный + рисовое поле».
(обратно)5
Сама — суффикс в японском языке, демонстрирующий максимально возможное уважение.
(обратно)6
Фр. — Жаба! Жаба! Огромная жаба!
(обратно)7
Cogito, ergo sum (лат. — «Мыслю, следовательно, существую») — философское утверждение Рене Декарта.
(обратно)8
Микеланджело Буонарроти (1475 — 1564) — итальянский скульптор, художник, архитектор, поэт, мыслитель.
(обратно)9
Вильгельм Стейниц (1836 — 1900) — австрийский и американский шахматист, первый официальный чемпион мира по шахматам.
(обратно)10
Люфтханза (нем. — Lufthansa) — немецкая компания-авиаперевозчик.
(обратно)11
Халк — вымышленный супергерой, появляющийся в изданиях Marvel Comics.
(обратно)12
Энрико Карузо (1873 — 1921) — великий итальянский оперный певец (тенор).
(обратно)13
Москва, Чистопрудный бульвар, 12А, строение 1.
(обратно)14
Панорама Бородинского сражения Франца Рубо (1856 — 1928).
(обратно)15
Из «20 сонетов к Марии Стюарт» Иосифа Бродского (1940 — 1996).
(обратно)16
Лходзе (8516 м) — гора в Гималаях. Четвертый по высоте восьмитысячник мира.
(обратно)17
Юшет (rue de la Huchette) — улица в Париже.
(обратно)18
Путти — те еще стрелки, часто попадают пониже сердца.
(обратно)19
Район Киева.
(обратно)20
«Мост» — роман Иэна Бэнкса (1954 — 2013).
(обратно)21
Имеется в виду роман «Куда приводят мечты» Ричарда Мэтисона (1926 — 2013).
(обратно)22
Экхарт Толле (р. 1948) — немецкий писатель и духовный оратор, автор книги «Сила настоящего».
(обратно)23
Проходил с 25 февраля по 6 марта 1986 года.
(обратно)24
Где-то глубоко таилась невысказанная надежда заглянуть краем глаза в двадцать второй, но на это лучше не делать ставок. Впрочем, если принимать энзимы и бегать кросс…
(обратно)25
Имеется в виду знаменитое фото из зала суда над Иосифом Бродским, датированное 1964 г.
(обратно)26
Стихотворение Иосифа Бродского, датировано 24 мая 1980 г.
(обратно)27
«48 Законов власти». Роберт Грин.
(обратно)28
Из телефильма «Семнадцать мгновений весны». Киностудия имени М. Горького.
(обратно)29
Имеется в виду персонаж рассказа «Серая шейка», Д.Н.Мамин-Сибиряк, 1893.
(обратно)30
Те, кто нам не перечит, вообще кажутся симпатичными.
(обратно)31
Очаковская слива, как известно, желта.
(обратно)32
Греч. — Добро пожаловать в Атлантиду!
(обратно)33
Имеется в виду «La Divina Commedia» — «Божественная комедия» (ит.).
(обратно)34
Не известно точно, на него ли приземлился тот самый голубь, но следы пребывания в нем копытных до сих пор оставались в стойлах.
(обратно)35
Всегда задавался вопросом, кто и каким способом его выел?
(обратно)36
Шкала Мооса (минералогическая шкала твердости) — набор эталонных минералов для определения относительной твердости методом царапания. Значение 5 соответствует апатиту, если вам интересно.
(обратно)37
В обиходе учреждений редки предметы, которые не имеет смысла красть. Коническое ведро занимает вторую строчку такого рейтинга.
(обратно)38
Очаровательный сюжет-бутоньерка: пошел по нужде куда-то, и там поступил на службу. Аптека, магазин, что еще? Парикмахерская очень даже подходит. С кладбищем только может не получиться — смотря как на нем оказался: по своей воле или по направлению врача.
(обратно)39
Герой романа «Ким» Редьярда Киплинга (1868 — 1936).
(обратно)40
От фр. boire — выпить, глотнуть.
(обратно)41
Песня на музыку Е.М.Розенфельда (1894 — 1964), автора музыки популярных довоенных песен.
(обратно)42
«Шоу Трумана» (англ. The Truman Show) — американская кинодрама режиссера Питера Уира, вышедшая на экраны в 1998 году.
(обратно)43
Американский киноактер.
(обратно)44
Пришвин М. М. (1873 — 1954) — русский советский писатель, прозаик, публицист. Помимо привычных ассоциаций со школьной программой в литературной ее части, отметим, что Михаил Пришвин был страстным и признанным фотографом-натуралистом. Также может показаться интересной для лучшей его характеристики, оставленная в дневнике запись: «Наша республика похожа на фотографическую темную комнату, в которую не пропускают ни одного луча со стороны, а внутри все освещено красным фонариком».
(обратно)45
Бенедикт Тимоти Карлтон Камбербэтч — британский актер театра, кино и телевидения.
(обратно)46
Из телефильма «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой.
(обратно)47
Аллюзия на события, описанные в «Путешествиях Гулливера» Джонатана Свифта.
(обратно)48
Шулявка — местность Киева.
(обратно)49
Из воспоминаний киевского мемуариста Григория Григорьева: «В 1915 году дала о себе знать проблема хлеба. Вышел приказ — запретить выпечку и продажу тортов и пирожных в пределах города Киева. С такой неприятностью любители сладкого как-то примирились, за пределами города приказ силы не имел. Демеевка не входила в состав города, и там можно было получить какие угодно пирожные, конечно, за немного повышенную цену. Для этого нужно было только съездить трамваем на Демеевку».
(обратно)50
Англ. — Заткнитесь, мой узкоглазый друг.
(обратно)51
Фр. — Здоровье так хрупко, мои друзья.
(обратно)52
Фермопильское сражение — сражение в сентябре 480 года до н. э. в ходе греко-персидской войны 480 — 479 гг. до н. э. в ущелье Фермопилы. История о нем стала, в частности, основой сюжета кинофильма «300 спартанцев» Зака Снайдера, вышедшего в прокат в 2007 году.
(обратно)53
Джеймс Кэмерон все-таки добрался, отдадим ему должное.
(обратно)54
Муза лирической поэзии и музыки.
(обратно)55
«Мама Люба» — песня, записанная российской поп-группой Serebro.
(обратно)56
«Владимирский централ» — песня автора и исполнителя Михаила Круга в стиле «русский шансон».
(обратно)57
«Тащить нищего по мосту» — петь унылые песни (жаргон).
(обратно)58
Толстой Л. Н. Война и мир.
(обратно)59
Злая ведьма — персонаж полнометражного мультфильма «Русалочка», снятого студией Уолта Диснея в 1989 году по мотивам произведения Г.Х.Андерсена.
(обратно)60
Астрид Анна Эмилия Линдгрен — шведская писательница, автор ряда всемирно известных книг для детей, в том числе «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».
(обратно)61
Хармс Д. И. (1905 — 1942) — русский, советский писатель и поэт.
(обратно)62
Музееведение. Очень умное слово, хотя и дурно звучит.
(обратно)63
Вы со мной? (нем.)
(обратно)64
Сенектута — в римской мифологии богиня старости.
(обратно)65
Carpe diem — лови день, лат.
(обратно)66
Герой одноименной сказки датского писателя Г.Х.Андерсена (1805 — 1875).
(обратно)67
Дейенерис Таргариен — персонаж сериала «Игра престолов», снятого по мотивам произведений Джорджа Мартина.
(обратно)68
«HBO» (Home Box Office) — американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть.
(обратно)69
Привет — тайск.
(обратно)70
Тук-тук — один из видов общественного транспорта в Тайланде, напоминающий российские маршрутки.
(обратно)71
7-й президент США Эндрю Джексон изображен на современной американской купюре в 20 долларов.
(обратно)72
Главный герой австралийского фильма «Данди по прозвищу „Крокодил“».
(обратно)73
Джейкоб Марли — персонаж повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь», чей призрак явился главному герою Эбенезеру Скруджу.
(обратно)74
Прозвище советского пассажирского паровоза серии Су, выпускавшегося с 1924 по 1951 гг.
(обратно)75
Карамзин Н. М. Опытная Соломонова мудрость, или Выбранные мысли из Екклесиаста (1797).
(обратно)76
Для любопытных: Иолай — сын Ификла и Автомедусы, возничий и сподвижник Геракла. Ну а сам Геракл — герой, сын бога Зевса и Алкмены — жены героя Амфитриона.
(обратно)77
Подол — местность Киева.
(обратно)78
Дамские штучки (dames choses — фр.).
(обратно)79
Имеется в виду полотно Хендрика Тербрюггена (1588 — 1629).
(обратно)80
Лат. — Да здравствуют дураки!
(обратно)81
Сорт итальянского сыра.
(обратно)82
Имеется в виду семья живописцев Брейгелей: отец Питер Брейгель Старший (ок. 1525 — 1569) и его сыновья Питер Брейгель Младший (1564 или 1565 — 1636), Ян Брейгель Старший (1568 — 1625).
(обратно)83
Надежда Плевицкая (1884 — 1941) — русская певица (меццо-сопрано). «Чайка» — Романс начала XX в., музыка Евгения Жураковского, слова Елены Буланиной.
(обратно)84
Рецепт найдете в литературе.
(обратно)85
Одна из старейших больниц Санкт-Петербурга, основана в 1842 году
(обратно)86
Александр Гюстав Эйфель (1832 — 1923) — французский инженер, специалист по проектированию металлических конструкций.
(обратно)87
Музей современного искусства в Бильбао, Испания.
(обратно)88
Иван Васильевич Бунша — один из главных героев популярной советской кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию» (роль играет Юрий Васильевич Яковлев).
(обратно)89
Дом Лаваль, Санкт-Петербург, Галерная улица, 5.
(обратно)90
Возможно, имеется в виду «Меченосец» — одна из должностей в иерархии масонов.
(обратно)91
Асклепий, как доводят легенды, стал столь великим врачом, что научился воскрешать мертвых, и люди на Земле перестали умирать. Бог смерти Танатос пожаловался Зевсу на врача, нарушавшего мировой порядок. По размышлению, громовержец поразил Асклепия своей молнией, доказав примат власти над талантом.
(обратно)92
Т. Хейердал (1914 — 2002) — знаменитый норвежский археолог, путешественник и писатель.
(обратно)93
Н. Н. Миклухо-Маклай (1846 — 1888) — знаменитый русский путешественник и ученый.
(обратно)94
В самом деле, этот печальный гонец, имя которого для рассказа незначительно, скончался в октябрьский звонкий вечер в корпусе клинической терапии, — но не в этом месте и спустя полстолетия, в дату рождения Комсомола. В ту пору начиналась новейшая плодотворная часть его долгой жизни, к порогу которой он только лишь подступил, сам не догадываясь об этом. В иной истории мы обязательно расскажем о нем, но не сейчас.
(обратно)95
Да, они существуют.
(обратно)96
Первая автоматическая холодильная машина, выпускавшаяся фирмой «General Electric», и названная по фамилии своего создателя французского учителя физики Марселя Одифрена.
(обратно)97
Весьма распространенное отклонение, признаки которого, уверен, свойственны и читателю.
(обратно)98
Взято из интернета.
(обратно)99
«Письма римскому другу», И.А.Бродский.
(обратно)100
Взято из интернета.
(обратно)101
Луиджи Гальвани (1737 — 1798) — итальянский ученый, основоположник экспериментальной электрофизиологии. Первым исследовал электрические явления при мышечном сокращении. Не в почете у земноводных.
(обратно)102
Лат. — Quid pro quo — «то за это».
(обратно)103
Строка из стихотворения «Silentium!» Ф.И.Тютчева.
(обратно)104
Порядок участия в политическом сыске в России XVII — XVIII веков и принятое условное выражение, произнесение которого свидетельствовало о готовности дать показания о государственном преступлении.
(обратно)105
Лишь кое-кому показывают.
(обратно)106
Имеется в виду аукционный дом «Christie’s».
(обратно)107
Vogue (Вог, фр. мода) — женский журнал о моде.
(обратно)108
Наоми Кэмпблл — та самая модель, фамилию которой вы забыли, а фото хорошо помните.
(обратно)109
Вид пиццы, классический состав которой включает томаты сорта «Сан Марцано», сыр «Моцарелла», артишоки, маслины и оливки.
(обратно)110
Роберт Джон Дауни младший — американский актер, продюсер и музыкант. Веселый мужик, летает в цветном железном костюме.
(обратно)111
Men’s Health — мужской журнал.
(обратно)112
Ит. — Есть в доме книги?
(обратно)113
Имеется в виду роман-эпопея А.И.Солженицына «Красное колесо».
(обратно)114
Сэр Теренс Дэвид Джон Пратчетт (1948 — 2015) — знаменитый английский писатель.
(обратно)115
Романы Т. Пратчетта.
(обратно)116
Один из самых известных романов Джейн Остин (1775 — 1817).
(обратно)117
Роман Оноре де Бальзака (1799 — 1850).
(обратно)118
Героиня романа «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл (1900 — 1949).
(обратно)119
Герой романа «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда (1854 — 1900).
(обратно)120
Да-да, тот самый, описанный Астрид Линдгрен, что проживает на крыше.
(обратно)121
Медицинский факультет имени Карла Густава Каруса Технического университета Дрездена.
(обратно)122
Имеются в виду «Четыре всадника Апокалипсиса» — термин, описывающий четырех персонажей из шестой главы Откровения Иоанна Богослова, последней из книг Нового Завета.
(обратно)123
Моллюски также имеют свою литературу и жанр романа ужасов. Все до одной книги короткие. Этот отрывок почти дословно взят из одной довольно известной книги под названием «Кошмар севильского утра» и составляет примерно половину ее текста.
(обратно)124
Знаменитый вопрос Альберта Эйнштейна: «Unsere wichtigste Entscheidung ist, ob wir das Universum für einen freundlichen oder feindlichen Ort halten».
(обратно)125
Леонид Иванович Рогозов (1934 — 2000) — врач-хирург, участник 6-й Советской антарктической экспедиции, в 1961 году сделавший сам себе операцию по поводу острого аппендицита.
(обратно)126
Александр Флеминг (1881 — 1955) — британский бактериолог, в 1928 году открыл пенициллин — исторически первый антибиотик.
(обратно)127
«Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны» — знаменитая фраза, сказанная В.И.Лениным в речи «Наше внешнее и внутреннее положение и задачи партии» на Московской губернской конференции РКП (б) 1920 года.
(обратно)128
Из монолога ежика, м/ф. «Ежик в тумане» Ю.Б.Норштейна по сценарию С.Г.Козлова, 1975 год.
(обратно)129
Эгертон Йонг (1840 — 1909) — канадский писатель.
(обратно)130
Анри Мюрже (1822 — 1861) — французский писатель и поэт.
(обратно)131
Джордано Бруно (1548 — 1600) — итальянский монах-доминиканец, философ и поэт, представитель пантеизма. Был осужден католической церковью как еретик и приговорен светским судом Рима к смертной казни через сожжение.
(обратно)132
Скала в Австралии.
(обратно)133
Эдгар Аллан По (1809 — 1849) — американский писатель, поэт, эссеист, литературный критик и редактор.
(обратно)134
Англ. — Говоришь по-английски? А? Я вызвала полицию, парень! Понял меня? Они будут через минуту.
(обратно)135
Англ. — Китаец? Монгол? Индус?
(обратно)136
Татар. — Немного безумный.
(обратно)137
Герасимов С. А. (1906—1985) — советский кинорежиссер, киноактер, сценарист, драматург и педагог, профессор ВГИКа. Режиссер и автор сценария кинопостановки «Тихого Дона».
(обратно)138
«Роман-газета» — советский и российский литературный журнал, выходящий с 1927 года.
(обратно)139
Персонаж романа «Тихий Дон» Шолохова М. А. (1905 — 1984).
(обратно)140
Имеется в виду «Учебникъ санскритскаго языка» Ф.И.Кнауэра.
(обратно)141
Клио — муза истории в древнегреческой мифологии. Дочь Зевса и богини памяти Мнемозины.
(обратно)142
Общеизвестно, что големы руководствуются в поступках пергаментом с заклинаниями, помещенной им в голову. Чем не предвестье компьютерной эры?
(обратно)143
Англ. — Всем, кого это касается.
(обратно)144
Бурятская лодка.
(обратно)145
Яп. — Девятый сын.
(обратно)146
Яп. — Да, все хорошо.
(обратно)147
Зима!.. Крестьянин, торжествуя, На дровнях обновляет путь… (Пушкин А. С. «Евгений Онегин»)
(обратно)148
Ария из оперы «Травиата» Джузеппе Верди (1813 — 1901).
(обратно)149
Наум Габо (1884 — 1962) — российский и американский художник, скульптор и архитектор.
(обратно)150
Норв. — Умник.
(обратно)151
Даже японец может прищуриться еще больше, чем дано ему от рождения. Почти то же самое, что вовсе закрыть глаза, но есть небольшой нюанс: он вас все-таки чуть-чуть видит.
(обратно)152
Клавдий Птолемей (100 — 170) — астроном, астролог, математик, механик, оптик, теоретик музыки и географ. Сформулировал в своих трудах геоцентрическую модель мира.
(обратно)153
Куда понятнее уютное и привычное уныние, растерянность и жалость к себе, не так ли? И вообще нас постоянно все обижают. Думаю, это сговор!
(обратно)154
Самсон — ветхозаветный герой, сила которого была в его волосах, прославившийся своими подвигами в борьбе с филистимлянами.
(обратно)155
Шахматный суперкомпьютер, разработанный компанией IBM, который 11 мая 1997 года выиграл матч из 6 партий у чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.
(обратно)156
Точно необходим перевод?
(обратно)157
Азиз не знал слово «фурия», оно использовано автором для усиления выразительности.
(обратно)158
Товарищество передвижных художественных выставок (Передвижники) — объединение российских художников, возникшее в последней трети XIX века и просуществовавшее до 1923 г.
(обратно)159
Аллюзия на роман «Мы» Замятина Е. И. (1884 — 1937): «… сунул дежурному свой розовый билет и получил удостоверение на право штор. Это право у нас — только для сексуальных дней.».
(обратно)160
Растение такое.
(обратно)161
«Винни-Пух идет в гости» — мультипликационный фильм студии «Союзмультфильм», 1971.
(обратно)162
Эжен Делакруа (1798—1963) — автор знаменитой картины «Свобода на баррикадах».
(обратно)163
«Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» — музыкальный фильм режиссера Тима Бертона, 2007.
(обратно)164
Имеется в виду история пророка Ионы, пробывшего во чреве кита три дня и три ночи, — древнейшего из еврейских пророков, писание которого дошло до нашего времени.
(обратно)165
Вы точно читали эту книгу. Если «нет» — пусть вам будет стыдно.
(обратно)166
«Новый мир» — ежемесячный литературно-художественный журнал, издается в Москве с 1925 года.
(обратно)167
В одном уважаемом институте, после долгих мучительных расспросов и пары крайне неприятных разговоров с охраной, удалось разузнать, что такого предмета не может существовать в природе, и если кто-то что-то такое видел, то был в бреду или наблюдал голограмму, для которой закон не писан. Бывают ли голограммы твердыми и холодными на ощупь, выяснить не удалось, потому что случился третий и последний разговор, после чего вашего покорного слугу выдворили из института вон, запретив пускать на порог.
(обратно)168
Как многие иностранцы, он имел весьма поверхностные представления о чужой стране, ее религии и порядках, а как всякий юноша был склонен к радикальным суждениям. Что до владения русским, то этот чисто технический вопрос решался читкой «Войны и мира» в состоянии медитации (явным плюсом такого чтения было частичное овладение французским).
(обратно)169
Долгота, проходящая через территорию Японии.
(обратно)170
Японская мера массы: 1 кин = 600 грамм.
(обратно)171
Яп. — Придурок!
(обратно)172
Лат. — История болезни.
(обратно)173
Том XVI издания 1898 г.
(обратно)174
С10Н8, кому интересно.
(обратно)175
Запретный город — дворцовый комплекс в Пекине.
(обратно)176
Согласно балладе Франсуа Вийона, за флирт с королевой Жанной Наваррской, женой короля Франции Филиппа IV Красивого, Жан Буридан был зашит в мешок и брошен в Сену.
(обратно)177
«Суеверие — поэзия жизни, так что поэту не стыдно быть суеверным». И.В.Гете.
(обратно)178
Читайте на этот счет у Дугласа Адамса.
(обратно)179
По-датски «hygge» — «уютность».
(обратно)180
«Дети — жертвы пороков взрослых» — скульптурная композиция М.М.Шемякина, расположенная на Болотной площади Москвы.
(обратно)181
Яп. — Берегите себя!
(обратно)182
Имеется в виду португальский портвейн производства «С.N.Kopke&Co».
(обратно)183
Лат. — Узел силы.
(обратно)184
Имеется в виду предприятие братьев Штевер (Gebruder Stoewer), выпускавшее в Германии рубежа веков велосипеды, автомобили и др.
(обратно)185
Лошади вообще живут на краю безумия, и столкнуть их за этот край не так сложно, как, скажем, жирафа или ежа, которым по большому счету на все плевать.
(обратно)186
Юткевич С. И. (1904 — 1985), советский режиссер и теоретик кино, художник. Муссинак Л. (1890 — 1964), французский писатель, театровед, киновед. Пиотровский А. И. (1898 — 1938), российский литературовед, театровед, киновед.
(обратно)187
Вы, конечно, правы, заметив, что шляпы бывают разными, и даже весьма продолжительной окружности. Возьмем, к примеру, мексиканское сомбреро, на полях которого можно разводить помидоры. Отдавая должное читательскому занудству, уточним: не больше английского котелка.
(обратно)188
Известное произведение Чернышевского Н. Г. (1828—1889), основная идея которого состоит в том, чтобы побудить читателя действовать правильно и по совести. Элпидин М. К. (1835 — 1908), русский революционер, эмигрант, деятель вольной русской печати.
(обратно)189
Говорят, именно он привез в Россию круассан, но я думаю — вряд ли.
(обратно)190
Из-за этого пирожные «птифур» иногда получались кособокими.
(обратно)191
Скульптурная группа в ватиканском музее Пия-Климента, изображающая смертельную борьбу Лаокоона и его сыновей со змеями.
(обратно)192
Каса-обакэ — в японской мифологии старый оживший зонтик.
(обратно)193
История купеческого сына Нэо Иида, чье имя означает Честный Вареный Рис, знакомит нас с замкнутым закомплексованным ребенком, прилежно пытавшемся следовать по стопам отца, и никогда так и не преуспевшим в коммерции. Множество удивительных вещей, включая две, упомянутые выше, были изготовлены им на склоне лет, когда сыновья взяли на себя заботу о нем — старом вконец разорившемся торговце обувью. Остается только догадываться, чем обогатился бы мир, если бы Нэо не потратил семьдесят лет жизни на ерунду.
(обратно)194
Колесо обязательно должно быть, пусть и неподобающего размера.
(обратно)195
Фидла — исландский народный смычковый инструмент.
(обратно)196
Считается одним из высказываний Конфуция (551 г. до н.э. — 479 г. до н.э.).
(обратно)


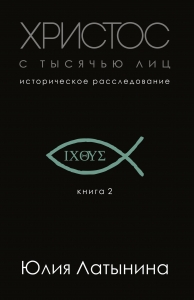

Комментарии к книге «Спрятанные во времени», Ефим Гаер
Всего 0 комментариев