КТО ПРАВ?
БЕГЛЕЦ
Аннотация
Федор Федорович Тютчев (1860–1916) – писатель–демократ, сын
замечательного русского поэта Ф. И. Тютчева. Много лет отдал военной
службе, побывал в отдаленных краях России. В предлагаемый сборник
вошли два произведения Федора Федоровича Тютчева: автобиографи-
ческий роман «Кто прав?», рассказывающий о сложной судьбе писателя, и «кавказский» остросюжетный роман «Беглец», повествующий о буднях
пограничной службы.
КТО ПРАВ?
(Из одной биографии)
I
Всего только месяц прошел с того дня, как похоронили нашего товарища корнета Чуева, а мне кажется, это было так давно, так давно, что даже некоторые подробности как похорон, так и его смерти начали изглаживаться из памяти.
Умер Чуев не своей смертью, а, как он часто мечтал, самоубийством.
Кончить с собою, «изобразив из своей башки мишень для револьвера», как он сам выражался, было его заветной мечтою, и вот она теперь исполнилась.
Не скажу, чтобы смерть его кого-нибудь очень изумила, мы все давно уже решили, что Чуев так или иначе, а добром не кончит, или сам себя ухлопает, или лошадь его укокошит, или другая какая история с ним приключится, словом, по выражению одного нашего товарища, «не сносить ему головы». Застрелился он у себя на посту «Твердовицы». Я
один из первых узнал о его смерти и поспешил приехать взглянуть на него. Чуев лежал у себя в квартире на постели и, казалось, спал, так спокойно было его лицо. Стрелял он себе в сердце, чтобы не испортить лица. Месяца за два до смерти он говорил: «Если я когда буду стреляться, то не иначе как в сердце, в голову страшно, еще череп разнесет, безобразие выйдет».
По рассказам денщика, самоубийство произошло при следующих обстоятельствах.
В день смерти Чуев встал довольно рано и с особенной заботливостью принялся за свой туалет: принял ванну, надушился, надел все свежее белье... Я думал, их благородие куда в гости едут, – пояснил денщик, – а оно вона что вышло?!
Приготовив себя таким образом, Чуев приказал убрать комнату, а сам снова лег.
– Убрал это я комнату, – рассказывал денщик, – и пошел на кухню самовар ставить, не успел это я воды налить, вдруг слышу «трах», выстрел из комнаты их благородия и запах пошел такой пороховой, меня словно что под сердце вдарило, бросился я туда, гляжу, их благородие, запрокинувшись навзничь, на постели лежат, а сами словно бересточка на огне коробятся, не успел я опамятоваться, а они уже и вытянулись, значит, дух вон!
Когда самоубийцу снимали с постели, под подушкой в головах нашли конверт с надписью:
«Полковнику N в собственные руки».
В конверте этом лежало письмо, в котором Чуев просил, если можно, не анатомировать его.
«Я умираю, – писал он, – в полном рассудке издравой
памяти умираю, потому что не вижу надобности жить, если меня и будут анатомировать, то все равно нового
ничего не узнают, стало быть, и резать нет нужды».
Далее в письме выписан был список мелких его долгов и просьба, как распорядиться с его небольшим имуществом. В заключение стоял адрес родственников Чуева, у которых воспитывались его две дочери. Чуев был вдовец.
Жена его умерла год тому назад, и как мы тогда думали, смерть эта и была причиной его самоубийства, но это было не совсем так. Чуев застрелился не столько от того, что скучал по жене, сколько прямо в силу убеждения, что не видел надобности жить. Да если рассуждать здраво, он был по-своему прав. Чуев принадлежал к категории тех людей, к которым так идет эпитет «лишний». Да, он действительно был человек вполне лишний, пятая спица в колеснице, и это рельефнее всего выразилось на его похоронах. Несмотря на то, что он был в самых лучших, можно сказать, дружественных, отношениях со всем остальным нашим офицерством, что за все свое двухлетнее пребывание у нас я не помню, чтобы он с кем-нибудь не только поссорился, но даже крупно поговорил или сказал кому какое обидное слово, за что все считали его «добрым малым», его особенно никто не пожалел. Врагов у него не было, но не было и друзей. Даже я, бывший с ним ближе всех и, казалось, любивший его, даже я не грустил по нем. А почему? Бог его ведает. А ведь в сущности он был человек довольно симпатичный, не глупый и по-своему даже оригинальный, только никому не нужный, ни на что серьезное непригодный; его отсутствие из нашей среды даже не было замечено, словно бы его никогда не было.
Дней пять спустя после его похорон вздумалось мне как-то заехать на пост «Твердовицы». Признаюсь, меня тянуло взглянуть еще раз на квартиру Чуева, посидеть в комнате, в которой мы еще так недавно сидели с ним вдвоем, словно бы я боялся, что уже очень скоро, непозволительно скоро для друга, каковым я считался, я забуду его, и мне хотелось свежими впечатлениями подогреть свою память. В квартире я застал все так же, как и было: кровать стояла на том же месте, так же висели по стенам портреты, которых у Чуева было множество, седло на деревянном козелке под шерстяной попоной ютилось в углу, полочка с книгами, нагайка и хлысты на гвоздиках, словом, точно Чуев только что вышел; только обильное присутствие пыли на письменном столе да мертвенный холод долго нетопленой комнаты давали знать, что квартира необитаема.
Я постоял несколько минут и уже собирался уходить, как вдруг взгляд мой упал на нижнюю полочку этажерки.
Она была пуста, только какая-то толстая тетрадь в четвертку листа небрежно валялась на ней.
Денщик Чуева, отворивший мне и все время почтительно стоявший у дверей и по солдатской привычке не спускавший с меня глаз, должно быть, по направлению моего взгляда догадался, что я обратил внимание на лежащую тетрадь, и счел нужным вставить свое замечание.
– Это, ваше благородие, я третьего дня под кроватью нашел, за чемодан завалилась, должно, как читали вечером, накануне того самого дня, задремали и уронили, так она и лежала.
Это сообщение заинтересовало меня. Я взял тетрадь и развернул ее.
– Значит, он читал ее перед смертью? – спросил я,
– Так точно, последнюю неделю, почитай, каждый вечер, как лягут, возьмут ее в руки и читают, а сами нет-нет да карандашиком и черкнут в ней или встанут, подойдут к столу и начнут писать.
«Это любопытно, – подумал я, пробегая глазами страницы, мелко исписанные угловатым, некрасивым, но довольно разборчивым почерком, – уж не последний ли его роман, о котором он мне говорил, наверно, так».
Чуев, до поступления к нам, лет пять занимался литературой. Заправским писателем он, правда, никогда не был и, к чести его нужно сказать, никогда таковым себя и не считал и гораздо больше гордился и интересовался своей посадкой и тем, что мог сесть на самую бешеную лошадь, чем небольшим изданием своих стихотворений и прозы, которые, впрочем, в свое время произвели кое-какое впечатление и в которых даже некоторые чересчур увлекающиеся критики провидели что-то новое, выдающееся. Во всяком случае, Чуев не был только дилетант, пишущий для кузин и дам сердца, а был хоть мало, но известен публике и редакциям. Словом, представлял из себя литературную единицу. Немудрено, что меня очень заинтересовала его, так сказать, «Лебединая песня». Я объявил денщику, что беру тетрадь с собою, на что он мне отвечал обыкновенным
«Слушаюсь, ваше благородие», и, не теряя времени, поехал домой.
Оказалось, я несколько ошибся, это не был роман, а скорее биография, и то неполная, касающаяся последних лет жизни Чуева. Биография эта показалась мне настолько интересной, что я решаюсь предложить ее публике, тем более что, зная семейное положение Чуева, вперед уверен, никто за это на меня не будет претендовать, да и сам он, если бы жил, ни на минуту не рассердился бы на меня за мое самоуправство.
Но раньше всего несколько слов о самой тетради. Как я уже сказал, тетрадь в четвертку листа, в синем папковом переплете. Вся она испещрена помарками, поправками, то карандашом, то красными чернилами, местами целые страницы зачеркнуты, так тщательно, что совершенно невозможно прочесть, что было написано, в изобилии усеяна чернильными кляксами. На первом листе ниже заглавия
«Кто прав?»,
очевидно, недавно было приписано следующее:
«Вот уже полгода прошло с тех пор, как кончил я эту
вещь, писал я ее вскоре после смерти жены, а для чего
писал – и сам не знаю.
Кому это может быть интересно, кроме меня самого?
Какая участь постигнет эту тетрадь, когда меня не
станет?
Прочтет ли ее кто, или, может быть, мой денщик растопит ею плиту?
Не все ли равно? А между тем, решившись уничто-
жить себя, я не могу решиться уничтожить се.
Мне жаль тебя, мое последнее произведение, моя по-
следняя исповедь. Я писал тебя в унылые осенние вечера, под шум непрерывных дождей, под тоскливые рулады хо-
лодного ветра, одиноко сидя в пустой квартире на краю
глухого леса.
Я писал тебя в той самой комнате, где безропотно, тихо угасла жизнь той, для которой еще можно было
жить и без которой жизнь – насмешка.
Писал тебя, то и дело взглядывая на стоящие передо
мною дорогие портреты, писал тебя, а в уме уже зрела
черная мысль, и глаза невольно приковывались к лежащему
тут же около портретов – револьверу. Мне жаль тебя –
ты часть моей души, живи же после меня».
Как скоро жизнь прошла моя!
Едва успел начать
Я жить, а смерть зовет меня:
Пора, брат, умирать,
Все, что так в жизни ты любил,
Тобой погребено.
Чего же ждать, страдать нет сил,
Забвенья не дано.
Ты слышишь грустный, тяжкий звон
Гудит в тиши ночной?
В последний раз в день похорон
Пробьет он над тобой,
И ты исчезнешь, тленья сын.
Душой ты мертв давно,
А жить ли день, иль час один,
Иль год – не все ль равно?
Это стихотворение, очевидно, было приписано перед смертью, по всей вероятности, накануне самоубийства, так как этим стихотворением оканчивалась приписка и затем, под густо проведенной чертой, начиналась оконченная полгода назад его, как он сам назвал, исповедь.
II
«Хотя немного странно начинать свою биографию со дня свадьбы, но предыдущая жизнь моя так мало интересна, что я нахожу лучшим даже и не вспоминать о ней иначе как вскользь, к случаю, в связи с последующим рассказом.
Женился я очень рано, мне едва стукнуло 22 года, жена была одних лет со мною, но при ее замечательной моложавости она выглядела не старше семнадцати-восемнадцати лет. Первый раз встретились мы с моей будущей женой, когда нам было по шести лет. В то время мы были очень далеки друг от друга на ступенях общественной лестницы. Она была дочь управляющего фабрикой, мещанина по происхождению, получавшего каких-нибудь тысячу рублей в год, тогда как мой отец, камергер1, сенатор, действительный тайный советник2, получал одного дохода с своих огромных имений тысяч до тридцати в год.
Впрочем, отец мой в то время уже не жил с нами, так как после смерти моей матери снова женился, и я с сестрою воспитывался у своей бабушки, аристократки до мозга костей, в молодости игравшей немаловажную роль в салонах высшего общества. Воспитание а то время я получал самое барское, у меня были две гувернантки, кроме няни, и я не мог хладнокровно смотреть, несмотря на свои шесть
1 Камергер – высшее звание в табели о рангах Российской империи, гражданский чин. 2 Действительный тайный советник – второй после канцлера гражданский чин в
России, соответствующий военному званию (чину) генерала от инфантерии (пехотного генерала).
лет, на лейб-гусарский мундир3 и на вопрос тетушек: «Чем ты хотел бы быть, Федя?» – авторитетно отвечал:
«Лейб-гуссалом».
Если бы няне моей, для которой я в то время был «генеральский сынок», кто-нибудь сказал тогда: «Вот эта девочка – будущая жена твоего балованного воспитанника», она бы вознегодовала не на шутку и сочла бы подобную мысль ужасною ересью.
Жена впоследствии уверяла меня, что отлично помнит нашу первую встречу: произошла она на нашей даче, куда отец ее приезжал по поручению своего принципала 4 к моему отцу, гостившему у нас в то время и имевшему также какие-то счеты с фабрикой, которою управлял Николай Петрович Господинцев (фамилия отца моей жены).
Жена описывала мне даже костюмы мои и моей старшей сестры, впоследствии умершей в чахотке на 14-м году.
Передавала даже содержание игры, заключавшейся в том, что мы, рассевшись по разным углам садика, ездили друг к другу с визитом, причем роль лошади играл огромный ньюфаундленд, запряженный в легонькую соломенную тележку и которому мы под конец так надоели, что он чуть-чуть не откусил нам носы. При этом жена уверяла меня, что, несмотря на мою шелковую клетчатую рубашечку, золотой пояс и мелкие букольки на голове, я выглядел таким невзрачным, прыщеватым, слюнявым мальчишкой, что ей даже было неприятно играть со мною, она только, боясь отца, скрепя сердце подпускала меня к себе и даже на прощанье расцеловалась со мною.
3 В лейб-гвардии гусарский полк зачисляли только родовитых дворян красивой наружности и высокого роста. Соответственной была и форма одежды.
4 Принципал – здесь приводится в смысле владелец фабрики.
– Ты был тогда точно идиотик, губы развесил, глазами хлопал, совсем юродивый? – говорила она мне со смехом всякий раз, когда вспоминала эту нашу первую встречу. Я
ничего этого не помню, ни собаки, ни колясочки, ни тогдашней моей подруги игр, ни даже сестры, которая умерла года полтора спустя.
Вторая наша встреча произошла ровно через двенадцать лет. Ее отец в то время был управляющим небольшого дома и получал сравнительно ничтожное жалованье, жили они только-только что не бедно, на четвертом этаже, в небольшой квартирке в три комнаты. Встреча наша была случайная, через мою няню, которая по смерти моей бабушки открыла меблированные комнаты, где я останавливался, приезжая из N-ского кавалерийского училища на праздники.
Я чрезвычайно живо помню эту нашу вторую встречу, но раньше, чем рассказать о своих впечатлениях, считаю необходимым передать впечатление, произведенное мною на нее. Как она мне потом рассказывала, я ей очень мало понравился. Во-первых, я не был красив, и не столько лицом, как всею фигурой, так как был небольшого роста, тщедушный, слегка сутуловатый. К довершению всего, я в то время был страшный фат, гримасничал, щурился, пофыркивал, как невыезженный конь, слова цедил сквозь зубы, то и дело прибавляя частичку «э», и воображал, что это должно было быть прекрасно. Я весь был до мозга костей пропитан тем особенным кавалерийским чванством, которому поддаются так охотно почти все молодые люди в начале своей службы в полках и которое заключается в том, чтобы неподражаемо произносить: челоэк, скаатина, паэслушайте, эй вы, как вас! и т. п. любимые словечки. Для
Мани, которая была заклятый враг всякой лжи, неестественности и ходульности, все эти кривлянья особенно были противны, она их не переносила, а потому, чем я больше старался понравиться ей, т. е. чем я больше ломался, тем все больше и больше терял в ее глазах, и она едва-едва выносила мое пошлое ухаживанье, хотя в тоже время была сильно польщена им. Объяснить подобное противоречие очень легко: как я ни был смешон в ее глазах, все же я был человек высшего круга, представитель того недосягаемого для нее общества, которое по улицам ездило мимо нее в каретах, в театрах занимало первые ряды, в магазинах требовало лучшие товары. Я имел право не заметить ее, а между тем не только заметил, но, очевидно, увлекался. Ей льстило, что она в своем простеньком, домашней работы, дешевом платьице производит на меня сильное впечатление, а что впечатление было сильно и даже очень сильно, в этом не было сомненья. Приехав с целью пробыть каких-нибудь полчаса, уладить одно пустячное дело, касавшееся меблированных комнат няни, я просидел весь вечер, под конец перестал ломаться, разговорился по душе, словом, почувствовал себя как дома.
Весь вечер я не спускал глаз с Мани и в душе искренно восхищался ею, а между тем она не была красавицей; но скажу откровенно, что другой такой девушки я не встречал ни до, ни после того. В ней что-то было особенное, сразу подкупающее, заставляющее невольно обратить на нее внимание, любоваться ею. Она была замечательно мила и симпатична: темно-карие, искрящиеся глаза, полные, красиво очерченные губы, бледно-розовый цвет лица, неправильные, с выемочками, но поразительно белые зубки, а главное, две ямочки на щеках, отчего, когда она смеялась, она была лучше, чем красавица. Сложена она была идеально: круглые, полные плечи, высокая грудь при чрезвычайно тонкой талии, и ко всему этому какая-то, у ней одной мною замечаемая, раздражающая грациозность. Грациозность ее не была заученной, не так, как у большинства наших полузаморенных зашнурованных барышень, у которых всякое движение рассчитано, заучено и прорепетировано перед зеркалом, нет, Маня сама не замечала своей грациозности, как не замечает ее резвящаяся кошка. Я
сразу заметил, что Маня была большая кокетка, но и кокетничала она, и грациозна была не столько по сознанию, сколько в силу того, что не кокетливого, не грациозного движения она не могла сделать, так уж, видно, было устроено ее тело. Даже самые недостатки ее, по-моему, ее не портили, например, нос ее был немного вздернут и толстоват, но зато он придавал ее лицу плутовато-задорное выражение, так к ней шедшее; рука и нога у нее были велики, но этот недостаток я заметил только через пять лет супружеской жизни, когда она начала сильно худеть.
Помню, я просидел тогда очень долго и как в чаду вернулся домой. Не знаю, как назвать то чувство, которое я тогда испытывал, я был как в тумане, что-то ныло, сосало под сердцем, мне было не то грустно, не то досадно, не то жаль чего-то, словно бы я стоял на краю безбрежной голой степи, за которой, я знал, ожидает чудная страна, мне страстно хочется проникнуть в эту страну и в то же время, обводя безнадежным взглядом необозримое пространство песков, я сознаю, что мне не пройти их..
Мало-помалу чувство это замерло под ножом холодного анализа. Жениться я не мог, во-первых, потому, что был несовершеннолетним юнкером 5, а во-вторых, наше общественное положение было слишком неравно, чтобы могла зародиться самая мысль о браке. Соблазнить ее.. но я инстинктивно понимал, что Маня из тех девушек, которых не одурачишь легко, да и времени не было – срок моего отпуска кончался, и я должен был возвращаться в юнкерское училище.
Так в этот приезд мы и не видались, но зато на следующий (я приезжал в Петербург раза четыре в год) не успел наш поезд с грохотом вкатиться под своды Николаевского 6 вокзала, как из окна вагона мелькнуло передо мной знакомое личико. Я увидал Марью Николаевну, под руку с племянницей моей няни, тоже очень хорошенькой и молоденькой девушкой, довольно интеллигентной, впоследствии вышедшей замуж за одного чиновника. Далее в толпе мелькал знакомый мне с детства шелковый капор моей няни, старушка отчаянно протискивалась сквозь толпу, подымалась на цыпочки, стараясь заглянуть через головы и жадно ища меня между выходящими из вагонов.
Не знаю, почудилось ли мне, или действительно так было, но мне показалось, что, увидев меня, Марья Николаевна вспыхнула. Я подошел к ним здороваться и не без гордости видел, как товарищи мои, проходя мимо из вагона, пристально взглядывали на хорошенькие личики моих барышень. Я теперь на других видел то, что испытывал сам, а
5 Юнкер – воспитанник военного училища.
6 Николаевский – ныне Московский вокзал.
именно, что Маня была из тех, которых нельзя было не заметить.
К моему большому удовольствию, я тотчас узнал, что замужняя сестра Марьи Николаевны наняла в меблированных комнатах няни две большие комнаты и что Маня это время гостит у них. Далее мне сообщили, что дом, которым управлял их отец, продан и старик переехал на
Выборгскую, снял в аренду какую-то лавку, но что торговля идет плохо и т. п. новости.
С этого дня, все три недели, которые я провел в отпуске, мы почти не разлучались с Маней. Стоило было ей куда собраться, я тотчас вызывался проводить ее; когда она была дома, я как тень неотступно был при ней. Целые вечера проводили мы с ней вместе, сидя или у них в комнатах, или в крошечной, но уютной няниной комнатке. Это была идиллия чистой воды. Маня, видимо, полюбила меня, но не любовью влюбленной, а просто как сестра, так же просто, как и все, что она делала, без всякого жеманства и ложной стыдливости. Отношения наши были настолько просты, родственны, что никому даже и в голову не приходило находить в них что-либо предосудительного. Мы как ребята шутили, хохотали, возились, тормошили мою кроткую ворчунью няню, не давали ей покою, пока она наконец не выгонит нас. Тогда мы отправлялись к сестре
Мани, или к кому из ее родственников, или просто гулять.
Несмотря на то, что я в то время был уже сильно развращен, я так всецело подпал под влияние Мани, что и сам незаметно для себя, влюбленный в нее по уши, в то время считал ее своей сестрою настолько искренно, что мне ни разу ни на минуту не пришла в голову какая дурная мысль.
Как я уже говорил, это была чистая идиллия, очень смешная, особенно в столице и в конце XIX века, но уже вполне искренняя и безвинная. Накануне отъезда обратно в училище мы просидели весь вечер вдвоем, я был в самом грустном расположении духа и все приставал, чтобы Маня поехала меня проводить и непременно бы писала мне, хоть изредка. Она трунила надо мною, говорила, что ей некогда провожать, так как надо завтра идти по одному делу, а что писать она не будет: «О чем я вам буду писать, вам няня и то каждую неделю два раза пишет». Я сердился, обижался, снова начинал просить и клянчить. Словом, все это вечно старая, хотя у каждого новая, история.
В следующий мой приезд со мною произошло событие, навсегда оставившее по себе память. Одним из ближайших родственников Мани со стороны ее матери был некий отставной майор Брасулин, весьма милая и симпатичная личность. Он был женат, имел взрослую дочку, к сожалению, далеко не красивую, но также очень симпатичную девушку. Майор Брасулин был человек денежный и очень любил иногда собирать у себя молодежь поплясать, повеселиться и поужинать. Знакомых у него было пропасть, притом из самых разнообразных слоев общества. У него собирались офицеры, студенты, почему-то преимущественно медики, чиновники, начиная от надворного советника и кончая простым канцелярским служащим, семинаристы и т. п., словом, то пестрое, смешанное общество, какое только можно встретить в столицах, где давно все перемешалось в одной общей сутолоке. Благодаря свойственному столичным жителям всеуравнивающему общему лоску, вы, попадая в такое общество, долго не сможете отличить гувернантку от продавщицы французского магазина, какого-нибудь школьного учителя от учителя гимназии, семинариста от технолога или доктора. Тут вы встретите людей очень образованных и рядом с ними едва умеющих подписаться, например, какого-нибудь сынка или дочь лавочника. Вы часа два разговариваете с молодым человеком приличной наружности, с умным выразительным лицом и удивляетесь его всестороннему образованию, его изумительному знанию иностранной литературы.
– Извините, пожалуйста, где вы кончили курс? –
спрашиваете вы наконец.
– В Англии, в Кембриджском университете. Вас это удивляет, но я родился и вырос в Англии и только наездами приезжал в Россию, теперь, впрочем, я уже второй год в
Петербурге.
– Разве ваш отец англичанин?
– О нет, чистый русак – Спиридон Дементьевич Сидоров, – и, видя, что вы продолжаете недоумевать, он с легкой усмешкой объясняет вам: – Мой отец был камердинер у графа Караухова, граф же почти безвыездно жил в Англии, у него там свой замок в двух милях от Лондона. Из расположения к отцу он дал мне, по возможности, лучшее образование, за что, конечно, я ему весьма благодарен.
– У вашего отца нет других детей?
– Есть, дочь еще, она камеристкою у княгини Долгузинской. Карауховы в родстве с Долгузинскими, моя сестра тоже здесь, вон она сидит со старушкой, это жена одного французского гувернера.
Вы оглядываетесь и видите в нескольких шагах от себя просто, но со вкусом одетую барышню, симпатичную и очень миловидную собою, она чистым, прекрасным, французским языком весело передает своей собеседнице впечатления, вынесенные ею из последней поездки в Париж.
– Кто это? – указываете вы глазами на высокого чернявого простого солдата в лейб-гусарском мундире.
– Это сын князя Дедежкани. Отец его генерал-майор, а сынок простым рядовым.
– Разжалован?
– Какое! не мог выдержать экзамена на вольноопределяющегося и попал в солдаты на общих правах.
Одно из подобных обществ собиралось обыкновенно и у отставного майора Брасулина. В тот раз, о котором я хочу рассказать, у Брасулина был костюмированный вечер.
Народу набралось много, больше всего молодежи.
Я уже был знаком с Брасулиным в прошлый приезд, а потому, как только узнал, что Маня собирается к ним на вечер, тоже поспешил раздобыть себе костюм, нанял тройку для Мани и для ее сестры с мужем, с которыми она поехала к Брасулиным, и мы все вчетвером отправились на
Васильевский остров, где жил майор в своем собственном деревянном, но очень миленьком домике.
Я весь день допытывался у Мани, в каком костюме она будет, на что она упорно отвечала мне: поедете – увидите!
Из своей комнаты она вышла в шубке, так мне и не удалось ничего узнать. Я оделся ямщиком. Красная канаусовая7 рубаха, бархатные шаровары, поярковая шляпа с павлиньим пером, кнут за галунным поясом и синяя суконная
7 Канаус – шелковая ткань.
безрукавка. Сказать по совести, этот костюм мне лучше шел, чем мой юнкерский мундир, так как в широких складках его скрывалась моя сутуловатость и непомерная худоба. Когда мы приехали к Брасулиным, у них уже вся квартира была полным-полна. Небольшая передняя была чуть не доверху завалена всевозможными пальто, шубами, шубками, ротондами8, платками, бурнусами9. Под предлогом, что негде раздеться, а вернее, не желая до поры до времени показать мне своего костюма, Маня с сестрою прошли прямо в спальню старухи майорши, а мы с мужем ее сестры, сбросив он свою енотку, а я юнкерскую шинель, прошли в залу.
Там уже стоял дым коромыслом, под звуки очень недурного пианино носились парочки по налощенному старинного фасона паркету. Молодежь почти вся была костюмирована, большинство в масках. Я поздоровался с хозяином, который в своем отставном старинного покроя мундире, с благодушной улыбкой, бочком, чтобы не быть задетым танцующими, пробирался в эту минуту из залы в кабинет и затем отошел в сторону, приглядываясь к мимо несущимся парам. Танцы на минуту затихли. Измученный старичок тапер10, кряхтя и отдуваясь, с усилием вытирал свою лоснящуюся мокрую лысину и расправлял до судорог онемевшие пальцы. Ксенофонт, лакей майора, отставной солдат, бывший его денщик, неразлучно проживший с ним целых двадцать пять лет, разносил на большом подносе лимонад, мороженое и чай для желающих. Я только что
8 Ротонда – длинная женская накидка без рукавов.
9 Бурнус – женская и мужская верхняя одежда.
10 Тапер – пианист, сопровождающий танцы на вечерах.
протянул руку, чтобы взять себе стакан чаю, как увидел недалеко от себя двух барышень, и хотя обе они были в масках, но я готов был прозакладывать душу, что обе наверно прехорошенькие. Одна из них была в костюме цыганки; пестрый, ярких цветов, платок небрежно перекинут через плечо; черные как смоль косы перевиты красными и белыми бусами и прихотлива закручены на затылке; на полуобнаженной смуглой шее бренчало ожерелье из фальшивых серебряных и золотых монет. Подруга ее изображала из себя русскую боярышню; голубой сарафан из какой-то легкой материи туго стягивал ее стройную фигурку; белая батистовая рубашка, с довольно глубоким вырезом на груди; кокошник голубой, отделанный белыми бусами, и несколько нитей поддельного жемчуга на шее, словом, тот стереотипный боярский костюм, которым может вас снабдить за пару рублей любая табачная лавочка.
Несмотря на то, что бархатная полумаска с кружевами до самого подбородка закрывала лицо боярышни, мне она сразу показалась знакомой. Но пока я приглядывался к ним, они первые подошли ко мне.
– Я вас знаю,– сказала мне цыганка, сверкая из-под маски ослепительными зубами, – вы Федор Федорович
Чуев, юнкер N-ского кавалерийского училища, а вот кто я, вам не угадать.
– А вы последуйте моему примеру, – шутя отвечал я, –
снимите маску.
– Вот еще, что выдумали, вы в масках узнайте. Вот это, например, кто? – указала она на свою подругу, упорно молчавшую и слегка отворачивающуюся в сторону, чтобы не быть узнанной.
Я еще раз взглянул на боярышню, в прорезях маски сверкнули на меня карие искрящиеся глаза и неровные зубки с выемочкой. Теперь я сразу узнал, кто передо мной.
– Маня, это вы, – воскликнул я, – но вы очаровательны!
Маня досадливо топнула ножкой, уж очень обидно ей было, что я так скоро узнал ее, но через минуту она громко рассмеялась и сорвала маску.
Никогда не видал я ее такой хорошенькой. Ее розовое личико дышало оживлением и беззаботной веселостью, губы разгорелись, и карие глаза так и искрились, так и сверкали из-под густых ресниц. Притом я первый раз видел ее декольте, а шея и грудь у нее были поистине такие, что хоть сейчас на полотно.
Подруга Мани оказалась сестрой мужа сестры Мани, я до того времени ее не знал, и Маня познакомила нас.
Весь этот вечер я глаз не спускал с Мани, с замиранием сердца любуясь, как грациозно носилась она то с тем, то с другим кавалером. В этот вечер она превзошла самое себя и была поистине лучше всех.
Как досадовал я в тот вечер, что не умею хорошо танцевать, я бы никому не уступил ее, но, к сожалению, я так плохо танцевал, что не решился даже рискнуть танцевать в малознакомом мне обществе.
В одиннадцать часов подали ужинать; ужин прошел весело среди смеха, крика и шуток. После ужина снова все собрались в зале.
– Господа, – возгласил вдруг майор, – по правилам моих вечеров, если в маскараде есть русская боярышня, она должна сплясать нам «русскую», так ведь?
– Так, так, – раздались голоса, – «русскую», «русскую».
– Слышишь, Маня, – обратился к ней майор, – Vox populi – Vox dei11, – ты должна плясать.
– Я не прочь, – слегка зардевшись, отвечала Маня, – но кто же будет кавалером?
– А вот «ямщик лихой, он встал с полночи, ему взгрустнулося в тиши», – балагурил майор, указывая на меня.
Все оглянулись в мою сторону, я сконфузился и начал отнекиваться, ссылаясь на неуменье.
– Вздор, – крикнула Маня, – он сам говорил как-то, что «русскую» умеет хорошо, – и, обратясь ко мне, она добавила: – Зачем вы ломаетесь, видите, я не ломаюсь.
Этот аргумент подействовал на меня убедительно; я действительно плясал недурно, выучившись этому искусству от нечего делать в лагерной стоянке у нашего первого лихача, запевалы и танцора, взводного вахмистра Скоробогатова.
Майор крикнул таперу:
– «Русского»!
Гости расступились, образовав круг.
Словно по воздуху, не касаясь пола, грациозно изгибаясь, поплыла Маня по залу, только бусы слегка побрякивали на ее шее. В эту минуту она была восхитительна.
Плясала она очень хорошо, несколько по-театральному, так как этому танцу училась у одной своей подруги, воспитанницы театральной дирекции, но неподражаемо грациозно. Я так загляделся на нее, что, наверно, прозевал бы свою очередь, если бы меня вовремя не подтолкнул майор, все время стоявший сзади.
Я очень люблю «русского» – это целый дуэт, целая
11 Глас народа – глас божий (лат.).
история любви; сколько удали, сколько лихости в этом танце.
Я вспомнил Скоробогатова, насколько умел, лихо повел плечом, как поводил, бывало, он перед собравшимся взводом, подбоченился и, часто выстукивая каблуком мелкую дробь, быстро пошел навстречу своей даме. Крик одобрения прошел по залу. Этот крик еще больше придал мне силы и энергии, никогда ни до, ни после я не танцевал с таким увлечением. Сорвав с головы шапку, я, то плавно помахивая ею, медленно шел вперед, то, вдруг сильно взмахнув руками над головой, звонко прищелкнув каблуками, круто поворачивался кругом, на мгновенье замирал на месте, а затем, быстро семеня ногами, начинал пятиться назад, увлекая за собой свою даму, а когда она приближалась ко мне, я внезапно бросался вперед, приседая и почти касаясь пола, тогда уже она плыла от меня, отмахиваясь платочком, а я ее преследовал, простирая вперед руки.
Я видел, что Маня любуется мною в эту минуту, и старался превзойти самого себя, откуда взялись у меня и лихость, и ловкость, я сам себя не узнавал.
Когда мы кончили, оба измученные, разгоревшиеся и запыхавшиеся, оглушительные аплодисменты были нам наградой.
– Ай да ну, – воскликнул восхищенный майор, – а еще отнекивались, говорили, не умеете, да вас прямо в балет.
Вот парочка так парочка, восторг, да и только, правда, Ксенофонт?
Ксенофонт, стоявший все время в дверях, снисходительно осклабился и, в свою очередь, одобрительно покачал головой.
Впоследствии я несколько раз имел успех и в более серьезном деле, чем танец, и никогда эти успехи меня так не радовали, как в тот незабвенный вечер. Случайность, после этого вечера я никогда уже не плясал.
Была глухая ночь, когда мы возвращались назад по пустынным улицам. Посребренный волшебно-матовым лунным сиянием снег пронзительно визжал под полозьями, лошади мчались как бешеные, ямщик, которого добродушный майор тоже успел употчевать на кухне допьяна, весело посвистывал и покрикивал на своих «залетных».
Хорошо и жутко было на душе.
Кто не испытал, тот не знает, сколько поэзии в этой отчаянной скачке по глухим, безмолвным улицам в холодном, мертвенно-унылом сиянье луны под заливающийся звон бубенцов. Хочется и смеяться и плакать, и, глядя на огромные каменные глыбы домов, подобно гигантским саркофагам теснящиеся по обеим сторонам улицы, невольно задаешь себе вопросы, сколько горя, сколько драм и трагедий, сколько безнадежных слез проливается, может быть, теперь под этими железными тяжелыми крышами. А тройка летит все вперед и вперед, словно увлекаемая роком. Мы сидели рядом с Маней, оба взволнованные донельзя. Мне казалось, что я слышу биение наших сердец; я по временам взглядывал на нее, но кроме разрумянившейся от мороза щечки, до половины прикрытой мягким шерстяным платком, и мерцающего из-под опушки меховой шапочки глаза, ничего не мог разглядеть. О чем она думала, Бог весть, никогда она мне потом об этом не говорила, я же тогда думал, как бы хорошо было всю жизнь ехать так плечо с плечом, ничего не думая, ни о чем не заботясь.
Когда мы подымались по темной лестнице в нашу квартиру, я не выдержал и украдкой обнял Маню за талию и поцеловал ее. Она ответила тем же. Губы наши встретились, я почувствовал жар ее дыхания, прикосновение ее горячих губ – это был наш первый поцелуй, и, сказать по правде, самый пылкий – никогда впоследствии не целовались мы так. Да и немудрено, вторично мы поцеловались, когда были муж и жена, а недаром говорят, что будто венчанье – похороны.
III
Странное дело, припоминая теперь мои тогдашние ощущения и впечатления, я отлично помню, что в числе самых нелепых проектов, наполнявших тогда мою голову, не было самого простого, окончить курс в юнкерском училище и жениться на Мане, но в то время, с моей тогдашней точки зрения, подобный проект, пожалуй, казался самым нелепым, настолько нелепым, что он мне и в ум не пришел. Слишком сильно и глубоко въелась в мою плоть и кровь кастовая спесь. В то время я был блестящий юнкер одного из лучших армейских полков, имел собственного капиталу более двадцати тысяч, с которого получал проценты, не считая тех сумм, кои высылались мне моей московской родственницею, воспитывавшей меня. Я в то время серьезно мечтал о переходе в гвардию, о невесте с огромным состоянием, о тысячных рысаках, о царскосельских скачках. И нельзя сказать, чтобы мечты мои были несбыточными. Моя московская родственница только ждала окончания курса и производства в офицеры, чтобы женить меня на дочери одного пензенского помещика,
страшно богатой, но еще более безобразной. Впрочем, сын своего общества, я отлично уже понимал, что с красавицей, но бедной, денег не добудешь, тогда как с богатым уродом можно достать хоть сто красавиц. Я уже предвкушал всю прелесть привольной, богатой жизни с рысаками, собственными экипажами и красавицами содержанками. Но увы! судьбе заблагорассудилось иначе, и все мои мечты разлетелись как дым, и, что всего замечательней, все случилось так просто, так обыкновенно, как нельзя быть проще. В августе я вышел из юнкерского училища с грехом пополам, и то только благодаря протекции окончив курс, а в октябре свершилось мое совершеннолетие, и я должен был ехать в Москву принять свой капитал от опекунов.
Тут-то и случилось то обстоятельство, благодаря которому мне пришлось навсегда забыть о богатых невестах, кровных скакунах и т. п. прелестях.
Страшная вещь – большие деньги, с непривычки. Я, у которого никогда более двухсот-трехсот рублей одновременно в руках не бывало, в первую минуту совершенно растерялся, когда по окончании всех формальностей мне вручили несколько пачек кредиток. В эту минуту мне казались мои двадцать пять тысяч – миллиардами.
По похвальной юнкерской привычке, следовало эти миллиарды вспрыснуть, но одному это сделать было неудобно. На мое счастье, всегда в этих случаях людям везет, я тут же, выходя из Государственного банка, столкнулся с одним моим приятелем, которого в другое время таковым бы и не счел и с которым мы когда-то воспитывались в одном из московских пансионов. Приятель мой, которого я даже фамилии теперь путем не припомню, знаю, что его почему-то звали Котя-Брум, что означало Константин Борисович, был в свое время человек с большими средствами, но давно уже успел спустить их и, как мастер этого дела, мог мне быть хорошим учителем. Мы тут же, недолго думая, наняли лихача и помчались в Эрмитаж.
Не буду передавать подробностей нашего отчаянного кутежа, продолжавшегося недели две, скажу только, что в
Москве не было ни одного уголка, где бы мы не побывали.
Я возвращался в гостиницу, где остановился, только чтобы вздремнуть часика два-три тревожным, болезненным сном, оттуда летел в банкирскую контору, куда я на время поместил свой капитал, запасался сторублевками и затем снова нырял как в омут. Из одного Коти-Брума разрослось три, или, вернее, Котя-Брум № 1 родил еще двух если не
Котя-Брумов, то Петя-Се и Коля-Бо, словом, что-то вроде того. Помню только, что все это время около меня вертелись неизвестный франт в цветной фуражке, выдававший себя за отставного гусара, и какой-то актер не у дел, личность действительно весьма комичная, заставлявшая нас умирать со смеху своими шутками, анекдотами и остротами. Деньги мои таяли яко воск от лица огня. Срок моего отпуска давно прошел, но я ни о чем не думал, а с какой-то ненасытной жадностью искал все новых и новых развлечений.
Не берусь описывать фурор, произведенный моими подвигами на всех моих родственников. У всех моих тетушек и бабушек стали дыбом их тощие, седые косицы, когда они узнали о моем поведении. Что я прокутил половину своего состояния, это еще полбеды, кутеж вещь извинительная, в известном кругу на это смотрят сквозь пальцы, но связать себя с такой женщиной, привезти ее в аристократический полк – e'est tout a fait affreux12! А тут пришли и новые вести, что я выхожу из полка после ссоры с одним офицером, которого я, штандарт-юнкер13, за неуместную остроту по поводу той же женщины, публично назвал ослом. Это уже было вне всего возможного. Чепчики от величайшего негодования полетели на землю, а затем все двери квартир моих важных родственников торжественно захлопнулись передо мною как святая святых. С этого момента я был величественно и окончательно изгнан из нашей среды, надо мною разразилась грозная анафема и даже имя мое сделалось чем-то скабрезным и никогда не упоминалось в кружке моих родных. К чести или позору моему я уже этого сказать не умею, но только тогда я очень мало обратил внимания на такой пассаж. Я
был молод, у меня еще оставалось тысяч двенадцать капитала, большое самомнение в придачу, и я, ничего же не сумнясь, помчался в Петербург, воображая, что стоит мне появиться там, то тотчас же получу место, вроде как у Коли
Забистова или Саши Каннского, моих двух московских знакомых, получавших тысяч до трех в год. Я только одно упустил из виду, что Каннский окончил лицей Каткова, а
Забистов – университет, тогда как у меня в кармане было одно только свидетельство об окончании курса в юнкерском кавалерийском училище, свидетельство, дававшее только право разъезжать верхом перед взводом или маршировать на парадах.
К счастию, вся эта глупость продолжалась недолго. В
12 это совершенна ужасно! (фр.)
13 Штандарт-юнкер – выпускник училища, знаменосец.
полгода я успел до того надоесть Дуне нравоучениями на словах и развратом на деле, то в один прекрасный день в отсутствие мое захватив у меня из письменного стола свой паспорт, рублей сто денег и собрав все свои золотые и серебряные безделушки, Дуня исчезла. Куда – Бог один ведает, да я и не пытался разузнавать, так как сам был очень рад ее исчезновению. Думаю, что она поехала туда же, откуда и приехала. Тем и кончилась моя дурацкая затея –
спасать других, не умея спасти себя, затея, разбившая мою военную карьеру, унесшая у меня несколько тысяч и чуть-чуть было не отвратившая окончательно и навсегда единственное существо, искренно меня любившее, принесшее мне вспоследствии огромную пользу – я говорю о своей будущей жене Марии Николаевне Господинцевой.
IV
Во все продолжение, пока Дуня пребывала со мною, в тех же самых меблированных комнатах няни моей, где я нанимал для нее отдельную комнату рядом с своею и где она жила в качестве обыкновенной жилички, за все эти полгода я очень редко виделся с Маней. Сестра ее с мужем продолжали жить у нас, но она довольно редко посещала их, живя с родителями. Притом часто случалось так, что, когда она приходила к ним, меня не бывало дома. Если же случайно когда мы и встречались, она относилась ко мне весьма сдержанно и даже холодно. От прежней нашей приятельской близости не осталось и следа, мы, очевидно, даже избегали друг друга, причем я избегал ее, потому что чувствовал себя перед нею не то чтобы виноватым, а как бы пристыженным. После того памятного вечера у Брасулиных мое теперешнее поведение относительно Мани было не совсем хорошо – я это невольно сознавал и конфузился.
Как ни было приятно для меня бегство Дуни, я все-таки первое время после него словно потерялся. Я не знал, что с собой делать. Выйдя из полка и разбив тем свою карьеру, я еще не успел пристроиться к какому-либо делу и жил процентами с своего оставшегося и отданного в частные руки капитала, мало заботясь о будущем. Пока Дуня жила со мною, она, как бы сказать, была олицетворением моей жизни, то «нечто», ради чего я бросил все, и это «нечто», в некотором роде, заменяло мне мое прежнее. Словом, я был похож на того «дурня» в сказке, который, найдя на дороге кусок золота, сменял его цыгану на коня, затем коня сменял на корову, корову на овцу, овцу на курицу и, наконец, обменяв курицу на иголку, потерял ее после одного перелаза через забор. Очевидно, иголка не стоила куска золота, но пока она была еще в руках «дурня» – она олицетворяла собой это золото, была его заместителем, реальным воплощением находки; с потерей же ее «дурню» оставалось только эфемерное воспоминание о том, что у него когда-то было золото, которое, не сменяй он его на утерянную иголку, обогатило бы его.
К счастью человека, в известном возрасте все принимается как-то особенно легко, умрет у пятилетнего крошки мать – он плачет, купили ему куклу – он счастлив. Фарфоровая кукла заменила мать. Мне куклой, заменившей всю мою навек разбитую жизнь, послужил кружок товарищей, с которыми я сошелся в последнее время, с которыми вел самую буйную, нелепую жизнь. Редкий день,
чтобы мы не кутили; угощал обыкновенно тот, у кого в эту минуту были деньги. Это была своего рода коммуна, состоявшая из пяти человек: отставного драгунского офицера
Лопашова, сына богатого бакалейщика Петьки Черногривова, отставного юнкера, товарища моего по училищу
Глибочки (Готлиб) Гейкерга, одного чиновника Разсухина, которого мы звали Размухин, намекая тем, что он всегда был в «мухе», и, наконец, меня. Несмотря на то, что ни у
Глибочки, ни у Лопашова никаких ни собственных, ни благоприобретенных капиталов не водилось, а Разсухин получал очень скромное жалованье, так что богатым был один Черногривов, наша коммуна была почти всегда при деньгах. Положим, что у поручика Лопашова, занимавшегося частным ходатайством по делам, была какая-то старая скряга тетка, которую он как-то умудрялся, по его собственному выражению, «удачно подковывать», а у Глибочки на Песках имелась своя преклонных лет «вдовушка», но мы этим не интересовались. Мы вечно были веселы, кутили, устраивали по всем концам богоспасаемого Петрограда всевозможные скандалы, словом, жили в свое удовольствие, а до остального нам дела не было. Трудно поверить тому, чтобы в столице, на глазах сотни полицейских, можно было проделывать такие шутки, какие проделывали мы в большинстве случаев вполне безнаказанно. Душою всех этих проделок и инициатором большинства из них был отставной поручик Лопашов. По природе это был человек очень добродушный, большой комик. Как теперь вижу его высокую полную фигуру с большими серыми глазами, добродушной улыбкой на толстых губах, слышу его басок и раскатистый смех. Он обладал большой физической силой, замечательным хладнокровием и большой смелостью. Он часто, ради шутки, переходя улицу, останавливал несущегося во всю прыть рысака за узду и вежливо, приподняв котелок, спрашивал сидящих в экипаже:
«Куда они так торопятся?»
Одна из его проделок почему-то осталась мне особенно в памяти. Дело было в Таврическом саду, раннею весною, когда Петербург представляет смесь зимних, весенних, осенних и летних костюмов, судя по темпераменту, достатку, вкусам и запасливости их носителей. Наша компания без цели слонялась по дорожкам сада, придумывая, что бы такое выкинуть в ознаменование своего прибытия. В эту минуту навстречу нам, из глухой, уединенной аллеи, показалась парочка. Он – высокий, стройный брюнет, красивый собой, в барашковом пальто и таковой же шапке, она
– миниатюрное, миловидное созданьице, с голубыми глазками и розовыми щечками, в кокетливой, мехом обшитой кофточке и котиковой шапочке. Оба, очевидно, были поглощены один другим, они шли под руку, весело разговаривая и не обращая ни на кого внимания.
– Или молодожены, или влюбленные, – заметил Глибочка, умильно поглядывая на хорошенькую блондинку.
– Самый опасный народ, – сказал я, – таких не задевай, как раз нос откусят.
– А хочешь, я сейчас подойду и поцелую ее, – предложил Лопашов.
– Ну и получишь «от него» в морду.
– Нет, не получу, хотите пари на бутылку шампанского, я такое петушиное слово знаю, что не получу.
– Идет, только если получишь – мы не ставим.
– Согласен!
Сказав это, Лопашов быстрыми шагами пошел навстречу незнакомцам. Не доходя шагов десяти, он широко распахнул свои мощные объятия и радостным голосом воскликнул:
– Ах, Петр Петрович, ты ли это, братец мой, вот радость, сколько лет, сколько зим, насилу-то мы встретились с тобой! – Говоря так, Лопашов крепко обнял незнакомца и горячо принялся целовать его в обе щеки.
Тот стоял как кирпичом ушибленный..
– Позвольте, милостивый государь, я вас, кажется, совсем не знаю. .
– А это супруга твоя, Марья Ивановна, давненько, давненько не видались мы с вами, – продолжал тарантить
Лопашов, извиваясь перед хорошенькой блондиночкой, –
очень вы изменились с тех пор, похорошели еще больше, позвольте же вашу ручку, впрочем, что ручку, мы ведь с вами в родстве, помните, тетушка Степанида Семеновна все еще утверждала, что нас бы даже и венчать не стали, так вот по родству позвольте мне уже по русскому обычаю, без церемонии... – И, не дав им опомниться, он быстро наклонился и взасос чмокнул прямо в губы молодую женщину. Та испуганно вскрикнула и отшатнулась.
– Однако черт вас возьми! – с бешенством крикнул ее кавалер, хватая Лопашова за плечо и тщетно пытаясь встряхнуть его мощную объемистую тушу, – кто вы такой, какой там родственник, я вас совсем не знаю, а вы тут лижетесь как щенок.
Лопашов с неподражаемым изумлением отступил шаг назад и воззрился на него.
– Как, Петя, тебя ли слышу? – горестно всплеснул он руками. – Ты забыл меня, своего лучшего друга?! – Все это он говорил так просто, естественно, что, очевидно, окончательно ставил их обоих в тупик.
– Уверяю вас, вы ошибаетесь, я вас решительно не знаю, да и, наконец, я вовсе не Петр, а Александр, – горячился молодой человек. – Черт знает за кого вы меня принимаете?!
Лопашов вдруг преобразился. Хитрая улыбка озарила его лицо.
– За кого? – медленно переспросил он, делая несколько шагов назад. – За весьма неревнивого мужа, позволяющего первому встречному публично целоваться с его женою.
– Как?! – не своим голосом завопил молодой человек. –
Так это вы осмелились шутки шутить, городовой, городовой!!! – Все это происходило недалеко от выхода, где всегда торчат полицейские.
Услышав крик, один из них поспешно подошел к спорящим.
– Послушай, братец, – остановил его Лопашов, – вот этот господин мне должен 400 рублей и не желает сказать, где он теперь живет, спроси его.
Самоуверенный, спокойный тон Лопашова, его серьезная, солидная фигура, изящный костюм, все это подействовало на блюстителя порядка.
– Послушайте, сударь, отчего вы не желаете сказать ваш адрес, они вправе требовать..
– Что вы тут врете, какой долг. . он скандальничает, а не долг – бесился молодой человек чуть не с пеной у рта. Но пока, волнуясь и горячась, он успел втолковать полицейскому, в чем дело, и тот оборотился к Лопашову, ни Лопашова, ни нас уже давно не было. Мы ускакали на извозчиках, помирая со смеху, представляя, как теперь бесится одураченный так ловко незнакомец.
Другая проделка Лопашова была еще остроумнее Я уже говорил, что у него была какая-то тетка из «простых», большая ханжа, богомолка, и скареда, всю свою жизнь проводившая по церквам и в болтовне с разными странниками, странницами и монахинями. Странные отношения были между теткой и племянником, она не столько любила его, так как любить подобная мегера не могла никого, сколько боялась, уважала его, прибегала к его советам и, хотя с большими оговорками, причитаниями и нытьем, все же время от времени снабжала его деньгами, что, впрочем, не мешало Лопашову всеми силами ненавидеть ее. Однажды, после того как она отказала ему в субсидии, ссылаясь на то, что дала таковую на прошлой неделе, Лопашов и придумал следующий фарс. Достав где-то монашескую рясу, он прицепил себе длинную черную бороду, такой же парик и отправился к своей тетке. Отрекомендовался монахом с Афона и весь вечер разводил ей турусы на колесах про святой град Иерусалим, про Афон, про Константинополь, повествовал о встрече своей с турецким султаном и как сей язычник чуть было не принял от него православия, но жены воспротивились, так как у него 333 жены, а с принятием православия султану пришлось бы с ними расстаться, ну они, понятно, на дыбы, отговорили его.
– Ах они паскуды, – волновалась тетка.
– Паскуды, паскуды и есть! – авторитетно подтвердил
Лопашов.
Затем он очень тонко намекнул, что хотя духовному лицу и грех гадать, но что он, грешный, в сем зело умудрен.
Полоумная старуха принялась, конечно, его упрашивать погадать ей. Тот долго отнекивался, но наконец согласился. Зная жизнь тетки, Лопашову, конечно, ничего не стоило разыграть роль прорицателя, чем он и привел суеверную старуху под конец в такой ужас, что та бросилась ему в ноги и начала каяться во всех грехах своих.
Кончилась вся эта комедия тем, что Лопашов выудил у нее сто рублей следующим ловким манером. Отходя спать, он отдал ей свою книжку и кисет с якобы собранными деньгами на хранение, причем при ней сосчитал лежащие там бумажки и серебро.. Там действительно было сто рублей, добытые им где-то на одни сутки. На другой день, за утренним чаем, он потребовал их назад, тетка отдала.
Лопашов поблагодарил ее и, собираясь уходить, благословил каким-то черным образком.
– А это, матушка, тебе косточки, – сказал он, передавая ей какую-то ладанку14, – как не дай Бог – заболеешь, положи на больное место – пройдет, как рукой снимет.
Старушка с благоговением приняла ладанку и, спрятав ее за пазуху, предложила ему в дар пару ассигнаций, но к большому изумлению ее, монах от денег отказался. На памяти старухи это был первый божий человек, который показал такое бескорыстие, чем еще больше заставил ее преклоняться перед своею святынею.
Выходя из комнаты, Лопашов вдруг словно бы что вспомнил:
– Вот что, пречестивая вдовица, хочешь мне добро со-
14 Ладанка – сумочка с какой-нибудь святыней, носимая вместе с крестом на шее.
творить, смени мои деньги на одну сторублевку, а то боязно носить, как бы не украли, а одну сторублевку я зашью в рясу – никто не догадается.
Та охотно согласилась и, пойдя к себе в спальню, через минуту вынесла ассигнацию.
– На тебе, возьми с кошелем, он тебе счастье принесет,
– вручил ей монах свой кошель, который как от нее за чаем получил, так, по-видимому, и не выпускал из рук.
Таким образом мена совершилась. Монах ушел, а когда глупая старуха заглянула в кошель, то увидела там на дне вместо денег всякую дрянь: старые пуговицы, катушки, обрезки жести и, наконец, несколько фотографических карточек нецензурного содержания.
Всего курьезней то, что она тотчас же послала за
Ло–пашовым и, когда тот явился, конечно, уже преображенный, она с плачем рассказала ему о случившемся. Лопашов серьезно выслушал ее, раз двадцать заставил повторить все с самого начала, со всеми подробностями и посоветовал подать заявление в полицию; сам написал ей это заявление и, пользуясь угнетенным состоянием ее духа, выпросил у нее десять рублей и ушел, уверив ее, что монаха этого наверно разыщут и деньги ей возвратят. Старуха успокоилась и осталась ждать у моря погоды, а Лопашов в тот же вечер, кутя в нашей компании, с хохотом рассказывал о своей проделке.
Козлом отпущения, или, вернее, «жертвой», нашей веселой компании был Петя Черногривов, или, как звал его
Лопашов, Пегашка Черногривка. Несмотря на то, что он больше всех нас тратил и гораздо чаще «угощал», чем был «угощаем», мы безбожно трунили над ним, подымали его на смех и подчас выкидывали злые шутки, но он с истинно христианским терпением сносил все это, утешаясь тем, что водит компанию не с каким-нибудь своим братом «серяком», а с людьми благородными. Он старался и в одежде и манере подражать нам, и так как мы не все же болтали пустяки, а случалось, иногда затевались и умные разговоры, Пегашка Черногривка чутко прислушивался к ним, и по лицу его было видно, как он доволен.
Тип смешной, но, воля ваша, по-своему благородный.
Он жаждал чему-нибудь научиться и не виноват был, что придурковатый самодур-отец слышать не хотел ни о каких науках.
– Тебе чего, – говорил он сыну, – читать умеешь, писать умеешь, арихметику знаешь, какого же тебе рожна надо.
Брысь!!! – и Пегашка уходил от отца, повеся нос и как бы в отместку запустив в выручку лапу, вечером кутил где-нибудь, зря разматывая утаенные от отца деньги.
Скверно, безалаберно, пошло шла моя жизнь среди постоянного кутежа, пьянства, всяких дебоширств, под звон рюмок и стаканов, под гуденье трактирных органов, в обществе ночных фей. Я сам чувствовал, как я с каждым днем опускаюсь все ниже и ниже, как грубеют и опошливаются мои манеры; как я все больше и больше удаляюсь от того кавалерийского юнкера, фата и щеголя, каким я был еще год тому назад, и приближаюсь к типу так называемых трактирных завсегдатаев, окончательным выразителем которого является та, всем петербуржцам знакомая личность в отрепанном пальто, в офицерской фуражке, останавливающая вас в сумерках, где-нибудь в переулочке, и просяще-грубым, нахально-робеющим голосом, скороговоркой говорящая:
– Monsieur15, для бедного, но благородного человека, служил в кавалерии и пехоте, в армии и во флоте и для пользы службы уволен в отставку…
Я видел свое постепенное падение в грустном лице моей старушки няни, которая, не смея ничего мне сказать, только горько вздыхала, когда я, пьяный и растрепанный, под утро возвращался домой, видел я свое падение в том пренебрежительном тоне, с которым относились ко мне, встречаясь со мною на улице, мои прежние знакомые и знакомые моей покойной бабушки, но больше всего видел я свое падение в темных, красивых глазах Мани. Видел в ее пристальном, как бы сожалеющем взгляде, каким окидывала она меня при наших встречах, чувствовал в том недоверии, с каким она относилась ко мне. Она, которая год тому назад не побоялась бы пойти со мною одна куда угодно, теперь всякий раз, когда я предлагал ей проводить ее, если и соглашалась, то с некоторым колебанием. Она опасалась проявления моего буйства, когда я был навеселе, и не верила в мою трезвость, когда я действительно не был пьян.
– Вы теперь так много пьете, – сказала она мне однажды, подозрительно оглядывая меня, – что вас теперь и не узнаешь, в нормальном вы настроении или нет.
Сознавая всю справедливость этого замечания, я ничего не ответил, но на сердце мне стало тяжело, и, чтобы заглушить в себе грустное чувство, навеянное на весь день этими словами, я в тот же вечер напился вдвое против
15 Господин (фр.).
обыкновенного и, возвратясь домой, произвел целый дебош.
– Тише, Федя, ради Бога тише, – уговаривала меня няня, отворившая мне дверь, – ведь два часа ночи, все спят. .
Мария Николаевна сегодня ночует у сестры, ты испугаешь их. Напоминанием о присутствии Марии Николаевны няня, знавшая мое глубокое уважение, питаемое к ней, думала обезоружить меня. Но на этот раз вышло еще хуже.
Вспомнив наш утренний разговор, я вдруг почувствовал сильное озлобление против Мани и мне пришло в голову выкинуть какое-нибудь безобразие, чтобы только чем-нибудь досадить ей.
Когда Маня ночевала у сестры, она спала в комнатке, служившей им гостиной и приходившейся бок о бок с моей комнатой. Диванчик, на котором она спала, и моя кровать находились у одной стены, разделявшей нас. Стена была, впрочем, довольно толстая, так как дом был старинный и строен прочно.
Недолго думая, я изо всей силы принялся барабанить в стену.
– Мария Николаевна, – завопил я на всю квартиру, – вы не спите?
Ответа не последовало, но по шороху я догадался, что она проснулась.
– Доброй ночи, – кричал я через стену, – желаю вам во сне жениха увидать, впрочем, вы и так, я думаю, только женихами и бредите. – Не помню, что я тогда еще молол, но, должно быть, у меня вырвалось что-нибудь обидное, потому что она наконец не выдержала и дрожащим от слез и негодования голосом крикнула мне:
– Федор Федорович, я вас не узнаю, давно ли вы стали оскорблять женщин?!
Сказав это, она заплакала. Я слышал ее сдерживаемые рыдания, и мне стало страшно совестно. Я сразу опомнился, торопливо, не производя никакого шума, разделся и, укутавшись головою в одеяло, как бы желая спрятаться от самого себя, затих. Но я не спал. Многое пришло мне тогда в голову, Я в первый раз, со дня выхода своего из полка, серьезно оглянулся на самого себя, и мне стало жутко.
На другой день, чтобы не встретиться с Маней, я пораньше встал и ушел из дому на целый день.
Не зная, куда деться, я отправился к Глибочке Гейкергу и застал его в ботфортах со шпорами, приготовляющимся ехать кататься верхом, с хлыстом в руках. В своей шелковой синей жокейке, небрежно надвинутой набок, и в изящной жакетке Гейкерг выглядел положительно красавцем. Он очень обрадовался моему приходу.
– Слушай, поедем вместе, вспомним старину, ведь сегодня 1-е Мая, моя «вдовушка» будет, я тебе покажу ее.
– А ну ее к черту, ты лучше скажи, где ты лошадь достал.
– Я еще не достал, хочу нанять в манеже, и ты возьми.
Так как мне было все разно, куда ни идти и что бы ни делать, то я и согласился. Не прошло и часа, как мы уже тряслись на англизированных, тощих, как скелеты, старых браковках, обгоняемые изящными экипажами и в пух и прах разодетыми барынями. На пуанте16, как и обыкно-
16 Пуанте – здесь: прогулка в общественном месте.
венно в этот день, народу была масса. Несмотря на весеннее солнце, мы с Глибочкой порядочно промерзли, а потому, бросив лошадей на руки сопровождавшему нас груму, отправились в ресторан, где тотчас же столкнулись с двумя франтами, знакомыми Глибочки. Кстати сказать, в
Петербурге не было той дыры, где бы у Глибочки не было друзей. Такой уже был общительный человек. На сей раз
Глибочка был при деньгах и вызвался нас угостить. Выпили. Франты тоже не захотели быть в долгу, и таким образом, угощая друг друга, мы менее чем часа в два времени пришли в такое состояние, что когда вспомнили наконец о своих лошадях и вышли садиться, то нам показалось, что вместо трех лошадей перед нами – пять. С большим трудом, и то только при помощи грума, вскарабкались мы наконец на наших пятивершковых кляч, украшавших собою некогда фронт Гатчинского кирасирского полка, и отправились в кругосветное плавание. Россинанты наши, немного не заставшие Севастопольскую кампанию, как водится, давно уже окончательно обезножели, причем моя оказалась к тому же страшно пуглива. Особенно потрясающее действие производили на нее зонтики, она с таким ужасом косилась на них, точно бы это были тигры, готовящиеся поглотить ее. Она шарахалась из стороны в сторону, и мне в том состоянии, в каком я находился, немалого труда стоило балансировать на заезженном, старом английском седле, скользком, как жидовская совесть. Несмотря на все эти маленькие неудобства, мы не унывали и не без сознания своего достоинства гарцевали по аллеям, нахально поглядывая на идущих и едущих барынь. Вдруг, на повороте в одну из аллей, мы услышали страшный крик,
какой-то грохот, неистовый топот, и не успели мы понять, в чем дело, как на нас наскочила бешеная пара. На козлах никого не было, вожжи болтались по спинам и между ногами лошадей, заднее колесо отскочило, накренившийся кузов коляски с визгом и треском тащился по земле, лошади с налитыми кровью глазами, все в мыле, мчались как угорелые. Не знаю, каким образом увернулись мы и не попали под колеса, но тут случилась другая беда. Спасаясь от крушения, я вскочил на пешеходную аллейку, где было очень много гуляющих, раздались визги, крики, моя лошадь окончательно ополоумела и стала как вкопанная, со страхом озираясь во все стороны и упрямо отказываясь повиноваться поводьям. .
На беду и ужас, со всех сторон поднялись столь ненавистные ей зонтики; как привидения замелькали они в воздухе, а один большой, пунцовый, как кровь разбойника, устремился прямо ей в нос. . Этого она уже не могла вынести. Взвившись на дыбы, так что я едва-едва удержался, несчастная кляча высоко взметнула задом и понесла. Если бы она была настолько крепконога, как пуглива и тугоузда, все кончилось бы благополучно, но увы! одно другому было диаметрально обратно. Не успело проклятое животное сделать и десяти скачков, как запуталось в собственных ногах, длинных, как у водяного комара, споткнулось и со всего маху полетело к черту, выкинув меня сажени на две из седла. Падение было так сильно, что я едва-едва поднялся на ноги н тут же почувствовал сильную боль в руке; машинально дотронувшись до головы, мои пальцы нащупали что-то склизкое, липкое – это была кровь. О дальнейшем продолжении нашего partie de plaisir17 нечего было и думать, пришлось отправить лошадей в манеж, а самому нанять извозчика и ехать домой. Боль в руке с каждой минутой усиливалась и скоро сделалась почти нестерпимой, нога тоже ныла порядком.
Няня моя, увидав меня в таком печальном виде, перепугалась страшно и послала прислугу за доктором, жившим в том же доме. Это был препотешный немец, лысый, с вихром седых волос на лбу, краснолицый, маленького роста, в больших золотых очках со стеклами, круглыми, как глаза филина. Он заставил меня раздеться, лечь в постель и, осмотрев с пунктуальностью, на какую способны только одни немцы, объявил:
– Что alles ist qanz qut18, только маленькая ушиб на голофа, да еще Hand bischen19 вывихнута, да еще вот auf dem колен eine wunde, sonst alles ist qut, все цел, ничего не поломайт.
Но хотя и все оказалось qanz20 целым, однако встать мне доктор не позволил, прописал лекарство и ушел, сказав, что morqen21 он будет еще смотрейт.
Пришлось остаться в постели. Я лежал, морщась от боли во всех костях, посылая ко всем чертям как треклятую клячу, по милости которой я попал в пациенты Herr'а
Квибекса, так и Глибочку Гейкерга, подбившего меня на это милое partie de plaisir. Пур селепетан22, как говорит
17 препровождение времени (фр.).
18 все прекрасно ( нем. )
19 рука немного ( нем. )
20 совсем ( нем. )
21 завтра ( нем. )
22 pour passer le temps – для препровождения времени.
Лейкок. Я лежал и злился, а тут еще воспоминание о моем пошлом поведении сегодня ночью, оскорбившем так незаслуженно Марию Николаевну. Я лежал и думал о ней, думал о нашей прежней дружбе, и мне стало очень грустно.
Я уже хотел позвать няню, спросить ее о Мане, где она, у сестры еще или ушла, как вдруг услышал стук в дверь и голос Мани.
– Федор Федорович, можно к вам?
Забывая боль в забинтованной руке, я быстро натянул до самого подбородка одеяло и, не помня себя от радости, крикнул:
– Войдите, буду, конечно, счастлив.
Дверь отворилась, и я увидел Маню. Она была, как всегда, такая беленькая, свежая, румяная.. кашемировое платье цвета бордо, обшитое кружевами, плотно облегало ее стройную, изящную фигурку, черная бархатная ленточка с золотым медальоном оттеняла ее белую, полную шейку.
Давно не казалась она мне такой хорошенькой, как в эту минуту, я искренно позабыл свою боль и только любовался ею. Легкой грациозной походкой подошла она к моей постели и, пожав мою руку, спустилась на кресло, на котором за минуту до этого сидел почтенный доктор.
– Ну что, как вы себя чувствуете, – зазвучал у меня в ушах ее слегка грустный, симпатичный голос, – мне Анна
Ивановна (так звали мою няню) сказала, что вы страшно расшиблись, я уже собралась было уходить, да вот захотелось проведать вас.
– Спасибо вам, пустяки, я думаю, к завтрему пройдет.
– Ну я бы не хотела этого, хорошо бы было, если бы вы полежали недельки три-четыре.
– Почему? – удивился я.
– А для того, чтобы вы не кутили, посмотрите, вы на себя не стали похожи, я просто не узнаю вас.
Я засмеялся.
– Чему вы смеетесь?
– Мне вспомнились слова митрополита Филиппа, обращенные к Иоанну Грозному: «Не узнаю царя русского в этой одежде, не узнаю и в делах царства».
Она чуть-чуть улыбнулась:
– Вот вы всегда так, вам дело говоришь, а вы шутите.
Помните, когда вы в первый раз приехали к нам юнкером, какой вы были тогда и какой вы стали теперь..
– Не хороший?! – подсказал я.
– Хуже чем не хороший. . – засмеялась она.
– Знаю, барышня, сам знаю, – полушутливо, полугрустно сказал я, – но, может быть, оттого-то я теперь такой, что не могу быть таким, как был.
– Это вздор, малодушие, эка беда, что вышли из полка, жаль, конечно, но еще не все потеряно, ободритесь, а главное, бросьте вы ваших товарищей, эти знакомые – гибель ваша.
Она долго и горячо говорила. Я не слушал ее, всецело поглощенный созерцанием ее все больше и больше оживлявшегося личика. Я глядел, как разгорались ее щеки, как шевелились ее губы, открывая кончики белых зубов, я прислушивался к музыке ее голоса, не вникая в смысл произносимых слов, и чувствовал, как что-то новое поднимается у меня в душе и непонятное мне волнение охватило меня, я готов был и смеяться, и в одно и то же время плакать. Машинально дотронувшись до головы, я почувствовал, что повязка моя сползает, я хотел поправить ее, но одною рукою это было неудобно, я еще больше растормошил ее.
– Постойте, я вам завяжу как следует, – сказала Маня, поспешно развернув бинт, она с ловкостью опытного хирурга снова повязала мне голову, еще лучше, чем доктор.
Когда она кончила, я здоровой рукой поймал ее руку, крепко прижал к своим губам и вдруг почувствовал, как слезы подступили мне к глазам.
– Мария Николаевна, вы ангел, – только мог сказать я, делая сверхъестественные усилия, чтобы не расплакаться.
До позднего вечера просидели мы так, болтая и вспоминая о прежнем. Ледяная стена, разделявшая нас последние полгода, растопилась, и мы снова сделались теми друзьями, какими были в то счастливое время, когда я юнкером приезжал из N в отпуск в Петербург.
Прошла неделя, я давно уже настолько поправился, что мог выходить, но мне как-то жалко было расстаться со своею комнатой, меня не тянуло, как прежде, к моим друзьям, и я даже, к большой радости няни, просил ее, что если кто из них придет, сказать, что меня нет дома. Уступив моим неотступным просьбам, Маня согласилась остаться погостить у сестры, и мы снова, как прежде, проводили вечера втроем: я, Маня и няня, но того прежнего веселья не было. Грустная нотка слышалась во всех наших разговорах, ни я, ни няня не могли забыть, что карьера моя разбита, что вместо двадцати тысяч капитала свободного и независимого, у меня осталось всего десять, да и те были отданы в такие малонадежные руки, что не сегодня-завтра могли пропасть. Человек, взявший устроить их, с которым я дружил с детства, который был принят в доме моей бабушки как родной, которому я доверился как брату, оказывался далеко не таким, каким мы его представляли себе, и хотя еще нельзя было утверждать, что он обманет меня, но подобные подозрения начали заползать в наши души, и я не раз уже горько и горько раскаивался в своем опрометчивом доверии.
V
– Слышали, какое ужасное убийство, на Песках? –
спросил меня Владимир Иванович Красенский, муж сестры
Мани, входя как-то ко мне в комнату с газетой в руках.
– Нет, а что?
– Прочтите. – И он передал мне газету, пальцем указывая, откуда читать.
«Зверское убийство.
В ночь с 20 на 21 мая в. . улице Песков в доме № 00 со-
вершено двойное убийство, ужасное по своему зверству и
по той дерзости, с которой оно было произведено. Убита
сама домовладелица вышеупомянутого дома, купеческая
вдова Анастасия Карловна Шубкина, 63 лет, и ее единст-
венная прислуга, крестьянка Тверской губернии, Матрена
Рыбкина, 44 лет. Убийство обнаружено при следующих
обстоятельствах. Каждое утро дворник дома г-жи
Шубниной приносил в квартиру своей хозяйки дров и воды.
В тот день, когда было обнаружено преступленье, он, по
обыкновению поднявшись с вязанкой дров во второй этаж
в квартиру № 4, где жила хозяйка дома, нашел дверь в
кухню запертой. Тогда, думая, что кухарка спит, он стал
стучаться, но ответа не последовало. Несколько удив-
ленный подобным обстоятельством, но оставаясь при
том же убеждении, что кухарка спит, дворник снес дрова
другим жильцам и полчаса спустя с новой связкой опять
постучался в кухню хозяйки, но опять не получил ответа.
Он стал стучать сильнее, но ответа не было. Тогда, не-
сколько встревоженный подобным странным молчанием, он стал стучать изо всей силы, настолько громко, что
услышали в других квартирах и многие из жильцов вышли
на лестницу, спросить, в чем дело. Дворник рассказал им
причину, добавил, что подозревает тут что-то неладное.
Дали знать полиции, и, когда наконец при помощи при-
званного слесаря, в присутствия полиции, дверь была от-
крыта, присутствующим представилось ужасное зрели-
ще. Посередине кухни лежала кухарка, ничком на полу, вся
голова ее была буквально разбита, и из зияющей раны вы-
ползли окровавленные мозги, подле нее валялось и орудие
убийства, большой медный пестик. Из кухни дверь вела в
коридор, оканчивающийся спальней самой хозяйки. Когда
полиция вошла туда, то нашла г-жу Шубкину полуразде-
тую и лежащую поперек постели, со свесившимися на пол
ногами. Судя по положению трупа и по отсутствию крови
и по подтекам на шее и горле, она была просто задушена.
Очевидно, убийца обладал большой физической силой, по-
тому что, по заключению врача, смерть произошла почти
моментально и именно в ту минуту, когда покойная хо-
тела соскочить с постели, по всей вероятности, услыхав
крик в кухне, так как служанка, должно быть, была убита
раньше. Никакого беспорядка в комнате не замечалось, все
стояло на своем месте, следов какого-либо грабежа тоже
не было. В платье убитой, лежавшем на стуле, нашли
ключи, один из них подошел к сундуку, стоявшему под
кроватью. Когда сундук открыли, нашли в нем какие-то
тряпки, и больше ничего. В комоде, стоявшем в комнате, кроме белья и кое-какого хламу, тоже ничего не было.
Являются теперь два вопроса. Были ли у покойной при
себе деньги? Если были, и хранились в сундучке или комоде, то, стало быть, они похищены, если же не было, то не
было грабежа. Второй вопрос – как убийцы попали в
квартиру, откуда они вышли, заперев за собою дверь, ибо
после тщательных поисков ключ от входной кухонной
двери был найден брошенным под лестницу. Дворник го-
ворит, что накануне он видел на дворе двух, по одежде
похожих на странников, и что, кажется, они прошли в
квартиру покойной, которая, по его выражению, «осо-
бенно была охоча» до всяких божьих людей, ходивших к ней
очень часто, но проходили ли они назад и когда, этого он
наверно не знает, так как в это время ходил в участок с
«листками». Если предположить, что деньги были укра-
дены, то, очевидно, убийцы хорошо знали как расположе-
ние квартиры, так и обычаи хозяйки, настолько хорошо, что, не прибегая ко взлому, воспользовались ключами и
прямо взяли то, что искали, не производя обыкновенного в
подобных случаях беспорядка, происходящего вследствие
поисков неизвестно где спрятанных денег. К розыску та-
инственных убийц приняты все меры».
Чем я дальше читал, тем мне больше казалось во всем этом что-то знакомое.
«Анастасия Карповна Шубкина, – думал я, – где я слышал это имя? Ба, да ведь это тетка Лопашова, как это я сразу не вспомнил, те-те-те, догулялась, вот тебе и странники, укокошили-таки!» И я вспомнил, как еще недавно
Лопашов говорил мне: «Моя тетка рано ли, поздно ли дождется того, что ее ухлопают; как же, живет одна с полоумной кухаркой, весь околодок знает, что у нее деньги в сундуке под кроватью, принимает разных бродяг, оставляет их ночевать, долго ли до греха!» И вот предсказания
Лопашова сбылись. «Впрочем, он должен быть доволен, –
подумал я, – он ведь единственный наследник, а у старухи, кроме денег, которые не все же она держала под кроватью, дом каменный тысяч в сорок, нигде не заложенный. Заживет теперь наш Лопашов». И я даже позавидовал ему немного.
Однажды, возвращаясь откуда-то домой, я на лестнице столкнулся со старшим дворником.
– Вам, сударь, повестка из окружного суда.
– Какая повестка?
– Не могим знать, пришла без вас, я расписался, извольте получить.
Я взял повестку, распечатал ее и прочел, что судебный следователь по особенно важным делам, Ашанов, приглашает подпрапорщика, Федора Чуева, завтра, 1-го июня, в камеру свою С.-Петербургского окружного суда, в качестве свидетеля по делу убийства купеческой вдовы Анастасьи Шубкиной.
«Что за чепуха, – подумал я, – каким манером могу быть свидетелем того, что сам узнал из газеты». Однако делать нечего, надо было идти. С некоторым замиранием сердца поднялся я на следующее утро по широкой лестнице окружного суда и вступил в узкий длинный коридор, с правой и с левой стороны которого шли двери в камеры судебных следователей. Сторож, указав мне дверь камеры
Ашанова, пошел докладывать, и через минуту я очутился в большой комнате, с полукруглым окном, желтыми шкафами по стенам и лежащими на их полках делами и длинным, покрытым зеленым сукном столом, за которым восседал сам Ашанов и его два писца.
Ашанов, небольшого роста, господин лет за тридцать, выглядел далеко не симпатично. Бледное, худощавое лицо, острый, как клюв хищной птицы, большой нос, украшенный золотым pince-nez23, большие, серые, холодные глаза, которыми он так и впивался в лицо своего собеседника, и тонкие, цепкие, как щупальца спрута, пальцы костлявых рук невольно производили весьма неприятное впечатление.
Пригласив меня жестом присесть против себя, Ашанов спросил у меня мои имя, фамилию, звание и затем, предупредив, что все, что я покажу, я, в случае требования суда, должен буду подтвердить присягой, приступил к самому допросу.
– Вам знаком отставной поручик N-ского драгунского полка, Иван Иванович Лопашов?
– Знаком.
– Вы, кажется, с ним большие друзья? – и глаза следователя так и впились в меня, словно желая проникнуть насквозь.
– Ну, друзья – это, пожалуй, громко сказано, а что приятели мы с ним были – это правда, часто кутили вместе.
23 пенсне (фр.).
– Мне это известно, – как-то особенно напирая на слово «известно», отрезал следователь и, помолчав с минуту, продолжал: – Если вы были с ним так близки, не рассказывал ли он вам когда о том забавном маскараде, который он проделал раз, одевшись монахом, и обманом выменяв у своей тетки, г-жи Шубкиной, сто рублей на кошель, наполненный всякою дрянью? Наверное, рассказывал?
– Нет, такой вещи я от него не слыхал никогда, – заперся я, не желая подводить своего приятеля.
– Не слышали, – саркастически прищурился г-н Ашанов, – будто бы, припомните-ка хорошенько. Может вы забыли?
– Решительно не знаю, о чем вы говорите, – пожал я плечами.
– Так-с, – протянул следователь, – ну-с, а г-на Черногривова вы знаете?
– Знаю.
– С ним вы тоже, кажется, иногда покучивали в компании с господами Лопашовым и Разсухиным.
– Кутил, так что же из этого?
– Ничего особенного, дело в том, что этот самый г-н
Черногривое здесь же дал мне следующее показание, извольте прослушать.
Говоря это, Ашанов медленно вытащил из кучи лежащих перед ним бумаг какой-то мелко исписанный лист и пробежав его глазами, стал читать из середины, покачиваясь слегка и особенно напирая на некоторые слова:
«.. тогда же г-н Лопашов рассказал нам о том, как он, одевшись монахом, обманул свою тетку, г-жу Шубкину.
Дело было так (тут следовал уже известный читателям рассказ про похождения Лопашова). При этом разговоре были: г-н Разсухин и г-н Чуев. Последнего я особенно помню, потому что после того мы поехали с ним к одной знакомой женщине, у которой провели весь вечер, и только поздно ночью отправились домой, при чем г-н Чуев меня подвез до самой моей квартиры и затем поехал к себе».
– Видите, а вы говорите, что не знаете ничего, – ехидно заметил следователь, – оказывается, г-н Лопашов при вас рассказывал.
– Не знаю, может быть, я только что-то этого не помню, может, я очень пьян был да забыл.
– Может быть, только я бы вас попросил как-нибудь возбудить свою память, потому что должен предупредить вас: убийство г-жи Шубкиной весьма еще темное дело, и подозреваются многие такие, что и сами, может быть, не подозревают, что они в подозрении. Извините меня за этот каламбур, – и он неприятно усмехнулся. Несколько минут длилось молчание. Следователь рылся в бумагах, а я сидел в кресле против него и не могу сказать, чтобы был в эту минуту очень спокоен.
– Скажите, пожалуйста, – заговорил вдруг Ашанов, –
вы не помните, рассказывал вам г-н Лопашов о своих отношениях к тетке?
– Каких отношениях? – спросил я.
– О семейно-юридических.. одним словом, рассчитывал он быть ее наследником или нет?
– Насколько мне кажется, рассчитывал, впрочем, иногда я слышал от него опасения, чтобы старуха не оставила всего своего состояния на какой-нибудь монастырь.
– Гм. . ну а как, в какой сумме считал он состояние покойной?
– Дом он ценил в тысяч сорок, а сколько капитала у нее,
– он, наверно, и сам не знал даже приблизительно, так как старуха, по его словам, о деньгах говорить не любила.
– Гм. . а не знаете, не замечали ли вы между г-ном
Разсухиным и г-ном Лопашовым особенной какой дружбы, не переговаривались ли они о чем при вас?
– Этого не слыхал.
– Гм. . может, так же не слыхали, как и об анекдоте с переодеванием? – съехидничал он.
Я молчал.
Следователь задал мне еще несколько вопросов. Все они вертелись на одном: не слыхал ли я от Разсухина или
Лопашова такого-то выражения, таких-то слов, не замечал ли того-то или того-то! На все эти вопросы я отвечал как можно короче и сдержанней, ссылаясь больше на незнание.
Ашанов, очевидно, бесился.
– Ну-с, теперь я должен вам сказать, – как-то особенно зловеще начал он, пронизывая меня взглядом, – что оба, и
Лопашов, и Разсухин, арестованы по подозрению в убийстве тетки Лопашова г-жи Шубкиной, причем Лопашов был главным деятелем, а Разсухин его помощником, но, кроме Разсухина, должны быть, судя по некоторым данным, еще сообщники этого дела, – он на минуту замолчал, выжидая, не скажу ли я чего, но я тоже молчал, и он снова начал, – сообщники, которые до сих пор не открыты, что дает полное право подозревать всякого, так или иначе близко стоявшего к Лопашову и Разсухину.
«Уж не подозревает ли он меня?» – подумал я, но ничего не сказал, сознавая, что всякое слово может только усилить подозрение. Видя, что он молчит и больше ни о чем не спрашивает, я решился наконец спросить его, могу ли я уходить.
– А вам не угодно будет видеть Лопашова, он должен сейчас быть здесь?
– Отчего же, я с удовольствием, тем более что я давно с ним не видался.
– А как давно?
– Да более месяца, последний раз я его видел тридцатого апреля, а сегодня второе июня…
Следователь встрепенулся.
– Отчего вы, который, как я заметил, обладаете такой слабой памятью, – он иронически улыбнулся, – так хорошо запомнили число вашего последнего свидания?
– Это очень просто объяснить, – возразил я, – я оттого так хорошо помню, что виделся с Лопашовым тридцатого апреля, что на другой день было гулянье 1 Мая, я поехал верхом, упал с лошади, расшибся, пролежал целую неделю и затем долго не выходил из дому. Тогда же я узнал и о смерти Шубкиной.
– От кого?
– Не от кого, а из газет.
– Но неужели за все это время вы так никого и не видали из своих друзей?
– Никого, приезжал раз Черногривов, но я его не принял.
– Почему?
– Просто потому, что не хотел. Они мне все надоели, мне опротивела жизнь, которую я вел, кутежи, постоянное пьянство, и я решил окончательно порвать с ними со всеми,
а потому и приказал никого не принимать.
Я говорил все более и более волнуясь, этот нелепый допрос начинал бесить меня, но, взглянув в лицо следователя, я к ужасу своему заметил, по всему его выражению, по его глазам, что последнее мое показание показалось ему весьма знаменательным.
«Боже мой, – подумал я, – да неужели он и взаправду подозревает меня?» В уме моем мелькнула страшная мысль возможности ареста, допросов, суда, и при мысли этой я сам чувствовал, как страшно побледнел.
– Почему же желание ваше бросить их пришло так внезапно? – нудил тем временем г-н Ашанов.
– Потому что, лежа в постели больной, я много думал и пришел к мысли, что такая жизнь, какую я веду, губит меня. – Я хотел добавить еще и влияние на меня Мани, но удержался. «Такая нуда, как этот Ашанов, чего доброго, и ее потянет к ответу», – подумал я и смолчал.
– Так вы желаете видеть Лопашова? – снова переспросил Ашанов.
– Я уже вам говорил, что, хотя особенного желания не имею, но тем не менее не прочь. «Скажи, – подумал я про себя, – не желаю, пожалуй, вообразит, что мне страшно встретиться глаз на глаз со своим сообщником».
Не прошло и пяти минут, как в коридоре раздались тяжелые шаги, дверь отворилась и в комнату под конвоем вступил Лопашов. Я сразу не узнал его. Его некогда полное лицо, с пухлыми и румяными, как московские сайки, щеками, осунулось, на давно не бритом подбородке густо разрослась рыжеватая щетина. Щегольской костюм измялся и неуклюже сидел на сильно похудевших плечах,
весь он как-то согнулся, сгорбился, только добродушные глаза его оставались те же, хотя в них теперь вместо прежней беззаботной веселости проглядывало какое-то уныние. С первой минуты, как Лопашов вошел в комнату, судебный следователь так и впился в меня глазами, пристально следя за выражением моего лица.
Положительно он в чем-то подозревал меня, и я начинал окончательно теряться.
– Г-н Лопашов, – начал следователь, – я вам хочу прочесть показание г-на Чуева. Потрудитесь прослушать! –
Лопашов в знак согласия кивнул головой. Следователь прочел мои показания, в которых, впрочем, решительно ничего не было, что бы могло служить какой-либо уликой.
Я даже не понимал, почему ему вздумалось читать их, я не догадывался, что все это одна комедия и что главное, ради чего меня призвали и дали очную ставку с Лопашовым, впереди. Следователь берег под конец, рассчитывая на неожиданность и силу удара. Насколько я понял, против
Лопашова не было ни одной серьезной улики.
Основанием к его аресту послужило, во-первых, то, что в квартире покойной не найдено было духовного завещания, тогда как у приходского священника, ее душеприказчика, хранилась копия с него. По этому завещанию все имущество свое покойница действительно отказывала часть церкви, в приходе которой она жила, часть на монастыри, часть своей верной Матрене, остальное, обратив в деньги, на раздачу нищей братии за упокой ее души. Племяннику своему Лопашову, мать которого была ее родная сестра, она оставляла всего пять тысяч да какой-то образ.
Положим, завещание это могло быть уничтожено покойницей, но против вероятности подобного случая было то обстоятельство, что покойница оставила завещание незадолго до смерти и еще дня за три, встретившись с батюшкой, говорила ему о том, как она рада, составив наконец завещание. «Теперь и душе легче», – прибавила она в заключение. Другая улика против Лопашова была та, что за несколько дней до убийства он, выходя из трактира, сказал шедшему с ним Разсухину: «Жаль, не знал я, что эта сумасшедшая старуха сделает такое завещание, я бы ее задушил, каналью!» На допросе же у следователя он, отрицая эти слова, упорно утверждал, что вовсе не знает содержания завещания, даже не знает, сделано ли оно. Наконец, при обыске, у Разсухина нашли рыжую бороду и оловянные очки, в то же время лавочник дома Шубкиной показал, что накануне того дня, как обнаружено было убийство, он видел двух монахов: одного с рыжей бородой, в очках, небольшого роста и худенького – Разсухин был как раз такой, а другого – высокого, полного, с седой бородой и тоже в очках, а тут на беду Черногривов кому-то проговорился о том, как месяца четыре тому назад Лопашов переодевался монахом. Все эти данные, а главное, соображение, что одному только Лопашову, как прямому наследнику, было выгодно исчезновение духовного завещания, заставили следователя арестовать его, а с ним и Разсухина, но так как ни у того, ни у другого ничего решительно не было найдено, то следователю и пришла в голову мысль, не был ли тут замешан третий соучастник, у которого убийцы спрятали как все то, что взяли из квартиры убитой, так и те атрибуты, с помощью которых произведено убийство.
Все это я узнал впоследствии, тогда же только недоумевал, чего следователю от меня надо, а он тем временем вынул из стола какую-то записочку и поднес ее к глазам
Лопашова.
– Чья это рука? – спросил он его.
– А вот его, – указал на меня Лопашов.
– Вы наверно знаете?
– Конечно, знаю, это я получил еще в прошлом месяце.
– А вы что скажете, – обратился вдруг следователь ко мне, – ваша это рука?
Я взглянул на записку и узнал свой почерк, но какая это была записка, хоть убей не помнил.
– Моя, вот и подпись моя, большое Ч и хвостик, я всегда так подписываюсь, когда пишу тем, кто наверно знает мою руку.
– А вы помните содержание записки?
– Сказать по совести, – нет.
– Странно, так я вам прочту! – и, отчеканивая каждое слово, Ашанов громко и медленно прочел:
«Милый Лапашка, – мы иногда так звали Лопашова, –
если твое дело выгорит, то не забудь и меня, а я готов в
свою очередь помогать тебе всем, чем могу. Твой друг
Чуев».
В постскриптуме стояло:
«Не бойся за меня, я сумею вывернуться, что бы ни
вышло, а уже тебя не выдам».
– Что вы на это скажете? – каким-то зловеще-торжествующим голосом спросил Ашанов. – Как вы объясните эту довольно странную, загадочную записку, найденную при обыске у Лопашова.
На этот раз я почувствовал в сердце своем прилив настоящего ужаса, такая записка, хотя происхождение ее было и самое невинное, в руках следователя, подобного
Ашанову, да еще при теперешних обстоятельствах, была равносильна прямой улике.
Собрав все свое хладнокровие, я постарался беззаботно улыбнуться и, по возможности, равнодушнейшим тоном ответил:
– Я не понимаю, г-н следователь, при чем эта записка, которая в свое время была маловажна, что я даже забыл о ней и только теперь, когда вы прочли ее, вспомнил, о чем тут речь. Писана она, если я не ошибаюсь, в конце марта или в начале апреля.
– Совершенно верно, тут помечено – второго апреля.
– Ну так и должно быть. В то время Лопашов ухаживал за одной купеческой девицей с целью жениться на ней, а я за ее замужней сестрой, и вот мы решили, что будем помогать друг другу достигнуть каждому своей цели. Лопашову, как жениху, было легко ввести меня в дом, но он боялся, чтобы мое ухаживание не помешало как-нибудь его свадьбе, особливо если в доме невесты заметят его покровительство в моих ухаживаниях за сестрой своей нареченной. Вот к этому-то и относится мое выражение: я сумею вывернуться, что бы ни вышло, и не выдам его как своего сообщника. Впрочем, из всей этой затеи ничего не вышло, так как Черногривов проболтался, что у Лопашова, кроме долгов, ничего нет, ему отказали от дома, а тогда уже и мне нельзя было больше ходить к ним.
Ашанов выслушал меня очень внимательно, не знаю, поверил ли, но только больше он меня уже ни о чем не спрашивал и отпустил наконец домой, взяв на всякий случай расписку о невыезде из столицы до окончания дела.
Недели через полторы меня снова вызвали, но уже к другому следователю, к которому перешло это дело, очень милому и любезному господину, и от него я узнал, что
Лопашов сознался. Убийство произведено было действительно им и Разсухиным, причем Разсухин-то и подбил его на это дело, сам вызвался помогать во всем, под условием, чтобы Лопашов, в случае успеха, по вводе во владение наследством, уступил ему половину. Они оделись монахами и в таком виде прошли к Шубкиной. Дело было днем, и их пустили без особого страха в кухню. Разсухин, выхватив из стоявшей на полке ступки пестик, одним взмахом расколол им череп Матрене. Удар был так неожидан и силен, что та упала, не вскрикнув даже, двумя последовательными ударами он доконал ее. Все это произошло почти без всякого шума, так что никто ничего не слыхал. Увидеть тоже было некому, так как окно кухни выходило на пустырь. Покончив с кухаркой, оба пошли в спальню к старухе, которая после обеда спала. Услыхав шаги, она было вскочила, но Разсухин схватил ее за горло, опрокинул навзничь и стал душить. Лопашов тем же временем вынул у нее из кармана платья ключи, открыл стоявший под кроватью сундучок, на дне которого лежал портфель. В
портфеле этом, старинной работы с бисерным изображением какой-то сцены из священной истории, который он
тут же взломал, он прежде всего нашел духовное завещание, около тысячи рублей деньгами и документы на хранящийся в Государственном банке капитал в двадцать пять тысяч. Вынув портфель со всем в нем хранящимся, он снова запер сундучок, задвинул его под кровать, а ключи сунул в то же платье. Разсухин тем временем успел окончательно задушить старуху. Тогда они поспешно ушли, заперев за собой выходную дверь, ключ бросили под лестницу, а сами через сломанный в заднем углу забор пролезли в чужой двор, а оттуда уже другой улицей пошли за город. За Смольным монастырем они в кустах скинули с себя клобуки и рясы, под которыми одето было их обыкновенное платье, завязали в них несколько штук камней и бросили в Неву. Второпях Разсухин свою накладную с очками бороду сунул себе в карман, Лопашов же свой парик и бороду утопил. Опорожненный портфель, а также и изорванное в клочья завещание бросили туда же и уже поздно вечером, другой дорогой, поодиночке, возвратились домой.
Я искренно пожалел Лопашова, еще более искренно подивился, как мог такой добродушный, во всю свою жизнь мухи не обидевший человек решиться на двойное убийство. Разсухин, положим, всегда выглядел человеком, за деньги готовым на все, притом и сердце у него было злое, что мы не раз в нем подмечали. Бывало, поймает в трактире кота и начнет его мучить или на улице подзовет к себе какую-нибудь заблудившуюся собачонку, и, когда та, дрожа и поджимаясь, робко подойдет к нему в надежде получить какую-нибудь подачку, он изо всей силы поддаст ее носком сапога или вытянет палкой вдоль спины. Разбогатеть была его постоянная мечта.
Месяца через два их судили и сослали обоих на каторгу.
Я хотел было идти на суд, но в это время я был в таком счастливо довольном настроении духа, что не хотел расстраивать себя видом своих недавних собутыльников, да и
Маня отговорила меня идти. Ее, видимо, немного шокировало, что я как-никак был друг убийц, и она старалась заглушить даже самое воспоминание об этом.
VI
Итак наша компания расстроилась. Лопашова и Разсухина не было, Пегашку Черногривку отец его, узнавши только теперь во всех подробностях о его кутежах и тратах, после достодолжного отеческого внушения отправил на время в Москву, к брату своему, а его дяде, «под начало», и остались в Петербурге я да Глибочка Гейкерг, но ни тому, ни другому было не до кутежей. Гейкерг поступил на службу в какую-то контору, а я в это время переживал чуть ли не самую счастливую эпоху моей жизни.
После того памятного вечера, как Маня пришла навестить меня больного, мы с каждым днем все тесней и тесней сближались с ней.
Хорошее было это время. Любимым нашим удовольствием было отправляться, под вечерок, когда жара несколько начинала спадать, в Летний сад. Там мы до позднего вечера бродили с нею по густым аллеям или подолгу сидели в каком-нибудь укромном уголке, в стороне от постороннего любопытного взгляда, и конца не было нашим беседам. О чем мы тогда говорили, я теперь не могу не только вспоминать, но даже представить себе, помню только мое тогдашнее жутко-сладостное ощущение, мое тревожно-радостное настроение духа. Как живая встает передо мною стройная фигура Мани, в песочного цвета ватерпруфе24, в соломенной скромной шляпочке, с летним цветным зонтиком в руках. Словно воочию с бесконечной тоскою переживаю я эти чудные, теплые вечера, светлые, как день, когда мы, утомленные, медленно, шаг за шагом, возвращались домой, не замечая окружающей жизни, шума и пыли. В многолюдном, ошалевшем от постоянной суеты городе – мы были как в пустыне. Окружавшая нас жизнь почти не касалась нас, мы были совершенно одни. Впрочем, это не новость, что нет одиночества более глубокого, как одиночество в многолюдном городе.
Под ропот исполинских лип Летнего сада, в тусклом мерцании бледной северной луны, под шепот легкого вечернего ветерка у меня явилась и созрела мысль – жениться на Мане. Я несколько раз покушался сделать ей предложение, но какое-то странное не то недоверие, не то сомнение – удерживало меня. Иногда мне казалось, что я обожаю ее и, если бы меня лишили возможности ее видеть, я бы был в отчаянии, иногда, наоборот, я глядел на нее холодным, анализирующим взглядом, и насколько в первом случае казалась она мне чистой, прекрасной и идеальной, настолько во втором – обыкновенной, ничем особенно не отличающейся девушкой. Часто, после приятно проведенного вечера с нею, вернувшись домой еще полный сладостных ощущений, я вдруг начинал чувствовать в себе
24 Ватерпруф – верхняя женская одежда – непромокаемый плащ.
присутствие какого-то злого духа. Чей-то голос насмешливо шептал мне:
– Глупец, неужели ты не видишь, тебя ловят как жениха?
Я старался отогнать эту идею, но рассудок, как невозмутимый анатом, беспощадно погружал свой скальпель в мои мысли и хладнокровно начинал их разъяснять и раскладывать передо мною, как какой-нибудь хирург-профессор, демонстрирующий перед собравшейся аудиторией.
– Подумай, – говорил мне мой рассудок, – бедная девушка, двадцати двух лет, простого происхождения, малообразованная, на что может она рассчитывать? Остаться в девах или, на хороший конец, выйти за какого-нибудь мелкого канцеляриста, писца или т. п. Правда, она красива, изящна, но мало ли в Петербурге таких и еще лучше ее, гибнущих в нищете, идущих на места, берущихся за самую ничтожную работу. Мудрено ли, что она ухаживает за тобой. Ты для нее – клад, где найти ей в ее среде мужа с твоим воспитанием, происхождением, наконец с деньгами. Но это еще не беда, ты упускаешь из виду, что, выйдя замуж, она тотчас же обабится, и ты не успеешь опомниться, как из грациозного котенка выродится простая кумушка-колотовка, с вульгарными манерами, грубым языком, интересующаяся только самыми низменными интересами жизни, кухней, тряпками и сплетнями. Вы с первых же дней перестанете понимать друг друга, а тут явится еще роковой вопрос, каков ее характер. Все девушки ангелы, откуда же берутся ведьмы-жены? А если и характер ее окажется, как и у большинства женщин ее круга, мелочной, придирчивый и сварливый – тогда что?
Я с ужасом зажимал уши, но при следующей встрече особенно внимательно приглядывался к Мане, взвешивал каждое ее слово, анализировал каждый ее жест, а она, бедняжка, тем временем была настолько далека от всяких планов, как земля от луны. Ей ни на одну секунду не приходила мысль ловить меня, напротив, она искренно сожалела меня и возилась со мною единственно из чувства сострадания, видя во мне человека, сбившегося с пути, потерявшего под собою почву. Как бы оскорбилась и удивилась она, если бы могла проникнуть в мои тайные помыслы; я уверен, что она бы с этой минуты не сказала бы со мной ни единого слова. В том-то и заключалось мое заблуждение, что, думая о себе, я слишком был высокого мнения о своих достоинствах и качествах и не понимал тогда простой вещи, что, избалованный, изленившийся барчонок, ни к чему, кроме кутежей, неспособный, выбитый из своей среды и колеи, с капиталом, который не сегодня-завтра, того и гляди, улетит, как журавль в небо, капризный и вздорный, как купеческая молодуха на сносях, я был, безусловно, бесполезнее любого канцеляриста труженика, привыкшего вдвое зарабатывать, чем проживать, и проживать заработанное. Увлеченный самомнением, я, с высоты своего величия, как ни таращил глаза на Маню, не мог увидать в ней того, что открылось мне гораздо позже, когда я сам значительно поумнел. Я судил ее по другим и не понял, что в ней таится бездна оригинальности и самобытности.
Маня была малообразована, это правда, но, когда впоследствии я начал серьезно заниматься литературным трудом, она высказывала иногда замечания, какие затем и почти теми же словами говорили мне серьезные критики и люди с огромным научным опытом. Выслушивая мои черновики, она мне часто подсказывала то, что впоследствии составляло лучшие места моих произведений. Когда мы бывали в обществе, она, правда, избегала серьезных разговоров, но уже раз они начинались, она умела вести их так, что я иногда в сравнении с ней выглядел чуть не дурачком. Это была замечательно цельная натура, с светлым, благородным взглядом на вещи, способная на героизм –
что она и доказала, – враг всякой мелочности, глубоко ненавидящая всякую фальшь, ложь и злоязычие, так что впоследствии я, боявшийся, чтобы из нее не вышла «кумушка-колотовка», сам очень часто был упрекаем ею в излишней болтливости, мелочности интересов и склонности к пересудам. Теперь я просто краснею, вспоминая, с какой чисто торгашеской осторожностью приглядывался я тогда к Мане, приценивался, выпытывал, словно боясь продешевить себя или дать слишком дорого; я был тогда точно барышник на конной ярмарке, облюбовавший себе «коняку», но долго не решающийся приобрести его, из боязни – не влопаться бы. Подозрительно зорким взглядом оглядывает он по нескольку раз со всех сторон покупаемую лошадь, словно ожидая, не выскочит ли где и не бросится ли в глаза какой порок, а в то же время смакует, какую цену дать, чтобы оборони Бог не передать.
Маня и не подозревала, какого рода хаос разнородных чувств и мыслей борется во мне, и продолжала держать себя со мною как любящая сестра, горячо интересуясь всеми моими делами и искренне желая мне всякого успеха.
Наступила осень. Красенские покинули меблированные комнаты моей няни и переехали в свою собственную квартиру в одной из рот Измайловского полка25.
Няня моя, которой, при ее расстроенном здоровье, в ее преклонных летах, тяжела была возня с большой квартирой и многочисленными жильцами, порешила сменить ее на другую, где хотя опять открыла меблированные комнаты, но уже значительно в меньших размерах. В силу этих обстоятельств наши свидания с Маней на время прекратились, так как ей к нам, после отъезда Красенских, ходить уже не было резону, а я считал в свою очередь тоже не совсем удобным часто посещать их.
Грустно, монотонно потекла моя жизнь. Дела или занятий у меня никаких не было, знакомых мало, дома была тоска. Няня все хворала и, видимо, угасала, большую часть дня проводя в постели, кашляя и охая на всю квартиру.
Никогда не чувствовал я себя таким одиноким, обиженным судьбой, как эти два-три месяца. Пошел я было разыскивать Глибочку – он куда-то временно выехал из
Петербурга, вздумал навестить Красенских, в надежде застать у них Маню, мне сказали, что Маня живет теперь у родителей в Чекушах и уже давно не была у сестры. Мне дали адрес, но ехать в Чекуши, на край света – я как-то не решился. «К чему? – думал я. – Чем может помочь Маня в моей тоске, да наконец, может быть, ей даже мое посещение будет и неприятно, в какую минуту придешь, еще стеснишь стариков». Я знал, что живут они бедно, в крошечной квартире, а старик был человек гордый и очень не любил, чтобы кто видел его нужду. Так я и не пошел.
25 В Петербурге было несколько улиц, называемых 1-я рота Измайловского полка, 2-я рота и т. д. Ныне – Красноармейские улицы.
Зима в этот год стала поздняя. Только в конце ноября установился наконец прочный санный путь. От нечего делать, вздумалось мне как-то, по петербургскому обычаю, справить «первопутку». Наняв лихача, я приказал ему везти себя по Адмиралтейству, чтобы потом прокатиться по набережной Невы, где, как известно, пролегает лучшая санная дорога в Петербурге.
Красиво выбрасывая жилистые ноги, легко мчался резвый рысак, как скорлупку увлекая весело постукивающие на выбоинах саночки. Холодный ветер вместе с морозной снеговой пылью, выкидываемой копытами, слегка резал лицо. Ваньки26 на торопливо подскакивающих лохматых клячах, неуклюжие щапинские сани-дилижансы, пестрые вереницы пешеходов и бесчисленнейшие разнокалиберные вывески магазинов – все это словно в панораме мелькало перед моим скучающим взглядом, не оставляя никакого впечатления.
Вдруг, против самого Пассажа, где всегда происходит особенная суетня, мой лихач чуть-чуть не налетел на пересекающего дорогу Ваньку. Только благодаря изумительному мастерству, которым обладают московские и петербургские лихачи, удалось ему сразу осадить разгоряченную лошадь, так и севшую назад почти над самыми санями зазевавшегося Ваньки. Я видел, как седоки, мужчина и женщина, с легким вскриком поспешно отшатнулись в сторону. В первую минуту я не мог разглядеть их лиц, но когда сани вынырнули из-под морды нашей лошади, я с удивлением узнал в женщине Маню. Лицо ее
26 Ваньки – прозвище извозчиков.
кавалера мне было незнакомо. Испуганная столкновением, Маня, очевидно, не узнала меня, тем более что, разминувшись, сани их подкатили к аркам Гостиного двора.
Меня ужасно заинтересовал вопрос, кто же это с нею. Всех ее близких знакомых и родственников я знал, с человеком посторонним она бы одна не поехала. Я приказал лихачу остановиться и, выйдя из саней, стал издали следить за ними. К моему большому изумлению, они шли под руку и вскоре скрылись в одном из магазинов. Подняв воротник, нахлобучив шапку, я остановился за аркой и стал выглядывать. Мне еще не удалось как следует разглядеть лица ее кавалера. Прошло с добрых полчаса, раньше чем они вышли, и тут только удалось мне удовлетворить свое любопытство. Прежде всего я заметил, что господин этот уже не молодой, лет за сорок, худощавый, жилистый, с длинными, слишком черными, что указывало на присутствие краски, усами, с бритым морщинистым лицом в золотых очках.
Одет он был в темно-гороховое пальто с дешевым бобровым воротником, уже не первой свежести, и плюшевую шапку-армянку, напяленную на самые уши. На ногах высокие резиновые калоши, на шее пестрый шерстяной шарф.
В общем, фигура довольно курьезная, особенно с двумя картонками под мышками. Пропустив их вперед, я потихоньку пошел за ними. Зайдя еще в один магазин, причем коллекция картонок увеличилась двумя какими-то свертками, они направились наконец к своему извозчику. Тут только я заметил, что и сани были уже порядочно нагружены картонками, свертками и пакетами.
Мое любопытство достигло своего апогея, и я решил проследить за ними до самого конечного их путешествия.
Сев на своего лихача, я приказал ему ехать следом за их извозчиком, впрочем, настолько в почтительном отдалении, чтобы не быть узнанным, на случай, если бы Маня оглянулась. Но она не оглядывалась. Всю дорогу ехали они почти молча, изредка перекидываясь отрывочными фразами.
Проехав Невский, извозчик свернул на набережную к
Николаевскому мосту, переехал Неву и поехал другим ее берегом, по дороге к Чекушам.
Заморенная кляча его едва плелась, мой рысак, принужденный следовать ее примеру, просто из себя выходил, так что лихачу стоило большого труда сдерживать его буйные порывы.
Свернув в какую-то довольно глухую улицу, выходящую, как и большинство улиц той местности, одним концом на Неву, а другим на тот край света, извозчик подкатил к подъезду небольшого двухэтажного полукаменного дома, так неожиданно остановился, что мы с лихачом, чтобы не наткнуться на них, должны были метнуться в первые попавшиеся ворота, маневр, исполненный моим лихачом с изумительным проворством и по собственному соображению гораздо раньше, чем я ему сказал об этом.
Человек бывалый, ему уже не раз случалось выслеживать подобным образом разную «петербургскую дичь».
Тем временем Манин кавалер не торопясь вылез из саней, позвонил дворнику и методично принялся нагружать его привезенными свертками, пакетами и картонками.
Когда последняя покупка взгромоздилась наконец где-то на самой холке навьюченного, как осел, дворника, он медленно стащил перчатку, протянул руку сидевшей в санях Мане и, как мне показалось, фамильярно стал прощаться с ней. Я видел, как мелькнула из муфты ее беленькая ручка и на мгновенье исчезла в его жилистой руке, как затем она ему кивнула головкой, что-то сказала, чего я не мог расслышать. Извозчик взмахнул кнутом, и сани поползли от подъезда, как беременная черепаха. Странный господин постоял с минуту на месте, поглядел им в спины и затем важной журавлиной походкой отправился вслед за удалившимся дворником.
– Трогай! – крикнул я лихачу. Тот только того и ждал.
Как бешеный рванулся вперед изнервничавший вконец рысак, и в три-четыре взмаха мы уже поравнялись с ползущими впереди санями.
– Мария Николаевна, – крикнул я взволнованным, нетерпеливым голосом, – здравствуйте.
Она вздрогнула и торопливо оглянулась. На мгновенье яркая краска залила ее щеки.
– Ах, это вы, откуда вас Бог несет?
– Оттуда же, откуда и вас, я провожаю вас от самого
Гостиного двора, это ведь я налетел на ваши сани у Пассажа, я тотчас же узнал вас и с тех пор еду по пятам, а вы и не догадались..
– Ну, а теперь вы куда ж? – прервала вдруг она мое торопливое словоизвержение.
Признаться, этот вопрос меня несколько озадачил.
– Куда? Пока вот провожаю вас, а потом, надеюсь, вы мне позволите зайти к вам, я, кстати, буду очень рад видеть
Николая Петровича, я давно уже не видался с ним.
Она ничего не ответила. Минуту мы ехали рядом молча.
– Послушайте, Мария Николаевна, знаете что? отправьте-ка вы вашего возницу к черту и пересаживайтесь ко мне, а то он ползет как ушибленный. Право, ну.
Маня с минуту колебалась. Но, видно, ей самой до смерти надоело это похоронное шествие, потому что, подумав с минуту, она остановила своего извозчика, расплатилась с ним и, захватив с собой небольшой пакет, единственно оставшийся у нее изо всей массы покупок, пересела ко мне. Я был в восторге.
– Семен (знать имя своего лихача – священная обязанность всякого нанимателя), рубль на чай, пошевеливайся!
Лихач только головой тряхнул. «Знаем, мол, не учи!»
Он лихо подобрал вожжи, как-то особенно чмокнул, отчего горячий конь вздрогнул всем телом, гордо козырем поднял красивую морду, рванулся, словно бы хотел сбросить своей широкой грудью мешающее ему препятствие, и помчался, точно поплыл, едва касаясь копытами земли.
– Послушайте, Мария Николаевна, – начал я, – скажите на милость, что это за гоголевский тип был сегодня с вами.
– А вам очень интересно это знать? – усмехнулась она.
– Очень!
– Мой жених.
– Ваш жених?
– Да-с, мой жених, Алексей Александрович Муходавлев, титулярный советник, служит в Министерстве государственных имуществ, получает 90 рублей жалованья и имеет собственный дом, тот самый, у которого он только что слез. Видите, как я вам подробно докладываю. Ах, да, забыла еще: вдовец – жена умерла пять лет тому назад, имеет дочь десяти лет. Вот, кажется, и все подробности.
Что вы так удивленно смотрите?
– Вы шутите, быть этого не может! – воскликнул я.
– То есть чего быть не может? Что он вдовец или что у него дочь десяти лет?
– Быть не может, чтобы он был ваш жених!
– Почему?
– Да, во-первых, потому, что он обезьяна, а во-вторых, как же это так скоро. Давно ли мы виделись с вами, и ни о каких Блоходавлевых и речи не было.
– То есть как давно ли, ни меньше ни больше как два с половиной месяца, а в такой срок иной раз многое может случиться.
В последних словах мне почудился как бы упрек, но я так был огорошен неожиданным известием, что почти лишился способности что-либо соображать.
– Да нет, перестаньте, вы себе представить не можете, как вы меня ошеломили, это невозможно, – бормотал я, стараясь собраться с мыслями. – Неужели это дело решенное?
– Почти, он уже переговорил с отцом, мне тоже изъяснился..
– Ну и вы...
– Конечно, согласна, он для меня очень хорошая партия, по крайней мере, все так говорят, в чине, с деньгами, чего же больше.
– Я вижу, он вам не по сердцу.
– Вот вздор какой, почему это вы так думаете, напротив, он мне очень нравится, такой солидный, серьезный, учтивый.
– Да из каких он?
– Как из каких, я же вам говорила – чиновник, титулярный советник, служит. .
– Э, да не то, не то вовсе, я спрашиваю, из каких он, то есть из «наших» или из хамов?
– Ах вот что, – иронически улыбнулась Маня, – предки на сцену. Ну, предки его не из важных, отец был простым вахтером, а сестра до сих пор где-то прачешное заведение держит, и он этого не скрывает, да, впрочем, и то сказать, не всем же быть пятисотлетними дворянами и происходить от воевод Дмитрия Донского.
Последняя фраза была уже прямо не в бровь, а в глаз, – я несколько раз говорил Мане, что род Чуевых происходит от воеводы Чуя, убитого на Куликовском поле.
– Послушайте, за что вы на меня сердитесь?
– Я на вас, избави Бог, и не думала, да и за что? Вы мне ничего худого не сделали, а если что и вышло худого, то я сама виновата, слишком неосторожна.
– Что такое, что вышло? Вы меня пугаете!
– Ничего особенного, слишком часто нас с вами видели вместе это лето, ну и вышли разные сплетни, впрочем, теперь все уже опять утихло. Что было, то прошло. Однако вот мы и приехали, стой, стой! Вот тут, у ворот.
Мы остановились.
– Мария Николаевна, – начал я решительным тоном, –
мне необходимо с вами переговорить серьезно.
– О чем?
– Этого в двух словах не перескажешь.
– Ну так идите к нам, кстати, вечером, наверно, жених мой приедет, я вас познакомлю. Он к тому же заочно вас знает из моих рассказов и даже весьма одно время интересовался вами. – Говоря это, она как-то загадочно-иронически улыбнулась. Всякий раз, когда она говорила слова «мой жених», меня точно что по сердцу резало.
Имея возможность давным бы давно назвать Маню своей женой, но не решившись до сих пор сделать ей предложение, на которое, наверно бы, последовало ее согласие, я теперь, когда она сделалась невестой другого и ускользала от меня, готов был идти на все, чтобы не допустить этого брака. В эту минуту мне искренно казалось, что, если она выйдет замуж за Муходавлева, я не переживу этого, уже по меньшей мере буду в большом отчаянии.
Старики Господинцевы встретили меня очень радушно.
Жили они вовсе не так плохо, как я думал. Маленькая квартирка в две светлые и одну темную комнатки была хоть бедно, но чисто убрана, что придавало ей веселый, уютный вид. Тотчас же подали самовар, и так как мы оба порядочно прозябли, то с удовольствием принялись за чай.
После чаю я упросил Маню провести меня в ее комнату, и там, оставшись наедине, я снова приступил к ней с расспросами. Мне хотелось прежде всего узнать, насколько далеко зашло их сватовство.
К большому моему удовольствию, я из первых же слов понял, что хотя предложение и сделано и принято, но дальнейшее ничего не выяснено. День свадьбы не только что не был назначен, но даже и приблизительно не было решено, когда ее справлять. Очевидно, господин Муходавлев был порядочная мямля и, как видно, придерживался пословицы, что «поспешность хороша только блох ловить». Другая черта его характера, уловленная мною из рассказов Мани, была скупость, доходящая почти до скаредности. Несмотря на то, что вот уже вторую неделю как он, считаясь женихом, почти каждый день бывал у них, он до сих пор не сделал своей невесте ни одного подарка, если не считать двух довольно мизерненьких бонбоньерок с шоколадными конфетами.
Наконец, третья черта – он был, по-видимому, сильно ревнив, это можно было заключить из того, что, узнав от кого-то о моем существовании и о дружбе нашей с Маней, он долго допытывался у нее: что и как, все время подозрительно не спуская с нее глаз, и, не успокоившись, начал наводить стороной кое-какие справки и только тогда, когда за это получил выговор от Мани, которая ему прямо объявила, что, если он не доверяет ей, может искать себе другую невесту, он, по-видимому, угомонился.
– Да откуда вы его выкопали, такое чудище? Я не думал, что в Петербурге водятся «ископаемые».
– Никто его не выкапывал. Сам объявился. – И Маня рассказала следующее.
Вскоре после того как Красенские переехали от нас на свое новое место жительства, а мы в свою очередь перебрались на другую квартиру, отец Мани получил место, где и пребывает теперь на одном из чекушенских заводов смотрителем материалов. Жалованье, правда, ничтожное, но казенная квартирка с отоплением, освещением и кое-какие доходишки. Старик был рад и тому, так как в то время находился без занятий, и тотчас же поспешил вступить в свою новую должность.
Недели через две по приезде на новое место Розалия
Эдуардовна, мать Мани, пошла за покупками в суровскую лавку и там неожиданно встретилась с одной своей старинной подругой, с которой не видалась лет пять. Подруга ее была замужем за одним чиновником, недавно овдовела и жила с ними по соседству в доме Муходавлева.
Обе подруги чрезвычайно обрадовались друг другу, и в тот же вечер Анна Ивановна пришла к Господинцевым.
– Что же это вы, Розалия Эдуардовна, Маничку замуж не выдаете, уже пора, – сказала как-то в разговоре Анна
Ивановна, ласковым взглядом окидывая стройную фигурку
Мани, – вишь, какая она у вас красавица.
– Жениха нет, – улыбнулась Розалия Эдуардовна, –
теперь женихи богатых невест ищут, а у нас вы знаете какие достатки.
– А что дадите, я вам сосватаю жениха, и с деньгами, и чина хорошего, степенный, собой не урод, а?
– А вы нам покажите ваш товар, тогда и сторгуемся, –
отшутилась Розалия Эдуардовна. Тем разговор и кончился.
Но когда в следующее воскресенье Розалия Эдуардовна с
Маней пришли в гости к Анне Ивановне, они застали у ней какого-то пожилого, сухощавого господина, который при входе их как-то особенно пытливо посмотрел на Маню.
– Позвольте представить, – затараторила Анна Ивановна, – хозяин здешнего дома, Алексей Александрович
Муходавлев. Вот он самый жених и есть, – незаметно шепнула она на ухо Мане и Розалии Эдуардовне, – смотрите каков!
Весь вечер Алексей Александрович глаз не спускал с
Мани, она ему, видимо, очень понравилась, и, когда они собирались домой, вызвался их проводить.
На другой день он явился к ним вечерком, под предлогом какого-то поручения от Анны Ивановны, и с этого дня стал все чаще и чаще навещать их.
У Мани был талант – замечательно искусно делать всякие безделушки из бисера, гаруса и щелка. Время от времени она брала заказы из одного магазина в Перинной линии, и эта работа давала ей порядочный заработок.
Алексей Александрович оказался страстным любителем всего этого вздора. Он по целым вечерам сидел, не спуская глаз с рук Мани, с детским любопытством следя, как из кусочков разной материи и моточков шелка из-под ее пальцев выходили разные безделушки. Особенно ему понравилась одна вещица для вытиранья перьев, представлявшая араба под шатром, и, когда Маня, смеясь, подарила ее ему, он пришел в настоящий детский восторг. В
тот же вечер сделал ей предложение.
Маня, пораженная такой неожиданностью, не решилась сразу ничего ответить и попросила подождать, то же самое ответила и отцу с матерью, которым сватовство Муходавлева было, очевидно, очень приятно.
С этого дня Муходавлев начал бывать у них каждый день, и хотя Маня еще не сказала ему окончательного «да», но мало-помалу так привыкла к мысли о неизбежности этого брака, что стала глядеть на него как на жениха.
Впрочем, сам Муходавлев не особенно торопил и терпеливо ждал решения Мани.
В таком положении было дело, когда я встретил их в
Гостином дворе.
Зная, что Муходавлев должен прийти сегодня вечером, я решился остаться, мне хотелось поближе познакомиться с человеком, у которого приходилось теперь отбивать то, что в эту минуту я считал для себя дороже всего на свете, по крайней мере, тогда мне так казалось.
VII
Не успели мы, что называется, по душе наболтаться с
Маней, как в маленькой прихожей раздался дребезжащий звонок, и через минуту в комнату, служившею Господинцевым и гостиной, и столовой, появился сам Алексей
Александрович. Увидев меня, он как-то удивленно воззрился глазами, точно спрашивая; «А это что за птица, откуда?» Когда же он узнал мою фамилию, его, очевидно, покоробило. Я уже говорил, что он знал o наших дружеских отношениях с Маней, и теперь мое присутствие ему, видимо, было не по сердцу, однако он постарался не подать мне виду и с особенной любезностью протянул свою жилистую, сухую, как петушиная лапа, руку. Поздоровавшись с ним, я без церемонии стал его рассматривать. Теперь он показался мне еще курьезнее, чем на улице. Одет он был в черный, длиннополый сюртук, старинного фасона, сидевший на нем как-то нескладно, словно на покойнике; высокие туго накрахмаленные воротники подпирали гладко выбритый подбородок. Как я уже говорил, ему было лет за сорок, если не под пятьдесят, волосы его значительно поредели, зачесывал он их по-старинному, на височки, и, очевидно, сильно красил. Держал он себя весьма степенно, говорил чуть-чуть в нос, улыбался какой-то деревянной, деланной улыбкой. Очевидно, он кого-то копировал, по всей вероятности, кого-нибудь из своих бывших начальников. После получасовой беседы я убедился, что он страшно неразвит, почти не образован, но от природы не глуп, или, вернее, хитер, себе на уме.
Он несколько раз пробовал заговорить со мной, но,
видя, что я упорно отмалчиваюсь, он оставил меня в покое и, небрежно развалясь на кресле, принялся с апломбом рассуждать по поводу волновавших тогда весь Петербург недоразумений в университете. В разговоре, несколько раз, он косвенным образом старался задеть меня, рассуждая на тему о непостоянстве и легкомыслии теперешней молодежи, о ее якобы огульной неблагонадежности и т. п. Видя, что разговор этот мало нас интересует, он перешел на свои личные дела, заговорил о службе, о своих планах, надеждах и предположениях. Николай Петрович и Розалия Эдуардовна слушали его с большим вниманием, мне показалось, что они даже заискивают перед ним. Это меня раздражило, и я нарочно довольно громко заговорил с Маней, сидевшей за самоваром, умышленно сосредоточивая разговор на воспоминаниях о наших летних прогулках.
– Помните, Мария Николаевна, как мы ездили с вами в
Зоологический сад? Какая чудная ночь была, когда мы возвращались. Еще вы так интересовались, существуют ли люди на какой-нибудь из звезд, и если существуют, то такие ли они, как мы. Я еще сказал тогда вам, что мне иногда кажется, что после смерти нам откроется весь этот видимый, но неведомый мир, на что вы ответили: – Если бы знать наверно, что это так, это было бы утешением в смерти. Помните?
Как только я заговорил, Муходавлев тотчас же замолчал и насторожил уши, он пытливо взглянул на Маню, а когда та, почувствовав на себе его пристальный взгляд, слегка вспыхнула, он перевел глаза на Николая Петровича, точно спрашивая его: «Что, мол, это значит?» Я видел, что как отцу Мани, так и ее матери тема моего разговора была очень не по сердцу, но я нарочно продолжал, не обращая ни на кого внимания и обращаясь к одной Мане.
– А помните наши прогулки в Летнем саду, я еще недавно был там, знаете, нашу любимую скамейку снесли и переставили гораздо дальше, помните, там на повороте, у разбитого дерева, еще мы его стариком звали. Знаете, теперь зимою, под вой ветра и вьюги, я особенно как-то люблю вспоминать эти дни.
– Воспоминания бывают приятны только тогда, – обратился вдруг ко мне Муходавлев, – когда в них не раскаиваешься.
– Вы из какой прописи это вычитали? – насмешливо прищурился я на него.
– Как из прописи, это не из прописи.
– А я думал, из прописей, вы, я, заметил, ужасный любитель прописных истин. Лень – мать пороков. Человек должен довольствоваться тем, что имеет, и т. п. Можно подумать, что вы или недавно со школьной скамьи, или занимаетесь преподаванием каллиграфии.
– Напрасно вы смеетесь, молодой человек, над прописными истинами, как вы их называете, не забудьте, что все эти изречения в большинстве случаев господ философов, людей гораздо умнее, чем мы, грешные.
– Я не спорю, что все эти истины выдуманы людьми умными, и говорю только, что в зубах всем навязли, так как давным-давно всеми дураками вызубрены.
Он злобно взглянул на меня, но смолчал и даже сделал вид, что не понял моего намека.
– Беда, как молодежь неосторожна в наши дни, – продолжал он, – иная молодая особа, по легкомыслию, позволит себе слишком уж близкое знакомство с каким-нибудь молодым человеком, а там, глядишь, и выйдет что-нибудь, а почему? – все от своеволия, не хотят старших слушать: мы, дескать, сами знаем, что и как делать, не учите нас; а что знают, дальше своего носу ничего, любой хлыщ надует. А там на всю жизнь горе да слезы. Так-то.
– Это правда, – угрюмо заметил Николай Петрович, –
теперь дети не особенно-то слушают. Что говори, что нет.
Умны уж очень стали.
Я нарочно взглянул на Маню, она сидела, закусив губку и сурово наморщив брови, оборот разговора ей, очевидно, был не по сердцу. Видя, что я не возражаю, Муходавлев набрался духу.
– Вот бы хоть курсы взять; ну для чего женщинам курсы, только чтобы со студентами шляться. Это, видите ли, ухаживание называется, луна, звезды, соловей, лямур, поэзия. «Ты меня любишь?» – «Люблю!» Ангел, сокровище! чмок, чмок, а там глядишь – ангела и след простыл, слушает соловьев с другою. Нет, у кого честные цели, соловьев слушать не пойдет. .
– А выберет себе жену, как цыган лошадь, осмотрит ее со всех сторон, нет ли какого изъяну, купит да и впряжет в работу. Вези, мол, зарабатывай гроши, что я за тебя дал.
Так, что ли? – усмехнулся я.
– Шутить изволите, молодой человек, – зашипел Муходавлев, – так никто-с не поступает-с, всякий умный человек делает с разумом. Понравится ему девушка, обдумает он, может ли содержать жену, и годится ли она ему, пара ли, и если окажется пара, то прямо за свадьбу без прогулочек-с, так-то-с.
– Ну а что вы называете парой? Интересно знать. Как, по-вашему, пара это будет? Красивая, молодая девушка и старик лет пятьдесят, с лысиной, крашеный, весь на фланели, а?
– Это смотря как, – зашипел Муходавлев, задыхаясь от злости, – смотря по обстоятельствам, если у девушки за душой, кроме красоты, ничего нет, то пара.
– А, вот как. Но как вы полагаете, неужели старик, берущий такую девушку, думает, что она его будет любить?
– То есть что вы называете любить. Лямура, конечно, не будет, да и Бог с ним, а любить, отчего же не любить.
Должна же она чувствовать, что вот человек устроил ее судьбу, и беречь его за то.
– Штопать ему носки, варить обед, а на ночь уксусом растирать, да ведь это может и кухарка делать. Зачем же жена?
– Как зачем – подруга жизни.
– Да какая же она ему подруга жизни, когда ей, например, 22, а ему 50. Или вы держитесь того правила:
«Люби не люби, а почаще взглядывай».
– Э, что вы понимаете в семейной жизни, – досадливо махнул он рукой, – поживите с мое, тогда поймете.
– Ну, уж если я доживу до ваших лет, то поверьте, что не буду жениться.
– Это почему?
– А потому что в ваши года не о свадьбе думать, а о духовном завещании, вы меня простите, я человек откровенный.
– Я это вижу, – криво усмехнулся он, – только напрасно так думаете, помните басню Крылова «Старик и трое молодых», как трое юношей смеялись над старцем, что сажает дерево на смерть глядя, ан вышло, что он же их всех троих пережил.
– Федор Федорович! – умоляюще шепнула мне Маня. –
Ради Бога перестаньте, смотрите, как папа сердится, бросьте.
Мне стало ее жаль, и я замолчал. Видя, что я не возражаю, Муходавлев успокоился и принялся снова ораторствовать о своем департаменте, а затем ловко перевел разговор и на свой дом. Он выложил перед нами все подробности: сколько он за него заплатил, – дом куплен был на деньги его первой жены при помощи каких-то особенно счастливых комбинаций, граничащих с мошенничеством; сколько доходу он дает, какие выгоды от того или другого вида помещения и т. д. Очевидно, все это он говорил для меня. «Вот, дескать, я каков, а у тебя что есть – шиш. А
тоже рассуждаешь!»
Ко мне весь остальной вечер Муходавлев относился сдержанно, но крайне холодно и уже больше не обращался ни с какими разговорами. Только раз, когда с чиновничьим благоговением упомянул он имя одного высокопоставленного лица, а я при этом лаконически вставил далеко не лестный эпитет, относящийся до этого лица, он язвительно обратился ко мне:
– А позвольте спросить, почему вы такого мнения о сем достойнейшем господине, разве он вам знаком?
– Я думаю, больше, чем вам, я у него иногда бываю в доме, ведь это же мой дядя.
– Ваш дядя? – воскликнул Муходавлев, и, несмотря на явную антипатию ко мне, вся его фигура изобразила вдруг совершенно машинально в силу рефлекса глубокое подобострастие. – Я и не думал!
– Что же это вас удивляет? – усмехнулся я, – У меня не он один, вы знаете Z?
– Еще бы, помилуйте, не знать такое лицо, да его вся
Россия знает, – всплеснул он руками.
– Ну Россия не Россия, а в Петербурге, пожалуй, знают, ну так вот жена его, рожденная Чуева, сестра моего отца.
– Сестра вашего отца?! – воскликнул Муходавлев. – И
при таком родстве вы не служите!!! Боже мой, да дайте мне такое родство, я бы давно из столоначальников прямо в директора попал!
Я молча пожал плечами.
– Всякий устраивает свое счастье по-своему, – усмехнулся я, – мы с вами друг друга не поймем, потому я вам и объяснять не буду, почему я не служу.
Этот ответ уязвил его, и он снова тотчас же перешел в тот тон, какого держался со мною доселе, но я видел, что открытие во мне родственника Z, имевшего большое влияние в министерстве, где служил Муходавлев, значительно обескуражило его, ясно даже показалось, что он как бы стал остерегаться меня, взвешивать каждое слово. Уж не боялся ли он, что я донесу на него?
Было уже порядочно поздно, когда Алексей Александрович, взглянув на свои золотые часы, начал собираться домой. Он несколько раз повторял: «А я сегодня засиделся, пора, пора, давно пора, у меня еще и дело есть, две-три бумажонки не кончены, завтра чуть свет вставать придется!», но сам не уходил. Очевидно, он ждал, что я тоже соберусь уходить, и хотел уйти после, но я нарочно, как будто не понимая, в чем дело, сидел себе и вполголоса болтал о чем-то с Маней. Потеряв надежду пересидеть меня, Муходавлев наконец не вытерпел, встал и стал прощаться.
– Мне надо бы было кое-что сказать вам, Мария Николаевна, – начал он, – но сегодня это неудобно, я уже другой раз, без посторонних лиц, – он сделал особенное ударение на этих словах, – скажу вам, а до тех пор позвольте вашу ручку. – Он особенно нежно пожал руку
Мани и несколько раз поцеловал ее немного выше кисти.
– Ну а вы, молодой человек, – заискивающе-шутливым тоном обратился он ко мне, – конечно, со мною? вместе и поплывем, знаете пословицу: «Дорога вдвоем – полдороги»!
– Нет, благодарю вас, я еще посижу с полчасика, – невозмутимо спокойно ответил я, – мне тоже надо сказать пару слов Марии Николаевне и тоже без посторонних свидетелей.
Надо было видеть выражение его лица, он сразу как-то весь позеленел и сморщился, точно уксусу лизнул.
– Интересно знать, какие могут быть у вас секреты с чужою невестою, милостивый государь, – зашипел он, впиваясь в меня своими злыми глазами.
– Какою невестою, – удивился я, – о какой невесте вы говорите?
– О моей невесте, Марии Николаевне Господинцевой, которой я уже сделал предложение и которую надеюсь скоро назвать своей женой, а потому по праву жениха требую от вас оставить мою невесту в покое и не утруждать ее вашими секретами, которых ей вовсе и знать не надо.
При этих словах я почувствовал, как вся кровь хлынула мне в голову. Я готов был отвечать ему дерзостями, но в эту минуту в спор вступила сама Маня. С достоинством поднявшись с своего места, она холодно смерила Муходавлева с ног до головы своим лучистым взглядом и спокойно сказала:
– Алексей Александрович, вы забываете, что я еще вам не сказала своего окончательного решения, а до тех пор я свободна и никаких прав над собою не признаю, я охотно выслушаю завтра все, что вы имеете мне сказать, а теперь я бы просила вас не ссориться с одним из моих лучших друзей, с которым мы знакомы чуть ли не с детства, а вас, Федор Федорович, – прибавила она шутливо, – прошу не бунтовать у меня, сегодня поздно, поезжайте домой, мы после поговорим.
Эта речь сразу утихомирила Муходавлева, он даже постарался улыбнуться.
– Покоряюсь, – шутливо воскликнул он, – недаром французы давно уже сказали: «Чего женщина хочет – Бог хочет!»
– Когда мы увидимся? – шепнул я Мане на ухо, пока
Муходавлев, провожаемый ее родителями, выбирался на лестницу.
– Зачем нам видеться? – спросила она, грустно взглянув мне в лицо.
– Так надо, – нетерпеливо топнул я ногой, – говорите скорей когда, иначе я того натворю, чего вы и не думаете.
– Ну, хорошо, не волнуйтесь. Завтра я утром поеду к сестре.
– В котором часу?
– Да часов около двенадцати,
– Хорошо же, я буду ждать вас тут на углу, подле будки, я с вами поеду, смотрите же – приходите, а пока в задаток. .
И раньше чем она успела опомниться, я крепко обнял ее и порывисто поцеловал в самые губы. Она с испугом отскочила от меня.
– Что вы делаете, вы забываете, что я почти невеста другого.
– Никогда вы ничьей невестой, кроме моей, не будете, хотя бы мне для этого пришлось свернуть шею четырем
Муходавлевым, помните это, а пока прощайте, до завтра.
Накинув пальто, я поспешно выскочил на лестницу.
Николай Петрович, с лампой, стоял на верхней площадке лестницы и светил спускавшемуся Муходавлеву. Розалия
Эдуардовна стояла подле и приветливо ему кланялась. Со мною оба они простились очень холодно, очевидно, они были крайне недовольны моим поведением, но мне это было безразлично.
Выйдя на улицу, я увидел Муходавлева, он стоял в нескольких шагах, очевидно, поджидая меня.
– Послушайте, – заговорил он каким-то сдавленным голосом, – что вам от нас надо, зачем вы мешаетесь в это дело?
– В какое дело? – холодно спросил я, останавливаясь против него и в упор глядя ему в лицо.
– В дело моей свадьбы. Я хочу жениться на Марии
Николаевне..
– Но вы не женитесь, – перебил я его.
– Почему, кто мне может помешать?
– Я! Вы не женитесь, потому что я женюсь на ней, поняли теперь?
– Как не понять, но поймите и вы, что я этого не допущу, мне родители ее дали согласие, и она сама почти согласна, я уже разрешение начальства о вступлении в брак исходатайствовал и кое-кому из товарищей сказал, да я теперь из одного сраму не отступлюсь, нет, вы эти пустяки бросьте, не думайте, что Муходавлев из тех, что позволят вертеть собою, у меня, батенька, хохлацкое упрямство, и уже что я раз решил, так и будет, хоть лоб разобью, а на своем поставлю. Думайте обо мне, что вам угодно, но я предупреждаю вас, что если вы не отстанете, то я попросту, без затей, переломаю вам ребра, слава Богу, силы хватит.
– Увидим, – произнес я, медленно отчеканивая каждое слово, – но помните одно, что я тоже не остановлюсь ни перед чем, хотя бы и этим. – Говоря это, я вынул из кармана маленький револьвер Лефоше и слегка щелкнул курком.
Зловеще блеснула при лунном свете вороненая сталь дула.
Муходавлев побледнел как полотно и как ужаленный отскочил от меня шагов на пять.
«Трус, – мелькнуло у меня в голове, – это хорошо».
– Милостивый государь, – бормотал окончательно перетрусивший Муходавлев, – вы просто того.. разбойничаете.. как же вы так это смеете.. я жаловаться буду... это ведь значит покушение на жизнь человеческую. . за это ведь суду предают. . я завтра же градоначальнику донесу на вас.
– Можете, – холодно ответил я, – но помните одно, если
Мария Николаевна будет вашей женой, я пущу вам пулю в лоб, а потом и себе, мне все равно без нее не жить, а ей этим я услугу окажу, овдовев, она будет со средствами и может выйти по любви. Видите, как все это просто. – Я говорил так спокойно, точно дело шло о какой-нибудь самой обыкновенной вещи. Хотя Муходавлев и оказался трусом, но тем не менее не настолько глупым, чтобы его было так легко запугать. Когда первое впечатление испуга прошло, он злобно усмехнулся:
– Напрасно вы так думаете, что это так просто, поверьте
– я не баран, что позволю себя зарезать, меня не напугаете, и от своего решения я не отступлюсь, чем бы вы мне ни угрожали, а теперь прошу вас идти своей дорогой, а не то я позову полицию и вас арестуют, как носящего оружие.
Прощайте.
– Прощайте, но помните, все, что я говорил, не одни пустые угрозы.
– Ладно, ладно, увидим.
Сказав это, он перешел на другую сторону и быстро зашагал от меня прочь, бормоча что-то себе под нос.
Я всю ночь не мог заснуть. Если бы вчера кто-нибудь спросил меня, люблю ли я Маню настолько, чтобы жениться на ней, я бы затруднился ответом, но теперь я просто весь сгорал от безумной страсти. По крайней мере, мне так казалось. При одной мысли, что она может быть женой
Муходавлева, который по праву мужа запретит ей видеться со мною, и я таким образом навеки потеряю ее, меня бросало в холод. Я вскакивал с постели и в темноте принимался ходить из угла в угол, сжимая кулаки.
– Ни за что, – шептал я, – ни за что, лучше умереть.
Мне тогда и в голову не приходило, что мое решение жениться на Мане вытекало не столько из любви к ней, сколько из чувства уязвленного самолюбия, упрямства и страстного желания поставить на своем. Мне не столько важно было, хотя я сам этого не замечал, чтобы Маня была моей женой, сколько то, чтобы она не была женой Муходавлева.
«Как? – думал я. – Чтобы меня предпочли какому-нибудь чинушке, чтобы он смел пренебрежительно смотреть на меня.. никогда». Если бы Муходавлев не был богат, я уверен, что мне бы и в голову не пришло так волноваться. Будь он какой-нибудь несчастный канцелярист, бьющийся на одном жалованье, я – кто знает, может быть, даже и не подумал расстраивать свадьбу, уступил бы ему
Маню, ну взгрустнул бы немного – и только; в том-то и был весь вопрос, что с точки зрения житейской мудрости, это я сам в душе сознавал, Муходавлев был несравненно лучший жених для Мани, чем я. Я видел предпочтение, которое отдавали ему родители Мани, да и всякий бы на их месте, и вот это-то меня главным образом и выводило из себя и заставляло приходить в исступление.
На другой день ровно в 12 часов я уже стоял со своим лихачем на углу улицы, где жила Маня. Мне не пришлось долго ждать. Вот отворилась знакомая калитка, и показалась стройная фигурка Мани в шубке, обшитой седым плюшем, и в такой же шапочке, сдвинутой слегка набекрень. Она шла торопливо по замерзлому тротуару, оглядываясь во все стороны. Увидев меня, она прибавила шагу и, вся запыхавшись почти, подбежала ко мне.
– Вы давно меня ждете? – спросила она, ласково пожимая мою руку. – Я думаю, замерзли?
– Ничего. Садитесь скорей, и едемте.
Я посадил ее в сани, вскочил рядом и слегка обнял ее за талию.
Меньше чем в полчаса лихой рысак домчал нас до дома, где жили Красенские. Всю дорогу мы молчали, оставляя всякие объяснения до приезда к сестре Мани. Там нам никто не мог помешать. Сам Красенский был до 4 часов на службе, а жена его – сестра Мани, тотчас же заметив, что она лишняя, под каким-то предлогом куда-то ушла, оставив нас таким образом вдвоем одних в квартире.
– Мария Николаевна, – решительно начал я, когда мы остались одни, – выбирайте из нас двоих – меня или этого осла Муходавлева.
Она молчала.
– Мария Николаевна, неужели вы колеблетесь? Ведь если вы меня, может быть, не любите так, как бы следовало любить жениха, то Блоходавлева этого и подавно; ведь мало того, что он стар, глуп и урод, он к тому же и зол, вы погубите себя, выйдя замуж за такого идола.. Боже мой, неужели вас прельщает его богатство, но ведь и у меня же есть свой капитал, да наконец, если я женюсь, я тотчас же поступлю на должность.. что же вы молчите? Что вас удерживает?
– Боязнь.
– Чего?
– Я скажу вам откровенно, я боюсь, что теперешнее ваше решение – минутная вспышка, каприз, своего рода упрямство.. подумайте, женитьба не шутка, к тому же вы знаете, что нам, может быть, придется сильно нуждаться, я не за себя боюсь, я с детства, кроме нужды, ничего не видела, а вы избалованы жизнью, привыкли жить широко.
Вынесете ли вы, не будете ли вы раскаиваться после и меня же упрекать, что я связала вас, испортила вашу жизнь?
– Скажите проще, – язвительно отвечал я, – что вам очень нравится дом г-на Клоподавлева, в таком случае прощайте, не поминайте лихом. Желаю вам всякого счастья.
Я повернулся и хотел идти. Маня встала и удержала меня за руку.
– И вам не стыдно, – воскликнула она, и слезы заблестели на ее глазах, – вам не стыдно говорить так, неужели вы меня не знаете, что можете думать, будто я такая корыстолюбивая? – Она заплакала.
– Маня, ангел, прости, но ты видишь, как я страдаю, пойми, что я жить без тебя не могу, что если ты откажешь мне, то я, как Филипп (Филипп был наш знакомый, о котором я скажу в свое время), или сопьюсь, или размозжу себе череп.
Она вздрогнула и, слегка побледнев, зажала мне рукою рот.
– Не говори так, даже слушать страшно, хорошо – я согласна, но помни, Федя, если тобою руководит не одна только любовь ко мне, а еще какое-нибудь постороннее чувство, ты губишь и себя, и меня. Если ты когда-нибудь будешь обижать или попрекать меня – это будет подло, и тебя Бог накажет.
Вместо ответа я страстно обнял ее и принялся осыпать горячими поцелуями ее зардевшееся личико.
– Ну а как же Муходавлев, – спросил я, когда мы снова уселись с нею на диван, – хочешь, я поговорю с ним?
– Зачем тебе, – гордо подняла она свою хорошенькую головку, – раз я дала тебе согласие, я сумею сама отказать ему, а также и отцу с матерью сумею что сказать. Ты только люби меня, помни, что, если ты когда-нибудь изменишь мне – я умру. Знай это.
При этих словах она вдруг как-то вся затуманилась и побледнела.
– Полно, глупая, какие мысли, – поспешил я рассеять набежавшее облачко, – никогда этого не будет.
– Дай Бог.
В эту минуту вернулась Любовь Николаевна. Мы тотчас же сообщили ей о нашем решении. Она ласково засмеялась.
– Я так и думала, что этим кончится, признаться, мне никогда не верилось, чтобы ты, Маня, стала мадам Муходавлева, – сказала она, крепко целуя сестру, – да и какой он муж, я бы за него, будь он хоть весь из золота, ни за что бы не пошла.
Весь этот день я был неизъяснимо счастлив. Как предыдущую ночь я не мог заснуть от волнения и беспокойства, так теперь я долго не мог заснуть от радости. Но в разгаре самых приятных дум о своей будущей жизни, вдруг неожиданно, Бог весть откуда, налетела на меня дикая мысль; во мне вдруг шевельнулось не то сожаление, не то раскаяние, не то какой-то страх перед будущим.
«Уж не отступиться ли мне, пусть выходит себе за своего Муходавлева, а мне и так хорошо», – мелькнула у меня мысль, и одновременно с этим мне стало вдруг словно бы досадно на Маню за то, что она так скоро согласилась на мое предложение. Обрадовалась, подумал я, хочется замуж выскочить, за кого бы ни было, лишь бы в девах не остаться.
Но в эту минуту я сам устыдился своих мыслей. В глазах моих как живая стала Маня, такою, какой была она сегодня утром, и в душу мне заглянули ее чистые, добрые, прекрасные глаза.
– Милая, дорогая, – шепнул я про себя, – прости меня, мой ангел. – На этом я заснул.
Впрочем, желание гоголевского жениха выпрыгнуть в окно преследовало меня вплоть до той минуты, когда священник в последний раз благословил нас, поздравил с совершением бракосочетания и я понял, что уже связан навеки и никакое окно не выручит. Странное дело, но я отлично помню, в первый раз мысль, что только смертью одного из нас другой может купить себе свободу, пришла мне именно в эту минуту, в минуту, когда я, по-видимому, был на верху блаженства, достигнув своего желания, и, как казалось всем и мне самому, безумно обожал свою жену.
Сердце человеческое – полно противоречий, и кто может проследить или объяснить все его изгибы.
Было довольно поздно, когда на другой день, проведя с
Маней у Красенских предыдущий, я довез ее до ее дома в
Чекушах. Сначала у нас был план, что я тотчас же вместе с нею войду в квартиру и буду просить ее руки, но потом она почему-то раздумала и нашла лучшим, если я приеду завтра утром. Мне кажется, что в этом решении ею руководило желание объясниться сначала с Муходавлевым, которого она рассчитывала встретить у себя с глазу на глаз.
Предположения ее сбылись: не успела она войти в переднюю, как услыхала уже его монотонный, гнусливый голос.
Увидя Маню, Муходавлев как-то особенно подозрительно и неприязненно глянул на нее, но тотчас же поспешил слащаво улыбнуться и, слегка поднявшись в кресле, воскликнул:
– А вот и наша беглянка, а я думал, что она совсем пропала.
Маня, поздоровавшись с отцом и матерью, холодно протянула ему руку.
– Я, Марья Николаевна, по пословице: «Долг платежом красен», сегодня вам свой старый должок приехал отдать, –
рассыпался между тем Муходавлев.
– Какой должок? – удивилась Маня.
– А помните вашу игрушку, араба под шатром, что вы мне подарили, а теперь я вам взамен другую привез, только уж не своей работы, так как я не такой искусник, как вы, извольте получить. – Говоря так, он протянул ей футлярчик, на бархатной подушечке которого сверкал и блестел изящный браслет с брильянтовым якорем посередине.
Вещь была дорога, и, если бы не желание сокрушить препятствие, возникшее в моем лице, Муходавлев никогда бы не решился на такой подарок. Он думал, должно быть, ослепить Маню, но та даже не взглянула на браслет и, отодвинув его от себя, холодно произнесла:
– Напрасно беспокоились, я не могу принять такой дорогой подарок от постороннего лица.
– Как постороннего лица, – шутливо изумленным голосом воскликнул Муходавлев, – давно ли жених считается лицом посторонним?
– Я сама знаю, что жених не постороннее лицо, и охотно приму от него какой угодно подарок, доказательством того брошка, надетая на мне, эту брошку я получила от своего жениха, Федора Федоровича Чуева, и хотя она не такая дорогая, как ваш браслет, но зато памятная, эта брошка его покойной матери, а главное, получена она от человека, которого я люблю и буду любить.
– Николай Петрович! Розалия Эдуардовна! – воскликнул Муходавлев, задыхаясь от злости. – Что же это такое?
ведь вы мне только что сказали. . ведь между нами все решено.. даже день назначен. . как же это.. хоть вы повлияйте, это сумасбродство.
– Маня, – строго начал Николай Петрович, – выкинь дурь из головы, помни, Федор Федорович тебе не жених.
– Почему?
– Долго объяснять. Должна бы и сама понимать, он тебе не пара ни по воспитанию, ни по характеру, ты с ним пропадешь.
– Да почему же, наконец, я не понимаю.
– Очень просто почему, у него такой характер, что он через месяц бросит тебя, будь уверена. Слушайся моего совета, выходи замуж за Алексея Александровича, он человек серьезный, солидный, будет беречь тебя, на других не променяет.
Розалия Эдуардовна ничего не говорила, но по выражению ее лица Маня видела, как страстно хотелось ей, чтобы она переменила свое решение.
– Да и нас, стариков, утешишь, – продолжал Господинцев, – я уже стар, руки от работы отказываются, того и гляди, что не сегодня-завтра придется совсем всякую службу бросить, куда мы тогда пойдем со старухой, подумай-ка об этом, на улицу только и остается, а уж Алексей бы Александрович нас не выдал бы, как-никак приютил бы, правду я говорю, Алексей Александрович?
– Об этом и речи не может быть, – поспешил подтвердить Муходавлев, – как только свадьбу справим, вы, Николай Петрович, тотчас же в мой дом переезжайте, я вам квартирку дам, а вы мне домом управлять поможете, вот и будем поживать друг другу на пользу!
– Слышишь, Маня, пожалей стариков, – голос его дрогнул.
Маня стояла, потупив голову, смущенная и растерянная, она никак не ожидала подобного оборота, она ожидала бури и храбро готовилась выдержать ее, но случилось нечто другое: вместо того, чтобы сердиться и требовать, отец ее умолял кротко и ласково пожалеть его старость. «В самом деле, – мелькнуло в ее уме, – старик уже стар (Николаю Петровичу было 68 лет), случись что, куда он денется?» Она заколебалась, и. . кто знает, чем бы это все кончилось, если бы не сам Муходавлев, сразу и окончательно все испортивший. Видя, что Маня колеблется, он быстро шагнул к ней, взял ее за руку, обнял и, поцеловав в самые губы, торжествующе воскликнул:
– Что тут долго думать, Мария Николаевна согласна, благословляйте-ка нас, папаша, а тому вертуну, если придет, мы теперь сумеем показать от ворот поворот.
Это нахальство вывело из себя Маню, сильным движением оттолкнула она его от себя и задыхающимся голосом воскликнула:
– Подите прочь, как вы смеете так обращаться со мною, после этого я вам прямо скажу, что вы нахал, и больше ничего, а вы, папаша, – обратилась она к отцу, – что хотите про меня думайте, пусть я буду, по-вашему, эгоистка и капризная, и злая, и бессердечная, словом, хуже всех, но я ни за какие блага не откажусь от Феди. Так вы и знайте. –
Сказав это, она быстро вышла из комнаты и, хлопнув дверью, заперлась у себя в спальне.
Муходавлев несколько минут стоял в нерешительности, переминаясь с ноги на ногу, и, сказав наконец: «Я еще зайду завтра утром», – ушел. По уходе Муходавлева, Николай Петрович более часу ходил взад и вперед по горенке и наконец постучался к Мане.
– Слушай, Маня, – начал он, усаживаясь против нее на стул, – ты окончательно решила отказать Муходавлеву и выйти за Чуева?
– Окончательно.
– Гм. . а если я тебе не позволю?
– Простите, папа, но я все-таки выйду замуж за Федю, а не за другого, мне уже 22 года, и я давно совершеннолетняя.
– Гм.. это я знаю. А как ты думаешь, отцовское благословение ничего не стоит, а?
Вместо ответа Маня, в свою очередь, спросила:
– Отчего, папаша, вы так вооружены против Феди и не хотите согласиться на наш брак?
– Потому, что твой Федя вертопрах, кутила, избалованный, у него на дню семь пятниц. . сегодня любит, завтра разлюбит, а послезавтра или совсем выгонит, или сам уйдет.
– Неправда, он вовсе не такой, каким вы его рисуете, он прежде всего добрый и честный, а что если он теперь кутит, так ему другого и делать нечего, а когда он женится, вы все его не узнаете.
– Уж не ты ли его исправишь? – усмехнулся Господинцев. – Эх, дочка, не по плечу ношу берешь, поверь моей опытности, кто раз с пути сбился, тому дороги не найти, все равно что Филипп, уж чего, чего с ним ни делали, а как пошел, так и кончил.
– Вот для того, чтобы с Федей не случилось того же, что с Филиппом, я главным образом и выхожу за него замуж, я сама боюсь, если он будет продолжать вести такую жизнь, как ведет, – он погибнет.
– А теперь ты пропадешь. Ну да, видно, тебя не урезонишь, делай как знаешь, помогай тебе Бог, а только еще раз скажу, лучше бы было, если бы ты за Алексея Александровича пошла, поверь отцу – худого не посоветует. – Он встал и собрался уйти, но медленно, ожидая ответа. Маня, молча, отрицательно покачала головой. Старик с минуту постоял перед нею, вздохнул и, понурясь, вышел из комнаты.
– Ступай, мать, может, ты ее урезонишь, – шепнул он жене. Та покорно пошла к Мане, но вместо того, чтобы уговаривать ее, порывисто обняла ее голову и зарыдала.
– Что вы, мамаша, точно покойницу меня оплакиваете,
– с досадой воскликнула Маня, отводя ее руки от своей головы, – неужели вы думаете, я так уж глупа, что не могу сама понимать, что для меня лучше, что хуже.
– Маня, не сердись, – ласково прошептала старуха, – но чует мое сердце, ты будешь несчастлива.
Маня вспыхнула, хотела ответить, но удержалась.
Всю ночь не спала Маня и все думала. Потом она мне сама созналась, что с того самого момента, как я в объяснении с нею напомнил ей о Филиппе, мысль о нем не покидала ее. Какой-то внутренний голос говорил ей, что, если она теперь отвернется от меня, со мною случится то же, что и с ним.
VIII
«Филипп», как попросту звали его все знакомые во дни его падения, или Филипп Ардальонович Щегро-Заренский, как величался он в те счастливые для себя дни, когда на стройной, гибкой фигуре его красовался изящный мундир одного из блестящих полков, происходил из аристократической семьи.
Отец его был действительный тайный советник, сенатор, занимал несколько почетных и видных должностей, дававших ему огромное содержание. Он умер в тот самый год, когда Филипп, окончив курс в одном из высших военно-учебных заведений, вышел в кавалерию. После смерти отца Филипп получил большое состояние, и так как старик при жизни держал его довольно строго, скупо выдавая ему на самое необходимое, то он, как вырвавшийся на волю школьник, пустился в отчаянный кутеж. Он был очень красив собой, высокого роста, стройный, с большими черными глазами и слегка вьющимися волосами, цвета воронова крыла, смуглый, с румянцем во всю щеку и маленькими усиками стрелкой. Женщины были от него без ума, и женщины же его погубили.
На третий же год по выходе в полк Филипп случайно встретился в Павловске, на музыке, с одной особой. Это была жена какого-то военного доктора, недавно переведенного в Петербург, и, как говорят, замечательно красивая собою, но особа с наклонностями акулы. Филипп по уши влюбился в эту особу, та отвечала ему тем же. Почти год продолжалась их связь и велась так скрытно, что никто и не подозревал и меньше всех муж, – Филипп был на верху блаженства. Однажды офицеры играли в карты в зале своего полкового клуба. Филипп был тут же. Вдруг в залу входит муж его пассии. Надо заметить, что это был мужчина колоссального роста и из себя богатырь. Увидев между играющими Филиппа, он поспешно подошел к нему.
– Филипп Ардальонович, – начал он своим громким, раскатистым басом, – мне бы надо вас кое о чем спросить.
– К вашим услугам, – поднялся Филипп, инстинктивно догадываясь, что доктор пришел неспроста. Товарищи офицеры с любопытством окружили их.
– Я пришел спросить вас, как честного, порядочного офицера, – продолжал доктор тем же ровным и спокойным басом, – в связи вы с моей женою или нет?
– На это я вам не могу ответить, – покачал головой.
Филипп.
– Почему?
– Потому, что на такие вопросы не отвечают, если же вы считаете себя оскорбленным, я к вашим услугам.
– Так, стало быть, вы не желаете отвечать?
– Нет.
– Первый раз спрашиваю: ответите вы на мой вопрос или нет?
Филипп покачал головой.
– Второй раз?!
Тот же жест со стороны Филиппа.
– Третий и последний. В таком случае, вот же тебе, блудливый мальчишка! – и, раньше чем кто успел опомниться, в зале раздался хлест звонкой пощечины. Удар был так силен, что Филипп едва устоял, толкнувшись спиной и головой о противоположную стену. Он так растерялся, что пришел в себя только после того, как доктор вышел из комнаты.
На другой же день Филипп должен был подать об увольнении из полка, он послал к доктору вызов, но тот отвечал: я не идиот, чтобы подставлять свой лоб под пулю
– и не пошел.
Филипп покинул Петербург. Его любовница, жена доктора, последовала за ним, доктор тем временем затеял бракоразводный процесс против своей жены. Вот тут-то и сказались ее волчьи инстинкты. Сознавая, что муж наверно выиграет процесс и таким образом она останется ни с чем, хитрая женщина начала высасывать из Филиппа все, что можно. Она увезла его за границу и целых два года как присосавшаяся пиявка не отставала от него, пока он наконец, измученный нравственно, почти без гроша денег бежал от нее, оставив ее в Париже.
На беду, у него случилась какая-то история, довольно грязная, дошедшая до сведения русского консула. Из аристократических родственников и знакомых Филиппа никто уже не пожелал принимать его у себя; с год побился бедняга, тщетно стараясь пристроиться к какому-нибудь делу, наконец не выдержал, махнул на все рукой и запил.
Я знавал его, когда он еще юнкером изредка приезжал к моей бабушке, потом я несколько раз видел его офицером, в последний раз мы с ним встретились после выхода его из полка, а затем года три мы не встречались, я даже не знал, где он пропадает, да, признаться, и не думал о нем.
Однажды мы шли с Маней по улице, это было во время нашего первого знакомства с нею, я был еще юнкером, вдруг, шагах в двадцати от нас, с треском распахнулась дверь какой-то портерной, и из нее на тротуар стремительно вылетел, очевидно вытолкнутый, субъект в поношенном летнем пальто, дело было зимой, помнится на
Рождестве, в стоптанных сапожонках, из которых выглядывали пальцы босой ноги, и в смятом в блин котелке. С
трудом сохранив равновесие, субъект громко и энергически выругался и хотел идти далее, как вдруг взор его мутных, покрасневших и слезящихся глаз остановился на мне. С минуту он пристально разглядывал меня, причем мне его лицо показалось тоже как будто знакомым, и вдруг всплеснул руками. Его распухшее, покрытое синяками и преждевременными морщинами лицо осклабилось в широкую улыбку.
– A mon petit ange27, – закричал он, – какими судьбами?
– Филипп Ардальонович, – воскликнул я, – вас ли я вижу?
– Я, я сам лично, а что, разве очень изменился, – он криво усмехнулся. – Кстати, так как мне с вами, собственно, не о чем говорить, то вот что, в знак признательности судьбе за ниспосланное удовольствие встречи со старым другом, не одолжите ли вы мне взаймы, без отдачи, разумеется, пару рубликов, а то, признаюсь, я сегодня еще и не ел, хотя уже выпил? Был гривенник, вчера на дровяном дворе дрова колол, четвертачок дали, но что четвертачок для человека, спустившего сотню тысяч.
Я поспешил вынуть портмоне. У меня в ту минуту как раз были две бумажки, рублевая и десятирублевая. Посовестившись предложить ему рубль, я подал ему десятирублевку.
27 мой ангелочек (фр.).
– А помельче нет? – усмехнулся он тою же не то страдающей, не то саркастической болезненной улыбкой, – у меня ведь сдачи не водится.
– Да и не надо, берите все, – поспешил сказать я.
– Ого, вы щедры, дядя мой на прошлой неделе всего только двугривенный дал, да еще обещал из Петербурга через полицию выслать, если я еще раз попадусь к нему на глаза, вы не в пример щедрее его, но я вам скажу словами
Менелая: «Ты, Агамемнон, щедр, но я великодушен», а посему берите-ка назад вашу красницу, а дайте-ка мне вот ту желтушку, что у вас в кошельке осталась, я ведь все равно пропью, что рубль, что сотню.
Сказав это, он взял из рук моих портмоне, собственноручно вложил туда десятирублевку, а рублевку, вынув, спрятал в карман, а портмоне передал обратно мне.
– C'est-ca, – сказал он, – теперь au revoir, mille pardon28.
Он слегка поднял свой раздробленный котелок, поклонился и быстро зашагал прочь, насвистывая какую-то арию.
– Кто это? – спросила меня Маня, все время с каким-то ужасом рассматривая Филиппа. Я рассказал ей все, что знал о нем.
– Бедный, бедный, – прошептала она, и я заметил на ее глазах блеснувшую слезинку, – неужели его нельзя спасти?
– Поздно, – пожал я плечами.
– А я думаю, не поздно, если бы нашелся человек, который бы искренно его полюбил и взялся за это со всею любовью, – я уверена, он бы поправился. Он, кажется, 28 До свидания, тысяча извинений (фр.).
очень добрый, и у него не все еще заглохло, я это заметила по его глазам.
Когда я вышел из полка и поселился в меблированных комнатах няни, Филипп как-то разыскал меня и пришел.
Няня накормила его, и с тех пор он иногда приходил к нам.
Придет, бывало, по черной лестнице в кухню, скромно сядет на табуретке у окна и терпеливо ждет, пока няня моя не соберет ему чего-нибудь поесть. Я несколько раз звал его в свою комнату, но он упорно отказывался. В противоположность всем пропойцам, которые, как известно, весьма болтливы и любят отпускать плоские шутки, Филипп был очень сдержан и молчалив. Когда кто из посторонних выходил в кухню, он конфузился, вставал и делал попытку уйти. Я знаю, Мане ужасно хотелось заговорить с ним как-нибудь, она раза два покушалась на это, нарочно под каким-либо предлогом выходя на кухню, когда приходил Филипп, но он, очевидно, избегал всяких разговоров.
Бедняга, как он боялся проявления всякого участия к его особе.
– Лучше пусть меня побьют, чем жалеют, – сказал он мне как-то, – нет обиды горшей, как это проклятое, так называемое человеческое сочувствие.
Однажды, это было незадолго до нашего выезда из квартиры, Филипп пришел к нам, когда никого из нас не было дома. Няня ушла в церковь ко всенощной, Красенские были в гостях, я тоже куда-то исчез, в квартире оставались одна Маня и кухарка, да еще кое-кто из жильцов, но тех мы за своих не считали.
Кухарка, которая терпеть не могла Филиппа, хотела уже было его вытурить, обругав шатуном и шаромыжником, но, на его счастье, вышла Маня.
Видно, бедняга был уже очень голоден, что вопреки своему обычаю решился заговорить с нею и попросить позволения остаться до прихода кого-нибудь, меня или няни. Нечего и говорить, что Маня тотчас же взяла его под свое покровительство. Не знаю, как удалось ей уговорить его пойти к ним в комнаты, где она первым долгом напоила его чаем, накормила остатками обеда, послала кухарку ему за водкой и за булками, словом, приняла его как самого дорогого гостя.
Возвратясь домой, я, не зная о присутствии Филиппа, прошел в свою комнату, но не успел я как следует расположиться, как до слуха моего долетел тихий говор и сдерживаемые рыдания. Я прислушался, кто-то, очевидно что-то рассказывая, плакал.
«Кто бы это мог быть у Мани?» – подумал я и уже хотел идти спросить кухарку, как в коридоре раздались тяжелые шаги, я выглянул в дверь и увидел Филиппа; он шел понуря голову, по щекам его текли слезы.
– Филипп Ардальонович, – воскликнул я, – это вы?
Увидев меня, он вздрогнул, постарался улыбнуться, как-то торопливо пожал мне руку и почти бегом пустился от меня прочь. Когда я вышел следом за ним в кухню, его след простыл. Я подошел к Мане. Она сидела боком на диване, уткнувшись головой в вышитую подушечку, и плакала.
– Что это тут у вас, – спросил я, – вы плачете, у того оболтуса вся рожа мокрая, какое такое горе приключилось?
– Нехорошо, Федор Федорович, смеяться над такими вещами, грех, – серьезным голосом сказала Маня, – не смеяться, а жалеть надо, если бы вы знали, как несчастлив этот человек.
– Несчастлив – повесься, а то с моста в Неву, вот и несчастью конец.
Маня с упреком взглянула на меня и укоризненно покачала головою.
– Зачем вы хотите казаться злее, чем вы есть, я знаю, что вы сами его жалеете не меньше меня.
– Значит, меньше, если не хнычу над ним, – буркнул я и пошел в свою комнату, оставив Маню одну.
Этот приход Филиппа был последний. Месяца полтора спустя он в припадке белой горячки перерезал, себе горло бритвой, бритва была тупая, вся иззубренная, и бедняга, раньше чем умереть, долго промучался. Он умер в Обуховской больнице, всеми брошенный и забытый. Впрочем, как только он умер, дядя его, узнав о его смерти, прислал в больницу своего секретаря, который и распоряжался похоронами. Похороны были вполне приличные, даже, можно сказать, пышные: четверка лошадей, дроги под балдахином, певчие, словом, все как подобает при погребении тела одного из представителей рода Щегро-Заренских. Покойнику простили то, что не прощали живому, и в знак полного примирения с ним на его могиле весною дядя поставил дорогой мраморный памятник.
Похороны Филиппа совпали как раз со днем переезда
Красенских от нас, и мы с Маней ходили смотреть, как его везли на Волковское кладбище.
Когда пышный катафалк, покачиваясь, медленно проезжал мимо нас, Маня не выдержала и заплакала.
– Бедный, бедный, – прошептала она, – как это ужасно так погибнуть за ничто.
– Кто знает, может, и меня ждет то же, – угрюмо заметил я.
– Зачем так говорить, лучше не делать того, что доводит до такого конца, – горячо сказала она, – нет-нет, вы не должны даже и думать об этом.
Если Маня так горячо сочувствовала человеку, о котором она только слышала, видеть же видела всего несколько раз, то мудрено ли, что она относилась так сочувственно ко мне, с которым познакомилась еще в детстве, а потом подружилась и до мельчайших подробностей знала мою жизнь. Удивительно ли, что она искренно печалилась, видя меня уже вступающим на ту же дорогу, по которой прошел
Филипп. Спасти меня, по возможности вернуть мне все, что я потерял, поставить меня снова на верный путь – вот та идея, которая руководила ею, когда она согласилась променять спокойное, безбедное и вполне обеспеченное положение жены Муходавлева на шаткую, неверную, полную неожиданностей, горестей и разочарований жизнь со мною.
Я тогда не понимал, какую жертву приносит она, становясь моей женой, не понимал и не ценил, а скорее, был склонен думать, что я ей делаю честь, представляю для нее хорошую партию.
Два месяца спустя, а именно одиннадцатого февраля, совершилась наконец наша свадьба. Так как мне было очень далеко каждый день ездить в Чекуши, то Маня переехала к Красенским и жила у них. Я, конечно, целые дни пропадал у нее – это было самое счастливое время. Оба мы были молоды, достаточно еще наивны, а потому и немудрено, что строили несбыточные планы и воздушные замки, разлетевшиеся потом как дым. Одно только смущало счастливое настроение моего духа – это забота о своем капитале, отданном в частные руки. До сих пор я мало о нем думал, благо проценты платили мне исправно, но теперь, собираясь жениться, я захотел как-нибудь упрочить его и тут сразу натолкнулся на многое, ясно доказавшее мне, что едва ли когда капитал этот вернется в мои руки, и даже аккуратная уплата процентов подвергалась большому сомнению. Я крепко задумался и, успокоившись пословицей:
«Никто как Бог, Бог не выдаст – свинья не съест», – махнул рукой и, довольный тем, что мне удалось выцарапать хоть часть капитала – тысячу с небольшим рублей, стал деятельно готовиться к свадьбе.
Прежде всего мы сдали свои меблированные комнаты какой-то барыне, а сами с няней наняли небольшую квартирку в три комнаты на Пушкинской улице, заново и довольно мило омеблировали ее. Нечего и говорить, что все покупки я делал с Маней и под ее руководством, няня ни во что не вмешивалась. Она доживала свои последние дни; едва-едва передвигая ноги, бродила она по нашей квартирке и все вздыхала. Бог весть о чем думала она тогда, может быть, о том, как далека теперешняя действительность от ее мечтаний над моей детской кроваткой, когда она не могла иначе представить меня как в пышной квартире, окруженного богатыми знатными гостями, празднующего свою пышную свадьбу с какой-нибудь писаной красавицей из богатой и важной семьи. А может быть, чувствуя приближение смерти, она мысленно прощалась со всем ее окружавшим или вспоминала свою долгую, с многими горестями, в вечном труде и в постоянных лишениях проведенную жизнь. Бог ее знает, помню только, что она, по природе молчаливая и серьезная, теперь особенно как-то сосредоточилась вся, точно в схиму постриглась. Большою неблагодарностью было бы с моей стороны не уделить несколько слов о ней в этом моем правдивом очерке. Теперь это тем более уместно, что со свадьбой моей кончилась ее роль и она, как бы передав меня с рук на руки Мане, вскоре после того умерла. В моей жизни эта женщина играла большую роль, и никого в жизни не любил я так сильно, как ее, и вместе с тем никому не причинил столько огорчений, зла и обид, как этой безропотной, обожавшей меня всеми силами своей души старушке.
Анна Ивановна, так звали мою няню, поступила к моей матери, когда та еще была в девицах и жила с бабушкой.
Выйдя замуж за моего отца, мамаша взяла ее с собой.
Впрочем, мать моя недолго прожила с моим отцом, выведенная наконец из себя его постоянными изменами, она покинула его и переехала снова к бабушке. Я в тот год только что родился, а сестре моей было пять лет, у нее была своя няня, нанятая отцом, которую мать моя не особенно любила, а потому, когда я родился, мамаша моя поручила меня Анне Ивановне, сделавшейся таким образом из ее камеристки моей няней.
Три года спустя мать моя скончалась от чахотки, и я остался на руках бабушки моей, так как отец в то время был за границей, а когда вернулся, скоро снова женился. Тем временем умерла моя сестра, и я остался один.
Умирая, мать моя взяла с няни клятву беречь и любить меня как родного.
– Помни, Аннушка, я сдаю его тебе с рук на руки, береги его, не позволяй бабушке очень его баловать, научи его, чтобы он был такой же честный, добрый и религиозный, как ты, словом, я на тебя одну надеюсь.
Потом она позвала мою бабушку, а ее тетку (мать моя была сирота, и бабушка моя, сестра ее отца, воспитывала ее) и взяла с нее честное благородное слово, что она ни под каким видом, что бы ни случилось, пока я жив, не откажет моей няне, и, когда бабушка моя дала ей в этом слово, мать моя облегченно вздохнула и сказала: «Ну, теперь мне легче умереть, Федя не один, у него остается Аннушка».
Няня моя верно сдержала слово, хотя подчас ей приходилось и очень тяжело. Надо сказать, что я был чрезвычайно болезненный и почти все свое детство прохворал, и если остался жив, то единственно благодаря самоотверженному попечению и уходу за мною няни моей. Сколько долгих бессонных ночей провела она над моим изголовьем, сколько дней с неустанным рвением ухаживала за мною, с точностью машины исполняя все предписания докторов, сколько слез выплакала за это время, сколько сердечных мук вынесла – это только один Бог ведал. Доброта ее и кротость были феноменальны. Я не запомню, чтобы она с кем-нибудь ссорилась или даже отвечала за обиду обидой.
У нее была какая-то страсть помогать всем, кому только можно, и настолько, насколько хватало ее сил.
Так, однажды, она всю зиму проходила в осенней тальме29, отдав свою беличью шубку заложить на похороны ребенка в одном бедном семействе, даже очень мало знакомом ей. Другой раз она отдала почти все свое белье и все лучшие платья жене столяра, упавшего в пьяном виде с лестницы и разбившего себе голову. Столяр умер, а няня целых два месяца не только кормила столяриху, отдавая ей
29 Тальма – женская верхняя накидка, вид пелерины.
свою долю и питаясь одним чаем с черным хлебом, но и все свое двухмесячное жалованье отдала ей же. Впрочем, жалованья своего она почти не видела, все оно выклянчивалось у нее ее дальними родственниками и разными попрошайками. У няни моей был свой, довольно оригинальный point d'honneur30: служа у нас, она ни от кого постороннего не брала денег. Этого правила она придерживалась еще в бытность горничной у моей матери. Сунет ли ей гость, которому она подаст пальто, монету, предложит ли, по заведенному обычаю, содержательница модного магазина, которой она привезет деньги, пару рублей, она учтиво поблагодарит, но откажется взять. Один случай особенно рельефно выказал ее бескорыстие и преданность нашему семейству. Семь лет спустя после смерти матери меня, десятилетним ребенком, по желанию отца моего, взяла к себе на воспитание в Москву его старшая дочь от первого брака, бывшая замужем за одним из представителей московского старинного, богатого дворянского рода.
Сестра моя была страшно горда и властолюбива. В доме ее все ходили по струнке и никто не смел ни в чем ей противоречить. На другой же год пребывания моего в Москве я опасно занемог, настолько сильно, что лучшие московские доктора потеряли надежду спасти меня и единогласно приговорили к смерти. С отчаяния ухватились за няню, не раз уже выхаживавшую меня в самых опасных случаях. На беду, она сама в то время была сильно больна воспалением, и хотя болезнь уже проходила, но доктор прямо под страхом неизбежной смерти запретил ей, по крайней мере ме-
30 принцип, правило (фр.).
сяц, выходить из комнаты. Няня в то время продолжала жить в Петербурге в качестве горничной моей бабушки.
Узнав, что ее зовут спасать меня, ее ненаглядное сокровище, няня, вопреки запрету докторов, еле живая, помчалась в Москву и, прибыв туда, три месяца не отходила от моей постели. Все окружавшие меня, начиная с самих докторов, были поражены ее стойкостью, выносливостью и самоотверженным рвением, с которыми она день и ночь ухаживала за мною, забывая о сне и пище. Все время, пока опасность была сильна, она не раздевалась и не ложилась в постель, только когда силы окончательно оставляли ее, она, сидя подле меня, опускала свою голову на мои подушки и на короткое время забывалась чутким, тревожным сном. Стоило было мне чуть застонать во сне или пошевельнуться, она уже просыпалась, подымала голову и устремляла на меня тревожный взгляд, как бы спрашивая:
– Не надо ли чего, чем услужить, в чем-либо помочь?
Просыпаясь иногда ночью, я улавливал на себе ее пристальный тоскливый взгляд, и сколько безграничной любви, сколько страху за меня было в этих серых, выцветших от слез и старости глазах. Скажи ей кто-нибудь:
«Умри за него», я уверен, она бы ни минуты не поколебалась и охотно купила бы своей жизнью – мою.
Даже сама смерть не могла победить такого самоотверженного служения, и я стал видимо поправляться. Надо было видеть тот восторг, какой изобразился на морщинистом лице моей няни, когда в одно утро, после долгого и тщательного осмотра, доктор объявил, что я вне опасности.
По уходе доктора, она как безумная схватила меня, прижала к своему сердцу и начала горячо целовать, обливаясь радостными слезами и подбирая самые нежные имена. Эту ночь она особенно долго и горячо молилась, и я до сих пор помню, как стояла она, освещенная лампадой, и как трепетали ее старческие, бледные сухие губы, вполголоса произносившие слова молитвы.
Когда через два месяца после этого я окончательно поправился и ей можно было возвратиться назад в Петербург, родственница моя предложила ей за прожитые у нас полгода сто рублей награды – сиделке пришлось бы заплатить вдвое; но, несмотря на то, что няня тогда очень нуждалась в деньгах, она отказалась наотрез взять эти сто рублей, объяснив свой отказ получением за все это время жалованья от моей бабушки из Петербурга. В первую минуту родственница моя страшно рассердилась, предположив в этом отказе какую-нибудь заднюю мысль, но когда она наконец убедилась в искренности ее поступка, она, несмотря на свою феноменальную гордость, крепко обняла няню и, поцеловав, сказала:
– Аннушка, я и не думала, что на свете водятся такие, как ты, если ты не хочешь принять деньги, то прими мое искреннее спасибо и эту безделицу на память, пусть она служит воспоминанием тебе, что ты спасла Феде его жизнь, а ему, что он обязан этою жизнью тебе, и никому больше.
С этими словами она сняла с пальца одно из своих колец и надела на руку растроганной до слез няни. Мир праху твоему, прекрасная женщина.
Палатой Обуховской больницы, где ты умерла, всеми брошенная, забытая, одинокая, глубоко обиженная несправедливостью людской, отблагодарил я тебя за твою самоотверженную двадцатитрехлетнюю службу мне, за потерю на этой службе здоровья, за все перенесенные тобою лишения.
IX
По желанию Мани, свадьба была очень скромная. Были только самые близкие к нам люди: родители Мани, ее сестра с мужем, дядя с теткой да шафера – больше никого.
Маня была просто очаровательна в белом атласном платье «каре», с флердоранжем и фатою на слегка напудренных темно-русых волосах и с букетом на груди. Белизна ее бюста могла поспорить с белизной кружев, которыми было отделано ее платье. Кудряшки на лбу, разгоревшиеся от волнения щечки и глаза, блестевшие как два огонька из-под густых ресниц, делали ее особенно привлекательной. Она, как и всякая невеста, держала себя несколько торжественно и вместе с тем как-то не то робела, не то конфузилась, особенно когда шафера, немного подвыпив, начали подтрунивать над ней и делать шутливые намеки. Она вспыхивала до ушей, смеялась, стараясь замаскировать свое смущение, и не знала, как унять их, а они, видя ее смущение, еще больше подшучивали над ней.
Но всему есть конец.
Пришел конец и нашему свадебному вечеру, гости разъехались, и мы остались вдвоем.
Многое, случившееся гораздо позже, мною совершенно забыто; но впечатления этого вечера так врезались в моей памяти, что я помню все до самых мельчайших подробностей. Помню нашу небольшую спальню, со старинной образницей в углу, с массивным, старинным, принадлежавшим еще моей матери изящным туалетом с двумя целующимися точенными из дерева амурами на верху зеркальной рамы, столик у окна и кресло. Кресло это у окна стало впоследствии моим любимым местом, оно было такое мягкое, эластичное, в нем было так удобно сидеть полуразвалясь, заложив ногу за ногу, и мечтать с зажмуренными глазами.
В тот вечер, помню, я тоже сидел в этом кресле и молча смотрел на стоявшую перед зеркалом Маню. Она медленно, скорее машинально, вынимала шпильки из головы и распутывала хитро и затейливо взбитые парикмахером волосы. Я глядел, как все ярче и ярче разгорались ее щеки, как волновалась в темном корсаже ее пышная грудь, как то меркли, то снова разгорались ее прекрасные глаза. Я любовался изгибом ее полной, красивой шеи, белизной ее бюста и сам в то же время думал приблизительно следующее:
«Ну вот я и добился своего. Вот она стоит теперь передо мною во всей прелести своей чистой девственной красоты, мне стоит только пожелать, и упадут эти блестящие складки, и она вся отдастся мне, трепещущая от робости, тайного желания и любви». Но несмотря на то, что она в эту минуту была неизмеримо лучше всех женщин, которых я когда-либо близко знал, я с удивлением заметил в себе не только отсутствие того, что люди называют страстью, но даже во мне не было особенно сильного желания обладать ею Случись в эту минуту какое-нибудь дело, потребовавшее бы моего отсутствия, я бы ушел без особенного сожаления. Что это, размышлял я, неужели я не люблю ее,
быть этого не может, вчера еще, сидя с нею вечером на диване у Красенских и целуя ее, я замирал от сладостной мысли – придет минута, и она всецело отдастся мне, вся на полную мою волю, а теперь? И я тщетно старался додуматься до причины моего странного охлаждения, какой-то даже чуть ли не неприязненности.
Маня, кажется, заметила мое душевное состояние. Она отвернулась от зеркала и пристальным пытливым взглядом, казалось, хотела проникнуть в самые сокровенные моей души. Видимо, она прочла в моих глазах что-то особенное, потому что личико ее вдруг побледнело и какая-то грустная тень скользнула по нему, тронув углы губ и отразившись в померкших глазах.
– Федя, ты, кажется, чем-то недоволен? Ты каешься, что женился, неужели уже так скоро!
– Нет, не каюсь, но уже, если хочешь, сознаюсь, не чувствую того, что, думал, буду чувствовать. – И я, насколько мог, насколько сам понимал, постарался передать ей то, для самого меня мало понятное ощущение, которое смущало мою душу.
Она внимательно выслушала меня, с минуту была серьезна, как бы обдумывая что-то, и наконец, грустно усмехнувшись, сказала:
– Я, кажется, поняла тебя, ты бы не чувствовал того, если бы я, не венчаясь, отдалась тебе, ты бы тогда счел это за ясное доказательство моей любви, тебе приятнее бы было обладать мною не по праву, а по капризу. Но поверь мне, что, если бы так случилось, ты бы, пожалуй, в первую минуту был бы очень и очень счастлив, но потом сам первый, если не вслух, то про себя, стал бы упрекать меня в безнравственности и легкомыслии, ты бы первый, незаметно для самого себя, перестал уважать меня и изо всего этого, кроме горя мне и досады тебе, ничего бы не вышло.
Сказав это, она отвернулась от меня, не раздеваясь, легла на постель и, задумчиво опустив головку, уронила руки на колени. Лицо ее было печально, кто знает, может, в первый раз шевельнулась у нее тогда мысль о бесполезности своей жертвы. Мне было невыразимо жаль ее. Она угадала мои мысли лучше меня самого. Действительно, сознание того, что теперь и всякую минуту могу обладать ею, что она принадлежит мне по праву, по закону, отнимало в моих глазах всю прелесть и ценность такого обладания. О, если бы она не была моя жена, с которой я только что всенародно венчался и на обладание которой я получил, так сказать, всеобщее согласие, а чужая жена, или хотя бы даже любовница, но тайком, обманом урвавшаяся от ревнивого своего обладателя, или молодая девушка, отдающаяся где-нибудь в беседке, тайно от всех, дрожа каждую минуту от страха быть открытой, застигнутой, о, какая страсть вспыхнула бы во мне, с какой горячностью обнимал бы я ее, целовал бы эти чудные, пышущие зноем губы, эту прекрасную грудь, а теперь, по исполнении всех обрядностей, все это сводилось чуть ли не к пустой формальности, имело вид какой-то обязанности. Я вспомнил изречение философа: «Брак – могила любви» и дополнил от себя: «А Исайя ликуй – вечная память над нею».
Вдруг мне почудилось, что Маня плачет. Я вскочил и подошел к ней. По ее лицу действительно текли крупные слезы, и вся она трепетала от пересиливаемых рыданий.
Мне стало невыносимо жаль ее, я обнял ее и крепко поцеловал. Она всем телом прижалась ко мне и судорожно зарыдала. Выходило довольно глупо – первая брачная ночь началась слезами.
Первые два-три месяца я ходил как в чаду, я все хотел выяснить себе самого себя, свои отношения к жене. Меня неотступно мучил вопрос, по-видимому, весьма нелепый: люблю я ее или нет, счастлив ли, что женился, или лучше бы было не жениться.
Иногда мне казалось, что люблю и счастлив, иногда наоборот, и я тщетно ломал голову над этими роковыми вопросами.
– Вот дурак, – сказали бы многие, если бы я вздумал поверить им мои тайные думы, да тут и вопросов никаких не может быть. Всякий человек, само собой, своим собственным чувством легко может определить, любит ли он или нет.
Но в том-то и «загвоздка», как говорил один мой знакомый, что те, кто думают так, сами жестоко ошибаются.
Если раз людям кажется, будто бы они сильно любят друг друга, то это потому только, что они как следует не анализируют своего чувства. Я знал одного супруга, у которого заболела жена, он метался как угорелый, мучился и день и ночь, отдавал последние гроши и лез в долги для ее лечения и твердил всем, что, если что случится с его Леночкой, он не переживет, сойдет с ума или застрелится, и я верю, он искренно думал так. Окружающие все были тронуты силой его любви, тем более удивительной и достойной всякой хвалы, что жена его как физически, так и нравственными своими качествами не особенно ее заслуживала. Один я не совсем-то верил в полную неподкупность и несокрушимость этой любви, и мне захотелось удостовериться, действительно ли он так любит свою жену или ему самому только так кажется, и он любовь смешивает с привычкой, въевшейся в его плоть и кровь за десятилетнее супружество. Я осторожно разговорился с ним и начал хитро развертывать перед ним картину его будущей жизни, на случай, если бы жена его действительно отправилась ad patres31. Я яркими красками начертал то спокойствие, которое в этом случае ожидает его, отсутствие всяких дрязг, сплетен, семейных сцен, полное господство над своим временем и над самим собою, беззаботное отношение к жизни, когда не надо будет вечно трепетать за завтрашний день, рассчитывать всякий грош, урезывать себя во всем и все же постоянно видеть, что того нет, другого нет, третьего не хватает, а деньги меж тем идут, идут как в бездну, и чем их больше, чем они как-то неожиданней и бесследней исчезают, как вода сквозь решето просачивается, не заполняя дырок, наконец, как финал картины, возможность снова жениться на хорошенькой, молоденькой девушке с приданым, жить с нею где-нибудь в собственном маленьким имении (товарищ мой был в душе помещик, и жизнь в имении была его идеал. У каждого человека, как у рыбы, есть свой червячок, надо только уметь найти, какой кому по вкусу, и насадить на крючок, а там и дело в шляпе).
Словом, я довел его своими россказнями до того, что, приди кто известить его о смерти его жены, он не только бы не пошел давиться или топиться, о чем мечтал еще час тому
31 на тот свет (лат.).
назад, а пожалуй – слаб человек – в душе подумал: «Скатертью дорога». Кума с возу – куму легче!
Потом, когда жена его выздоровела, я часто подтрунивал над ним и над его, как я выражался, «спотыкающейся любовью»! Он с негодованием отрицался от всего, называл моими выдумками, но я ясно видел, что того телячьего прыганья около жены, какое замечалось в нем до нашего разговора, не было. Очевидно, он сам заинтересовался вопросом о степени своей любви и после долгих размышлений принужден был сознаться, что она далеко не так сильна, как ему казалось прежде.
Если допустить идею признать человека действительно совершеннейшим существом, то, по-моему, главная красота или, так сказать, замысловатый фокус его нравственного механизма, самый, как говорится, «кунстштюк» и заключается именно в том, что душевные проявления его «я» не вливаются ни в какие шаблонные формы, не регулируются раз навсегда заведенными циркулярами и правилами, а подвержены всевозможным неожиданностям, принимают иногда такие обороты, бывают так неуловимо тонки, что человек иногда сам не может ни уследить за собою, ни понять себя и действует, повинуясь каким-то неведомым, но могучим факторам, скрывающимся в нем самом и им самим питаемым. Иногда мне не только казалось, что я вовсе не люблю Маню, но я даже начинал чувствовать к ней нечто подобное тому, что должен чувствовать человек к неожиданно собравшемуся к нему в дом ближнему. По какому праву вторгается она в мою жизнь, проникает, так сказать, все мое существо, стушевывает мое единоличное «я», обращая его в слагательное « мы». Какая такая сила словно бы сковала меня? и там, где прежде я думал: «Хорошо ли это будет для « меня», я теперь должен думать «для нас», причем нередко мое личное «я» приносится в жертву « нам», не « ей», а именно « нам», потому что хотя мое «я» и страдает, но как частица « мы» имеет от этой жертвы свою долю пользы. Словом, выходил какой-то сумбур, в котором я никак не мог вполне разобраться.
Впрочем, мало-помалу мои взбудораженные чувства и мысли начали приходить не то что в порядок, а в какое-то особенное спокойствие. На помощь не дававшейся, как зачарованный клад, любви пошла ее старшая сестра, степенная и рассудительная «г-жа привычка». Жена с каждым днем становилась мне все необходимей и необходимей. Я, который еще недавно никак не мог привыкнуть к мысли жить « вдвоем», начал уже недоумевать, как бы я мог прожить « один». Когда жены не было в комнате, мне чего-то недоставало. Я как-то замечательно скоро разучился сам заваривать себе чай, думать о своем белье и одежде, об обеде и т. п. мелочах. Я понял, что несравненно удобнее, когда все это делается как-то само собой. Чай налит, сахар положен, булка придвинута – ешь и не думай. Чертовски удобно. А тут иногда придет фантазия, – встанешь, подойдешь к жене и поцелуешь ее так приятно пахнущий какими-то духами лоб или затылок. В дурную, холодную погоду не уйдешь из дому, как бывало, без зонтика и галош или в холодном пальто, надев иной раз теплую шубу, когда на дворе оттепель и градусник показывает пять-шесть градусов тепла. Все это имело свою прелесть, и я, по выражению озлобленного поэта, незаметно для себя все глубже и глубже с улыбкой раба погрязал в мягком болоте семейного счастья. Словом, я, что называется, втягивался в семейную жизнь, как втягивается характерный, строптивый башкирский степняк возить воз и неожиданно себе самому превращается из бешеного, своевольного и свободолюбивого дикаря в меланхолическую клячу-водовозку.
Впрочем, подобное втягиванье возможно при условии, чтобы жена, прежде всего, была спокойного характера, –
мало капризна (совершенно некапризных женщин нет, но и мало капризных меньше, чем голубых слонов), чтобы она была если уже не хороша, то, по крайней мере, миловидна собою, немного кокетка, чем умела бы всегда возбуждать своего сожителя, тогда только может явиться добрая фея супружеской жизни, благодетельница-привычка, которую многие в своей близорукости считают любовью. В противном случае, когда жена напоминает собою рассерженного орангутанга или катающуюся от злости по полу клетки мартышку, привычка не придет и муж за благо сделает, если как можно меньше будет сидеть дома.
К счастью, характер у Мани оказался прекрасный; несмотря на то, что я, не имея покуда никаких еще занятий, с утра до ночи почти неотлучно был дома, я за все эти полгода до поступления моего на службу в частную контору Z
ни разу, кажется, не поссорился с женою серьезно и ни разу не соскучился в ее обществе. Последнее тем более удивительно, что оба мы были молчаливого характера и по целым часам просиживали, бывало, она за работой, я за какой-нибудь книгой, молча, не проронив ни одного слова.
Впрочем, о чем было и говорить, она была враг всякого переливания из пустого в порожнее, а дел у нас или внешних неизвестных друг другу впечатлений не имелось.
О прежних моих кутежах и холостых приятелях и помину не было; забегал как-то к нам раза три-четыре Глибочка
Гейкерг, потрещал с нами два-три вечера, под конец объявил, что от меня теперь отшельником пахнет, и уже потом больше не заглядывал до тех пор, пока года через два я не встретил его в одной веселой компании и, после безобразно проведенной ночи, не привез к себе.
– Вот ты теперь, опять молодчина стал, – лепетал коснеющим языком Глибочка, – а то было совсем в какого-то сектанта обратился!
Хорошо бы было, если бы я всю жизнь оставался таким сектантом.
Из знакомых нас посещали только дядя Мани с своей женою, да сестра с мужем. Мы тоже, кроме как у них, ни у кого не бывали. Жена моя, как большинство девушек, выйдя замуж, еще больше похорошела. Лицо ее сделалось серьезное и через то выразительнее, особенно глаза.
«Мордочка поумнела», – по моему тогдашнему выражению. Вместе с этим она как-то еще больше стала походить на кошку; движения ее стали плавнее, грациознее, в них появилась та чарующая нега, замечаемая только у замужних, но очень молодых женщин, которая так прельщает всякого мужчину. У нее было одно движение, чрезвычайно мне нравившееся. Засидевшись за работой, она вдруг бросала ее, медленно подымалась со стула, протягивала перед собою руки и, слегка откинувши голову, грациозно изгибалась всем телом, в то же мгновенье по лицу ее пробегала какая-то неуловимая гримаска, она переходила на диван и садилась на него, вся как-то особенно мило съежившись и зажмуриваясь. Те же самые движения, точь-в-точь, я подмечал и у избалованных кошечек, даже выражение мордочек было похоже на выражение лица моей жены – какое-то лукаво-довольное и вместе с тем лениво-утомленное. Вот так и ждешь, что замурлычет. Иногда жена, зная, что мне нравится это движение, делала его нарочно, но тогда это не выходило так естественно, так по-кошачьи, как тогда, когда оно приходило само собой, нечаянно. Жена моя вообще всю жизнь очень заботилась о том, чтобы нравиться мне, особенно это было сильно первое время, только после случая, о котором речь впереди и который повлиял так сильно на всю нашу жизнь, она почти перестала заботиться об этом; но так как быть кокетливой было ее призвание, то она никогда, даже больная, живя в деревенской глуши, не позволяла себе ходить неряшливо и росомахой, как выражалась моя няня. К сожалению, очень мало женщин, которые бы понимали, как важно в супружеской жизни – быть немного кокеткой. Это невинное кокетство спасает иногда домашний очаг от многого. Наоборот, многие из них, кокетничающие девицами, выйдя замуж, ходят целые дни в капотах не первой свежести, худо причесанные, в стоптанных туфлях, а потом винят мужей за непостоянство и не понимают того, что если их мужья ищут в иных местах развлечений и разнообразий, то они же сами виноваты в этом.
Я знал одну такую женщину, очень недурную собой, но крайне неряшливую; я как-то не вытерпел и сказал ей, что, по моему мнению, она сама виновата в изменах своего мужа, так как совершенно не заботится о своей наружности. На это она презрительно отвечала: «Жена не содержанка, чтобы дома наряжаться и кокетничать, плох тот муж, который из-за этого может разлюбить жену».
– Стало быть, вы придерживаетесь пословицы: «Полюби нас черненькими, т. е. не мытыми, а беленькими нас всякий полюбит».
Она страшно обиделась, и с тех пор я от нее заслужил эпитет «нахал».
Жена моя была, по счастью, не такова, и это, по-моему, было одно из ее главных достоинств, за которое я ее глубоко уважал. Впрочем, всю премудрость, кокетством заставить мужа быть влюбленным в себя, она постигла не сразу, а уже года полтора спустя, когда я мог по всей справедливости назвать ее, как я и называл: «Гретхен – из кокоток». Первый год нашей свадьбы умерла моя няня, а в конце этого же года у нас родилась дочь Леля. Еще задолго до появления ее на свет, когда жена сообщила мне, что готовится быть матерью, я, как и в первые дни моего супружества, снова задумался было о своих отношениях к семье.
Я читал в книгах и слышал от многих, что будто бы ожидание ребенка составляет большую радость для отца, его гордость и чуть ли не славу, но сам этого не чувствовал, к некоторому своему смущению. Впрочем, вначале я еще утешался мыслью – нельзя любить того, чего еще нет и не существует, но, когда придет время и я увижу своего ребенка, услышу его крик, на меня сразу, как наитие свыше, снизойдет родительская любовь.
Изо всех козней и бедствий, обрушившихся на злополучную голову человека, дети чуть ли не самая ужасная.
Первые роды моей бедной жене достались очень дорого.
Были минуты, когда казалось и ей самой, и ее окружающим, что она умрет. Она невыносимо страдала, а я терял голову, не имея возможности ни отвратить, ни даже облегчить эти страдания. Меня просто приводило в ярость сознание бесцельности и бесполезности этих мук. Кому они были нужны, что искупали, какой смысл был в них? Я
скрежетал зубами и готов был разбить себе голову об стену. «За что, за что, – думал я, – мучается она, милая, кроткое, невинное существо, мучается так, как не мучаются самые закоренелые злодеи за самые ужасные преступления», – и в душе моей вместо любви, помимо моего желания, подымалось чувство глухой ненависти к единственно реальному, хотя и безвинному виновнику этих мучений, нашему будущему ребенку. Целые сутки прошли в постоянном страхе между надеждой и отчаянием. В течение этого времени не было минуты, чтобы я не ожидал: вот-вот жена моя умрет. В эти минуты я действительно, как мне казалось, обожал ее, и умри она, я бы, пожалуй, сошел с ума. Впрочем, это мне так тогда казалось, теперь, припоминая хладнокровно тогдашние моя ощущения, я уверен, что главную роль играли возбужденные нервы, нелегко видеть страдания человека, а тем более человека, нам близкого, и не иметь даже возможности чем бы то ни было ему помочь. Но, несмотря на все мое отчаяние, я не терял способности наблюдения.
В одну из тех минут, когда я, измученный нравственно и физически, не имел сил присутствовать при страданиях жены, вышел в другую комнату и бессильно опустился на первый подвернувшийся мне стул, я услышал вдруг, почти одновременно с отчаянным воплем жены, какой-то странный, незнакомый моему уху пронзительно-хриплый крик. В то же мгновенье крики и стоны жены замолкли. Я
сразу даже и не понял, что это такое случилось, мне показалось, будто жена умерла. Я бросился обратно в спальню.
Маня, бледная как полотно, лежала е закрытыми глазами; лицо ее, осунувшееся до неузнаваемости, было спокойно, только губы чуть-чуть трепетали и грудь высоко подымалась от тяжелого, прерывистого дыхания. Услыхав мои шаги, она медленно открыла глаза, взглянула на меня кротким, ласкающим взглядом и улыбнулась.
– Слава Богу, теперь все кончилось и мне легче! – чуть слышно прошептала она и затем снова закрыла глаза.
Я не знал, радоваться ли мне или нет, так как не понимал состояния своей жены. Что с нею? правда ли, что все кончено, то есть в смысле опасности, или, может быть, она уже умирает? Я устремил тревожный, пытливый взгляд на акушерку – та успокоительно заулыбалась, покачивая растрепанной, с сбившеюся набок прическою головой.
– Не беспокойтесь, все отлично, – торопливо прошептала она, – и ребенок, слава Богу, совсем здоровенький, только уж очень собою велик, оттого так и трудно было, –
добавила она, тем временем быстро завертывая в белые, пахнущие мылом пеленки что-то красное, копошащееся.
«Ах да, ребенок, – ударило мне в голову, – итак, вот он родился, твой ребенок, – понеслось вихрем в моем мозгу, –
что же ты чувствуешь к нему? Где твоя отцовская любовь?»
Я покосился на пеленки и на это «нечто», беспомощно барахтающееся в них, но увы! чувства никакого.
«Надо взглянуть, – подумал я, – взгляну и умилюсь». Я
осторожно, на цыпочках, обошел постель и заглянул через широкую спину акушерки: в пеленках копошилось что-то красное, сморщенное. Я отвернулся.
И так второй мой дебют, дебют отца новорожденного детища, – оказался неудачным. Я чувствовал себя невиноватым, не мог же я идти против своей натуры.
И вот опять начались мои нравственные мучения; я по целым часам упорно, с мучительной тоскою думал о своих чувствах к новорожденному, но сколько я ни думал, как ни прикидывал, как ни старался обмануть себя и настроить себя на другой лад и тон, я чувствовал од но – все то же непобедимое отвращение к неумолкаемому, уши раздирательному крику, и чем больше я старался принудить себя полюбить это крохотное существо, именуемое моей дочерью, тем выходило хуже. В конце концов от такого насилия над самим собой я стал чувствовать совершенно противоположное тому, к чему стремился. К чувству брезгливости примешалось просто-напросто чувство неприязни. Я наконец даже испугался и чистосердечно покаялся жене.
Открытие это ей, видимо, было не по сердцу, но она не стала упрекать меня, как бы сделали это на ее месте девяносто девять сотых женщин, а только с обычным своим спокойствием заметила:
– Не принуждай себя; если ничего не чувствуешь, то пусть так и будет, сердцу не прикажешь, придет время –
полюбишь.
– А если такое время никогда не придет?
– Этого быть не может, – уверенно сказала она, на том мы и порешили. Я успокоился и уже все силы направил к тому, чтобы по возможности менее замечать присутствие этого третьего «я» нашего «мы». Но не замечать его было трудно, ребенок был сильный, здоровый, обладал глоткой ротного командира и орал дни и ночи напролет. Ко всему этому у него была замечательная особенность упражнять свои голосовые связки именно тогда, когда я был дома, без меня, если верить показанию свидетелей, по-моему, впрочем, пристрастных, он был тих и больше спал, но стоило мне, возвратясь со службы, переступить порог нашей квартиры, как он встречал меня громогласным приветствием и затем уже все остальное время со старательностью, достойной лучшего применения, не переставал изощряться в своих вокальных упражнениях на мотив резаного поросенка. Особливо ночью, при общей тишине, крик этот повергал меня в глубокую меланхолию. Если он думал этим криком разбудить дремавшую во мне отцовскую любовь, то система была выбрана неудачно; я уверен, что она, т. е.
любовь, гораздо бы скорее проснулась, если бы было поменьше шума. Первый раз за все эти четырнадцать или пятнадцать месяцев я искренно вздохнул о своей холостой жизни, когда мой беззаботный сон нарушался только стуком Лединых лап и щелканьем ее зубов. Леди, при всех своих прекрасных качествах, имела скверную привычку искоренять своих блох нигде в другом месте, как под моей постелью, и преимущественно ночью, точно она думала, что блохи, как куры, ночью хуже видят, чем днем. Но тогда было тем лучше, что стоило Леди поднять чересчур усердную барабанную дробь своими когтистыми лапами, я просыпался и посылал к ней туфлю, которая, удачно попав ей в морду, сразу же прекращала на более или менее продолжительное время проявления ее блошливой антипатии.
Она громко и с сожалением вздыхала и, вытянувшись во весь свой гигантский рост, (Леди была кровный ульмский дог), отчего кровать моя на мгновенье приходила в содрогание, крепко засыпала.
Теперь же никакие туфли не могли бы помочь, и приходилось волей-неволей выслушивать ночные серенады, когда вовсе не был к тому расположен.
Больше всего мне жаль было жену. Сидит, бывало, бедняга, на постели; от усталости клюет носом, не в силах даже разомкнуть глаз, а сама качает, качает до одеревенелости в руках. Укачала, положила в люльку, поспешно нырнула под одеяло, ежится, согревая озябнувшие члены, и уже начинает сладко засыпать, как вдруг из люльки снова несется отчаянный визг и писк, точно там довелось трем котятам сразу откусить хвосты друг другу. Несколько секунд бедняжка борется со сном, но крик переходит на верхние ноты, делать нечего, приходится с усилием открывать слипающиеся веки, снова начинается кормление, укачиванье, перепеленыванье и т. п. возня, и так всю ночь.
К утру ребенок утихает и спит так крепко, что даже досадно глядеть, потому что самим приходится вставать, так как мне пора собираться на службу. Как сонная подымается
Маня с своего ложа, бледная, изнуренная, невыспавшаяся, в скверном расположении духа. За обедом почти не ест, утомленная бессонными ночами, она теряет аппетит, через что еще больше изнуряется, и так изо дня в день. Дальше –
хуже. От постоянного раздражения портится ее характер.
Она, никогда не сердившаяся, от которой нельзя было и подумать услышать резкое слово, никогда почти не капризничавшая, начинает то и дело выходить из себя, придираться, делать сцены.
Где же это хваленое семейное счастье? обновляющее душу и et cetera и cetera32, о котором я слышал так много идиллистических рассказов. Ау! где ты, откликнись! – В
лес ушло.
Рожденье первого ребенка был тот пресловутый premier clouau cerseil33, в котором мы похоронили наше семейное счастье. С этого начался наш разлад, доведший жену до могилы.
X
Прежде всего началось с того, что жена моя сделалась крайне нервной, раздражительной. Начала придираться, делать сцены, чего прежде никогда не было, так как характер ее до этого времени был на удивление спокоен и ровен. Теперь же все пошло наоборот. В раздражении своем она позволяла себе говорить иногда грубые и пошлые слова, начала то и дело попрекать меня то в черствости сердца и эгоизме, то в лживости и притворстве.
Иногда, слушая ее нелепые обвинения, мне начинало казаться, что она просто поглупела, так как перестала понимать многое, что еще так недавно ей было вполне ясно.
Само собою разумеется, я тоже иногда не выдерживал, и вот начинались постоянные ссоры; одна порождала другую, та, в свою очередь, была пищею и предлогом к третьей и т. д. до бесконечности. В сущности, все эти ссоры начинались всегда из-за таких пустяков, на которые при других обстоятельствах ни она ни я не обратили бы внимания.
Чаще предлогом к ссоре был ребенок.
32 и так далее и так далее (фр.).
33 первый гвоздь гроба ( лат.)
Скажу я, например: «Ах, как он кричит, он, наверно, просит чего-нибудь, неужели вы не можете как-нибудь его унять!»
– Я знаю, – говорит жена, – мы тебе надоели, ты бы рад был от нас избавиться, что ж, задуши его, ведь все равно ты его ненавидишь, – и т. п. глупости. Я начинаю оправдываться, доказывать несправедливость ее слов, но мои возражения также успокоительно действовали на нее, как масло на огонь, и только еще больше раздражали. Даже, по-видимому, хорошие стремления мои и те истолковывались в дурную сторону и были источниками ссор.
Вздумается мне, в добрую минуту, подойти к ребенку, приласкать его, жена досадливо хмурит брови, отодвигается прочь и с сердцем говорит:
– Ну зачем лицемеришь, ведь я знаю, что ты его терпеть не можешь, ненавижу лицемерство, уйди, пожалуйста.
– Да с чего ты берешь, что я его терпеть не могу, –
пробую оппонировать я, – вовсе нет, конечно, особенного телячьего восторга от присутствия его не ощущаю. .
– Не лги, – перебивает она, приходя уже в полное раздражение, – не лги, я сама замечала, сколько раз, когда ты глядишь на него, у тебя лицо перекашивается от злости.
– Не от злости, пойми ты это, а от физических страданий моих умных нервов, причиняемых его криком, ведь не глухой же я.
Слово за слово – и ссора, как костер из сухого валежника, разгорается все сильнее и сильнее, переходит в крики, плач, визг. У меня сгоряча срывается какое-нибудь особенно злое словцо, словцо это запоминается и впоследствии служит предлогом к новой ссоре.
Пройдет день, два; после какой-нибудь особенно скверно проведенной ночи жена встанет более обыкновенного раздраженная и недовольная. Желая избегнуть ссоры, готовой вспыхнуть каждую секунду, я стараюсь разогнать ее мрачное настроение, за чаем я нарочно шучу, делаюсь усиленно нежным, ласково спрашиваю о ее здоровье, и вдруг. .
– Ах отстань, пожалуйста, нечего тебе целовать «ведьму»!
– Какую ведьму? – изумляюсь я. Но тут же вспомнил, что в последней нашей ссоре у меня вырвалось это проклятое слово. Сердце мое болезненно сжимается.
«Ну начнется», – думаю я и как можно мягче стараюсь уговорить ее:
– Ну полно, милая моя, мало ли что человек в сердцах скажет, ну прости, пожалуйста.
Не тут-то было.
– Нет, что ж, я сама знаю, что я стала ведьма, злая, капризная, кровь твою сосу (я с тоскою вспоминаю, что все эти слова сказаны были мною), но ты мне вот что скажи, кто довел меня до этого, кто сделал меня такою, я ведь, кажется, не была такая!
И начнутся упреки, намеки, припомнится все, что было год тому назад, все это сгруппируется, уснастится самыми ядовитыми колкостями, получит самую обидную для меня окраску.
Слушаешь, слушаешь и диву даешься: да неужели же это та самая Маня, тихая, веселая, любящая посмеяться.
Маня-котенок! Маня, у которой не было не только грубого слова, но даже движения. Маня, с которой мы когда-то гуляли в Летнем саду, казавшаяся мне тогда ангелом, а теперь фурией. Ведь не притворялась же она тогда. Как же все это объяснить, как понять такую крутую перемену?
Я тщетно ломал голову, стараясь придумать какой-нибудь исход из этого трудного положения. Я понимал, что жена моя находится не в нормальном, а болезненном состоянии, и я не раз старался уговорить ее посоветоваться с докторами. Но на все мои убеждения у нее был один упрямый ответ:
– Я здорова, мне нечего лечиться, не раздражай меня, и я сама успокоюсь.
Легко сказать: не раздражай, когда она вся была воплощенное раздражение. Я попробовал реже бывать дома, но вышло еще хуже.
– Конечно, тебе весело, ты там сидишь в гостях, а я дома возись с пеленками, хозяйством. . рад, что кухарку себе нашел: сиди, матушка, а мне и в гостях весело, только ты напрасно воображаешь, что я буду сидеть, я тоже уходить буду.
– Да кто же тебе запрещает, напротив, я очень рад буду, если ты куда пойдешь со мною, я тебя и так каждый раз зову с собой, ты сама не хочешь.
– Оттого и зовешь, знаешь, что я не пойду. А ребенка куда я дену?..
– Маня, Маня, опомнись, какие выражения, тебя ли я слышу?
– Ах, отстань, пожалуйста, женился бы на институтке, никаких бы выражений не слышал. Ведь ты знал, на ком женишься, нечего теперь и попрекать, мне негде было и не у кого манерам учиться.
– Отчего же прежде ты не употребляла таких слов? зачем ты нарочно стараешься, вопреки своей натуре, казаться грубой. .
– А если я груба, ищи себе не грубых.. я тебе на шею не бросалась, сам чуть не силой притащил под венец, у меня без тебя был жених..
– Это тот Блоходавлев, или, как его, Клоподавлев.
– А хоть бы и он.
– Вот нашла кого вспоминать.
– А чем же он хуже других, жила бы по крайней мере в свое удовольствие, без нужды, никто бы меня не попрекал, что я грубая и необразованная и такая и сякая.. на мученье мое ты меня взял. . няню мучил-мучил, в гроб вогнал, теперь за меня принимаешься, грех тебе будет, помнишь, как ты клялся не обижать меня..
Я затыкал уши и уходил, отчаянье овладевало мною.
«Что делать? – думал я. – Кто виноват в этом во всем, как предотвратить все эти постоянные и невыносимые истории?» С отчаяния попытался я было обратиться за советом кое к кому из ближних.
– Бросьте, не обращайте внимания, – говорили мне, – у женщин с первым ребенком это часто бывает – потом пройдет!
Легко сказать: «Не обращайте внимания, пройдет!»
Положим, ее раздражение может и действительно пройти, но те оскорбления, которые мы в минуту гнева необдуманно бросали в лицо один другому, они не забудутся, не изгладятся из памяти впечатления безобразных сцен, бывших между нами, не исчезнет проснувшееся недоверие одного к другому и то скрытое на самом дне души разочарование друг в друге. Словом, что расшатано, то расшатано, это как трещина в дереве – ничем ее не замажешь и не заклеишь, напротив, чем дальше, тем сильнее, и так на всю жизнь. Главное, всего обиднее то, что нет виновных, а раз нет виновных, нет возможности устранить причину. Во всей этой глупости есть что-то роковое, стихийное, ни остановить, ни предотвратить чего никто не в силах, подобно пущенному с крутого ската камню, который, как бешеный, летит, повинуясь каким-то своим внутренним физическим законам, летит, ниспровергая, давя и уродуя все встречающееся на пути, пока с размаху не ударится о какое-нибудь непреодолимое препятствие. Увы, мы прежде всего дети своего века, века величайших изобретений человеческого гения и вместе с тем величайшего нервного упадка. Больные, нервные, психопатические дети больного психопатического века, а господа моралисты проповедуют что-то такое, чего мы исполнить не в силах, как не можем поднять тяжелого копья своих пращуров, того самого копья, которым наши предки владели как тросточкой. Вместо того , чтобы укрепить наши нервы, нам досаждают бесплодной моралью, выходит нелепица. Все равно как если бы человек сломал ногу, а кто-нибудь вздумал читать над ним псалмы Давида; сами по себе, спора нет, псалмы Давида прекрасны, но тем не менее сломанная нога таковою и останется и от псалмов Давида не срастется, пока не придет доктор и не положит ее в лубки.
Предсказание родственников сбылось. Маня мало-помалу начала успокаиваться, раздражение ее улеглось, и жизнь наша постепенно начала входить в прежнюю колею. Главной причиной успокоения был переезд на житье к нам родителей моей жены, старик отец ее к этому времени почти ослеп и лишился службы. Я предложил Мане съездить к ним и уговорить поселиться у нас, на что они оба охотно согласились. С первого же дня бабушка и дедушка завладели внучкой и целые дни нянчились с нею. Таким образом половина обузы спала с плеч жены. Она спокойно спала по ночам, время от времени начала выезжать со мною в гости, повеселела, нервы ее успокоились, но все же прежнего невозмутимо-мирного настроения нашей жизни не было. Наученный горьким опытом, напуганный надоевшими мне, как зубная боль, сценами, я стал осторожней, начал взвешивать каждое слово; не было уже той простой, дружеской откровенности, когда я, не стесняясь, говорил жене все, что думал и чувствовал, я стал гораздо скрытнее, больше себе на уме. Жена моя, конечно, была настолько чутка, что сразу заметила перемену, происшедшую во мне, и это ее огорчало. В душе она искренно не считала себя виновной в чем-либо, а, напротив, была скорее склонна объяснить мое изменившееся к ней отношение недостатком любви.
– Ты разлюбил меня, – говорила мне жена в минуты откровенности, – неужели я тебе так скоро надоела? – и она пытливо заглядывала мне в глаза, стараясь угадать истину.
Я спешил разуверить ее, но так как отношения наши измениться не могли, то и подозрения ее о моем к ней охлаждении не исчезли, это ее и огорчало и раздражало в одно и то же время.
– Тебе уже надоела семейная жизнь, – говорила она с досадой, – шутка ли, полтора года женат, для такого непостоянного человека, как ты, это целая вечность!
Я отмалчивался, боясь возобновления ссор.
К счастию, я вскоре поступил на службу. Это было в начале второго года нашей супружеской жизни и послужило отчасти одною из причин, что жена моя успокоилась и стала мало-помалу такою, какою была после свадьбы.
Впрочем, сначала я получал очень немного: поступил я в контору одной редакции на весьма скромное жалованье, но к концу первого года службы стал получать вдвое, кроме того, я рискнул взяться за литературный труд.
Обстановка была самая подходящая. Знакомство с литературными звездами первой и второстепенной величины, масса впечатлений, разнообразное чтение, словом, начав очень и очень скромно, я скоро приобрел работу во многих редакциях. Мое имя все чаще и чаще стало попадаться в числе других литературных имен, и хотя я не смел претендовать на известность, но и совершенно безызвестным назвать себя тоже не мог. Критика довольно благосклонно отнеслась к моим первым попыткам, и многие даже пророчили мне будущее.. Я чувствовал, как почва крепнет подо мною. Мало-помалу все мои знакомые и родственники, избегавшие меня, переменили обо мне мнение, и я незаметно для себя очутился в той же среде и том обществе, откуда был выбит несколько лет тому назад.
И всем этим я был обязан жене: она, вырвавшая меня из дурного общества моих «приятелей», искоренившая мои некоторые дурные привычки, помогла мне тем, что я, как говорится, снова встал на ноги.
Все эти маленькие успехи были тем более кстати, что в это время над нами разразилась беда, могущая бы сделаться роковой, если б я не имел к тому времени порядочного заработка: негодяй, которому я отдал свой капитал, обанкротился. Не буду рассказывать, как это случилось, скажу только одно, что, имея возможность уплатить мне, он не только не пожелал сделать этого, но еще самым наглым образом издевался надо мною и над правосудием, к защите которого я было прибег. Он так ловко в течение всех этих четырех лет сгруппировал и подтасовал целый ряд мошенничеств и обманов, что к нему нельзя было даже придраться.
– Я сам вижу, чувствую и сознаю, – сказал мне судебный следователь, рассмотрев мою жалобу, – что он мошенник первостатейный, что вы обмануты самым наглым, недостойным образом, но поймите, все сделано так ловко, везде и во всем опирается на такую законную почву, что, если бы я даже и довел его до скамьи подсудимых, его бы неминуемо оправдали, и он же бы потянул нас к ответу за клевету; вы сами дали ему оружие в руки вашими легкомысленными расписками и доверенностями.
– Но поймите, я верил ему как брату. Что я говорю –
брату, больше брата, ведь мы товарищи детства, я с пеленок привык любить и верить ему.
– Что делать, теперь такой век, не верь даже себе самому. С отца родного бери расписки.
Я вышел от следователя, не помня себя от бушевавшего во мне негодования. Такой подлости, такого бессердечия, такой наглости я не ожидал. И от кого же? кого я любил всей душой, кто был принят в нашем доме как родной, кто проливал когда-то слезы над моим горем и радовался моими радостями. Меня особенно бесила эта его безнаказанность. Мошенник, нагло поправший все, что есть святого в мире, с спокойным сердцем может смотреть всем в глаза, и никто не смеет сказать ему: «вор!» Он может безнаказанно издеваться над правосудием, под покровительством которого он стоит. . безнаказанно.. кто сказал безнаказанно.. ха, ха, ха, нет, он будет наказан, а там что Бог даст.
Я шел домой быстрыми, неровными шагами, а сам думал:
«Общество, закон не защитило моих прав от подлеца, так я же защищу общество от этого негодяя».
Жена с нетерпением ждала моего возвращения от следователя.
– Ну, что, что сказал следователь? – Спросила она, как только я переступил порог нашей квартиры.
– Сказал, что наше дело проиграно, судебная власть может поймать только вора неловкого, который следы по себе оставляет, а ловкий вор, сумеющий спрятать все концы, приглашается воровать дальше. Следователь мне в виде утешения сказал: первое удавшееся мошенничество разохочивает к другому и т. д., таким образом, рано или поздно, и ваш Шульмер попадется и ему не избежать кары закона! Если это тебя утешает, утешься, а я решился проучить его по-своему.
– Чем?
– Это мое дело.
– Ничего ты ему не сделаешь, – безнадежно махнула она рукою, – следователь правду говорит, нельзя быть таким доверчивым. И я то же всегда тебе твердила.
– Недоставало, чтобы ты меня начала попрекать.
– Я не попрекаю, деньги не мои, и мне их не надо, а так к слову сказала.
Был пасмурный осенний вечер, не то снег, не то дождь как из сита кропил землю. Ветер пронзительно завывал, срывая шляпы с головы и вырывая из рук зонтики. Словом, это был один из тех вечеров, на долю которых приходится большая часть столичных преступлений. Я вышел из дому, сказав жене, чтобы она не ждала меня до ночи, так как мне надо по одному делу. В кармане моего пальто лежал заряженный на все шесть гнезд револьвер, и я направлялся к одному знакомому мне ресторану, где обыкновенно проводил вечера Карл Карлович Шульмер.
Придя в ресторан, я забился в самый отдаленный угол залы и потребовал себе котлету, но есть мне не хотелось: все мои мысли были поглощены тем, что должно сейчас свершиться. Хотя я пришел с твердым намерением убить
Шульмера, но собственно план убийства у меня составлен не был, я решил действовать так, как укажут обстоятельства. В эту минуту меня больше всего интересовали последствия моего предполагаемого преступления: я живо рисовал себе, какой переполох произойдет в ресторане, когда грянет роковой выстрел, как все вскочат, окружат меня, а я, бледный, но спокойный, скажу: «Господа, я убил негодяя и горжусь этим». Меня сейчас же арестуют, посадят в тюрьму. Маня будет навещать меня.. во всех газетах будут писать, и тем более всех будет интересовать, что многим я знаком. «Вот уже никак не ожидали, что Чуев способен на убийство!» – будут говорить обо мне.
– Какой это Чуев? – спросит кто-нибудь.
– А помните, на прошлой неделе вы его видели у Z или
N, такой небольшого роста, худенький, лицо еще у него такое задумчивое. Он литератор, его произведения печатались там-то и там-то...
Но вот и день суда. Большая зала полна народа, сколько знакомых лиц, какое на всех любопытство. За столом в стороне репортеры, многие мне знакомы, и это еще больше возбуждает интерес. Живо представляю я себе всю процедуру судоговорения, речь прокурора, защитника..
– Подсудимый, за вами последнее слово, – обращается ко мне председатель, – что вы скажете в свое оправдание?
Я встаю, окидываю залу спокойным взглядом и начинаю говорить; я чувствую, как все замерло, с напряженным вниманием прислушиваясь к каждому моему слову.
– Господа присяжные, – говорю я, – не буду защищаться, а тем паче просить помилованья; я признаю, что убил Карла Карловича Шульмера, убил, ясно сознавая, что делаю, убил преднамеренно, холодно и серьезно обдумав убийство заранее. Убил не под влиянием аффекта, но так же спокойно, как спокойно выпил бы теперь стакан чая, да, я убил его и не только не раскаиваюсь в этом, но, напротив, горжусь своим преступлением, так как это не преступление, а подвиг, подвиг гражданского мужества; я не зло сделал, а благо. Кого я убил? негодяя, у которого ничего не было святого, который бы без всякой жалости уничтожил любого из вас, если бы вы имели несчастие попасть в его лапы. Он, с мастерством обобрав вас до нитки, холодно смотрел бы, как вы извиваетесь у ног его от голоду, и первый же нагло подтрунил бы над вами. Что вы ему?
чужие люди; я был почти его братом, мы росли, играли с ним, мы были почти неразлучны, у нас почти одни и те же воспоминания детства, но он и то не устыдился обокрасть меня, пользуясь моей любовью к нему, что же можно ожидать от такого человека? ему было всего только 29 лет, а он бы мог поспорить в бессердечии с любым каторжником, каков бы он был через десять лет?.. И от эдакой-то чумы, от такого врага общества я избавил вас всех! Но раньше, чем решиться на самосуд, я пытался обратиться к правосудию, но правосудие в лице судебного следователя отказало мне, за недостатком улик, оно признало себя бессильным в борьбе с таким негодяем, оказалось, что он слишком ловок, подл и осторожен, чтобы попасться. Что же делать с таким, которого легальным путем нельзя обезвредить, оставить ли его продолжать свою преступную деятельность или применить к нему нечто подобное закону
Линча, т. е. сделать именно то, что сделал я. К сожалению, не у всех хватает духа на это, у меня хватило, и вот я на скамье подсудимых, меня судят как преступника.
Не знаю, что бы сказали мне на это присяжные на настоящем суде, но на суде моей фантазии они меня не только оправдали, но чуть ли не на руках вынесли из залы суда!
Я так увлекся, что опомнился только тогда, когда над самым моим ухом раздался знакомый, ненавистный голос:
– Вы тут что делаете, как попали сюда? – Я поднял голову, передо мною стоял, ехидно улыбаясь, сам Карл
Карлович Шульмер. Его бледное, худощавое лицо, с остроконечным подбородком и темными наглыми глазами, глядевшими поверх очков, все дышало насмешливым торжеством. Он был небольшого роста, худощав, с белокурыми волосами и жиденькой растительностью на подбородке.
В общем, он очень походил на Мефистофеля, знал это и любил в маскарадах появляться в костюме злого друга
Фауста.
Я так поражен был его неожиданным появлением, что чуть было не бухнул прямо, что пришел убить его.
– Вы были у следователя, – иронизировал меж тем
Шульмер, – ну что же, он сказал вам, когда собираются посадить меня в тюрьму?! – Эта наглость сразу возвратила все мое самообладание.
– Я пришел в последний раз переговорить с вами, г-н
Шульмер, – холодно начал я, – угодно меня выслушать?
– Согласен, но только не тут, пойдемте в бильярдную, там, кажется, никого теперь нет.
«Негодяй боится случайного свидетеля нашего разговора, – подумал я, – тем лучше для меня и хуже для него, с глазу на глаз мне легче будет покончить с ним».
Мы прошли в бильярдную, там действительно никого не было. Шульмер присел на край бильярда и устремил на меня свой неприятный, холодный взгляд.
– Говорите, я слушаю, – сказал он.
– Мне много говорить нечего, – начал я как можно сдержаннее, опустив руку в карман пальто и нащупывая ручку револьвера, – я пришел предложить вам, если в вас не угасла хоть искра чести, следующее: вы должны мне десять тысяч, я согласен помириться на пять, отдайте пять тысяч, и я буду вечно благодарить вас как своего благодетеля. Подумайте, в каком я положении, у меня жена хворает, ребенок маленький, содержание я получаю небольшое, да и мало ли что может случиться, я могу потерять должность, что тогда будет с нами, ведь вы же сами и муж и отец, неужели в вас нет ни капли жалости, а ведь когда-то я вас считал самым близким мне человеком.
Я чувствовал, как слезы подступали к моим глазам и голос начинал дрожать.
– Дальше! вы хорошо говорите, у вас есть дар слова, –
чуть-чуть усмехнулся Шульмер, – жаль, что вы упускаете из виду, где я могу достать вам теперь эти пять тысяч.
– Как где? да ведь вы взяли у меня десять.
– Взял, но что же из этого, я пустил их в оборот, и они лопнули.
– Это неправда. Да наконец я согласен на рассрочку, уплатите мне теперь тысячу рублей, а затем в течение двух лет, считая с сегодняшнего дня, остальные четыре. Кажется, условия не тяжелые.
– Гм. . вам так кажется, впрочем, действительно я бы мог дать вам теперь тысячу, а остальные в течение двух лет, если бы.. – Он остановился как бы раздумывая, мне показалось, что он начинает соглашаться. При мысли, что я могу получить теперь, в минуты крайней нужды, тысячу рублей и тем поправить свои обстоятельства, успокоить
Маню, я почувствовал такую радость, что готов был броситься на шею к Шульмеру, я забывал все его подлости и готов был считать его чуть ли не моим благодетелем.
– Что если бы? – спросил я его. – Да говорите же – если у вас сейчас нет, я готов подождать день, два, ну хоть даже неделю, но только, пожалуйста, не дольше, я уверяю вас –
мне большая крайность.
– Итак, вы просите тысячу рублей? – переспросил
Шульмер. – И говорите, что можете подождать?
– Да, я, пожалуй, подожду, если не завтра, послезавтра, словом, когда вам удобнее.
– Мне всего удобнее через пять лет, так мы и сделаем: я сейчас дам вам десять рублей, у меня самого в кармане 25, на лечение Марии Николаевны, а остальное через пять лет, если вы не захотите еще отсрочить пару годиков. – Он говорил совершенно серьезно, тонкие, бескровные губы его были, как и всегда, строго сжаты, и только где-то там в глубине глаз играла самая ядовитая насмешка, он, очевидно, потешался надо мною. Я это понял, и вся долго накоплявшаяся злость поднялась во мне.
– Это ваше последнее слово? – задыхающимся голосом глухо спросил я.
– Наипоследнейшее.
– Так умри же, подлец! – проскрежетал я и, быстро выхватив из кармана револьвер, направил его в упор в грудь своего врага. Миг – и его бы не стало, но тут случилось странное обстоятельство: нажав изо всей силы спуск курка, я почувствовал, что он не двигается, сгоряча я забыл отодвинуть предохранительную пружину. Это спасло
Шульмера. К чести его надо сказать, что он был не из трусливых и даже в такую опасную для себя минуту не растерялся и не потерял присутствия духа. Раньше чем я успел опомниться и сообразить причину бездействия курка, как уж револьвер был в его руках, он быстро вырвал оружие из моих рук и сунул его себе в карман.
– Надо другой раз быть ловчее, – нагло усмехнулся он, –
а то легко и смешным сделаться, надеюсь, что этим разговор наш кончился, я бы мог, конечно, пригласить сюда полицию, но не желаю, идите себе с Богом домой, игрушку вашу я спрячу на память о сегодняшнем дне, впрочем, я вижу, она вам даже и бесполезна, так как вы не умеете с нею обращаться. – Сказав это, он насмешливо поклонился и быстрыми шагами вышел из бильярдной, оставив меня одного, подавленного, уничтоженного, осмеянного. Машинально запахнул я полы своего пальто, нахлобучил шапку на глаза и вышел из ресторана; на улице я вспомнил, что не расплатился за котлетку, и вернулся было назад.
– За вашу котлетку заплачено, – любезно сказал мне буфетчик.
– Кем? – машинально спросил я.
– Карл Карлович заплатили.
Я оглянулся. Шульмер сидел за одним столом и с улыбкой посылал мне воздушный поцелуй. Я молча повернулся и ушел, провожаемый его насмешливым взглядом. Всю дорогу шел я, не подымая глаз, не различая улиц, и только, должно быть, по инерции, в силу привычки, попал домой.
Должно быть, лицо мое выражало что-нибудь особенное, потому что не успел я войти к себе в комнату, как жена, взглянув на меня, испуганно спросила:
– Федя, что с тобой? что случилось, ты на себя не похож.
Я тут же со всеми подробностями передал ей об всем случившемся. Она слушала меня, широко раскрыв глаза, бледная как полотно.
– Боже мой, – воскликнула она, – что это ты такое затеял, ведь тебя бы сослали. – И при одной мысли о возможности подобного исхода она зарыдала и, обвив мою шею руками, крепко прижалась ко мне.
– Милый, голубчик, – шептала она мне на ухо, пригибая к себе мою голову, – что это ты такое выдумал, из-за чего?
ну что ж, что обманул, эка важность, Бог милостив, с голоду не умрем. Мы оба молоды, будем работать, трудиться, живут же другие и без капиталов.
Весь вечер она утешала меня, уговаривала и успокаивала; по ее, выходило, что без капитала как-то еще лучше, меньше тревог душевных, меньше горя и забот. Тут к слову будет сказать, что Маня во всю жизнь ни разу не попрекнула меня тем, что благодаря моему холодному отношению к делам мы были разорены, чем ясно доказала, как была далека, выходя за меня замуж, от каких бы то ни было материальных расчетов. В конце концов случай этот имел для нас то благотворное последствие, что с этого вечера мы опять как-то особенно тесно сблизились с женой, вернулись к тому времени, какими мы были после свадьбы.
Действительно, с потерей капитала мы стали спокойней. В
серьезности мы давно уже ждали этого; с самого первого дня нашей свадьбы страх перед неминуемостью подобного исхода как дамоклов меч тяготел над нами, и вот он наконец упал, но, странное дело, упавший, он оказался далеко не таким страшным, как казался, когда висел на тонком волоске над нашими головами, готовый ежеминутно обрушиться на нас. Пришлось только сократить кое-какие расходы да побольше приналечь на литературные занятия.
Вскоре после этого я получил прибавку жалованья и к моей одной должности присоединил другую. Таким образом к началу третьего года нашего супружества в материальном отношении я был обеспечен.
XI
Наступил третий год нашего супружества. Год этот был самый веселый, хотя и самый бесшабашней в нашей жизни, но зато все лучшие мои впечатления, все приятные воспоминания приурочены именно к этому году. Материальное положение улучшилось, я получал хорошее жалованье, много зарабатывал литературным трудом, и, к довершению всего, мне случайно удалась одна финансовая операция, принесшая мне несколько сот рублей барыша. Удачей этой операции я был обязан одному своему знакомому, некоему
Вильяшевичу, о котором речь впереди. Он посоветовал мне купить акции одного прогоревшего общества, акции, которые ходили в то время чуть ли не на 70 процентов ниже стоимости, но каким-то чудом товарищество, в самую критическую минуту, вдруг ожило, акции быстро пошли в гору и уже через месяц стояли почти в номинальной цене.
Конечно, без Вильяшевича мне бы эта операция не удалась, и я ему был за это очень благодарен. Жена моя тем временем совершенно успокоилась, от прежнего дурного настроения духа не осталось и следа, она снова повеселела и неожиданно для меня начала сильно хорошеть. В этом периоде она была так хороша, как никогда больше; в ней внезапно проснулся таившийся доселе под оболочкой скромной Гретхен бедовый бесенок, бесенок, заставивший ее вдруг совершенно изменить свой образ жизни. Молодая натура требовала развлечений, удовольствий, шума и блеска, и так как, благодаря счастливо сложившимся обстоятельствам, все это вдруг явилось к ее услугам, то и немудрено, что она неожиданно развернулась, да так развернулась, что ее бы и не узнали видевшие ее год тому назад. Недаром я шутя назвал ее «Гретхен из гэтер». Прежде она была просто хорошенькое, шаловливое существо, кокетливое и грациозное, теперь же в ней проявилось нечто новое, особенное, что-то такое, что не только на посторонних, но даже на меня – мужа, после двухлетней совместной жизни, производило впечатление наркоза. Она вдруг точно почувствовала свою силу, и я часто подмечал, как она нарочно дразнила тех, кого почему-либо выбирала мишенью для своего кокетства. Хуже всех доставалось от нее злополучному Вильяшевичу, мучать которого она считала чуть ли не своей священной обязанностью.
Припоминая это время – « сумасшедший год», как мы его прозвали, я прихожу к тому заключению, что первым толчком к проявлению этого усиленного кокетства было, должно быть, мое охлаждение к ней, появившееся в конце второго года; правда, охлаждение это было чуть заметное, и она инстинктом женщины скорее угадала его, чем заметила наблюдениями надо мною, инстинктивно же, как и всякая женщина, чувствуя охлаждение к себе человека, любовью которого дорожит, она ухватилась за свое сильнейшее оружие – кокетство. Первые опыты удались, она тем же инстинктом угадала, что, только раздражая мою чувствительность, она снова может возбудить во мне любовь, и так как кокетство было у нее в крови, а тут кстати подоспели благоприятствующие к развитию его обстоятельства, то она просто уже сама увлеклась, как увлекается артист своей игрой, ей понравилась ее новая роль, и она всецело отдалась ей. Она усвоила себе некоторые манеры, действовавшие особенно раздражающе, так, например, выучилась как-то неподражаемо чуть-чуть заметно поводить плечом; скашивать глаза вниз, причем лицо ее принимало наивно-плутоватое сладострастное выражение; задорно вызывающе вскидывать на собеседника свои искрящиеся глаза и усмехаться полупрезрительной, полунасмешливой улыбкой.
Случалось нам иногда сидеть вдвоем вечером и болтать о каком-нибудь вздоре; в противоположность первым годам, когда я с нею рассуждал – как мы шутя говорили – о высоких материях или читал вслух русских классиков, теперь наша беседа вертелась больше на вопросах пикантного свойства.
Я или рассказывал ей анекдоты, или развивал какую-нибудь пикантную идею. Она, обыкновенно, слушала меня, по-видимому, внимательно, забравшись с ногами на диванчик и жмурясь от света как котенок. Вдруг среди моих разглагольствований она как бы нечаянно уронит платок и начнет его лениво доставать, я умолкаю и гляжу, как красиво изгибается ее шея, как просвечивается сквозь кружево полузакрытого каре ее грудь – дома она начала носить капоты с открытым лифом, обшитым кружевами, с высоким воротом на затылке, это отзывалось чем-то средневековым и чрезвычайно шло к ней. Заметив, что я невольно любуюсь ею, она исподлобья вскидывала на меня глаза, причем ее длинные густые ресницы казались еще гуще, и, слегка улыбаясь, говорила:
– Ну что же, продолжайте, я слушаю.
Но в этих словах было столько вызывающего, дразнящего кокетства, что я моментально забывал, о чем говорил, и, в большинстве случаев, схватывал ее руки и начинал целовать их, а она, не допуская меня до себя, смеясь и блестя глазами, говорила:
– Оставьте, пожалуйста, не прикасайтесь, сидите смирно!
И это «оставьте, пожалуйста» доводило меня почти до безумия – так мило произносилась эта сама по себе ничего не значащая фраза.
Главная ее особенность заключалась в том, что она то была томна, медленна и плавна в своих движениях, то вдруг оживлялась, делалась сильною, ловкою, стремительною; лицо ее, обыкновенно чрезвычайно подвижное, оживленное, на котором как по книге можно было читать все ее мысли, тогда внезапно принимало бесстрастное, туманное выражение,
настолько непроницаемо-загадочное, что даже я, самый близкий человек, ни за что бы не мог угадать, о чем она думает в эту минуту. Она как-то ухитрялась совмещать в себе скромность монастырской послушницы с распущенностью, в то же время ни на одно мгновенье не выходя из рамок приличия. Одеваться она тоже начала по-новому, в этом отношении я первый подал ей совет.
Уступая моим просьбам, жена завела себе капоты с глубокими вырезами, коротенькие кокетливые кофточки, зимою обшитые поддельным мехом, осенью гладкие, –
меховые шапочки набекрень, пальто туго в талию, шляпы a la Rembrand с круто загнутым полем, с большим яркого цвета страусовым пером, каре, высокие рукава, прозрачные чехлы на темных лифах, туфли на высоких каблуках и т. п., не говоря о массе духов и пудры, составлявших в ее жизни пятую стихию.
Преобразив себя, она преобразила и свою спальню, устроив в ней кокетливый будуарчик, тяжелая драпировка перегородила комнату на две половины, появился маленький диванчик, косматый коврик, этажерка с массой фарфоровых безделушек, висячий китайский фонарик, своим розовым светом придававший по вечерам всей комнате особенный полуфантастический вид. По вечерам, когда опускались непроницаемые шторы, зажигался фонарь, в этой комнате, жарко натопленной, пропитанной запахом духов, было действительно очень уютно.
Особенно хорошо было во время ненастной погоды, когда за окном бушевал ветер, выла непогода, стучал дождь или плакала вьюга. В такие вечера Маня особенно любила, полураздевшись, распустить волосы, нежиться на диване с коробкой конфет в руках; она, как институтка,
« обожала» конфеты, и они у нее не переводились. Одно время она взяла привычку каждый вечер уничтожать пирожное, запивая его ликером из крохотного хрустального бокальчика, все это выходило очень мило, чрезвычайно мне нравилось, и я всеми силами старался развивать в ней и поддерживать всякие подобные прихоти. Мы часто бывали с ней в театрах, но чаще всего в «Ренессансе», где в то время давались французские оперетки. Первый раз мы собрались совершенно случайно, но затем стали бывать все чаще и чаще, главной приманкой был ужин в отдельном кабинете после представления. Ужины эти до того меня увлекали, что я совершенно серьезно переставал видеть в
Мане свою жену, ухаживал, волочился за нею и готов был на всякую глупость. Она смеялась, шутила, кокетничала, а я просто терял голову и был влюблен как двадцать пар котов. Иногда к нам пристраивался кто-либо из наших знакомых, чаще всех Вильяшевич, о котором я говорил.
Вильяшевич был богатый самарский помещик, живший три четверти года в Петербурге, с которым я познакомился через свою службу в конторе N**. Вильяшевич был человек уже пожилой, лет под пятьдесят, но очень красивый, высокий, полный, с длинной бородой – тип старого боярина, весельчак и bon-vivant34, он-то, в сущности, и был инициатором сумасшедшего года, первый своим ухаживанием давший нам толчок, вследствие которого мы с женой вдруг отдались с таким увлечением этой буффонаде.
Когда Вильяшевич был с нами – смеху не было конца, он волочился за моей женой, шутил, дурачился, требовал шампанского, доставал какие-то особенные, чрезвычайно дорогие конфеты, фрукты, цветы, словом, не знал, чем бы только угодить ей. Я, с своей стороны, не только никогда не ревновал к нему Маню, но, напротив, был очень польщен его вниманием; я вообще был всегда доволен, видя ухаживания других за моей женой, это тешило мое самолюбие.
По-моему, всякий муж, если он не глуп, должен быть доволен, когда за его женой ухаживают, значит, она хороша собой, возбуждает во всех зависть к счастливому ее обладателю. Я помню, с каким чувством гордости я отвечал тут
Вильяшевичу на его восторженные отзывы о Мане.
– Да, батенька, хороша Маша, да не ваша!
– То-то и беда, что не моя, – комически вздыхал
Вильяшевич, – эх, кабы моя была!
– Да что вы в ней особенного находите? – с напускной небрежностью продолжал я. – Нос как у мопса, глаза косые, неужели вы лучше не видели?
– Э, вы ничего не смыслите в женщинах, что там нос, нос вздор, а в ней есть что-то такое, отчего наш брат старик с ума спятить может, а вы про нос толкуете, забылись, батенька, ценить не умеете, ваша жена – это редкость.
Я недоверчиво пожимал плечами, а у самого дух за-
34 остряк (фр.).
хватывало от восторга. Я последний грош тратил на новые наряды, упрашивая портних придумать что-нибудь позабористее.
Мне доставляло удовольствие, когда, гуляя с ней по
Невскому, лихачи приставали ко мне: ваше сиятельство, а ваше сиятельство, прокатились бы с барышней на лихаче, и мы иногда действительно катались. Маня относилась ко всему этому довольно пассивно. Сначала ее несколько коробили и шокировали мои стремления навязать ей тон дамы полусвета, но мало-помалу она вошла во вкус, ей самой начали нравиться эти ужины в «кабинетах», пикники на тройках за город, толпа холостежи за своим хвостом, легкое возбуждение от двух-трех бокалов шампанского, а главное, она видела, как я с каждым днем все больше и больше увлекался ею.
Неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы не случилась одна история, сильно повлиявшая на Маню и заставившая ее сразу изменить свой образ жизни.
Дело вышло так.
Первого апреля Маня должна была справлять свои именины. Сначала решено было именины справить дома, но Вильяшевич, бывший на правах какого-то члена дома, узнав об этом, возмутился и предлагал справить их где-нибудь за городом – in's Grune35, как он выражался.
Маня настаивала на своем, я держал нейтралитет, наконец обе спорящие стороны сошлись на следующем компромиссе: обедать дома пораньше, причем Вильяшевич настоял, чтобы фрукты, вино и десерт были приняты Маней
35 на траве, на природе (нем.).
от него в подарок, а затем в коляске ехать ужинать тоже за его счет в «Славянку».
– Вы именинница, права голоса не имеете, – шутил
Вильяшевич, – ваше дело сторона, мы вас оденем, посадим и повезем, нечего вам много и разговаривать.
Майя наконец махнула рукой, делайте как хотите.
Ровно в двенадцать часов первого апреля явился к нам
Вильяшевич во фраке, белом галстуке, с шапокляком36 под мышкой, словом, как он выражался, во всем оболванстве. Я
уже говорил, что, несмотря на свои пятьдесят лет и седину, он был очень красив. Приятные черты лица, прямой, с маленькой горбинкой нос, высокий лоб, большие серые умные глаза и изящные мягкие манеры. Он носил бороду а la Скобелев, раздвоенную на две стороны, с чуть заметной пробривкой на подбородке, при его высоком росте, широкой груди, эта борода очень шла к нему; одевался он очень изящно, а в туалете был щепетилен, как женщина, характером он был, что называется, «душа человек», всегда веселый, шутливый, радушный, щедрый до расточительности, не задумывающийся ни перед какой выходкой. Моралист поставил бы ему в упрек разве только его легкое отношение к женщинам, его цинизм во взгляде на них да еще неразборчивость в средствах для достижения известной цели. Впрочем, во всем этом я вполне разделял его мнение, я, как и он, держался того же взгляда, что женщина, в принципе, развратнее мужчины, так как все ее помыслы с детства устремлены к одному вожделению выйти замуж; и ради этой цели придуманы ею всевоз-
36 Шапокляк – вид мужского головного убора с раздвижным козырьком.
можные соблазны: каре, вырезы, «декольте», обтянутые формы и т. п. Женщина живет разумно только в детстве; с шестнадцатилетнего возраста она начинает мечтать о женихе, и ее бросает в жар и холод в присутствии мужчины. В
этот период ей не до саморазвития, она постоянно находится в состоянии нервного возбуждения. Выйдя замуж, она, в большинстве случаев, или отдается удовольствиям, или, реже, занимается хозяйством. На свою беду женщина скоро стареет, в 30-35 лет. С этого периода большая часть их начинает жить воспоминаниями, лучшие из них принимаются за саморазвитие, наверстывая упущенное, но так как в этот период и мозги уже не так свежи, и память притупляется, и воображение слабеет, то все эти попытки к саморазвитию постепенно разрешаются в карточную страсть и в страсть к сплетням, пересудам и злоязычничеству.
Впрочем, я увлекся, женщина такая тема, о которую обтрепали языки все философы мира без всяких результатов, а женщина осталась та же, как и в раю, с тою только разницею, что теперь ее не так легко надуешь, как праматерь Еву, напротив, она сама обманет и проведет целое стадо всевозможных змеев.
– Какой вы сегодня интересный, – встретила Вильяшевича Маня, выходя к нему в своем новом полукапоте, чрезвычайно шедшем к ней.
Вильяшевич остановился и шутливо прищурился.
– Что с вами, отчего вы молчите?
– Ослеп, сразу и окончательно, – жалобно ответил тот. –
Мэри Николаевна, – я уже говорил, что Вильяшевич так звал Маню, – это даже непозволительно быть такой соблазнительной, посмотритесь в зеркало, и если вы сами не влюбитесь в себя, то я готов голову на сруб.
– Все вздор, – пожала Маня плечами, но не утерпела и мельком покосилась на себя в зеркало. Она действительно в этот день была очень мила. Голубой капот на манер платья или платье на манер капота, словом, что-то такое среднее, с высоким кружевным воротником, обнажавшим, однако, спереди шею и часть груди, весь был обшит кружевами; широкие разрезные рукава, при всяком движении дававшие возможность видеть руку немного не до плеча; бархатные синие туфельки и какая-то прозрачная, легкая, как паутина, наколка на слегка напудренных, в мелкие колечки завитых волосах: все это весьма шло к ней.
– Вы разоряете вашего мужа нарядами, – шутил между тем Вильяшевич, жадно оглядывая ее стройную, туго затянутую в корсет фигурку, – у него скоро капиталов не хватит.
– Вздор, – сгримасничала Мэри, Слово «вздор» было ее любимым словечком. – Я так мало трачу на наряды, как никто, ведь все это дешевка, – презрительно покосилась она через плечо на свой длинный шлейф, – эту материю я купила на аукционе у закладчика и сама сшила, родные
Феди и то говорят, будто его разоряю, я бы хотела, чтобы они узнали правду, все мои наряды стоят грош.
– Но и в этих нарядах вы очаровательны, надеюсь, что его не испортит эта маленькая багателка, которую я осмеливаюсь преподнести вам в день вашего ангела.
Говоря это, Вильяшевич протянул Мане изящный футляр, на бархатной подушке которого искрилась, переливаясь всеми цветами радуги, золотая, усыпанная дорогими камушками брошка.
– Вы с ума сошли, – воскликнула Маня, – неужели вы воображаете, что я возьму от вас эту вещь?
– Почему же не взять? – растерялся несколько Вильяшевич.
– Почему, потому что эта вещь стоит, по крайней мере, двести рублей, а такого дорогого подарка я принять не могу, ведь я не невеста ваша и не.. дама сердца, это только «дамам» такие подарки возят, а мне не за что.
Последнюю фразу она произнесла с худо скрываемым раздражением. Но Вильяшевич был человек, которого смутить было нелегко.
– Напрасно волнуетесь, Мэри Николаевна, извольте выслушать, и вы увидите свою неправоту. Скажите, пожалуйста, от кого у вас этот букет? – указал он вдруг на довольно скромный букет из живых роз, стоявший в вазе на столе.
– От кого? – изумилась несколько Мэри его вопросу. –
Это мне сегодня прислал Куневич.
Куневич служил в каком-то страховом обществе, часто бывал у нас и иногда даже ездил с нами кутить. Это был один из близких наших знакомых, он тоже слегка волочился за Маней, как и другие.
– Прекрасно, а знаете ли, что стоит теперь, в апреле, этот букет? Рублей десять, по крайней мере. Куневич получает в год тысячу рублей жалованья, стало быть, 10 рублей составляют одну сотую его ежегодного заработка, у меня же, уж если на то пошло, хоть о таких вещах порядочные люди и не говорят, до сорока тысяч годового дохода, допустим, по-вашему, брошь эта стоит 200 рублей, хотя она стоит и дешевле, – Вильяшевич врал, как я впоследствии узнал, он заплатил за нее 450 рублей, – то это составит всего только одну двухсотую часть моего дохода, теперь позвольте спросить вас, чей подарок дороже, мой или Куневича, почему же от него вы приняли, а от меня не хотите?
Подобная неожиданная математическая выкладка озадачила Маню, она даже не нашлась сразу, что ответить.
– Но то цветы, – запротестовала было она, – а брошь –
вещь.
– Тем жальче денег, потраченных на них, – спокойно уверенным тоном отпарировал Вильяшевич, – пройдет дня три-четыре, много – неделя, и над этим букетом будет трудиться дворницкая метла, брошку же вы можете подарить вашей дочери.
– Моей дочери еще всего три года, ей она не надобна.
– Не надобна теперь, понадобится после, когда подрастет; вообразите наконец, что эту безделушку я дарю вашей Лельке, и шабаш, а затем кончимте эту торговлю, она недостойна порядочных людей.
Хитрец знал, на чем поймать Маню, она всегда была очень чутка ко всему, что называется comme il faut 37 .
Воспитываясь в среде более низкой, чем та, в которой находилась теперь, она уже сама постаралась восполнить некоторые пробелы и больше огня боялась mauvais genre38.
Перед глазами у нее был пример, жившая в одном доме молодая генеральша, рожденная княгиня, аристократка pur sang 39, весь свой век проводившая в клубах на вечерах, 37 хороший тон (фр.).
38 дурных манер (фр.).
39 до мозга костей (фр.).
пикниках в толпе элегантной блестящей молодежи. Маня не знала одного, а именно, что на генеральшу эту, несмотря на аристократизм, в ее кругу смотрели как на bette noire40 и если принимали, то ради положения, занимаемого ее старцем мужем, через свою влюбленность не видящим поведения своей жены.
– Федя, что же ты молчишь, – досадливо оглянулась на меня жена, – разве я не права, отказываясь от подарка monsieur Вильяшевича?
– Я даже не понимаю, о чем ты хлопочешь, – зевнул я, –
со стороны смешно, ты точно институтка или какая-нибудь белошвейка вроде нашей Палашки, что шьет тебе платья, я как-то слышал, она нашему соседу на лестнице говорила:
«Ах, Спиридон Спиридонович, оставьте, не трожьте, что вы, ах отойдите, для чего все эти сюрпризы с вашей стороны, я ведь не из каких-нибудь, а подканцеляриста дочка...»
Должно быть, я удачно представил Палашку, потому что Вильяшевич так и покатился со смеху, даже на кресло сел. Маня вспыхнула до корня волос – она поняла мой намек на свое происхождение, и на глазах ее навернулись слезы, но она тотчас же пересилила себя и сама засмеялась.
– Ну хорошо, я беру ваш подарок, но чем мне бы наградить вас, – задорно сказала она Вильяшевичу.
– Чем? позвольте поцеловать вашу ручку.
– Ручку? – загадочно усмехнулась Маня, и вдруг в глазах ее заблестел недобрый огонек, она искоса взглянула на меня, по лицу ее и по злому выражению глаз я сразу
40 пугало (фр.).
догадался, что она замышляет мне мщенье. – Ручку, –
протянула она, – этого мало, ради высокоторжественного дня я позволяю вам поцеловать себя. Ведь целуются же на
Пасху! – пояснила она, как бы сама себе в одобрение. –
Нате, целуйте, но только скорей, а то передумаю.
Говоря это, она подставила свою розовую разгоревшуюся щечку Вильяшевичу, а сама так и впилась в меня злым пытливым взглядом, желая по лицу моему угадать, насколько удалось ей ее мщенье. При всей своей доброте она была иногда порядочно зла, но злость эта уживалась в ней не дольше как молния в небе.
Нечего и говорить, что Вильяшевич не заставил себя просить, в одно мгновенье расцеловал ее так, как она, по всей вероятности, вовсе и не желала ему позволять. На меня вся эта комедия произвела как раз обратно противоположное впечатление, на которое рассчитывала Маня. С
одной стороны, угадывая, до чего она в эту минуту в душе и конфузилась и боялась, пожалуй, даже горячо бранила себя за свою минутную вспышку, с другой, представя себе то, что в это мгновенье должен был ощутить Вильяшевич, –
я не выдержал и расхохотался самым искренним образом.
Весь эффект пропал даром, Маня вспыхнула, с досадой топнула ногой и, едва сдерживая слезы, ушла к себе в будуарчик, при нашем веселом смехе.
– Охота вам сердить, а главное, в такой день, – укоризненно шепнул Вильяшевич, в то же время едва сдерживаясь от смеха.
– Ничего, пройдет, идемте к ней.
Мы встали и пошли с Вильяшекевичем в будуар.
– Слушай, Мэри, ты вольна на меня сердиться, но за что же гостя обижать?
– Что делать, есть ведь пословица даже: «Паны дерутся, а у холопов чубы болят», – неподражаемо комично развел руками, скорчив гримасу, Вильяшевич. Маня расфыркалась, но продолжала капризно отворачиваться от нас.
– Э, слушай, Мэрька, я вижу, ты не хочешь сама занимать гостя, так я примусь за это дело, а так как Вильяшевича больше всего интересует все, касающееся вас, баб, то я ему выложу из твоих комодов все твои тряпки, пусть займется на досуге.
Говоря это, я сделал движение, будто хочу подойти к комоду. Маня, слишком уверенная в том, что я бы не поцеремонился привести в исполнение свою угрозу, проворно задернула драпировку и уже примирительным тоном заговорила:
– Ну хорошо, я сейчас выйду, проваливайте только отсюда, здесь вам не место.
К обеду, кроме Вильяшевича, съехалось еще несколько человек, в том числе и Куневич. Дам, по обыкновению, не было, я вообще избегал семейных знакомств, предпочитая холостежь, с которой не надо было так церемониться, как с семейными. За обедом Вильяшевич сидел рядом с Маней, я напротив. Он особенно ухаживал за ней, то и дело подливая в ее бокал вино, было весело и шумно, все шутили, острили, смеялись, трунили друг над другом. Могу похвастаться, я пользовался большой симпатией в том небольшом кружке наших близких знакомых, преимущественно холостых, собиравшихся у нас по вечерам всем нравилась та непринужденность, то чисто товарищеское отношение друг к другу, та беззаботная веселость которая царила в нашей небольшой, но уютной квартире. Никто никого не стеснял, каждый чувствовал себя как дома. Кто хотел, мог играть в карты, только не в азартные, во избежание ссор, кого карты не интересовали, мог болтать и врать, что ему угодно. Вечер всегда заканчивался скромным ужином с обильной выпивкой; иногда не довольствуясь тем, что я предлагал им, раскутившиеся гости сами посылали за вином, чем сначала повергали Маню, как хозяйку, в неистовый конфуз, но к чему наконец она должна была привыкнуть. Если попойка начинала переходить в оргию, Маня незаметно исчезала из комнаты и запиралась у себя, предоставив нам творить в остальных двух комнатах, четвертая была детская, все, что нам угодно.
Наблюдая Маню, я заметил, что именинница на меня злится. Несмотря на всю свою доброту, на сей раз, видно, моя шутка сильно задела ее за живое, и она не могла простить мне. Я несколько раз замечал на себе ее сердитый взгляд, и, должно быть, в отместку мне она сегодня особенно была любезна с Вильяшевичем, Куневичем и одним белобрысеньким морским офицером, дальним родственником ее дяди майора Брасулина, который был тут же в своем мундире старого фасона и с Ксенофонтом в передней.
– Ну, господа, – закричал Вильяшевич, своим громким голосом покрывая шум прочих голосов, – пора и ехать, кто едет – направо, кто не едет – налево, не едущие могут поцеловать ручку хозяйке и убираться к черту, пообедали, и будет с вас. Вы, дядюшка, – обратился он к майору Брасулину, – едете?
– Куда мне, домой пора, – запротестовал тот.
– Пустяки, едем, веселее будет, я уже и пары составил: в моей коляске едет Мэри Николаевна, вы, дядюшка, я да еще кого-нибудь, только не мужа, а то при нем ухаживать нельзя.
– Ну уж я, кажется, не мешаю, – крикнул я, услыхав его последние слова, – чего лучше доказательство – сегодня при себе целоваться позволил.
– Как целоваться, – раздались голоса, – расскажите, что такое?
– Федька, не смей! – с каким-то отчаянием в голосе закричала Маня. – Милый, голубчик, не смей!
Но я не обратил внимания на ее просьбу и тут же со смехом рассказал всем о случившемся поутру.
Это была бестактность, от которой даже Вильяшевич покраснел. Маня же вдруг побледнела как полотно.
– Хорошо же, – угрюмо шепнула она, проходя мимо, –
ты сегодня же раскаешься, и я тоже подшучу над тобой!
– Не понимаю, на что ты так обижаешься, – насмешливо пожал я плечами.
Гости тем временем разбились на две группы. Одна побрала шапки и ушла, остались только участники пикника. В коляске Вильяшевича, как он и проектировал, поехали Маня, Брасулин и сам Вильяшевич, в троечной пролетке Куневич, белобрысый офицер и я, сзади на лихаче еще двое. Таким образом составилось довольно многолюдное общество.
Не буду описывать нашего кутежа в «Славянке», скажу только, что под конец Брасулин так расходился, что вдруг предложил всем ехать из «Славянки» к нему. Произошло разногласие: Маня, Вильяшевич и белобрысый офицерик стояли за то, чтобы отправиться к Брасулину, Куневич и я настаивали ехать домой, двое остальных тем временем под шумок удрали к цыганкам. В конце концов решили так: Брасулину ехать вперед, предупредить о неожиданном нашествии в 2 часа ночи таких беспокойных гостей, а нам через час ехать за ним следом.
В этот вечер Маня особенно много пила шампанского, пила она с каким-то мрачным ожесточением, со мной она не проронила ни одного слова за все время ужина, только изредка злобно вскидывала на меня свои блестевшие угрюмым огоньком глаза. Она все время занималась почти исключительно одним Вильяшевичем. Очевидно, она бравировала, стараясь досадить мне, но я оставался неуязвим, чем еще больше разжигал ее досаду.
Виновница нашей ссоры, роковая брошка, была на ней и сверкала ослепительно на черном бархате лифа. Я понял, что она нарочно и лиф этот надела для того, чтобы брошь выделялась резче, это была тоже в своем роде демонстрация против меня. Видя явное желание со стороны Мани дразнить меня, я старался как можно меньше обращать на нее внимания. Несмотря на ее необычное поведение, я был совершенно спокоен, так как в конце концов был более чем уверен, что как бы Маня ни была на Меня сердита, она не сделает не только дурного, но даже и опрометчивого шага.
– Ну, господа, не пора ли нам и ехать, – вынул Вильяшевич свой прекрасный хронометр, – уже больше часу прошло, как уехал наш почтенный майор, я думаю, он нас заждался.
Все поднялись с мест, кроме белобрысенького офицерика. Вильяшевич во все время ужина усердно спаивал его, и теперь он был в положении моряка во время сильной качки.
– Вы уж его возьмите с собой, – шепнул рассудительно
Вильяшевич, подмаргивая нам с Куневичем на бравого моряка, – а то чего бы с ним не случилось в коляске, я поеду с Мэри Николаевной.
Таким образом компания разделилась. Я, Куневич и едва живой белобрысый офицерик поместились в троечной пролетке, а Маня с Вильяшевичем в его коляске. Если бы
Маня не сердилась на меня, она бы, я уверен, захотела, чтобы я ехал с нею, да наконец и я сам не отказал бы себе в этом удовольствии. Я любил, когда жена моя была немного в возбужденном состоянии после нескольких бокалов шампанского, это придавало ей в моих глазах какую-то особенную прелесть, но теперь, опасаясь капризов, я первый поспешил уклониться от возможности неприятного tete-a-tete41 и поторопился, усадив кое-как моряка, сесть с
Куневичем в пролетку.
– Трогай! – крикнул я ямщику. Лошади подхватили.
Вильяшевич в эту минуту, подсадив Маню в коляску, неторопливо давал на водку швейцару. Мельком я видел, как он уже заносил ногу на подножку коляски, а гигантского роста силач кучер едва-едва сдерживал прозябнувших на ночной сырости серых красавцев рысаков.
Надо сказать, что у Вильяшевича коляска была на резиновых шинах. Шины эти тогда только что входили в моду и стоили очень дорого, а потому все столичные богачи тотчас обзавелись ими.
Быстро скакала лихая тройка на неровной мостовой
Васильевского острова и наконец остановилась у хоро-
41 соседства (фр.).
шенького крылечка брасулинского дома. Квартира Брасулина была освещена, и сам майор уж не раз выбегал посмотреть, не едем ли мы.
Вылезая из пролетки, я только сейчас заметил отсутствие коляски Вильяшевича; признаться, мне и раньше почему-то казалось, что коляска не едет сзади, но я объяснял отсутствие шума колес – резиновыми шинами, стук же копыт лошадей Вильяшевича был заглушаем топотом нашей тройки.
– Где же Мария Николаевна и Вильяшевич, – спросил
Куневич, оглядываясь вокруг, – уж не случилось ли что-нибудь?
– Чему случиться? просто, может быть, кучер другой дорогой поехал, – ответил я небрежно, хотя в душе это исчезновение меня самого несколько смутило.
– Где же Маничка? – спросил майор.
Я ответил ему тем же предположением, что и Куневичу.
Стали ожидать; однако прошел час, полтора – их нет, я уже начал сильно беспокоиться, но храбрился и не показывал виду.
Однако, чем дальше подвигалось время, тем наша компания становилась все сумрачней. К счастью, белобрысый офицерик давно уже храпел в кабинете Брасулина.
Напрасно добродушный майор, видимо едва пересиливая свое волнение, из кожи лез, шутя и балагуря, разговор не клеился. Куневич насупился и раза два подозрительно пристальным взглядом посматривал на меня, у меня же, что называется, сердце было не на месте. При малейшем стуке на улице мы все вздрагивали и настораживались, прислушиваясь, не брякнет ли колокольчик.
Так прошло часа два, ни Маня, ни Вильяшевич не являлись.
В самом мрачном настроении духа поднялся я по лестнице и позвонил в свою квартиру. Мне тотчас же отворили.
В передней, на вешалке, я увидел женино пальто.
– Стало быть, дома, – мелькнуло у меня.
– Давно барыня приехала? – спросил я отворявшую мне прислугу.
– Барыня уже меня спосылать за вами хотела.
– Куда?
– А к дядюшке. Кабы вы, сударь, еще с минутку не пришли, я бы поехала, оне и деньги на извозчика дали.
Я молча прошел в спальню. Жена стояла у зеркала, но уже переодевшись, и казалась очень взволнованной и смущенной. Увидав меня, она вспыхнула и нерешительно сделала шаг ко мне.
– Федя, послушай, – заговорила она нервно, – я хочу, чтобы ты меня выслушал, я уверена, ты думаешь Бог знает что...
Она говорила так искренно, что подозрения мои тотчас же рассеялись, достаточно было взглянуть в ее чистые, смело глядящие мне в лицо глаза, чтобы тотчас же увериться в ее правоте.
XII
Вскоре после этого произошла моя встреча с некой особой. Встреча эта, незначительная сама по себе, впоследствии повела к роковым последствиям и играла в нашей жизни первенствующую роль. Произошла эта встреча следующим образом. Однажды на вечере у одних моих знакомых, где я бывал очень редко, а жена никогда, я увидел даму, с которой доселе нигде не встречался. Это была женщина лет 23-25, высокого роста, прекрасно сложенная и, хотя и не особенно красивая собою, но весьма привлекательная; лучше всего были ее глаза, большие, черные, с каким-то особенным матовым блеском, длинными, пушистыми ресницами под красиво очерченными густыми, черными бровями. Она была брюнетка и немного смугловата. Меня представили ей, и мы разговорились. Я
узнал, что муж ее служил чиновником в провинции недалеко от Петербурга в одном из уездных городов, где он жил безвыездно, тогда как она очень часто посещала столицу, где у нее было множество знакомых, преимущественно в мире литературном. Дело в том, что Вера Дмитриевна
Огонева, так звали мою новую знакомую, была сама отчасти пристегнута к литературному миру: она очень удачно переводила с французского, немецкого и английского языков небольшие повести и романы. Кроме того, она подбирала к нотам слова романсов. Ко всему этому она недурно рисовала и в некоторых иллюстрированных журналах часто попадались ее рисунки и виньетки, словом, особа была очень талантливая, умная, начитанная и веселая. Вышло как-то так, что мы почти весь вечер просидели вдвоем.
Бывают случаи, происходит ли то по взаимной симпатии или по каким другим причинам, не умею объяснить, но люди, встретившись в первый раз, вдруг почувствуют друг к другу непреодолимое доверие и тут же при первом же знакомстве, разговорившись, что называется, по душе, сообщат друг другу много такого, чего другому не сообщат и через два года знакомства. Подобное случилось и с нами.
Проболтав всего каких-нибудь два-три часа, мы уже в общих чертах знали все прошлое и настоящее друг друга.
Из слов Веры Дмитриевны я узнал, что она сирота и воспитывалась в Петербурге в одном из закрытых пансионов, где считалась одной из талантливейших учениц. Еще в бытность свою в старшем классе она перевела какой-то рассказ Брет Гарта, рассказ этот был, через одну из ее подруг, дочь писателя, напечатан в одном из толстых журналов. Выйдя из пансиона и поселившись у своей тетки, вдовы офицера, убитого в последнюю турецкую войну, Вера Дмитриевна принялась с рвением за переводы, и скоро ее имя стало известным в редакциях как имя талантливой, прекрасно знающей языки переводчицы. К сожалению, она поторопилась выйти замуж. Муж ее, невидный чиновник, служивший сначала в Петербурге, но после свадьбы переведенный в провинцию, был человек более чем посредственный, и даже странно, что такая развитая девушка, как Вера Дмитриевна, решилась связать себя с подобным субъектом. Он мало того, что был глуп, но и груб, ревновал ее самым идиотским образом и долго не соглашался позволить ей продолжать свою литературную деятельность, но она все-таки же успела отвоевать себе это право, впрочем, хотя он под конец и уступил, тем не менее продолжал постоянно брюзжать и утверждать, что единственное призвание женщины – хозяйничать дома и нянчить детей.
Положение Веры Дмитриевны было тем тяжелее, что неразвитое провинциальное общество смотрело глазами ее мужа; по его понятию: актриса, музыкантша, хотя бы и консерваторка, писательница, женщина, занимающаяся живописью, и курсистка – подходили под общую категорию. Жена должна дома сидеть, детей нянчить и мужу угождать – вот девиз этого общества. Если она, бросив пеленки, кухню и мужнины носки, берется за книгу или начнет разговор, где затрагивается что-либо более общечеловечное, мужья такого сорта начинают дуться, говорить пошлости, насмехаться и нарочно унижать жену, даже в глазах постороннего. Такой муж предпочитает, чтобы о жене думали, что она дура и по глупости занимается вопросами, которые для нее как для коровы – седло, лишь бы, избави Бог, не подумали, что жена умнее его, образованнее и начитаннее. Правда, тяжело бороться: на такую революционерку сыплются насмешки, попреки, сплетни, словом, всякая гадость. И чем эти ничтожные и достойные всякого презрения выходки пошлее и грубее, тем они, конечно, неотразимее, потому что самая их пошлость служит им бронею. В подобном положении была и Вера Дмитриевна, а потому и неудивительно, что вполне отдыхала она душою только в столице, в сочувственном для нее кружке литераторов, музыкантов, живописцев и т. п., куда она приезжала несколько раз в году, привозя с собой заготовленные рисунки, ноты и переводы.
Судьбе угодно было, чтобы мне тут же при первом знакомстве пришлось взять на себя одно ее поручение, которое она, уезжая на другой день обратно к себе домой, сама не могла исполнить. К сожалению, до отъезда ее мне поручения этого исполнить не удалось, о чем я пришел сообщить ей на вокзал. Мы посидели с ней до отхода поезда, с которым она уехала, а я пошел домой обещав ей прислать ответ в письме. Если бы в то время жена моя не находилась в том постоянно дурном расположении духа, о котором я говорил, я бы не преминул рассказать ей о встрече и знакомстве моем с Огоневой, таких знакомств было много, а год тому назад, в период нашего бедствования, я открыто ухаживал за одной актрисой, и жена, зная это, не только не сердилась, но, напротив, подтрунивала надо мной, шутя спрашивала меня, как идут успехи моего ухаживанья. Но тогда она не была такою, тогда с ней можно было говорить откровенно, не боясь того, что она не сумеет отличить белого от черного и серьезного от шутки.
Теперь же на нее нашел дурной стих, вследствие чего я избегал с ней всяких раз говоров, убедившись, что, о чем бы мы ни начали говорить – кончим ссорой. В силу этого, я счел за лучшее ничего не говорить ей о моем новом знакомстве. Прошло месяца два, я давно исполнил в точности поручение Веры Дмитриевны, о чем известил ее, и получил в ответ хорошенькую записочку, в которой она выразила мне свою благодарность, но в самых общих, лаконических выражениях. Тем наша переписка и кончилась.
По-видимому, не было никакой надежды на то, чтобы она возобновилась, как вдруг, месяца полтора спустя, я получаю от Веры Дмитриевны письмо, поразившее и изумившее меня не на шутку. Насколько я мог догадаться по общему характеру письма, у моей новой знакомой случилась какая-нибудь крупная неприятность, под впечатлением которой, желая с кем-нибудь поделиться своим горем и обидой, она, недолго думая, написала мне письмо следующего содержания:
«Мой хороший, новый друг!
Я часто вспоминаю нашу встречу.
Помните, как мы проболтали с Вами весь вечер у Z, я
даже не забыла некоторые темы нашей беседы. Особенно
живо осталось мне в памяти все то, что Вы говорили мне относительно эгоизма любви, разумеется супружеской.
Есть другая любовь, но та не эгоистична, а, напротив, вся, так сказать, основана на взаимном самопожертво-
вании. Супружеская же любовь вся пропитана эгоизмом, и
я в этом все больше и больше убеждаюсь.
Мне особенно понравилось Ваше меткое сравнение двух
супругов с сиамскими близнецами, которые, хотя порой до
смерти надоедают друг другу и даже, пожалуй, ненави-
дят один другого, тем не менее дрожат за жизнь и здо-
ровье своего соседа, так как болезнь одного отзывается на
другом. Нечто подобное испытываю и я...»
Дальше были глухие намеки на придирчивый характер мужа, на невозможность серьезно отдаться делу, которое любишь всей душой, на те стеснительные условия, не позволяющие оставить мужа, без того, чтобы из этого не произошло большого скандала, и т. д. и т. д. в том же роде, хотя все больше намекалось в полусловах, общими местами. Прочитав это письмо, я прежде всего несколько как бы сконфузился. Выходило, будто я, ненароком, попал в задние комнаты семейной квартиры, комнаты, куда гостей не пускают и где скрывается самая святая святых каждой семьи. Но вместе с тем я был крайне польщен, мое самолюбие тешило быть конфидентом 42 такой особы, как
Огонева, о которой я слышал как о женщине гордой, мало обращающей внимание на своих многочисленных ухаживателей, и вдруг такое доверие, такое расположение ко мне.
Что я для нее такое? друг?! а если больше чем друг? голова моя закружилась, в перспективе мне уже представился целый интересный роман, о каких я только до сих пор читал, но никогда не был действующим лицом. Роман с неглупой, замужней женщиной – это такой соблазн, что можно голову потерять. Сколько новых ощущений, тревог, волнений, радостей, целая неведомая волшебная страна..
фантазия моя разыгралась, и вот, под впечатлением всего этого, я сел и написал ответ, под которым с восторгом подписался бы любой сумасшедший.
Об жене я тогда почти не думал. Могла ли ее любовь, бледная и бесцветная, любовь законная, идти в сравнение с тою, как мне казалось, пылкою страстью, которая ожидала меня, если бы мое предположение сбылось; эта страсть сулила мне целое море наслаждений, и, казалось, стоило только броситься в него, чтобы быть на верху блаженства.
Но как ни легкомысленно смотрел я на эти дело, но все же в душе я не был совершенно спокоен, так как чувствовал себя не совсем-то правым перед женой, больше всего смущало меня ее безграничное доверие ко мне. Казалось, что даже самая мысль о возможности измены с моей стороны не западала ей в голову. Слишком надеялась она на свое обаяние, испытанное в прошлом году, не понимая, что обаяние исчезло. Доверчивость ее в этом отношении до-
42 Конфидент – доверенное лицо.
ходила до того, что она бы не поверила, если бы я сам признался ей, что люблю другую, но меня эта доверчивость просто бесила, и я все чаще и чаще, иногда даже не желая, а скорее невольно, под влиянием досады, начинал развивать перед нею мою любимую теорию о невозможности со стороны мужчины долго быть верным одной женщине; разнообразие настолько свойственно человеческой натуре, что даже ради крепости семейных уз мужчина должен время от времени искать себе развлечений вне семьи, и это не только не ослабит и не расстроит семейного согласия, но, напротив, укрепит его, так как в противном случае жена может просто-напросто опротиветь до тошноты. Она слушала мои разглагольствования, сердилась, когда была не в духе, смеялась, когда была в хорошем расположении, но ей и в голову не приходило, что эта теория может быть применима к ней самой.
– Что бы ты сделала, – спросил я ее однажды, – если бы я полюбил другую женщину?
– Ты бы этого никогда не сделал, – с уверенностью ответила она.
– Почему?
– Это было бы слишком жестоко с твоей стороны, да и с чего бы тебе изменить мне, ты, кажется, не имеешь оснований быть мною недовольным.
– Ну, а если бы? – настаивал я. Она задумалась.
– Я бы отравилась или умерла в чахотке, – ответила она наконец после некоторого размышления.
«Ну это вздор», – подумал я, но ничего не сказал, и тем наш разговор кончился.
Написав Вере Дмитриевне письмо, я с лихорадочным нетерпением стал ждать ответа. Но проходили дни за днями, неделя за неделей; прошел месяц-другой, ответа не было. Я наконец решил, что она, верно, обиделась моим письмом и не желает продолжать знакомства.
Сначала это меня очень огорчило, но, когда мало–помалу волнения мои улеглись, я даже обрадовался такому обороту дела.
«Дальше моря, меньше горя!» – подумал я. Хотя возможность романа между нами и льстила моему самолюбию, но тем не менее это обстоятельство могло наделать мне много хлопот и неприятностей. К тому же и отношения мои к жене значительно улучшились. По мере того как она поправлялась от болезни, она становилась спокойнее душою, к ней вернулась ее игривость, кокетство, и хотя она уже не была так хороша, как в прошлом году, к тому же и вести себя стала гораздо скромнее, но нравиться еще могла.
В отдельные кабинеты ужинать мы больше не ездили, но взамен этого время от времени устраивали в своем будуарчике вечера: покупалось вино, конфеты или сладкий пирог, и таким образом производился маленький кутеж; темой разговоров в такие вечера были или воспоминания «сумасшедшего года», или воспоминания о нашем детстве.
Несмотря на то, что мы во всех подробностях знали прошлое друг друга, нам было весело и интересно рассказывать один другому то, что уже двадцать раз было рассказываемо. Иногда, при особенно хорошем расположении духа, Маня брала гитару и вполголоса напевала заученные ею мотивы опереток.
Не получив ответа на свое письмо, я мало-помалу почти совершенно забыл о Вере Дмитриевне, как вдруг в один прекрасный день, придя к себе в контору, я нашел на своем столе следующую, заключенную в миниатюрный конвертик записочку.
«Я приехала вчера с курьерским и остановилась у Z.
Заходите сегодня вечером, поболтаем.
Известная вам В. О.».
Прочтя эту записку, я почувствовал, как заснувшее было во мне чувство пробудилось с новой силой. Весь день я горел как на медленном огне и, лишь только наступил вечер, помчался к Z, где всегда останавливалась Вера
Дмитриевна, приезжая в Петербург. Z были ее старинные друзья, и у них для нее всегда была особенная комната прямо из передней, где она могла располагаться, никого не стесняя и никем не стесняемая. В описываемое время Z не было в Петербурге, Вера Дмитриевна была полной хозяйкой всей квартиры и жила одна с оставленной при квартире горничной. Последнее обстоятельство я сообразил уже в ту минуту, как звонился в квартиру Z.
XIII
Вера Дмитриевна, очевидно, ждала меня, ибо не успел я позвонить, как она сама отворила мне дверь.
– Ах, это вы, – весело затараторила она, – давно не виделись мы с вами, я вас даже и не узнала сразу, ну снимайте ваше пальто да проходите в эту комнату, я сейчас приду, велю чай подать. – Она ушла, а я направился в ее комнату.
Комната оказалась большая, в два окна, перегороженная драпировкой, за которой виднелась кровать. На диване валялись перчатки, веер, на кресле, перекинувшись через спинку, покоилось черное, очевидно визитное, платье, на комоде открытая картонка со шляпой, один ящик комода немного выдвинут, ключи на полу, словом, всюду, что называется, поэтический беспорядок в смешении с сильным запахом духов и массой всяких коробочек и баночек на туалетном зеркале, напоминающий закулисную уборную какой-нибудь актрисы.
«Барынька-то размахай, кажется! – подумал я. – Это хорошо». Пока я пристально приглядывался к убранству комнаты, стараясь по разным мелочам угадать характер ее обитательницы, вошла Вера Дмитриевна, Она была одета в длинный капот из какой-то причудливо разрисованной пестрой материи, весь обшитый кружевами, с широкими рукавами, с небольшим вырезом, дававшим возможность видеть ее смуглую шею и часть бюста. Такие вырезы были тогда в моде.
Как я уже говорил, Вера Дмитриевна не была очень хороша собою. Несколько широкое, скуластое лицо, крупный вздернутый нос, смуглый цвет кожи напоминали немного калмычку, но зато она была высока ростом, с прекрасно развитым бюстом, стройной талией. Волосы у нее были роскошные, цвета воронова крыла, густые и длинные, но лучше всего были глаза: большие, черные, с поволокой, с длинными бархатными ресницами и словно бы кисточкой нарисованными бровями. Манерами она напоминала актрису, что придавало ей большую пикантность в моих глазах. Она вошла, шурша длинным шлейфом, и, небрежно опустясь на диван, тотчас же заговорила:
– Ну-с, давайте болтать: что у вас новенького, я так давно не была в Петербурге, что, мне кажется, прошла целая вечность.
– Нового мало, – отвечал я, зорко тем временем присматриваясь к ней и изучая ее. Мне хотелось как можно скорее разгадать эту женщину, понять ее всю, чтобы знать, как держаться с нею.
Переступая порог ее комнаты, я решил во что бы то ни стало, какою бы то ни было ценою добиться ее расположения, рано ли, поздно ли. «Ведь если бы она не желала сойтись со мною, – думал я, – для чего бы ей было меня вызывать, особливо после моего письма, несомненно ею полученного и в котором я прямо говорил ей о своей любви». Ко всему этому я сразу заметил, как, несмотря на кажущуюся развязность и непринужденность, Вера
Дмитриевна не то как будто конфузилась чего, не то робела. Это что-то, очевидно, было воспоминание о наших письмах, которыми мы обменялись с нею. Обстоятельство это я объяснил в свою пользу и тем смелее решился говорить с ней.
– Вера Дмитриевна, – начал я, – вы не сердитесь?
– За что? – притворно удивилась она, хотя, я более чем уверен, сразу догадалась, о чем речь.
– За мое письмо.
– Ах, за письмо, но за что же мне было сердиться? Если вы позволили себе написать то, чего бы писать не следовало, то это только вследствие нашего обоюдного недоразумения.
– Как недоразумения, извините, я вас не понимаю?
– А конечно ж недоразумения, мы не поняли друг друга.
Я написала вам письмо, которого не должна была писать, вы мне ответили так, как бы ответил любой из вас мужчина в подобном случае.
– Вы, стало быть, раскаиваетесь, зачем писали мне, находите меня недостойным вашего доверия?
– Тут дело не в достоинстве, а в том, что я ошиблась, думала видеть в вас одно, а нашла другое.
– Извините, я опять-таки не понимаю вас, будьте добры, объясните, что вы хотите всем этим сказать?
– Вы хотите?! – кокетливо улыбнулась она, бросив исподлобья быстрый насмешливый взгляд. – Извольте, только чур, на правду не обижаться!
– Только тупицы обижаются на правду.
– Будто бы? ну да не в этом дело, вы хотите знать мое мнение насчет всего случившегося. Извольте, только предупреждаю, вам придется выслушать кое-что для себя не особенно приятное.
– Пусть будет так, – засмеялся я, – мне все равно: страдать иль наслаждаться, страдать привык уж я давно.
– В таком случае слушайте. Помните нашу первую встречу? Помните, как мы между прочим коснулись вопроса о дружбе и тогда же разошлись во мнениях. Я утверждала, что мужчина не способен на дружбу с женщиной, если только эта женщина молода и хороша собой, так как сейчас же старается из друзей попасть в.. – Она засмеялась, затрудняясь докончить свою мысль.
– В любовники, хотите вы сказать, – подсказал я довольно грубо. Я начал понимать, куда клонится речь, так как чувствовал, что на этой почве буду рано или поздно разбит, то я даже крайне начинал досадовать. Она это тотчас же поняла.
– Цесарь, ты сердишься, стало быть, сознаешь себя неправым, но будем продолжать. Итак, я утверждала, дружбы быть не может, и, конечно, не по вине женщины; женщина на такую дружбу вполне способна, это аксиома, но мужчину одна дружба не удовлетворяет, он ищет другого, более сильного ощущения. Это я говорила тогда, скажу и теперь; не знаю, как в настоящую минуту смотрите вы на этот вопрос, но в то время вы напали на меня за такую ересь и стали красноречиво убеждать в противном, вы оспаривали мое мнение, что мужчины обращают сильное внимание на внешность и довольно глухи и слепы к внутренним качествам женщин. Напротив, говорили вы, умная женщина прежде всего поражает мужчину своим умом, настолько, что он даже иногда не обратит почти внимания на ее внешность. Далее вы толковали что-то на тему взаимного уважения, солидарности взглядов, серьезности в обращении одного пола к другому – словом, много было говорено и все в доказательство справедливости вашей теории. Сознаюсь, вы меня тогда совсем сбили с позиции и чуть-чуть не заставили взять свои слова обратно. Ваше обращение со мною служило как бы подтверждением ваших слов; оба раза, как мы виделись с вами, вы относились ко мне именно так, как бы оно и следовало, я не услышала от вас ни одного комплимента, никаких любезностей, никакого рыцарства, взамен всего этого простое дружеское расположение, как к хорошему товарищу. Ваше первое письмо было написано в том же тоне, то же деловитое товарищество, с каким бы вы писали к любому из ваших знакомых. Признаюсь, оно мне очень понравилось, и я уже готова была сознать себя окончательно побежденной,
признав, что дружба между мужчиной и женщиной возможна, как вдруг на мое уже чисто дружеское письмо, какое бы я написала к любой своей подруге, если бы у меня таковая была, я получаю от вас форменный billet-doux43, достойный петиметра Первой империи44. Я уверена, дай я вам его прочесть теперь, вы бы покраснели сами, чего, чего только там не было, я даже и не ожидала от вас столько пыла: вы мне показались тогда, при первой встрече, таким рассудительным, неспособным на увлечения. Эге, подумала я, далеко же у Федора Федоровича г-на Чуева слова расходятся с делом; пророк не выдержал и первого испытания...
– Все, что вы говорите, Вера Дмитриевна, была бы правда, – начал я как можно сдержаннее, умышленно холодным, небрежным тоном, – если бы, припоминая мои фразы, вы потрудились припомнить и сказанное мною под конец нашего разговора; помнится, я тогда же сделал оговорку, поставив непременным условием подобной бескорыстной дружбы, чтобы физически сдружившиеся мужчина и женщина не нравились один другому, например: мужчина не любит женщин с огненными волосами или чересчур маленьких и т. п., влюбиться он в такую женщину не может, а потому и дружба с нею вполне гарантирована от всяких увлечений.
Вера Дмитриевна весело рассмеялась:
– Вы софист, не хуже любого адвоката. Мне ваша фраза напоминает басню Крылова «Лиса строитель», помните:
«.. да только для себя оставила лазейку».
43 любовную записку (фр.).
44 . .петиметра Первой империи – франта времен Наполеона I.
– Ничуть не лазейку, – начал я злиться не на шутку, сознавая, что она понимает меня всего насквозь, – да наконец, мало ли что я говорил, пока...
– Пока что? – насмешливо прищурилась она.
– Пока я не почувствовал того, что чувствую теперь.
– А что вы чувствуете теперь? – задорно спросила она.
– Что?! Вы хотите знать, только чур, уже тоже в свою очередь не обижайтесь.
– Вы думаете, я не знаю, что вы сейчас скажете? – вдруг переменила она тон и холодно добавила: – Я так хорошо это знаю, что готова сказать за вас.
– Говорите, если уж вы такая сердцеведка.
– Извольте, только опять предупреждаю, для вас будет мало приятного слушать. Начать с того, что вы вовсе не чувствуете того, о чем собирались говорить.. не перебивайте, я вам это готова доказать как дважды два – четыре.
Посудите сами, как можно поверить тому, чтобы, не чувствуя ничего раньше, вы только по получении моего письма, месяц спустя после нашей встречи, воспылали ко мне страстью, не проще ли это объяснить так, как я себе объясняю, а именно: при первой встрече вы были далеки от каких бы там ни было видов; вы женаты, я замужем, живем не в одном даже городе, встретясь раз, могли второй раз никогда не встретиться, вы поэтому и отнеслись тогда ко мне вполне просто, как к человеку постороннему. Под таким впечатлением был написано и первое ваше письмо, вы писали только о деле но вот вы получаете от меня письмо, сознаюсь, написанное в минуту раздражения на окружающую меня обстановку, в этом письме я вскользь жалуюсь на мужа, на свою жизнь, на свое положение.. А!
думаете вы, барынька недовольна, барынька несчастлива, мужа своего не любит, а женщины, по общепринятому мнению, без любви жить не могут, не предложить ли себя в качестве утешителя – и вот вы пишете письмо, горячо объясняетесь в любви, которой нет и не могло быть, так как любовь внезапно не приходит, пишете, как какой-нибудь шестиклассник-гимназист, и сами не замечаете, как в каждой фразе вашего письма сквозит желание дешевой победы, развлечение от скуки. Разве я не правду говорю, ну-тка сказывайтесь?
– Вы пользуетесь тем, что вы женщина, – с едва сдерживаемой досадой проворчал я, – вы безнаказанно оскорбляете меня, оскорбляете святость моих чувств..
– Которых у вас нет, повторяю вам, нет и быть не может, – горячо перебила она, – да наконец, какое мне дело, есть ли они или нет, я, по крайней мере, с своей стороны долгом считаю сказать вам, что вы мне как муж чина даже и не нравитесь, вы герой не моего романа, иметь вас своим другом я бы была очень рада, мне нравится ваша манера говорить, притом и взгляды наши в общем сходны, но, –
она слегка покраснела и замялась, – но тем, чем вы бы желали, чтобы я была для вас, увольте, этого для меня и дома слишком много, от поцелуев и от того, что вы называете страстью, я и дома не знаю, куда деваться, а того, что мне надо, у меня нет.
– Чего же вам надо?
– Дружбы, той дружбы, о которой вы так красноречиво говорили, но на которую с первого шага оказались неспособны. Мне надо иметь человека, с которым бы я могла поговорить по душе, посоветоваться.. Таким человеком должен быть непременно мужчина, подруга мне не годится, я сама больше мужчина, чем женщина, для женщин я кажусь даже неестественной, то, что их интересует, мне не интересно нисколько, и наоборот. . Хотите, – добавила она вдруг, быстро протягивая мне руку, – хотите мою дружбу, я охотно возьму вас своим другом, но с условием, выбросить раз навсегда всякую надежду на что-либо иное, кроме дружбы, ни слова о любви, ни малейшего намека, в противном случае лучше расстаемся, хотите?
– Согласен, – сказал я, улыбаясь, и крепко пожал ее руку. «Начнем с дружбы, а там видно будет», – подумал я про себя.
В этот вечер мы просидели с нею довольно долго, разговор вертелся на самых обыденных вещах, немного позлословили насчет общих знакомых, поспорили на разные темы и наконец уже далеко за полночь расстались, по-видимому, как нельзя более довольные друг другом.
Она сама проводила меня и на прощанье крепко пожала руку.
– Я пробуду с неделю, приходите, когда вздумается, рада буду вас видеть, чем чаще, тем лучше.
– Я рад бы был ходить каждый день! – не выдержал я.
– Ну, для дружбы это было бы чересчур часто, – хитро улыбнулась она, – но, впрочем, мы и так почти каждый день будем видеться. Завтра вечер у Бартышевых, вы, я думаю, там бываете, я еду туда, меня приглашали сегодня утром.
– Почти никогда, но ради удовольствия видеть вас я готов принести жертву и ехать к Бартышевым.
– Неисправим, хоть брось! – погрозила она пальцем. –
Помните условие: никаких комплиментов от друзей не требуют. – Сказав это, она юркнула в дверь и заперлась, а я впотьмах стал осторожно спускаться с лестницы.
Не скажу, чтобы я был в особенно приятном расположении духа, меня до боли злило и бесило сознание того, что Вера Дмитриевна сразу и вполне разгадала как самого меня, так и мои намерения. Я злился на нее до того, что готов бы был ей отомстить, но чем? Я мысленно то принимался бранить ее, называя кокеткой, много о себе думающей, пустой болтушкой, то восхищался ею, припоминая ее красивые позы, ее улыбку, долгий, чарующий взгляд, ее меткие словечки и фразы.. Я чувствовал, как увлекаюсь все больше и больше, и это было тем мне досаднее, чем яснее я сознавал всю трудность, короче сказать, всю невозможность какого-либо успеха.
«На кой черт мне ее дружба, – думал я, – дружба между мужчиной и женщиной; дураки выдумали эту шутку, сказали таким же дуракам, а те и поверили. Вот что значит говорить против своего убеждения – черт меня дернул распинаться тогда, в тот вечер, живописуя ей эту анафемскую дружбу, – думал угодить. Гораздо бы лучше, если бы я ей сказал то же самое, что этой чучеле Пряшниковой, та тоже было предлагала свою дружбу. Эк досадно, сам себя запутал, руки связал». Я живо вспомнил наш разговор с
Пряшниковой – эксцентричной старой девой, помешанной на святой дружбе, взаимной помощи, самоотречении, самопожертвовании и т. д., и т. д.,
– На кой черт мужчине ваша дружба, – осадил я ее, –
что он с ней делать станет?
– Как что делать, – изумилась она, – ведь дружатся же мужчины между собою.
– Это дело другое, мужчина с мужчиной может, а с женщиной – нет.
Я вернулся домой в самом скверном расположении духа; ни с того ни с сего придрался к жене и наговорил ей кучу неприятностей. Сначала она было храбро защищалась, подобно настигнутому собаками котенку, но наконец не выдержала и заплакала. Это меня образумило, мне стало жаль ее, и я поспешил чем-нибудь загладить свою грубость. Жена моя была не из злопамятных. Еще слезы не успели высохнуть на ее глазах, как она уже смеялась и, ласково улыбаясь, протянула ко мне свое разгоревшееся личико.
С этого дня началась та мучительная двойственность в моих чувствах, которую я не мог никак победить в себе, в конце концов доведшая меня до несчастия. Если бы кто спросил меня тогда: люблю ли я Веру Дмитриевну, то ответ мой зависел бы от того, где бы я находился в момент вопроса – дома или у Веры Дмитриевны. Даже я бы ответил –
нет! и был бы прав. Действительно, когда жена моя была около меня и я всецело был под ее магическим влиянием, никто другой не мог мне нравиться больше ее. Не только она сама, но даже ее вещи сильно действовали на мои нервы. Она еще в прошлом году изобрела какие-то духи –
смесь различных букетов, и этими духами было пропитано все, к чему она прикасалась. Я страшно любил запах этих духов и иногда, найдя ее платок, подолгу впивал в себя их одуряющее благоухание. Чем слабее становилось ее нравственное на меня влияние, тем, напротив, сильнее становилось физическое. Первые года после нашей свадьбы я находил удовольствие говорить с нею о разных отвлеченных предметах, читал с нею вслух произведения лучших наших авторов, интересовался ее мыслями и взглядами, был бы несчастлив огорчить ее. Теперь же ничего этого не было: я не находил, о чем с нею говорить, никогда ничего не читал, ни в чем не советовался, мне кажется, если бы она вдруг онемела или сделалась дурочкой, я бы не огорчился, но был бы в отчаянии, если бы в ее наружности произошла перемена к худшему, серьезных разговоров почти не вел, и стоило было мне уйти из дому, я забывал о ней, особенно когда находился в обществе Веры Дмитриевны. Та положительно доводила меня до исступления своими постоянными подтруниваниями надо мною; она играла со мною как кошка с мышью. Один вечер была особенно ласкова, чуть не нежна, в словах ее мне чудились даже какие-то намеки, другой раз она едва, едва примечала меня или держалась по отношению меня как по-товарищески, точно бы я был какая-нибудь ее подруга.
Для чего она это делала – Бог ее знает, знаю только, что всем этим она скоро довела меня до того, что многие из моих знакомых начали замечать во мне нечто неладное. Я
становился с каждым днем угрюмее, раздражительнее и рассеянней. Для жены моей мое знакомство с Верой
Дмитриевной оставалось по-прежнему неведомо; в тех кружках, где мы встречались с Огоневой, жена не бывала, а из моих сослуживцев в то время у нас бывал только один
Зуев. Так как человеку этому суждено было сыграть немаловажную роль в моей жизни, то я нахожу необходимым сказать о нем несколько слов.
Зуев служил в одной конторе со мной, куда поступил позже меня, а именно в конце нашего «сумасшедшего»
года. Я помню, я тогда же познакомил его с женой, но, что называется, не в добрый час. Знакомство произошло в театре. Мы сидели в ложе, доставленной жене Вильяшевичем, который был тут же; кроме нас был еще молодой человек – чиновник, друг Вильяшевича. Я встретил Зуева в коридоре и затащил его к нам в ложу.
– Мэри, – шепнул я жене, – вот тебе образчик литературного медведя, докажи свое искусство, приручи его на сегодняшний вечер.
Мэри пристально оглядела Зуева. По лицу ее я заметил, что он ей не понравился, однако она не подала виду, напротив, была с ним весь вечер особенно любезна. Вильяшевич, серьезно ревновавший жену мою ко всем, чем очень смешил нас, наконец не вытерпел и начал придираться.
Маня, заметив это, назло ему удвоила свою любезность с
Зуевым.
– Пригласи его ехать с нами ужинать, – шепнула она мне, когда мы выходили из театра. Зуев сначала уперся, но потом согласился, мы все впятером покатили к Палкину.
Маня, по обыкновению, была весела, хохотала, дразнила
Вильяшевича, который то сердился, то смеялся. Молодой чиновник, отуманенный излишне выпитым вином, таял и жадно пожирал Маню глазами. Я, как и всегда, молчал и наблюдал. Я видел, что Зуеву не по себе; он как-то странно поглядывал то на жену, то на Вильяшевича, то на меня, точно спрашивая: «В каких вы отношениях между собой?».
Меня это забавляло; я знал его за пуританина чистой воды, и мне захотелось его подразнить.
– Господа, предлагаю тост, каждый за здоровье той, в кого влюблен! – провозгласил я, наливая стакан.
– Идет, – воскликнул Вильяшевич. – Мэри Николаевна!
(Вильяшевич никогда не говорил Мария, находя это имя вульгарным) Мэри Николаевна! пью за ваше здоровье.
– И я, и я, – закричал молодой чиновник, срываясь с места и протягивая стакан.
– А этого хочешь? – шутливо грозным тоном спросил
Вильяшевич, показывая ему нож.
– По какому праву, – отпарировал тот, – если вы имеете право быть влюбленным, то и я так же, конечно, с разрешения супруга, – обратился он ко мне.
– Сколько угодно, – засмеялся я. – Итак, вы пьете двое за Мэри, я пью за Додо, – так звали актриску, о которой я уже говорил, – а ты, Мэри, за кого?
– Это не ваше дело, я знаю за кого.
– Про себя пить нельзя, ты должна назвать нам имя своего предмета.
– Я не желаю.
– Должна, иначе не дадим пить, говори.
– Ну, хорошо, погоди, дай придумать; ах да, вот за того лейб-улана, что сидел в первом ряду, ты видел его, какой красавец.
– Ладно, итак, Вильяшевич и Иван Иванович за тебя, я за Додо, ты за неизвестного лейб-улана, а вы, Зуев, за кого?
– За Гретхен Фауста, – произнес он и как-то особенно пристально поглядел в лицо жены. Та заметила этот взгляд и немного смутилась.
– Вы, значит, влюблены в Гретхен, – засмеялась она, –
но такая влюбленность слишком отвлеченная.
– Не более чем ваша в неизвестного даже вам по имени лейб-улана, – спокойно ответил он и медленно выпил свой бокал. Наступило неловкое молчание, я уже каялся, что затащил этого нелюдима, но Вильяшевич выручил.
– Кстати, господа, отчего не дают теперь «Маленького
Фауста», по-моему, это одна из лучших опереток, – он начал рассказывать, как ему случилось видеть эту оперетку в
Париже и какой она производила там фурор.
– Знаешь что, – сказала мне Маня в тот же вечер, ложась уже спать, – Зуев обо мне составил дурное мнение, он, кажется, подозревает что-то между мною и Вильяшевичем, ты заметил, какие он бросал на него взгляды?
– А тебе что? – зевнул я. – Большая печаль, что бы он ни думал.
На другой день я встретился с Зуевым и осведомился у него, какое впечатление произвел на него вчерашний вечер.
Вместо ответа он пристально взглянул мне в лицо и в свою очередь спросил:
– Зачем вы таскаете вашу жену в такие общества, неужели вы не видите, что губите и компрометируете ее этим?
– Вам интересно это знать? – холодно усмехнулся я. –
Извольте, затем, что мне так нравится.
– Жаль! – тихо произнес он и отвернулся.
С этого дня он ни разу у нас не был до самых тех пор, как жена моя, оправившись после родов, встретилась с ним где-то на улице и пригласила его бывать у нас. Он пришел раз, другой, а там стал приходить очень часто. Он как-то особенно скоро сдружился с моею женою, просиживал с нею целые вечера, болтая без умолку на всевозможные темы. Таскал ей книги и даже свои рукописи, которые от других обыкновенно таил с упрямой ревнивостью до их напечатания, и когда меня не было дома, читал ей вслух.
Я заметил, как Маня с каждым разом относилась к нему все дружественней и дружественней. Она так привыкла к его обществу, что перестала считать его своим гостем и, когда он приходил, принимала его в своем будуарчике –
спальне, куда был строжайше запрещен вход всем мужчинам, даже зятю и дяде. Как бы в признательность за оказываемое доверие, Зуев в свою очередь поделился с женою одною своею тайною. Впрочем, собственно сама-то тайна была известна нам всем, никто только не знал, как
Зуев относится к ней, так как он был очень сдержан и никогда не пускался ни с кем в откровенности. Жена моя, кажется, была единственный человек, знавший все во всех подробностях. К чести ее должно сказать – она даже мне ничего не рассказывала; признаться, я и не особенно интересовался, так как в главных чертах мне эта пресловутая тайна была известна чуть ли не с первых дней знакомства с
Зуевым.
XIV
Тайна эта – была женитьба Зуева. Надо знать, что Зуев был большой фантазер и вместе с тем как-то упрямо самонадеян. Стоило ему было что-нибудь забрать в голову, он уже считал это непогрешимо-правильным, а между тем опытности у него не было никакой, бездна доверчивости и порядочная доля наивности, причем случалось всегда как-то так, что, не доверяя людям порядочным, не думающим его обманывать, он тем легче попадал на удочку любого пройдохи. Нечто подобное случилось и с его женитьбой. Дело происходило лет за пять до описываемых событий. Зуев, только что окончивший курс в университете, жил в провинции у своего отца. Отец его был чиновник средней руки, имел хорошее место, не крупный, но и не совсем уже маленький чин и прехорошенький, небольшой каменный домик.
Во флигеле этого домика квартировала в то время курьезная семейка, если можно назвать так трех живущих вместе, но не связанных никакими кровными узами субъектов. Вдова купчиха, лет сорока, толстая, обрюзгшая, сильно напоминающая раскормленного мопса, падчерица ее восемнадцати лет, курносая и также порядком мопсообразная, по имени Прасковья Фроловна, или, как ее обыкновенно звали, Прасковьюшка, и молодой парень, бывший приказчик покойного мужа Голиндухи Нестеровны (так величали вдову). Парень этот Кузьма Кузьмич, еще в то время, когда его кликали просто-напросто Кузька, ухитрился как-то пленить сердце дебелой сожительницы своего хозяина и после его смерти очутился полным владетелем как ее ожиревшего сердца, так и всего его имущества. Вдова, что называется, души не чаяла в своем молодом друге, и ее постоянной мечтой было выйти за него замуж, «прикрыть грех»! – как сокрушенно выражалась она; но коварный похититель ее вдовьего сердца не особенно спешил с исполнением ее страстного желания. Он был лет на 15 моложе ее, очень недурен собой и, что называется, «выжига первой руки».
Как ни была увлечена Голиндуха любовью, она все же не выпускала из рук оставшуюся после мужа лавку и небольшой капиталец. Таким образом, окончательно завладеть и тем и другим Кузька мог только женившись или на ней или на ее падчерице.
Разумеется, Кузька предпочитал последнее, тем более что ему Прасковьюшка очень нравилась. Она не могла почесться красавицей, но в 19 лет какая девушка не хороша, если только она не урод.
Утешая вдову, Кузька тем временем весьма старательно увивался вокруг Прасковьюшки, но, к большой досаде, все его старания оставались тщетными. Прасковьюшка его просто видеть не могла и о браке с ним слышать не хотела.
Как ни улещал ее Кузька, она только руками отмахивалась и наконец, наскучив его приставанием, рассказала «маменьке» о коварных происках ее дружка. Произошла целая буря, из которой «дружок» едва-едва вышел цел, но зато с этого дня жизнь Прасковьюшки, и без того не сладкая, сделалась, по ее собственному выражению, как полынь горькая. Голиндуха, подстрекаемая ревностью, день и ночь, что называется, поедом ела свою падчерицу, как сыщик, следила за ней, шпионила, ревновала и придиралась к каждому слову, к каждому шагу девушки. Кузька, потерявший надежду на взаимность, в свою очередь возненавидел Прасковьюшку и мстил, как только мог, натравливая на нее мачеху при всяком удобном и неудобном случае. Несчастную девушку запирали в чулан, морили голодом, били чем попало, а раз придумали было высечь.
«Для острастки, чтоб, стало быть, не очень нос кверху драла». Но тут уж терпение девушки окончательно истощилось, и она побежала топиться. Неизвестно, утопилась ли бы она или нет, известно только одно, что на берегу ее встретил Зуев, который, живя на одном дворе с Прасковьюшкой, во всех мельчайших подробностях знал ее горькое житье-бытье. До глубины души возмущаясь тиранством Голиндухи, он несколько раз выказывал девушке, чем мог, свое сочувствие. Что произошло между ними на берегу реки, знали только они двое, результат был тот, что через каких-нибудь две недели Прасковьюшка сделалась madame Зуева, к превеликому огорчению отца Зуева, мечтавшего не о такой партии для своего единственного сына.
Весь город ахнул, узнав о сем пассаже, и чрезвычайно удивлялся, что Зуев решил жениться на девушке не только совершенно необразованной, но даже совершенно неграмотной, да к тому же вовсе не красивой.
Один только Зуев был в восторге от своего подвига и с первых же дней свадьбы принялся с горячим рвением развивать свою молодую жену. Он накупил целый ворох книг, составил программу занятий, словом, завел чуть ли не аудиторию. Сначала, сгоряча, не освоившись ни с своим новым положением, ни с характером мужа, не успевши еще забыть побои и брань «маменьки», Прасковьюшка покорно согласилась терпеть всю эту, как в душе называла она,
«муку», но скоро ей это страшно надоело. Притом же она увидела, что супруг ее далеко не страшен, и вот в один прекрасный день она, бросив в печь хрестоматию Галахова, категорически объявила озадаченному Зуеву, что, дескать, она не затем вышла замуж, чтобы изображать из себя «панцыонерку» (пансионерку), и что если ему уж так «приспичило» учить, то пусть учит кого хочет, хоть бесхвостую Жучку, но только не ее.
– Надо мной и то весь город смеется,– заключила она, –
не хочу я быть посмешищем, женился да и тиранит, кабы знать, что на такое тиранство берешь, ни в жисть не пошла бы, лучше бы утопилась.
Напрасно Зуев увещевал ее, все его красноречие, как волна об утес, разбилось об ее истинно классическое упрямство. Она, как породистая лошадь, головой трясла и в ответ на все уговоры произносила жалкие слова, что вот, мол, попала сирота в кабалу, некому и заступиться, как бы ни тиранствовали над ней, никто не сжалится.
Наконец Зуев плюнул и отступился, но не сразу. Несколько раз после того пытался он и тем и другим способом пробудить в ней человека, но, увы, «человек» спал так крепко, что никакие пробуждения на него не действовали.
В конце концов Зуеву пришлось-таки навеки отказаться от всякого развития своей Прасковьюшки. Единственно, чего он добился от нее, это того, что она с грехом пополам выучилась читать и писать. Чем дольше жили они вместе, чем ближе узнавал он ее, тем яснее сознавал всю справедливость отцовского выражения: «Ну, сынок, убил бобра!»
Действительно, Прасковьюшка если и не была «бобром», то во всяком случае гораздо хуже сего полезного зверя. По природе она была очень глупа, гнет, испытанный ею с малолетства, развил в ней злость, наклонность к мелкой тирании и сварливость. Вместо того, чтобы быть бесконечно благодарной Зуеву, она поставила себя относительно его так, как будто бы не она обязана, а он ей, словно бы она и не Бог весть какое одолжение сделала ему, выйдя за него замуж.
Сначала, в надежде тем или другим путем добиться от нее чего-либо путного, Зуев поддался несколько Прасковьюшке, но, убедившись, что, чем дальше, тем она становится все грубее и нахальней, он окончательно оттолкнул ее от себя и, что называется, только что терпел ее присутствие.
Впрочем, обращался он с ней очень вежливо, никогда не жаловался на нее, ни с кем о ней не разговаривал, словом, поставил ее так, что если мы и смеялись над ней, называя ее Прасковьей Кувалдовной, то только за глаза.
Единственный человек, с которым Зуев иногда говорил по душе о своих семейных делах, была, как я и говорил, моя жена; перед ней он откровенно раскрывал свою душу и горько жаловался на свою неудачную женитьбу. По справедливости, лучшей слушательницы, как Маня, ему бы и не найти. Другая его же бы осмеяла, по крайней мере, хоть за глаза, невольно, ради красного словца; Маня же относилась к нему вполне серьезно-дружески. Она так умела понять всегда всякое человеческое горе, так умела всем существом своим войти в положение другого, что выходило, будто они оба страдают одним горем, и при этом она никогда не «жалела», чутьем сознавая, что «жаленье» обижает того, кого жалеют. Нет ничего обиднее, когда вас считают «несчастненьким», и нет большего врага, как те сердобольненькие людишки, которые плачутся над вами, по крайней мере, таково мое мнение.
И так Зуев сделался у нас домашним человеком, а так как я довольно редко бывал дома, особенно когда приезжала в Петербург Вера Дмитриевна, то, по большей части, они проводили вечера совершенно одни. Я мало интересовался, о чем они разговаривали между собой, я знал, что жене моей весело, когда он сидит у нас, и был очень доволен, по крайней мере, мое отсутствие было не так заметно.
Ревновать ее я, конечно, и не думал. Зуев был более чем нехорош собою. Худощавый, бледный, сутуловатый, с реденькой рыжеватой бородкой, весьма неуклюжий, что при его довольно высоком росте было особенно как-то заметно.
Ко всему этому он было порядочная неряха. Ходил в засаленном сюртуке, в мятой сорочке, галстук у него постоянно ютился где-то на боку, а жена моя чуть ли не выше всего ценила в мужчине аккуратность. Неряшливость Зуева была тем менее извинительна, что человек он был далеко не бедный. Он много зарабатывал переводами, так как знал почти все европейские языки, а некоторые языки из них в совершенстве. У него был просто талант к изучению языков. Как известно, чем больше человек знает, тем легче ему учиться новым, так, например, вздумалось выучиться ему по-испански, достал книг, лексиконов, и через два месяца он уже выписывал какую-то мадридскую газету, а там занялся переводом одного из новейших испанских писателей. Переводы его отличались замечательной точностью и ясностью. Он удивительно хорошо умел угадывать и понимать дух как переводимого им автора, так и языка подлинника, а потому и переводы его читались легко и с большим интересом. Это были в полном смысле «переводы», а не «перевозы», какими обыкновенно угощают публику большинство наших «перевозчиков», думающих, что достаточно теоретически выучить язык, чтобы при помощи лексикона стать переводчиком.
Со мною Зуев держал себя очень неровно. То был особенно дружествен, до нежности, то начинал дичиться,
«подфыркивал», как я выражался, и ни с того ни с сего принимался говорить мне колкости, на которые я в большинстве случаев не обращал внимания, иногда только,
когда бывал в ударе, отвечая на них более или менее злыми насмешками. Так, например, я уверял его, будто он имеет вид человека, спустившегося по внутренности водосточной трубы. Особенно обижался он, когда я говорил ему:
– Вас, Зуев, точно кто жевал, жевал и выплюнул, вы весь какой-то изжеванный.
Зато с женою моей у них была дружба – водой не разольешь, и вдруг Зуев перестал бывать у нас. Это меня удивило.
– Что у вас случилось? – спросил я как-то Маню. –
Почему Зуев не ходит, поссорились вы, что ли, с ним?
– И не думали, я, признаться, сама удивляюсь, – отвечала жена. – Увидишь, спроси его, какая причина, обиделся ли он, что ли, на что, не понимаю.
– Да он, может быть, в любви тебе объяснился, знаешь: Он был титулярный советник,
А она генеральская дочь,
Он ей пылко в любви объяснился,
А она прогнала его прочь45 ...
и у вас не то ли случилось?
– Какие глупости, – вспыхнула Мэри. – Это у тебя на уме одни гадости, а Зуев человек серьезный.
– Помяни мое слово, он влюбился в тебя, но, как человек с «принципами», не желает подвергать тебя опасности
45 Автор цитирует строфу стихотворения поэта П. И. Вейнберга: Он был титулярный советник,
Она – генеральская дочь;
Он робко в любви объяснился,
Она прогнала его прочь...
увлечься им, что весьма легко может случиться, принимая во внимание его неотразимую красоту и изящество.
– Смейся, смейся, а он вовсе не такой урод, например глаза у него очень хороши, такие выразительные, задумчивые..
– Как у коровы, попавшей на лед и соображающей, как бы ей выбраться получше на берег. Однако я все же попытаюсь, хотя бы и против воли, затащить к тебе сего целомудренного Иосифа, а ты разыграй с ним роль Пентефрии46...
– А ты тем временем пропадешь куда-нибудь, и где это только ты скитаешься, никогда почти дома нет.
– По делам, матушка, по делам. Без дела только собаки бегают.
– Уж и ты не по их ли следам пустился, – задумчиво проговорила Маня, но я сделал вид, будто не расслышал ее слов. Свое обещание насчет Зуева я, однако, исполнил и не дальше как на другой день притащил его к нам. С этого дня он снова зачастил было к нам, но не долго и после одного случая, о котором я расскажу в своем месте, опять перестал бывать у нас. На сей раз, мне уже надоели его порывистые выходки, я больше уже его не уговаривал и не звал. Тем более меня удивило, когда однажды, в самый разгар моих ухаживаний за Верой Дмитриевной, я, возвратясь от нее поздно вечером домой, еще из прихожей, снимая пальто, услыхал голос Зуева, горячо о чем-то ораторствовавшего.
Он уже более месяца не был у нас, а потому такой не-
46 Намек на библейскую легенду о Пентефрии, которому был продан Иосиф измаильскими купцами в Египте.
ожиданный и поздний визит мне показался несколько странным.
– Ну хорошо, – доносился до меня меж тем крикливый голос Зуева, он, очевидно, чем-то был сильно взволнован и горячился, – хорошо, я вам докажу, но помните, если это окажется правдой, то и вы должны сдержать свое слово.
Согласны? Сдержите?
– Я уже вам сказала, а что я говорю, то и исполню, –
послышался в ответ голос Мани.
– Помните же, – с какой-то торжественностью воскликнул Зуев,– помните, это не шутка, в этом таится громадное благополучие для нас обоих.
– А для меня? возьмите уже и меня в долю, – крикнул я весело, входя в комнату. Мое неожиданное появление произвело эффект. Очевидно, увлекшись разговором, они не слыхали ни моего звонка, ни моих шагов. Оба как-то растерялись, особенно Зуев. Он сначала вспыхнул до корня волос, потом побледнел, и, когда взглянул на меня, мне почудилась в его лице как бы сдерживаемая неприязнь.
Жена тоже была не то сконфужена, не то чем-то словно бы недовольна. Я сделал вид, что ничего не заметил, дружески пожал руку Зуева и наклонился, чтобы поцеловать жену в лоб, но она слегка отшатнулась от меня, по крайней мере, мне это так показалось.
– Где ты был? – спросила она, подозрительно заглядывая мне в лицо.
Я наугад назвал первую подвернувшуюся мне на язык фамилию, кого-то из наших знакомых. Она ничего не ответила, но как-то особенно недоверчиво прищурилась. Зуев тем временем начал торопливо прощаться, я не удерживал его, и он ушел. Жена предложила мне чаю, но я отказался, сославшись на то, что пил чай в гостях. Я боялся, чтобы за чаем жена не вздумала задавать мне каких-либо вопросов, а потому и поторопился скорее улечься спать.
Я уже засыпал, когда Маня, неожиданно приподнявшись на своей постели, вдруг спросила меня:
– Федя, ты спишь?
– Сплю.
– Не дурачься, я хочу тебя кое о чем спросить.
– Спрашивай.
– Что бы ты сделал, если бы я изменила тебе?
– Отправил бы в участок.
– Господи, – воскликнула Маня, сердито хлопнув рукой по подушке, – что за несносный человек, неужели ты никогда не можешь быть серьезным. Я не шутя спрашиваю, как бы ты поступил, если бы я бросила тебя?
– Для того чтобы бросить, надо поднять, а во мне три с половиной пуда, тебе, пожалуй, не под силу.
– Ты нарочно сердишь меня?
– Нарочно.
– Хорошо же. Я больше не говорю с тобой, но помни, ты раскаешься.
Она помолчала несколько минут, но, видно, ей очень хотелось высказаться, а потому она не выдержала и снова заговорила:
– А если я уйду от тебя, тогда что?
– К кому?
– Это не твое дело, – уйду, оставлю тебя, что ты сделаешь?
– Дам целковый на извозчика, чтобы ты не шла, а ехала;
сдача, если таковая останется, разумеется, в твою пользу.
– Ты это серьезно? – в голосе ее послышалась обидчивая нотка. – Стало быть, я тебе надоела?
– Очень.
– Почему?
– Потому что мешаешь спать.
– Прежде ты так не рассуждал, – уязвила она меня.
– Прежде и ты от меня не собиралась бегать.
– Ты, кажется, меня вовсе не ревнуешь.
– Неужели ты до сих пор в этом сомневаешься? Разумеется, нисколько.
– Значит, не любишь.
– Не знаю, если, по-твоему, ревновать – любить, то не люблю. У каждого свой взгляд на вещи, у мужиков: если муж жену не бьет – значит, не любит. Прикажешь для доказательства любви за косы оттрепать?
– Ты не рассердишься, если я тебя спрошу, я давно все собираюсь, да боюсь – ты обидишься.
– Валяй на здоровье.
– А ты бы согласился на развод?
– За деньги – ни за какие миллионы, а даром, пожалуй, смотря по обстоятельствам.
– Это как же так, по обстоятельствам?
– Если бы я убедился, что человек, которого ты полюбила, достойней меня или не то чтобы достойней, а может лучше моего устроить твое счастье. Тогда бы я, мне кажется, уступил бы. .
– Старая песня. На практике неприменимо. Никто никогда не сознается в превосходстве другого с полной искренностью, да и ты, я знаю, потому так сладко поешь, что уверен во мне, а увлекись я кем-нибудь, ты бы сделался ревнивее самого ревнивого ревнивца.
– Не знаю. Попробуй. Однако уже два часа ночи, Спать пора. Adio mia carissima47. Приятных сновидений.
Маня ничего не ответила и улеглась, плотно до половины головы закутавшись в одеяло. Я тотчас же заснул как убитый. Не знаю, сколько прошло времени, но вдруг я почувствовал, что кто-то тормошит меня. Я открыл глаза.
При бледно-розовом свете фонарика я увидел Маню, она сидела, наклонившись надо мной и обвив руками мою голову, осторожно, чуть касаясь губами, целовала меня в лоб и глаза. На ресницах ее блестели слезы.
– Мэри, что с тобою? – спросил я, с удивлением всматриваясь в ее лицо.
– Я сама не знаю, мне отчего-то невыносимо грустно, так грустно, как никогда не было, я точно боюсь чего.
– Да ты, мать моя, и взаправду не влюблена ли? Только в кого же, не в этого же орангутанга Зуева?
– Он вовсе не орангутанг, у него замечательно прекрасное сердце. Посмотри, как относится он к своей жене, даром что она не стоит и одного его мизинца. Всегда он серьезный, внимательный, никогда никого не осмеет, ни над чем не глумится.
– Словом – идеал. Не про него ли сочинил Пушкин: Жил однажды рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
47 Прощай, моя дорогая (фр.).
С превосходною душой,
то бишь
Духом смелый и прямой48 !
– Ах, впрочем, я и забыл: Пушкин умер несколько раньше, чем родился твой идеал мосье Зуев. Стало быть, не про него, хотя подходяще.
– Вот ты всегда так, – укоризненно покачала головою жена и задумалась.
– Да ты вот что: дай один мне ответ – влюблена или
нет? – спародировал я стих Жуковского. – Если влюблена, то у меня есть против этого прекрасное средство..
Маня ничего не ответила, молча махнула рукой и, перейдя на свою постель, улеглась, закутавшись с головою в одеяло – это была ее привычка, когда она была не в духе, за что я сравнивал ее с улиткой, уходящею в свою скорлупу.
«Что с нею, – думал я, – что за блажь влезла ей в голову? Неужели влюблена, вот бы фунт был, да еще и с четвертью. . Да нет, быть не может, не в кого; ведь не в Зуева же. Это была бы потеха. Прасковьюшка в цепки пошла!» И
я мысленно представил себе Прасковьюшку, толстощекую, краснорожую, тучную, как опара, в роли разгневанной матроны. Мысль эта показалась мне настолько забавной, что я невольно расфыркался.
– Что ты? – спросила Маня.
48 Автор по памяти цитирует начало поэмы А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный. .».
– Мне представилось, как ты из-за Зуева с Прасковьюшкой на дуэли ухватами дерешься.
Не успел я сказать это, как Маня порывистым движением сорвала с себя одеяло, поднялась на постели и, мрачно взглянув на меня исподлобья, дрожащим от гнева голосом произнесла:
– Слушай, полишинель49, и запомни, я уже раз тебе говорила это, а теперь снова повторяю, если я узнаю, что ты изменяешь мне, я или отравлюсь, или брошу тебя навсегда, на всю жизнь, помни это.
– Тэ, тэ, тэ, это из какой оперы? Я в простоте сердечно думал, что вы мне собираетесь изменять, ан выходит, я состою в подозрении у вас. Это вам не Зуев ли напел что-нибудь, надо будет завтра спросить его.
– Не смей, слышишь ли, ничего не смей говорить ему, умоляю тебя, – живо заговорила жена, – пожалуйста, милый, хороший.
– Тьфу ты пропасть, сдурела баба на ночь глядя, ну если уже ты так не хочешь, не скажу.
– Честное слово?
– Честное слово, но и ты дай мне слово не слушать дураков. Верь мне: я тебя одну любил, люблю и, кажется, думаю любить и впредь ни на кого не променяю.
– Это правда? – как-то тоскливо, недоверчиво прошептала она, стараясь заглянуть мне в глаза. – Ну хорошо,
– успокоенным голосом продолжала она, – я тебе верю, но помни, грех тебе будет, если ты обманываешь меня, и тем более, чем более я тебе верю, а я знаю, если что случится, я
49 Полишинель – один из постоянных типов итальянской комедии, Петрушка.
не переживу, подумай об этом.
Не скажу, чтобы в эту минуту я был совершенно спокоен, я подумал об Огоневой, и на сердце мне стало скверно.
«Черт знает чем эта вся чепуха кончится, – мелькнуло у меня в голове, – а быть беде, я Маню знаю. . ну да авось перемелется – мука будет».
На этой мысли я успокоился.
Теперь я должен вернуться несколько назад и рассказать о том случае, который произошел между Зуевым и
Маней, вскоре после которого он прекратил было свои визиты вплоть до того вечера, о котором я только что рассказал.
В один прекрасный день является как-то Зуев без меня, весьма торжественно настроенный и против обыкновения почти щегольски одетый, во всем новом, гладко причесанный, даже едва ли не раздушенный, так что от прежнего
Зуева оставалось разве только одно, а именно: способ носить галстук где-то в соседстве с затылком.
В затянутых в лайку руках он держал изящную бонбоньерку – большого формата гнездо с голубями в перьях в натуральную величину, в бонбоньерке покоилось по крайней мере фунтов 5-6 весьма дорогих конфет. Зуев в качестве подносителя конфет – явление более курьезное, чем вальсирующий медведь.
Маня глазам своим не верила и смотрела на него с нескрываемым изумлением. Кажется, Зуев сам сознавал отчасти всю необычайность своего визита, а потому поторопился оговориться:
– Вы, Мария Николаевна, говорили как-то последний раз, что с отъездом Вильяшевича не имели у себя хороших конфет, я узнал от Федора Федоровича, где обыкновенно покупал Вильяшевич, и, кажется, достал точно такие же, надеюсь, вы не откажетесь принять их.
– Очень благодарна вам, но с чего вы так раскутились.
Наследство, что ли, получили?
– Вы угадали, именно наследство: умерла моя тетка, сестра отца, и оставила нам обоим именье, отец предложил мне за мою часть десять тысяч. Вчера я получил деньги, и знаете, зачем я приехал к вам сегодня: мне бы хотелось вспрыснуть свою получку, не согласитесь ли вы с мужем поехать куда-нибудь? Пожалуйста, не откажи те, вы знаете
– ваша семья для меня родней родной и мне хочется именно в вашей семье отпраздновать это радостное событие.
– Смерть тетки? – улыбнулась Маня.
Он немного смешался, но тотчас же весело рассмеялся:
– Вы очень злы, но дело не в этом, вы лучше ответьте на мой вопрос.
– Да куда мы поедем?
– А разве я знаю. Пусть ваш муж придумает, он специалист устраивать всякие «фольжурнэ».. ну поедемте хотя бы к Палкину, помните нашу первую встречу.
– Помню, но, насколько могу судить, я тогда вам не понравилась, для чего же возобновлять неприятное впечатление, – кокетливо улыбнулась она.
– Я вас тогда не знал и иначе думал о вас.
– Я знаю, что вы думали, – слегка покраснела Маня, –
но вы не виноваты, тогда можно было подумать многое.
– Мария Николаевна, раз уже вы сами коснулись этого разговора, простите меня, но я давно хотел спросить вас, кто этот Вильяшевич, откуда он и как вы познакомились с ним?
– Вильяшевич – это прежде всего помещик, очень богатый, у него в Самаре огромное имение, женатый, но с женой не живет, так как она чем-то больна и постоянно лечится за границей. Познакомились мы с ним случайно, у него какое-то дело было до мужа, он приехал, не застал его дома и просил позволенья обождать. Я с ним тогда просидела часа два, потом приехал Федя, и мы в тот же вечер собрались в театр, Вильяшевич тогда с Федей пополам ложу наняли. А там он стал часто бывать у нас, начал возить мне конфеты, билеты в театры и концерты, устраивать пикники, катанья на тройках, кутежи. Мне это было тем более неприятие, что Федя, не желая отставать от него, тоже много тратил, хотя, конечно, за Вильяшевичем ему было не угнаться. Тот мог, если бы мы ему только позволили, спустить несколько тысяч в вечер.
– Он был в вас влюблен?
– Вздор какой, просто это был каприз избалованного успехами богатого человека. Сначала он, кажется, принял меня за особу податливую, а потом, когда увидел, что ошибся, он уже из упрямства и уязвленного самолюбия хотел непременно поставить на своем, но. .
– Но?
– Но, конечно, ему не удалось; а если бы вы знали, какие он мне предложения делал. Мне подчас было и смешно, и досадно, и обидно, он иногда просто в исступление приходил, конечно, все из одной только досады,
– Муж ваш знал?
– Еще бы, я ему всегда обо всем рассказывала, да к тому же Вильяшевич и не думал скрываться.
– И муж вас нисколько не ревновал?!
– Нисколько. Во-первых, он не из ревнивых, во-вторых, слишком уверен во мне.
– Неужели он не приревновал вас, если бы вы поехали с кем-нибудь вдвоем куда-нибудь, ну, положим, в театр, например, со мною?
– Не думаю, – засмеялась Маня, – но я бы сама не поехала.
– Почему?
– Странный вопрос, потому что это не принято, чтобы замужняя женщина ездила с кем-нибудь без мужа.
Как только я вернулся домой, Зуев принялся упрашивать меня ехать с женою и с ним куда-нибудь вспрыснуть наследство, но я отказался наотрез – у меня была весьма спешная работа, которую я дал слово окончить к утру другого дня. Отказ мой чрезвычайно огорчил Зуева.
– Сегодня концерт Славянского50 в Благородном собрании, я уже и ложу взял, карету нанял, оттуда, думал, мы куда-нибудь поедем поужинать, ах какая обида!
Он так был искренно огорчен, что мне стало почти что жалко его.
– Да на кой я вам черт сдался, поезжайте вы с Маней вдвоем, по крайней мере, мне мешать не будете.
– Как вдвоем? – удивился Зуев. – Мария Николаевна не поедет.
– Вздор, поедет. Мэри, поезжай ты с ним, сделай ми-
50 Славянский Дмитрий Александрович (1836–1908) – настоящая фамилия Агренев, известный народный певец и хоровой дирижер.
лость, а я писать буду.
Зуев устремил умоляющий взгляд на жену. Та колебалась.
– Поезжай, нечего раздумывать, концерт будет прекрасный, я сегодня программу читал.
– Мария Николаевна, поедемте, – просящим голосом заныл Зуев, – ведь в самом деле ничего.
– Пожалуй, поедемте, – согласилась Маня. – Раз муж пускает, мне до остальных, действительно, дела нет.
Зуев чуть не прыгал, так он был доволен, но Мане было не совсем по себе.
– Знаешь, было бы гораздо лучше, если бы и ты с нами поехал, – сказала Маня, переодеваясь в спальне, – Ну, что я с ним там вдвоем делать буду, – добавила она шепотом.
Я отмахнулся рукой.
– Есть мне время по вашим концертам ездить, да и к чему; по-моему, я вас только стесню. Зуев будет тебе в любви объясняться, а мне что прикажешь около вас делать.
Заметь, какая у него сегодня рожа, можно поду мать, что он к невесте приехал предложение делать.
Маня весело засмеялась.
– Почем знать, может, и правда.
– На здоровье, только не забудь, у него жена, а у тебя муж.
Жена смеялась и тем временем кокетливо и быстро оканчивала свой туалет.
– А ведь что, я, право, хорошенькая, – повернулась она перед зеркалом, поправляя трэн51 платья и любуясь через плечо на свою тонкую, изящную талию.
51 Трэн – своеобразная отделка платья.
– Как маримондочка52. Кстати, постой, ты совсем разучилась носить свои шляпы. Шляпы a la Rembrand носятся гораздо больше набок, вот как, – я поправил ей шляпу, выпростал из-под плюша кудряшки на лбу и накинул на плечи ротонду.
Она еще раз оглянула себя в зеркало и усмехнулась.
– Смотри, не скучай без нас, – шепнула она мне на ухо и больно стиснула его зубами, – я тебе гостинца привезу, знаешь, как маленьким детям, сусальных коньков.
– Ладно, ладно, проваливайте, да только, пожалуйста, подольше не возвращайтесь, а то помешаете работу кончить. Да кстати, пейте где-нибудь там чай, на меня не рассчитывайте, я напьюсь рано да и сяду строчить. Ну, исчезайте, брысь!
Они уехали, а я сел писать.
Было уже часа три ночи. Я, окончив работу, сладко потянулся в кресле и только что подумал о жене, как раздался звонок, и через минуту она вошла в комнату, сияя глазками, с раскрасневшимися от холода щечками.
– Ну что, заждался? – весело заговорила она, сбрасывая на руки заспанной горничной ротонду.
– А где же твой рыцарь Тогенбург53? – спросил я.
– Он довез меня до нашего дома, но не хотел зайти, чтобы тебя не беспокоить.
– И отлично сделал, потому что я сейчас ложусь спать.
– Тебе бы только спать, соня, а ты лучше слушай, где
52 Маримондочка – ироническое прозвище, взятое из старой кафешантанной песенки. 53 . .рыцарь Тогенбург – романтический персонаж одной из баллад В. А. Жуковского.
мы были.
– Где? В концерте, а, впрочем, черт вас там знает, куда вас носило.
– Концерт не состоялся, мы приехали, а на дверях анонс: «По случаю болезни г-на Славянского концерт отлагается.. » Что делать? домой ехать, Зуев и слышать не хочет, в театр уже поздно, да и билетов нигде не достанешь, мы и решили в «Ренессанс» на французскую оперетку, кстати, я там почти год как не была.
– Дельно, вы бы лучше в «Шато-де-Флер54».
– Глупости. Теперь «Ренессанс» стал вполне приличным, уж если я прошлый год ездила, то теперь и подавно, ты бы посмотрел, какая там публика.
– Ну-с, дальше, что давали?
– «Периколу». Новый баритон пел, очень хорошенький, если бы ты слышал, как он спел письмо Периколы, просто восторг.
– Воображаю. Дальше. Что же у вас после «Пери–колы»-то было?
– А после «Периколы» мы ужинали, вот тебе, не посылай жену одну с молодым человеком.
– Резонно. Чем же вас кормили?
– Была стерлядь паровая, рябчики или дупеля, я что-то не разобрала, и еще какое-то сладкое на ананасном сиропе.
– Ха, ха, ха! Ну, меню. Голову кладу на сруб, вам официант заказывал по своему вкусу. Зуев ведь в этом профан, он, я думаю, не знает ни одного трактирного названия кушаньям, воображаю, какую он рожу сделал, когда
54 « Ренессанс», «Шато-де-Флер» – названия модных петербургских ресторанов.
ему сунули под нос карточку кушаний, небось тут ему и языковедение не помогло.
Маня засмеялась и кивнула головкой.
– Я так и знал. «Эй, любезный, подай там, что сам знаешь, только получше!» Ну а с точки зрения официанта, получше – это значит подороже. Воображаю, что с вас слупили. Ну, а пили что?
– Шампанское, разумеется.
– Поди «васисдас» какой-нибудь, вы ведь оба знатоки, шампанского от фруктового кваса не отличите.
– Нет-с, не «васисдас», а настоящее Помри-Сек.
– Ну и Христос с вами, а теперь иди, раздевайся, я спать хочу.
– Успеешь, дай рассказать.
– Да рассказывать-то нечего. Поехали в концерт, попали в Буф, ели какую-то пакость, пили какую-то слякоть, заплатили за то и другое бешеные деньги, затем три часа с
Офицерской в Пушкинскую плелись в рваной каретчонке, оба всю дорогу, наверно, преисправно клевали носами.
Приехали, теперь надо спать ложиться.
– Боже мой, как ты мне надоел. Спать, спать...
– Ладно, тебе хорошо говорить, ты небось завтра до двенадцати часов будешь нежиться, а мне в 10 часов утра надо уже быть в другом конце города, работу сдать.
– Ну хорошо, иди, я тебе, пока ляжем, расскажу преинтересный казус. Вообрази себе, – начала жена, торопливо завертывая перед зеркалом волосы в папильотки, – ты не поверишь, какое мне сегодня сделал Зуев предложение?
– Ну?
– Отгадай.
– Пошла вон. Я уже засыпаю, завтра расскажешь.
– А тебе не интересно?
– Что? спать – очень, а потому прошу тебя, кончай ты скорей свои туалеты, вертишься, как флюгер перед глазами, наказанье иметь жену кокетку. И главное, воображает, что и действительно так хороша, удивительная красавица.
– Красавица не красавица, а вот Зуев предлагал же сегодня оставить тебя и ехать с ним в провинцию, ему там место в земстве предлагают, я, признаться, не поняла какое, а только жалованья три тысячи.
– Это, наверно, на мыс Доброй Надежды вице-губернатором, только как же Прасковьюшку-то Кувалдовну, в музей Гасснера, что ли, или к Росту в зоологический, там, кстати, вакансия недавно открылась, гиппопотам издох, только согласится ли она на подобную комбинацию, вот вопрос?
– С Прасковьюшкой у них уже конец, он с ней разводится.
– Как разводится? – изумился я. – Каким образом?
– А ты и не знал. Молодец Зуев, не в нас, зря не болтает, а ведет дело втихомолку. Видишь ли, он получил от отца десять тысяч, из них пять предложил Прасковьюшке с тем, чтобы она согласилась на развод, приняв вину на себя.
– Ну и что ж она, неужели согласилась?
– А отчего бы ей и не согласиться? Ее постоянная мечта
– вернуться в родной город, завести торговлю, сесть за прилавок, отвешивать и отмеривать, по воскресеньям ходить к ранней обедне, а там к многочисленным кумушкам, с которыми она будет усиживать по 18 чашек чаю в присест. Теперь она всего этого лишена. Сидит целые дни одна в четырех стенах, как ты знаешь; он ее никуда не вывозит, к ним тоже никто не ходит, да с его знакомыми ей и говорить не о чем, муж даже и тот по целым неделям с ней слова не скажет. По ее собственному выражению, живет она ровно в тюрьме альбо какая прокаженная.
– Что же, это отчасти верно. Удивляюсь только, как с ее неразвитостью решается она на себя вину взять, ведь у простонародья на это особые взгляды.
– Ну уж не знаю. Сумели уговорить. Очень уж ей очертел Питер, на волюшку хочется. У них почти уже все дело слажено. Недели через две последние формальности выполнятся и конец.
– Ай да Зуев, не ожидал я от него такой прыти. Вот тебе и Прасковьюшка, не долго покрасовалась она madame Зуевой, всего, кажется, пять лет.
– Скоро шесть минет. В конце марта.
– Однако ты его дела хорошо знаешь, точно секретарем при нем состоишь. Счастье Зуева, что детей у них нет, а то бы ему не так легко было стрясти ее с шеи. И так Прасковьюшка вниз по матушке по реке Неве, стало быть, и помех никаких нет, когда же вы едете?
– Куда?
– А черт вас знает. На мыс Доброй Надежды, что ли, или в Патогонию, где он там вице-консулом-то назначен.
Вы уже мне, пожалуйста, перед отъездом скажите, чтобы я, значит, мог на поезд прийти проводить вас, да, кстати, и ребятишек привезти, чтобы, стало быть, их как-нибудь не забыли ненароком, а то ведь все равно вам их с почтой пришлю.
– Мы тебе их и не оставим. Зуев находит, что это было бы преступлением оставлять их у такого беспутного отца, как ты.
– А чтоб им крокодил подавился, вот путный нашелся, подумаешь. Во всю жизнь если что и сделал путного, то одно только, что сумел от своей ископаемой супруги избавиться. Это, действительно, штука важнецкая. Хвалю, искренно хвалю. С сегодняшнего он в моих глазах поднялся на 50%. Однако будет болтать. Adieu, leben sie wohl55.
– Прощай.
В то время я совершенно не обратил внимания на всю эту историю. Что Зуев увлекается Маней – я знал, так же как и то, что Маня им никогда не увлечется, мало ли кто какой вздор мелет и какие воздушные замки строит, всего не послушаешься. Однако на этот раз я несколько ошибся.
Дело вышло серьезнее, чем я предполагал сначала.
Вот что я узнал, но уж гораздо позже, со слов жены, рассказавшей мне впоследствии все в подробностях.
Еще во время первого антракта Зуев стал упрашивать
Маню: после спектакля отужинать с ним в отдельном кабинете, тут же, в здании «Ренессанса», или где в другом месте.. Сначала она отказалась, но потом согласилась, чем чрезвычайно обрадовала Зуева, так что он не выдержал и произнес целую речь на тему, насколько он польщен ее доверием, как он ценит это и сумеет заслужить. Фофан этот, кажется, думал, будто Маня опасается оставаться с ним tete a tete, над чем она от всей души хохотала про себя.
Ужин прошел очень вяло. Кушанья были хотя и дорогие, но оказались маловкусными, притом же Зуев был далеко не
55 Прощай, моя любимая (нем.).
кавалер, умеющий занять даму. Сначала он донимал ее разговорами на высокие темы, что при трактирной обстановке было довольно курьезно, с самого основания своего кабинеты «Ренессанса» не видали в стенах своих такого гостя и не оглашались столь неподходящими, к их прямому назначению, высокоторжественными фразами. Но самый курьез ждал Маню под конец.
– Послушайте, Мария Николаевна, – начал вдруг Зуев после того, как официант, убрав лишнюю посуду и придвинув к ним наполненные шампанским бокалы, вышел, обязательно притворив за собою плотно дверь кабинета, – я давно хотел спросить вас – вы любите своего мужа?
– Вот странный вопрос, – усмехнулась Маня, – разумеется, люблю.
– Любите? Меня это, признаться, удивляет. Насколько я вас знаю, вы женщина умная, развитая, с чутким, благородным сердцем, ведь не потому вы его любите, что вам в церкви приказали: «Жена да боится мужа!»
– Конечно, не потому.
– Значит, вы его любите за него самого, за его личные качества, не так ли? – Зуев начинал горячиться. – Но, простите меня, я не понимаю этого, не понимаю, не понимаю. .
Вы и он! Какая разница! Вы олицетворенная прелесть, вы ангел душою и сердцем, в вас столько поэзии, столько детской чистоты, а он – он просто-напросто развратник до мозга костей, к тому же глубокий циник, у него нет ничего святого. Вы думаете – он вас любит? Не вас, а ваше тело.
Для чего он наряжает вас, для чего все эти вырезы на платьях, для чего он таскал вас целый год по таким местам, где вам вовсе бы и не следовало быть.. Все по той же причине, что он видит в вас только одно удовлетворение своей физической страсти, а до вашей души ему дела нет.
Стоит только вам подурнеть, похудеть, утратить свою свежесть, он и не взглянет на вас.. Боже мой, и этого не видеть? Такое сокровище, как вы, и кому же? Человеку, который проповедует, что женщин после тридцати пяти лет топить следует, так как в них нет никому прока.
– Он это шутя.
– Ничуть. Он искренно думает так. Вы улыбаетесь?
Вам, кажется, это нравится?
– Но согласитесь – ведь это же правда, по крайней мере, житейская правда.
– Еще бы не правда! Шутка ли, муженек сказал, оракул домашний. Божество! – озлился вдруг Зуев. – О женщины,
– продолжал он, мечась как угорелый по дивану, на котором сидел, – отчего вы так слепы? Отчего вы можете видеть только одну внешность, одно физическое достоинство! а впрочем, что я? Ведь он вовсе уж и не так хорош собой, такой же сутуловатый и худой, как я, в сравнении с вами так он просто урод. . Неужели вы и этого не видите?!
– Позвольте наконец, к чему вы это все говорите? –
перебила его Маня. Ее уже начал раздражать тон Зуева.
– А вы сами не догадываетесь? Неужели вы не замечаете тех чувств, которые я питаю к вам вот уже более полгода. Ведь я перед вами не таился? Неужели вы не видите, я обожаю вас, молюсь на вас, только о вас и думаю, ведь я, наконец, жить без вас не могу, в тот день, когда я вас не вижу, – мне как-то тяжело на сердце, словно бы я потерял что.. Боже мой, да научи меня, как мне выразить то, что я чувствую, что владеет всем моим существом. . Мария
Николаевна, поймите только, я вас обожаю, как Бога, я жизнью готов для вас пожертвовать. Я никого до сих пор не любил, и меня не любили, поймите, все, что мною вынесено и выстрадано, все мои разбитые мечты, мои идеалы, надежды, вся моя изломанная жизнь, все-все слилось в этой любви, так любят один только раз в жизни!
Он до боли стиснул свои руки и вдруг зарыдал, беспомощно припав головой к спинке дивана. Мане сделалось невыносимо жаль его.
– Но послушайте, – начала она – чем же можно тут помочь, будь я девушка, клянусь вам, я бы за счастье сочла стать вашею женою, так как искренне уважаю вас, но ведь я замужем, вы женаты..
– Что из того, что замужем, женат, – заговорил Зуев в каком-то исступлении. – Вы только согласитесь быть моею, сжальтесь надо мною. . не думайте – я хочу все, как следует, по чести. . вы знаете, я скоро буду разведен со своею женою, мы уедем с вами в провинцию, мне предлагают прекрасное место, там нас никто не будет знать. . А
как бы я берег вас, ветру бы не дал пахнуть на вас, вы были бы счастливы, клянусь вам. . О муже не беспокойтесь, он скоро утешится, встретится с какой-нибудь смазливой рожицей и забудет, как вы и выглядите.. ах, если бы вы могли понять его так же хорошо, как я его понимаю!
– А дети?
– Чьи? Ваши? Детей можем взять с собою, будьте уверены, я бы был для них лучше родного отца, Федор Федорович уступил бы, уступил их нам, не беспокойтесь, он и то все ворчит, что они пищат и действуют ему на нервы..
Мария Николаевна, – с новым страстным порывом схватил он ее за руку, – поймите, тут вопрос всей жизни. . я уже говорил вам, что обожаю вас, но, несмотря на всю свою любовь к вам, верите ли, я бы отказался, если бы вы сейчас вот отдались мне; не минутной победы мне надо, не наслаждения одного вечера – моя мечта, долгая, счастливая жизнь вместе с вами. . вот в чем разница между мною и вашим мужем. Он бы искал только одного скоропроходящего успеха, отдайся ему женщина на день, много на неделю, ему ничего больше и не надо, через неделю он бы забыл о ней и думать, а я, напротив, я хочу всю жизнь служить вам, быть вашим рабом, быть у ваших ног.
Говоря это, он вдруг сполз с дивана и, став на колена, стал страстно целовать ее руки. Маня не знала, что ей делать. Она сознавала, что в чувстве Зуева к ней не пустая прихоть, а страсть сильная, всепоглощающая страсть, глубокая, продолжительная, способная на всякие жертвы, с которой, если не желаешь губить человека, надо считаться.
Ей было невыразимо жаль, но что она могла сказать ему?!
– Послушайте, опомнитесь! – начала она уговаривать его. – Садитесь вот тут и слушайте, вы сами не понимаете, чего требуете, не могу же я бросить мужа так, ни за что ни про что, поймите сами, это было бы слишком безнравственно с моей стороны.. Вы говорите – он не любит меня, неправда, он очень ко мне привязан, я это знаю, так как имею много к тому доказательств.. Все, что я могу предложить вам, это мою дружбу. Будемте-ка по-прежнему друзьями, приходите к нам почаще, будем по-прежнему болтать с вами, а когда окончится ваш развод, переезжайте к нам. У нас, как вы знаете, всегда отдается одна комната
жильцам, вот вы и будете нашим жильцом. Если же, чего не дай Бог, мне пришлось бы искать у кого защиты, то верьте, я к первому обращусь к вам, а пока предлагаю вам свою искреннюю дружбу и прошу вас почаще бывать у нас, мне всегда так весело, приятно, когда вы приходите к нам.
– Вы это серьезно? Не ради одного утешения, вы, значит, все-таки расположены ко мне? – заволновался Зуев.
– Не только расположена, но даже очень люблю вас, но только не той любовью, о которой вы мне говорите. Я вас люблю как брата. Да вот вам доказательство, неужели вы думаете, я решилась бы с кем-нибудь другим ехать одна в
«Ренессанс» и ужинать ночью в отдельном кабинете?
– Да, да, вы правы.. благодарю вас, от всей души благодарю, это меня много утешило, я бы очень счастлив бы был жить у вас, помилуйте, это было бы очень хорошо, но как взглянет на это ваш муж?
– Я уже вам говорила – он не ревнив, не ревнует же он меня к теперешнему нашему жильцу.
– Да вы его почти не знаете, он никогда у вас не бывает.
– Не бывает, потому что всегда занят, он студент, бука, только и знает свои книги, а помните, до него жил чиновник Вартушинский, вы его видели, черненький такой, хорошенький, с усиками, так тот мне проходу не давал, просто до отчаяния меня доводил своими ухаживаниями, записки мне писал, на улице подкарауливал, я наконец начала мужу жаловаться, а он смеется: «Не кокетничай, говорит, сам отстанет!»
– Положим, я слышал кое-что про этого Вартушинского, вы с ним действительно безбожно кокетничали; назначали ему свиданья, он караулил вас, а вы в это время в другое место уезжали, разве это хорошо?
– А что ж мне было делать? Отвечать на его любовь, что ли? Когда он, например, умоляет назначить ему свиданье, приехать туда, пойти туда – ну вот я, чтобы проучить, и назначу ему, где он меня может видеть, а разве моя вина, если мне почему-либо нельзя исполнить своего обещания.
– Нет, я бы вам не позволил ни с кем кокетничать и другому бы не позволил даже слова лишнего зря сболтнуть.
– Хороши, нечего сказать, – засмеялась Маня, – а еще зовет к себе, да вы меня до смерти заревновали бы. Однако пора, я думаю, Федя как ни неревнив, а начнет беспокоиться, смотрите, уже два часа. Зовите лакея, да и едем.
XV
С этой минуты между Зуевым и Маней установилось нечто подобное тому, что было между мною и Верой
Дмитриевной, с тою только разницею, что Зуев мечтал о вечной любви, а я бы удовольствовался и более коротким сроком, пока не надоело бы скоро, я в этом был уверен. В
свою очередь, Маня не кокетничала с Зуевым, напротив, держалась с ним осторожнее, чем с кем другим, избегая всего, могущего породить в нем какую-либо надежду, Вера же Дмитриевна, хотя и не позволяла мне даже заикаться о любви, в то же время кокетничала со мною самым непозволительным образом. Точно желая испытать меня, она дразнила меня на каждом шагу, полусловами, полунамеками разжигая во мне и без того разгорающуюся страсть.
После объяснения с Маней Зуев было снова зачастил к нам. Бедняга, он был так увлечен, что даже не понимал всей неблаговидности: пользоваться моим гостеприимством и в то же время возбуждать мою жену против меня.
В одну из недобрых минут Маня как-то не выдержала и намекнула ему на это, он понял, очень обиделся и исчез на целых полтора месяца. В первый раз после этой размолвки он явился к нам в тот именно вечер, когда я их застал о чем-то горячо рассуждающими, после чего жена ночью сделала мне вышеописанную сцену. В этот вечер Зуев, кое-что пронюхавший о моих увлечениях Верой Дмитриевной, пришел к Мане с какими-то темными намеками. На беду, та, не подумавши, сказала ему, что, если бы она узнала об измене, она тотчас же бы бросила меня. Зуев принял это за чистую монету и с свойственным ему фантазерством вообразил в уме своем целую комбинацию, показавшуюся ему весьма простой и логичной.
Он так твердо уверовал в то, что, только живя с ним, жена моя будет вполне счастлива, что даже и не подумал, как тяжело будет для нее открытие истины. В силу особенности своего характера свято верить в непогрешимость всех своих выдумок, он дошел под конец до идеи полагать все счастье моей жены в том, чтобы она , как можно скорее уверившись в моей измене, бросила меня и перешла к нему.
С этой мыслию он задался целью открыть ей глаза и чрез то спасти от губящего ее, по его мнению, мужа.
Если бы Зуев мог предвидеть последствия его пагубных фантазий, то, я свято уверен, он бы с ужасом первый отрекся от своего плана, но, как я уже говорил, он был, во-первых, чересчур самонадеян, во-вторых, непрактичен, мало знал человеческое сердце и относился к нему слишком книжно-теоретически.
Его непрактичность сказалась уже в том, что вовсе не понимая женщин, он, думая сделать добро, разбил счастье и даже всю жизнь той, которую любил так сильно. Он не понимал простой истины, что прежде всего надо влюбить в себя женщину и тем заставить ее последовать за собой; показать же ей недостойность того, кого она любит, это только сделать ее несчастной, ничего от того не выиграв.
Всякая женщина скорее склонна простить самому изменнику, когда любит его, чем тому, кто открыл эту измену, если только до того была к нему равнодушна.
«Не по хорошу – мил, а по милу – хорош!» – вот девиз женщин. Оттого-то мы часто видим, как совершенно тождественные поступки возбуждают в одном случае еще сильнейшую страсть, а в другом – ненависть. Я знал одного отставного моряка, перед турецкой войной женившегося по любви на очень молоденькой девушке и для нее вышедшего в отставку, чтобы не разлучаться с нею. Года полтора спустя началась кампания, при первых же выстрелах на Дунае он не выдержал и поступил снова на службу. Жена его страшно убивалась по нем, но чуть ли не еще больше полюбила его. Она без энтузиазма не могла говорить о нем и называла его: «мой герой!», уверяя всех, что, если бы он оказался трусом и ради нее не пошел бы на войну, она бы разлюбила его. Несколько лет спустя я встретил другую парочку. «Она» – замужняя женщина, не первой молодости, бросившая мужа ради человека далеко не благородного, но в которого она была влюблена до потери сознания. Человек этот был настолько трус, что когда в одном случае ему надлежало, защищая честь этой самой женщины, выйти на дуэль, он постыдно отклонился, и что же? Она же не только оправдала его, но еще и возвела его трусость – в подвиг, и когда при ней упрекали его, она горячо заступалась. «Подумайте, – говорила она, – какое благородство. Он ради того, чтобы не рисковать столь драгоценной для меня жизнью, перенес оскорбление, да ведь это просто героизм!»
Таковы женщины! Труса и подлеца, если любят, ставят на пьедестал. Честного, благородного человека, но им не симпатичного, готовы смешать с грязью. Мужчины в этих случаях справедливей, так как живут больше рассудком, тогда как женщины – сердцем.
Напрасно думают некоторые тронуть женщину героизмом. Для женщины мерилом благородства являются красивые уши, элегантная наружность. Если бы женщине, любой, довелось гулять, положим, на берегу глубокой, опасной реки со своим любимейшим ребенком и ребенок этот упал в воду, а из двух сопровождающих ее кавалеров один, некрасивый и неловкий, тотчас же бросился бы в воду и, рискуя жизнью, спас ребенка, но при этом вылез бы из воды в смешном виде как намокший пудель, тогда как другой бы тем временем, грациозно ломая руки, красиво жестикулировал на берегу, кому бы женщина была более благодарна? Спасителю своего ребенка? Как бы не так, она бы ему сказала mersi56, и только, а другому, может быть, даже отдалась от избытка признательности за его живописное сочувствие.
Пока Зуев, как дантовская тень, бродил около Мани, мои отношения с Верой Дмитриевной обострялись все больше и больше.
Она очень часто приезжала в Петербург, раза четы-
56 спасибо (фр.).
ре-пять в год, проживала обыкновенно дней шесть-семь, иногда и десять, а затем снова уезжала.
Во время таких наездов я бессменно дежурил при ней, исполняя все ее поручения, ради которых рыскал по всему
Петербургу как бездомная собака. Последней моей обязанностью было проводить ее на вокзал железной дороги в день ее отъезда. Затем мы первое время усиленно переписывались недели две–три, а там, после небольшого промежутка, снова приходила телеграмма на мое имя в контору приблизительно следующего содержания:
«Приезжаю с таким-то поездом – встречайте!»,
и я, как послушный раб, шел встречать, причем случалось ей запаздывать тремя, четырьмя поездами против назначенного.
Наконец она приезжала, и вот опять на несколько дней я почти исчезал из дому, обманывая жену, придумывая всякие нелепицы в объяснение моих исчезновений.
Припоминая теперь наши отношения, я решительно не понимаю, чего ей было надо от меня. Она постоянно твердила, что желает видеть во мне только друга, но тогда для чего она кокетничала. Для чего, сидя со мною вечерами вдвоем, когда Z, у которых она останавливалась, не бывало дома, она иногда переходила в залу, садилась к роялю и начинала полным страсти и неги голосом петь разные сентиментальные романсы. У каждой певицы есть свой шедевр, у Огоневой шедевром была партия Зибеля из
Фауста:
Расскажите вы ей,
Цветы мои,
Как люблю я ее,
Как страдаю по ней57 ...
Голос у нее был действительно прекрасный или, по крайней мере, таковым казался мне. При мертвой тишине пустой квартиры, при слабом освещении большой залы одною лампой под красным абажуром пение это производило на меня чарующее действие. Я просто терял рассудок.
Огонева прекрасно видела, какое впечатление производит на меня, и, когда искоса окидывала меня лукаво-высматривающим взглядом из-под полуопущенных ресниц, я видел в ее лице выражение какого-то злого торжества. Ей положительно доставляло удовольствие мучить меня. Стоило мне, прервав какой-нибудь деловой разговор, какие мы обыкновенно вели, коснуться хотя бы вскользь моих чувств к ней, она вдруг становилась холодно-неприступна и без церемонии говорила: «Вы, кажется, начинаете бредить, не пора ли вам домой, я думаю, ваша жена заждалась вас!»
При слове «жена» губы ее всякий раз чуть-чуть дрожали от сдерживаемой, насмешливой улыбки. На меня же напоминание о жене производило весьма тяжелое впечатление. В душе я сознавал всю вину свою перед женою, понимал, что этим всем я унижаю ее в глазах этой гордой, насмешливой барыни, но не в силах был устоять против соблазна каждый день видеть Огоневу. Несколько раз по-
57 Слова из арии Зибеля в опере Ш. Гуно «Фауст».
рывался я кончить эти нелепые отношения. Сколько раз уходил я от Веры Дмитриевны с твердым намерением больше не видеться с нею, но всякий раз, точно назло, какое-нибудь неожиданное обстоятельство заставляло нас снова встретиться или у нас же в конторе, или в чьем-нибудь доме, а вечером я уже опять был у нее, терпеливо перенося все ее злые подтрунивания над собою. Я, как пущенный с горы на салазках, неудержимо катился вниз, с замиранием сердца ожидая, вот-вот случится несчастие, которое разобьет всю мою жизнь. Любил ли я эту женщину в действительности так, как мне то казалось? Не думаю, потому что впоследствии, когда внешние события пересилили непосредственные впечатления, я без особого горя удалился от нее и потом никогда не питал особого желания возобновить прерванное знакомство. Не любовь руководила мною, а целая сумма разнородных чувств, из которых уязвленное самолюбие играло первую роль.
Притягательная сила заключалась именно в том, что мне постоянно казалось, вот-вот еще одна встреча, один вечер, несколько слов, и победа будет на моей стороне. Но в конце концов все оказывалось миражом.
Только дома, возвратясь к жене, под впечатлениями ее ласкового взгляда я отрезвлялся от своего опьянения; в такие минуты Огонева для меня не существовала, и я даже не понимал, чем и как взяла она такую власть надо Мною.
Маня положительно была лучше ее. В ней было гораздо более женственности, более грации и жизни.
Сравнивая их, я припомнил старинную балладу, слышанную мною в детстве о двух сестрах:
Одна была волны смуглей,
Другая, как пена, бела.
В балладе смуглянка, обладавшая такою же темною душою, как и кожею, бросила в море свою белокурую сестру, но волшебник спас ее, обратив в белого голубя тогда как смуглянка им же была превращена в черного ворона.
Всего тяжелее мне было, когда, возвращаясь от Огоневой поздно вечером домой и поневоле подыскивая всевозможные объяснения своего позднего прихода, я видел, как жена вполне доверяет мне, на целую вечность далекая от всяких подозрений. Обыкновенно заждавшись меня и вволю наскучавшись, сидя одна в своем будуарчике, так как дети ложились спать рано, жена всякий раз искренно радовалась моему возвращению и встречала меня очень дружелюбно, ласкаясь ко мне как избалованный котенок. В
эти минуты я давал себе торжественные клятвы больше не покидать ее ни под каким видом. Несколько раз я порывался сознаться ей во всем, но благоразумие сдерживало меня, я все надеялся: авось, Бог даст, все как-нибудь само собою уладится к общему благополучию, как во французских романах, где герой, заколотый кинжалом в первой же главе, во второй, появившись на мгновение целым и невредимым, топится в Сене, в четвертой снова откуда-то появляется, выстреливается из пушки и гильотинированный в пятой, в последней, как ни в чем не бывало женится на горячо любимой им девушке, которая, в свою очередь, до этого была три раза отравляема, пару раз гильотинирована. Увы, к сожалению, наша жизнь не французский роман и что раз испорчено, то испорчено навек. Так было и со мною.
Однажды, это было за несколько дней до начала конца всей этой трагикомедии и в последний приезд Веры
Дмитриевны, я явился к ней с твердым намерением выяснить так или иначе свое нелепое положение. У меня в запасе были смутные надежды, основывавшиеся на поведении ее накануне. Вчера, прощаясь со мною, она вдруг уронила платок, и, когда мы оба наклонились над ним и я, не удержавшись от искушения, поцеловал ее в шею, она сделала вид, будто не заметила, но затем, как-то особенно, крепче обыкновенного, пожала мне руку.
– Итак, до свиданья, вы придете завтра?
– Не знаю.
– Приходите, мне надо, чтобы вы пришли.
– Зачем?
– Придете – узнаете. Ну, а теперь проваливайте! – и она сама заперла за мною дверь.
Но не на этом одном основывались мои надежды, меня поразила больше всего ее фраза, сказанная незадолго до моего ухода.
– Есть женщины, – сказала она, – очень осторожные, долго не сдающиеся, подвергающие сначала тех, кого выберут, строгому испытанию, помня всегда, что только то и ценится, что дорого дается.
«Уж и ты не из таких ли?» – подумал я, пытливо заглянув ей в лицо. Не знаю, угадала ли она мои мысли, но только почему-то улыбнулась, и, как мне показалось, весьма загадочно.
Итак, переступая на другой день порог слишком хорошо известной мне квартиры, я был в некотором ожидании; однако начало приема не предвещало ничего особенного. Вера Дмитриевна встретила меня, по обыкновению, полушутливо, полуравнодушно, с своей неизменной ласково-шутливой усмешкой.
– Как кстати, нам сейчас подадут чай, я только вас и ждала.
Каждый наш вечер обыкновенно начинался с чая. Это вошло у нас чуть ли не в обычай. Но на сей раз предложение чая, только что я, как говорится, Господи благослови, успел переступить порог, раздосадовало меня. Не чая я ждал, идя сюда.
– Знаете, Вера Дмитриевна, – заговорил я резко, – вы, может, думаете, я только ради чая хожу к вам, чай у меня и дома есть.
– Но чем же мне вас иным угостить? – с напускным наивным недоумением спросила Вера Дмитриевна. – Вы, может быть, проголодались, постойте, не осталось ли у нас чего-нибудь от обеда, ах да, кажется, телятина осталась, позвольте, я сейчас схожу, узнаю! – И раньше чем я успел удержать ее, она выпорхнула из комнаты, а минут через пять передо мною уже стояла горничная с большим подносом в руках, на котором красовались приборы, графинчик с водкой, рюмка, хлеб и нарезанная тонкими ломтиками холодная телятина.
В первую минуту я чуть было не поддался искушению швырнуть все это к черту, но, сообразив, что было бы глупо разыгрывать сцены перед горничной, сдержал себя и даже имел настолько хладнокровия, чтобы принять от нее и расставить перед собою все принесенное. Тем временем
Вера Дмитриевна как ни в чем не бывало опустилась против меня на диван и только по сдерживаемому трепету ее губ и коварному поблескиванию глаз я мог заключить, как зло смеялась она надо мною в эту минуту, от всего сердца потешаясь моею бессильной яростью.
– Вы думаете, это остроумно? – мрачно спросил я ее по уходе горничной.
– Я только, согласно евангельскому учению, за зло плачу добром.
– Что вы хотите этим сказать?
– Ничего особенного, за вашу вчерашнюю дерзость я сегодня угощаю вас телятиной, разве это не христианский подвиг?
– А, гм. . понимаю, но знаете ли вы, кто вызвал эту дерзость? Знаете ли, что я скоро с ума сойду, если не сошел.
– Вам в таком случае следовало бы посоветоваться с каким-нибудь психиатром.
– Старая шутка, и к тому опять же не остроумная.
– Вы сегодня любезны.
– Может быть. Впрочем, я пришел не для того, чтобы говорить вам любезности, мне наконец нестерпимы стали ваши постоянные насмешки, и я хочу знать раз навсегда, по какому праву вы издеваетесь надо мною? Неужели вы не понимаете, как это безжалостно, бесчеловечно, да наконец даже безнравственно. Не делайте таких удивленных глаз, вы отлично понимаете, о чем я говорю.
Как сорвавшийся конь бежит сам не зная куда, заботясь только о том, чтобы как можно скорее убежать подальше от своей коновязи, так и речь моя лилась без удержу, без связи, порой даже без смысла. Я торопился высказать все, что накипело у меня в душе за последнее время, мало даже заботясь о впечатлении, производимом моими словами.
– Скажите только одно слово, и я брошу все, отрекусь от семьи, пренебрегу всем и пойду за вами. .
– Куда? – совершенно спокойным тоном осведомилась
Огонева.
– Куда? – опешил я несколько от неожиданного вопроса. – Да хоть на край света, всюду, куда прикажете.
– Зачем так далеко, идите лучше домой и выпейте сельтерской воды, это вас несколько охладит.
– Прекрасно, но это не ответ.
– Какого же ответа вам надо, да и что я могу ответить на такую чепуху, вы бы и сами себе не сумели ответить.
– В таком случае, прощайте.
– А телятина? Вы ее еще и не попробовали.
– Кушайте сами на здоровье, а мне надо идти.
– Не смею удерживать, тем более что у вас, как у отца семейства, – она умышленно подчеркнула этот эпитет, –
наверно, есть дела дома.
– Вы правы – я и то последнее время слишком мало думаю о семье.
– Это нехорошо, – серьезнейшим тоном заметила она. –
Ах да, кстати, говорят, ваша жена большая кокетка и очень хорошенькая собою, правда это?
– Насколько она хороша собой или нет, не мне судить, что же касается кокетства, то я знаю одну барыню, у которой жена моя могла бы смело брать уроки. У той кокетство возведено в культ, для нее оно все, и ради удовлетворения этой своей прихоти она готова довести человека до преступления.
– Это уж не я ли?! Ха-ха-ха, – рассмеялась Огонева. –
Но ведь это прелесть как мило, за это я должна вас наказать: вы обязаны будете проводить меня к Львовским, у них сегодня вечер. Подождите меня минуточку в зале – я сейчас переоденусь.
В первую минуту я хотел было грубо отказаться, но какая-то необъяснимая сила удержала меня. Я машинально вышел в залу и остановился подле рояля. В голове моей был целый хаос. Припоминая свои фразы, я с досадой должен был сознаться, что большая часть из сказанного мною была ни к селу ни к городу. Я наговорил целый ворох всякого вздора, а того, что нужно было высказать, не высказал, или если и высказал, то не так, как бы следовало.
Шелест шелкового платья вывел меня из задумчивости.
Я оглянулся. Передо мною стояла Вера Дмитриевна в изящном черном платье, с белыми китайскими розами в волосах и на корсаже немного открытого спереди лифа.
Никогда еще не казалась она мне такою привлекательною как в эту минуту.
– Вы просто демон, Вера Дмитриевна, – невольно сорвалось у меня с языка, – не знаешь, право, ненавидеть или боготворить вас. Только все-таки же, – спохватился я,
– провожать я вас не поеду и сюда больше никогда не приду. Прощайте.
– Нет, постойте, вы непременно должны проводить меня. Слышите, должны. До Львовских очень далеко, и мне одной в карете будет скучно.
Но мое решение было непреклонно, а потому.. в конце концов случилось как-то так, что мы очутились вдвоем в карете. Еще, кажется, Данте сказал, что ад вымощен добрыми намерениями.
Победа над моим упорством, если можно назвать это победой, очевидно, Вере Дмитриевне доставляла наслаждение, она весело болтала и смеялась без умолку, тогда как я, наоборот, хранил упорное молчание и угрюмо отворачивался от нее к окну. Это ее, кажется, чрезвычайно забавляло.
– Вы сердитесь? – наклонилась она ко мне. Я молчал. –
Как это учтиво, не отвечать на вопросы. Да оглянитесь же, пожалуйста! – и она слегка потянула меня за рукав. Я
обернулся и увидел почти около самого своего лица ее красные полные губы, ее бледно-мраморный лоб и слегка разгоревшиеся щеки. В полумраке кареты еще ярче, еще задорнее блестели черные смеющиеся глаза Огоневой, белая плюшевая накидка слегка распахнулась, и сквозь ее кружева чуть-чуть просвечивалась полная обнаженная смуглая шея.. А она все продолжала смеяться, глядя мне прямо в глаза, словно бы дразня и вызывая меня..
Я вдруг почувствовал, что перестаю владеть собою.
Голова моя закружилась, не помня себя, я быстро наклонился к Огоневой и, раньше чем она успела опомниться, крепко сжал ее в своих объятиях и впился в ее губы долгим, страстным поцелуем.
– Что вы делаете, сумасшедший, – испуганно вскрикнула она, тщетно стараясь оттолкнуть меня от себя, – как вы смеете? – Но я, действительно, похож был в ту минуту на сумасшедшего и, не обращая внимания на ее протесты, весь дрожа от волнения, все сильнее и сильнее сжимал ее в своих объятиях, осыпая ее лицо и шею страстными поцелуями.
Она окончательно растерялась. В эту минуту карета с грохотом подкатила к ярко освещенному подъезду дома,
где жили Львовские. Собрав всю свою силу, Вера Дмитриевна отчаянным движеньем вырвалась из моих объятий и, с быстротой птицы выпорхнув из кареты, быстро скрылась за дверью подъезда.
Все это произошло в одну минуту. Я машинально последовал было за Огоневой и уже взялся за ручку дверей, но, опомнившись, быстро отдернул руку, повернулся и поспешно зашагал прочь от подъезда. Я шел куда глаза глядят и, только пройдя уже две-три улицы, окончательно очнулся, сообразил где, сообразил дорогу и торопливо направился к дому.
Никогда не был я в таком состоянии духа. Целый вихрь самых разнообразных мыслей, планов и Предположений роился у меня в голове в каком-то хаотическом беспорядке.
Мне вдруг пришла мысль – убить Огоневу: выждать, когда она выйдет, и застрелить или заколоть ее, затем эта идея так же быстро исчезла, как появилась, и сменилась страстным желанием уличить, пристыдить ее, словом, скандализировать ее, но и эта мысль так же скоро улетучилась, как и первая, и уже я не столько обвинял Огоневу, как самого себя. Под влиянием этого самообвинения мне пришла фантазия, придя домой, упасть на колени перед женою, выплакать перед нею все свое горе, чистосердечно покаяться ей во всем, вымолить прощенье и уже на всю жизнь раз навсегда отказаться от всяких увлечений.
– Маня поймет меня, – бормотал я чуть не вслух,–
поймет и не обвинит, напротив, пожалеет, это святая женщина, не такая бессердечная кокетка, как Огонева, у нее золотое сердце! – Я представил себе жену такою, какою она должна была быть в эту минуту. Одиноко сидит в своем спальне-будуарчике и что-нибудь вышивает, грациозно склонив свою хорошенькую, кудрявую, коротко остриженную головку. Глаза пристально устремлены на работу, щечки разгорелись, а покрасневшие ушки чутко прислушиваются, не раздастся ли знакомый звонок в передней.
Я так умилился, что готов был расплакаться, и уже не шел, а почти бежал. Благодарение Богу, конец был немалый, взять же извозчика я как-то не сообразил, а потому, пока я домчался до нашего дома, нервы мои значительно успокоились и мозги стали работать более или менее правильно. Берясь за ручку нашего звонка, я настолько пришел в себя, что даже удивился, как могла зародиться у меня в голове подобная нелепая идея.
– Хорош бы я был в роли кающейся Магдалины, – усмехнулся я сам над собою. – Вот бы эффектную штуку отмочил, могу сказать.
Я застал жену не в будуарчике, как предполагал, а в столовой; она сидела под висячей лампой и аппетитно ужинала. Против нее на стуле, сидя на задних лапках, облизываясь и усиленно помаргивая, изнывал ее любимец, кудлатый Джек, а Матроска, рыжий, массивный кот, комфортабельно развалясь на коленях, тихо мурлыкал и презрительно щурился на волнующуюся собачонку. Его усатая мордочка, казалось, так и говорила:
– Охота тебе из-за какого-нибудь жалкого объедка так беспокоиться, визжать и надрываться, бери с меня пример, видишь, как я философски отношусь к подобным ничтожным вопросам жизни.
– А вот и ты, – весело воскликнула Маня, подняв на меня свое розовое, свежее личико с замаслившимися от еды губами. – Где это ты пропадаешь, с утра нет, я ждала, ждала тебя и чрез то почти не обедала. Вот теперь ужинаю, не хочешь ли и ты за компанию? У нас сегодня превосходная телятина, наша чухонка из деревни привезла.
Я взглянул и увидел, что перед женой, действительно, стоит тарелка с тонко нарезанными ломтиками телятины, точь-в-точь как часа три тому назад у Огоневой. Подобное совпадение показалось мне довольно курьезным.
«Телятина в роли тени Банко, преследующей Макбета»,
– подумал я.
– Сегодня, видно, телячий день, чтоб черт ее побрал, –
сорвалось у меня, – куда ни придешь, везде телятина, и находят люди вкус в подобной мерзости.
– А разве тебя уже угощали где телятиной? – спросила жена. – У кого же?
– Угощали, провались она совсем, – усмехнулся я, а сам в то же время подумал: «Недостает только, чтобы эта разанафемская телятина выдала меня, как журавли убийц
Ивика58»
Вы, журавли под небесами,
Я вас в свидетели зову.
Да грянет привлеченный вами
Зевесов гром на их главу. .
. . . . . . . . . . . . . . .
Арсений, слышишь крик в дали,
То Ивиковы журавли – ...
– Что? Ивик? – все заколебалось,
58 Согласно древнегреческой легенде, певец Ивик (VI в. до н. э.) был убит на пути к Коринфу, где два раза в год происходило ритуальное состязание певцов в честь морского Бога Посейдона. Благодаря свидетелям – журавлям, преступление было раскрыто.
И имя Ивика помчалось
Из уст в уста, шумит народ,
Как бурная пучина вод. .
. . . . . . . . . . . . . . .
К суду и тот, кто молвил слово,
И тот, кем он внимаем был59.
Припомнились мне отрывки чудного стихотворения
Жуковского, и я невольно улыбнулся. Увлеченная своею телятиной, Маня не обратила внимания на мою улыбку и не стала больше расспрашивать.
– Федя, – начала она вдруг, час спустя, приготовляясь уже ко сну, – знаешь ли, мне последнее время что-то особенно грустно на душе, сама не знаю отчего, я даже плачу иногда, вот и теперь так бы заплакала. Отчего бы это?
– Блажишь, а может быть, чем и больна.. должно быть, нервы разгулялись. Ты бы к доктору сходила.
– Что доктор, доктора не помогут, это просто, должно быть, предчувствие, мне все кажется, вот-вот совершится что-то для меня ужасное, какая-нибудь беда... знаешь, я, должно быть, умру.
– Конечно, умрешь, неужели ты воображаешь быть бессмертной или, подобно пророку Илье, живой быть взятой на небо.
– Ты все шутишь, а я чувствую, что скоро умру, очень даже скоро.
– Э, глупости, с чего тебе умирать, ты нас всех пере-
59 Автор приводит отрывки из баллады В. А. Жуковского «Ивиковы журавли».
Второй отрывок у Жуковского начинается: «Парфений, слышишь?. Крик вдали – ...».
живешь.
– Я сон такой видела, будто бы наш Матроска бросился на меня и вырвал мне сердце, и кровь пошла, много, много крови, но не из сердца, а из горла..
– Ты, кажется, начинаешь походить на замоскворецких купчих, тем с жиру да с праздности всякая чепуха снится. Я
знавал в Москве лавочницу, так та все жаловалась, что, как заснет, ей все черный таракан снится, с большими усами. –
«Приползет это он, анафема, – повествовала она всем и каждому, – приползет, а мне, стало быть, боязно, так боязно, так боязно, что хоть жизни решиться». – «Чего же вам боязно, Голиндуха Павсикакиевна? – спрашивали ее. – Эка невидаль – черный таракан, их у вас в квартире, поди, видимо-невидимо». – «Есть грех, поразвелись, проклятые, –
отвечала она, – я их и кипяточком обваривала, и скипидарцем, не пропадают, хошь плачь, а намеднясь просфору, ироды, источили, что мне странничек с Афона принес в запрошлом году, я уже и то с той-то обиды ажно плакать пыталась. А только все ж те-то, стало быть, тараканы обыкновенные, как им быть следует, а энтот, что мне в сонном видении снится, быдто даже совсем и на таракана не похож, а больше того на гусарского ахвицерика смахивает, и в мундире таком со шнурочками, и штаны красные, из себя чернявый такой, ну точь-в-точь как тот брунетик, что супротив нашего дома квартирует, у него еще денщик рябой такой, точно его черт, прости Господи, требухой ударил, вот диво-то в чем». Это, изволишь ли видеть, она днем на сумских гусар, что в Москве стоят, глаза пялила, ну ночью они ей и снились в виде тараканов, особливо после того, как она за ужином целого поросенка с кашей съест да индюшкой закусит. Вот и ты, не ходишь ли очень часто к
Адмиралтейству, что тебе «матросики» снятся ночами.
– Странное дело, отчего ты перестал теперь по-человечески говорить со мною. Помнишь, в первый год нашей свадьбы, как ты внимательно прислушивался тогда ко всему, что бы я тебе ни говорила, а теперь только подтруниваешь. Умен, видно, очень уже стал, литератор.
«Скоропадент», как тебя наш старший дворник зовет.
– Ты ему скажи не «скоропадент», а «ликпатер», это, мол, чином выше.
– Смейся, смейся, а все же-таки я всегда скажу, что ты стал гораздо хуже, я и полюбила-то тебя единственно за то только, что прежде в тебе души много было, теперь же ты стал какой-то деревянный, ничем не проймешь.
– Осатанел, мать моя, осатанел. Года такие подходят.
Не век же аркадским пастушком быть.
– Хорошо бы, если бы действительно года, а только сдается мне, у тебя что-то да есть на душе. Сердце чует, мудришь ты что-то?!
Она замолчала и задумалась. У нее была привычка, когда ей взгрустнется и не спится, свертываться клубочком и застывать на целые часы. Лицо ее оставалось совершенно неподвижно, точно восковое, ни один мускул, бывало, не дрогнет, только глаза, становившиеся в такие минуты еще больше, медленно блуждали по всей комнате, словно бы отыскивая что-то. Состояние это было подобно сну с открытыми глазами. Потом она никогда не могла вспомнить, о чем она думала, если же что и припоминала, то весьма фантастическое. Однажды, например, после двухчасового такого лежания она вдруг заметила мне: «Как жаль, что меня не учили музыке, я вот сейчас лежала и все слушала какую-то чудную, чудную мелодию, только не поняла на каком инструменте, похоже на мандолину, но еще полнее и гармоничнее!»
Впоследствии, когда она заболела, подобное состояние стало появляться все чаще и чаще, причем и грезы ее делались все фантастичней и страннее. Ей представлялись целые картины и образы, и она часто сожалела о неумении своем рисовать.
– Если бы я была живописцем, – говорила она задумчиво, – сейчас бы нарисовала рай, каким он был, я так живо представляю его себе. Деревья такие высокие, тенистые, пахучие, темно-зеленые, точно из плюша, свет такой прозрачный, золотисто-розовый, яркий, а между тем глаз не режет, звери между кустов бродят, но не такие, как в зоологическом саду – грязные, дурно пахнущие, злые, – а напротив, чистые такие, спокойные, столько в них благородства и красоты, столько грациозной простоты в движениях..
– Ну, а какими тебе кажутся Адам с Евой? – полюбопытствовал я.
– Адам с Евой? Я их что-то не вижу.
– А ты присмотрись хорошенько, – подтрунил я. Но
Маня мои слова приняла едва ли не за серьезные, она на минуту замерла в своем оцепенении, словно бы вся сосредоточилась, устремив глаза в одну точку.
– Ну что, видишь?
– Вижу. Только странно, говорят, будто бы они были рослые, грубые, могучие, а мне они представляются не больше, нашей Лельки, и такие легонькие, прозрачные, так проворно бегают, словно летают, и все вместе.. обнявшись, ни на минуту не разлучаются.
– Это тебе чудятся, должно быть, сиамские близнецы, те тоже все вместе ходили, не разлучались, – шутил я.
– Да, вместе, – продолжала она, не обращая внимания на мои шутки, – и знаешь ли, что страннее всего, у них точно одно лицо, т. е. лиц-то, собственно, два, но выражение их одно: один улыбнется и другой вместе с ним, один смеется и другой. . все вместе, одновременно.
– Ну, матушка, тебя, кажется, скоро в сумасшедший дом везти придется, – подсмеивался я, а у самого сердце рвалось, глядя на ее осунувшееся, истомленное личико с яркими роковыми пятнами на скулах вместо румянца.
«Скоро, может быть, – думалось мне тогда, – ты воочию увидишь свой рай». А она тем временем со всеми мельчайшими подробностями старалась живописать мне представляющиеся ее воображению цветы, землю, растения..
Впрочем, все, что я только что рассказал, случилось позже, в период ее болезни. В описываемое же время Маня была, по-видимому, совершенно здорова, она только немного похудела против того, какою она была первые годы нашей семейной жизни, но эта легкая бледность, как бы томность, еще больше красила ее, придавая всей ее фигуре особую легкость и нежность, «воздушность», как говорил один мой знакомый художник из неудачников.
XVI
Долго не мог я заснуть в эту ночь, припоминая до мельчайших подробностей все случившееся.
«Нет никакого сомнения, – думал я, – Огонева смеется надо мною. У нее нет ровно никакого чувства ко мне, даже простого расположения, иначе она не позволила бы себе так зло издеваться надо мною, над моими чувствами. Как долго бы ни продолжалось наше знакомство, отношения наши не изменятся, я никогда для нее не буду ничем иным, как объектом для всевозможных ухищрений по части кокетства; глупо и недостойно будет с моей стороны, если я и на сей раз не удержусь и опять пойду к ней. . Нет, этого не должно быть ни за что, ни за что».
Приняв наконец твердое и непоколебимое решение, что бы ни случилось, порвать раз навсегда даже всякое знакомство с Огоневой, и сердцем почувствовав, что на этот раз решение мое не изменится, я наконец заснул с облегченной душой.
Как я решил, так и сделал, и на другой день уже не пошел к Вере Дмитриевне, а прямо со службы возвратился домой. Мане в этот день что-то нездоровилось, и мы весь вечер провели вдвоем.
Из всех наших классических писателей жене моей более всех нравился Гончаров, а из произведений его –
«Обрыв». Роман этот в своей жизни она прочла три или четыре раза и знала чуть ли не наизусть. В тот вечер, я живо помню, мы читали с ней вслух и именно то место, где
Райский убеждается в падении Верочки.
Я читал, жена слушала, изредка вставляя свои замечания. Кстати, у Мани была чрезвычайно развита чуткость понимания психологических положений, странно даже было, как такое молодое, малоопытное существо могло иметь такие, подчас глубоко верные, взгляды на жизнь, со всеми ее разнохарактерными и разнообразными явлениями. Как в природе перед грозою наступает полное затишье, так и в человеческой жизни перед часами и днями горя,
борьбы и отчаяния бывают часы и дни жизнерадостной тишины и спокойствия. Этот вечер был именно одним из подобных затиший перед бурей.
На следующий день, только что успел я прийти в контору, как получил от Огоневой через посыльного записку следующего содержания:
«Я сегодня уезжаю, но раньше мне необходимо вас
видеть, если можете, приходите сейчас, и уже во всяком
случае не позднее 5 – 6, я буду вас ждать, повторяю, мне
крайне нужно повидаться с вами до отъезда. Ваша В. О.».
Я внимательно раза два прочел это короткое послание, взял перо и, с минуту подумав, решительным и твердым почерком на той же записке приписал внизу:
«Мы и то слишком часто виделись. Будет гораздо
лучше для нас обоих, если мы больше не встретимся.
Прощайте».
Тот же посыльный понес эту записку обратно.
«Немного грубо, – размышлял я, – но тем лучше; из самолюбия, после подобного ответа, она сама пожелает прервать всякое знакомство со мною». Мне, собственно, того только и надо было.
Прошло часа два. Мне понадобилось по служебным делам ненадолго съездить в Гостиный двор. Отъезжая от крыльца, я увидел посыльного в красной фуражке, торопливо подходившего к подъезду конторы.
«Уж не от Огоневой ли посланец», – подумал я и уже хотел было приказать извозчику остановиться, чтобы подозвать посыльного, но словно какой бесенок подтолкнул меня не делать этого, а, напротив, крикнуть вознице, чтобы он отъезжал скорее.
«Э, черт с ними со всеми, – мелькнула у меня опасливая мысль, – если и от нее, то и лучше, когда не застанет дома, а то, чего доброго, не устоишь и опять потащишься туда».
Как сожалел я потом, что не послушался своего первого побуждения – остановиться, сделай я это, ничего бы, может быть, и не случилось. Так в жизни иногда бывает – ничтожные события ведут к роковым последствиям.
Я не ошибся: посланный был ко мне от Огоневой. Не застав меня и не получив никаких инструкций на подобный конец, он был в большом недоумении, что делать с порученным ему письмом. В конце концов он бы, наверно, унес его обратно, если бы на беду в эту минуту в переднюю не вышел бы Зуев и, увидя его, не спросил бы, откуда он и зачем пришел. Посыльный показал письмо и назвал улицу, откуда он послан. По почерку и названию улицы адресовавшего Зуев тотчас угадал автора письма.
– Давай сюда письмо, я передам, – предложил он посыльному. Тот послушался и отдал. Вернувшись к своему столу, Зуев поспешно разорвал конверт, там находилась та же злополучная записка, но под припиской, сделанной мною, была новая, от Огоневой:
«После того, что произошло между нами третьего
дня, после ваших клятв и уверений, когда вы даже пред-
лагали мне бросить ради меня вашу семью, наконец после
вашей дикой выходки в карете, отказ ваш прийти ко мне –
знак пошлой трусости, недостойной порядочного челове-
ка, вы меня оскорбили, и я требую, слышите, требую, чтобы вы еще раз пришли, я должна объясниться с вами».
Слово «требую» было два раза подчеркнуто.
Когда я, час спустя, вернулся назад, Зуев мне не сказал ни слова о письме, и я решил, что посыльный приходил не ко мне, а по какому-нибудь другому делу.
Зная Зуева за человека порядочного, честного и доброго, трудно представить себе, как решился он на такой поступок, чтобы, прочитав вышеприведенную записку и сделав на ней сбоку надпись: «Теперь вы видите, что я был прав, вот ваш идеал, достоин ли он любви вашей?!» – послать эту записку Мане.
Единственным объяснением подобного поступка и до некоторой степени его оправданием может служить разве только его сильная любовь к Мане. Я уже говорил, что Зуев был из людей весьма увлекающихся своими собственными фантазиями, которые кажутся им истинными. В данном случае он, что называется, вбил себе в голову, сам себя свято уверил, полагать все счастье моей жены в том, чтобы как можно скорее бросить меня; притом, кажется, он не верил в ее привязанность ко мне и объяснял ее верность мне не любовью, а просто исполнением долга, необязательного для жены в том случае, когда и муж свято не исполняет его. Зуев весьма гордился своею логичностью, слово «логика» им склонялось во всех падежах и не сходило с языка, он всегда поступал согласно кажущейся ему логике, – но так как логика его была чисто теоретическая, ничего общего с живою жизнью не имеющая, то в конце концов редко можно было найти человека менее его логичного.
Довольный, что избавился наконец от своего рабства, наотрез отказавшись прийти к Вере Дмитриевне, вернулся я в самом прекрасном расположении духа домой. Но почему-то в ту самую минуту, как прислуга наша снимала с меня пальто, я почувствовал какую-то сердечную тяжесть.
Может быть, я ошибся, но мне вдруг показалось что-то особенное в выражении лица нашей Матрены, настолько особенное, что я невольно зорче обыкновенного взглянул на нее. Какая-то неуловимая тень мелькнула по ее лицу, а глаза стрельнули куда-то в сторону. Петербургская прислуга, всю жизнь свою вращающаяся в калейдоскопе столичной жизни, невольная свидетельница чрезвычайно разнохарактерных житейских драм, трагедий и водевилей, с изумительной чуткостью умеет проникать во все сокровенные, касающиеся их господ, и детски наивен тот, кто думает что-либо скрыть от этих всезнающих, всеугадывающих, всюду проникающих шпионов.
Как часто бывает с людьми болезненно настроенными, я вдруг почувствовал прилив такой робости перед чем-то, мне еще неизвестным, но долженствующим совершиться непременно и в самый короткий срок, чуть было не пошел обратно, и должен был употребить некоторое усилие воли, чтобы войти в комнату жены. Я застал ее на обычном месте
– диванчике, приютившемся в углу стены и драпировки, отделяющей будуарчик от спальни.
Маня сидела, откинув слегка голову на запрокинутые назад руки, в свою очередь покоящиеся на небольшой вышитой подушке. В первую минуту она показалась мне дремлющей, так как глаза ее были полузакрыты, но я тотчас же убедился в противном, как только вгляделся в ее лицо. Никогда еще не видал я его таким. Оно сделалось сразу до неузнаваемости мертвенно бледным, осунувшимся, как бы похудевшим. В складках губ и во всей фигуре было что-то, выражающее такое глубокое отчаяние, такую безысходную скорбь, что сердце у меня невольно сжалось, глядя на нее. Я осторожно подошел к ней и наклонился, чтобы, по обыкновению, поцеловать ее в лоб, но она, раскрыв вдруг широко покрасневшие от слез глаза, порывисто отшатнулась в сторону.
– Умоляю, не подходи ко мне! – болезненным стоном вырвалось у нее, и она снова закрыла глаза, приняв ту же позу.
«Ну, начнется теперь канитель, – досадливо подумал я,
– начнутся слезы, упреки, жалкие слова, и что всего досаднее, вся эта история, в сущности, выеденного яйца не стоит, а не то, чтобы заводить такую мелодраму!»
Всего досаднее было сознание невозможности толково, ясно, не волнуясь, объяснить и дать понять всю, в сущности говоря, ничтожность всего происшедшего.
«Что ни толкуй ей, – с отчаянием думал я, – она не поймет. Не поймет, что тут вовсе нет ничего трагического, факт сам по себе вполне ничтожный, но, судя по началу, разыгрывается чуть ли не шекспировскою трагедиею».
Я кисло усмехнулся и, отойдя от Мани, опустился на первый попавшийся стул, ожидая вопросов и объяснений.
Я решил первым не начинать никаких разговоров, а по возможности спокойно и не раздражаясь постараться –
вразумить ее и убедить в бесплодности ее душевных страданий.
Но, против ожидания, Маня, по-видимому, и не думала задавать каких-либо вопросов, требовать объяснений, словом, как я мысленно выражался, «заводить сцену». Она сидела в том же положении, зажмурив глаза, и, казалось, не то была в забытьи, не то дремала. Так прошло около часу.
«Однако это еще глупее», – подумал я и первый решился прервать молчание.
– Маничка, – начал я по возможности мягче, полушутливо, полусерьезно, – скажи, пожалуйста, что обозначают твои пластические позы, уж не приглашена ли ты на живые картины и теперь репетируешь роль?
Вместо ответа Маня холодно взглянула мне в лицо, выражение какой-то презрительной жалости мелькнуло в ее глазах, она медленно раздвинула пальцы и молча бросила мне, чуть не в самое лицо, скомканную бумажку.
Схватить ее и прочесть было для меня делом одной минуты. Бумажка эта была не что иное, как роковая записка
Огоневой, со всеми приписками ее, моими и, наконец, Зуева.
– Ах подлец, подлец! – невольно вырвалось у меня, когда я прочел приписку Зуева.
– Если ты говоришь это о себе, то вполне разделяю твое мнение, – спокойно произнесла Маня, не глядя в мою сторону.
Лаконизм этой фразы невольно рассмешил меня.
– Мэри, ты мила даже и тогда, когда капризничаешь, –
развязно начал я. – Впрочем, сознаюсь, с твоей точки зрения, ты, пожалуй, вправе сердиться, но, уверяю тебя честным словом порядочного человека, тебе вовсе нет никаких причин так волноваться. Мои отношения к. . этой. .
этой даме.
– Огоневой,– подсказала жена.
– Тебе даже и имена известны, ну тем лучше.. итак, повторяю, мои отношения к Огоневой не простирались дальше простого ухаживания, а кто за кем не ухаживает, ведь и за тобою ухаживают, а я не волнуюсь..
– Но я не обещала никому бросить тебя, а ты предлагал ей оставить не только меня, но даже и детей, всю семью. .
– Глупая фраза, больше ничего, не стоит обращать внимания.
– Но ведь для чего-нибудь она была сказана, ведь чего-нибудь ты добивался, и если не добился, то не по нежеланию со своей стороны.
– Ну, допустим, добивался, что же из этого, ничего не вышло..
– А если бы вышло, тогда что? Если бы она, поверив твоим обещаниям, отдалась тебе и потребовала в свою очередь исполнения обещанного?
– Ах, Боже мой, если бы да кабы, росли б во рту бобы; ты, кажется, искренно веришь в существование романов не в одних только книгах, – поверь, тут дело проще. Мне она нравилась физически. Красивая женщина, замужняя, умница.. знакомство с такою льстит самолюбию; я ей тоже, очевидно, не был противен, если бы что и случилось, уверяю тебя, она бы первая была очень рада, если бы я после того постарался с нею и не встречаться. Она бы поспешила все забыть и разве только под старость вспоминала бы иногда втихомолку об этом инциденте, как о приятном сновидении. Все это в порядке вещей, и никто, раз он не ханжа и не идиот, из-за таких пустяков не полезет на стену.
Пока я говорил, Мэри пристально смотрела мне в глаза с выражением не то изумления, не то испуга, причину которых я не вполне мог уяснить себе тогда. Мне оно показалось напускным.
– Чего ты так уставилась на меня, – с некоторой досадой спросил я, – точно в кунсткамере, я ведь не в спиртной баночке. Охота тебе комедии ломать?!
– По-твоему, это комедия?
– А по-твоему, драма?
– По-моему, это. . это. . это что-то такое, чего даже и подлостью мало назвать.. Боже мой, до чего мы с тобою разных полюсов люди. . и это осознать после четырехлетнего совместного житья.. Ты даже не сознаешь всю подлость, весь цинизм всего тобою сказанного, и это-то больше всего и угнетает меня.. Пойми ты, несчастный человек, если бы ты действительно полюбил ее, ради нее оставил нас, я бы, может быть, отравилась бы, но в душе извинила бы тебя. Что делать – сердцу не прикажешь.. А
теперь? Теперь я вижу во всем этом только пошлое, мелкое желаньице, ради удовлетворения которого ты не задумался разбить мое счастье, а в случае удачи счастье другой семьи, все это с таким легким сердцем, будто дело идет о каком-нибудь пикнике.. Ведь после этого я могу только презирать тебя.. Вот он мой идеал, избранник, муж мой, –
горько усмехнулась она и вдруг с новым порывом отчаяния заломила над головою своя руки. – Но кто, кто мог знать, угадать?! О как ты хитер, как ты жесток и неуязвимо бездушен. . Ты ли это, тот самый, которого я знала несколько лет, или тебя неожиданно, внезапно подменили?! Теперь ли ты стал таким или всегда был таков и только до поры до времени прятал свою душевную тину.. Значит, ты никогда не любил меня, такие, как ты, не любят, стало быть, все ложь, ложь кругом, целая система лжи. . а я-то глупая, желая нравиться тебе, удержать твою любовь, которой никогда и не было, коверкала свою натуру.. о глупая, глупая.. Как ты в душе, должно быть, смеялся надо мною!.
Боже мой, Боже мой, такое разочарование, и в ком же, в самом близком человеке.. Вчера я еще гордилась тобою, уважала тебя, верила тебе, дорожила твоим мнением, а сегодня я только могу презирать тебя, мне жаль тебя, жаль твоего нравственного убожества.. Пойми, если можешь, пойми весь ужас этого положения, всю его безвыходность.. Пойми, что все кончено, что, против моего желания, вопреки мне самой, ты в моих глазах отныне не иное что, как пошленький эгоист, с мелкой душонкой, лгунишка и фразер. . Ты навеки погиб для меня, навеки, навеки!
Чем дольше она говорила, тем больше охватывал ее какой-то экстаз, лицо ее разгорелось, глаза сверкали, и голос становился как бы металлически-звонким. Я невольно залюбовался ею, но признаюсь, слова ее мало на меня подействовали.
– Знаешь, ты мне сейчас напомнила Гореву в роли
Юдифи, когда она появляется перед народом с головою
Олоферна в руках. Но напрасно ты так широко открыла фонтан своего красноречия, как выражается один из лейкинских героев. Мы, очевидно, друг друга не поймем, хотя бы обладали оба в сложности красноречием Цицерона, ты верно сказала, оба мы разных полюсов люди, разных взглядов и никогда не сговоримся, а потому бросим бесплодную полемику, я, с своей стороны, обещаю тебе и готов поклясться священной особою Изиды, что ничего подобного никогда не повторится. Чувства мои к тебе не изменились, если можешь простить – прости, не можешь –
делай как знаешь, только брось ты, пожалуйста, твой высокопарный слог, а то ни дать ни взять непризнанный талант на любительской сцене.
– Я уезжаю.
– Куда?
– Это до вас не касается. Впрочем, когда нужно будет, вы узнаете, я прятаться и лгать не стану.
– Комедия и фразы. Куда ты пойдешь? Глупые вы, бабы, и больше ничего.
– Помните, Федор Федорович, – глухо произнесла
Мэр», – оскорбление женщины, будь то жена или нет, –
глубокая подлость, впрочем, от вас всего можно ожидать.
– Э, черт с вами! – досадливо крикнул я и вышел из комнаты, хлопнув дверью.
Весь этот день я просидел запершись в своем кабинете.
Как впоследствии я узнал, Маня в тот же день, поздно вечером, получила письмо от Зуева.
Очевидно, одумавшись и поняв свой поступок, Зуев пришел в ужас и тотчас написал ей отчаянное письмо. Не скупясь на самые нелестные эпитеты относительно своей особы, вроде «подлеца», «негодяя», «предателя» и т. п., он просил, как милости, позволить прийти на коленях вымолить себе прощенье и т. д., и т. д.
Все женщины более или менее фразерки, а потому и любительницы фраз, фразами можно подкупить любую женщину, даже самую умную, а если еще к пылким фразам прибавить пары две-три слезинок, о, тогда растает любое каменное сердце. Подобное повторилось и с моей женою.
Не знаю, что подумала она о Зуеве, получив записку, открывшую ей глаза, и какое решение приняла она относительно его, но только в ответ на его горячечное, самобичующее письмо она написала ему чрезвычайно ласковую записку, прося не отчаиваться понапрасну, не обвинять себя так жестоко, уверяя его в неизменности своих чувств к нему и чуть ли не в благодарности своей ему за его поступок, доказывающий глубину его преданности. В заключение всего, приглашала его явиться завтра между 12 и часом дня, переговорить кое о чем.
Не помню, какой-то француз-балагур еще в конце прошлого столетия сказал как-то:
«Женщины учатся грамоте для того, чтобы писать глупости, преимущество безграмотных женщин в том, что придуманная ими глупость только говорится, а не увековечивается посредством пера и чернил».
– Я пригласила к себе сегодня Зуева, – холодно сказала
Мэри на другой день за чаем. Чайный и обеденный стол был нашей нейтральной почвою, на которой мы сходились первое время, пока наши отношения не приняли более мирного характера.
– Зачем это? – удивился я. Вместо ответа Маня взглянула на меня как-то вскользь, безучастно, точно бы меня и не было, или, вернее, если бы я был столом или стулом.
Меня это несколько взорвало.
– Если ты находишь ненужным отвечать мне, незачем было и сообщать – проворчал я, – или, может быть, ты этим желаешь дать мне понять, чтобы я не приходил и не мешал вам? Когда же состоится ваша высокоторжественная аудиенция?
– В двенадцать часов.
– Ночи? – съязвил я; но Маня сделала вид, будто не поняла моего намека, и тем же спокойным тоном ответила:
– Дня. Впрочем, мне кажется, теперь, – она нарочно подчеркнула слово «теперь», – вам должно быть все равно, днем или ночью.
– Ну положим, – вспылил я, – если вы задумали мстить мне известным способом, то я бы попросил вас подождать до тех пор, пока вы снимете мою фамилию, и во всяком случае не у меня в квартире.
– Не судите всех по себе, – холодно ответила Мэри. –
Хотя трудно более того опозорить честь своей фамилии, как то сделали вы сами, но тем не менее я обещаю вам, пока ношу эту фамилию, я не позволю себе сделать ничего такого, что могло бы бросить тень на столь достойного человека, как вы.
– На кой черт, в таком случае, вам Зуев, – окончательно взбесился я, – и что вы хотите, наконец, предпринять совместно с этим ослом?
– Я сама еще не решила. Когда решу окончательно, сообщу вам, будьте спокойны, тайком не убегу из дому.
Я с досадой пожал плечами и прекратил дальнейшие расспросы.
Выходя из дому, я в первый раз в жизни почувствовал нечто, похожее на ревность. Мне стоило большого усилия, при встрече с Зуевым, молча пройти мимо него и ни единым знаком не выразить неприязненных чувств, волновавших меня. Я только издали, искоса, наблюдал за ним.
Он был в страшном волнении, точно в лихорадке, то и дело вынимал часы и, мельком взглянув на них, через пять-десять минут снова справлялся с ними. Ровно в половине двенадцатого он поспешно захлопнул конторку, торопливо запер ее на ключ и почти бегом направился в переднюю. Через минуту я в окно увидел его отъезжающим на извозчике от крыльца, и в ту же минуту что-то сильно и больно кольнуло меня в самое сердце. Я должен был призвать на помощь все свое хладнокровие, чтобы не выскочить и не погнаться за ним.
«Если Маня согласится уйти к нему, – думал я, – я не смею даже протестовать.. а это ведь легко может случиться. Он обожает Маню, она это хорошо знает и хотя сама, кажется, вовсе не влюблена в него, но, во всяком случае, сильно ему симпатизирует. От ненависти до любви
– один шаг, сколько же до любви от симпатии – не будет и полшага. Особливо при настоящих событиях. При теперешних условиях подобная симпатия может быть особенно опасною. С одной стороны, потребность видеть в ком-либо сочувствие, иметь под рукою слушателя, которому можно бы высказать свое горе, а тут же, кстати, может явиться и желание отомстить, наказать, а к довершению всего, и чувство сострадания, тем более что сострадание взаимное.
Соединение двух страдающих существ ко взаимному счастью. Положим, это немного сентиментально и не в характере Мэри, но на одно это плохая надежда. Сентиментальность прилипчивей оспы, а у Зуева сентиментальности хватило бы на прививку ее хотя бы целому женскому пансиону. Положим, у меня есть средство во всякую минуту расстроить все их планы: не отдавать детей, Мэри же ни за что не согласилась бы расстаться с ними, но это значит злоупотреблять своими правами, насилие.. Нет, нет, Бог с ними, пускай, если захотят, берут и детей. На горе, с Прасковьюшкой у них все кончилось.. На днях, я слышал, она уезжает совсем из Петербурга на родину. Дура эдакая. С ней исчезает последняя помеха. Захотят, хоть сейчас к венцу, я должен, если Мэри потребует, дать развод. . честь того требует. . да и все равно, силой не удержишь.. Да неужели оно так и случится?»
Так размышлял я, волнуясь и раздражаясь все более и более. В конце концов я так размечтался, что предположения и опасения обратились в моем воображении в реальную действительность. Я уже видел себя разведенным, одиноко живущим в меблированных комнатах. Грустно, однообразно тянется жизнь. Проходит год, другой, о Мэри не имею никаких сведений, знаю только, что она уехала куда-то в провинцию с своим мужем, Зуевым, и вдруг судьба, как на зло, устраивает неожиданную, тяжелую для меня встречу. Светлый зимний день. Я возвращаюсь со службы на свою одинокую, унылую квартирку, мне что-то особенно грустно, сегодня 27-е марта, день рожденья Мэри, я вспоминаю, как мы весело проводили обыкновенно этот день, собирался небольшой кружок самых близких знакомых, смех, шутки, всякие пожелания. . Многих из этих знакомых я не видал с тех пор, как Маня оставила меня... где-то она теперь, как-то справляет свое рожденье, вспоминает ли меня? Мне вдруг является страстное желание увидеть ее, я тоскливо оглядываюсь кругом, как бы ища в снующей мимо меня толпе дорогой образ, и вдруг останавливаюсь, как пригвожденный на месте, не смея верить собственным глазам своим. . В каких-нибудь двадцати шагах от себя я вижу Маню. Она под руку с Зуевым идет мне навстречу, впереди, очень мило одетая, идет моя старшая дочь Леля.. Как она выросла за эти два года, как похорошела, немного похудела, но зато выровнялась и начинает уже походить на девушку. Я пристально, не отводя глаз, гляжу на них, но они не замечают меня, занятые каким-то, очевидно весьма их занимающим, разговором.
Все трое, очевидно, как нельзя больше веселы и довольны.
Мэри снова пополнела и еще больше похорошела, я замечаю в ней какую-то перемену, но перемена эта к лучшему, теперь она не похожа на молоденькую барышню, в ней есть что-то грациозно-солидное, женское.. Она ласково поглядывает искрящимися живыми глазками на мужа и весело ему улыбается. Зуева же узнать нельзя, он совершенно переменился. Куда девалась его неряшливость, угловатость, засаленность? Он прекрасно одет, из-под воротника бобрового пальто выглядывают кончики белоснежных, туго накрахмаленных воротничков. Небольшая бородка, аккуратно подстриженная, старательно расчесана, на руках совершенно свежие перчатки, а из-под меховой бобровой шапки уже не торчат косицы жидких, покрывающих шею и воротник волос. Он не только вполне приличен, он даже красив собой. Я невольно взглянул на себя, какой контраст.
Манжеты мои помяты, перчатки на пальцах подраны, сапоги стоптаны, а на коротком осеннем пальто не очищена еще грязь недавней оттепели!. Машинально я попятился назад, как бы боясь быть узнанным, но все трое прошли почти мимо самого моего носа, не заметив меня. Я провожал их пристальным взглядом, а сердце мое ноет нестерпимо, точно замирает от боли у меня в груди. В эту минуту я до отчаяния, до безумия люблю свою милую Мэри, с каким бы восторгом прижал бы я ее к своему сердцу и расцеловал бы ее миловидное, разгоревшееся от мороза личико. . Но. . но то, что еще недавно было мое, всецело и неоспоримо принадлежало мне, теперь мне совершенно чуждо.. Я пытаюсь окликнуть их, но голос не повинуется мне, и только обильные слезы неудержимо катятся по моим щекам. Одна из них капнула на разложенную передо мною бумагу. Я очнулся и, подняв голову, только сейчас замечаю, что я и в самом деле плачу.
«Черт знает, – подумал я, торопливо вытирая глаза, – да я, кажется, с ума сошел. Разрюмился, сам не знаю, чего ради. Еще ничего нет, ничего, может быть, и не будет, да и наверно не будет, а я уже плачу.. не ожидал я от себя такой слезливости. Наконец, черт возьми, что я такое особенное сделал, чтобы нести такое наказание. К дьяволу всякие сентиментальные бредни, Маня моя, и я ее уступлю только тогда, когда или сам умру, или она надоест мне до полного пресыщения, до тех же пор я буду владеть ею, ее телом, если не душой, и пусть осмелится кто-нибудь отнять ее у меня!»
Я быстро захлопнул конторку, поспешно надел пальто и чуть не бегом выбежал на улицу. Я так был взволнован, что не сообразил нанять извозчика и пошел пешком.
Квартира наша была недалеко, полчаса ходьбы, не больше.
Я уже завернул в нашу улицу, как вдруг нос к носу столкнулся с Зуевым.
Как ни был я расстроен сам, но невольно остановился и взглянул на него чуть ли не с испугом, такое необычайное было у него выражение лица. В эту минуту он походил на помешанного. Он шел, тупо глядя перед собою широко открытым, помутившимся взглядом, очевидно, никого не замечая и едва ли вполне ясно сознавая, где он. Шляпа съехала на затылок, как у пьяного, а пальто, кое-как надетое и не застегнутое, как-то особенно странно болталось на его длинной, костлявой фигуре. Он прошел мимо меня, задев меня плечом и не заметив.
«Что у них там произошло? – подумал я, провожая его глазами. – Должно быть, что-нибудь серьезное, никогда еще не видал я его таким».
Мучимый любопытством и беспокойством, я ускорил шаги и менее чем через пять минут входил уже в нашу квартиру.
Мэри я застал, по обыкновению, на ее всегдашнем месте – любимом диванчике в будуаре. Она сидела, склонив голову на сложенные на столе руки, и горько плакала.
Я остановился перед нею и несколько минут тупо глядел на пробор ее склоненной головки и на вздрагивающие от сдерживаемых рыданий плечи.
– Скажи, пожалуйста, – начал я, – что у вас тут произошло с Зуевым? я только что встретил его, он точно лунатик идет, вытараща глаза, и давит прохожих.
При моем вопросе Маня заплакала еще сильнее, судорожно сжимая пальцами тонкий батистовый платочек и по-прежнему не поднимая лица.
– Господи, – скорей простонала, чем сказала она, –
неужели я такая несчастная, что из-за меня всем одно только горе, лучше бы мне умереть, но не могу же я идти против своей совести, не могу, не могу..
– Ты, стало быть, отказала Зуеву, – радостно воскликнул я, – спасибо тебе, моя милая, хорошая.. а я так боялся, что ты покинешь меня ради него.. если бы ты знала, сколько я выстрадал за это время, ты, наверно бы, пожалела меня.. Я теперь многое понял, чего не понимал еще вчера, и искренно раскаиваюсь, что причинил тебе столько горя, но, поверь, теперь я сумею загладить свою вину перед тобою, только ты прости меня, но прости вполне искренно, от души, так, чтобы больше уже никогда и не вспоминать об этой несчастной истории!
Я опустился подле нее на диване и, взяв со стола ее руку, принялся горячо целовать ее.
– Не все ли равно тебе, останусь ли я или нет? – с горьким упреком заметила Мэри, отнимая руку.
– Нет, не все равно, клянусь тебе, я люблю тебя больше всего на свете. Я сам до сегодняшнего дня не сознавал всю силу моей любви. Если бы ты знала, что испытал я сегодня, как мучился, как ревновал, когда Зуев поехал к тебе.. Ты знаешь, как я сдержан, но на сей раз у меня не хватило силы воли остаться, и я, как сама видишь, пришел почти следом за ним. . Мне только сейчас пришло в голову, как хорошо, что Зуев уже ушел, иначе могла бы произойти какая-нибудь беда.. Я ведь все это утро на себя не похож, словно с ума сошел. Ты, кажется, не веришь мне?
– Отчасти нет. Положим, сейчас, в эту минуту, ты говоришь искренно то, что чувствуешь, но не пройдет месяца, и легко повторится та же история. Нет, Федя, обижайся или не обижайся, но ты не Зуев. Вот человек, который если кого любит, то всем сердцем, без всяких увлечений, честно и искренно. Любовь его не прихоть, а страдание.. Бедный,
бедный, как мне его жаль..
Слова эти сильно уязвили меня. Не улегшееся еще чувство ревности снова вспыхнуло во мне с прежней силой. Я поднялся с дивана и холодно сказал:
– Если тебе так жаль его, отчего же ты его не осчастливила?
– Почему?! Ты хочешь знать? Потому, что я не продажная женщина, чтобы отдаваться, не чувствуя любви, кроме того, я не в силах расстаться с детьми, а взять их с собою не имею права, хотя я хорошо знаю, ты бы охотно уступил их; но я, я не имею права лишать их родного отца, не имею права загодя предрешать их суд над нами обоими.
Кто знает, может быть, выросши, они найдут тебя правым и обвинят меня за то, что я отняла их у тебя, может быть, я не сумею воспитать их как следует, и тогда вся ответственность падет на меня одну, и они же первые попрекнут меня... Нет-нет, это была бы слишком большая ответственность на моей душе, и я не смею взять ее на себя.. лучше я пожертвую собою. . Я даже никогда не скажу им обо всей этой истории, чтобы тем не дать им повода не уважать тебя...
– Боже мой, сколько великодушия! – с злобной иронией воскликнул я. – И все ведь, поди, ради принципа. Тебя твои принципы заели, как собаку блохи. . а подумала ли ты о том, великодушная женщина, что из-за твоих принципов
Зуев может взять да и застрелиться, тогда..
– Молчи, умоляю тебя, молчи, – всполохнулась вдруг
Мэри, затыкая уши и с выражением неподдельного ужаса на лице. – Господь не допустит, это было бы слишком ужасно.. Ах, как ты зол, сейчас только что вымаливал прощенье, целовал руки, а теперь оскорбляешь.. Нет, не любовь заставила ревновать тебя сегодня, а самолюбие, ты боялся, что я предпочту тебе другого.. Если бы ты любил искренно, ты ревновал бы всегда, хотя бы к тому же
Вильяшевичу.
– Который раз ты попрекаешь меня Вильяшевичем, сама ему чуть не на шею вешалась..
– Чем ты виноват?! Сказать тебе чем? – грозно сверкнула она глазами. – Ты сводил нас.. Тогда я была глупа, не понимала, теперь мне это ясно, как день. Зачем ты спаивал меня? Оставлял нас с глазу на глаз? Подтрунивал над моей осторожностью в обращении с ним? А пикники, ужины, тройки. . всего и не вспомнишь.. Ты все сделал, чтобы заставить меня отдаться этому старикашке, и если я осталась верна своему долгу, то не по твоей вине.
При этом жестоком обвиненье я почувствовал, как вся кровь бросилась мне в голову, я побледнел как полотно и в первую минуту не мог вымолвить слова.
– Слушай, Мэри, как бы я ни был виноват перед тобой, но оскорбленье, которое ты мне нанесла, выше моей вины..
Как могла ты подумать о чем-либо подобном?! Если я и поступал отчасти так, как ты говоришь, то единственно из желания ничем не стеснять тебя, мне нравится бравировать общественным мнением, общепринятыми понятиями о семейной жизни. . я враг всякой нравственной шнуровки, но, если бы ты мне изменила серьезно, я был бы в отчаянии.
– Если и так, ты все-таки виноват. Ты развратник до мозга костей, ты циник, и для тебя нет ничего святого.. я это и прежде как-то предугадывала, теперь же поняла ясно, жаль только, что так поздно.
Ни тогда, ни впоследствии мне не удалось узнать, какого рода объяснение произошло между Мэри и Зуевым.
Маня никогда мне об этом не рассказывала, а расспрашивать ее я находил неудобным, но насколько мне кажется, у них вышло какое-то недоразумение. По всей вероятности, Зуев, в своем возбуждении чувств, не понял слов Мэри и увидел в них упреки, которых, наверно, не было, ибо Маня ни на минуту ни в чем не обвиняла его. Сужу же я так вот почему.
В тот же день, вечером, Маня получила от Зуева записку, меня, на беду, не было дома. Я ушел, видя, что присутствие мое ее раздражает.
В глупой записке этой, как я впоследствии узнал, стояло:
«Многоуважаемая, дорогая, милая Мария Николаевна, простите меня за все и не вспоминайте лихом.
Я не подлец, что и доказываю.
Прощайте, обожающий вас З***».
Получив эту записку, Мэри в одну минуту оделась и, не сказав никому ни слова, уехала из дому. Вернувшись домой довольно поздно, я уже не застал ее дома, и на все мои расспросы кухарка наша могла мне объяснить одно. Приходил, мол, посыльный в красной шапке, приносил письмо.
Барыня прочли и сию же минуту схватились одеваться и затем вышли-с, а куда – неизвестно.
Я стал поджидать возвращения жены; проходил час за часом, а Мэри не возвращалась. Медленно тикала тяжелая маятная стрелка, мертвая тишина царила в квартире, только изредка из детской доносилось сонное вскрикиванье кого-нибудь из детей и недовольное, усталое кряхтенье полусонной нянюшки, сопровождаемое монотонным, заунывным убаюкиванием, с визгливыми переливами; Спи, дитятко, усни,
Угомон тебя возьми..
Буду люлечку качать,
Станешь глазки закрывать. .
Шиши.. шиши, шиши-шиши, шиши
и т. д.
А часовые стрелки все двигаются да подвигаются вперед. Лунный яркий свет так и льется в комнату, широкой полосой ложась по полу и стенам. . Сняв сапоги, я неслышно хожу взад и вперед по мягкому ковру, чутко прислушиваясь к легкому поскрипыванию собственных туфель.. Вот уже и месяц стал бледнеть.. Над крышей соседнего дома чуть заметно прорезалась багряная полоска, по каменным плитам двора гулко отзывались в мертвой тишине тяжелые шаги и скрип и грохот отворяемых ворот.
«Это, должно быть, дворник, – машинально подумал я,
– ворота отпирает». Я поднял глаза на циферблат, стрелки показывали пять часов утра.
– Где же наконец она, – почти вслух воскликнул я, – это же наконец невыносимо.
Измученный продолжительным шатаньем из угла в угол, бессонной ночью и душевными тревогами, я в изнеможении опустился на кресло и, как случается иногда в подобных случаях, неожиданно и почти мгновенно заснул.
Впрочем, сон этот был непродолжителен, не прошло и пятнадцати минут, как я услышал подле себя легкие шаги жены, почувствовал на плече прикосновение ее руки и как бы тревожный оклик:
– Федя, Федя, проснись!
Я вскочил и оглянулся. Комната была совершенно пуста, я заглянул в спальню – никого. Прошел в переднюю, сквозь полуоткрытую дверь в кухню увидел нашу прислугу
– она спала.
«Что же это такое, галлюцинация или бред? Я ясно слышал как голос, так и шаги и прикосновение пальцев, я готов был присягнуть, что это не был сон. Невольный страх овладел мною. Уже не случилось ли чего с Мэри?» – подумал я под влиянием суеверного ужаса.
«Надо идти разыскивать ее, но куда?»
Я торопливо надел пальто и, крикнув прислуге запереть за собою дверь, вышел.
Люблю я Петербург ранним утром, когда огромный город еще спит и только кое-где появляются в лице запоздалых Ванек, полусонных дворников и сменяющихся городовых признаки пробуждения.. Вот идет загулявший чиновник, в расстегнутом пальто, с слегка сбившимся на ухо цилиндром и криво накосо повязанным галстуком, он идет, чуть-чуть пошатываясь, с блаженным выражением лица, и самодовольно мурлычет что-то себе под нос..
Ночная фея, сильно помятая, с испитым, изжелта–зеленоватым лицом, торопливо бежит куда-то, точно ночная птица, спешащая укрыться от дневного света. . Два каких-то подозрительных субъекта, лохматых, всклокоченных, рваных, – идут, зорко, по-волчьи озираясь кругом, отрывисто непонятно переговариваясь между собою. .
Городовой с книжкой степенно ведет какого-то бродягу в участок. . В воздухе слышится некоторая свежесть, легче дышится, чувствуешь себя как-то ближе к природе, сквозь присущий столице запах дыма, гари и копоти нет-нет да и потянет чем-то, напоминающим простор полей, широколиственные чащи леса, светлобегающие ручейки и реки, и жутко и весело становится на душе.
Выйдя на улицу, я на минуту задумался. Куда идти? И
решил идти к Зуеву. Что-то мне подсказывало, что письмо было не иначе как от него. Зуев жил недалеко от нас, а именно в Гончарной улице, почти у казачьего плаца. Войдя по темной и далеко не опрятной лестнице на второй этаж, я только что хотел позвонить, как дверь отворилась, и на пороге появился высокий широкоплечий околоточный надзиратель с портфелем под мышкой, за его спиной я видел приземистую фигуру в «спинджаке», сапогах бутылками и с длинной рыжевато-седою бородою – по всей вероятности, старшего дворника. В глубине виднелись еще две-три фигуры.
– Что вам угодно? – сухо обратился было ко мне полицейский, но в ту же минуту, узнав меня, переменил тон и весело воскликнул: – Э, да это вы, Федор Федорович, какими судьбами, зачем?
Случайно околоточный этот был мне знаком, благодаря одному делу, которое я имел с его высшим начальством.
Дело было не мое личное, а конторское, и так как высшее начальство при этом отнеслось ко мне с большою предупредительностью, то подчиненные, в том числе и вышеупомянутый околоточный, до некоторой степени лебезили передо мною, хотя и старались принимать вид как бы независимой фамильярности.
– Что у вас тут такое? – спросил я в свою очередь, встревоженный таким ранним присутствием хранителя общественной тишины и спокойствия.
– Дела-с, я вам доложу-с. Вам, конечно, известно, кто здесь живет. Г-н-с Зуев. Ну вот-с этот самый г-н Зуев изволили вчера вечером-с отравиться, мышьяком-с, но как вам известно-с, мышьяк, как элемент самоотравительный
(офицер говорил слогом высокопарной учености, для возбуждения, должно быть, вящего почтения к своей особе), не представляет из себя достаточно крепких начал, и в большинстве случаев отравления являются неудачные. Так и в настоящем инциденте, факта самоотравления смертоносного не произошло главным образом благодаря скорой медицинской помощи, но опасность все-таки, же весьма ощутительна, так что доктор не отходит от больного..
Главный же, так сказать « тезис» всего этого курьезного происшествия в том, что тут замешана какая-то женщина.
По ее словам, она пришла к г-ну Зуеву вечером, отворила ей прислуга, у которой она спросила: «Где барин?» и, получив в ответ: «Должно быть, в кабинете или спальне», –
прошла туда. Входя в кабинет, она увидела, как Зуев, выпив что-то из небольшого стакана, ударом об пол разбил его, а сам опустился на диван. Так как она почему-то раньше предполагала, что Зуев должен отравиться, то тотчас же догадавшись, в чем дело, бросилась за доктором.
Доктор, к счастью, оказался в том же доме и немедленно явился. Он застал г-на Зуева в судорогах, конечно, сию же минуту были приняты все меры, но так как отравление все же довольно сильное, угрожающее жизни пациента, то и было дано знать полиции, вот и все. . Женщина же эта нам очень подозрительна, тем более что она не желает сказать нам ни своей фамилии, ни кто она, ни даже зачем пожаловала. Во всяком случае, я хочу ее арестовать и отвезти в часть, пусть там разбирают, кто она такая, вот только жду своего помощника, я его послал за извозчиком.
Последние слова полицейского сильно смутили меня.
«Господи, уж не она ли?» – мелькнуло у меня в голове, и я поспешно спросил полицейского:
– Можно мне войти?
– О, конечно, пожалуйте, – любезно пригласил он меня, отступая от дверей и давая мне место. Я торопливо вошел и, не снимая пальто, через маленькую, полутемную переднюю направился в квартиру. Отворив первую комнату, служившую, должно быть, одновременно и столовой, и гостиной, я первым долгом увидел Маню. Она сидела на диване, бледная, осунувшаяся, с лихорадочно блестящим взглядом. Волосы ее слегка растрепались, на ней было простенькое домашнее платье, с оборвавшимися вчера утром кружевами, очевидно, она выбежала из дому так, как сидела.
Увидев меня, она быстро вскочила с дивана и бросилась ко мне.
– Это ты?! Слава Богу, меня просто измучили, они вообразили, кажется, что я Бог знает кто, и не выпускают меня отсюда.. Если бы ты знал, что они мне говорят тут, какие вопросы задают. . Это ужас, ужас.
– Зачем же ты не сказала, кто ты? – укоризненно заметил я.
– Признаюсь, мне не хотелось говорить своей фамилии без крайней надобности, тем более что Зуев же жив, он сам подробно рассказал обо всем. Зачем же меня-то удерживают, ведь нельзя же подозревать меня, что я его отравила!
– Тебя в этом никто и не подозревает.
– А в чем же?
– В том, что ты – тут.
– Какой вздор, – воскликнула она, – вот идиотизм-то.
– Вздор не вздор, а ты рисковала большим скандалом; в сущности говоря, их и винить нельзя. Какого мнения должны быть они о женщине, которая ночью, в таком костюме, является к одинокому мужчине в квартиру.
Мэри хотела что-то возразить, но в эту минуту дверь с шумом распахнулась, и в комнату влетел околоточный.
Мэри страшно побледнела и, инстинктивно бросившись ко мне, схватила меня под руку, как бы ища за мною спасения.
– Извините, г-н околоточный, – сдержанно, но не без внутреннего смеха начал я, – вы изволили ошибиться, сия особа не то, что вы думаете, а законная жена моя, Мария
Николаевна Чуева, а потому если уж так необходимо ехать в участок, то мы поедем вдвоем и без провожатого.
Надо было видеть эффект, произведенный этими словами на ярого блюстителя тишины и спокойствия. Он до того растерялся, что более минуты стоял совершенно опешенный, с разинутым ртом и бараньи выпученными глазами.
– Ваша жена?! – произнес он наконец и, не зная, очевидно, что сказать, наивно добавил: – А я и не знал.
– Охотно верю, – усмехнулся я, – в противном случае я бы счел себя оскорбленным и потребовал бы удовлетворения, конечно, не от вас, а от вашего начальства.
– Я, я, помилуйте.. я ничего. . долг службы, так сказать, обязанность.. фатальные стечения обстоятельств.. Сударыня, – кинулся он вдруг к Мэри, – уж вы, пожалуйста, не обижайтесь, если что, может, сорвалось с языка, знаете ли-с, не ошибается только один Бог-с, да-с, а человеку свойственно ошибаться.. ах, как неприятно..
Весь его апломб исчез, и, недавно еще похожий столь на бойкого петушка, он напоминал теперь мокрую курицу.
– Федор Федорович, – шепнул он мне на ухо,– уж вы будьте так добры, ради Бога, ничего Петру Петровичу не говорите, прошу вас, пожалуйста, знаете, какой он у нас, в какую минуту подвернешься, а у меня все же жена, недавно
Бог сынишку дал, в некотором роде первенец. . мало ли, со всяким случается, иной раз совершенно неожиданно для себя..
– Не бойтесь, не скажу.
– Ей-Богу, честное слово?
– Честное слово, говорю вам, не скажу – и баста.
– Смотрите же, а то знаете нашего Петра Петровича..
Я не слышал окончания его фразы, так как извозчик уже отъехал от крыльца.
Петр Петрович, которого так боялся околоточный, был пристав, тот самый, которому его начальством поручено было мое конторское дело, человек, лично мне хорошо знакомый и относившийся ко мне более чем предупредительно. Стоило было рассказать ему всю эту историю, и, я уверен, ретивому околоточному досталось бы ни на живот, а на смерть, но я сдержал свое слово и никому ничего не сообщил, так как во всей этой истории главным образом винил жену.
Всю дорогу от квартиры Зуева до нашего дома мы не проронили ни одного слова. Я хотя и считал Мэри виноватой, находя ее поступок крайне неприличным и компрометирующим, но не счел нужным высказать ей своего взгляда, я видел, что ей без того, что называется, самой тошно от всех этих треволнений.
Как только мы вернулись домой, Мэри быстро прошла в спальню, разделась и легла в постель. Ее сильно лихорадило, я же отправился на службу. Вернувшись по окончании обычных занятий, я застал жену по-прежнему в постели. Она металась по кровати, вся в жару, бредила, очевидно, ничего не видя и не понимая.
Почти целый месяц пролежала Мэри между жизнью и смертью. Все это время я не отходил от нее, ухаживая за нею, насколько хватало сил и уменья. Я целые ночи напролет проводил у ее изголовья, с напряженным вниманием следя за всяким малейшим изменением в ходе ее болезни. Целый месяц я переходил от отчаяния к надежде..
Бывали минуты, мне казалось – она умирает, и тогда я замирал от леденящего ужаса при мысли о возможности потерять ее навеки; я удваивал свои старания и чуть дыша сидел над нею, не спуская глаз с ее лица, чутко ловя всякий ее вздох, всякое движение. Я припоминал все дурное, что я сделал ей, и сердце мое обливалось кровью, мне неудержимо хотелось тогда обнять ее и целовать, целовать, целовать без конца это милое, страдальческое личико.
Однажды мною овладела особенная тоска. Я долго глядел, склонясь, в лицо жены и вдруг неожиданно для самого себя горько заплакал. Я опустил голову на ее подушки и плакал как ребенок. Не знаю, услыхала ли Мэри мой плач, но только она медленно открыла глаза, с минуту пристально и упорно смотрела мне в лицо. Мутный, бессознательный взгляд ее прояснился, она улыбнулась, вытащила из-под одеяла исхудавшую руку, крепко, насколько позволили ей ее силы, обняла мою шею и, притянув мою голову к себе, крепко и горячо поцеловала меня в губы и глаза. Несколько минут молча смотрели мы в глаза друг друга; это в первый раз с начала болезни, что она пришла в полную память; с этих пор она начала быстро поправляться и недели через две могла уже покинуть постель.
Зуев оправился гораздо скорее. Сконфуженный своим неудачным покушением, он поторопился покинуть Петербург и уехал в провинцию, даже ни с кем не простясь.
Когда я сообщил об этом Мане, она ничего не ответила.
Напрасно старался я по выражению ее лица угадать, какое впечатление произвело на нее это известие, оно было вполне бесстрастно.
После болезни Мэри круто изменилась. Куда девалась ее шаловливая веселость и кокетливая игривость. Она сделалась как-то монашески-степенна. С этого времени я никогда уже больше не слышал от нее веселого громкого смеха, она улыбаться стала даже редко и постоянно была в каком-то грустно-задумчивом настроении. Хотя в отношении ко мне я не видел с ее стороны никакой враждебности, но и прежней кошачьей ласковости не осталось и следа. Она бросила и свое кокетство, и свои кошачьи ухватки, одеваться стала очень просто, почти безвыходно сидела дома, все свое время посвящая исключительно детям. Она сильно похудела, побледнела, осунулась, пропали совсем задорные огоньки в глазах, и эти когда-то живые, искрящиеся глазки сделались как бы неподвижными, глубоконепроницаемыми, как ночь. Иногда на нее нападало какое-то оцепенение. По целым часам просиживала она тогда на своем любимом диванчике, устремив пристальный взгляд перед собою; в эти минуты лицо ее принимало такое тоскливое выражение, что вчуже жутко становилось. Осенью у нее появился глухой, подозрительный кашель.
Я обратился к докторам. Ни один из них не сказал мне ничего положительного. Советовали беречь от простуды, переменить климат, заняться серьезным леченьем.
Мэри ко всем этим советам относилась крайне равнодушно, казалось, даже и не слушала, что ей говорили. Меня же эти намеки и недомолвки беспокоили гораздо больше, чем самые серьезные опасения.
Больше всего смутил меня один старичок доктор, к которому я, между прочим, обратился по совету одного знакомого, рекомендовавшего его как весьма опытного и серьезного врача.
– Как бы вам сказать, – сказал мне этот доктор, глубокомысленно пережевывая губами, – очень серьезной опасности нет, но вам необходимо немедленно же покинуть столицу. Поезжайте в провинцию, на свежий воздух, главное, чтобы жена ваша была вполне спокойна, ее надо развлекать, у нее угнетенное состояние духа, признаки развивающейся меланхолии. . У вас не помер ли кто? –
перебил он вдруг сам себя.
– Нет, а что? – удивился я.
– Так, я думал. . Видите ли, заметил в ней какую-то особенную, так сказать однопредметную, скорбь. Эта-то скорбь главным образом и точит ее. Есть субъекты, у которых такая скорбь если не рассеивается, то ведет к роковым последствиям, например чахотке..
– Неужели и вы так думаете, что вся ее болезнь происходит от тоски?
– Почти, хотя тут, кроме того, и простуда играет немаловажную роль. Очевидно, она у вас несколько раз более или менее сильно простуживалась, но не обращала на это должного внимания.. Единственный мой совет, как можно скорее поезжайте в провинцию, старайтесь развлекать ее и бойтесь как огня простуды. Тогда, Бог даст, она снова у вас расцветет, как захиревшее растение на солнышке. Так-то-с!
Легко сказать, поезжайте в провинцию, но сделать это человеку, живущему своим трудом, очень трудно. На сей раз судьба словно сжалилась надо мною, и менее чем через полгода я уже покидал Петербург, получив назначение в одну из бригад Пограничной стражи.
XVII
На новом месте Мэри, действительно, на первых порах словно бы ожила. Дорога, новые места, новые люди, новые впечатления, развлекли ее, она стала меньше скучать и задумываться. Мрачное настроение ее начало мало-помалу проясняться, подобно тому как проясняется иногда тусклое осеннее небо. Серые, как бы закоптевшие тучи густыми наслоениями заволокли весь горизонт. Сквозь них, как сквозь грязное, матовое стекло, едва-едва пробивается солнечный свет. . Но вот что-то словно бы ожило там, в недосягаемой глубине небесного свода. Ожило, засияло.. и хотя тучи по-прежнему хмуры и густы, по-прежнему упрямо громоздятся одна на другую, но становятся вдруг словно бы прозрачней. . Какая-то искорка теплится в их недрах, ширится, разгорается, силится выбиться наружу и вот кое-где, то там, то сям, начинают проскальзывать украдкой, как беглецы из тюрьмы, бледные лучи солнца..
Это не те могущественные палящие лучи, что так еще недавно во всей своей царственной силе сверкали над полной жизни природой, обдавая своим неотразимым, горячим дыханием трепещущую землю, нет, эти лучи напоминают бледную улыбку больного ребенка. Но среди угрюмых туч, над коченеющей в черной грязи землею, сквозь вой и свист пронзительного осеннего ветра, в хаосе всей этой непроглядной унылой природы даже они, эти чахлые лучи болезненно бессильного солнца, нам кажутся прекрасными.
Они напоминают нам лучшие дни, дни своего торжества, обманывают нас несбыточными надеждами, что вот, по мановению волшебства, исчезнет вся эта душу гнетущая картина, и они снова засияют с прежней силой, лаская и чаруя вновь ожившую землю. . но проходит минута, другая
– мрачные тучи, как бы озлобленные минутным торжеством противников, дружно сплачиваются, густеют, со всех сторон ползут на подмогу грозные чудовища, все новые и новые громады надвигаются, обрушиваются, теснятся..
Словно таинственные злодеяния, какое-то ужасное убийство совершается там в недосягаемой глубине.. сжимаются холодные, беспощадные объятия, мгновенная борьба, и вот опять кругом та же пасмурная, душу томящая, непроглядная картина.. Довольные своей победой медленно расползаются косматые чудовища, но сквозь них не видно больше никакой жизни. . Мертво, пусто там наверху, мертво на земле, смерть и уныние кругом, только холодный ветер стонет и завывает. . Оплакивает ли он погибшие лучи или торжествует победу туч – нет ответа.
Нечто подобное было и с Мэри. Хотя она и ожила было и повеселела, но как далека была эта веселость от той прежней, бьющей как горный ключ, проникавшей все ее существо кипучей жизнерадостности.
Это был последний взрыв угасающей молодости.
Осени поздней
Цветы запоздалые..
Вскоре ей стало хуже . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Во многом была виновата и наша квартира. Никогда в жизни я не видал ничего подобного. Самый сквернейший подвал в Петербурге – Эльдорадо в сравнении с помещением, которое нам дали на посту Думбики Думбовицкого отряда. Там мы прожили десять месяцев, откуда нас наконец перевели в лучшее помещение, но, увы, было уже поздно.
Помню, мы сидели с женою однажды вечером в нашей невзрачной избушке, носившей громкое название помещения при кордоне Твердовицы Твердовицкого отряда, а по справедливости же заслуживающей скорее наименование Трущобки. Была глубокая зима. На дворе завывала вьюга. Маленькое оконце занесло снегом. Пронзительный ветер уныло стонал, врываясь в бесчисленные щели ветхой постройки. Где-то наверху на чердаке назойливо скреблась крыса, на душе было невыносимо тоскливо. Мы сидели и вполголоса разговаривали, вспоминая недавнее прошлое.
Это сделалось нашим любимым препровождением времени. Воспоминание светлого прошлого заслоняло печальное настоящее и еще более унылое будущее. Вдруг Маня закашлялась, я остановился, выжидая припадка. Последнее время она начала кашлять чаще и чаще. . Долго, мучительно долго, надрываясь всей грудью, кашляла она, судорожно прижимая платок к побелевшим губам, наконец откашлялась, отняла ото рта платок, взглянула на него, и смертельная бледность разлилась по ее лицу, а в глазах отразился неописанный ужас. Она с минуту пристально разглядывала свой платок, вдруг губы ее дрогнули, подбородок затрясся, а глаза наполнились слезами. Она припала головой к столу и заплакала.
Плач ее был не громкий, сдержанный, едва слышный, но в нем чудилась такая безнадежная тоска, такое безысходное, отчаянное горе, какое может только раз в жизни выдержать сердце человеческое. Я подошел и наклонился над нею.
– Мэри, милая, что с тобою? – спросил я, сам едва сдерживая приступавшие слезы. Она подняла голову и протянула мне руку с все еще судорожно сжатым в пальцах платком.
– Видишь это, – указала она на небольшое кровавое пятно, – всему конец. . Боже мой, как скоро, как скоро, я и не ожидала, что конец так близок.
Я мельком взглянул на красное кровавое пятнышко, как сургучная печать на смертном приговоре алевшее на ее платке, и понял все.. Спасенья не было, смерть грозно заглянула ей в глаза, и Мэри сама поняла это.
Несколько дней ходила она как потерянная, то и дело принимаясь горько, неутешно плакать. Наконец как бы успокоилась, словно бы окончательно примирилась с мыслью о скором, неизбежном конце, и уже до самой смерти спокойствие духа ни разу не изменило ей. Ее стоицизму мог бы позавидовать любой герой; будь она мужчина и умирай так на поле сражения, ее бы прославили, а между тем ей было еще тяжелее. Умирающему на войне утешением может служить сознание свято исполненного долга, восторг и внимание товарищей, весь апофеоз мрачной картины войны, Мэри же умирала одна, всеми забытая, одинокая, в глухой трущобе, умирала во цвете лет, сознавая, что могла бы еще жить.. И не роптала, с христианским смирением покоряясь своей грустной участи.
Прошло более полгода. Быстро промелькнула весна, лето, осень, снова наступила зима. С каждым днем Мэри становилось все хуже и хуже. Она похудела до полной неузнаваемости. Бледная, трясущаяся от слабости, еле бродила она по комнатам, то и дело присаживаясь и с трудом переводя дух. В жарко натопленной комнате она дрожала от холода и тщательно куталась в мягкий байковый платок.
Она отчаянно боролась с своею болезнью, стараясь, сколько хватало сил, не поддаваться ей.
– Я знаю, – говорила она мне, – что если слягу, то не встану больше.
Что может быть ужаснее этой полной отчаяния неравной борьбы молодого, жаждущего жить организма с неумолимой смертью.
Она старалась развлекаться, чем могла, ревностно принялась было за вышивание, вспомнила давным-давно заброшенное ею искусство делать всякие безделушки из плюша, шерсти и шелку. Затеяла грандиозное плато под чернильницу, долженствовавшее изображать целый ботанический сад, но силы, видимо, изменяли ей, и очень скоро уставала. Подошел праздник Рождества, и она с какой-то судорожной энергиею занялась устройством елки для детей. Едва передвигая ноги в теплых валенках, неслышно, как тень, бродила она вокруг зеленого, развесистого деревца, внимательно оглядывая его густые веточки и выбирая, где бы получше и как бы покрасивее развесить целую массу разных елочных гостинцев и украшений, которых я ей накупил. Смело можно было сказать, что она гораздо более детей интересуется и забавляется этой елкой, заботы о ней поглощали все ее время и заслоняли собою мрачные думы о скорой развязке..
Детишки, их было двое, из которых старшей едва минуло пять лет, ничего не предчувствуя и не понимая, весело кружились вокруг матери, немилосердно теребя за платье и каждую минуту угрожая уронить ее, а она, чтобы не упасть, торопливо хваталась за стол, стул или спинку кровати, ласково улыбалась им и сама же над собою подтрунивала.
Попробовала было однажды поднять и переставить подвернувшийся ей под ноги стул и не смогла. Минуты две провозилась она с ним, устала и наконец, в бессилии опустившись на постель, уронила на колени прозрачные, как бы восковые руки. Нет, видно, скоро конец, стула поднять не в силах, а давно ли. .
Она не договорила и поникла головою в грустном раздумье.
На третий день праздника Мэри подошла как-то к окну и долго глядела через полузамерзшие стекла на раскинувшийся впереди кордона густой лес. Высоко подымались темно-зеленые, занесенные глубоким снегом ели и сосны, неподвижные, как нарисованная декорация. Из морозной глубины темно-синего, как бы застывшего неба ярко сияла луна, заливая всю картину фантастическим светом матово-золотистых лучей.. Ни звука, ни шелеста, тишина такая, какая бывает в могиле или на границе, а между тем в этой мертвой, сказочной тишине зорко следят сотни глаз, чутко прислушиваются сотни ушей и сотни рук опасливо сжимают заледенелые стволы ружей. Громкий крик, выстрел, и безмолвный, заколдованный лес оживет. .
загремят выстрелы, раздадутся крики, тяжелый храп во весь опор мчащихся лошадей, грозный шум беспощадной погони через рвы, сваленные деревья, сквозь чащу леса, невзирая на ежеминутную головоломную опасность.
– Помнишь, Федя, – обернулась она вдруг ко мне, –
помнишь, ровно три года тому назад, в этот самый день, мы возвращались на тройках из «Хижины дяди Тома60», была такая же ночь, и лес такой же, и луна.. Боже мой, как давно, кажется, это было, а ведь всего только три года.. три года, а какая разница.. какая я была тогда и какая теперь! – она печально усмехнулась. – Если бы мне тогда показали меня теперешнюю, пожалуй, не поверила бы. А сколько в ту ночь умирало, может быть, таких молодых.. мы и не думали...
60 Загородный ресторан в Петербурге.
Какая я была в тот вечер веселая! Вильяшевич все приставал тогда, чтобы я спела ему любимый его романс
«Ночи безумные, ночи бессонные!». Ты еще сердился, говорил, что я простужусь, заболею, а мне смешно было даже и думать тогда о болезни, не верилось, что болезнь может победить нас, столько было в нас во всех тогда жизненной силы, и я пела, пела на морозе и даже ни разу не кашлянула, теперь самой не верится, чтобы было время, я могла открывать рот и не кашлять.. Помнишь:
Речи несвязные,
Взоры усталые,
Ночи последним огнем. .
Запела она было вполголоса, но на первой же фразе голос ее оборвался, она сильно закашлялась, так что принуждена была скорее сесть.
– Вот глупая-то, – рассердилась она сама на себя, с трудом переводя дух, – умираю, а вздумала песни петь.
Странно, – добавила она задумчиво, – вот и знаю, что конец, а все не верится, все кажется, авось нет, авось пройдет!
На другой день, утром, она собралась было встать, как и во все предыдущие дни, но не смогла. Несколько раз пыталась она начать одеваться, но силы изменяли ей, руки беспомощно опускались, а усиливающийся кашель принуждал ее снова ложиться и лежать без движения.
– Нет уж, видно, пора, что ни делай, а чему суждено, того не минуешь! – произнесла она наконец и улеглась. С
этого дня она не вставала больше.
Два месяца пролежала она после этого, постепенно угасая, тихо, безропотно, ничего не требуя, ни на что не жалуясь. Только раз – это было недели за три до смерти –
вырвался у нее как бы упрек жестокой судьбе. Дело было под вечер. Мэри лежала, закинув голову на высоко взбитые подушки, и глядела через окно на заходящее солнце. Долго, пристально следила она, как темно-багровый шар медленно закатывался за лес, словно утопая в его ветвях, а оттуда навстречу ему шли угрюмые сумерки. Вдруг глаза ее наполнились слезами.
– Отчего это, – тихо произнесла она, – когда здоров, не понимаешь всей прелести природы. Да неужели же я, в самом деле, умираю, – тоскливо возмутилась она, – неужели нельзя спасти как-нибудь, помочь, хотя бы еще три-четыре годика пожить, только три, а то умирать в двадцать восемь лет тяжело.. тяжело, так тяжело, что тебе и не понять.. Боже мой, за что, за что?!
Слезы градом заструились по ее лицу, она поспешно отвернулась к стене и прижалась лицом к подушке, как бы желая скрыть их от меня, но по вздрагивающим плечам, угловато торчащим из-под одеяла, я видел, что она плачет. .
Чем я мог утешить ее?!
Когда-то в юности в каком-то французском романе мне случилось прочесть об одном тюремщике, служившем при камере осужденных на гильотину. Всю жизнь проводя в обществе людей, которым с минуты на минуту угрожала смерть, он под конец так свыкся с мыслью об ней, что, когда во время революции его самого приговорили к казни, он почти не обратил на это внимания, до последней минуты входил во все мелочи своего хозяйства и уже на самом помосте гильотины крикнул своей жене, чтобы она на его поминках не забыла зажарить гуся, с начинкой из маринованного винограда, как это любит его закадычный друг и кум Томас, смотритель тюрьмы. Бедняк просто потерял представление о смерти, и она ему казалась вещью столь заурядной, в сравнении с которой забота о жареном гусе гораздо важнее.
Нечто подобное было и со мною. Мало-помалу я впал в полную апатию, никогда бы я не умер так спокойно, как в этот период. Все чувства притупились во мне. Я глядел на страдания Мэри и, к собственному ужасу, не ощущал никакого чувства ни жалости, ни горя, скорее, что-то похожее на любопытство овладело мною, и я внимательно следил за ходом ее болезни. Каждое утро я начинал мыслью: «Ну сегодня, наверно, конец!» Но проходил день, за ним другой, Мэри худела, истощалась, теряла подобие человеческое, но все жила и жила. Каждый новый день приносил какую-нибудь перемену к худшему. После всякой подобной перемены я думал: «Дальше меняться нельзя!» Фантазия отказывалась представлять себе что-либо более ужаснее того, что было перед глазами. Однако наступал следующий день, и к ужасу своему приходилось убеждаться в том, что еще не все было взято болезнью, что она, как алчный ростовщик, постепенно вымучивает у своего должника все его имение, ухитряется взять там, где, казалось бы, решительно нечего взять, и еще более обезобразить. Насколько мила и привлекательна была когда-то
Маня, настолько теперь она была отвратительно-безобразна. То самое, что когда-то служило ей украшением, теперь ее больше всего и портило. Соблазнительные ямочки на щеках, о которых Вильяшевич говорил,
что они снятся ему по ночам, растянулись в глубокие морщины, безобразно выдвинувшие вперед губы и придавшие всему лицу какое-то обезьяничье выражение.
Густые, длинные брови делали еще ужаснее и без того глубокие впадины глаз, которые от того казались совсем провалившимися. Глядя на этот едва копошащийся на постели страшный скелет, обтянутый желтой, сухой кожей, с трудом верилось, что скелет этот был когда-то живое, веселое, сильное существо, игривое и резвое, как котенок, что эти вытянувшиеся в ниточку, сухие, запекшиеся кровью, потемневшие губы складывались в очаровательную улыбку, а мутные, безжизненные глаза, черными впадинами выглядывающие из-подо лба, сверкали и сияли, как огоньки во время вечернего пира. Она иногда пробовала улыбнуться.. Если бы она могла видеть эту улыбку – она сама бы ужаснулась, я же без внутреннего содрогания не мог видеть ее.
«Живой труп», – невольно думал я с каким-то суеверным ужасом. А между тем, чем ближе подходило дело к развязке, тем Маня становилась спокойнее. Мало-помалу она уверила себя, что болезнь ее вовсе не серьезна и что она скоро совсем поправится. Эта уверенность, к моему большому удивлению, с каждым днем все сильнее и сильнее укреплялась в ней, несмотря на все грозные симптомы надвигающейся смерти. Маня или не замечала их, или давала им самые наивные объяснения. Когда, в одно утро, голос ее сразу изменился, сделавшись вдруг глухим, неразборчивым, она, заметив это, совершенно спокойно объяснила это явление тем, что после долгого сна заспала голое. Когда же он к вечеру перешел в глухой, басистый,
замогильный шепот, она решила, что простудилась, и думала помочь горю полосканьем горла бертолетовой солью.
Вместе с этим она начала строить отдаленные планы, как будет проводить весну и лето.
– Будем ходить в лес, – говорила она, – мне необходимо как можно больше дышать сосновым воздухом, я все дни буду проводить в лесу, возьму детей, работу, выберу где-нибудь местечко и сяду.. надо только будет денщика с собою брать, как ты думаешь, ничего не может случиться?
– Чему случиться, зверей здесь нет.
– А контрабандиты?
– Те больше твоего боятся, чтобы не попасться кому на глаза. Впрочем, конечно, лучше брать, мало ли, может собака какая перебежать или так что-нибудь...
– Да я и сама думаю, лучше брать, тем более он тебе ведь почти не нужен. Хорошо?
– Хорошо, хорошо. Ты только поправляйся скорее.
– О, я скоро поправлюсь. Надо только аккуратнее лекарство принимать, я от того так долго и хвораю, что не исполняла в точности советов докторов и не лечилась как следует, а начну лечиться, скоро поправлюсь.
– Я сам так думаю.
В таком роде были наши беседы; неизменной темой их было ее скорое выздоровление и обсуждение способов к наилучшему и наибыстрейшему достижению этой заветной цели. Насколько была она непослушна раньше ко всякого рода докторским советам, вполне игнорируя медицину и относясь к ней с обидным равнодушием, настолько теперь она сделалась ярой адепткой61 этой полезной (для докторских и аптекарских карманов) науки.
Смешно и грустно было видеть, с какой заботливостью принимала она прописанные ей, единственно для очистки совести, лекарства, не подозревая, что главные составные их части дистиллированная вода, сахар, да для окраски, или, как говорят солдаты: «красоты взгляда», еще какая-нибудь безвинная бурда.
Боясь пропустить минуту принять столь серьезно–важные снадобья, Мэри упросила меня повесить над ее кроватью ее золотые часики, а рядом с ними расписание следующего курьезного содержания.
«В 8 ч. утра – какао.
В скобках – две чашки, а нельзя – одну.
В 10 ч. утра порошки (что в синей коробочке с птич-
кой).
В 12 ч. молоко или бульон.
В 2 ч. порошки (из деревянной коробочки)».
Сказать к слову, доктор, заметя в ней такое усердие к лечению, прописывал те же самые порошки, но по разным коробкам, изменяя немного и цвет их. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.
«В 4 ч. микстура – столовая ложка, можно заесть
вареньем.
В 6 ч. какао, а там через каждые два часа капли из
граненого пузырька по пяти или шести».
61 Адепт – приверженец.
Кстати, по поводу этих «пяти или шести» между Мэри и доктором было довольно продолжительное совещание, она все допытывалась: сколько же именно, пять или шесть, недоверчиво относясь к тому, что будто бы одно и то же, что пять или шесть. Насилу доктор уверил ее в этом.
Надо сказать, что незадолго до смерти Мэри впала как бы в ребячество, к этому-то периоду и относится появление вышеупомянутого курьезного расписания. Одновременно с постепенным ослаблением умственных способностей в ней притупилась память, и сколько раз в день ни читала она это расписание, стараясь зазубрить его на память, ей это никак не удавалось. К тому же она совершенно потеряла способность распознавать время. Проснется ночью и первым долгом воззрится на свое расписанье, долго смотрит то на него, то на часы, глубокомысленно шевеля бровями и усиленно что-то соображая, очевидно стараясь сопоставить время с расписанием, но убедясь наконец в невозможности разрешить столь головоломную задачу, она поворачивается в мою сторону и тревожно просящим взглядом смотрит, сплю ли я.
– Что тебе, Маня? – обрадуешь ее вопросом.
– Ах, ты не спишь? Как я рада; милый, не поленись, посмотри, не пора ли порошок принять.
– Нет, порошки не теперь.
– А когда же?
– В 10 часов и в 2 часа.
Она недоверчиво косится на часы и еще робче говорит:
– Но ведь теперь, кажется, два часа и есть.
– Два часа ночи, а надо в два часа дня, – отвечаю я и, видя ее сомнение, встаю, подхожу к ее постели и в девятьсот девяносто девятый раз читаю ей расписанье. Она чутко прислушивается, как учитель к ответу ненадежного ученика, на лице ее появляется выражение полного разочарования.
– Значит, теперь ничего не надо принимать! – недовольно-грустным тоном говорит она. Мне хочется ее утешить, и я с серьезной миной возражаю.
– Ах батюшки, я и забыл, а капли-то, ведь ты их принимала последний раз в двенадцать, – вру я наобум, благо капли такого сорта, что давай, что не давай, ни вреда, ни пользы, – а теперь два, по расписанью же надо принимать их через каждые два часа.
– Вот видишь ли, – укоризненно-радостным тоном говорит Маня, – я отлично помню, что надо что-то такое принимать, вот только забыла что, а это капли. . вот, вот я теперь сама помню, именно капли.
Тем временем я с наисерьезнейшим видом каплю пресловутое лекарство, прозванное у нас с доктором «пять или шесть», Мэри горящим, тревожным взглядом следит за моей рукой. «Смотри не перелей!» – предупреждает она меня и осторожно, трясущимися руками берет от меня рюмку, медленно выпивает ее и, измученная всеми этими волнениями, опускается на подушку.. Через минуту она уже спит. Иногда сон ее бывал довольно продолжителен, но чаще бывало, что через какой-нибудь час, много-много полтора, она снова просыпалась, и начиналась опять та же комедия с расписанием, часами и каплями.
Эти хлопоты наполняли все ее время и развлекали ее до наслаждения, но злая судьба и тут жестоко подсмеялась над нею. Не доверяя мне своих часов, Мэри сама заводила их трясущимися от слабости руками. Заводила, заводила и перевела, волосок лопнул, часы стали. Долго не замечала она этого, но когда заметила, пришла в глубокое отчаяние, можно было подумать, что от исправности часов зависит ее жизнь, она расплакалась как ребенок, и мне стоило немалого труда успокоить ее. Она утешилась только тогда, когда я уверил ее, что часы, посланные немедленно в починку, будут завтра же готовы, а ей повесил пока свои.
Мало-помалу она впала в полное ребячество, о смерти перестала даже и помышлять, только однажды, в минуту скоропрошедшего прояснения, она как-то сказала вдруг, взглянув на свои высохшие до костей руки:
– Нет, видно, мне не выдержать!
– Чего не выдержать? – не сразу понял я.
– Умру, – коротко ответила она и отвернулась.
– Какой вздор! – попробовал я рассеять ее сомнения, но она ничего не ответила, очевидно даже не расслышав моих слов.
А болезнь шла своим чередом.
– Слушайте, барин, – сказала мне как-то наша верная
Матрена, приехавшая с нами из Петербурга, – сегодня, должно, кончится.
– Почему ты думаешь?
– Стала землей пахнуть, – таинственно пояснила она мне. – Сегодня я этого наклонилась над ними, а из них как бы то из земли дух такой чижолый идет, ровно вот как бы из могилы, а к тому же и убирать себя начали.
– Как убирать? – опять не понял я.
– А так, ручкой, то там себе личико тронут, то в ином месте, ровно бы что снимают, альбо вот прихорашиваются, это завсегда перед самым концом бывает.
Была глухая ночь. Я лежал и думал, а сам машинально прислушивался к легкому клокотанью в горле жены. Клокотанье это появилось всего дня три тому назад и очень походило на мурлыканье спящего кота, только несколько громче и глуше. Когда Мэри не спала, клокотанье это было слабее, но все же настолько сильно, что легко было слышимо через всю комнату. Я несколько раньше, чем сама
Мэри, заметил это мурлыканье, конечно, промолчал, боясь встревожить ее, но она, напротив, не только не обеспокоилась, подметив наконец в себе это новое явление, но отнеслась к нему даже шутливо.
– У меня кот в горле завелся, – улыбнулась она, –
слышишь, как мурлычет. Отчего бы это?
Я промолчал, не зная, как объяснить ей это, и она больше не расспрашивала. Потом я несколько раз замечал, как она подолгу прислушивалась к этому мурлыканью и улыбалась. Оно, очевидно, ее забавляло, а меня это проклятое мурлыканье заставляло лежать по целым ночам без сна, с широко открытыми глазами и боязливо бьющимся сердцем.
Вот и теперь я лежал, прислушивался и думал. Я
столько выстрадал за это время, что даже не мог тосковать, я как-то безучастно относился к долженствующей свершиться скоро потере, о которой год тому назад я не мог подумать без леденящего ужаса, теперь же мне иногда казалось, что смерть Мани обрадует меня. Какой бы ни был конец, все равно, только бы скорее выйти из этого ужасного надмогильного состояния! Впрочем, о близкой смерти
Мэри я почти не думал, а больше размышлял о чисто отвлеченных предметах. Я многое понял из того, что прежде мне было малопонятно. Между прочим, мне пришло на память изречение из одной священной книги, прочитанное мною случайно года четыре тому назад. «Прах есмь, от праха рожден и в прах обращусь!» Тогда я не понял всей глубины этого изречения, оно показалось мне даже банальным.
«Само собою разумеется, – рассуждал я тогда, – что тело человеческое, по разложении своем на составные части, обращается в то нечто, что в совокупности составляет до некоторой степени нечто аналогичное с землею, ничего тут нового нет!»
Но теперь, припомнив случайно это изречение, я неожиданно сразу постиг его глубокий, тайный смысл. –
« Пpax есмь...»
Да, прах, и не тело только мое, а все, все, что составляет нашу жизнь. Прах – наша любовь; прах – эта, когда-то столь очаровательная улыбка, обратившаяся теперь, благодаря изменившимся чертам, в обезьяничью гримасу; прах – чарующий голос, от которого остался теперь какой-то ужасающий хрип; прах то, что вызывало его: все прах и прах.. прах наша шестилетняя совместная жизнь со всеми ее радостями, треволнениями, печалями и горестями, жизнь, от которой в конце концов останется небольшой, никому ненужный, бессмысленный бугорок земли. Пройдет год, другой, бугорок сгладится, зарастет травой, и от всей этой жизни, казавшейся нам такой полной, хлопотливой, требовавшей так много труда, энергии, стараний, жизни, которую, по-видимому, не могло вместить само время, ибо и времени, казалось, не хватало на выполнение всех дел, забот и предприятий, от всего этого моря дум,
страстей, желаний останется.. ничего.
Пока я размышлял так, Мэри, крепко спавшая дотоле, вдруг неожиданно приподнялась и начала прислушиваться, с выражением какой-то торжественности в лице.
– Слышишь, – таинственно зашептала она, – кто-то ходит под окном, – слышишь, вот постучался, вот опять идет. . слышишь, как хрустит снег?
Панический ужас холодом пробежал по моим волосам.
Ночь была тихая, нигде ни звука, пробеги собака, было бы слышно за полверсты, а я ничего не слыхал. Очевидно, Мэри галлюцинировала. Она еще с минуту прислушивалась, повернув голову и наклоня ухо по тому направлению, где ей чудились таинственные шаги, и наконец улеглась, но не заснула, а все прислушивалась с какой-то пугливой чуткостью. Минут через пять она снова поднялась с искаженным лицом и широко раскрывшимся взглядом. «Опять идут, – торопливо испуганно заговорила она, – вот уже в ту комнату вошли. . берутся за ручку двери. . это смерть моя.
Федя, спаси, спаси меня, выгони. . вот уже дверь слегка отворяется.. она еще не смеет войти. . рано еще. . а когда войдет, я умру.. . стой. . стой еще немного.. Рано, рано! –
закричала она диким голосом, обращаясь к запертой двери.
– Отворяет. . Федя, выгони, выгони!»
Она опрокинулась на подушку и заметалась по постели в полном беспамятстве.
Замирая от ужаса, вскочил я с кровати и стал посреди комнаты, не зная, что предпринять.
«Агония! – думал я, глядя в судорожно искажающиеся черты Маниного лица.– Сейчас конец!» Но я ошибся, конец наступил еще не так скоро. Побившись минут пять, Мэри мало-помалу успокоилась и заснула. Больше она не просыпалась. К утру дыхание становилось все реже и реже. По временам костлявая грудь ее высоко подымалась под тонким полотном кофточки и сквозь стиснутые зубы вырывался продолжительный, болезненный не то вздох, не то стон. Так прошло часа три, четыре.. Вдруг она широко раскрыла рот, как бы стараясь заглотнуть побольше воздуха, вместе с тем на мгновенье с трудом приподняла было отяжелевшие веки, испуганно-удивленно глянула вокруг себя тусклым, безжизненным взглядом и снова закрыла глаза. Неуловимые тени побежали по бледному лицу, оно постепенно начало суроветь, хмуриться, словно бы каменеть.. Выражение какой-то строгой, недоступной торжественности разлилось по нем, сгоняя страдальческие морщины, разлилось и застыло. Она вся дрогнула, точно посунулась куда, мелкая дрожь конвульсивной змейкой быстро, быстро пробежала по всему телу и замерла..
«Вот он конец!» – подумал я и вздохнул.
В эту минуту я почувствовал облегченье, как узник, выпущенный из тюрьмы.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пробило четыре часа утра, когда мы, при свете конюшенных фонарей, вынесли белый гроб Мэри и поставили на простую польскую крестьянскую фурманку62. До города нам предстояло более двадцати верст. Дорога была отвратительная. Снег стаял, и его заменила непролазная грязь, в которой легкая, высококолесная фурманка вязла по сту-
62 Фурманка – от слова фура. Огромная четырехколесная узкая и очень легкая на ходу пароконная телега.
пицы. Катафалком бы не проехали и двух шагов. Без священника, без певчих, без провожатых, в гробе, покрытом простой конской попоной, как бездомная бродяга, тронулась бедная Мэри в свой последний путь. Сзади гроба ехал верхом я, да плелся пешком, утопая по колени в грязи, денщик, добровольно вызвавшийся проводить барыню, которую любил, по собственному выражению, «больше всех сродственников своих».
Уныло плелась неуклюжая телега, подпрыгивая по размытой дождями и оттепелью кочковатой дороге. Кругом, шумя ветвями, теснился угрюмый лес, протягивая свои косматые, трепещущие лапы, словно бы благословляя лежащую в гробу.
– «Вот он конец! – в сотый раз повторял я сам себе, задумчиво следя, как шатается во все стороны задок гроба.
– Кто мог предвидеть, шесть лет тому назад, когда мы веселые и здоровые венчались с нею, в небольшой, залитой огнями уютной церкви, эту ужасную картину. Мог ли я думать тогда, что придет день и я повезу ее, как нищую, в простой телеге, под конской рогожей, глухою лесною тропою. . Какая злая ирония, и как скоро, незаметно скоро промелькнула жизнь.. »
С каждым часом я все яснее и яснее сознавал всю глубину своей потери. Ко мне, словно бы после тяжкой болезни, возвращался рассудок и способность ощущать; я не плакал, даже с виду был совершенно спокоен, но в то же время ясно понял, понял сразу всем своим существом, что вся жизнь кончена, впереди ничего нет, все разбито, уничтожено, похоронено. Лучшая часть жизни промелькнула.. Промелькнула молодость, первая любовь, словом,
все, чем дорога жизнь, впереди бесконечные сумерки, длинная, безотрадная, как выжженная степь, дорога с чернеющейся на горизонте ямой, куда, чем скорее, тем лучше, сложить свое усталое тело. . . . . . . . . . . . . . . . . .
В эту минуту, следуя тихо за гробом, я в первый раз серьезно подумал о самоубийстве.
Прошло почти два года, я, как садовник, вынянчивающий особенно дорогое ему растение, взлелеял эту мысль, выкормил ее бессонными ночами, одинокой бесконечной тоской. Пора приводить ее в исполнение. Завтра в этот час я сам буду уже труп, но до последней минуты жизни все мои мысли всецело принадлежат тебе, моя Мэри.
Мы сошлись с тобою, не поняв друг друга, не понимая, прожили шесть лет и расстались – не выяснив, кто из нас был прав, ты ли или я, или, может быть, мы оба правы, а виновата судьба, роковая сила, не давшая ясного понимания обязанностей и отношений друг к другу!»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
На этом кончается рукопись Чуева, которую я и предлагаю читателю, без всякого изменения, в том самом виде, в каком она была мною найдена.
БЕГЛЕЦ
Роман из пограничной жизни
I
Бродяга
В 1876 году в один жаркий июльский день, верстах в 7 от города Нацвалли, по глухому мрачному аладжинскому ущелью, служащему, вместе с протекающей по нем рекой
Араксом, границей России с Персией, пробирался молодой человек, лет 19-20, одетый в жалкое рубище армянина-поселенца: короткий полукафтан верблюжьего сукна, с бесчисленным множеством прорех, ситцевый бешмет и чувяки. Голова была покрыта засаленной тушинкой63. По тому, с каким трудом, опираясь на толстую суковатую палку, передвигал он свои ноги, можно было судить о том далеком и тяжелом пути, который он сделал, раньше чем попасть в эти мертвенно неприветные места.
Лицо незнакомца, с небольшими усиками и едва пробивающейся бородкой, могло бы назваться очень красивым, если бы не было так страшно изнурено и покрыто, как корой, слоем пыли и грязи. Ввалившиеся щеки и глубоко запавшие глаза придавали ему вид человека, или только недавно перенесшего тяжелую болезнь, или сильно истомленного голодом.
По мере того как путник подвигался вперед по тро-
63 Тушинка – круглая шапочка горцев.
пинке, извивавшейся между желто-красными громадами скал, лишенных всякой растительности, силы, очевидно, оставляли его: он изредка останавливался, чтобы перевести дух, и затем снова брел вперед, едва-едва ступая наболевшими, покрытыми ранами и ссадинами ногами.
Налетавший изредка ветерок не приносил облегчения, а только обжигал лицо своим горячим дыханием. От раскаленных камней отдавало зноем, который, наполняя воздух, казалось, готов был испепелить мозг и душу человека.
Изнуренный и обессиленный, незнакомец присел на камень и с трудом вытянул ноги. Все тело его ныло от нечеловеческой усталости, во рту пересохло, язык потрескался, голова кружилась от голода и жажды.
Долго ли просидел он так, склонив голову на грудь и полузажмурив наболевшие от яркого света глаза, он не мог дать себе отчета. Из полубессознательного состояния, в котором он находился, его вывело раздавшееся где-то поблизости глухое ржание катера64.
Незнакомец встрепенулся, поднял голову, прислушался и, как бы сообразив что-то, торопливо поднялся с камня и побрел в ту сторону, откуда раздавалось ржание. Пройдя несколько саженей и обогнув прихотливо нависшую над тропинкой массивную скалу, слепленную из мелкого красного песчаника, он увидел перед собой небольшую круглую, глубокую котловину, окруженную со всех сто-
64 Катер-мул (катар, катар-мул, мул) – домашнее животное, гибрид осла и кобылы. Отличается работоспособностью, выносливостью и долговечностью, невосприимчивостью ко многим инфекционным заболеваниям. Крупных мулов выделяют для упряжки, более мелких – для верховой езды и перевозки вьюков. Большое распространение катер-мулы получили в Закавказье, Турции, Персии и других странах Ближнего
Востока. В Европе катер-мул распространился в Испании.
рон, как стеной, высокими отвесными скалами. Защищенная от палящих лучей солнца котловина эта представляла прохладный, уютный, тенистый уголок; по дну ее, вырываясь из расщелины скалы, бежал сверкающий ручеек, образуя в одной из впадин прозрачно-хрустальный, холодный, как лед, водоем, с усыпанным мелкими разноцветными камешками дном.
При виде воды путник невольно вскрикнул от радости и, забыв всякую усталость, бросился к водоему. Долго пил он, погрузив свое опаленное зноем лицо в холодные струи; когда же, наконец, напившись вволю, он поднял голову, глаза его встретились с другой парой черных, проницательных глаз, пристально устремленных на него из-под нависших седых бровей. Глаза эти принадлежали худощавому старику, одетому, как одеваются богатые армяне на Закавказье, в черную шерстяную черкеску, с высоко нашитыми на ней газырями65 и подпоясанную серебряным чешуйчатым поясом, с прицепленным на нем кинжалом в серебряных ножнах и кожаной, украшенной серебром кобурой, из которой выглядывала ручка револьвера, на узенькой галунной тесемке через шею. На коротко остриженную голову старика была надвинута по самые уши высокая конусообразная шапка-персиянка из мелкого блестящего, черного барашка. На ногах были надеты обшитые золотым шнуром чувяки. Сморщенное, худощавое лицо старика, с крючковатым толстым носом, похожим на
65 Гозыри (газыри) – деревянные небольшие трубочки с серебряными или костяными головками, в виде украшения вдеваемые по штук с каждой стороны груди (на черкеске) в особо нашитые для этого гнезда. Прежнее их назначение было для помещения заряда пороха и пуль.
клюв хищной птицы, было гладко выбрито, длинные седые усы закрывали рот и спускались ниже подбородка.
Старик сидел, свернув ноги калачиком, на разостланном коврике и закусывал мелко накрошенным паныром с лавашом66, запивая свой неприхотливый завтрак красным местным вином из большой темной бутылки.
В нескольких шагах, с надетой на голову торбой с ячменем, стоял рослый красивый катер, изжелта-белой масти, оседланный куртинским седлом, ярко-малиновый бархатный чепрак которого был расшит цветным шелком, а широкие медные стремена украшены изящной насечкой; на шее катера висело красное сафьяновое ожерелье, вышитое синими и белыми бусами, с пришитым к нему амулетом, в виде кожаной ладанки, украшенной ракушками, защита от дурного глаза. Сзади седла были приторочены большие, туго набитые ковровые хурджины67.
– Кто ты такой? – спросил армянин ломаным русским языком, пристально рассматривая молодого человека.
– А зачем тебе это знать? – уклончиво ответил тот, опускаясь против него в тени у водоема и с угрюмой жадностью изголодавшегося человека поглядывая исподлобья на сыр, хлеб и вино, лежавшие перед армянином.
– Зачем?! Низачем, так спросил, если не хочешь – не говори! – сказал равнодушно старик, снова принимаясь за еду.
66 Паныр – овечий крепко соленый сыр. Лаваш – хлеб на Кавказе в виде тонких больших лепешек. Собираясь в дорогу, жители ломают его на мелкие куски и заполняют им холщовые мешки.
67 Хурджшы – переметные сумы, в которых укладывается все имущество путешественника.
С минуту оба молчали.
– Послушай, бабай 68, – глухим голосом проговорил, наконец, молодой человек, – дай мне немного сыру и хлеба, я умираю с голоду. Пожалуйста!
– Изволь, дюшэ мой, изволь, пожалуйста! – добродушно протянул ему старик остатки своего завтрака и наполовину недопитую бутылку с вином. – Кушай на здоровье! Карапет Мнацеканов чиловэк добрый, пачему не дать, когда сам сыт. Кушай всэ. Оставлять ни надо!
Но молодой человек ничего и не думал оставлять. В
один миг он доел весь сыр, который оставался в мешочке, подобрал все крошки лаваша и двумя глотками опорожнил бутылку. Все время, пока он ел, армянин не спускал с него пристального, внимательного взгляда.
– Ну, спасибо тебе, бабай! – повеселевшим голосом произнес молодой человек, возвращая порожнюю бутылку.
– Теперь немного подкрепился, можно и дальше в путь.
Скажи, пожалуйста, – продолжал он, – граница отсюда близко?
– Близко, часа через полтора дойдешь, а ты разве в
Персию?
– В Персию, а ты?
– Я тоже в Персию! – ответил, немного подумав, армянин.
– И тоже, как я, не через таможню, а прямо через границу? Отлично, мы, стало быть, попутчики! Пойдем вместе, хочешь?
– Я на катере, ты пешком; как же мы поедем вместе? –
68 Бабай – здесь: старик, дедушка.
уклончиво отвечал Карапет Мнацеканов, недоверчиво поглядывая на молодого человека.
– Об этом не беспокойся, я пеший от твоего катера не отстану, в дороге же я могу тебе пригодиться!
Армянин сомнительно покачал головой…
– Чем, дюшэ мой, ты мне можешь пригодиться, мой сыр-лаваш кюшать? – усмехнулся он, лукаво прищуриваясь.
– Смейся, а дай-ка мне ружье в руки, я тебе покажу, чем я могу быть тебе полезен. Ты ведь, наверно, сам стрелять не умеешь?
– Почему ты так думаешь? – немного как бы обиделся старик.
– А потому, что вы, армяне, вообще плохо стреляете.
Это я в полку заметил. Грузины и имеретины стрелками на службу приходят, а вас, армян, учат, учат, а все толку мало!
– Ты беглый солдат? – встрепенулся Карапет.
– Почему солдат?
– А ты же, дюшэ мой, говоришь: «у нас в полку» стало быть, ты сам из полка!
– Пусть будет по-твоему, из полка, так из полка,– согласился молодой человек, – не в этом дело, а в том, чтобы ты взял меня с собой. Раз ты едешь в Персию, тебе такой человек, как я, будет кстати. Там ведь то и дело разбойники попадаются; дай мне свое ружье и не бойся, никого близко не подпущу!
– А ты хорошо стреляешь?
– Говорю, дай в руки ружье – увидишь!
Армянин встал, подошел к своему катеру и, вытащив из чехла почти новую, хорошо содержанную магазинку Пибо-
ди, какими в то время перевооружалась турецкая кавалерия, подал ее молодому человеку.
– Куда же ты стрелять хочешь?
– А вон, видишь: орел сидит на круче! – сказал молодой человек, указывая пальцем на большого рыжего орла, нахохлившегося на скале. С того места, где они стояли, орел был виден не весь, так как был заслонен камнем, из-за которого выглядывала только его голова и часть спины.
– Ну, дюшэ мой, это ты хвастаешь; в орла ты не попадешь. Далеко очень и видно его плохо, голова одна. Нэт, дюшэ мой, стреляй другое!
Вместо ответа молодой человек вскинул ружье и начал медленно и внимательно прицеливаться.
Прошло несколько мгновений томительного ожидания, и вдруг грянул резкий, отрывистый выстрел, гулкими перекатами прокатившийся по скалам.
Орел, встрепенувшись всем телом и сильно взмахнув крыльями, стремительно взвился вверх, описывая широкий круг.
– Говорил, дюшэ мой, нэ попадэш, вот и не попал! –
торжествующе произнес армянин.
– Если ружье правильно бьет – попал! – со спокойной уверенностью произнес молодой человек, внимательно следя за орлом, рассекавшим воздух широкими и торопливыми взмахами крыльев. Вдруг могучая птица как-то странно, не по-орлиному затрепыхалась на одном месте и начала сначала медленно, потом все быстрей и быстрей спускаться вниз, беспомощно и беспорядочно махая крыльями.
Через минуту она уже билась на камнях ближайшей скалы в тщетных усилиях вновь подняться. Вытягивая шею и раскрывая клюв, орел судорожно сжимал и разжимал острые когти, царапая ими камни; по временам он издавал глухой предсмертный крик, которому где-то высоко–высоко вторил другой орел.
– Ну, что? – торжествующе спросил молодой человек, поворачивая лицо свое к армянину. – Видишь, попал!
– Усташ, усташ69! – потрепал тот его по плечу. – Молодец, дюшэ мой, большой молодец. В самом деле, давай вместям поедэм, ты ружьям бери, если разбойник ходить будэт, стреляй его, дюшэ мой, как орла стрелял, хорошо будет!
– Ну, вот и отлично! – обрадовался молодой человек.–
Стало быть, можно и в путь трогаться!
II
Казнь огнем
Час спустя через один из бродов на реке Араксе, версты три ниже Аладжинского казачьего поста, осторожно переправлялись, сидя вдвоем на одном катере, Карапет
Мнацеканов и молодой человек, которого Мнацеканов называл Иваном, решив про себя, что он, наверно, русский беглый солдат.
Неглубокий в этом месте, но чрезвычайно быстрый и бурный Араке с оглушительным грохотом яростно катил свои желто-мутные волны, угрожая ежеминутно опрокинуть и катера, и его всадников в пенящуюся пучину. На
69 Усташ – мастер.
середине реки напор волн был так силен, что катер на минуту было приостановился, как бы не решаясь идти дальше.
– Шутора, шутора70! – закричал на него Карапет, замахиваясь концом ременного повода.
Катер затряс ушами и рванулся вперед, упираясь всею грудью против стремительного течения. Вода достигла седла, но через несколько саженей она начала быстро убывать, и с каждым новым шагом катер стал как бы вырастать под всадниками. Вот показалось его отвислое брюхо, за ним ноги до колен, колени, ниже колен, и наконец, весело пофыркивая, он мелкой рысцой благополучно выбрался на противоположный крутой, осыпающийся песчаный берег.
– Ну, теперь надо глядеть во все глаза, – боязливо оглядываясь, произнес Карапет, – тут как раз разбойников встретить можно!
– Не бойся, старик, – со спокойной самоуверенностью отвечал его спутник, закладывая патроны в магазинку, – у нас, у русских, есть пословица: «Бог не выдаст, свинья не съест». Понимаешь?
Карапет утвердительно мотнул головой, и оба, не теряя времени, пустились в дальнейший путь.
Монастырь св. Стефана, куда направлялся теперь Карапет Мнацеканов, – одна из древнейших армянских святынь, и в свое время имел большое значение как оплот христианства среди враждебных ему мусульман.
Монастырь этот, воздвигнутый среди пустынных гор, 70 Шутора (арм.) – скорее.
со всех, сторон был окружен дикими курдскими племенами, исключительно занимавшимися разведением бесчисленных стад овец и разбоем. Надо было много такта, ловкости и хитрости со стороны отцов-настоятелей монастыря, чтобы оставаться целыми и невредимыми, живя бок о бок с такими беспокойными, кровожадными и алчными соседями. Только грозная власть Суджинского владетельного хана Чингиз-Аги, с которым монастырь, ценой частых и обильных бэшкэшей71, поддерживал дружбу, да страх перед близкой православной Россией сдерживали разнузданные толпы дикарей, всегда готовых с огнем и мечом обрушиться на монастырь, представлявший для них лакомую и, в сущности, легкую добычу.
Солнце приближалось к западу, когда Мнацеканов с
Иваном подъехали к высоким стенам монастыря, окруженного со всех сторон густо разросшимися тополями, каштанами и норбандами, дававшими густую тень на широкую, усеянную камнями дорогу-аллею, ведшую к самым воротам монастыря, перед которыми на небольшой площадке теснилась толпа народа. Тут были мрачно нахмуренные курды, с сверкающими, как у волков, глазами, в черных чалмах, ярко-красных или малиновых, расшитых желтым и черным шнурком куртках и с целым арсеналом оружия за поясом; робкие, смиренные армянские сельчане в синих рубахах, кожанных чустах72 и в черных круглых суконных шапочках на головах, степенные, худощавые персы в бараньих папахах, длинных аббах73 и халатах. Вся
71 Бэшкэш (бешкеш, бакшиш) – подарок, подношение, иногда взятка.
72 Чусты – род туфель.
73 Абба – здесь: верхняя одежда без рукавов, типа накидки, крылатки.
эта толпа стояла молча и, задрав головы, с жадным любопытством глядела на возвышающуюся перед нею огромную, совершенно отвесную скалу, отделенную от монастыря глубокой пропастью, на дне которой неистово бился среди острых камней бешеный поток.
Немного ниже остроконечной верхушки скалы находилась небольшая площадка, острым выступом нависшая над пропастью. На площадке этой суетилась небольшая группа людей в синих кафтанах, белых холщовых шароварах навыпуск и барашковых папахах; за спинами у них поблескивали ружья. Это были сарбазы 74 Суджинского владыки Чингиз-Аги. Между ними, со связанными назад руками стояли три курда: седой старик, с белыми, как снег, усами и бровями, но еще крепкий и прямой, и двое юношей, из которых младший выглядел еще совсем мальчиком, лет 13-14, не больше. Все трое стояли неподвижно и совершенно равнодушно поглядывали на толстого человека в голубом казакине, суетившегося около них с черной жестянкой в руках. Человек этот занимался тем, что обильно смачивал, при помощи имевшейся у него тряпки, одежду курдов. Не довольствуясь этим, он иногда подымал жестянку и осторожно начинал поливать из нее то того, то другого из курдов, которые, по-видимому, относились к этому совершенно безучастно, не оказывая никакого сопротивления. Когда, наконец, вместительная посудина была опорожнена до дна, человек в голубом казакине взял из рук одного из сарбазов большие комки хлопка, с помощью трута зажег их и, торопливо засунув за пазуху каж-
74 Сарбазы – солдаты.
дому из курдов, поспешно перешел со всеми сарбазами с площадки на выступ соседней скалы по двум бревнам, которые после этого были быстро убраны.
Оставшиеся на площадке курды таким образом очутились совершенно изолированными. Сзади них возвышалась отвесная, как будто отполированная скала, кругом зияла глубокая бездна, над которой, как воздушный балкон, повисла небольшая площадка, где они стояли, неподвижные, молчаливые, как статуи, лицом к толпе, с жадным любопытством устремившей на них свои взгляды, с противоположной стороны, снизу от стен монастыря. Прошло около минуты, может быть, больше, может быть, меньше; вдруг, по одежде старика пробежали тонкие язычки пламени, лизнули ему грудь, спину, плечи, змейкой вильнули по огромной чалме.. Показался дымок, и через мгновение старик вспыхнул весь, как смоляной факел. Почти одновременно с ним запылали оба его сына. Обильно смоченная керосином одежда горела ярким синеватым огнем. Несчастные издали отчаянный, душу потрясающий вопль и принялись кружиться на одном месте, сначала медленно, потом все быстрей и быстрей. Видно было, как они неистово рвались из связывавших их веревок, оглашая воздух нечеловеческими воплями: они то бросались на землю и начинали кататься по ней, тщетно пытаясь этим затушить огонь, то снова вскакивали и неистово метались из стороны в сторону.. Наконец, обезумев от страдания, один из них ринулся в пропасть, за ним последовали остальные. Как пылающие ракеты, мелькнули они в воздухе и исчезли внизу, в пенистых волнах бешено ревущего потока.
Иван, стоя рядом с Мнацекановым, глядел на совершавшуюся перед ним бесчеловечную казнь и чувствовал, как волосы шевелятся у него на голове и весь он холодеет от невыразимого ужаса, охватившего все его существо. Что же касается остальной толпы, то для нее, очевидно, это зрелище было далеко не новостью: равнодушно доглядев до конца, она как ни в чем не бывало начала медленно расходиться, толкуя каждый о своих делах.
Только присутствовавшие при казни курды, и без того всегда молчаливые и угрюмые, еще более насупились.
Некоторые из них, проходя мимо монастыря, бросали на него мрачные взгляды жгучей ненависти и в бессильной ярости стискивали крепкие и блестящие, как у волков, зубы.
III
Настоятель
Большая комната с низким потолком и глиняным, застланным паласами полом, с белыми, выкрашенными известью стенами, украшением которых служили: большое прекрасной работы распятие из слоновой кости и черного дерева и две олеографии, изображавшие: одна – государя императора Александра II на белом коне, другая – персидского шаха Наср-эд-Дина, сидящего в кресле и усыпанного бриллиантами неимоверной величины.
В комнате при свете стенной лампы с матовым колпаком и двух свечей в высоких медных шандалах, на широкой тахте, покрытой персидским ковром, сидели Карапет
Мнацеканов и высокий худощавый монах в черной рясе и бархатной ермолке. Черная, с легкой проседью борода монаха широким веером ложилась на его грудь, оттеняя его бледное, восковое лицо, на котором благодаря матовой белизне особенно ярко горели и сверкали черные, большие глаза под густыми бровями. Длинные густые волосы, слегка завиваясь, падали на плечи монаха, мешаясь с его роскошной бородой.
Он мог бы назваться красавцем, если бы не холодно-жестокое и в то же время хитрое выражение всего лица, а в особенности беспокойно бегающих глаз, да характерный армянский нос клювом, делавший его похожим на хищную птицу.
Это был сам настоятель монастыря св. Стефана, алчный и жестокий Ацватур Тер-Хачатурьянц. Перед обоими собеседниками на большом круглом столе грубой работы, покрытом красной камчатной скатертью, стояли тарелки с незатейливыми яствами, среди которых главное место занимала разных сортов трава: тархун, мята, кресс-салат и другие. Эти травки, столь любимые армянами и татарами, в союзе с паныром составляют летом их главную, а зачастую и единственную пищу, которую они употребляют с лавашем в едва ли меньшем количестве, чем домашние животные, ишаки и лошади.
Перед каждым из беседующих стояло по бутылке светло-красного вина и по большому стакану, ни минуты не остававшемуся пустым, так как оба очень заботливо и внимательно подливали один другому, постоянно чокаясь и сопровождая это, по восточному обычаю, витиеватыми пожеланиями.
– Ты видел,– с жестокой усмешкой спросил монах, –
как сегодня жгли трех «волков75»?
– Видел, а за что?
– Подлые собаки! – с страстной ненавистью проговорил
Тер-Ацватур. – На прошлой неделе они убили у меня одного монаха. Я послал двоих монахов в Абардцум за «десятиной». Проклятые «волки» пронюхали про это и устроили им засаду, почти под самым монастырем. К счастью, тому, кто вез деньги, удалось ускакать, я нарочно дал ему свою собственную лошадь, но другого, ехавшего на катере, они догнали, убили и обобрали догола. Я на другой же день отправил жалобу Чингиз-хану при хорошем подарке, прося его наказать курдов. Подарки мои, должно быть, понравились хану, а на курдов он и сам сердит за их постоянные разбои, а потому проклятый язычник не заставил долго ожидать и тотчас же прислал сюда своих сарбазов, приказав им, по моему указанию, схватить убийц и казнить их огнем. Я указал на этого старика и его двух сыновей. Их сейчас же схватили, подвергли пытке в подвалах монастыря, а сегодня сожгли.
– Каким же образом вам удалось разыскать убийц? Ведь это очень трудно. Курды никогда не выдают своих!
Настоятель злобно расхохотался.
– Да я и не думал разыскивать! Какое мне дело, кто именно из этих негодяев совершил убийство; все они мои заклятые враги, и я охотно истребил бы их всех до последнего младенца. Я указал на этого старика потому, что он пользовался большим значением среди своих; казнь его
75 Волк – здесь презрительное прозвище курда Дело в том, что историческое название курдских племен произошло от слова кюрд – волк.
наведет на курдов особенный страх, показав им, что если уже с таким почетным стариком, как Худадар, не поцеремонились, то с другими и подавно не станут много разговаривать. Курды до последней минуты не верили, чтобы сарбазы решились сжечь Худадара, но я дал султану хороший бэшкэш, и он исполнил мое требование, хотя, я знаю, Чингиз-хан будет недоволен: он бы едва ли разрешил казнить Худадар.
– Я слышал, Чингиз-хан за последнее время стал очень строг с курдами и за всякую безделицу жжет их или бросает со скалы в пропасть, а между тем они по-прежнему продолжают грабить и здесь, и в России, куда переправляются целыми шайками. . Бедовый народ!
– Чингиз-хану очень-то верить нельзя: он одной рукой казнит, а другой – в то же время поощряет всякие насилия, совершаемые курдами. Казнит не за то, что грабят, и не тех, кто грабит, а тех, кто попадается. Курды это отлично понимают и нисколько не в претензии на правителя. Проклятая страна! – со вздохом заключил настоятель. – Только тогда и будет порядок, когда русские отнимут ее у Персии!
– Ну, это еще не скоро! Русским не до Персии, у них теперь на шее близкая война с Турцией. Это очень хорошо для наших, живущих в Турции. Если Россия побьет турок, а в этом нельзя и сомневаться, она освободит от турецкого ига всех христиан, а в том числе и армян!
– Вы думаете? – скептически усмехнулся Хачатурьянц.
– А я уверен, что армяне ничего не выиграют от этой войны; своих родных братьев-болгар Россия освободит, это наверно, мы же по-прежнему останемся рабами турок.
Будет величайшим счастьем, если самой незначительной части нашего народа удастся вырваться из-под мусульманского ига, большая же часть останется при прежнем своем положении, если еще не в худшем. .
По мере того как настоятель говорил, бледное лицо его еще больше бледнело, а глаза разгорелись пылким огнем вдохновения; он весь дрожал, протянув вперед костлявую руку, как бы угрожая кому-то или кого-то отстраняя.
Мнацеканов с невольным страхом глядел ему в лицо, чутко прислушиваясь к его пророчествам.
– Полноте, отец! – попробовал он успокоить взволнованного монаха. – Зачем питать в себе такие мрачные мысли?! Бог даст, так не будет, но для того, чтобы так не было, армяне должны с своей стороны всеми силами помочь русским в предстоящей войне. Чем больше мы сделаем сами для нашего освобождения, чем больше принесем жертв, тем настойчивей можем требовать расплаты за них.
По крайней мере, я такого убеждения и вот почему я и взялся за то опасное, рискованное дело, о котором говорил вам давеча!
– Смотрите, как бы вам не погибнуть! Турки хитры и беспощадны; если они догадаются, кто вы и зачем к ним приехали, они посадят вас на кол, верьте мне!
– Зачем вы говорите так, – с неудовольствием произнес
Карапет, – зачем понапрасну пугать? Я без вас отлично знаю, какой опасности подвергаюсь, и не об этом хотел говорить с вами; мне нужно узнать ваше мнение, можно ли довериться Чингиз-хану. Генерал посылает ему со мной прекрасный подарок: дорогие золотые английские часы и пару богато украшенных револьверов; вместе с тем просит помочь мне безопасно под его покровительством проехать в Турцию, для собрания кое-каких важных сведений; весь вопрос, насколько можно довериться Чингиз-хану? Вы лучше моего знаете хана, имеете постоянно с ним дела, потому-то я и обращаюсь к вам за советом!
– Видите ли, – помолчав немного, начал настоятель, в раздумье пощипывая свою бороду. – Чингиз-хану, как и всякому персианину, верить, разумеется, нельзя, ни единому слову. Нет той страшной клятвы, которая могла бы связать его и заставить честно выполнить принятое на себя обязательство; в этом отношении они все поголовно лжецы и клятвопреступники, а Чингиз-хан, пожалуй, еще похуже других будет. Но когда от соблюдения обещания он ожидает себе какую-нибудь выгоду, то трудно найти человека более верного, чем он. В этих случаях он просто неоценим и готов служить всем, чем может, а так как он страшно хитер и по-своему умен, то помощь его может быть весьма существенной. Теперь, обсуждая ваше дело, я думаю, что
Чингиз-хану нет причины идти против вас, в пользу турок.
Во-первых, турок он терпеть не может и не боится, тогда как русских он хотя тоже ненавидит, но очень трусит и заискивает перед ними, особенно теперь, ввиду могущей быть войны. Во-вторых, от турок он ничего особенного ждать себе не может, не только никаких выгод, но даже и порядочных подарков, русские же ему могут к тем подаркам, которые вы везете, прислать еще столько же. Наконец, услуживая России против турок, он ничем не рискует, в обратном же случае, напротив, риск его очень велик; Россия мимоходом может захватить его ханство и стереть его самого с лица земли. Из всех этих соображений выходит, что Чингиз-хану нет никакого расчета не быть для вас верным и преданным союзником и помощником.
По-моему, генерал очень умно поступил, послав вас в
Турцию через Персию; тут вы проедете, не возбудив ни в ком никакого подозрения, тогда как на русско-турецкой границе, я думаю, турки, при всей своей беспечности, глядят в оба.
– Вы правы. На русско-турецкой границе теперь очень опасно. Недавно один абасгельский армянин хотел пройти в Каре по своему личному делу; турки приняли его за шпиона и, недолго думая, повесили на телеграфном столбе!
– Бедняга! – вздохнул настоятель. – Еще одна жертва и далеко не последняя!
– Без жертв никакое дело не обходится. У русских есть хорошая поговорка, смысл которой таков: когда рубят дерево, остаются щепки.
– Это все так; но вопрос, принесут ли все эти жертвы ожидаемую пользу?
– Надо надеяться!
– Аминь! Теперь скажите мне, пожалуйста, что это за человек пришел с вами? По виду он не армянин и не татарин, на настоящего русского он тоже не похож.
– Хорошенько я и сам не знаю. Я его спрашивал, но, очевидно, он не хочет говорить всей правды. Называет себя
Иваном, русским беглым солдатом, по-армянски не понимает ни одного слова, а по-татарски говорит недурно, хотя и не по-здешнему, а как говорят в окрестностях Тифлиса. Я
его встретил недалеко уже от границы, в Аладжинском ущелье, едва живого от голода и усталости. После того как я его накормил, он стал проситься со мной в Персию; сначала я было не хотел его брать, но, увидав, как он замечательно хорошо стреляет из ружья, рассудил, что на случай встречи с курдами-разбойниками он мне может быть очень полезен, и согласился взять его с собой. Вот все, что я могу сказать вам об этом человеке.
– Но в Турцию, надеюсь, вы не собираетесь его везти?
Там он может возбудить подозрение, а к тому же, кто его знает, что он за человек; чего доброго, еще выдаст вас туркам!
– Нет, само собой понятно, в Турцию мне нет причин его брать. Я думаю предложить Чингиз-хану взять его в число своих сарбазов; он может даже сделать его султаном и поручить учить своих ослов настоящему военному искусству..
– Или облить керосином и сжечь!
– Если захочет сжечь, пусть жжет, мне все равно и не я, конечно, буду перечить в этом Чингиз-хану. Пусть делает с ним, что хочет!
– Насколько я могу судить, он не из простых, – заметил настоятель, – интересно бы знать, зачем он бежал из России, и что он там наделал?
– Ну, это едва ли возможно, так как он, хотя и молод, но не из болтливых: язык держит хорошо на привязи.
– Стоит захотеть, – сквозь зубы, как бы про себя процедил настоятель, – а то всякий язык можно развязать. В
прошлом году я приказал захватить мальчишку курда, надо было кое-что допытаться от него; на что уже упрямый был бесенок, целый день мучались, а к вечеру и он заговорил.
Все рассказал, что нам надо было!
– Что же вы с ним сделали потом? – заинтересовался
Мнацеканов. – Неужели выпустили?
– Как можно выпустить! Он бы пошел родным своим рассказал, те бы мстить начали. Нет, мы просто его придушили и закопали там же в подвале. Никто и не узнал!
– Так с ними, злодеями, и надо! – воскликнул Мнацеканов. – Курды – наши злейшие враги!
IV
В Судже у грозного Чингиз-хана
Селение Суджа, столица полунезависимого разбойничьего ханства Суджинского и резиденция его сурового властелина Чингиз-хана, расположена частью в долине, частью по склонам гор, окружающих со всех сторон это селение, которое персияне именуют, впрочем, городом.
Оно состоит из целого ряда беспорядочно разбросанных и нагроможденных друг над другом каменных хижин, с плоскими земляными крышами и грязными, узенькими двориками.
Среди этих жалких лачуг, наполненных голодными, полунагими, невозможно грязными ребятишками, праздными, ленивыми мужчинами и отупевшими от непосильной работы и грубого обращения женщинами, горделиво возвышаются, утопая в зелени роскошных садов, белоснежные, высокие, поместительные дворцы, как самого владыки Суджей сардаря Чингиз-аги, так и ближайших его родственников, носящих одну общую фамилию ханов
Суджинских.
Дворцы эти, украшенные колоннадами, причудливыми арабесками на фронтонах и по карнизам, с целым рядом огромных окон из мелких разноцветных стекол, выглядят особенно величественно и роскошно по сравнению с робко жмущимися вокруг них жалкими мазанками.
Была уже ночь, когда Карапет с Иваном прибыли в
Суджу и остановились в одном из караван-сараев, где им отвели клетушку, похожую на каменный ящик, с единственной выходной дверью и узким, заделанным железной решеткой окном. Клетушка была совершенно пуста и лишена какой бы то ни было мебели и убранства. На каменном полу, поверх камышовых циновок, были разостланы изодранные, невозможно грязные паласы, в изобилии населенные всевозможными насекомыми. Надо иметь шкуру туземцев, чтобы заснуть в таком клоповнике.
За особую плату Карапету Мнацеканову караван-сарайщик притащил ситцевый засаленный тюфяк, набитый хлопком, и ситцевые же жиденькие продолговатые подушки. О постельном белье, наволочках, простынях, разумеется, никто и понятия не имел; все это заменялось засаленным ситцевым стеганым одеялом. Что же касается
Ивана, то ему пришлось лечь прямо на полу, подложив свою черкеску под голову. Несмотря на всю свою усталость, он, однако, не в состоянии был уснуть; несметные легионы всевозможных паразитов с жадностью атаковали его, да, к довершению всего, и беспощадная мошка давала себя чувствовать. Все тело его горело, как в огне, и нестерпимо зудело, он ворочался с боку на бок, близкий к отчаянию, и с завистью поглядывал на Мнацеканова, беззаботно и крепко спавшего, несмотря ни на какие беспощадные нападения, на своем грязном до отвращения матрасике. Только под утро удалось Ивану забыться беспокойным тревожным сном, да и то ненадолго, так как Мнацеканов проснулся очень рано, чтобы идти во дворец
Чингиз-аги, причем приказал и ему следовать за собой.
Молчаливый служитель в темно-синем казакине, застегнутом только на одну верхнюю пуговицу, с изображением на ней Льва и Солнца, и в конусообразной мерлушковой папахе, на которой красовался медный герб того же Льва и Солнца, провел их в приемную комнату. Иван остался за дверями, а Мнацеканов прошел вперед и присоединился к группе лиц, сидевших полукругом посредине.
Тут было два персидских купца в верблюжьих халатах и папахах, мулла, седой, как лунь, в белоснежной аббе и белой огромной чалме, тучный, чернобородый сеид 76 и в темно-синей чалме и синем же халате, и худой, как скелет, оборванный дервиш с полупомешанными глазами крайне нервный, точно одержимый пляской св. Витта. Остальные принадлежали, очевидно, к свите сардаря и одеты были в одинаковые темно-синие полукафтаны, с красными кантами и с медными гербовыми пуговицами. Кафтаны эти, с широкой юбкой на сборках и непомерно высокой талией, застегивались только на одну верхнюю пуговицу; под кафтаном были надеты шелковые, черные с цветочками или горошками бешметы; люстриновые черные шаровары навыпуск и шерстяные разноцветные джурайки77 дополняли костюм. На головах они носили мерлушковые папахи
76 Сеид – титул потомков пророка Магомета от дочери Фатимы, жены легендарного Али. Им одним принадлежит право носить зеленую чалму и зеленое верхнее одеяние. Сеиды пользуются у мусульман-суннитов особенным уважением и почитаются как существа священные.
77 Джурайки – тип коротких чулок до щиколотки.
с медным гербом, на котором был изображен Лев с обнаженным мечом в поднятой передней лапе – из-за спины
Льва виднелся круглый диск Солнца с исходящими от него во все стороны лучами.
Вся эта компания сидела чинно, поджав под себя ноги, сложив на животах руки, и хранила глубокое молчание; только купцы время от времени перебрасывались между собой полушепотом отрывистыми фразами. Мнацеканов, перед тем как усесться, отвесил всем низкий поклон, на который ему ответили плавным наклонением головы, причем каждый концами пальцев коснулся своего лба и груди; только полоумный дервиш вместо приветствия оскалил зубы и состроил какую-то нелепую гримасу.
Опустившись на ковер, Мнацеканов внимательно оглядел комнату, показавшуюся ему довольно невзрачной.
Низкий бревенчатый потолок, обмазанные гажей78 стены, каменный пол, застланный старыми паласами и отсутствие всякой мебели – делали ее вовсе не уютной, похожей скорее на сарай, чем на жилое помещение. Единственным украшением этой комнаты было большое окно во всю наружную стену; оно помещалось в решетчатой узорной раме, составленной из бесчисленного множества цветных стеклышек, разных величин и рисунков.
Самое окно, настолько большое, что в него мог свободно пройти человек, не склоняя головы, не отворялось ни наружу, ни во внутрь, а раздвигалось на две половинки. Из него открывался красивый вид на ханский сад. Особенно
78 Гажа – чистейшая известка, без всяких посторонних примесей. Гажевая штукатурка применяется как высококачественная отделка в Закавказье, древней Персии и других странах Востока.
изящна была передняя часть сада, примыкавшая к дому.
Правильно распланированные дорожки были расчищены и усыпаны золотистым песком; на расположенных между ними ярко-зеленых лужайках красовались пышно разросшиеся кусты белых, алых, желтых и черно-малиновых роз, вокруг которых шли клумбы из самых разнообразных цветов. Фруктовые деревья, персики, алыча, курага и кизил были аккуратно подстрижены, причем некоторым из них приданы причудливые формы птиц и каких-то чудовищ.
Два огромных густых нарбанта, подобно гигантским шатрам, стояли посредине, далеко распространяя вокруг себя прохладную тень, под сенью которой робко журчали небольшие фонтанчики в мраморных бассейнах, наполненных холодной, прозрачной, как кристалл, водой. За садом темнел густой парк, тоже весьма аккуратно содержимый.
Мнацеканову, слишком хорошо знакомому с тем, насколько персиане по природе своей ленивы и крайне неряшливы, с каким физическим отвращением относятся они ко всякому порядку и чистоте, просто не хотелось верить собственным глазам, глядя на этот удивительный порядок, царивший в ханском саду. Он искренно недоумевал, какая волшебная сила могла создать такой парк в этой глухой, дикой стране. Впрочем, если бы он мог проникнуть в глубь парка, где на небольшой полянке молча и угрюмо работало десятка полтора мушей79, он бы воочию увидел эту самую волшебную силу. Она представилась бы ему в виде высокого толстого господина с рыжей бородкой и красным веснушчатым лицом, одетого в чечунчовый просторный
79 Муша – носильщик, чернорабочий.
костюм и пробковый шлем, с обвязанным вокруг тульи зеленым вуалем. В руках господин в чечунче держал толстую узловатую палку. По тому, как рабочие пугливо косились на эту палку всякий раз, когда обладатель ее, медленно прохаживавшийся взад и вперед в сторонке, приближался к ним, можно было безошибочно заключить, что они в достаточной степени знакомы со свойствами этой палки, крепкой и упругой, как сталь.
Действительно, мистер Джон, или, как его звали в
Суджах, Джон-ага, главный садовник Чингиз-хана, даже по персидским понятиям считался человеком крайне жестоким. С отданными в его распоряжение рабочими он обращался хуже, чем со зверями. Самым мелким наказанием у него считалось немилосердное избиение палкой, преимущественно по темени, после которого человек несколько дней ходил как в тумане, не будучи в состоянии шевельнуть головой от нестерпимой боли. За более крупные проступки провинившегося спускали в глубокую яму и держали там без пищи и воды по нескольку суток. При нестерпимой духоте и жаре, царившей в этом своеобразном карцере, переполненном к тому же земляными клопами и другими насекомыми, это наказание влекло за собой тяжкое заболевание и даже смерть. Когда же, по мнению
Джон-аги, и такое наказание было недостаточным, он шел к Чингиз-хану с жалобой, результат которой был всегда одинаков: – воздушное путешествие на дно пропасти из амбразуры углового окна ханского дворца.
При таких условиях не было ничего удивительного, что сад Чингиз-хана мог считаться настоящим земным раем по своей чистоте и благоустройству.
Прошло около часу. Сидевшие в приемной комнате продолжали терпеливо дожидаться, перебрасываясь между собой короткими фразами и изредка взглядывая на массивную дубовую дверь, ведущую во внутренние покои.
Вдруг она стремительно распахнулась, и в предшествии двух нукеров в комнату вошел высокий плечистый старик в кафтане шоколадного цвета из дорогого английского сукна, с высокой талией, застегнутом на одну верхнюю пуговицу, в темно-зеленом шелковом бешмете, каждая пуговка которого была из золота с вставленным в нее маленьким бриллиантом. Герб на шапке тоже золотой, на левой стороне груди сверкала, переливаясь тысячью огней, большая бриллиантовая звезда Льва и Солнца. Все десять пальцев были унизаны массивными золотыми кольцами с драгоценными камнями. На шее была надета толстая часовая цепочка, перехваченная аграфом из замечательно красивой и драгоценной бирюзы.
Лицо вошедшего было угрюмо, покрыто множеством морщин и носило на себе выражение холодной непроницаемости. Глядя на это лицо, на эти полуприкрытые длинными ресницами загадочные глаза, нельзя было решить, что думает этот человек, но в то же время весь он был как бы пропитан жестокостью, неумолимой, необузданной; той восточной, бесстрастной и холодной жестокостью, какою ознаменовали себя в истории азиатские владыки, устраивавшие пирамиды из сотен тысяч голов своих пленников80 и наполнившие мешки человеческими глазами.
80 «... пирамиды из сотен тысяч голов своих пленников.. » – исторический факт, случившийся в средние века при взятии древними персами селения Джульфа.
Войдя в комнату, Чингиз-хан быстро окинул присутствовавших тяжелым взглядом, на мгновение сверкнувшим из-под нависших бровей. Небрежно кивнув в ответ на низкий и почтительный, чуть не земной поклон своих гостей и подданных, он медленно опустился на подсунутую одним из нукеров подушку.
Кроме Карапета Мнацеканова, остальных всех Чингиз-хан видел уже не в первый раз, а потому, не обращая на них внимания, сосредоточил на армянине свой упорный, тяжелый взгляд, молча выжидая, что он скажет ему. Тот однако продолжал молчать, почтительно сложив на груди руки и слегка наклонив голову.
– Кто ты, откуда и зачем? – обратился, наконец, к нему с вопросом Чингиз-хан.
– Я русский подданный, зовут меня Карапетом Мнацекановым, светлейший хан, а приехал я к тебе по особо важному делу, о котором могу сказать только наедине.
При этом ответе Чингиз-хан еще пристальней заглянул в глаза Мнацеканову и, подумав с минуту, хлопнул в ладоши. На этот призыв из-за дверей появился поразительной красоты мальчик, лет двенадцати, с нежным, женственным личиком и огромными томными глазами. Он наклонил свое ухо к лицу Чингиз-хана, и тот шепнул ему что-то, после чего мальчик подошел к Карапету и жестом пригласил его следовать за ним.
Выйдя из комнаты, мальчик повел Мнацеканова крытой стеклянной галереей с окнами в сад; галерея выходила на небольшой дворик, обнесенный высокой стеной. За этим двориком возвышалась красного кирпича башенка с винтообразной лестницей внутри. Поднявшись по лестнице ступеней пятьдесят, они очутились в совершенно круглой комнате, похожей на фонарь, стены и потолок которой состояли из деревянных резных рам с разноцветными стеклами. Пол комнаты был устлан коврами, а у большого окна лежало два бархатных матраца, составлявшие единственную мебель, если так можно назвать, этой комнаты.
Окно, как и большинство окон в дворцах персидских ханов, было раздвижное и похоже скорее на дверь, чем на окно, и перед ним был устроен небольшой висячий деревянный балкончик.
Пригласив Карапета сесть на один из матрацев, мальчик слегка кивнул головой.
Оставшись один, Мнацеканов от нечего делать вышел на балкон оглядеться.
Дворец Чингиз-хана стоял на горе, причем задний фасад с прилегающим к нему садом и парком обращен был к отлогой ее стороне, задняя же стена, где помещалась башня, выходила на противоположную сторону горы, причем стены здания, сливаясь с обрывом скалы, составляли с нею как бы одну общую отвесную стену.
С чувством невольного страха заглянул Карапет через перила вниз. Под ним зияла глубокая пропасть. Красновато-желтые камни, в хаотическом беспорядке набросанные друг на друга, лежали в вечном покое, палимые жгучими лучами солнца. Кругом была мертвая пустыня: ни одного живого существа, ни малейшего движения, ни одного звука. Только под самой площадкой балкончика на остром выступе скалы молчаливо копошилось тесной кучкой несколько штук темно-бурых, белоголовых, безобразных грифов. Сначала Мнацеканов долго не мог понять, что они там делают, но, вглядевшись пристальней, с ужасом рассмотрел распростертый внизу на камнях труп человека, лежащего навзничь. Лицо трупа было истерзано когтями и клювами, ребра обнажены, кругом чернели засохшие лужи крови. Несколько поодаль белела другая груда человеческих костей; такие же кости, очевидно, растасканные хищными птицами и животными, виднелись то там, то здесь по всему каменистому пространству этой долины смерти.
Мнацеканов с омерзением отвернулся и поспешил с балкончика в комнату, где навстречу ему появился тот же мальчик с подносом в руках, на котором стояла крошечная чашечка крепкого кофе, стеклянная вазочка с вареньем, небольшая медная миска, до краев наполненная душистой, сладковатой, холодной, как лед водой, и блюдечко с приторными сладкими персидскими конфетками из сахара, муки и имбиря.
– Буюр81, ага! – тихим, вкрадчивым голосом произнес мальчик, ставя поднос на ковер перед Мнацекановым. Хотя
Карапету после только что виденного им зрелища было и не до еды, но отказаться от угощения он не мог, оскорбив тем хана, а потому ему ничего не оставалось иного, как рассыпаться в благодарностях.
– Чох-саол, чох-чох-саол 82, – произнес он несколько раз, приложив руку к сердцу и принимаясь за кофе.
Не успел он выпить первой чашки, как в комнату неслышными шагами вошел Чингиз-хан и, приблизясь к ок-
81 Буюр (перс.) – прошу, пожалуйста.
82 Чох-саол, чох-чох-саол (перс.) – очень благодарен, очень, очень благодарен.
ну, опустился на матрац. Мальчик тотчас же подал ему кофе и кальян, после чего исчез за дверями, плотно прикрыв их за собой.
V
Политика
– Ну, в чем твое дело? – далеко не дружелюбным тоном произнес Чингиз-хан, в упор глядя в лицо Карапету и затягиваясь дымом кальяна.
– Я, светлейший хан, к тебе от генерала с письмом, –
Карапет назвал одного из славных тогдашних боевых имен
Кавказа, – и подарком. Когда ты прочтешь письмо, твоя мудрость сама изъяснит тебе то дело, за которым я прибыл!
Говоря таким образом, Мнацеканов достал из-за пазухи завернутый в кусок белого сафьяна пакет с тремя печатями и подал его хану, затем из висевшей на боку сумки достал небольшой футляр, бережно завернутый в толстую глянцевитую бумагу и перевязанный красной ленточкой. Сорвав бумагу, он самый футляр положил к ногам хана.
Чингиз-хан, стараясь казаться равнодушным, медленным, ленивым жестом взял футляр в руки, но когда он раскрыл его, выражение алчной радости, помимо его воли, на мгновение мелькнуло в его лице. Впрочем, он тут же поспешил тщательно затаить в себе свои чувства и с напускным бесстрастием, но тем не менее весьма внимательно принялся разглядывать великолепные золотые часы с изящной короной из мелких бриллиантов на верхней узорчатой крышке. Сосредоточенно нахмуря брови, Чингиз-хан долго вертел часы в руках, то и дело прикладывая их к уху и внимательно прислушиваясь к звонкому, мелодичному бою, открывал и закрывал массивные крышки и подолгу разглядывал серебряный арабский циферблат со стрелками в виде змеек с бриллиантовыми головками.
Как ни старался хитрый полудикарь скрыть впечатление, произведенное на него подарком, Карапет мог ясно заметить, насколько он остался им доволен, потому счел за лучшее не отдавать теперь же другого подарка – двух револьверов, оставив их на после, до другого раза.
Насмотревшись вдосталь на часы, Чингиз-хан бережно уложил их в футляр и, спрятав в бездонный карман своего кафтана, принялся за чтение письма.
Письмо было написано по-татарски на изящном азербайджанском наречии и, как все восточного характера письма, начиналось многочисленными добрыми пожеланиями и всякого рода учтивостями. По мере того как
Чингиз-хан читал длинное и обстоятельное послание генерала, лицо его, и без того всегда суровое, делалось все угрюмей и озабоченней. Некоторые строки письма он перечитывал по два раза, как бы желая лучше запечатлеть их в своей памяти.
– Генерал хочет, чтобы я помог тебе пробраться в
Турцию, дал возможность пожить там недели с две и затем опять вернуться обратно, – заговорил Чингиз-хан после непродолжительного молчания, последовавшего за прочтением письма, – хорошо, я согласен. Я отправлю тебя в
Турцию как свое доверенное лицо, персидско-подданного, для закупок разных предметов. У меня там, в Санджанском вилайете, есть хороший друг Зафэр-паша; я пошлю ему с тобой письмо и попрошу его помочь тебе купить нужные мне товары. Я приступаю к перестройке своего дворца, тебе надо будет приискать мне хороших мастеров, для этого придется много поездить туда и сюда; хороших мастеров мало, а я строг, и мне угодить трудно.. Понимаешь?
– Понимаю, светлейший хан. Это все, что только мне нужно от твоей милости. Остальное уже мое дело!
– Отлично! Итак, ты можешь ехать, когда хочешь, я дам тебе надежных проводников, храбрых и молчаливых.
Письмо Зафэр-паше будет готово сегодня вечером. Когда солнце зайдет, приходи к моему секретарю Эмин-эфенди и сообщи ему час твоего отъезда, он уже распорядится. Чем меньше времени пробудешь ты в Судже и чем скорее проедешь в Турцию, тем будет лучше; надо спешить, пока люди не развяжут путь своим языкам. . Понял?
Мнацеканов в знак согласия почтительно наклонил голову. На несколько минут воцарилось молчание.
– Итак, война будет, – заговорил снова Чингиз-хан, –
глупые же советчики у падишаха, если не сумели и не захотели отговорить его от такого безумия – воевать с русскими. Он не успеет свершить трех намазов, как русские войдут в Константинополь!
– На все воля Аллаха! – осторожно заметил Мнацеканов, не вполне доверяя искренности слов Чингиз-хана.
– Конечно, воля Аллаха первое дело, – усмехнулся тот,
– но почему-то всегда так бывает, что воля Аллаха склоняется постоянно на сторону того, у кого войска больше и обучены они лучше. Когда волк схватывается с лисицей, то
Аллах каждый раз помогает первому, и он легко разрывает лисицу зубами, несмотря на то, что она, по всей вероятности, не менее усердно молится Аллаху о даровании ей победы. С турками будет то же, что и с лисицей. Аллах, наверно, не будет на их стороне!
Опять наступило молчание. Чингиз-хан, очевидно, хотел заговорить о чем-то, но не находил подходящей нити для начала разговора, а Мнацеканов нарочно и упорно молчал, избегая расспросов, на которые ему было бы трудно или совершенно невозможно отвечать.
– Скажи, почему русские мной недовольны? – решил, наконец, Чингиз-хан. – За что мне постоянно шлют угрозы и жалуются на меня Шах-ин-Шаху? Разве я плохой сосед?
– Помилуй, хан, откуда могут происходить такие мысли, – всплеснул даже руками Карапет, – разве мы все не знаем, насколько твоя светлость истинный друг русских?
Но если позволишь сказать правду, твои курды действительно причиняют много хлопот и беспокойства приграничным жителям в России. Они то и дело целыми шайками переправляются на ту сторону, грабят селения, угоняют скот, а нередко совершают и убийства!
– Ну, это еще кто кого, – мрачно произнес Чингиз-хан, –
если суджинские курды и нападают на пограничных жителей России, то ведь то же делают и русские курды. Разве они не переходят на нашу сторону, не нападают на моих людей и не грабят их? А казаки? Сколько перестреляли они моих поселян, татар? Никто не смеет подойти днем к
Араксу поить скот, казаки ради потехи стреляют не только в мужчин, но даже и в женщин, и детей!
– Почему хан не напишет об этом генералу? – спросил
Мнацеканов.
– А разве мне поверят? Про меня распустили молву как о разбойнике, будто бы я делюсь с курдами награбленным добром, и каждую минуту готов сам совершить набег на русские кордоны. Поэтому-то на все мои жалобы глядят как на ложь и кляузу!
Он сердито замолчал и с ожесточением принялся пыхтеть кальяном.
Карапет молчал. В словах хана была доля правды. Казаки, а в особенности пластуны, занимавшие в те времена кордонную пограничную линию, действительно мало церемонились с «проклятыми бусурманами» и при всяком удобном случае не прочь были подстрелить «переклику», мало интересуясь тем, «мирные» они или «не мирные».
Офицеры в этом случае нередко сами показывали пример жестокости. Так, например, про одного пластуна-офицера рассказывали, будто бы он поставил на крыше своего поста прицельный станок и, точно размерив различные расстояния на противоположном берегу, устраивал для своего развлечения стрельбу по появившимся на той стороне курдам и персам. Сидя на стуле и положив винтовку на станок, он, ориентируясь на измеренные заранее предметы, ставил правильный прицел и без промаха «подрезывал»
намеченные им жертвы. Впрочем, справедливость требует сказать, что, по-видимому, беспричинная жестокость имела свое весьма резонное основание. Разбросанные далеко друг от друга малочисленные казачьи пикеты и кордоны жили под постоянной угрозой быть вырезанными персиянами и курдами и только террором могли сдерживать кровожадность и фанатизм зарубежных дикарей.
Случаи нападения и поголовного вырезывания целых казачьих постов были не редкость. Конечно, после всякого такого происшествия между соседями разыгрывалось бесконечное кровомщение. Одна сторона жестоко мстила другой, и разобрать тогда, на чьей стороне была правда и кто, в сущности, является зачинщиком, представлялось положительно невозможным. С усилением русской власти на границе, а затем с передачей охраны границы Пограничной Страже отношения между двумя пограничными народностями сделались гораздо лучше. С каждым днем растет между ними доверие, и теперь уже жизнь на этих далеких окраинах во многих местах не более опасна, чем в центральных губерниях России.
– Что это за человек с тобой? – спросил Чингиз-хан, уже успевший своим всезамечающим глазом увидеть Ивана.–
Он не армянин?
– Нет, это русский беглый солдат. Я его встретил почти на самой границе! – ответил Мнацеканов и тут же рассказал Чингиз-хану все, что сам знал о человеке, прозванном им Иваном.
Чингиз-хан слушал внимательно, не проронив ни одного слова.
– Ты что же, хочешь взять его в Турцию?
– Нет, ага, это невозможно! В Турции он легко возбудит подозрение, там сейчас же угадают в нем русского и примут нас за шпионов. Я хотел предложить твоей светлости принять его в число твоих нукеров, он может даже обучать твоих сарбазов военной службе на русский манер; насколько я успел понять, он храбрый и умный человек!
– Что же, пожалуй, я возьму его, – в раздумье произнес
Чингиз-хан, – прикажи привести его сюда, я поговорю с ним, а сам можешь идти теперь. Помни же, вечером приходи к Эмин-эфенди, он передаст тебе все, что нужно этот.
Прощай!
На этот раз хан милостиво протянул руку Мнацеканову, который поспешил осторожно и подобострастно пожать концы ханских пальцев.
VI
Ренегат
– Кто ты такой? – грозно насупя брови, с величественной небрежностью спросил Чингиз-хан, окидывая пристальным взглядом стоявшего перед ним Ивана.
– Беглый солдат, унтер-офицер! – ответил тот по-татарски совершенно спокойно.
– Где ты выучился по-татарски? Ты ведь не мусульманин?
– Нет, я русский. Но там, где я жил, многие русские умеют говорить по-татарски.
– А где же ты жил?
– Недалеко от Тифлиса.
– Зачем ты бежал из полка?
– Этого я не скажу. Я, конечно, мог бы соврать тебе, хан, и наговорить сказок, но врать я не люблю, а правду сказать тоже не могу, мне это слишком тяжело, а для тебя безразлично знать или не знать причину, заставившую меня бежать из России!
Чингиз-хан; приученный к раболепству, вовсе не ожидал такого смелого ответа. Он вспылил, и глаза его бешено сверкнули.
– Собака! – закричал он, топнув ногой. – Как ты смеешь отвечать мне подобным образом? Видишь это окно, – он указал пальцем на окно с балкончиком, с которого перед тем смотрел Карапет, – поди взгляни, сколько трупов валяется внизу, мне стоит сделать одно движение бровью, и ты будешь лежать там же, как падаль!
– Конечно, ты волен убить меня, – с тем же невозмутимым хладнокровием ответил Иван, не удостоив рокового окна взглядом, – но тогда, стало быть, все, что я слышал про тебя, вранье, пустая бабья болтовня, и ты вовсе не таков, каким тебя описывают. Когда я шел к тебе, мне говорили про тебя как про самого умного и проницательного человека в Персии, тебя называли орлом, видящим насквозь каждого человека, с которым ты встречаешься, и что же, – ты с первых же слов собираешься выкинуть в окно, как ненужную тряпку, человека, могущего быть тебе весьма полезным, за которого, если бы ты отдал всех твоих глупых нукеров, и то было бы мало!
– Чем же ты можешь быть мне таким уж полезным? – с иронией в голосе, но тем не менее пораженный его смелостью, спросил Чингиз-хан.
– Сделай меня твоим телохранителем и дай мне команду человек сто, я тебе приготовлю такую лихую, хорошо обученную сотню, какой нет у самого шаха. Пусть тогда осмелится кто-нибудь взбунтоваться против тебя, с одной этой сотней можно будет разнести тысячу человек!
Чингиз-хан молча и пытливо глядел в лицо Ивана, обдумывая про себя его предложение. Тот стоял, смело и гордо подняв голову, не опуская глаз под тяжелым, недобрым взглядом сардаря.
– Ты христианин, – неопределенно произнес, наконец, Чингиз-хан, – могу ли я тебе верить? Если хочешь заслужить мое доверие, сделайся правоверным, и тогда увидим; в противном случае ступай с моих глаз и знай, если русские потребуют твоей выдачи, я прикажу тебя связать и отправить на ту сторону. Понял?
– Бог один, и у мусульман, и у христиан, – вера разная, –
ответил Иван, – если я пришел к тебе, хан, то отныне твоя страна моя страна, твоя вера моя вера, твои обычаи мои обычаи. Я ушел со своей родины, чтобы никогда не возвращаться назад, я порвал с ней окончательно. Если ты, хан, не примешь меня, я уйду в Турцию!
Чингиз-хану, очевидно, понравился ответ Ивана, хмурое лицо его на мгновение прояснилось.
– Хорошо, – сказал он, – оставайся. Отрекись от гяуров, стань добрым мусульманином, и я приближу тебя к себе, я дам тебе дом, землю, жену, ты не будешь нуждаться, но помни, – и в голосе хана зазвучала зловещая нотка, – вся твоя жизнь, все твое дыхание, голова и сердце, мои! Ты должен знать только меня, и только на меня должны устремляться твои очи! Что бы я ни приказал тебе, ты должен исполнять не колеблясь, как рука исполняет волю головы, иначе смерть, лютая, жестокая смерть! Запомни хорошо мои слова. А теперь иди к моим нукерам, скажи, что я прислал тебя, и жди дальнейших приказаний!
VII
Через много лет
Большое селение Шах-Абад красиво раскинулось по склону высокого холма, спускающегося отлогими террасами к самой реке Араке. Вблизи крайне безобразные, слепленные из грязи83 и кое-как побеленные с земляными, всегда полуразрушенными крышами и черными дырами вместо окон, жалкие лачуги селения издали, благодаря, главным образом, густой зелени садов выглядят очень живописно. Бесчисленное множество ручейков сверкая резвыми струями, прихотливо бегут по выложенному камнем руслу и то пропадают под землей, то снова вырываются наружу и наконец соединяются в разбросанных по разным концам селения водоемах. На самой вершине холма, в стороне от прочих построек, расположен целый ряд домиков, по внешнему своему виду и архитектуре напоминающих европейские строения. Высокий каменный фундамент, гладкие кирпичные стены под штукатурку, большие окна с деревянными рамами, трубы на крышах и, наконец, просторные, высокие входные двери, с медными скобами и внутренними замками, а главное общее строгое однообразие всех построек ясно говорили всякому, что в этих зданиях помещается какое-нибудь казенное учреждение. Высокая мачта с развевающимся на ее верхушке
83 В Закавказье в прошлом дома и сакли возводились из сырцового кирпича или из камня-дикаря, при этом стены изнутри и снаружи обмазывались толстым слоем раствора из глины и навоза («грязи»), поэтому во время такого строительства вокруг будущего дома образовывались большие участки непролазной грязи, стоящей месяцами и заражающей воздух зловониями.
флагом окончательно подтверждала это предположение.
Действительно, здания эти вмещали в себе шах-абадскую таможню с пакгаузом, канцелярией, квартирами чиновников и казармой таможенных солдат. Перед главным домом, где помещались канцелярия и находящаяся рядом с ней квартира управляющего таможней, был раскинут не особенно большой, но чрезвычайно густой и тенистый сад, изрезанный по всем направлениям дорожками, вдоль которых сплошной стеной шли розовые и гранатовые кусты. Под стенами дома был разбит красивый палисадник, со множеством чрезвычайно разнообразных цветов, а в противоположной стороне у задней стены живой изгороди виднелся тщательно возделанный огород. По середине сада был устроен каменный бассейн, доставлявший всему саду обильное орошение. В стороне от бассейна, обращенная к нему входом, возвышалась под сенью двух густых тутовых деревьев круглая конусообразная парусиновая палатка, внутри которой стояли небольшой стол, тахта, застланная ковром, и два-три венских стула. Бока палатки с двух противоположных сторон были откинуты, отчего получалась небольшая сквозная тяга воздуха, немного умерявшая зной: несмотря на конец августа и на то, что день склонялся к вечеру, жара стояла нестерпимая.
<За столом сидела девушка и что-то писала.> Простенькое белое кисейное платье с открытым воротом плотно облегало ее стройную, немного худощавую фигуру.
Поглощенная всецело своим писанием, девушка не подымала головы и только изредка досадливо отбрасывала рукой со лба волнистую прядь волос, упрямо лезшую ей прямо в глаза. Она, очевидно, очень торопилась. Рука ее быстро и нервно мелькала, выводя мелкими буквами строчку за строчкой на странице толстой переплетенной тетради. Докончив страничку, она тщательно присушила ее листком протечной бумаги и только хотела перевернуть, чтобы продолжать дальше, как из дома вышла молодая, полная дама без шляпы, но под зонтиком.
– Лидия, а я к тебе! – крикнула молодая дама, сходя по ступенькам в сад, – в комнатах просто нет возможности сидеть, так душно. В палатке, наверно, гораздо прохладней.
– Милости просим, – ответила девушка, – здесь действительно еще сносно, с грехом пополам сидеть можно, не рискуя быть совершенно испеченной.
– Господи, – искренно изумилась молодая женщина, входя в палатку, – ты в такую адскую жару находишь возможным еще писать, не понимаю. . я так просто пальцем не могу шевельнуть. Поверишь, мне даже думать жарко.
Лидия весело расхохоталась.
– Положим, Оля, ты всегда была немного Обломовым, даже барышней, а теперь, сделавшись мадам Щербо-Рожновской, совершенно обабилась.
– Фуй, «обабилась», кэль выражаясь, – шутливо поморщилась Щербо-Рожновская, – а еще институтка! Ну, нечего сказать, изящному facon de parler84 учат в институтах нынешнего времени!
– Ах, Боже мой, институтка нынешнего времени; подумаешь, сама давно кончила! У нас, наверно, еще и парту-то, на которой ты сидела в выпускном классе, перекрасить не успели.
84 манерам (фр.).
– Нет, друг мой, – слегка вздохнула Ольга, – наверно, перекрасили и не один раз. Это только так кажется будто бы недавно, а подсчитай-ка: почти пять лет прошло, как я замужем и живу на Закавказье, да дома в девушках около года, и выходит без малого 6 лет со дня моего выхода из института. Время летит, как птица; не заметишь, как начнешь стариться, особенно при такой однообразной, монотонной жизни в таком убийственном климате. Обидней всего то, что состаришься, не видавши молодости, среди пошлости и скуки провинциального прозябания. Впрочем, нашу трущобу даже и провинцией нельзя назвать, просто-напросто безлюдная глушь, дикая пустыня и ничего больше!
– Ну, полно, что за мрачные мысли! По-моему, здесь жизнь вовсе не так уж однообразна, как ты говоришь; что касается меня, то, признаюсь, я с большим интересом приглядываюсь ко всему окружающему и нахожу как людей, так и местный быт заслуживающими большого внимания. Каждый день мне приносит массу новых, оригинальных впечатлений; одни здешние типы чего стоят!
– Ах, полно, – с досадой перебила Лидию Ольга, – всех этих впечатлений хватит не более как на один год, потом все это так надоест, что глаза не глядели бы. Ты думаешь, я, когда в первый раз приехала на Закавказье, не испытала того же? Испытала в лучшем виде, при взгляде на верблюда в умиление приходила, а на всякого пройдоху в черкеске смотрела, как на какого-нибудь Бей-Булата и Хаджи-Абрека; духанщиков, армяшек лживых, трусливых, ничтожных, принимала за черкесов.. Ах, да всего и не вспомнишь! Это общая болезнь всех русских, приезжающих из центральных губерний, поэтизировать Кавказ и глядеть на него сквозь лермонтовские очки; но при дальнейшем знакомстве эта блажь скоро соскакивает, глаза проясняются, и начинаешь видеть все в настоящем его свете.
– Ну, уж ты чересчур! – укоризненно покачала головой
Лидия. – Тебе просто захотелось пожить в большом городе с его увеселениями и сутолокой, оттого тебе и кажется все гадким. Ты озлобилась и на природу, и на людей, бранишь армян, бранишь татар; даже здешними русскими молоканами, и теми недовольна, а я скажу, что армяне далеко уже не так худы, как про них говорят; в них много природного радушия, гостеприимства, веселости, они чрезвычайно трудолюбивы и способны; что же касается татар, мне в них нравится религиозность, безропотная покорность судьбе, величавая важность во всех движениях и их беззаботность в завтрашнем дне, они истые философы, чуждые европейской меркантильности. .
– Довольно, довольно, будет, уши вянут, – с явным раздражением замахала руками Ольга, – такую чепуху можно говорить только на пятый день по приезде на Закавказье, а ты уже, слава Богу три месяца живешь здесь!
Вот никак не ожидала видеть в тебе такую институтскую восторженность. Впрочем, у тебя это отцовская черта. Наш отец в восторг приходил от Финляндии и находил ее самой живописной, самой лучшей страной в мире. Я только одно лето прожила там, и мне она вовсе не понравилась. Угрюмое, серое небо, тусклое солнце, голые скалы, люди точно пещерного периода, хмурые, молчаливые, обросшие мохом, с вонючими трубками в зубах.. Брр. .
– А где же хорошо по-твоему? Мабуть под Полтавой? –
лукаво подмигнула Лидия.
– А то ж и взаправду, – оживилась Ольга, – разве же можно сравнить нашу чудную Украину с какой-нибудь
Чухляндией или тем более с этим басурманским Закавказьем. Что ни возьми, климат ли, превосходный; природу ли, – богатейшая; людей ли, и люди прекраснейшие! Так вот и вижу перед собой нашего хохла: широкоплечий, богатырски сложенный, неповоротливый с виду, чудаковатый, а в сущности большая умница, природный юморист и комик, с поэтической, отзывчивой душой и железным характером, благодаря которому он вынес на своих могучих плечах татарские набеги, турецкие погромы, гнет панов-ляхов и всякие правды и неправды московских бояр, вынес и остался тем же, чем был, не изменил себе, своей самобытности. Ну, скажи сама, это ли не народ-богатырь?
Ольга говорила с увлечением. Лицо ее раскраснелось, а большие, томные глаза разгорелись.
Лидия не выдержала и громко и весело расхохоталась
– Чему ты? – удивилась Ольга.
– Ну и курьезная же наша семья – как подумаешь, –
отвечала сквозь смех Лидия, – во всем крайности и несообразности! Ты истая хохлушка и душой, и наружностью, тебе бы быть какой-нибудь Ганьзей Перерепенко, а ты урожденная Норден-Штраль, Ольга Оскаровна; я, твоя родная сестра, ни капли на тебя не похожая, лицом и характером настоящая шведка. Отец наш, живя в Малороссии, грезил далекой, холодной Финляндией, а мать когда ей пришлось на несколько лет переехать в Финляндию, чуть не умерла с тоски по родной Украине.
– Что ж тут удивительного, – задумчиво произнесла
Ольга, – это так бывает почти всегда при смешанных браках!
– У отца жена должна была быть шведкой, и жить им следовало в Финляндии; матери нашей нужно было выйти замуж за какого-нибудь Тараса Ковтуна и не покидать своей Украины. Я вот поступила разумней, сама хохлушка, и мой Осип Петрович – тоже заправдашний хохол. Когда-нибудь под старость, как заслужим пенсию, уедем в
Киевскую, Полтавскую или Черниговскую губернию, купим хуторок, да и будем пануваты!
– А я здесь останусь, на Закавказье, мне здесь нравится, влюблюсь в какого-нибудь черкесского армянина или татарского хана, и прекрасно!
– Смейся, смейся, а я, признаться, очень недовольна твоей дружбой со всеми здешними беками и ханками; мусульмане вовсе не компания нам, русским; между ними есть, конечно, хорошие люди, хотя бы, например, наш комиссионер Али-бек, но большинство из них настоящие дикари.
– Это-то в них и интересно. На цивилизованных кавалеров я уже в Москве нагляделась и мне, право, гораздо больше нравятся сыны природы, как, например, хотя бы сыновья местного хана Тимур и Джаагир шах-абадские.
– Ты все шутишь, – уже с некоторой досадой произнесла Ольга, – а я вовсе не шучу, напротив, серьезно и убедительно прошу тебя, держи себя подальше вот от этих-то самых Джаагира и Тимура. Оба они порядочные негодяи и головорезы.
– Что же, ты боишься, как бы меня не похитили? – усмехнулась Лидия.
– Похитить не похитят, а от каждого местного татарина всегда можно ожидать всякой пакости. К тому же твое вольное обращение с ними вызывает сплетни и пересуды между чиновниками. Что за охота компрометировать себя из-за каких-то оболтусов?
– Недоставало, чтобы я стала обращать внимание на пересуды ваших чиновников и чиновниц, – капризно топнула ногой Лидия, подумаешь, какие?
– А взаправду добрые люди кажут, гди соберуться дви бабы, там вже и ярмарка; шо таке тутотка раскудахтались?
С этими словами в палатку вошел высокий, плотный мужчина лет сорока, бритый, с длинными казацкими усами, одетый в чечунчовую тужурку таможенного ведомства.
Это был сам Осип Петрович Щербо-Рожновский, муж
Ольги Оскаровны и управляющий шах-абадской таможней.
Он только что окончил занятия и вышел в сад подышать свежим воздухом после долгого, утомительного сидения в канцелярии.
VIII
Сосед
– Да вот, Остап, – пожаловалась Ольга мужу, – все с
Лидией спорю. Ну, скажи, не права я? Разве хорошо она делает, выказывая так явно свои симпатии местным татарам и армянам, особенно этим двум ханкам Тимуру и
Джаагиру шах-абадским?! Она постоянно с ними гуляет, ездит с ними верхом, точно с какими-то своими пажами; в конце концов, люди Бог знает что могут подумать.
– Ну, и пусть их, на здоровье, – с капризной настойчивостью качнула головой Лидия, – очень меня это интересует!
Осип Петрович добродушно ухмыльнулся.
– Ничего, жинка, брось, дай срок, Лидии Оскаровне самой все эти господа азиаты скоро хуже горькой редьки обрыдлят. Теперь, пока внове, ее все интересует и в ином лучшем свете кажется, а приглядится – как и мы, грешные, всю эту басурманщину возненавидит.
Лидия хотела что-то возразить, но в эту минуту около калитки раздался топот лошади и чей-то симпатичный голос громко и весело крикнул:
– Можно?
– А, это вы, Аркадий Владимирович! – радостно откликнулся Щербо-Рожновский. – Разумеется, можно; что за спросы, разве не знаете, какой вы для нас всегда дорогой гость?
Говоря таким образом, Осип Петрович торопливо по шел навстречу высокому, белокурому пограничному офицеру в кителе и белой фуражке. Встретясь с ним, он крепко пожал ему руку, на что офицер с ласковой улыбкой ответил тем же, а затем подошел к дамам и вежливо поздоровался с ними. В ту минуту, когда он слегка сжал пальчики Лидии, в лице его на мгновение промелькнуло выражение затаенного, худо скрытого восхищения.
– Как кстати вы приехали, Аркадий Владимирович, –
ласково улыбнулась Ольга Оскаровна, – мы сей час будем чай пить, и вы за компанию.
– Не откажусь. Признаться, я дома не пил!
– Ну, что нового? – спросил Щербо-Рожновский, садясь рядом и дружелюбно похлопывая Аркадия Владимировича по колену. Тот добродушно усмехнулся.
– Нового? – переспросил он, – да какие новости могут быть у нас здесь, в этой трущобе. Все то же, что и вчера, и десять – двадцать дней тому назад. Встал утром, пил чай, писал разные входящие и исходящие, завтракал, после завтрака ездил в разъезд, вернулся к обеду, отобедал, после обеда, простите, поспал немножко, затем приказал оседлать Руслана и приехал к вам. Вот весь мой день. А у вас как?
– То же самое, с тою только разницей, что вместо разъезда хожу в пакгауз или на паром. Да, батенька, жизнь как веретено вертится, а все на одном месте. Однообразие полнейшее. В прошлом году, вас еще не было, проезжал тут в Персию один миссионер-англичанин, заболел лихорадкой и прожил у меня дня 3-4, недурно говорил по-немецки, расспрашивал, как мы живем, что делаем, как время проводим, и когда я ему подробно рассказал о нашем житье-бытье, знаете, что он мне отчубучил?
«Вот, говорит, вы, русские, обижаетесь, когда мы, понимай, Западная Европа, не считаем вас за европейцев.
Ну согласитесь сами, если бы вы были действительно европеец, могли ли бы вы жить при таких условиях, вне всякой культуры и культурных потребностей?»
– Ну, а вы что ему на это? – заинтересовался Аркадий
Владимирович.
– А что я мог ему ответить? Он же безусловно прав.
Вообразите себе англичанина без какого-нибудь, хоть маленького, клуба, без ежедневной почты, без церкви, без всякого развлечения, хотя бы лаун-тенниса или футбола, и при том не в течение известного какого-нибудь, заранее определенного времени, а на всю жизнь, без надежды когда-либо очутиться в лучших, более человечных условиях, к довершению всего, получающего за все за это гроши, которых едва-едва хватает на предметы первой необходимости. Согласитесь, что это даже и вообразить себе невозможно. Ни англичанин, ни француз, ни немец, ни за что бы не согласились на подобную жизнь; мы живем и хлеб жуем и даже не находим нужным влиять на окружающих нас полудикарей в смысле их цивилизации. Вместо того, чтобы их заставить усвоить наши привычки и обычаи, мы сами снисходим до них, применяемся к их вкусам, обычаям, понятиям. Англичане в Индии, французы в Алжире, немцы в Камеруне продолжают жить, как жили в Лондоне, Париже, Берлине, приучая туземцев к своим привычкам, а мы, русские, как только приезжаем сюда, хватаемся за панырь, лаваш, тархун, день распределяем по мулле и об одном только и заботимся, чтобы как-нибудь не нарушить привычек туземцев, не оскорбить их религиозных взглядов, не задеть их обычаи. Какой же всему этому результат?
Самый печальный и для нас самих, и для попавших нам в руки дикарей. Вот мы Закавказьем владеем более полувека, но если бы каким-нибудь чудом нас выбросили отсюда, то через год не осталось бы и следа нашего полувекового владычества, ни в чем решительно. Никто бы и не поверил даже, будто бы эта страна находилась 50 лет под управлением европейского цивилизованного государства, точно нас и не было никогда. Да, батюшка, плохие мы, русские, цивилизаторы, и не знаю, будем ли когда-нибудь лучшими.
Вот возьмите, далеко не ходить, мою прелестную Лидию
Оскаровну; москвичка, хохлушка, все, что хотите, приехала на Закавказье и в восторге от всего здешнего, ишаки –
прелесть, ханки полуграмотные – душки, в грязном, полоумном дервише видит что-то библейское, чуть ли не чадру готова надеть и мусульманкой сделаться.. Ну, скажите, пожалуйста, мыслим ли среди англичанок такой тип?
– Ну, вы, кажется, уже чересчур нападаете на Лидию
Оскаровну, – улыбнулся Аркадий Владимирович, – я вовсе не замечаю в них такого стремления к ренегатству.
– А вы прочтите ее дневник, который она ведет со дня приезда на Закавказье, тогда и узнаете.
– А вы читали? – немного задетая за живое, спросила
Лидия.
– Сам не читал, Оля говорила. Она читала.
– А со стороны Оли это очень нехорошо: если я ей доверилась и дала ей прочесть свой дневник, то она должна была держать это в секрете.
– Да я ничего особенного и не рассказывала, – начала оправдываться Ольга Оскаровна, – просто к слову сказала, что у тебя во всем проглядывает какая-то особая страсть и приверженность к туземному, да ты этого и сама не скрываешь.
– Ну, и что же из этого! – горячо воскликнула молодая девушка, – не скрываю и не нахожу надобности скрывать.
Да, мне здесь нравится, и знаете ли, главным образом, что именно нравится? Несложность и простота жизненных условий! Вы вот все, господа, взапуски браните туземцев и готовы чуть ли не под угрозой смерти навязать им европейскую культуру, а между тем отсутствие этой самой культуры и есть величайшее благо. Туземец ближе к природе и через то правдивее и прямолинейнее, чем мы европейцы.
Здесь еще не создалась та чудовищная разница в положениях людей, какую мы видим в наших городах, ну хотя бы, например, в Москве. Здешний бедняк муша несравненно ближе и по своему образу жизни, и по своим требованиям к самому богатейшему и знатнейшему хану, чем босяк с Хитрова рынка к князю Трубецкому или даже какому-нибудь первогильдейскому купчине, утопающим в самой изысканной роскоши. Здесь вам не случается наталкиваться на такие контрасты: в подвале, у какой-нибудь несчастной прачки умирает от истощения единственное дитя. Умирает потому лишь, что у бедной матери не только нет средств покупать ему каждый день молоко, мясо, булку, но она не в состоянии даже пригласить доктора, чтобы тот хотя бы чем-нибудь облегчил страдания малютки, а в том же доме, но в бельэтаже, избалованная, раскормленная до пресыщения болонка или моська, любимица какой-нибудь знатной барыни-миллионерши, брезгливо отворачивает мордочку от чудеснейших, густых сливок, с намоченными в них бисквитами по восемь гривен фунт.
Встревоженная отсутствием аппетита своей любимицы, самодурка-хозяйка немедленно посылает горничную в карете за молодым ветеринаром; тот приезжает, глубокомысленно осматривает объевшееся животное, прописывает ему золоченые пилюли по три рубля коробка и важно удаляется, небрежно пряча в жилетный карман 5-10 руб. за визит. На негодную, дряхлую, полуслепую собачонку, долженствующую все равно не сегодня-завтра умереть от старости, тратится сумма, могущая спасти ребенка, в котором, может быть, таится зародыш гения! Ну, скажите, разве же это не чудовищно?! Разве можно желать торжества такой цивилизации?
– Ба, ба, ба, да вы, Лидия Оскаровна, совсем толстовка,
– весело засмеялся Воинов, – такую нам картинку нарисовали, хоть в Крейцерову сонату включай!
Молодая девушка сделала презрительную гримасу.
– Как немного надо, чтобы прослыть толстовкой, –
небрежно уронила она, – достаточно в известном случае про белое сказать, что оно бело, не серо и не желто!
– Положим, не совсем так, – возразил Воинов, слегка задетый небрежностью ее тона, – на ваш пример я бы мог многое ответить, хотя бы уже и то, что рядом с барыней-собачницей, приводимой вами как пример, есть сотня других барынь, на средства и хлопотами которых существуют в той же Москве бесплатные лечебницы, приюты для сирот, богадельни для старцев и калек, о чем ваши, стоящие близко к природе, полудикари понятия не имеют. В
Персии сумасшедшие ходят по воле, и когда ими овладевают припадки буйства, их бьют палками и камнями, в конце концов забивают насмерть; далее, я лично, своими глазами, видел заболевших бедняков или дряхлых старцев, беспомощно умиравших, подобно собакам, в кустах, у большой дороги, если только они не имели своего дома или хотя бы имущих родственников, так как ни больниц, ни каких бы то ни было общественных призрении там нет и не водится. Впрочем, не в этом дело и не об этом речь, а в том, что вы, Лидия Оскаровна, действительно чересчур доверчиво относитесь к туземцам, не зная их вовсе..
– Хотя бы, например, к двум здешним ханкам шах-абдским – перебил Осип Петрович, – ну, скажите сами, Аркадий Владимирович, – отнесся он к Воинову, –
разве же я не прав, утверждая, что они страшная дрянь?!
Ленивые, праздные, лживые и даже вороватые, а вот Лидия
Оскаровна не хочет этому верить и видит в них каких-то героев из романов Марлинского.
– Ну, уж на героев-то в духе Марлинского они меньше всего похожи, – засмеялся Воинов, – хотя бы уже в виду их позорнейшей трусости. Вы, Лидия Оскаровна, не дивитесь, что у них кинжалы по аршину длиной и все в серебре, револьверы на боку и папахи на затылке, не смотрите и на их удалое гарцевание, гарцевать-то они мастера; поглядеть, как они галопируют и джигитуют на своих красивых конях, подумаешь, центавры да и только, джигиты, но пусть-ка любая баба с коромыслом поэнергичнее напустится на них, живо, как петухи индейские, подберут крылья и дерка зададут. Знаете, что мне здесь, на Закавказье, всегда казалось курьезным, – обратился Воинов к Осипу Петровичу, –
взаимное отношение местных жителей к местным разбойникам. Между ними точно раз навсегда уговор заключен: так как вы, мол, разбойники, то мы вас обязуемся бояться. Просто смеха достойно, пять, шесть мерзавцев являются в селение, где сотни полторы одних мужчин, поголовно вооруженных кинжалами, а у многих даже и ружья есть, и бесцеремонно грабят их, а те или проявляют баранью покорность, или, что, впрочем, редко, оказывают какое-то опереточное сопротивление, издали потрясают оружием, кружатся на своих клячах и не без эффекта стреляют в небо. Добро бы и разбойники-то были головорезы, а то такие же трусы. В прошлом году, в Албадже, мой разъезд из трех человек случайно наткнулся на целую шайку кочаков85; солдаты ружей из-за плеч поснимать не успели, как вся шайка разбежалась во все стороны, побросав лошадей, навьюченных разной награбленной рухлядью. Некоторые из разбойников даже оружие побросали с себя: кинжалы, винтовки и пояса с патронами. В довершение всего, все они как бараны, кинулись, в паническом страхе, очертя голову, в реку, не разобрав брода, причем трое из них утонуло, а было их человек пятнадцать, по крайней мере. Ужасная дрянь; мирные же татары даже таких боятся. Поверьте, если в то время, когда вы ездите кататься в сопровождении этих самых ханков шах-абадских, вам встретится один хотя бы самый замухристый кочак, даже без оружия, при одной дубине, ваши кавалеры, как зайцы, дадут стречка, забудут и о своих серебряных кинжалах и о револьверах, бросят вас на произвол судьбы, а сами ускачут.
– Вот и я то же говорю, – вмешалась молчавшая до того
Ольга Оскаровна, – но Лидия не хочет верить.
– Не не хочу, а не могу поверить, чтобы весь народ поголовно был одинаков; конечно, есть и трусы, но наверно есть же и храбрецы! – горячо возразила Лидия.
– Между персидскими татарами нет храбрецов, поверьте мне, – уверенно произнес Воинов, – вот курды, те еще ничего, да и их храбрость скорее сравнительная. Наряду с персами они, конечно, храбрецы, но сами по себе тоже трусы порядочные. Впрочем, я знаю одного человека в Персии, некоего Муртуз-агу, этот, пожалуй, будет храбрец недюжинный.
85 Кочак – здесь: разбойник.
– Вот видите ли, значит, есть между персами храбрые люди! – воскликнула Лидия.
– В том-то и штука, что неизвестно, кто он такой; только едва ли перс. Про него разно рассказывают: одни говорят, будто бы он беглый русский, другие подозревают в нем обасурманившегося турецкого армянина или даже грека; сам же он выдает себя за перса, долго жившего в
России. По-русски говорит прекрасно. Уверяет, будто бы выучился за бытность свою в России. Словом, Бог его ведает, кто он такой. Я познакомился с ним недавно и признаюсь, он на меня произвел сильное впечатление; субъект весьма интересный. Вот бы вам, Лидия Оскаровна, познакомиться с ним. Про него, пожалуй, и я скажу, что он личность вполне романтическая, решительно непохожая ни на кого из здешних.
– Да кто он такой и как вы с ним познакомились?
IX
Муртуз-ага
Кто он такой, я не знаю, а познакомился я с ним следующим образом. Несколько дней тому назад на рассвете, я был разбужен выстрелами. Сначала мне представилось, что это идет перестрелка на ближайшем участке моего отряда, но оказалось, стрельба шла на персидской стороне. Я живо оделся и бросился на крышу своего поста; но раньше чем продолжать, позвольте познакомить вас немного с местностью. Мой пост с офицерской квартирой, где я живу, Урюк-Даг, как вам известно, отсюда верст на пять с небольшим и построен на высоком, крутом холме, мысом вдающемся в реку Аракс. Противоположная, персидская сторона представляет из себя равнину, ограниченную с одной стороны цепью гор, удаленных от реки верст, на 5, на 6, не больше. Долина эта лишена всякой растительности и усеяна камнями и местами солончаками, издали похожими на пласты только что выпавшего снега. На всем пространстве, куда только достигает глаз, вы не заметите ни одного дерева, ни одного кустика, ни одной зеленеющейся полянки; песок, камни и небо и больше ничего.
Только по самому берегу реки, версты на две вглубь, идут сплошные, густые, непролазные заросли камыша. Камыш так высок, что в нем легко может спрятаться всадник на лошади, а о густоте его можно судить, только побывавши там, – просто стена сплошная, да и только. Местность, на которой камыш растет, вся изрыта глубокими канавами, оврагами, рытвинами, изобилует небольшими болотцами, излюбленным местом диких кабанов, во множестве водящихся в этих камышах. Когда я с биноклем в руках вышел на крышу, то увидел толпу всадников, человек 30 по крайней мере, одетых в одинаковые темно-синие кафтаны и бараньи шапки. Разбившись на небольшие группы, они носились по полю как угорелые, оглашая воздух криком и визгом. Время от времени они поодиночке или небольшими группами, человека по 2-3, сломя голову, неслись к камышам, но, не доскакав до них шагов 200-300, останавливались и принимались стрелять; в ответ на эту стрельбу из камышей тоже гремели выстрелы, после чего всадники поворачивали лошадей и мчались обратно. Смотреть со стороны было очень красиво. Снующие взад и вперед темные фигуры на разномастных лошадях, блеск оружия, блях и пуговиц, взвивающиеся то там, то здесь белые дымки выстрелов – и над всем над этим ясно-голубое, безоблачное небо. Солнечные лучи ярко освещали всю эту картину и придавали ей какой-то праздничный вид. Точно театр марионеток.
Я долго не понимал, что за штука происходит передо мной, и сначала был склонен принять все это за какую-нибудь военную игру, род нашей казачьей джигитовки, но скоро должен был убедиться в том, что присутствую далеко не при мирной забаве. Я увидел, как один из всадников, вынесшийся далеко впереди других, осадил на всем скаку своего коня н молодцевато прицелился, но не успел он спустить курок, как из зарослей грянул дружный залп, зловещим эхом прокатившийся по долине. На одно мгновение я видел, как лошадь всадника взвилась на дыбы и затем тяжело опрокинулась навзничь, вместе с ездоком.
Упав на землю, оба остались неподвижны, очевидно, убитые наповал. Признаюсь, при виде этих двух трупов, распростертых на горячих камнях, еще за минуту перед тем полных такой жизненной энергии и увлечения, мне стало жутко и вместе с тем безотчетно жалко убитого перса. На остальных всадников гибель товарища подействовала поджигающе, я думал, они рассыплются во все стороны, как воробьи, но ошибся. Как только ездок и лошадь упали, все остальные всадники издали пронзительный визг и как один со всех сторон понеслись к камышам, откуда навстречу им, не переставая, трещала частая, но, очевидно, бестолковая ружейная пальба.
Впереди атакующих скакал человек на белом рослом коне. Издали он не отличался от остальных, такой же темный кафтан с блестящими пуговицами, такая же конусообразная папаха с горевшим на солнце медным гербом, но по тому, как он энергично размахивал кривой шашкой и, оборачиваясь назад, громко и повелительно кричал на поспешавших за ним других всадников, я угадал в нем предводителя. Сзади всадника на белой лошади скакал другой с чем-то вроде знамени в руках: недлинная палка с развевающимся на ее конце густым конским хвостом и какими-то пестрыми лентами.
В ту минуту, когда всадники были уже в нескольких шагах от камышей, двое из них вдруг закачались на седлах и кубарем покатились вниз под копыта коней, которые, почуя свободу, шарахнулись в сторону и понеслись по полю, испуганно подняв головы и разметав по ветру длинные хвосты.
Ближайшие к убитым всадники не выдержали и, круто повернув лошадей, со своим предводителем во главе, лихо ворвались в камыши и почти одновременно с этим оттуда, как зайцы, во все стороны посыпались спасающиеся бегством пешие и конные курды. Несколько человек кинулось в степь, другие пустились вдоль берега по камышам, точно преследуемые охотниками кабаны, но большинство решилось пробиваться к горам. С пронзительным воем, стреляя на скаку из ружей, набросились курды на ближайших всадников и, в мгновение ока прорвавши их негустую цепь, помчались к горам, где они могли считать себя вне опасности. Двое со страху, как слепые, кинулись в
Аракс, очень быстрый и глубокий в этом месте, но их тотчас же захлестнуло волнами, стремительно сорвало с лошадей, закрутило, завертело как щепки и потащило вниз на острые выступы подводных скал. Несколько минут утопающие отчаянно боролись с яростным течением, но скоро выбились из сил и скрылись под водой. Я видел, как раза два высунулись над водой их искаженные страхом лица, как мелькнули в воздухе ослабевшие руки, и затем все исчезло. Река поглотила свои жертвы. Тем временем лошади всадников, освободившись от тяжести, благополучно, хотя и с трудом приближались к нашему берегу. Их сильно сносило течением, по крайней мере версты на три ниже поста. Я приказал вахмистру послать несколько человек конных перенять их, что и было исполнено.
Тем временем прорвавшаяся кучка курдов бешеным галопом неслась по горам, преследуемая по пятам всадниками. Вот тут-то во время этого преследования я и убедился в том, насколько начальствовавший над персами в синих кафтанах предводитель был истый герой и молодец.
Не обращая внимания на то, следуют ли за ним, в каком числе и на каком расстоянии его люди, он с беззаветной храбростью, как коршун, бросился в самую середину врагов. Я видел, как он наскочил на одного огромного курда, свалив его с лошади сильным ударом шашки по голове, не останавливаясь, ринулся на другого; завидя его, курд, как кошка, перекинулся на другую сторону седла и направил в предводителя дуло своего пистолета, но тот грудью своей массивной лошади опрокинул жалкую курдскую клячонку и в то время, как лошадь и всадник кубарем летели на землю, он выстрелом из револьвера размозжил голову последнему. Покончив и с этим, он пустился за остальными и вмиг догнал их, но курды потеряли уже совсем головы.
Паника всецело охватила их, и все они как по команде неожиданно побросали ружья и повалились с лошадей на землю. Уткнувшись лицом в землю, стояли они на коленях, жалобно вопя о пощаде. Персы мигом окружили их и с криком и гвалтом принялись крутить им руки. Теперь, когда уже курды покорились, преследователи их показывали большую энергию и храбрость, но я уверен, не будь предводителя, они бы ни за что не дерзнули задержать отчаянных разбойников. Таким образом, можно сказать, что начальник одной своей беззаветной храбростью и умением лихо рубиться принудил человек пятнадцать отчаяннейших головорезов положить оружие и отдаться в руки его людям.
Предводитель этот, проявивший такое мужество, удаль и находчивость, и есть тот самый Муртуз-ага, о котором я упоминал как о единственном храбром персе, встретившемся мне в жизни. Я в тот же день познакомился с ним и вот при каких обстоятельствах.
Когда курды были все перевязаны, начальник распорядился отправить их под сильным конвоем большей половины своих людей куда-то внутрь страны, очевидно, в
Суджу, а сам с остальными вернулся назад к реке – распорядиться захватить мертвых и раненых. Я не мог преодолеть своего любопытства узнать в точности, что это было за происшествие, которому я был свидетель. Я приказал приготовить лодку и, взяв с собой вахмистра и трех рядовых, поехал на ту сторону. Когда мы подъехали, то увидели всадников, уже выстроенных в одну шеренгу шагах в двадцати от берега; предводитель на серой лошади стоял впереди, и только мы вышли из лодки, он что-то крикнул своим, похожее на команду. По этому окрику всадники выхватили свои шашки и, подняв их высоко над головой, взяли ими на плечо, наподобие того, как мужики и бабы носят серпы.
После этого предводитель повернул на меня свою лошадь и, подскакав, на всем карьере осадил ее перед самым моим носом.
– Имею честь представиться, – прикладывая руку ко лбу, произнес он на чистом русском языке, – Муртуз-ага, сарбаз-султан86 сардаря Хайлар-хана Суджинского.
Мы поздоровались, после чего он соскочил с лошади, приказал принести ковер и пригласил меня сесть. Откуда ни взялся изящный кальян, – и между нами завязалась беседа. На мой вопрос о только что виденном он дал мне следующее объяснение. Несколько дней тому назад партия турецких курдов, прорвавшись через персидскую границу, напала на приграничных жителей, ограбила их, после чего часть партии с награбленным добром поспешно вернулась восвояси, а часть направилась вдоль реки, в расчете, вероятно, сделать набег еще на какие-нибудь селения или даже попытаться переправиться на русскую сторону и, свершив там ряд грабежей, уйти обратно в Турцию.
Узнав о произведенных курдами бесчинствах, Хайлар-хан, сардар Суджинский приказал Муртуз-аге, исправляющему должность командира единственной в Судже и им самим сформированной полурегулярной сотни телохранителей сардаря, идти в погоню за оставшейся в пределах шайкой и уничтожить ее. Три дня Муртуз-ага шел
86 Сарбаз-султан – офицер.
по следам курдов, которые, заметив погоню, решили, ради своего спасения, переброситься на русскую сторону и скрыться в непроходимых, девственных горах Адарбаха.
Для переправы они выбрали густые камыши, на несколько верст тянущиеся вдоль границы в глухой, безлюдной пустыне Беюк-Дага, против дистанции моего отряда.
Приди они немного раньше, еще ночью, им бы, пожалуй, удалось благополучно прорваться, благодаря малочисленности солдат, особенно в настоящее время, в период повальной малярии, когда большая половина людей в беспамятстве валяется на постах. Но, на их несчастье, они запоздали и, когда достигли берега, то уже ночь подходила к концу; разбойники не решились начать переправу, твердо убежденные в невозможности проскользнуть на рассвете незамеченными пикетами пограничной стражи. Зная трусливую медлительность персов, курды были уверены, что посланные в погоню за ними сарбазы Сардара, в свою очередь, днем не посмеют атаковать их открытой силой, а дождутся ночи, когда и откроют бесцельную перестрелку, под прикрытием которой преследуемым легко будет уйти в какую угодно сторону. Так бы оно и вышло, если бы сарбазами командовал не Муртуз-ага. Отчасти личным примером мужества, а главным образом – обещанием подвергнуть тех, кто выкажет трусость, жестоким наказанием, он сумел возбудить в своих людях прилив мало свойственной им отваги, результатом чего и был полнейший разгром шайки.
Слушая Муртуз-агу, я внимательно приглядывался к нему, и, признаться, он мне в высшей степени понравился и заинтересовал меня. Это был человек среднего роста, лет
38, с красивыми усами, большеглазый, худощавый, нервно подвижный, с изящными жестами.
– Где вы выучились так хорошо говорить по-русски? –
спросил я его.
Он лукаво улыбнулся и не сразу ответил.
– Мой дядя был тифлисским торговцем, и я долго жил с ним в Тифлисе, а раз даже ездил в Москву, – произнес он наконец и затем уже больше к этому вопросу не возвращался. Мы просидели часа три и расстались друзьями, по крайней мере я положительно от него в восторге. Затем я спрашивал его, почему он не ездит на нашу сторону.
– Хан не любит, когда его приближенные без особенной нужды посещают Россию! – ответил он мне.
– Почему же? – задал я вопрос.
– Боится измены,– улыбнулся Муртуз-ага, – он, говоря между нами, страшно опасается, чтобы русские не вздумали захватить Суджу. На шаха надежда плохая; мы достоверно знаем, что несколько лет тому назад он тайно предлагал русскому правительству уступить Суджу за известную сумму, но русские не согласились.
– При расставании он взял с меня слово приехать на кабанью охоту. Я уже написал нашему командиру отдела, он давно собирается на кабанов; вы, Осип Петрович, тоже, наверно, не откажетесь?!
– Отчего же, я с удовольствием! – согласился Щербо-Рожновский.
– А нам с Олей можно будет поехать? – спросила Лидия.
– Это зависит от командира отдела, – сказал Воинов, –
если он ничего не будет иметь против присутствия дам на охоте, то почему же бы вам и не ехать. Мы вам выберем безопасное место, с которого вы все прекрасно увидите!
– Ну, за нашего милого Павла Павловича я вперед уверена, – засмеялась Ольга, – он такой любезный дамский кавалер, что наверное не откажет. А как же мы поедем?
– До моего поста можно в экипажах, тут недалеко, всего верст пять, а там через Аракс на лодках, лошадей же наших солдаты переправят вброд!
– Вот отлично-то, – захлопала в ладоши Лидия, – ах, как будет весело! О, – обрадовалась она, – мы увидим кабанов?
– Если только они будут, то, разумеется, увидите. Мы поставим вас где-нибудь на возвышении на линии стрелков, так, чтобы загон прошел мимо вас!
X
На охоту
На посту Урюк-Даг с раннего утра идет суматоха. Еще с вечера к Воинову, в его холостяцкую квартиру, собралась целая компания. Из г. Нацваллы приехал командир отдела
Павел Павлович Ожогов с военным врачом Ладожинским, а из Шах-Абада Осип Петрович с женой и Лидией. Вечер прошел очень оживленно. Смеху и шуткам не было конца.
Павел Павлович, бывший лейб-улан, спустивший в свое время большое состояние, имел дар оживлять всякое общество, что же касается дам, то с ними он был изысканно любезен и своим обращением, веселыми шутками, умением ухаживать тонко и деликатно, заставлял забывать и свою большую лысину, и седину пятидесятилетнего старика, впрочем, еще весьма хорошо сохранившегося.
Для ночлега Воинов уступил дамам свой кабинет, мужчины же спали на крыше. В Закавказье летом редко кто из мужчин спит в комнатах, где из-за мошкары нельзя спать иначе, как под густым пологом; поэтому многие предпочитают сон на свежем воздухе, на крышах или на особенно устроенных высоких вышках, откуда мошку сдувает ветром. Как обыкновенно бывает, когда соберется компания мужчин, половина ночи прошла в рассказывании анекдотов, на которые был особенно мастером Павел
Павлович; а с появлением рассвета на посту поднялась такая суета, что заснуть не было никакой возможности.
Первым делом, пока еще барыни не встали, надо было переправить лошадей. Человек десять солдат, искуснейших пловцов, раздевшись донага, под наблюдением вахмистра
Терлецкого, сидя на неоседланных лошадях, собрались на берегу. Дня за два перед этим в горах выпали сильные дожди, отчего уровень Аракса значительно повысился, что в соединении с быстротой течения и изменчивостью дна делало переправу не совсем безопасной, но для закаленных боевой обстановкой их жизни пограничных солдат это казалось сущим пустяком. Весело смеясь и перекликаясь между собой, смело двинулись они длинной вереницей один за другим в реку. Их голые мускулистые тела, с медными тельниками на шеях, обрызганные летящими из-под конских ног каплями воды блестели в ярких лучах величественно восходящего солнца, и громкие, удалые возгласы задорно неслись над широкой поверхностью реки. Потемневшие от воды лошади громко фыркали и храпели, косясь на бурлящие у их ног мутные волны.
На середине реки, когда вода начала уже заливать круп лошади, передний всадник ловко соскользнул с ее спины в реку и поплыл рядом, держась правой рукой за гриву, а левой брызгая коню морду, чтобы этим заставить его плыть прямо.
Остальные, по мере того как доезжали до того места, где передовой соскочил с лошади, следовали его примеру.
Красиво было смотреть со стороны на эти торчащие из воды конские морды с широко раздутыми ноздрями и тревожно вытаращенными глазами, на правильном расстоянии следовавшие друг за другом, а подле них русые, черные, белокурые гладко остриженные человеческие головы, с разгоревшимися лицами, со спокойной отвагой в глазах. Течение было сильное, и лошадей сносило далеко ниже того места, куда сначала было предположено высадиться. Две лодки, по четыре гребца каждая, следовали за переправлявшимися. На корме каждой из них стоял солдат со спасательным кругом в руках, зорко и внимательно следя за плывущими, готовый каждую минуту прийти на помощь, в случае если бы кто-либо из них, оторвавшись от лошади, начал тонуть.
Пока шла переправа, на противоположном берегу собралась большая толпа курдов и татар, внимательно и одобрительно следивших за русскими пловцами. Это были все люди, приведенные Муртуз-агой, для исполнения роли загонщиков в предстоящей охоте. Сам Муртуз-ага тем временем хлопотал около раскинутого на скорую руку полушатра особого устройства, состоявшего из одной холщовой стены и такой же покато поставленной покрышки; шатер этот, будучи с трех сторон открытым, в то же время служил прекрасной защитой от палящих лучей солнца.
Два мальчика-курда быстро и ловко разводили самовар, расставляли маленькие разрисованные цветами стаканчики, грубого стекла сахарницы с колотым сахаром и вареньем, которое они доставали из пузатых, оплетенных камышом банок. Угрюмый высокий курд в пестрой чалме и малиновой бархатной куртке, сидя в стороне на корточках, сосредоточенно заготовлял все нужное для шашлыка. Перед ним на большом, совершенно круглом медном подносе лежала целая гора мелко нарезанных кусочков жирной баранины, помидор, красного перца и бадражан 87 . Он медленно брал эти кусочки двумя пальцами, едва когда-нибудь имевшими хоть какое-нибудь знакомство с мылом и нанизывал их вперемешку на длинные железные прутья шампура. Тут же возвышалась целая груда тонкого, белого, выпеченного на молоке лаваша, а подле него охапка съедобных травок. Несколько бутылок отличного коньяку, к которому богатые и знатные персы, несмотря на запрещение Корана, питают трогательную нежность, скромно прятались под холщовой, намоченной в воде в целях охлаждения тряпкой. Очевидно, Муртуз-ага собирался принять своих русских гостей на славу; он еще с вечера присылал своего нукера на пост Урюк-Даг, прося
Воинова и всю собравшуюся у него компанию утренний чай пить у него, Муртуз-аги. Ему охотно обещали, и теперь он спешил поскорее все приготовить к встрече.
87 Бадражаны – местное название баклажан, блестящих, от светло- до черно-фиолетовых овощей. Используются для приготовления различных блюд.
Сначала на ту сторону было переправлено десять казенных лошадей, предназначавшихся для командира отдела, доктора, вахмистра и семи расторопнейших нижних чинов, на обязанности которых лежало руководить загонщиками; после казенных были переправлены таким же порядком и собственные лошади Воинова, Рожновского и его двух дам. Когда переправа окончилась, лошадей поспешно заседлали привезенными на лодках седлами. Тем временем господа уже собрались на берегу в ожидании лодок, чтобы ехать на персидскую сторону.
– А знаете ли, мне жутко делается, – говорила Лидия
Оскаровна своему кавалеру Ожогову, садясь с ним рядом в лодку. – Я ведь первый раз в жизни переезжаю границу.
Как-то странно сознавать, что вот этот берег наш, а через каких-нибудь 20-30 саженей начнется территория чужого государства с совершенно иным строем жизни!
– Ну, тут по крайней мере, хотя река, все-таки же некоторая преграда, – отвечал Ожогов, – а вот на западной границе местами черта, отделяющая Россию от соседнего государства, представляет из себя не что иное как неглубокую канавку. Я сам, когда поступил в стражу и в качестве отрядного офицера приехал на границу, долго не мог привыкнуть к мысли, что вот, мол, эта сторона канавки
Россия, а это на вершок дальше, Пруссия. Ничтожная, едва заметная бороздка, через которую воробей перепрыгнет, а подумайте, какое громадное значение играет она в жизни двух государств! Господствующая религия, законы, порядки, мировоззрение, наконец, язык, история, идеалы, обычаи – все разное, во многом даже враждебно-противоположное. Что на одной стороне канавки разрешено, то на другой ее стороне запрещается, и наоборот.
Этой ничтожной чертой проведена грань владычеству
Монархов. По сю сторону он всемогущий, как Бог, повелевающий миллионами, для которых каждое его слово закон, могущий одним росчерком пера изменить судьбы своего государства, там, за этой канавкой, является только почетным гостем, юридически не имеющим права отдавать кому бы то ни было и какое бы то ни было приказание, и это еще не все. Самое главное, что за рубежом этой канавки стоят лицом к лицу многомиллионные народы, готовые биться до последней капли крови, принести огромные жертвы, чтобы только эта канавка не передвинулась вправо или влево, на более или менее значительное расстояние!
– Вы совершенно правы, но могу себе представить, какое особенное значение получает эта, как вы называете ее, канавка в глазах тех, кто по той или другой причине принужден бежать из своего отечества и искать за ней спасение, – задумчиво произнесла Лидия, – подумать только, какая страшная разница в положении: на одной стороне преступник, которого могут каждую минуту схватить, посадить в тюрьму, казнить, лишить всех человеческих прав, на другой – свободный гражданин, никого и ничего не боящийся, могущий начать свою жизнь сызнова..
– Но навсегда потерявший свою личность, свое я! –
перебил Ожогов. – Мне случалось встречаться с подобными личностями, и все они были глубоко несчастны. Для человека полный разрыв с родиной чрезвычайно тяжелая вещь, особенно для простолюдина; в конце концов, редко кто выдерживает это испытание и рано или поздно возвращается в свое отечество, готовый принять какое угодно наказание!
Увидя приближающиеся лодки, Муртуз-ага, не торопясь, с сознанием собственного достоинства, подошел к берегу и остановился, пристально разглядывая сидящих в них. Кроме Воинова, остальных гостей он видел в первый раз; не зная наперед, кто именно должен был приехать, он безошибочно угадал всех, только относительно дам он не был уверен, которая из них жена шах-абадского султана88, а которая сестра; обе были молоды, обе красавицы, хотя совершенно разные лицом. Одна брюнетка, слегка смуглая, черноглазая, с густыми бровями, высокая и стройная, с пышно развитым бюстом, другая – роскошная блондинка, с бледно-розовым лицом, изящным очертанием губ и большими голубыми глазами, смело и задумчиво глядящими из-под тонко очерченных бровей. Целый каскад светло-пепельных, от природы вьющихся волос красивыми прядями ниспадал на высокий, беломраморный лоб, из-под кокетливо сдвинутой набекрень жокейской шапочки с большим прямым козырьком. В одном обе сестры были похожи друг на друга: обе были высокого роста и прекрасно сложены. Одеты они были тоже одинаково в темно-синие амазонки из легкой шерстяной материи, перетянутые простыми кожаными английскими поясами, на головах жокейские шапочки, у брюнетки белая с красным, а у блондинки – белая с голубым.
Когда лодки причалили к берегу, первый выскочил
88 «. .шах-абадского султана.. » – так иногда назывались управляющие отдельными таможнями в Персии.
Ожогов; он никому не хотел уступить лестного, по его выражению, права помочь дамам сойти на землю. С ловкостью опытного дамского кавалера он осторожно, чуть не на руках вынес их из лодки и с полупоклоном поставил на сухое место.
– Вы, Павел Павлович, просто прелестны! – не утерпела, чтобы не сошкольничать, Лидия. – Воображаю, какой вы были в молодости!
– А разве теперь я стар? – с шутливой гримасой спросил
Павел Павлович, в глубине души слегка задетый за живое словами Лидии.
Когда все общество вышло на берег, Воинов представил им Муртуз-агу, который, почтительно приложив руку к сердцу, отвесил всем изысканно-вежливый поклон и поспешил пригласить в шатер, откуда уже несся приятно раздражающий запах поджариваемой баранины.
– Милости прошу, господа! – вежливо приглашал
Муртуз, жестом руки указывая на разостланные на земле ковры, на которых уже были расставлены тарелки с разными закусками. – Перед охотой надо хорошенько закусить!
Лидия, уже раньше, со слов Воинова, чрезвычайно заинтересованная Муртуз-агой, нарочно села так, чтобы, не будучи самой у него на глазах, иметь возможность наблюдать за ним. С первой же минуты он произвел на нее весьма выгодное впечатление. Оставаясь все время крайне предупредительным, в высшей степени учтивым и. любезным, он в то же время ни на минуту не терял сознания своего достоинства, держал себя спокойно, просто, говорил мало, больше слушая других. Лидии особенно нравился тон, каким Муртуз-ага отдавал приказания прислуживавшим нукерам; в его голосе, в манере произносить фразы коротко, отчетливо слышалась непреклонная воля, привычка повелевать. Невольно чувствовалось, что ослушаться этого человека, по-видимому, такого мягкого и любезного, крайне опасно. Когда один из нукеров нечаянно опрокинул на землю налитый чаем стакан, брови Муртуз-аги слегка дрогнули, а глаза на мгновенье сверкнули холодным, стальным блеском; впрочем, он поспешил замаскировать свой гнев самой непринужденной улыбкой и тем же спокойным голосом продолжал сообщать Ожогову план предстоящей охоты.
XI
Облава
Солнце стояло довольно высоко, когда, окончив чаепитие, компания тронулась в путь. Проехав версты 3-4 на рысях до небольшой группы холмов, охотники, слезли с лошадей и поспешно разошлись по своим местам. Каждый стал, как ему казалось удобнее, у подошвы холмов, слегка замаскировавшись кустиками гребенчука. Барынь поместили на вершину крайнего крутого холма, где лежал огромный камень. Предупредительный Муртуз-ага распорядился постлать на него ковер, и образовался род дивана, сидя на котором Лидия и Ольга могли отлично видеть все происходящее внизу, будучи в то же время вполне в безопасности. Лошадей поставили за холмом, совершенно в стороне, чтобы они не могли испугаться выбегающего зверя. Загонщиков отправили заранее. Они должны были с трех сторон окружить камыши и, суживая постепенно круг, гнать зверя к холмам на ожидавших его там охотников.
Ближе всех к дамам стал Муртуз-ага, и Лидия невольно залюбовалась на его высокую, стройную фигуру, бледное выразительное лицо, большие черные глаза, в которых теперь загорелся огонек охотничьей страсти, на то, как он спокойно и свободно стоял, с ружьем наготове, отставив вперед левую ногу и пристально глядя в камыши. Следующим за Муртуз-агой был Воинов. Лидия неожиданно для себя сделала между ними сравнение. Воинов, тоже красивый, рослый и крупный, казался каким-то слишком ординарным, обыкновенным. Офицер, каких сотни, – определила Лидия, – добрый, симпатичный, честный, наверно не трус, но без всякой оригинальности. Теперь он думает о скорейшем производстве в поручики; лет через двадцать будет мечтать о чине подполковника. В жизни его нет ничего таинственного, все ясно, просто, буднично-серо и однообразно, как однообразен обед, который ему готовит его денщик. Незатейливо, как незатейливы его привычки, давно до тонкости изученные его Иваном. Словом, он весь налицо: здоровый, сильный, слегка неряшливый, добродушно-веселый и самодовольный, тогда как Муртуз-ага весь одна сплошная загадка. Прежде всего, кто он такой, откуда родом? Что он не природный перс, было несомненно, – в нем не было ничего рабски лукавого, ничего приниженного, как у настоящих персов, а вместе с этим не замечалось и присущей азиатам холодной, бессознательной жестокости, стихийно проявляющейся у них во всем решительно. Но если он не был персом, то и за русского принять его было нельзя, несмотря на его уменье в совершенстве говорить по-русски. Тип у него был не русский, и в произношении слышался явно заметный акцент. Так же трудно, как определить народность Муртуз-аги, было не легко угадать и его социальное положение. Он не был человеком из низшего сословия, но и к настоящим интеллигентам причислить его тоже было нельзя. Во всяком случае, он не был европеец; что-то дикое, непосредственное, наивно-патриархальное то и дело проскальзывало в его словах, в манерах, в жестах; иногда он сам замечал это за собой и спешил поправиться, но чаще сам не видел угловатости своих манер.
Протяжный, жалобный аккорд охотничьего рожка, пронесшийся в мертвой тишине пустыни, вывел Лидию из ее задумчивости. Она подняла голову и насторожилась. По тому, как встрепенулись охотники, как торопливо вскинули ружья и сосредоточили все свое внимание на расстилающееся перед ними необозримое море камыша, слегка колеблемое пробегающими по нем порывами ветра, Лидия поняла, что загон начался. Действительно, минуты две спустя ее напряженный слух начал улавливать отдаленный не то вой, не то стон. То тут, то там стали вырываться отдельные возгласы, взвизгивания, свистки. . где-то громко трещали и звенели деревянные и железные колотушки. С каждой минутой шум и гам, производимый сотней голосов, становился все слышнее и скоро слился в одну невообразимую какофонию звуков. Можно было подумать, что целая свора бесов спущена в камыши и неистовствует там, наводя ужас на их чутких обывателей. Лидия Оскаровна почувствовала, как знакомое охотникам увлечение охватило и ее. Она стояла, насторожась, вперив свой пристальный, внимательный взгляд в чащу зарослей; сердце ее усиленно билось, щеки разгорелись, она дышала быстро и нервно. Вдруг она почувствовала на себе чей-то пристальный, тяжелый взгляд; она невольно оглянулась, и глаза ее встретились с парой других глаз, черных и глубоких, как бездонная пропасть.
От волнения лицо девушки еще более похорошело; она стояла на холме, стройная и прекрасная, со слегка раскрасневшимся лицом и сияющими глазами, как какое-то неземное существо, подобно гурии рая, созданной пылкой восточной фантазией. Муртуз поднял глаза, был поражен и стоял, забыв все на свете, будучи не в силах оторвать своего горящего восхищенного взора от обаятельной фигуры девушки.
Только строгий взгляд, брошенный на него Лидией, заставил его опомниться; он быстро опустил глаза и вперил их в камыш.
Лидия, хотя немного и раздосадованная, тем не менее не без некоторого удовольствия подумала о том чувстве ошеломленного восторга, какое она подметила в глазах
Муртуза. При этом, помимо ее воли, в ней шевельнулась мысль, что только один Муртуз обратил внимание на ее волнение, остальные же стояли всецело погруженные в созерцание камышей, с минуты на минуту выжидая появления кабанов.
Третьим стоял Ожогов; между ним и доктором, выбравшим себе крайний номер, помещался Осип Петрович.
Ему и доктору, как сравнительно плохим стрелкам и малоопытным в кабаньей облаве охотникам, на всякий случай было назначено по одному пограничному солдату с примкнутым к ружью штыком. Это на тот случай, если бы раненый кабан бросился на охотника. Ожогову тоже советовали поставить рядом с собой вахмистра Терлецкого, прекрасного стрелка и как человека очень смелого и расторопного, но он не захотел, главным образом совестясь дам, и теперь стоял, колеблемый противоположными чувствами. Как охотнику – ему очень хотелось, чтобы кабаны, во всяком случае самые крупные из них, вышли бы на него, чувство же самосохранения против воли нашептывало: «Э, Бог с ними и с кабанами, пусть выходят на тех, кто лучше меня стреляет».
Ожогов не был трусом, но его смущала неуверенность в своей меткости и ловкости, столь необходимой в этой опасной охоте, где промах или неловкое движение стоит иногда жизни.
Зато Воинов был совершенно спокоен, словно дело шло о каком-нибудь зайце. Он внимательно глядел перед собой, готовый каждую минуту к выстрелу. Что же касается
Муртуза, то после того как он отвел свои глаза от Лидии, он, очевидно, впал в состояние рассеянности, опустил ружье и стоял, не видя ничего перед собой, кроме запечатлевшегося в его мозгу образа девушки. Лидия инстинктом угадала странное состояние его души и готова была ему крикнуть, чтобы он был внимательнее, но в это мгновенье из камыша, как два серых пушистых комочка, выкатилась пара зайцев. Приложив ушки за спину, выпуча глаза, неслись они, не видя ничего перед собой, и с разбега чуть не наскочили на Муртуза. Ошеломленные неожиданной встречей, они разом присели, недоуменно пошевелили ушами, повели носом и вдруг, как бы собравшись с новыми силами, ринулись со всех ног между Муртузом и Воиновым.
В ожидании более интересной добычи те беспрепятственно пропустили их, и бедные испуганные зверьки, не веря своему благополучию, стрелой пролетели через прогалину и скрылись в гребенчуке по ту сторону холмов.
Появление зайцев заставило Муртуз-агу очнуться; он как бы весь встряхнулся и поспешил сосредоточить свое внимание.
– Джановар, джановар89! – раздалось вдруг на одном конце загона, и почти тотчас же из другого конца дикими воплями донеслось: – Дунгуз, дунгуз90!
В камышах, очевидно, были и кабаны, и волки.
Охота обещала быть интересной.
Вопреки зайцам, продолжавшим то в одиночку, то по два и по три стремительно вылетать из камышей и, пропускаемым охотниками, беспрепятственно скрываться за холмами, крупные звери не торопились покидать густую чащу и медленно и осторожно подвигались вперед, пугливо прислушиваясь в одно и то же время и к раздававшемуся сзади них шуму, и к предательской тишине впереди.
Со своего места Лидия и Ольга видели, как шевелился камыш, слышали треск ломаемых сухих стеблей, но зверя пока еще не видно было. Наконец, то там, то сям замелькали среди камыша фигуры загонщиков. Они ехали длинной цепью, равняясь между собой и зорко поглядывая по
89 Джановар – волк.
90 Дунгуз – кабан.
сторонам, чтобы не допустить животных повернуть назад.
На фоне золотисто-желтого камыша яркими пятнами пестрели красные куртки курдов, серые халаты персов и белые рубахи солдат, которые в числе нескольких человек, разместившись вдоль всей цепи, руководили ее движением.
Разномастные лошади, крошечные, тощие, суетливые у курдов, и рослые, раскормленные и несколько ленивые под солдатами, придавали еще большее оживление этой характерной картине. Всадники ехали медленно, шаг за шагом, местами с трудом продираясь сквозь густые заросли, то сжимая, то расширяя свой круг. Время от времени они останавливались, подравнивались и затем снова двигались дальше.
Вдруг в нескольких саженях, прямо перед собой, в густой чаще камыша Лидия увидела какую-то, показавшуюся ей в первое мгновение огромной, серую массу. Не успела она еще сообразить, что за зверь мог это быть, как на прогалину выскочил большой серо-бурый волк. Высоко подняв голову, насторожив уши, он шел широким, размашистым галопом, легко и мягко перепрыгивая, точно перелетая, через низкий кустарник. Очевидно, умный зверь еще не мог уяснить себе, откуда, с какой стороны ждать главную опасность, а потому и не торопился, шел в полмаха, с оглядкой, готовый каждую минуту метнутся в любую сторону. К большому изумлению Лидии, за волком следом, чуть не касаясь носом его хвоста, катил заяц.
Глупый зверек был так напуган несшимся за ним по пятам шумом и гамом, производимыми загонщиками, что, по всей вероятности, не видел и не сознавал, в каком опасном соседстве находится.
Он скакал за волком, как скажет на маневрах лихой корнет-адъютант за сердитым командиром полка, не предчувствуя, что сегодня же вечером будет сидеть на гауптвахте.
Со своего места Лидии прекрасно было видно, как
Муртуз-ага медленно, не торопясь, поднял ружье и приложился. Волк был всего в нескольких шагах и шел прямо на Муртуза, но в ту минуту, когда тот готовился нажать на спуск, хитрый зверь, как бы угадав близость врага, сразу остановился, дал огромный прыжок в сторону и, расправив ноги, с быстротой летящей птицы помчался вдоль камышей, не выскакивая в то же время весь на прогалину. Лидия видела, как мелькала между камышом его серая туша, то скрываясь, то снова показываясь. Муртуз, не рискуя выпустить пулю даром, опустил ружье. Первым выстрелил
Воинов, за ним Ожогов. Оба выстрела очевидно задели волка – он пошел гораздо медленнее, на скаку судорожно низко кивая головой. После третьего выстрела, сделанного
Осипом Петровичем, волк вдруг присел на задние ноги и злобно защелкал зубами. Он не в силах был бежать дальше и только оскалился, глядя на охотников глазами, полными страха и ненависти. Стоявший подле Рожновского солдат спокойно и смело подошел к огрызающемуся зверю и со всего размаха вогнал ему штык между ребер, после чего волк бездыханный свалился на бок.
Не успели покончить с волком, как где-то близко–близко раздалось негромкое, но зловеще-грозное шуршанье, и из камыша поспешно выбежала огромная, неуклюжая, косматая черно-бурая масса, с огромной головой, блестящими длинными клыками и маленькими,
налитыми кровью, горящими как уголь глазами. Это была большая дикая свинья, с целым десятком маленьких, полосатых и миловидно-забавных поросят, суетливо, с громким визгом метавшихся вокруг матери. Низко наклонив голову, хрюкалом до самой земли, и раскрыв чудовищную пасть с блестящими острыми, длинными зубами, свинья неуклюжим скоком направилась прямо на Муртуза-агу. Тот стоял, не спуская с нее глаз, держа ружье на прицеле. Когда свинья приблизилась шагов на пятнадцать, Муртуз, не торопясь, плавно и осторожно надавил пальцем спуск курка. Грянул выстрел, и свинья как подкошенная свалилась на бок, оглашая воздух пронзительным, злобно-болезненным визгом. Она билась и металась по земле, всеми четырьмя ногами взрывая целые тучи черной пыли.
Ошеломленные выстрелом и падением матери поросята в первую минуту приостановились, а затем с пронзительным визгом начали суетиться вокруг нее, бестолково тыкаясь во все стороны, толкаясь и прячась один сзади другого. Несколько раз они разбегались было во все стороны, но тотчас же так же стремительно возвращались назад, издавая жалобное хрюканье. Наконец, видя, что мать их лежит неподвижно и больше уже не бьется, они, словно сообразив что-то, все разом, целой гурьбой, жалобно хрюкая, побежали по прогалине в сторону. Тотчас же загремела частая, торопливая стрельба, и поросята, один за другим, начали падать под пулями охотников до тех пор, пока не были перебиты все до последнего.
XII
Кабан
Прошло несколько минут; загон подошел настолько близко, что уже являлось сомнение, есть ли в камышах еще какая дичь, или она успела как-нибудь проскользнуть назад, как вдруг почти одновременно в нескольких шагах друг от друга выскочили два огромных секача. От облепившего их ила они казались еще больше, еще чудовищнее.. С громким хрюканьем, выставив вперед огромные клыки, они стремительно кинулись, один между Ожоговым и Воиновым, а другой вправо от Муртуз-аги, как раз вдоль подошвы холма, на котором сидели Лидия и Ольга.
В ту минуту, когда кабан находился всего в каких-нибудь двадцати шагах, Муртуз, все время державший ружье на прицеле, спустил курок. Грянул выстрел, и животное как подкошенное сразу повалилось на бок, в предсмертных судорогах отчаянно дрыгая ногами. Пуля попала ему прямо в сердце.
Тем временем с кабаном, выскочившим на Ожогова и
Воинова, вышло далеко не так удачно. Растерявшись от неожиданности, Ожогов упустил удобный момент и выстрелил тогда, когда кабан уже далеко проскочил мимо него. Воинов, из любезности желавший предоставить первый выстрел своему гостю и начальнику, выстрелил после него. Обе пули впились кабану справа и слева в его широкие, мускулистые окорока; животное завизжало от боли, сразу приостановилось и вдруг, круто повернув кругом, ринулось назад, в слепой ярости готовое броситься на первого, кто подвернется ему навстречу. Так как кабан бежал наискось, то ближе всех к нему очутился теперь
Муртуз-ага, на которого он и устремился, свирепо скрипя челюстями и сверкая маленькими, кровью налитыми глазами. Муртуз быстро вложил патрон и, не имея времени прицелиться как следует, торопливо выстрелил. Пуля ударила кабана в морду и хотя сильно ранила его, но не остановила. Второй раз стрелять было некогда. Лидия со своего места видела, как Муртуз отбросил ружье в сторону, быстро выхватил кинжал и опустился на одно колено. В это мгновенье окровавленная, полная пены пасть чудовища почти коснулась его груди. Лидия невольно вскрикнула и зажмурилась.. Она не сомневалась, что Муртуз-ага погиб, но когда мгновенье спустя, она боязливо открыла глаза, ей представилась следующая картина. Муртуз-ага стоял во весь рост, совершенно спокойный, а у его ног слабо трепетала распростертая на залитой кровью земле огромная кабанья туша, с торчащей в левом боку рукояткой кинжала.
В ту минуту, когда кабан готовился полоснуть его своими страшными клыками, Муртуз стремительно отшатнулся вправо и, размахнувшись изо всей силы, глубоко всадил широкий и острый клинок кинжала прямо в сердце животного, которое тут же и свалилось со всех четырех ног, убитое наповал метким ударом.
Все это произошло с быстротой нескольких секунд.
Остальные охотники пришли в себя только тогда, когда кабан уже упал. Все с любопытством бросились к месту происшествия.
– Ура! Муртуз-ага, ура! – закричал Воинов, искренно приветствуя Муртуза и крепко пожимая ему руку. – Ну, вы настоящий герой, право слово, герой!
Другие тоже поспешили пожать руку Муртуза, и каждый торопился высказать свое искреннее удивление его хладнокровию и смелости, а также силе и меткости нанесенного им удара. Муртуз с вежливой улыбкой отвечал на рукопожатие, лицо его было совершенно спокойно, и на нем нельзя было подметить ни малейшего волнения, только в глубине его черных глаз сияло скрытое торжество.
После всех подошла к нему Лидия.
– Поздравляю вас, Муртуз-ага, – произнесла она, дружески пожимая ему руку, – я очень рада, что вы остались целы и невредимы. Признаться, я за вас очень испугалась!
– Благодарю вас, – низко поклонился Муртуз, загоревшимся взглядом смотря в лицо девушки, причем бледные щеки его слегка зарумянились от сдерживаемого волнения, – вы слишком добры; мне даже совестно; такие пустяки случаются почти при каждой охоте на кабанов.
– Хороши пустяки! – воскликнул доктор. – Слава Богу, что это случилось не со мной! – добавил он так искренно, что все невольно рассмеялись.
Тем временем загонщики выехали из камышей и расположились живописными группами на прогалине. Некоторые слезли с лошадей и начали поправлять седловку, другие, съехавшись вместе, оживленно передавали друг другу свои впечатления только что оконченного загона.
Несколько человек приблизились к убитому Муртузом кабану и молча его разглядывали, изредка перебрасываясь между собою отрывистыми замечаниями.
– Господа, а откуда теперь будем гнать и где становиться? – спросил Ожогов.
– Если хотите, – предложил Муртуз, – перейдемте на ту сторону холмов, загон пошлем со стороны реки, он захватит оставшийся в стороне камыш и всю правую сторону.
Там теперь спрятались выгнанные с той стороны зайцы; кабанов и волков уже не будет, они разбежались, а лисицы, пожалуй, есть. Они далеко не бегут!
– А может быть, кабаны не убежали и притаились где-нибудь поблизости? – спросил доктор, не без чувства тайного беспокойства.
– О, нет, – улыбнулся Муртуз, – кабаны и волки, раз их спугнуть, скоро не остановятся. Они бегут безостановочно часа два-три и только, когда очень устанут, останавливаются где-нибудь в глухой чаще и то ненадолго; отдохнут немного и опять бегут дальше, пока не заберутся в такое глухое место, где их уже ничто не потревожит. Я много охотился на своем веку и прекрасно изучил все их привычки и сноровки. Поверьте, теперь, кроме зайцев да лисиц, мы никого не увидим!
Говоря так, Муртуз передал свою винтовку одному из курдов, а в руки взял двухствольное охотничье ружье.
Другие последовали его примеру и заменили картечные патроны патронами, снаряженными дробью.
Бросили жребий, кому где стоять, после чего все разошлись по своим местам, и охота началась снова.
Опять раздались протяжные крики и гиканье загонщиков, замелькали в камышах их яркие одежды, и вскоре на прогалину, как из мешка, посыпались шустрые зайцы.
Заложив уши за спину, подобно серым шарам, кубарем катились испуганные зверьки, суетливо шмыгая между охотниками. Распустив пушистые хвосты, вытянувшись в струнку и мелькая красноватыми спинами, низко припав к земле, молнией промелькнули две-три лисицы; они быстро и часто дышали, оскалив зубы и высунув острый и тонкий язык. Вопреки глупым зайцам, несшимся вперед очертя голову и с разбега натыкавшимся на охотников, лисицы все время внимательно осматривались по сторонам, зорко выглядывая опасность, готовые во всякую минуту вильнуть в сторону перед направленным на них дулом ружья.
Это ясное понимание опасности, это напряжение всех физических и умственных сил в борьбе за жизнь и сознательный ужас перед смертью делали положение лисиц более трагичным и невольно возбуждали к ним, несмотря на их хищность, большую жалость, чем к зайцам. С появлением первых животных по всей линии стрелков поднялась учащенная пальба. Поминутно гремели отрывистые выстрелы, взвивались и медленно расползались в воздухе беловатые клубы дыма; подстреленные зайцы на всем скаку перекувыркивались через голову или оставались неподвижно лежать распластанные на земле, или, вскочив снова на ноги, пытались бежать дальше, но это им не удавалось, и они беспомощно, торопливо ползли вперед, волоча за собой по земле раздробленные задние ноги. Некоторые, тяжело раненные и не будучи в силах подняться на ноги, судорожно бились головой и всем телом о землю, издавая отчаянные вопли, чрезвычайно похожие на крик младенца. Лисицы умирали молча; только когда охотники приближались к ним, чтобы добить их, они издавали что-то похожее на шипение и в бессильной злобе и страхе щелкали зубами.
Лидию Оскаровну, сидевшую по-прежнему на холме, в первую минуту вся эта суматоха живо заинтересовала. Она с восторгом следила за проворными и суетливыми движениями перепуганных зверьков, любуясь их прыжками и быстротой бега, но с первым же выстрелом вся иллюзия исчезла, чувство удовольствия сменилось чувством глубокой жалости и омерзения перед этой беспощадной бойней беззащитных зверьков. Особенно жалко ей было тех зайцев, которые, будучи легко ранены, успевали проскочить сквозь линию стрелков на трех лапах, с болтающейся перешибленной четвертой или с простреленным боком. Со своего возвышения Лидия видела, как за каждым таким истекающим кровью животным с жадным зловещим криком бросалось несколько ворон, круживших целыми стаями тут же неподалеку; растопырив когти, широко распластав крылья, летели они низко-низко над землей, готовые ежеминутно спуститься на спину обезумевшего от страха и боли животного.
Приблизительные, жалобные заячьи крики, раздававшиеся поминутно то там, то здесь, резали ухо, а выстрелы гремели все чаще и чаще. Лидии казалось, что конца не будет этому избиению.
«Господи! – думала она, – и это называется удовольствием!»
В эту минуту неподалеку от холма, на котором она сидела, упал сраженный кем-то большой, жирный заяц. Он лежал неподвижно, как мертвый, до тех пор, пока не стали подходить загонщики. Почуяв возле себя людей, заяц забился и затрепетал всем телом; махая лапками, он тщетно силился подняться и, почувствовав свою беспомощность, разразился вдруг отчаянным, душу леденящим воплем. По мере того как люди подходили ближе, крик зайца делался все протяжнее и трусливее; казалось, вся его заячья душа разрывалась от тоски и ужаса перед неизбежной смертью. .
Лидия заткнула уши, закрыла лицо руками и отвернулась..
Она была близка к обмороку.
С этого момента она поклялась сама себе никогда не участвовать ни в какой охоте.
Большого труда стоило всей компании уговорить Лидию не ехать сейчас же домой. Она согласилась остаться только при одном условии, что больше охотиться не будут.
– Ну, позвольте хотя еще одни загон сделать! – полушутя, полудосадуя приставал к ней Воинов, страстный охотник в душе. – Если уже не хотите, чтобы мы стреляли зайцев, мы будем только лисиц стрелять; ведь лисиц жалеть нечего, они разоряют гнезда птиц и логовища зайцев.
Каждая лисица в год не меньше восьмидесяти зайцев задушит, а сколько птиц – счету нет! Подумайте, сколько зла они принесут!
Но Лидия упорно стояла на своем, и охоту пришлось прекратить, тем более что приближалось время вечера, и все охотники порядком устали. Решено было возвратиться назад, на то место, где утром пили чай, и где, по словам
Муртуз-аги, их ждал обед.
Так как все успели порядочно проголодаться, то предложение Муртуз-аги было принято с удовольствием.
На обратном пути Муртуз ехал рядом с Лидией.
– У вас очень доброе сердце, – заметил он ей, – вам даже зайцев жалко!
– Я вообще не признаю никакого убийства, – произнесла девушка, – и всякий убийца внушает мне ужас и отвращение!
– Даже убийца зайцев? – усмехнулся Муртуз.
– Даже зайцев. Они тоже имеют право на жизнь и лишать их жизни ради удовольствия, очень дурно!
– Бывают случаи, когда приходится убивать не только зайцев, но и людей! – угрюмо произнес Муртуз-ага.
– Я таких случаев не признаю. Кроме, впрочем войны! –
поспешила она поправиться. – Война дело очень нехорошее, но, говорят, неизбежное. Не знаю, насколько это правда; я гляжу на это дело, как принято глядеть всеми: пока война существует, ее поневоле приходится признавать. Но уже помимо войны никаких убийств не должно быть, ни казней, ни дуэлей, ни ради мщения. . Словом, никогда и ни под каким видом человеческая кровь не должна быть пролита, ибо нет такого преступления на свете, которое могло бы заслуживать лишения человека жизни. .
– Да, но если убийство совершено, то что делать, по-вашему, убийце? Чем и как искупить убийство?
– Убийство не искупается ничем, ибо никакое раскаяние убийцы, никакие душевные страдания его, не вернут жизни убитому. В этом-то и весь ужас убийства! Однако,
–засмеялась она, – что это за страшный разговор мы затеяли с вами; от зайцев перешли к убийству. Давайте-ка лучше проскачемте немного!
– У вас хорошая лошадь! – заметил Муртуз, взглядом знатока оглядывая невысокую, но крепкую и красивую лошадку Лидии. – Это делибос?
– Не правда ли? – радостно воскликнула Лидия. – Я
очень рада, что мой Копчик понравился вам. Он действительно прекрасный конь, и я его очень люблю. Вы знаете, я ведь, только приехав на Закавказье, начала учиться ездить верхом. Мне говорили, что это трудно и потребует много времени, а я в три месяца выучилась и езжу, не хвастаясь говоря, недурно. Правда, я езжу почти каждый день. Воинов говорит, что у меня талант к верховой езде!
– Вы, Лидия Оскаровна, природная амазонка! – весело крикнул Воинов, равняясь с ними. – Даю вам слово, я в жизни не встречал ни у кого такой способности к верховой езде, как у вас!
– Ну, да, рассказывайте, «комплиментщик»! – расхохоталась Лидия и, вдруг с легким гиком подняв хлыст и слегка пригнувшись к луке, отдала поводья. Почуяв свободу повода, Копчик горячо рванулся вперед и понесся стрелой по степи, увлекая свою лихую наездницу.. Воинов и Муртуз-ага помчались следом, с трудом поспевая за резвым Копчиком. Остальная компания продолжала идти тем же аллюром, издали любуясь на эту импровизированную скачку.
XIII
«Мравал джамиер»
Обед под тенью шатра прошел очень весело и затянулся до вечера. У Муртуз-аги оказался превосходный повар; по крайней мере, все присутствовавшие в один голос решили, что такой превосходный чахартмы 91 , люли-кебаба 92 и
91 Чахартма (нихиртма, чыгыртма) – в Закавказье тип плова из курицы или баранины, причем приготовление курицы (баранины) в небольшом количестве бульона с пряностями, лимонной кислотой, луком, яйцами происходит отдельно от приготовления откидного риса (собственно плова). При подаче на тарелку горкой кладут рис, окрашенный настоем шафрана, а поверх риса помещают саму чахартму, поливают маслом и посыпают корпией и зеленью.
плова, никому из них еще не удавалось есть нигде. После обеда был подан крепкий душистый кофе, разного сорта варенье, сушеные фрукты и имбирные конфеты персидского изделия, от которых страшно жгло во рту. В коньяке и вине недостатка тоже не было. Для дам был заготовлен лимонад и особый персидский напиток из воды и уксуса, с разными пряностями и духами.
Когда первый голод был утолен, кто-то предложил спеть, по кавказскому обычаю, «Мравал джамиер».
Кроме доктора, все оказались из поющих, даже и
Ожогов, голос которого, хотя уже и разбитый, был еще довольно сносен. В молодости он считался прекрасным певцом.
Воинов и Рожновский пели очень недурно, особенно первый, но лучше всех голос был у Лидии. В институте она считалась лучшей певицей, ей даже советовали идти в консерваторию, но артистическая карьера нисколько не соблазняла ее.
Муртуз-ага не принимал участия в пении, он сидел потупя голову, с побледневшим лицом и опущенными ресницами. Несмотря на его кажущееся спокойствие, Лидия инстинктивно чувствовала, что он сильно волнуется, но не могла хорошенько понять истинной причины этого волнения.
– Славная песня! – задумчиво произнес Ожогов. – Она мне напоминает наши застольные гусарские песни. Я понимаю, за что грузины так любят ее.
92 Люли-кебаб (люля-кебаб) – кушанье из рубленой баранины, лука, острых приправ в виде удлиненных сарделек, при классическом приготовлении каждые 5-6 штук таких сарделек нанизывается на металлический шампур и жарятся они над раскаленными углями.
– Да, песня хорошая, – согласился Муртуз. – Если вам, господа, не надоело, спойте еще раз.
Все охотно изъявили согласие, и Воинов задушевным голосом начал:
Мравал джамиер..
Остальные дружно подхватили, и в вечернем воздухе широкой волной полился стройный, за душу берущий мотив:
Мравал джамиер..
. . . . . . . .
Мертва и небос,
Мертва и небос.
Квени цицоцкле.
Мадлобели вар,
Мадлобели вар.
Лидия во все время пения пристально смотрела в лицо
Муртуз-аге, и вдруг ей показалось, что лицо его дрогнуло, и в глазах отразилось глубокое затаенное горе.
Нико-Нитсо разбойника
Шзни чире мэ,
Шэни чире мэ,
Гули чире мэ,
запел вдруг Воинов, когда все смолкли, известную шутливую песенку тифлисских кинто.
Шэни чире мэ,
Гули чире мэ.
Выводил он, старательно подражая грузинскому жаргону, что выходило у него очень забавно.
Все весело рассмеялись. Даже Муртуз-ага усмехнулся, но затем нахмурился, положил щеку на руку, вздохнул, и вдруг из его груди вырвался дребезжащий, как бы рыдающий звук; звук этот повторился, но еще печальней, еще более унылый и протяжный. Все насторожили уши. Муртуз-ага пел старинную персидскую песню, пел, как поют персы, в одном тоне, то повышая, то понижая голос, по нескольку раз повторяя одно и то же слово. Пение это, похожее скорее на стон, производило какое-то особенное странное впечатление. В первую минуту оно неприятно поражало своею дикостью, хотелось заткнуть уши и бежать, как от чего-то безобразного и нестройного, но, вслушавшись внимательней, ухо начинало улавливать своеобразный, не лишенный музыкальности мотив, весь проникнутый безысходной, душу надрывающей тоской.
Только многовековое, тяжелое, беспросветное рабство могло создать такую песню. Лидия в первый раз в жизни слышала такое пение, и оно вызвало в ней странное двойственное ощущение. Оно и раздражало, и увлекало ее..
Она сидела, устремив пристальный взгляд па побледневшее лицо Муртуз-аги, с полузакрытыми глазами и какой-то особенной скорбной складкой около губ.
Ей очень хотелось проникнуть мысленным взором в душу этого человека и угадать, что он думает и чувствует в эту минуту. Чем больше она присматривалась к нему, тем он казался ей загадочнее и непонятнее.
– Кто он такой? – ломала она голову. – Во всяком случае, не простой перс. Надо сказать Воинову, чтобы он во что бы то ни стало разузнал о нем все, что можно.
– Вы можете сказать нам содержание этой песни? –
опросила Ольга Оскаровна, когда Муртуз-ага наконец умолк. – О чем она?
– Это из Гафиза, – отвечал Муртуз, – молодой воин увидел случайно жену своего владыки и шлет ей свое приветствие, обещает верно служить ее мужу и умереть за него на поле битвы, и за это просит, чтобы она дала ему из своих рук розу, которая растет под ее окном.
– Вот не думал, – воскликнул Ожогов, – чтобы персы были так сентиментальны. Ведь у них женщина обращена во вьючное животное!
– Теперь – да, но во времена Гафиза и в начале появления мусульманства, женщина была совершенно свободна. Она нередко являлась даже правительницей и не только одного какого-нибудь племени, но целого народа; в основе своей Коран относится к женщине с большим уважением и предоставляет ей большую свободу. Вначале так оно и было, но впоследствии муллы создали шариат и адаты, нередко являющиеся прямым противоречием учению Корана!
– Вы убежденный мусульманин? – как бы невзначай спросила Лидия.
– Я очень уважаю и люблю Коран, в этой книге скрыта великая мудрость! – уклончиво ответил тот.
– Жаль, что вы не знакомы с нашим Евангелием; вот бы где вы могли почерпнуть великие истины!
Муртуз хотел что-то ответить, но удержался и промолчал.
Тем временем солнце уже успело скрыться за горы, и наступила ночь. На Закавказье сумерек не бывает. Светлый день почти моментально сменяется ночной темнотой. Яркая луна выплыла на горизонте и осветила фосфорическим светом темные волны реки, застывшей в мертвенном покое, и пустынную, выжженную солнцем степь.
Надо было ехать домой.
Лошади и солдаты давно уже были на той стороне.
У берега тихо покачивались на волнах две лодки с дремлющими в них гребцами.
– Господа, – предложил Ожогов, – не сделать ли нам так? Мне с доктором надо ехать разъездом на соседний пост. Поедемте все вместе на лодке; мы с Аркадием Владимировичем и доктором подвезем вас в Шах-Абад, а сами поедем дальше. Вниз по течению лодка идет хорошо, ночь лунная, светлая, на реке прохладно, не заметим как доедем.
Не правда ли?
– А назад как же? – спросил Воинов. – Против такого быстрого течения на наших тяжелых лодках не выгрести!
– Назад поедем верхами на «очередных», а лодку отправим «бичивой». Я уже не первый раз так делал!
– А солдатам не будет трудно тащить назад лодку? –
осведомилась Лидия.
– Пустую-то? Пустяки, все равно, что так идти, – успокоил ее Ожогов, – да к тому же это ведь та же служба.
Тех, кто потащит лодки, другого не заставят делать и наоборот. Наш пограничный солдат все равно сложа руки никогда не сидит!
Предложение Ожогова всем пришлось по сердцу.
Перспектива проехать 5-6 верст на лодке была несравненно приятнее, чем усталыми и сонными тащиться верхом по пыльной дороге.
Муртуз-ага, у которого в персидском селении Акадыр, расположенном против Шах-Абада, жил один знакомый, захотел тоже ехать со всеми, с тем чтобы, не доезжая
Шах-Абада, ему позволили бы выйти на персидский берег.
Таким образом вся компания, разместившись в двух лодках, весело поплыла вниз по реке, оглашая пустынные ее берега громкими криками и смехом.
На одной лодке сели: Лидия, Воинов, Муртуз и Рожновский, на другой – Ольга, Ожогов и доктор. Кроме того, в каждой лодке находилось по четыре гребца-солдата, а в лодке, где сидели Ожогов и доктор, еще рулевой.
XIV
Встреча с разбойником
В ту минуту, когда лодки тронулись в путь, параллельно им по персидскому берегу потянулась вереница всадников. Это были Муртузовы курды, которым было приказано их начальником сопровождать лодки, ограждая их от могущих последовать с персидского берега выстрелов.
Как черные тени, двигались курды один за другим, то исчезая в густых камышах, то снова появляясь на открытой местности. Их оружие ярко поблескивало в голубоватых лучах месяца, придававших неясным силуэтам всадников причудливые формы. Что-то фантастическое было во всей этой картине.
Лодки, увлекаемые быстрым течением и дружными усилиями гребцов, плавно и ходко скользили по глухо рокочущим волнам; чтобы поспеть за ними, курдам приходилось местами подгонять лошадей. В этих случаях не приученные к рыси курдинские клячи переходили в галоп и скакали короткими и неуклюжими прыжками, отчего сидевшие на них всадники раскачивались, как маятники.
Лидия сидела на корме и задумчиво смотрела перед собой. Вся эта своеобразная, дикая картина сильно действовала на ее нервы и возбуждала в ней какие-то неясные, неуловимые ощущения. Минутами ей казалось, что она участвует в фантастической феерии, подобной тем, какие она видела в детстве: «В восемьдесят дней вокруг света»,
«Путешествие по Африке» и т. п. В то же время она невольно проводила параллель между теперешней своею жизнью и тою, какою она жила еще в прошлом году.
Прошлое лето она проводила на даче в Сокольниках у своей тетки, ездила на музыку, в летние театры, участвовала в пикниках или проводила вечера с подругами. Как все это было не похоже на то, что окружает ее теперь: и природа, и обстановка, и люди! Главное дело – люди. Она вспоминала своих дачных кавалеров, и какими жалкими казались они ей по сравнению не только с Воиновым и
Муртуз-агой, но даже Ожоговым и ее зятем. В летних модных костюмах, в изящно-небрежно повязанных галстучках и уродливо модных башмаках лыжами, в которых и ходить-то было неудобно, они, вооруженные толстыми модными дубинками и поигрывая моноклями и брелоками, ломались около своих дам, как петушки, соперничая между собой изящными манерами и остроумием. Лидии пришел на память один случай, когда встретившийся на аллее дог произвел страшный переполох во всей этой компании.
Кто-то почему-то крикнул: «Бешеная!», и все кавалеры, забыв о своих модных дубинках, растерялись до того, что начали прятаться за дам, один полез на дерево, а двое шмыгнули в первый попавшийся палисадник.
Собака, опустив голову и поджав хвост, пробежала мимо, не взглянув даже на людей, и только когда она исчезла из виду, растерявшиеся кавалеры начали приходить в себя и на посыпавшиеся на них упреки со стороны дам принялись мило отшучиваться, стараясь каламбурами замаскировать свое душевное убожество.
Под впечатлением этого воспоминания Лидия взглянула в загорелое, открытое лицо Воинова, в его серые честные глаза, окинула взглядом всю его могучую фигуру.
«Этот бы не побежал не только от собаки, а от зверя», –
подумала она, и ей невольно припоминались рассказы о нескольких удалых выходках Воинова, про которые ей сообщил Рожновский. Как однажды он с четырьмя человеками, под выстрелами отступавших разбойников, кинулся в реку, переправился по глубокому броду и бросился в шашки на втрое сильнейшего врага. Другой раз, обходя секреты и наткнувшись на вооруженного контрабандиста, он лично задержал его, вырвал у него из рук заряженное ружье в ту минуту, когда тот готов был уже спустить курок, и привел на пост, держа одной рукой за шиворот, а другой угрожая послать ему в голову пулю из револьвера. В начале знакомства с Воиновым Лидии, начитавшейся романов, он показался просто героем, но теперь, после встречи с Муртуз-агой, образ Воинова значительно потускнел в ее глазах.
По сравнению с Муртузом он казался ей теперь ординарным. «Здесь, на границе, много таких молодцов офицеров,
– думала она, – в Муртузе же есть что-то загадочное; в нем, под наружным спокойствием, таится не вполне укрощенный зверь, могучая, страстная натура, с прошлым, исполненным всяких приключений. Много испытавший на своем веку человек, с сильным характером и непреклонной волей!» – охарактеризовала она его мысленно. Лидия украдкой взглядывала в спокойное, бледное лицо Муртуза, сидевшего напротив нее на скамейке, тщетно стараясь прочесть таившиеся в нем мысли, но лицо это было непроницаемо, как маска, и только в его больших черных глазах светилась задумчивая грусть.
Лодки между тем быстро подвигались вперед. Гребцы-солдаты дружно и сильно наваливались на весла. Воинов вначале тоже греб некоторое время вместо одного из солдат, но потом ему надоело, и он пересел на руль.
– Господа! – крикнула вдруг Лидия шедшей сзади них лодке. – Давайте устроим гонку. Вон до того острова, чья лодка раньше к нему причалит!
– Отлично! – отозвался Ожогов, девизом которого было: «Угождай дамам». – Соломенко, – обратился он к рулевому своей лодки, – обгонишь ихнюю лодку, два рубля гребцам на чай!
– Слушаю, ваше благородие! – весело крикнул Соломенко, удало тряхнув головой и вызывающе поглядывая на лодку соперников.
– Ну, ребята, не зевайте! – предупредил своих гребцов
Воинов, – обойдем лодку полковника, от меня два рубля!
– И от меня тоже! – добавила Лидия.
– Надо подровняться, а то вы впереди! – крикнула
Ольга Оскаровна. – Подождите нас!
– Ждем. Ну, раз, два, три!.
Восемь пар весел дружно и с размаха упали в воду.
Началась гонка.
Лодки, на вид очень тяжелые и неуклюжие, в действительности оказались довольно ходкими. Солдаты выбивались из сил, всей грудью наваливаясь на весла. Они высоко поднимали их над водой и широкими взмахами далеко отводили назад.
По мере того как расстояние, отделявшее их от острова, сокращалось, всеми овладело лихорадочное волнение.
Даже дремавший все время доктор оживился и время от времени поощрительно покрикивал на гребцов. Один только Муртуз-ага, по-видимому, оставался совершенно спокойным, но когда лодка противника начала вдруг опережать их, даже и он не выдержал и с загоревшимся взглядом собирался что-то крикнуть, но сдержался, усмехнулся и медленно провел рукой по лицу, как бы сглаживая этим жестом проступившее сквозь него волнение.
Лидия же волновалась больше всех.
– Что же это такое! – повторяла она, чуть не плача. –
Они нас обходят!
– Не беспокойтесь, барышня! – успокаивал ее один из гребцов. – Пущай их идут передом, повымотаются малость, мы их под самым обрывом обчикурим. Ребята, – обратился он к остальным гребцам, – смотри, не зевай; как поравняемся вон с тем камышом, ложись дружней на весла, а главное, сразу и дальше заводи, а вы, ваше благородие, –
обернулся он к сидевшему у руля Воинову, – когда пойдем мимо, сильнее руль направо кладите, мы их тогда враз с фарватера-то ихнего собьем, им уж тогда за нами не потрафить!
– Ты, Олейников, до службы матросом, кажется, был?
– Так точно, на добровольном, не то чтобы настоящим матросом, а так себе, на пароходе состоял при отце! – усмехнулся Олейников и тут же, строго глянув на товарищей, добавил: – Ну, ребята, изготовься, сейчас будет пора!
– Au revoire 93 , – дразня волнующуюся Лидию, приподнял фуражку Ожогов. – Будьте здоровы!
Его лодка шла почти на целый корпус впереди, и оттуда неслись веселые подтрунивания по адресу отставших, но те хранили упорное молчание, искоса взглядывая на быстро приближающийся заросший густым камышом берег.
– Ну, с Богом, – тихо, но отчетливо произнес Олейников, – навались, ребята!
Две пары весел, как крылья чайки, дружно взмахнули в воздухе, лодка дрогнула и, как пришпоренная лошадь, рванулась вперед.
– Раз... раз... раз, – громко отсчитывал Олейников, – ну, ребята, навались, навались, так!.
С третьего взмаха лодки выровняли свои борта. Торжествовавшие уже было победу противники растерялись.
Послышались торопливые понукания. Засуетившиеся гребцы изо всех сил налегли на весла, но второпях сбились, весла легли вразброд, отчего лодка, вместо того чтобы рвануться вперед, словно бы затопталась на месте. Этой неудачей как нельзя лучше воспользовался Воинов и, круто
93 прощайте (фр.).
положив руль вправо, прорезал по самому борту противника.. Еще два-три могучих взмаха веслами, и лодка с разбега ударилась кормой в песчаную отмель острова.
– Ура, наша взяла.. Ура! – искренно торжествуя, закричала Лидия, махая платком, как флагом. . но в эту минуту произошло нечто неожиданное. Шагах в пятнадцати от места, где причалила лодка, в самой чаще камыша что-то зашумело, мелькнула какая-то тень и мгновенно скрылась, почти одновременно с этим грянул эхом прокатившийся над рекой выстрел. Лидия услыхала над самой своей головой жалобно-протяжный свист, точно жужжащая муха пролетела, и в ту же почти минуту на соседней лодке раздался громкий, испуганный крик. Один из гребцов, солдат, выпустил из рук весло, схватился обеими руками за грудь и медленно повалился на дно лодки.
Несмотря на всю неожиданность такого происшествия, привычные солдаты и офицеры не растерялись, и в то время когда Ожогов и доктор наклонились к раненому, Воинов со своими гребцами уже был на берегу. С ружьями в руках все пятеро смело бросились в камыши на розыски дерзкого убийцы.
Лидия была так поражена всем случившимся, что сидела в лодке, не зная; что ей делать, и только растерянно озиралась кругом. В двух шагах от нее на берегу Рожновский успокаивал плачущую Ольгу.
– Где же Муртуз-ага? – мелькнуло в голове Лидии, и она начала искать его глазами, но его нигде поблизости не было.
Никто не заметил, как в ту минуту, когда в камышах мелькнула подозрительная фигура, еще до выстрела,
Муртуз одним скачком выпрыгнул из лодки и бросился вдоль берега, наперерез убегавшему.
Прошло несколько томительных минут. . На острове все было тихо, только изредка трещали кусты, и шуршал камыш под ногами солдат. .
Раненого вынесли на берег, посадили, сняли с него рубаху и осмотрели. К счастью, рана оказалась пустяшной, пуля скользнула вдоль груди, слегка оцарапав кожу. Это даже была не рана, а скорее контузия. Очевидно, на солдатика, оказавшегося несколько слабонервным, подействовала не боль, а неожиданность полученного удара. Убедясь, что никакой опасности нет, Ожогов принялся сердито укорять его.
– Баба ты, братец! – сердито басил он. – Пуля тебя почти и не задела, а ты валишься, как сноп, перепугал всех!
Солдатик стоял, виновато потупив глаза. В эту минуту он, кажется, жалел, что так счастливо отделался.
Товарищи, помогавшие ему выйти из лодки, добродушно и лукаво ухмылялись, глядя на его переконфуженное лицо.
Доктор, разорвав носовой платок, делал перевязку.
– Ваше благородие, – крикнул один из солдат, рукой указывая на реку, – извольте глядеть, вон он плывет!
Все устремили глаза туда, куда показывал солдат, и увидели посредине реки две головы, одну человеческую, а другую конскую. Человек плыл подле лошади, держась руками за ее гриву и направляя ее к русскому берегу. В
обманчивом лунном свете с трудом можно было разглядеть косматую папаху пловца и торчащее из-за его головы дуло ружья.
– Садись в лодку! – крикнул Ожогов. – Может быть, догоним!
Солдаты энергично схватились за весла, и через минуту лодка уже неслась в погоню за беглецом. Почти в то же время на берег острова из камышей выбежал Воинов со своими солдатами. Первым их движением было схватиться за ружья, чтобы послать в пловца несколько пуль, но, увидя спешившую в погоню лодку, Воинов из боязни, как бы своими выстрелами не задеть сидящих в лодке людей, приказал своим солдатам опустить ружья.
– Теперь он уйдет! – с досадой произнес Олейников, стоя рядом с Воиновым и следя за движениями лодки. –
Там сейчас будет отмель, они как раз на нее напорятся, особливо с разбега, а он тем временем к берегу подплывет, сядет на коня и ускачет!
Предсказания Олейникова не замедлили сбыться. Не успел он замолкнуть, как вдруг лодка остановилась в своем стремительном беге и закачалась, наскочив всем дном на песчаный перекат, которыми так изобилует Аракс.
Воинов видел, как двое солдат выскочили из лодки и, стоя по пояс в воде, изо всех сил старались спихнуть ее с места, третий солдат и сам Ожогов помогали им, упираясь в дно отмели веслами.
– Я так и знал! – проговорил недовольным тоном
Олейников. – Было бы лучше из ружей в него вдарить, может быть, какая пуля и зацепила бы, а теперь он свободно уйдет. Вон он уже к берегу прибивается.. Сел. . Ну, теперь шабаш, ушел!
Татарин, приблизившись к берегу, где вода была настолько мелка, что лошадь уже могла идти, быстро вскочил в седло и погнал лошадь в прибрежные кусты; не успел он, однако, проехать и нескольких шагов, как на дальнем конце острова сверкнуло яркое пламя, и грянул выстрел. Беглец закачался в седле, запрокинулся навзничь и медленно и тяжело, как куль, свалился в воду. Волны жадно подхватили его тело, подбросили раза два на своих пенистых гребнях, закружили и повлекли вниз. . Освободившаяся лошадь вскачь вынеслась на крутой берег и быстро исчезла в кустах.
– Кончена комедия! – сказал Воинов, возвращаясь со своими солдатами к лодкам. – Молодец Муртуз, это ведь он подстрелил татарина. Я-то стрелять не мог, с моего места опасно было, чтобы не попасть в лодку, а он забежал вперед и с того конца выстрелил. . Метко бьет, без промаха. А
вот и он идет!
Муртуз шел, не торопясь, неся ружье в руках; лицо его, по обыкновению, было спокойно.
– Знаете, кто этот татарин? – спросил Муртуз, подходя к
Воинову. – Кербалай-Аскер, каторжник. Он года два тому назад , бежал у вас с каторги, поселился в Персии и начал разбойничать и контрабандировать. Мне сердар давно приказывал его поймать, да все как-то не удавалось, а сегодня, как нарочно, сам подвернулся. Он, должно быть, хотел контрабанду к вам провезти.
– Чего он, дурак, стрелял! Притаился бы в камышах, мы бы его и не заметили!
– А уж это такая натура разбойничья! Не утерпел, чтобы не выстрелить: соблазн велик. К тому же он понадеялся на лошадь, думал, успеет ускакать!
– Чуть-чуть и не ускакал! Если бы не вы – ушел бы,
наверняка!
Весь этот неожиданный переполох испортил всем настроение. Муртуз-ага стал проситься перевезти его на персидскую сторону, что и было исполнено. Когда лодка причалила к берегу, он наскоро простился со всеми и выскочил на песчаную отмель, где его ожидал высокий, мрачного вида курд, держа под уздцы лошадь.
Муртуз ловко вскочил в седло, приосанился и поскакал от берега, сопровождаемый всем своим отрядом.
– Какой молодец! – невольно вырвалось у Воинова, с удовольствием следившего за всеми движениями Муртуза.
Лидия промолчала. Она все еще находилась под впечатлением разыгравшейся перед ней драмы.
«Убили человека, точно куропатку подстрелили; ничего, как будто бы так и быть должно!» – думала она с затаенным ужасом.
Всю остальную дорогу она сидела молча, подавленная нахлынувшими мыслями, тревожно роившимися в голове.
Она думала о Муртузе, произведшем на нее сегодня такое сильное и вместе с тем разностороннее впечатление. Он очень нравился ей, возбуждал любопытство, но в то же время вселял ужас, смешанный с отвращением.
– Сколько людей убил этот человек на своем веку? –
спрашивала себя Лидия.
«Во всяком случае не одного и не двух!» – давала она сама себе ответ, и при этом жуткая дрожь пробегала по ее телу.
XV
У таможенного парома
Селение Шах-Абад, где стояла шах-абадская таможня, соединялось с персидским селением Акадыр посредством двух паромов, русского и персидского, ходивших по реке на толстом железном канате. Персидский паром был не велик и постоянно был в неисправности, на нем переправлялись только разные персидские беки, ханы и богатые купцы, простой же народ и товары возились исключительно на русском пароме, отличавшемся своими большими размерами и чрезвычайно прочной конструкцией.
Для верблюжьих караванов версты на полторы ниже паромов был брод, через который, для выигрыша времени и удобства, купцам было разрешено возить товары на верблюдах, не разгружая их, но под наблюдением солдат пограничной стражи.
Переправа на паромах начиналась с 9 часов утра и продолжалась до заката солнца, под непосредственным надзором таможенных солдат. С заходом же солнца русский паром запирался цепью на замок, поверх которого прицеплялась еще свинцовая пломба, и к нему ставился часовой от пограничной стражи, на обязанности которого лежало – не допускать никого к парому, а также следить, чтобы персидский паром, остававшийся на ночь у персидского берега, не причаливал к русскому.
Наблюдение за порядком при переправах на паромах лежало на старшем таможенном досмотрщике, но в исключительных случаях, при сильном наплыве пассажиров94 и товаров на берег, командировался иногда канцелярский чиновник.
Старшим досмотрщиком при шах-абадской таможне был отставной фельдфебель Илья Ильич Сударчиков.
Это был старик лет шестидесяти, невысокого роста, широкоплечий, с длинными седыми бакенбардами и суровым лицом.
Несмотря на легкую сутуловатость и некоторое колебание в походке, приобретенные им на долголетней службе, старик выглядел еще молодцом, чему способствовала широкая грудь, увешанная крестами и медалями. Большая серебряная медаль на шее внушительно выглядывала из-за бакенбард и вселяла глубокое почтение толпящимся у парома мушам.
Стоя на берегу, с целой пачкой тэскэре95 в руках, Сударчиков неторопливо и степенно совал их в протянутые руки грязных, оборванных персов-рабочих, робко теснившихся вокруг него.
– Кэрбалай-Аласкэр! – выкрикивал он, строго глядя в надвинувшиеся со всех сторон, торопливо дышащие, обожженные солнцем лица. – Машады-Измаил! Абудул-Мамед-оглы! Кэрбалай-Зэйнал! Ну, что же вы? Подходи, что ли!
Вызываемые приближались, брали из рук «старшего»
свои замасленные, пропитанные потом тэскэре и, засунув их за пазуху, трусцой бежали к парому, где шла невообразимая суматоха. Здесь целый табун вьючных ослов
94 «. .при сильном наплыве пассажиров.. » – здесь: все лица, переправляющиеся на пароме через границу, именуются пассажирами.
95 Тэскэре – здесь: персидский паспорт.
сбился в одну кучу и меланхолично потряхивает ушами, под крик и брань о чем-то отчаянно спорящих между собой погонщиков. Там, дальше, огромный облезлый верблюд, издавая жалобный рев, осторожно и неохотно опускается на колени, подле груды каких-то ящиков, другой уже лежит, и два оборванных, невообразимо грязных татарина в косматых папахах, с громкими криками, торопливо навьючивают на его израненную под седлом спину неуклюжие деревянные ящики. Верблюд, закинув голову, испускает пронзительные стоны, точно апеллируя ко всему свету на жестокое обращение с ним людей.
Время от времени он умолкал и принимался злобно скрежетать огромными, длинными желтыми зубами, которыми мог бы, при желании, легко оторвать голову своему вожаку. Тут же, неподалеку, жалось друг к другу десятка четыре овец, около которых суетилось несколько татар, для чего-то разбивая их на два стада. Овцы пугливо блеяли, перебегали с места на место; отбитые в сторону, всеми силами старались вновь соединиться с товарками, запыхавшиеся татары отчаянно голосили и махали палками, увеличивая и без того царящий кругом шум и гам. Седобородый мулла в белой чалме и в таком же поясе, угрюмо насупясь, сосредоточенно тянул за повод тощую, рыженькую, беломордую клячонку, оседланную высоким, неуклюжим куртинским седлом, с притороченными к нему туго набитыми хурджинами. Лошаденка, вытянув тощую шею, едва передвигала ноги, уныло пошевеливая хвостом, настолько длинным и пушистым, что, казалось, не хвост служил принадлежностью лошаденки, а, напротив – лошадь была дана в придачу к своему не по росту пышному хвосту.
Несколько курдов в живописных костюмах, увешанные целым арсеналом оружия, лениво облокотясь на седла своих крошечных лошадок, с терпеливым достоинством выжидали очереди, презрительно поглядывая на снующих мимо них персов. Когда паром нагружался людьми, товаром и животными до положенной нормы, Сударчиков махал рукой паромщику, канат натягивался, и паром, тяжело отвалив от берега, начинал медленно пересекать реку. Через некоторое время он возвращался обратно, привозя новую толпу людей, лошадей, ишаков, овец, которые, как только борт парома касался сходен, стремительно, точно спеша спастись от погони, бросались на берег, толкая и обгоняя друг друга.
Прибывшие из Персии «пассажиры» собирались в одну толпу и под конвоем двух солдат пограничной стражи следовали на таможню для визирования своих паспортов и предъявления к осмотру привезенных с собой вещей. Для тех, кто был хорошо одет и ехал на хороших собственных лошадях, делалась небольшая поблажка: их не заставляли ждать, пока партия соберется, а отправляли в таможню немедленно.
– Илья Ильич, – почтительно доложил младший досмотрщик, состоявший у Сударчикова в помощниках, –
извольте взглянуть, никак хан Акадырский едет!
Он указал пальцем на приближающийся персидский паром, на платформе которого стояло несколько пестро одетых всадников. Впереди всех на рослом сером, блестевшем, как серебро, жеребце сидел мужчина, одетый в персидский полукафтан и папаху с гербом. Сзади его, держа лошадей в поводу, стояло двое курдов в ярко-красных бархатных куртках и пестрых поясах. На голове у них были черные чалмы из шелковых платков, с выпущенной на глаза бахромой. Седла и чепраки их рослых и статных коней были расшиты шелком.
– Нет, это не хан, – пристально вглядываясь в лицо всадника, произнес Сударчиков, – хан много старше, ростом ниже и из себя плотнее, это какой-то незнакомый, я его впервой вижу. Должно, какой бек знатный или чиновник ихний!
Паром, тем временем, подошел к берегу; стоявшие до того смирно, лошади заволновались, особенно серый жеребец находившегося впереди всех всадника. Не успели паромщики настлать кое-как доски сходен, как он уже горячо рванулся вперед, но, почувствовав под ногами пляшущие, как клавиши фортепиано, доски, испугался, взвился на дыбы и одним огромным скачком, птицей перелетел на берег, не касаясь предательских сходен копытами. Сопровождавшие всадника курды осторожно провели лошадей в поводу.
– Ким адам96? – спросил Сударчиков, подходя к всаднику, с трудом сдерживавшему на строгом мундштуке разгорячившуюся, нервно танцующую лошадь,
– Муртуз-ага, секретарь Суджинского сардаря, – отвечал тот по-русски, – я к управляющему таможней!
– Пожалуйте! – повел рукой Сударчиков.
Муртуз-ага толкнул лошадь широкими стременами к коротким азиатским галопом поскакал к таможне, отсто-
96 «Ким адам?» – Кто такой? Что за человек? Здесь: адам – человек, согласно библейской легенде.
явшей от берега менее чем в версте расстояния. Сударчиков проводил его глазами и задумался.
– Лицо как будто бы знакомое; где я его видел? Сюда, в таможню, он никогда не приезжал, а между тем мне ясно помнится, словно бы я с ним где-то встречался. Или, быть может, похожий на него; они, басурмане, все на одно лицо, немудрено, что и смешаешь!
В это время подошел русский паром; целая толпа «пассажиров» с криком и гамом повалила мимо Сударчикова и отвлекла его внимание.
Лидия Оскаровна сидела в своей комнате у окна, когда увидела проскакавшего мимо сада Муртуз-агу. Хотя на охоте Рожновский и звал Муртуза к себе в гости, но тот отвечал так уклончиво и неопределенно, что Лидия вывела заключение о нежелании, по известным ему одному причинам, приехать в Россию, а потому внезапное появление
Муртуза явилось для нее крайней неожиданностью, немного даже взволновавшей ее.
– Ольга, Муртуз-ага приехал! – сказала Лидия, торопливо входя в столовую, где сестра ее что-то шила. –
Должно быть, к нам в гости!
– Ну, что ж, – спокойно произнесла Ольга Оскаровна, –
милости просим. Я думаю, он согласится с нами пообедать; он, кажется, не фанатик!
– Разумеется! – подтвердила Лидия и поспешила к себе в комнату, привести в порядок свой домашний, несколько небрежный костюм.
– Mesdames97, – весело произнес Рожновский, входя в
97 мадам (фр.).
гостиную, куда Ольга и Лидия успели уже выйти, угадайте, кого я вам привел?
– Муртуз-агу! – весело крикнула Лидия. – Не стройте секрета, я сама видела из окна, как он подъехал к таможне!
– Глазки дам, за орлиные не отдам! – по своей привычке говорить иногда двустишиями, произнес Рожновский. – От вас ничего не скроется. Угадали, Муртуз-агу! Он пока еще в таможне, но сейчас придет. Кстати, Олечка, – обратился
Рожновский к жене, – имей в виду, я его пригласил обедать!
– Ну, так что же? Небось, хватит всем, только не знаю, понравится ли?
– Понравится. Ты ведь у меня хозяюшка первый сорт. .
А вот кстати и он! – дверь отворилась, и в комнату, неслышно ступая по разостланному ковру, вошел Муртуз.
Увидя дам, он учтиво поклонился и поспешил дружелюбно пожать протянутые руки.
– Милости просим, – радушно приветствовала его
Ольга Оскаровна, – прошу, садитесь. Мы вас давно поджидали. Думали, что вы уже и не приедете!
XVI
Неожиданный гость
– Дела были; к тому же, сардар не любит отпускать своих приближенных в Россию. Надо было выбрать удобную минуту, чтобы получить разрешение!
– Почему же? – спросила Лидия.
– Аллах его ведает! – рассмеялся Муртуз. – Может быть, боится измены. Надо вам знать, он у нас очень болезненный и через это чрезвычайно мнительный и подозрительный. Чуть что, сейчас в измене обвинит; ему и так все мерещится, будто бы Россия хочет завладеть Суджинским ханством!
– Но раз уже вы вырвались, – засмеялась Ольга Оскаровна, – то надеюсь, вы к нам на целый день, будем обедать вместе. Не правда ли?
Муртуз вместо ответа низко склонил голову, Лидия, сидя у окна так, чтобы не быть прямо у него на глазах с любопытством разглядывала его. На этот раз Муртуз показался ей несколько иным, чем там, на охоте, но она долго не могла решить, был ли он сегодня лучше или хуже.
– Он сегодня более европеец, – решила она наконец, – и это, пожалуй, идет к нему!
Действительно и в одежде, и в манерах Муртуз-аги была большая разница. Мундирный кафтан из тонкого темно-синего сукна был, вопреки персидскому обычаю, застегнут на все пуговицы, из-под ворота выглядывали крахмальные воротнички, а из рукавов белоснежные манжеты, по борту шла золотая цепочка. Войдя в комнату, он снял свою папаху, чего персы тоже не делают, оставаясь всегда в головном уборе. Обычай не снимать шапок настолько прочно вкоренился у персов, что русское правительство сочло возможным, как своим подданным мусульманам, так и персидским, разрешить оставаться в шапках даже и там, где для всех прочих снимание головного убора признается обязательным, как, например, в суде, в присутственных местах и т. п.
В городе Ереване, во время богослужения в царские дни, в кафедральном соборе персидский консул присутствовал с надетой на голове папахой.
Держал себя Муртуз-ага тоже несколько иначе. Не прикладывал так часто руку к сердцу и не отвешивал низких, подобострастных поклонов.
– А вы знаете, я к вам с просьбой, – начал Муртуз-ага после первых незначительных фраз; обращаясь к Рожновскому, – не согласитесь ли вы с вашими дамами и тем офицером, что был с нами на охоте, пожаловать к нам в
Суджу? Там много интересного: увидите, как живут наши ханы, посмотрите их дворцы, наконец, сама местность очень интересна. Суджа напоминает немного Северный
Кавказ. Я уверен, если вы согласитесь приехать, то не раскаетесь!
– А как далеко до Суджей? – осведомился Осип Петрович. – И как туда проехать?
– Я думаю – и пятидесяти <верст> не будет, а ехать можно сначала до селения Тун в экипаже, а оттуда уже верхом, так как за Туном дорога пойдет ущельем, и на колесах ехать почти невозможно; до Туна же дорога очень порядочная!
– А до Туна сколько верст?
– Больше половины, так что верхом вам придется проехать не особенно много, верст 18-20. Зато дорога чрезвычайно интересная. Все время ущельем, по склонам гор; виды восхитительны, вы просто залюбуетесь. К тому же там горы не такие, как здесь, совершенно обнаженные, без всякой растительности; наши горы покрыты лесом и кустарниками, в которых водится очень много дичи, горные козлы и даже медведи. Медведей мы, разумеется, не встретим, но козлов можем увидеть, правда, издали, как они прыгают со скалы на скалу!
– Что же я, пожалуй, не прочь, вот только как дамы! –
согласился Рожновский. – Мне, признаться, самому давно хочется побывать в Персии подальше от границы, а то я за четыре года, что живу здесь, бывал только в приграничных селениях, да и то на какой-нибудь час, не больше!
– Ну, а об нас и толковать нечего! – воскликнула Лидия.
– Мы, разумеется, едем с восторгом, не правда ли, Ольга?
– Конечно, такая поездка очень интересная вещь, и я охотно поеду. Воинов тоже наверное поедет!
– Разумеется, в этом не может быть никакого сомнения, мы ему просто-напросто прикажем. Теперь только надо выработать план поездки. Экипажи мы где достанем?
– Надо будет нанять фаэтонщиков из Нацавли. Они часто ездят в Суджу; из Нацавли туда есть даже прямая колесная дорога. Не правда ли?
– Есть, – кивнул головой Муртуз, – но эта дорога крайне неприятная, очень пустынная, каменистая и скучная. Мы поедем прямо отсюда!
– А как же с верховыми лошадьми? – поинтересовалась
Лидия.
– Верховых лошадей я вам доставлю сколько угодно.
– О, нет! – замахала руками Лидия. – Я если поеду, то только на своем Копчике; на другую лошадь я не сяду ни под каким видом!
– Если желаете, то это легко устроить: накануне поездки я пришлю за вашей лошадью двух своих надежных курдов, они доведут ее до Туна и там заночуют. Что касается меня, то я со своими людьми встречу вас у самого парома на персидской стороне и буду провожать до Суджей. В Туне мы устроим привал, слегка закусим, вы сядете на ваших лошадей, и к вечеру мы уже будем в Судже!
– Великолепно; ах, как я рада! – захлопала Лидия в ладоши. – Вы, Муртуз-ага, право премилый!
Муртуз слегка вспыхнул и опустил глаза.
– Помилуйте, – произнес он, – ваше посещение нам, суджинцам, будет большая честь и радость. Сардар сам хотя и болен, но будет искренно счастлив вас видеть!
– Когда же мы поедем?
– Я думаю, лучше всего в начале будущего месяца.
Теперь еще чересчур жарко, а в первых числах сентября будет прекрасно! – заметил Рожновский. – В сентябре по утрам и к вечеру становится уже прохладно, а потом и дорога не так утомительна. Не правда ли, Муртуз-ага?
– Хотя для меня чем скорее вы приедете, тем приятнее, но, говоря откровенно, вы правы. Теперь действительно еще жарко, но в первых же числах сентября будет как раз впору. Надо вам знать, что в самых Суджах климат суровее, нежели в долине, а потому позднее начала сентября там уже значительно холодно, особенно по ночам.
– Нет, зачем же позднее! – возразил Рожновский. – Я
надеюсь, мы соберемся числа 5-го, 6-го; надо только с
Воиновым условиться. Может быть, он сегодня вечером подъедет. Мы вместе все и обсудим, что и как, а теперь не пора ли обедать? Ты как, жинка, думаешь?
– Сейчас прикажу накрывать – ответила Ольга Оскаровна и вышла распорядиться по хозяйству.
– Вы что же, Лидия Оскаровна, – обернулся Рожновский к девушке, – так далеко сели? Садитесь поближе и будем балакать, пока жинка нам обед справляет.
Лидия пересела на диван против Муртуза.
Она была одета в светлую голубую кофточку, с вырезанным воротом и широкими рукавами. Серебряный кавказский пояс на галунной тесьме туго перетягивал ее стройную талию. Густые, пепельно-белокурые волосы были высоко подобраны и укреплены на маковке длинной булавкой в виде стрелы. Целый каскад мелких завитков ниспадал на ее высокий белый лоб.
Муртуз-ага с нескрываемым восхищением любовался молодой девушкой. В этом костюме она казалась ему еще лучше, чем в амазонке.
Если бы была его воля, он, кажется, сидел бы и только смотрел ей в лицо, молча, ничем не развлекаясь, никакими разговорами. Требовалось большое усилие воли с его стороны, чтобы заставить себя не смотреть ей прямо и пристально в глаза, в эти чудные, темно-темно-голубые глаза, казавшиеся по временам черными, с изящными, словно кистью художника нарисованными бровями.
Слушая мелодичный голос девушки, Муртуз-ага с трудом улавливал смысл слов и только глядел, как шевелятся ее красивые, пунцовые губы, как задорно сверкают за ними ее белые, ровные-ровные, изящные зубки.
«Если бы рай Магомета не был выдумкой мусульманской фантазии, и в нем действительно жили бы гурии, они не могли бы быть лучше», – думал Муртуз, любуясь Лидией.
Лидия не ошиблась. Только что успели встать от стола с чашками турецкого кофе перейти в гостиную, как приехал
Воинов. Он очень часто посещал Рожновских. Если служба и занятия не позволяли ему пробыть весь вечер, он довольствовался тем, что, справившись о здоровье, сидел минут пятнадцать-двадцать, после чего уезжал назад к себе. Ни для Осипа Петровича, ни для Ольги Оскаровны не было тайной, что Воинов без ума влюблен в Лидию, и так как он был им обоим весьма симпатичен, то они и не находили нужным мешать дружескому сближению между молодыми людьми. Вначале, с первых дней знакомства, отношения Лидии к Владимиру Аркадьевичу были весьма дружественные: он заметно ей нравился, и она находила большое удовольствие в его обществе, но за последнее время в обращении Лидии с Воиновым была заметна какая-то нервность; иногда она бывала с ним особенно любезна, даже ласкова. Иногда же, ни с того ни с сего или принималась зло над ним подтрунивать, или совершенно игнорировала его присутствие. В такие дни на Воинова было жалко смотреть; он как-то весь съеживался, робел, не знал, что и как говорить, чтобы не усилить дурного расположения девушки, старался угождать ей и благодаря всему этому становился, действительно, немного смешным.
– Лидия, – пробовала Ольга Оскаровна урезонивать сестру, – ты просто невозможна в своем обращении с
Воиновым, ты на каждом шагу обижаешь его!
– Ах, он настоящий теленок. Знаешь, такие бывают породистые, полуторагодовалые бычки, очень сильные и, пожалуй, страшные, когда разозлятся, но в обычном своем состоянии добродушно туповатые.. Понимаешь, что я хочу сказать?
Ольга Оскаровна пожимала плечами и недовольно отворачивалась от сестры.
На этот раз Лидия была в очень хорошем расположении духа и встретила Воинова весьма любезно.
– Вас только недоставало! – воскликнула она, протягивая ему руку. – Мы проектируем поездку в Суджу, и я вперед дала за вас согласие!
– Отлично сделали, – влюбленными глазами глядя на девушку, произнес Воинов, – раз вы едете, я, разумеется, буду счастлив сопровождать вас!
– Муртуз-ага обещал приехать со своими курдами к нам на встречу, так что опасности никакой быть не может! –
добавила девушка с какой-то неуловимой, особенной интонацией в голосе, которую различить могло только ухо влюбленного.
– Если вы, Лидия Оскаровна, – вспыхнул Воинов, –
сообщением об отсутствии опасности хотите успокоить меня, то, уверяю вас, что я о ней не думал!
– Какое же может быть сомнение! – задорно воскликнула девушка. – Разве мы не знаем, что вы известный рыцарь Баярд, без страха и упрека!
Оно понятно
И для детей, и для детей,
Что жизнь приятна,
Но смерть честней..
шаловливо пропела она и вдруг скороговоркой добавила, как бы про себя: «но только зачем всем и каждому в нос тыкать своей храбростью!»
Воинов покраснел, хотел что-то сказать, но удержался и отошел к Ольге Оскаровне. Он чуть не плакал от обиды и огорчения.
«Вот и всегда так, – думал он про себя с мучительной тоской, – сначала любезна, мила, а через минуту начинает язвить, – и за что?»
Муртуз-ага, бывший свидетелем всей этой сцены, сделал вид, будто ничего не заметил, и поспешил заговорить о лошадях.
– Я понимаю,– начал он, – что вы, Лидия Оскаровна, любите вашего Копчика, это действительно прекрасный конь, но когда вы приедете в Суджу, вот там вы увидите лошадей. . Наши ханы развели собственную породу, прекрасные лошади, рослые, статные, красивые, по виду –
настоящие арабы!
– Вы, кажется, опять пикировались с Лидией? – спросила Ольга Оскаровна подсевшего к ней Воинова.
Тот принужденно улыбнулся.
– Лидия Оскаровна все надо мной подтрунивает! –
сказал он, деланно веселым голосом.
– У ней уже такой характер! – постаралась успокоить его Ольга. – Она и на наш с мужем счет не прочь пройтись, только бы случай представился!
Лидия между тем с большим любопытством расспрашивала Муртуз-агу об обычаях его страны. Ее очень интересовали свадебные и похоронные обряды персов, взаимные отношения членов семьи между собой, государственный строй ханства и быт его жителей.
Муртуз рассказывал охотно и настолько интересно, что мало-помалу и остальные члены компании подсели ближе, желая послушать его рассказы.
– Положение женщины у нас, – говорил Муртуз, –
действительно ужасное. Особенно в простом сословии она не имеет никаких прав, и жизнь ее совсем не обеспечена.
Еще здесь, у русских, благодаря строгости законов и судебно–медицинскому следствию, женщины, хоть немного, да ограждены от насилия; у нас же, в Персии, убить жену так же легко, как всякое домашнее животное, если только у нее нет могущественных родственников, которые пожелали бы заступиться за нее. Впрочем, последнее случается очень редко, ибо по нашим адатам никто не имеет права вмешиваться в семейные дела другого, хотя бы ближайшего родственника. Если позволите, я расскажу вам два случая, из которых вы увидите, в каком беззащитном положении находится наша женщина.
XVII
Людская злоба
– Года три тому назад, – начал Муртуз свой рассказ, – в одном селении проживал молодой бек98 – человек не богатый, но и не бедный. Отец у него умер, а всем домом заправляла мать-старуха. У бека были две сестры, одна вдова, другая еще девушка. Молодой бек – звали его Кербалай-Мустафа-Машади-Аласкер-оглы99, занимался, как и
98 Бек (у турок – бей, в Туркестане – бий, бай) – здесь: в смысле дворянин. Титул «бек» присваивался: 1. Людям «благородного» происхождения в отличие от низших классов и от членов царствующего дома. 2. Князьям или вождям небольших племен в отличие от кагана или хана – вождя более крупного государственного образования. 3.
Должностным лицам – военным и чиновникам. Слово «бек» ставится обычно после собственного имени.
99 «.. звали его Кербалай-Мустафа-Машади-Аласкер-оглы. .» – на Востоке в прозвище входит и имя отца. Например, если сына зовут Мустафа, а отца его звали Аласкер,
большинство наших беков, скупкой и перепродажей пшеницы и хлопка. По роду своих занятий ему приходилось часто отлучаться от дому и разъезжать по разным селениям и местностям. Вот в одну из таких поездок он случайно увидел в одном селении молодую девушку, произведшую на него сильное впечатление. Он тут же познакомился с отцом девушки и стал ее сватать себе в жены. Старик отец согласился, но заломил слишком большой кэбин. Кэбин –
это плата отцу невесты. Долго спорили, торговались, наконец условились так, чтобы Мустафа уплатил половину выкупа и брал себе в дом невесту, но с тем, чтобы окончательно свадьба была совершена только после того, когда жених уплатит и вторую половину кэбина. Это было необходимо еще и потому, что невеста была слишком молода, ей не было 12-ти лет. Раньше этого возраста браков не заключают, делают только нечто вроде вашего обручения.
Так поступил и Мустафа, обручился со своей невестой, уплатил тестю половину кэбина и повез девушку домой, но тут его ожидала большая неприятность. Старуха мать страшно рассердилась узнав о поступке сына. С одной стороны, она нашла, что кэбин слишком велик, и невеста его не стоит, с другой, а это главное, она рассчитывала женить своего сына на сестре покойного мужа своей дочери-вдовы. Благодаря такому браку, по нашим адатам, все
то имя сына составляется так: Мустафа-Аласкер-оглы. Оглы – сын, а также голова. Если человек имеет титул Кербалая, Машади и Гаджи, то титул при этом ставится впереди имени, равно как и титул отца. Например, если Мустафа был Кербалай, а отец его Аласкер-Машади, то выходит следующее: Кербалай-Машади-Аласкер-оглы. Титул Кербалая получают те, кто побывал в паломничестве в гор. Кербалае, титул Машади присваивается посетившим в паломничестве город Мешед (Мешхед), а титулом Гаджи (хаджи), самым почетным, награждается съездивший на поклонение гробу Магомета, в Мекку.
имущество переходило в род Мустафы. Однако делать было нечего. Расторгнуть обручение не представлялось возможным: Мустафа, искренно полюбивший свою девочку-невесту, слышать не хотел об этом, да к тому же подобное расторжение представлялось и крайне невыгодным, так как в случае отказа жениха от невесты уплаченная половина кэбина не возвращалась. Таким образом, отец невесты получал и девушку назад, которую он мог снова отдать другому за такой же кэбин, и порядочную сумму денег, полученную от Мустафы.
Надо было предпринять что-нибудь другое, и старуха, недолго думая, решила убить девочку. Это было тем выгодней, что, по условию если невеста умрет раньше совершения брака, отец должен был возвратить полученную с жениха часть кэбина. Однако, решившись отделаться от невесты, старуха должна была действовать крайне осмотрительно, ибо в случае открытия преступления, ей, с одной стороны, угрожал гнев сына, а с другой – судебное преследование отца невесты, который, если не из любви к дочери, то из нежелания возвратить полученную часть кэбина и стремясь дополучить остальную, не позволит замять дела и выведет убийство на чистую воду, а в этом случае у нас, в Судже, расправа короткая, банка керосина на голову и кусок горящей ваты за пазуху. Сознавая, что одной ей не привести в исполнение свой план, старуха открылась старшей дочери-вдове, которая, будучи заинтересована в смерти девочки, охотно взялась помогать матери. Много планов перебрали они обе, но не один не оказывался подходящим. Тонких, медленно действующих ядов у нас не знают, а смерть от грубой отравы сейчас же возбудила бы подозрение.
Задушить, спихнуть в пропасть, утопить тоже было неудобно, принимая во внимание отца невесты. Надо было изобрести что-нибудь потоньше, позамысловатей. Пока женщины изобретали план убийства, время себе шло да шло. Подходил срок совершения свадьбы. Мустафа скопил требуемую сумму и уже назначил день, когда он решил поехать к отцу невесты отвезти ему вторую половину кабина, как вдруг в доме его случилось несчастье. В одно утро старуха велела своей будущей невестке принести ей горсть муки. Мука находилась в мешке, помещавшемся в задней комнате, служившей кладовой. Не успела молодая девушка скрыться за дверью кладовки, как раздался отчаянный пронзительный вопль, и через минуту она выбежала назад бледнее полотна, с искаженным от ужаса лицом.
Держа высоко над головой правую руку, из которой капала кровь, она отчаянным голосом вопила:
– Юрза, юрза!
– Что случилось, что такое? – с напускной тревогой в голосе начала расспрашивать старуха, мать Мустафы. –
Отчего у тебя кровь?
– Меня ужалила юрза! – трагическим голосом закричала молодая девушка. – Только я открыла мешок и сунула в него руку, как почувствовала, что меня что-то сильно укололо, я взглянула, а в мешке – юрза100. Пошлите скорей за хакимом101.
100 Юрза (гюрза) – очень ядовитая змея в Закавказье и Средней Азии.
101 Хаким – доктор, врач–знахарь.
Старуха, продолжая разыгрывать роль испуганной и страшно огорченной, сама побежала к проживавшему в том селении знахарю, но по дороге, как назло, ей то и дело встречались соседки, которым она не могла не рассказать о поразившем ее несчастье. Благодаря этим остановкам, а отчасти и тому, что глухой хаким долго не мог взять в толк, о чем ему рассказывает так подробно и обстоятельно почтенная мать Мустафы, – прошло слишком много времени, настолько много, что, когда уразумевший, наконец, хаким с быстротой, на которую только были способны его старые ноги, прибежал в дом Мустафы, девушка находилась в агонии. Она билась на земле от нестерпимой муки и оглашала воздух отчаянными, душу надрывающими воплями.
Через несколько минут несчастная скончалась, а часа два спустя прискакал сам Мустафа, бывший по делам в соседнем селении.
Весть о смерти невесты поразила его, как громом, он громко рыдал, забыв свое мужское достоинство. Старуха мать и сестра-вдова рыдали еще громче. Глядя на их печаль, никому бы не могло придти в голову, что смерть девушки была делом их рук. Они умудрились как-то изловить юрзу и сунуть в мучной мешок в надежде на то, что, когда невестка пойдет за мукой, змея, потревоженная в своем покое, непременно ужалит ее. Расчет их удался как нельзя лучше, ни подозрений, ни сомнений ни у кого не могло быть никаких. Появление змеи в домах, причем они забираются не только в мешки с провизией, но даже в постели и кувшины для воды, – у нас явление обыкновенное. Смерть от их страшных укусов тоже не редкость. Особенно часто гибнут дети и женщины. Тем бы так все и кончилось, если бы не замешался вопрос о возвращении отцом невесты кэбинных денег. Старик был прижимист и, как все персы, страшно жаден. Отдать назад то, что он уже считал своим, ему казалось прямо невозможным. Под разными предлогами он стал откладывать расчет с Мустафой, а тем временем начал разнюхивать о всех подробностях жизни своей дочери в доме жениха и ее смерти.
По некоторым данным он скоро убедился, что мать
Мустафы ненавидела свою будущую невестку и прочила своему сыну в жены другую женщину. Это известие усилило подозрение старика, и он с большой настойчивостью отдался своему следствию, и вот, совершенно неожиданно, он наталкивается на мальчишку-пастушка, который сообщает ему, что видел своими глазами, как рано на заре мать
Мустафы со своей старшей дочерью ловили в глиняный кувшин юрзу: «Это случилось как раз в тот день, когда умерла девушка, жившая у Мустафы», – окончил свой рассказ мальчик.
Получив такое важное сведение, отец пошел к Мустафе и высказал ему свои подозрения. Надо отдать справедливость молодому человеку, он поступил в этом случае вполне благородно. Внимательно выслушав старика, Мустафа позвал к себе младшую сестру и подверг ее строгому допросу. Молодая девушка сама ничего не знала, она могла только повторить несколько фраз, случайно подслушанных ею из разговоров ее матери со старшей сестрой; но для Мустафы эти фразы не оставляли никакого сомнения в преступлении, совершенном его матерью. Он был страшно поражен, и бешенству его не было границ; но в то же время не мог же он выдать судьям свою родную мать и сестру. Надо было уладить дело. Отец невесты оказался сговорчивее, чем можно было ожидать. Он охотно согласился помириться на условиях не возвращать жениху полученной части кэбинных денег и уплаты сим последним еще ста рублей. Единственным последствием всей этой истории было то, что Мустафа, оставив мать и сестер в том доме, где они жили, сам уехал от них и поселился в одном селении. Теперь он уже женат и едва ли вспоминает свою погубленную невесту.
XVIII
Загубленная жизнь
Другой случай, если хотите, еще трагичней. Было это лет 10-12 тому назад. Жил в нашем краю богатый и знатный бек Гаджи-вали: было ему лет за 60, это был человек крайне свирепый и властный. Семья у него была большая, так как он имел много жен, но, кроме женской половины, в мужской жил с ним только младший сын Беюк-бек. Остальные сыновья, не желая подчиняться суровому деспотизму отца, жили сами по себе. Если сыновья имели основание жаловаться на суровость Гаджи-вали, то дочери его и жены просто изнывали от его грубого, подчас зверского обращения. Двое из сыновей Гаджи-вали жили здесь, в
России, откуда родом были их жены, и вот однажды по какому-то делу Гаджи-вали послал к одному из них Беюк-агу.
Живя у брата, Беюк-ага познакомился с сестрой его жены, молоденькой 12-летней Гюзейль-ханум102 и пожелал взять ее в жены. Вернувшись домой, он сообщил об этом старику, причем не преминул в восторженных выражениях описать красоту своей возлюбленной. Гаджи-вали, против обыкновения, выслушал слова сына весьма снисходительно и, согласившись на его просьбу, лично отправился в Россию103 к родителям Гюзейль-ханум просить ее в жены сыну.
Хотя слава о дурном характере Гаджи-вали была хорошо известна родным девушки и ей самой, но она не сочла нужным отказывать ему в его сватовстве, рассчитывая, что, женившись, Беюк-ага по примеру прочих братьев заживет самостоятельно.
Заключив кэбикные условия и совершив обручение, которое у нас может быть заочное, Гаджи-вали повез молодую невесту к себе в селение, где должна была быть окончательная свадьба.
Беюк-ага, ожидавший с нетерпением возвращения отца, выехал ему навстречу. Он радостно поздоровался с ним и успел переглянуться с красавицей невестой, ехавшей сзади на белом катере. В дороге, по мусульманским обычаям, жених не имел права говорить с невестой, но, приехав домой, Беюк уловил удобную минуту и, пробравшись на женскую половину, успел переговорить с Гюзейль-ханум.
Счастливые и довольные стояли они в темном уголку и шепотом говорили о своей скорой свадьбе и будущей жизни. Тут же в первый раз Гюзейль-ханум высказала не-
102 Ханум – госпожа, барыня, уважительное обращение к женщине Востока.
103 «.. лично отправился в Россию. .» – здесь говорится о прибрежной полосе Закавказья, населенной в XIX веке персами – русскоподданными.
пременное желание свое, чтобы после свадьбы Беюк-ага ушел от отца, который ей очень не нравился и вселял в нее страх. Беюк-ага, увлеченный красотой своей невесты, с неопытностью 15-летнего юноши обещал сделать так, как она пожелает, и влюбленные заключили свой союз жаркими поцелуями. В своем увлечении они не заметили, что давно служат предметом ехидного наблюдения со стороны старшей дочери Гаджи-вали, старой и злой ведьмы, пережившей двух мужей и поселившейся в доме Гаджи-вали в качестве домоправительницы и смотрительницы его гарема. Будучи дочерью первой, давно уже умершей жены
Гаджи-вали, Фатьма, так звали эту женщину, была гораздо старше не только всех своих сестер и братьев от других жен своего отца, но и две последних жены старика были девочками по сравнению с ней и всецело находились в рабском у нее подчинении.
В тот же день весь разговор Гюзейль-ханум с Беюк-агой, значительно извращенный и дополненный, стал известен Гаджи-вали. Против ожидания Фатьмы, старик, внимательно выслушал ее доклад, только усмехнулся, но ничего не сказал и махнул рукой, чтобы она уходила.
Прошло дня два-три, в течение которых шли торопливые приготовления к свадьбе. Беюк-ага и Гюзейль каждый день украдкой встречались где-нибудь и торопливо обменивались несколькими, полными нежной ласки словами.
Их молодая страсть, вспыхнувшая при первой встрече, разгоралась все сильней и сильней. До свадьбы оставалось каких-нибудь два дня, как вдруг Гаджи-вали позвал к себе
Беюк-агу и, вручив ему порядочную сумму, приказал немедленно ехать в Тавриз, отвезти эти деньги одному купцу, с которым Гаджи-вали вел дела.
– Отец, – осмелился возразить Беюк-ага, – до Тавриза два дня езды, я не вернусь раньше 4–5 дней, а через два дня моя свадьба!
– Делай, что тебе приказывают! – грозно прикрикнул старик. – О свадьбе не твоя забота!
Огорченный до глубины души, вышел Беюк-ага из отцовской комнаты, но ослушаться его воли он не мог. а потому, не теряя времени, пошел в конюшню, заседлал резвого иноходца и поспешил выехать из дому. Перед отъездом он на минутку забежал в женскую половину и, встретив Гюзейль-ханум, сообщил ей неприятную новость.
Выслушав своего жениха, Гюзейль-ханум страшно перепугалась и с плачем упала к нему на грудь.
– Не уезжай, мой сокол, до свадьбы, – жалобно шептала она, прижимаясь к жениху, – я чувствую, нам грозит беда, я боюсь, боюсь! Сердце у меня замирает, как птичка в когтях у кошки; не оставляй меня одну, умоляю тебя!
– Нельзя, моя козочка, – успокаивал ее не менее встревоженный жених, – как можно не слушаться приказания отца? И чего тебе бояться? Я скоро вернусь, справим свадьбу, и тогда ты не будешь знать никого, кроме меня!
– Но почему твоему отцу вздумалось вдруг так неожиданно усылать тебя? Неужели нельзя подождать с отправкой этих денег после нашей свадьбы? Ведь всего только два дня!
– В торговых делах иногда два часа имеют большое значение; должно быть, случилось что-нибудь очень важное, не терпящее отлагательства!
– Пусть кто-нибудь другой везет деньги, а ты останься!
– Некому! Отец не доверяет своим слугам. Сумма слишком велика. Ты не плачь, я вернусь гораздо скорее, чем ты думаешь. На половине пути у меня есть хороший приятель, я возьму у него лошадь, а свою поставлю к нему в конюшню отдыхать, таким образом, я буду ехать день и ночь без отдыха и послезавтра к вечеру вернусь. За это время, поверь, ничего не случится с тобой!
Беюк-ага так и сделал. Проехав полпути, с быстротой, какую только можно было требовать от лошади, он сменил ее у своего приятеля на свежую и, не отдыхая, погнал дальше. К полдню другого дня он был в Тавризе, отдал купцу деньги, взял расписку, выпил несколько стаканов чаю и поскакал назад. Всю дорогу его мучило какое-то тяжелое предчувствие, и он нещадно торопил свою лошадь. Голодный, измученный двухсуточной безостановочной ездой, едва держась на седле, въезжал в свое селение Беюк-ага. Еще издали услыхал он шум, крики, звуки зурны104 и гул голосов большой толпы. Он ударил плетью усталого коня и рысью подъехал к своему дому. Странное зрелище поразило его. На большом широком дворе толпилось много народу вокруг чанов с пловом. Дымились огромные самовары, мальчики в чистых рубахах разносили чай.
В углу сидели зурначи и старательно наигрывали на своих инструментах. Перед ними, на широкой, утоптанней площадке, выплясывало несколько человек. Далее сквозь
104 Зурна – древний музыкальный инструмент на Востоке и в Закавказье. Род рожка с мундштуком, как у гобоя. Имеет резкий звук. Зурначи – музыканты, играющие на зурне.
открытые двери дома виднелась толпа гостей почище, в богатых одеждах, с почетными бородами, оттуда тоже неслись звуки зурны и бубна.
В первую минуту Беюк-ага был совершенно ошеломлен. Он стоял, уставив глаза, ничего не понимая. Ему казалось, что он бредит наяву, но вдруг страшное подозрение молнией озарило его мозг. Он быстро слетел с седла и бегом бросился в дом. Там он увидел своего отца-старика на почетном месте, окруженного седобородыми муллами и старшинами селения. Старик был одет во все белое, папаха его была украшена цветным платком, перед ним стоял кальян и блюдо изюма. Увидя входящего сына, Гаджи-вали слегка смутился; он никак не ожидал такого раннего возвращения, однако сейчас же оправился и, нахмурив брови, строго спросил:
– Что это значит, почему ты не поехал в Тавриз, как я тебе приказывал?
– Я был там, отдал деньги и привез расписку, вот она! –
отвечал Беюк-ага прерывающимся голосом. – Теперь позволь и мне в свою очередь спросить тебя, что значит вся эта тамаша105?
– Разве же ты, Беюк-ага, – вмешался сидевший ближе всех седой кадий106, – забыл, сегодня ведь свадьба твоего достопочтимого отца Гаджи-вали-машади Зюль-фагор, ты хорошо сделал, что поторопился приехать и тем доставить твоему отцу и всем нам радость видеть тебя на этом славном празднике!
105 Тамаша – здесь: праздник, сборище единоверцев.
106 Кадий (арабск.) – судья у мусульман, духовное лицо.
– Отец, на ком ты женишься? – впиваясь горящим взглядом в лицо отца, задыхающимся голосом спросил
Беюк-ага.
Старик смущенно опустил очи, избегая взгляда сына и молчал; вместо него отвечал хитрый кадий.
– Что с тобой, Беюк-ага? – изумленным голосом воскликнул он. – Можно подумать, что ты с луны свалился, если задаешь такие вопросы. Всему селению известно, что
Гаджи-вали женится на несравненной, прекраснейшей дочери Алавар-хана Гюзейль-ханум!.
Не успел старый кадий произнести это имя, как Беюк-ага с диким воплем выхватил кинжал из ножен и бросился на отца.
К счастью, старик, очевидно, ожидал нечто подобное от своего сына, а потому успел вовремя отшатнуться и этим движением избежал удара. Тем временем гости успели схватить безумного юношу и оттащить его от отца.
Прибежали нукеры и по приказанию Гаджи-вали отвели его в отдельную комнату и там заперли.
На другой день рано утром Гаджи-вали приказал привести к себе Беюк-агу и между ними произошел следующий разговор.
– Знаешь ли ты, что вчера наделал? – сурово спросил
Гаджи-вали. – За твой проступок я имею право убить тебя или, по меньшей мере, отрубить тебе правую руку, но ты мне сын, и я жалею тебя, а потому предлагаю тебе следующее: ты сегодня же, не повидавшись ни с кем из домашних, уедешь из нашего селения в Россию к брату; твои вещи я пришлю тебе после, а также и письмо к старшему сыну, в котором прикажу ему выдать тебе две тысячи туманов из моих денег, находящихся у него в деле.. На эти деньги начинай какое-нибудь свое дело; когда узнаю, что ты умно распоряжаешься данным тебе капиталом, я помогу тебе еще, сколько будет нужно. Живи и богатей, но ко мне сюда не смей являться до тех пор, пока я тебя не позову. Ни с кем из моих домашних, помимо меня, не смей иметь каких бы то ни было сношений, никаких известий о себе, никаких поручений. Для них ты умер. Понял?
– Понял! – тихо ответил Беюк-ага, у которого усталость, голод и душевные волнения отняли всякую энергию.
– Согласен?
Вместо ответа Беюк-ага почтительно склонил голову и смиренно прижал ладони к сердцу. Впрочем, ничего иного ему и не оставалось делать. Гюзейль-ханум была утрачена им навсегда. Став женой другого, она теряла для него всякое значение.
Ко всему этому надо прибавить, что в глазах мусульман женщина стоит слишком низко, чтобы из-за нее, как бы она ни была хороша и мила сердцу, стоило восставать против отца и всей семьи, лишаться денег и выгод. «Я молод, –
подумал Беюк-ага, – а красавиц на свете много, успею жениться. Во всем воля Аллаха!»
В тот же день он уехал из родительского дома. Выезжая за ворота, он даже не оглянулся, а потому и не видел, как из-за маленького узенького окошечка, пробитого в серой стене, глядела ему вслед пара прекрасных заплаканных черных глаз. . Не видел искаженного отчаянием бледного личика, не слышал подавленного стона, вырвавшегося из груди несчастной, покидаемой им навсегда женщины.
Тяжелая жизнь наступила для Гюзейль-ханум. Несмотря на всю рабскую приниженность мусульманской женщины, она не в силах была скрывать своего отвращения к Гаджи-вали и безотчетного ужаса перед ним. Старика это чрезвычайно злило, и он вымещал свою злобу на остальных женщинах своего гарема, которые, в свою очередь, понимая истинную причину его недовольства, безжалостно преследовали несчастную Гюзейль-ханум. Но самым непримиримым, самым лютым врагом ее была Фатьма; эта ведьма прямо истязала молодую женщину и довела ее до того, что та, наконец, не выдержала и бросилась в колодец, где и утонула. Главной причиной, побудившей ее на самоубийство, было известие о женитьбе Беюк-аги. Известие это ей сообщил сам Гаджи-вали, успевший к тому времени сильно возненавидеть ее за ее холодность и отвращение к нему. Терпеливо выслушав злобные насмешки старика, Гюзейль-ханум выждала, когда он удалился наконец из комнаты, молча встала, накинула чадру и вышла на двор.
Дело было вечером, и на дворе никого не было, никто не видел, как молодая женщина, завернувшись плотнее в свою чадру, не проронив слова, без крика, без стона кинулась вниз, в черную зияющую пасть колодца, как зубами, усеянную по бокам острыми камнями.
Так погибла красавица Гюзейль-ханум, погибла подобно тысяче мусульманских женщин, являющихся бесправной, безгласной игрушкой в руках их отцов, женихов, братьев и мужей!
XIX
Размолвка
– А вы, Муртуз-ага, женаты? – спросила Лидия, когда он кончил свой рассказ.
– Был, давно,– неохотно отвечал тот,– но и то недолго.
Моя жена умерла через год после нашей женитьбы, и с тех пор я не женюсь!
– Разве это у вас, у мусульман, возможно? – удивился
Рожновский. – Я слышал, что все богатые и состоятельные персы должны быть неизбежно женаты.
– О, далеко не все, – улыбнулся Муртуз, – при дворе нашего хана есть много молодых людей хороших фамилий и не женатых. Я хотя не молодой, но тоже не женат и не собираюсь жениться. Однако мне пора! – добавил он, торопливо подымаясь. – Скоро, я думаю, паром перестанет ходить!
– Ну, для вас, как для дорогого гостя, – улыбнулся Осип
Петрович, – мы сделаем исключение, пустим паром и после заката солнца!
Муртуз учтиво поклонился.
– Сердечно благодарю за любезность, тем не менее, мне надо торопиться! – Сказав это, он начал со всеми прощаться.
– Итак, вы приедете к нам в Суджу? – переспросил он еще раз.
– Всенепременнейше, – ответила за всех Лидия, – а пока мы пойдем провожать вас до парома. Вечер чудеснейший, и мне хочется пройтись немного.
Муртуз-ага в знак глубокой признательности за такую любезность низко склонил голову.
Когда они подошли к парому, там уже стояли курды
Муртуз-аги с его лошадью.
– Чудный у вас конь! – не удержался Воинов, искренно им любуюсь.
– Бэшкэш! – произнес Муртуз и протянул Воинову повод уздечки.
– Что вы, что вы! – испугался тот и даже руками замахал. – Я ведь это так!
– Нет, нет, зачем же, такой обычай! – настаивал Муртуз.
– Ну, я этого обычая не признаю! – несколько резко произнес Воинов. – Я русский, да и вы не перс, чтобы нам строго придерживаться всех персидских обычаев!
– Нет, я перс! – холодно произнес Муртуз-ага. – И если вам кто-нибудь наболтал про меня о том, что будто бы я не природный перс, то прошу вас этому не верить. Глупые сплетни, основанные на моем хорошем знании русского языка!
Сказав это, Муртуз-ага еще раз поклонился всем, вспрыгнул на лошадь и, толкнув ее стременами, смело поехал на паром, по дребезжащим и подскакивающим доскам настилки.
– Почему вы не взяли лошадь? – невинным тоном спросила Лидия у Воинова, когда они остались одни. –
Ведь она куда лучше вашей!
– Потому-то я ее и не взял, – сухо ответил Воинов, –
хотя о том, какая лошадь лучше, можно решить, только испытав их быстроту и выносливость. Это так же, как и с людьми, – добавил он, – чтобы решить, кто из них более достоин внимания и дружбы, надо их испытать. Иногда под красноречием и вкрадчивыми манерами таится дурная душа, которой следует остерегаться!
– Надеюсь, вы намекаете не на Муртуз-агу, – резко перебила девушка, – по совести сказать, из вас обоих, по-моему, вы красноречивей!
Сказав это, Лидия отвернулась и пошла к дому, не обращая более никакого внимания на Воинова, который едва нашелся, чтобы пожать руку Ольге Оскаровне и ее мужу, после чего быстрыми шагами направился к площади, где его ожидал конвойный объездчик с лошадьми.
XX
Лидия Норденштраль
Грустный и печальный сидел Аркадий Владимирович в кабинете своей небольшой квартиры на посту Урюк-Даг и машинально глядел в окно, на унылый двор, с выходившими на него окнами и дверями казармы, конюшни, цейхгауза, кладовки, кухни и прочих служебных и хозяйственных построек.
Небольшая каменистая площадка дворика представляла из себя зверинец в миниатюре. Несколько собак разного возраста и масти лежали по всем углам дворика, откинув хвосты и вытянув лапы; между ними с озабоченным хрюканьем прогуливалась большая бурая свинья, всюду суя свое любознательное рыло. За ней, повизгивая и ежеминутно ссорясь между собой, семенило несколько штук белых, черных и пестреньких поросят.
Тут же стоял, с глупо-сосредоточенным выражением горбоносой морды, большой белый баран; около него, как нежно любящие друг друга подруги, жались одна к другой две лопоухие овцы, козел с длинными рогами прохаживался из угла в угол и при встрече со свиньей подставлял ей лоб, как бы вызывая на единоборство. Маленький, хорошенький, молочно-белый ишачок, с черными веселыми глазками, шаловливо потряхивая ушками, кружился вокруг старой губастой ослицы, которая, опустив уши и расставив ноги, флегматично дремала под тенью навеса. Тут же кокетливо грелась на солнце целая семья кошек, светло-рыжей масти и с пятнами, как у кугуара. К довершению всего, в дальнем углу, прикованная цепью к будочке, в скромной позе незаинтересованного наблюдателя, сидела молодая лисичка. По-видимому, она относилась совершенно равнодушно к прогуливающимся но двору курам, гусям, уткам, индюшкам, цесаркам и ручным красноперым гагарам. Только тогда, когда какая-нибудь из этих глупых птиц проходила мимо будки, лисица мгновенно настораживала остренькие ушки; ее дотоле прищуренные глаза широко раскрывались, и в них загорался жадный огонек.
Она вся собиралась в комочек и, дрожа, как в лихорадке, готова была ежеминутно прыгнуть и схватить за горло зазевавшуюся жертву. Однако птица была, очевидно, достаточно опытна, чтобы чересчур близко подходить к будке, и хитрый зверек осужден был на муки Тантала.
Воинов был большой любитель всех вообще животных.
Когда летом он обедал на крылечке, то вокруг его стола собирались все четвероногие и пернатые обитатели двора, и каждый из них получал свою подачку.
Грустный и задумчивый сидел Воинов, перебирая в уме подробности вчерашнего дня. Что Лидия к нему относится враждебно – для него было ясно, но, вместе с тем, он решительно не мог понять, чем могло быть вызвано такое недоброжелательство.
Вначале, как только Лидия приехала в Шах-Абад и они познакомились, она относилась к нему с большой симпатией. Почти дня не проходило, чтобы Аркадий Владимирович не посещал Рожновских. Он приезжал к ним под вечер, и какие чудные вечера проводили они вдвоем, сидя в саду на скамейке, под густым пшатом107. Во время своих долгих бесед он, с откровенностью молодости, рассказал о себе все, что сколько-нибудь могло интересовать ее; в свою очередь, она сообщила ему о своей жизни в институте и о своем отце, который, по ее словам, представлялся личностью далеко не заурядной. Он был швед по происхождению и в Россию попал пятилетним мальчиком, привезенный своими родителями. Отец его, дед Лидии, был управляющим на каком-то заводе в окрестностях Петербурга. Когда молодой Оскар подрос, его отдали в гимназию, откуда он впоследствии перешел в технологический институт. Тем временем отец его принял русское подданство, благодаря чему сын его, весьма успешно окончив курс наук, мог легко найти себе подходящую должность. Судьба забросила его на Украину, где он встретился со своей будущей женой, типичной хохлушкой, с первого же знакомства заполонившей его холодное, северное сердце. Он сделал предложение, женился и надолго поселился в Малороссии.
107 Пшат – здесь: фруктовое дерево, наподобие фиников.
Однако, несколько лет спустя, он очутился уже в Финляндии совладетелем, вместе с двумя другими лицами, большой писчебумажной фабрики. Дела компании шли недурно, фабрика была поставлена удачно и давала хороший дивиденд. С тех пор Норденштрали жили зиму в
Финляндии, а лето в Киевской губернии, где у матери
Лидии и Ольги был небольшой, но благоустроенный хутор, доставшийся ей по наследству от тетки. Впрочем, сам
Норденштраль, не имея возможности покидать завод на более или менее продолжительное время, приезжал в Хатенково, так звали имение его жены, не более как на пять-шесть недель. Дети, их было трое: старшая Ольга, второй сын Петр и младшая Лидия, очень любили, когда отец приезжал к ним на хутор.
С его появлением они получали полную свободу. Организовывались далекие экскурсии пешком, предпринимались поездки на лодках, появлялись 4 верховых лошади; правда, эти лошади только потому могли претендовать на название верховых, что на их спинах красовались два старых дамских седла, одно английское и одно казачье. В
действительности же это были обыкновенные крестьянские коняги, весьма смирные, кроткие и твердо усвоившие себе мудрое китайское правило, что идти шагом лучше, чем бежать, стоять лучше, чем идти, а самое лучшее, лежать на мягкой соломе, поджав под себя косматые ноги с безобразными подковами.
Во всех этих прогулках, верхами, пешком и на лодках, Норденштраль-отец являлся первым и самым неутомимым затейщиком.
Его эти прогулки интересовали и веселили не меньше,
если даже не больше, чем детей; в нем было какое-то неудержимое стремление к движению, он дня не мог просидеть дома и на все упреки жены отвечал, добродушно усмехаясь:
– Сидящим меня можешь видеть только в Финляндии на заводе; там я сижу иногда по 18 часов в сутки. Здесь же я хочу бегать, ходить, ездить, словом, приводить в движение весь свой мышечный аппарат, а так как одному проделывать все это очень скучно, то пусть дети сопровождают меня, им это полезно; пусть запасаются силами и здоровьем на будущее время, а главное, энергией. Энергия в жизни – все. Энергия – это тот рычаг, которым Архимед хотел повернуть Вселенную!
Образование свое Ольга и Лидия получили в одном из московских институтов. Причина, почему была избрана именно Москва, заключалась в том, что в Москве жила их тетка, двоюродная сестра матери, которой и было поручено наблюдение за девочками. Предоставив дочерей на волю матери и почти не вмешиваясь в их воспитание, Норденштраль относительно сына держался иного взгляда и всецело подчинил его исключительно своему контролю. Не желая выпускать его из виду, он решил дать ему образование в Финляндии, с тем чтобы впоследствии он докончил его в Стокгольме.
Однако судьба распорядилась иначе. Семнадцати лет молодой Норденштраль, страстный моряк в душе, погиб, катаясь в море на парусной яхте.
На старика Норденштраля внезапная, трагическая смерть сына подействовала, как удар грома. Жизнь в его глазах потеряла всякий смысл, он ликвидировал дела и поехал с женой в Москву, где решил поселиться до окончания Лидией курса наук, а затем ехать на хутор, чтобы навсегда остаться жить там. Старшая, Ольга, была уже замужем за чиновником Щербо-Рожновским, который вскоре перешел в Таможенное ведомство и был назначен на Закавказье. В Москве Норденштрали прожили всего два года, в течение которых старик Норденштраль, отстранив от себя всякую работу, чрезвычайно тосковал и хандрил.
Его неутомимая, кипучая натура не могла примириться с бездеятельностью и монотонностью прозябания на какой-то Плющихе; это дурно отзывалось на его здоровье.
Никогда ничем прежде не болевший, крепкий, как финляндский кедр, старик вдруг ни с того ни с сего получил воспаление легких и после непродолжительной болезни, совершенно неожиданно для всех его знакомых, помер.
Потеряв в короткое время сына и мужа, старуха Норденштраль переселилась из Москвы в свой хутор, где окружила себя богомолками, странницами и приживалками.
Попав в такую жизнь, по выходе из института, Лидия затосковала и потому с удовольствием поехала гостить к сестре, в Закавказье.
XXI
Мечты
Все эти подробности Воинов узнал от Лидии, беседовавшей с ним с дружеской откровенностью. Если у Лидии по отношению к Воинову было чувство Дружеской симпатии, то у него это чувство очень скоро перешло в сильнейшую любовь. За какие-нибудь две-три недели знакомства Аркадий Владимирович окончательно влюбился в молодую девушку. Не будь он так застенчив и робок с женщинами, он давно бы сделал предложение, но страх получить отказ парализовал всю его решимость. Несколько раз приезжал он в Шах-Абад, с твердым намерением порешить этот мучительный для него вопрос, но всякий раз, в самую последнюю минуту, им овладевали сомнения, боязнь получить вместо страстно желаемого согласия насмешку над своим чувством. Будучи от природы очень скромным и мало искушенным жизнью, он искренно считал себя недостойным такой девушки, как Лидия Оскаровна, казавшейся ему собранием всевозможных достоинств. Ко всему этому Аркадия Владимировича удерживал и немного злой язычок Лидии Оскаровны; веселая и насмешливая, она иногда так беспощадно вышучивала его, что он терял всякий апломб и не только не решался высказать ей волновавших его чувств, но, напротив, только о том и думал, как бы она их не заметила.
Зато, оставаясь один, он часто и подолгу мечтал, какое было бы счастье, если бы Лидия сделалась его женой. Как бы прекрасно зажили они! Как бы мило, уютно устроили свою квартирку. В первое же лето, после свадьбы, он взял бы отпуск на три месяца; поехали бы сначала к его матери в имение, пожили бы там недели две-три, а оттуда бы на
Минеральные Воды в Кисловодск, Железноводск, Ессентуки, а еще лучше в Абас-Туман. Сколько поэзии было бы в этом путешествии с глазу на глаз, как заманчиво улыбается одиночество вдвоем среди большой толпы незнакомого люда, снующего взад и вперед по улицам и бульварам. В
мечтах своих Воинов рисовал себе картину, как гуляют они под руку где-нибудь на музыке, по аллеям парка или модного бульвара. Лидия такая стройная, изящная, со вкусом одетая; все, невольно преклоняясь перед ее красотой, почтительно дают им дорогу. «Кто эта красавица? Как фамилия? Откуда?» – раздаются кругом торопливые вопросы.
– Ах, как хороша; какая дивная красота! – слышатся произносимые полушепотом восклицания неудержимого восторга, а они идут, не обращая ни на кого внимания, полные взаимной любви, чувствуя близость один другого, радостные и довольные, богатые молодостью, здоровьем и той жизнерадостностью, которая окрыляет человека и окрашивает для него весь окружающий мир яркими, сияющими красками.
Все любуются и завидуют им, а они никому; они счастливы, счастливы без границ, вся душа их проникнута этим счастьем, как лучами солнца. . Сознание, что эта красавица, гипнотизирующая толпу, возбуждающая восторг, удивление и любопытство, – его, всецело его, и душой и телом, любит его, живет с ним одной жизнью, думает его мыслями, интересуется его интересами, – вселяет в него чувство неизреченной гордости. Он владелец этого сокровища, он, и только он!
При одной мысли кружится голова, дух захватывает в груди, а внутри все поет, все ликует и сливается в один неудержимый крик восторга: «Ах, как хороша, как дивно хороша жизнь!»
– Господи, неужели это только мечты, которым не суждено никогда осуществиться? – в порыве отчаяния восклицал Аркадий Владимирович, хватаясь руками за голову и в волнении принимаясь шагать но комнате.
«Иногда ему казалось, что все это так просто, так легко достижимо. Стоит поехать в Шах-Абад, переговорить с
Лидией. Она же ведь относится к нему хорошо, даже больше чем хорошо, да, наконец, и Рожновский, и Ольга
Оскаровна, хотя ничего не говорят, но, очевидно, всецело на его стороне, охотно будут его союзниками. .
О чем же думать? Сесть на коня и поехать! Смелость города берет! Аркадий Владимирович торопливо приказывает седлать коня, в нетерпении сам выбегает на двор, торопит, помогает подтянуть подпруги. Вскакивает в седло и с места от ворот кордона пускает лошадь в галоп, но чем ближе подъезжает он к Шах-Абаду, тем больше ослабевает в нем его решимость.
«Нет, никогда она не согласится выйти за меня замуж.
Такая красавица, такая образованная, разве захочет она похоронить себя на всю жизнь в какой-нибудь пограничной трущобе, вроде моего поста Урюк-Дага? Безумие мечтать даже об этом! Ее место в столице, среди избранного общества, на балах, где она будет царицей, в театрах, на торжественных съездах. Разве я, простой армейский поручик, пара ей? Она легко найдет себе мужа среди московских тузов, ей стоит только вернуться к своей тетке, у которой собирается все лучшее московское общество, чтобы без труда выбрать себе мужа, который положит к ее восхитительным ножкам огромные капиталы и положение в свете.. »
Под влиянием таких мыслей к Шах-Абаду Воинов подъезжал в совершенно другом настроении. От прежней решимости и самоуверенности не оставалось и следа, ему казалось прямо чудовищным безумием предложить Лидии разделить его скромное существование, на глухом, забытом Богом и людьми посту, где-то на границе с Персией, где нет никаких развлечений, никакой пищи уму и сердцу, и где вся жизнь исчерпывается едой и сном.
Если в то время, когда отношения Лидии к Аркадию
Владимировичу были вполне дружественными, он не находил в себе достаточной смелости сделать ей предложение, заранее уверенный в отказе, то в последнее время, когда она стала относиться к нему явно враждебно, он уже подавно потерял всякую надежду, а между тем неугомонное воображение, как назло, рисовало ему радужными красками картинки счастья. Бедняга просто места себе не находил и по сто раз задавал себе один и тот же вопрос:
– За что, за что? Что я такое сделал?
Он усиленно копался и рылся в своей памяти, но ничего не мог оттуда выудить, кроме того, что резкая перемена, происшедшая в обращении с ним Лидии, началась со времени кабаньей охоты там, в Персии, и знакомства с Муртуз-агой.
– Неужели Лидии Оскаровне понравился этот татарин?
– болезненно стучало в голове Воинова. – Быть не может!
«Положим, он молодец, к тому же человек, бесспорно замечательный и выдающийся среди остальных татар, но все же он татарин, кербалай и больше ничего, а если он и в самом деле не татарин, как про него говорят, то это еще хуже, стало быть, он какой-нибудь беглый, может быть, даже из тюрьмы или поселения.. Нет, нет! Такой человек никак не может возбудить к себе чувства любви, да еще в такой барышне, как Лидия Оскаровна! Он ее интересует как невиданный ею доселе зверек, никак не больше, но если так, то почему же такая резкая перемена в обращении с ним, Воиновым? От прежней дружбы, интимности не осталось и следа, все это заменило едва скрываемое раздражение и насмешка. . За что, за что? В чем тут причина и корень? Особенно вчерашнее обращение было невыносимо оскорбительно; при воспоминании об этом щеки Воинова невольно вспыхивали, а сердце болезненно замирало. Он не знал, что ему теперь делать. Продолжать ездить к Рожновским это значит спрятать в карман всякое самолюбие, перестать бывать у них, не видеть Лидии, лишение, превосходившее его силы. Разве переговорить с Рожновским, он с ним искренно дружен, может быть, тот знает что-нибудь и даст какой-нибудь благой совет?»
Эта мысль так понравилась Аркадию Владимировичу, что он решил при первом удобном случае привести ее в исполнение и на этом немного успокоился.
– Что будет, то будет! – произнес он и тяжело вздохнул.
– Если станет невтерпеж, выхлопочу перевод в другой отдел, подальше отсюда, а то и совсем в другую бригаду.
Разлука, говорят, исцеляет!
XXII
По тому же поводу
– Знаешь, твоя сестра последнее время совершенно невозможна в своем обращении с Воиновым, – говорил как-то вечером Осип Петрович, оставшись с глазу на глаз с женой. – Она третирует его, оскорбляет ни за что ни про что. Бедняга так ее любит, готов жизнь за нее отдать, а она держится с ним как с врагом!
– Я тоже это замечаю, – задумчиво произнесла Ольга
Оскаровна, – и никак не могу доискаться причины. Вначале они были так дружны, постоянно вместе. Лидия была с ним так любезна; я со дня на день ждала, что вот-вот он сделает предложение и, признаюсь, радовалась за сестру. Аркадий
Владимирович человек вполне прекрасный, скромный, не кутит, в карты не играет. Правда, погрести себя на веки вечные в каком-нибудь Урюк-Даге – невеселая перспектива, но ведь никто не мешает Воинову, женившись, хлопотать о переводе на другую границу, куда-нибудь на запад, где жизнь несравненно веселее и лучше. У него, я знаю, есть влиятельные родственники в Петербурге.
Средства у него есть, помимо жалованья, прекрасно могли бы жить! Не правда ли?
– Совершенно с тобой согласен. Я тоже нахожу Аркадия Владимировича вполне приличным мужем для Лидии!
– Да, и вот, однако, кажется, все расстраивается. Лидия не только совершенно охладела к Воинову, но начинает относиться к нему прямо враждебно, и я просто не понимаю, с чего бы это?
– А ты не заметила, с какого времени началось это охлаждение? – спросил Рожновский, с хитрой улыбкой глядя в глаза жене.
– Не заметила, но кажется, чуть ли не с нашей поездки в
Персию, на кабанью охоту!
– Совершенно верно, с того самого дня, и ты не понимаешь почему? А еще сама женщина! Подумай-ка хорошенько!
– Не понимаю! – недоумевающе покачала головой
Ольга Оскаровна.
– А между тем, дело ясно, как день. Твоя сестра просто-напросто чрезвычайно заинтересовалась Муртуз-агой; интерес этот перешел мало-помалу в нечто более существенное, не в любовь еще, конечно, но все же в довольно сильное увлечение. Инстинктивно, она, разумеется, как девушка умная, сама понимает всю нелепость подобного чувства, но тем не менее стряхнуть его с себя не может. Это ее раздражает, портит настроение духа, и, как все женщины, она спешит выместить волнующую ее досаду на другом. Кто же может быть этот другой? Разумеется тот, кого легче можно уязвить, кто болезненнее будет чувствовать удары, в данном случае Воинов. Лидия прекрасно знает, что ни я, ни ты неспособны так огорчаться и страдать от ее выходок, как Аркадий Владимирович, а потому именно его-то она избрала жертвой, на которой вымещает накапливающееся у нее в душе недовольство. Вы, женщины, в этом одинаковы, ни с кем так не безжалостны, как с теми, кто вас любит. На этом построено большинство драм, происходящих между влюбленными. Для вас особое наслаждение бить по самому больному месту любящего вас человека, вы в этом видите своеобразное удовольствие, и чем удар метче, чем глубже рана, чем болезненнее, тем вам приятнее. В этом есть, конечно, свое историческое начало, это месть вечного раба своему господину, месть жестокая и беспощадная!
– Ты так красноречиво об этом говоришь, что можно подумать, будто и сам был много и часто ранен! – полушутливо, полудосадливо прервала мужа Ольга. – Но дело не в этом. Для меня, признаться, сделанное тобой открытие относительно Лидии является неожиданностью и чрезвычайно удивляет!
– Не понимаю, что ты видишь тут удивительного! –
пожал плечами Рожновский. – Ты, значит, совершенно забыла, что Лидия всего полгода как вышла из института, а отличительная черта институток, – предаваться всевозможным фантазиям, их любимое занятие – извращать факты действительной жизни и подменивать чем-то несуществующим и даже неправдоподобным!
Какая-нибудь классная дама, Матильда Федоровна, глупая, злая, старая дева, отравляющая существование всем, кто так или иначе приходит в соприкосновение с нею, старается уверить всех и сама искренно верит, что она ниспосланный на землю ангел, всеми обижаемый, всеми гонимый за ее кротость и незлобие. Воспитанница старшего класса m-lle108 Булкина, съедающая за один присест пятнадцать слоеных пирожков и целый фунт шоколадных конфет и бегающая по залу, как шотландский пони вдруг начинает воображать, будто она жертва рокового недуга, кандидатка на холодную сень могилы. Она заказывает себе специальную тетрадь с траурной каймой и черным образом, на первой страничке пишет:
«После моей смерти милым подругам»
и начинает изливать в этой тетради, уснащая ее кляксами и капающими слезинками, «души непонятной признанья».
Тут и заветы подругам, и философские мысли, и укоры
108 мадмуазель (фр.).
по адресу учителей и классных дам, и воззвание к «maman109» проявлять более сердца в своих отношениях к воспитанницам, жаждущим ее обожать, но близоруко ею отталкиваемым. .
Кончается все это так же неожиданно, как началось.
Булкина убеждается в своем здоровье, о могиле нет уже и помину, слоеные пирожки поедаются в утроенном количестве, и кандидатка на гробовую сень начинает носиться по залу, как молодой гиппопотам, приводя в ужас кроткую
Матильду Федоровну, со змеиным шипением посылающую ей вслед нелестный эпитет «тумбы».
Какой-нибудь учитель географии, курносый и прыщеватый, всецело поглощаемый заботами о 20-м числе и приобретением частных уроков, обладатель полдюжины ребят, старообразной жены, с никогда не исчезающими флюсами, тайный поклонник смазливых горничных и веселой компании за графинчиком водки где-нибудь в задней комнате недорогого трактирчика, почему-то делается в воображении его учениц похожим на разочарованного
Чайльд-Гарольда, убежденного человеконенавистника, демонической натурой.
Юнкер Прыщ, старший брат m-lle Прыщ, приходящий по воскресеньям навестить сестру и похожий на неуклюжего большого легавого щенка, обладающий волчьим аппетитом и способный после шоколада переходить к борщу, а воздушный пирог закусывать сосисками, ни с того ни с сего начинает возбуждать в сердцах многих девиц трагическое участие. Они начинают видеть в нем: одна Печорина, другая Ленского и хором предсказывают ему или
109 здесь в смысле директрисы учебного заведения (фр.).
великое будущее, или гибель во цвете лет.
«Он будет убит на дуэли!» – с сокрушением говорит одна.
«Ах, нет, он влюбится в коварную кокетку, она разобьет его сердце, и он кончит самоубийством!»
«А я уверена, из него выйдет великий полководец, вроде Скобелева, – авторитетно утверждает третья, – посмотрите, какое у него смелое, энергичное лицо!»
– Ну, теперь скажи сама, что же удивительного в том, что даже неглупая девушка, какой я считаю Лидию, но возросшей в такой атмосфере, надышавшаяся и напившаяся ею, при встрече с субъектом, подобным Муртуз-аге, по крайней мере, на первое время утрачивает некоторую логичность мышления? Необычайная обстановка и условия этой встречи, дикая страна, дикие обычаи, столь непохожие на все, до сих пор ею виденное, только усиливают впечатление. Наконец, и с этим надо согласиться: Муртуз-ага, действительно лицо очень оригинальное, человек с темным, загадочным прошлым, с таинственным настоящим, окруженный легендой, с сильной волей и печатью какого-то затаенного горя на душе – он в состоянии заинтересовать даже и не институтку!
– Но, в таком случае, если все, что ты говоришь –
правда, то я очень беспокоюсь! Что же нам делать, чтобы предотвратить опасность?
– Не вижу никакой опасности, и предотвращать что-либо, по-моему, решительно не предстоит надобности.
Пусть все идет по-прежнему, а время свое возьмет. Пройдет первая острота интереса, уляжется возбужденное им волнение, и все кончится. Необходимо лишь дать понять
Воинову, чтобы он не приходил в отчаяние, а то бедняк совсем повесил нос и ходит как в воду опущенный!
– Что касается меня, – возразила Ольга Оскаровна, – я смотрю далеко не так просто, как ты, на это дело. Лидия, девушка с особенным темпераментом, и если она, чего не дай Бог, увлечется серьезно, то может выйти целая драма!
– Ну, это, матушка, в тебе еще институт не выдохся, и ты до сих пор способна в пятипудовой m-lle Булкиной видеть жертву неумолимой чахотки. Лидия гораздо умнее, чем ты, стало быть, о ней думаешь; в свое время она отлично поймет, что мусульманин-перс, полудикарь, полубродяга – не пара ей; русской интеллигентной, образованной девушке – увлекаться всерьез такой фигурой! Не быть в этом убежденным – это значит не уважать совсем
Лидию или придавать Муртуз-аге то значение, какого он вовсе не имеет!
– Нет, нет, ты не знаешь Лидии, – упрямо покачала головой Ольга Оскаровна, – а я с этой минуты не буду знать покоя. Нужно что-нибудь предпринять, а прежде всего отказаться от этой поездки в Суджу!
– Ну, это уже совсем будет глупо. Всякое насилие, всякие неумело поставленные преграды только увеличат интерес и желание более тесного сближения. Повторяю, оставь все, как есть, и поверь, что вся эта история уляжется скорее, чем ты даже предполагаешь!
– А если Муртуз-ага... – нерешительно начала Ольга
Оскаровна и остановилась, ища подходящего выражения своей мысли.
– Что Муртуз-ага? – с нетерпеливой досадой переспросил Рожновский. – За Муртуз-агу я тебе поручусь, он всецело зависит от Хайлар-хана Суджинского, а потому и в мыслях не посмеет сделать что-либо, могущее вызвать неприятный инцидент. Он прекрасно понимает, что хан ни на минуту не задумается выдать его с головой русским, а эта перспектива едва ли может улыбаться Муртуз-аге, у которого с русскими властями, очевидно, есть свои особые счеты, далеко им не уплаченные!
В то время, когда между супругами Рожновскими велся вышеприведенный разговор, предмет и причина его, Лидия, сидела задумчивая и печальная в своей комнате, с тревожной внимательностью прислушиваясь к тому, что творилось в ее внутреннем «я». Последнее время она чувствовала в себе странную, гнетущую ее двойственность; она была всем и всеми недовольна, а больше всего сама собой. Припоминая резкие выходки, которые она позволяла себе по отношению к Воинову, она не могла не чувствовать укоров совести, она понимала, как несправедливо, нетактично, даже неблаговоспитанно она поступала, и сознание это еще больше раздражало ее против Аркадия
Владимировича.
Но еще большее недовольство чувствовала она, когда мысль ее останавливалась на Муртуз-аге. Таинственность, которой был окружен этот человек, завлекала и вместе с тем сердила ее. Кто он такой? Герой ли какой-нибудь драмы или ловко ускользнувший от тюрьмы мошенник? В
последнее как-то не хотелось верить, также не хотелось верить и в то, что он действительно только обыкновенный перс, живший долго в России у дяди-торговца восточными товарами. Против этого предположения говорила его благородная осанка, гордая, презирающая всякую опасность, смелость и неуловимая грусть, как бы разлитая во всем его существе, сквозящая в гордых, жгучих глазах, слагающая в печальную улыбку его характерные губы, под мягкими шелковистыми усами.
Если бы кто-нибудь сказал Лидии, что она не равнодушна к Муртуз-аге и чувствует к нему сердечное влечение, она или рассмеялась бы, или бы рассердилась, смотря по тому, в каком настроении духа была бы в ту минуту, но во всяком случае никогда бы не придала серьезного значения такому заявлению.
– Влюбилась, вот вздор какой! – искренно воскликнула бы она. – Просто он заинтересовал меня, как человек крайне оригинальный, не похожий на остальных здешних людей. Мне хочется приглядеться к нему поближе, разгадать, что он такое, изучить этот новый невиданный мной тип.
Так она думала, но не так оно было на самом деле.
Сердце и душа девичья – инструмент весьма сложный, настолько сложный, что нередко девушка сама себя не понимает.
XXIII
По дороге в Суджу
Самое лучшее время года на Закавказье – конец сентября и начало октября. Убийственная жара, свирепствовавшая в течение трех летних месяцев, значительно спадает, так что по утрам и по вечерам бывает порядочно прохладно. Благодаря этому, исчезает самый жестокий, беспощадный бич страны, мошка; ложась спать, уже не нужно завешивать кровать густым пологом, под которым всю ночь томишься от нестерпимой духоты. Дни стоят светлые, небо безоблачно; период осенних дождей еще далек, и для всяких путешествий это время самое благоприятное. Все, кому нужно совершать дальние поездки по торговым или иным делам, приурочивают их именно к этим месяцам, когда даже малоподвижные, ленивые сыны
Востока начинают ощущать в себе пробуждение некоторой энергии.
Вот в один из таких-то погожих дней по каменистой, разбитой дороге, изрезанной водопроводными канавами, быстро катилась четырехместная, допотопная коляска, или, как говорят на Закавказье – «фаэтон». На козлах этого расхлябанного, развинченного, жалобно дребезжащего экипажа сидел совершенно коричневый, обожженный солнцем татарин-извозчик в огромной папахе и белой холщовой черкеске, с кинжалом на поясе.
Четыре тощих клячи, в которых, между тем, знаток сейчас же бы признал присутствие благородной карабахской крови, бежали вприпрыжку, потряхивая длинными, острыми, породистыми ушами.
В коляске сидели Лидия и Ольга, а против них, на передней скамеечке, помещались Осип Петрович и Воинов.
С левой стороны коляски, где сидела Лидия, на раскормленном, довольно безобразном, но ходком иноходце, ехал Муртуз-ага. За коляской, в значительном от нее расстоянии, чтобы не поднимать пыли, скакало человек десять курдов, по обыкновению вооруженных с ног до головы.
– Далеко до того селения, откуда мы поедем верхом? –
спросила Лидия Муртуз-агу. – Мне уже надоело трястись в экипаже и хочется поскорее пересесть на своего Копчика!
– Через полчаса доедем, – ответил Муртуз-ага. – Видите впереди гору, похожую на лежащего верблюда, сейчас же за ней расположено и селение Тун. Там ждут нас лошади и другой конвой!
При въезде в селение Тун коляску встретила небольшая толпа народа; впереди стояли несколько седобородых стариков, «почетных» селения, со старшиной во славе.
Низко кланяясь и прижимая руки к груди, они настоятельно приглашали дорогих путешественников не отказать выпить стакан чаю и закусить. Пренебречь таким радушным приглашением было невозможно, не нанося хозяевам жестокого оскорбления, пришлось согласиться. Угощение было приготовлено в доме старшины и состояло, по обыкновению, из чая, кислого молока, паныра, шашлыка и разной съедобной травки.
После закуски подали лошадей.
Муртуз-ага помог Лидии вскочить в седло, а сам сел на подведенного ему белого, как снег, жеребца, под богатым малинового бархата седлом, сплошь расшитым разноцветными шелками и украшенным серебряной вызолоченной насечкой. На шее лошади звенели и сверкали на солнце вызолоченные цепочки, на которых были привешены, величиной в маленькое блюдечко, круглые бляхи из низкосортной бирюзы, употребляемой только на конские украшения.
Для Ольги Оскаровны и Лидии были приведены их собственные лошади из Шах-Абада, специально командированными для этой цели Муртуз-агой курдами под наблюдением таможенного солдата, который, прибыв с ними накануне в село Тун, ночевал там в сакле у старшины, ожидая приезда господ. Что касается Рожновского и Воинова, то для них были приготовлены куртинские иноходцы из конюшни Муртуз-аги.
Когда вся кавалькада тронулась в путь, сопровождавшие ее курды рассыпались во все стороны, и началась дикая, но не лишенная лихости и своеобразной красоты джигитовка.
Высокие, рослые, худощавые курды, в красных куртках и черных чалмах, сидя на своих маленьких, но чрезвычайно шустрых и сильных лошадках, старались перещеголять один другого своею лихостью и ловкостью. Поодиночке и маленькими группами, по два и по три человека, выскакивали они вперед, делая вид, что гоняются один за другим, замахивались друг на друга кривыми ятаганами, прицеливаясь из ружей и пистолетов. При этом они с удивительной увертливостью бросались то вправо, то влево или вдруг, мгновенно остановившись на всем скаку, поворачивались налево кругом и мчались назад, быстро кружа над головой винтовками.
Некоторые перевертывались на седлах и неслись, чуть не волочась спинами по земле, и вдруг, мгновенно поднявшись, прицеливались в ближайшего товарища.
Многие, отскакав в сторону, круто и сразу останавливали варварскими мундштуками лошадей и, скинув винтовку, стреляли вверх, после чего неслись сломя голову назад.
Долго гарцевали курды и, только измучив вконец своих лошадей, успокоились и, сбившись в беспорядочную кучу, потрусили сзади всех, оставляя за собой облака густой пыли.
– Мне очень нравятся ваши курды, – сказала Лидия ехавшему рядом с ней Муртуз-аге, – такие они бравые на вид и, наверное, очень храбрый народ?
– Да, сравнительно с персами, – отвечал Муртуз, – но настоящими храбрецами я их не назову. Во всяком случае, народ малонадежный. Мне случалось предводительствовать ими в стычках с разбойниками, турецкими курдами, наконец, в междоусобицах, столь частых в Суджинском ханстве, и я всякий раз убеждался, насколько опасно доверяться их кажущемуся молодечеству. Они храбры, когда вдесятером нападают на одного, но при малейшем энергичном отпоре бегут без оглядки, оставляя своих вождей на произвол судьбы. Лет десять тому назад у нас произошло маленькое приграничное столкновение с турками; они неправильно заняли наше селение и не хотели добровольно уйти. Я с двумя сотнями курдов хотел выбить их оттуда и ничего не мог поделать, хотя турок не было и пятидесяти человек. Рассыпавшись в виноградниках, турки встретили нас беглым ружейным огнем; они стреляли не торопясь, с выдержкой, и этого было достаточно, чтобы удержать курдов на почтительном расстоянии, никакие мои усилия не могли заставить их идти вперед. Как полоумные, носились курды по степи, оглашая окрестность гиком, воем, визгом; бесцельно и торопливо стреляли, не заботясь вовсе, куда летят их пули, но на виноградники не шли. К вечеру, утомись этим бесцельным и бестолковым маячением, я отвел своих курдов от селения и расположился бивуаком, решив произвести на турок ночное нападение; затея не удалась; среди ночи прибежали пастухи и сообщили, что турки сами ушли обратно в Турцию. Тем тогда и кончилась наша война.
Другой раз я уже вместе с турками преследовал большую шайку разбойников. Турок было человек двадцать, у меня же больше пятидесяти, и я с грустью должен был убедиться, насколько мои курды хуже турок. Турецкие солдаты шли вперед спокойно, уверенно, не выходя из повиновения своему офицеру. По команде останавливались, по команде стреляли, старательно прицеливаясь и сберегая патроны. На сыпавшиеся на них пули они не обращали внимания, и когда разбойники были окружены на высокой скале, они, как один человек, по команде офицера, дружно полезли вверх и бросились в штыки. Следом за ними устремились и мои курды, которые до этого времени больше визжали и метались во все стороны, чем дело делали.. Нет, плохие из них выходят воины, хвалить нельзя!
– Вам на своем веку, как видно, много воевать приходилось? – сказала Лидия. – Неприятное занятие!
– Не скажите! Война – вещь хорошая! – с воодушевлением возражал Муртуз. – Сознание, что вот-вот каждую минуту ты можешь быть убитым и что жизнь твоя зависит от судьбы, от малейшей случайности, наполняет душу каким-то особенным чувством. Сердце начинает биться сильнее, и во всем теле чувствуется какая-то особая легкость; голод, усталость, жажда, жар, холод – все забыто, ни на что не обращаешь внимания, все мысли сосредоточены на одном – уничтожить врага. Когда кто-нибудь из своих падает около убитым или раненым, то это возбуждает не чувство жалости, а непримиримую ненависть к врагу и страстное желание, в свою очередь, убивать, убивать без конца!
– Не понимаю я этого! – пожала плечами Лидия. –
По–моему – это зверство, проявление самых низких животных инстинктов. Убивать своего ближнего и находить в этом наслаждение! Это просто чудовищно!
Она с содроганием повела плечами и замолчала. Несколько минут они ехали молча.
– Послушайте, – нерешительным тоном заговорила девушка, – не примите это за праздное любопытство; я вовсе не любопытна, и если спрашиваю, то имею на это свои причины; скажите, вы ведь не персиянин?
Муртуз-ага нахмурился, хотел отвечать, но замялся.
– Не все ли вам равно? – спросил он в свою очередь, помолчав.
– Если спрашиваю, то значит, не все равно; впрочем, если не хотите, не отвечайте! – холодно произнесла девушка и отвернулась.
– За что же вы сердитесь? – улыбнулся Муртуз-ага. –
Если вас это так интересует, и вы обещаете оставить наш разговор между нами, то я, так и быть, сознаюсь вам: да, я действительно не персиянин родом!
– Вы русский, не правда ли? – живо обернулась к нему
Лидия, пытливо заглядывая ему в глаза.
– И да, и нет. Я действительно русский подданный, но не русский!
– Армянин?
– Армянин?.. О, нет! – со стремительной живостью воскликнул Муртуз. – Только не армянин, клянусь вам!
– Верю! – улыбнулась Лидия его порыву. – Впрочем, это и так сейчас же видно. В вас нет ничего армянского. Но какие причины заставили вас уйти из России?
– Этого я не могу вам сказать, – глухо произнес Муртуз,
– не могу ни под каким видом. Что хотите, но только не это, и, наконец, скажите, для чего вам знать о том, о чем вот уже около двадцати лет я сам стараюсь забыть, о том, что гложет мою душу, делает меня глубоко несчастным? Впрочем, я отчасти понимаю; вас интересует вопрос, с кем вы имеете дело. Вы вправе подозревать во мне беглого каторжника, вора из тюрьмы или мошенника. Клянусь вам, я ни то, ни другое, ни третье. Я человек честный, и никакого темного, грязного дела на моей совести нет; я не вор, не фальшивый монетчик, подлогов не совершал, словом, не делал ничего такого, что люди называют бесчестным. . Вот все, что я могу вам сказать, а там верьте мне или не верьте – ваше дело!
Лидия внимательно поглядела в его взволнованное, слегка раскрасневшееся лицо и протянула ему свою затянутую в перчатку изящную ручку.
– Верю! – твердо и искренно произнесла она, крепко пожимая его руку.
Воинов ехал подле Ольги Оскаровны, в нескольких саженях сзади Лидии и Муртуза, и по временам бросал на них тревожные взгляды.
«О чем они так жарко и оживленно беседуют? – мучительно вертелось у него в голове. За топотом копыт по каменистой почве ему не было слышно ни одного слова, и он видел только жесты, сопровождавшие разговор. От ревнивого внимания Аркадия Владимировича не ускользнуло мимолетное пожатие руки, которым обменялись Лидия и Муртуз-ага. Он вспыхнул до корня волос и, будучи не в силах совладать с собой, дал шпоры коню и в один миг очутился подле Лидии. Бесцеремонно оттолкнув грудью своего коня лошадь Муртуз-аги, Воинов смело втиснулся между ним и Лидией. В этом месте дорога была узка и шла по крутому обрыву, над глубокой пропастью; Муртуз-ага, ехавший с края и рисковавший ежеминутно сорваться вниз, принужден был, наконец, осадить своего жеребца и следовать сзади.
Ольга Оскаровна, видевшая всю эту сцену, поспешила прийти на выручку; она рысью подъехала к Муртуз-аге и, ласково дотронувшись ручкой хлыстика до его руки, заговорила:
– Какой чудный вид отсюда на долину! Точно панорама! Как красиво выглядит этот хребет гор там, вправо, не правда ли? А как хорош Аракс, словно серебряный пояс, или, еще вернее, огромная серебристая змея. Удивительно красиво!
– Дальше будет еще лучше! – поспешил любезно ответить Муртуз-ага. – Видите ту вершинку? Когда мы подымемся на нее, я вам советую остановиться, оттуда вы увидите всю окрестность как на ладони. В светлые дни, а сегодня как раз такой день, с этой вершины видна не только вся Араксинская долина, но и Араратская. Отсюда Арарат еще не виден, но с вершины вы увидите его во всей красе, с его турецкой стороны!
XXIV
Хотя бы на дно пропасти
– Вы, кажется, с луны соскочили? – недовольным тоном бросила Лидия, едва взглянув на поравнявшегося с ней
Воинова. – Так стремительно подъехали, чуть обоих нас в пропасть не столкнули!
– Вы были далеко от края, – отвечал Воинов, – моей лошадью я мог скорее отодвинуть вас ближе к скале, чем к пропасти, но я даже не дотронулся до вашей амазонки!
– Вы чуть-чуть не сшибли туда Муртуз-агу! – с возрастающим раздражением произнесла девушка.
– Муртуз-агу, это дело другое! – спокойно согласился
Воинов. – Но и тут вы напрасно беспокоитесь, дорога достаточно широкая, чтобы ехать втроем. Впрочем, Муртуз хороший наездник и никогда бы не свалился в пропасть, если бы даже дорога и была уже!
– Не понимаю, причем тут наездничество, – пожала плечами Лидия, – самого лучшего ездока можно столкнуть, наскочив на него так неожиданно, как это сделали вы!
– Удивляюсь, из чего вы так сильно волнуетесь? Уверен, если бы такую шутку проделал Муртуз со мной, вы бы не обратили внимание, а теперь вы столько беспокоитесь, точно случилось и не весть Бог что!
Лидия досадливо передернула плечами, но ничего не сказала.
Некоторое время они ехали молча.
– Лидия Оскаровна, – заговорил снова Воинов, переходя из деланно-спокойного тона в мягко-задушевный, –
перестаньте сердиться! Если бы вы знали, как мне тяжело видеть вас такой недовольной, нахмуренной и сознавать, что это недовольство вызываю я своей особой. Я, – который готов за вас хоть на смерть. Видите эту пропасть?
Скажите слово – и я, как есть, с конем брошусь вниз, ни на минуту не задумавшись!
При этих словах голос Воинова дрогнул. Он был сильно взволнован. Лидия мельком взглянула ему в лицо и почувствовала нечто похожее на раскаяние.
– Ну, полноте, – заговорила она дружеским тоном, и обворожительная улыбка мелькнула у ней на губах, – вы, кажется, начинаете нервничать. Такой большой и такой капризный! – добавила она шутливо, обводя его ласковым взглядом своих красивых выразительных глаз.
При этом чарующем взгляде Воинов совершенно расцвел. Он забыл все обиды и неприятности, сыпавшиеся, на него в последнее время, и с благодарностью и обожанием взглянул в лицо Лидии.
– Вы, Лидия Оскаровна, ангел, ангел и ничто больше! –
восторженным тоном и с глубоким уважением произнес он.
– Ну, уж и ангел! – искренно рассмеялась Лидия.
Когда все пятеро поднялись на крутую и высокую вершинку, о которой говорил Ольге Оскаровне Муртуз-ага, глазам их представилась роскошная, величественная картина. Прямо перед ними, на десятки верст, раскинулась необъятная Араксинская долина, с прихотливо извивающейся по ней, сверкающей, как серебро на солнце, рекой.
Бесчисленное множество озер, прудков и водоемов, подобно рассыпанным осколкам зеркала, блестели в ярких лучах солнца, окруженные, как бархатной рамой, темной зеленью деревьев. Утопая в яркой зелени садов, виднелись живописно разбросанные селения, с белыми домиками, издали похожими на детские кубики. Темной громадой, понижаясь по мере своего удаления и постепенно закутываясь в прозрачно-розовую дымку тумана, как чешуйчатый хребет дракона, тянулся каменистый кряж обнаженных, лишенных всякой растительности скал. По ним, глубокими морщинами, чернели трещины, овраги и пропасти, принимавшие чем далее, тем более причудливые формы.
Налюбовавшись видом Араксинской долины, Лидия повернула лошадь, и глазам ее представилась еще более величественная картина. Прямо перед ней, подавляя своей громадой и прямыми очертаниями контуров, сверкал снеговой вершиной чудовищно огромный Арарат.
Его снеговая шапка сияла в лучах солнца, искрилась и переливалась, как усыпанная бриллиантами. Малый Арарат, с которого давно уже сбежал последний снег, покорно прижимался курчавой головой к плечу своего старшего, могучего брата; ниже снеговой полосы, от которой, казалось, так и веяло несокрушимой вечностью, начиналась зелень, сначала темная, слабая, прерываемая местами целыми площадями сплошных камней, но чем ниже, тем более яркая, веселая, как бы улыбающаяся. Подошва же и вся долина, примыкающая к горе, на десятки верст представляла один сплошной зеленый ковер, с бегущими по нему, по всем направлениям, искусственными ручьями и рассеянными куртинскими чадрами110.
Бесчисленное множество скота, лошадей и овец, отдельными табунами и стадами ползало глубоко внизу, как пестрые мухи, оживляя своим присутствием величественно-девственную картину природы. Далее зеленая степь переходила в желто-красные пески, которые мало-помалу терялись, сливаясь с горизонтом. В стороне виднелись едва уловимые очертания большого города, как бы повиснув-
110 Чадры – обычное название войлочных палаток, юрт у курдов.
шего в воздухе.
– Вы были правы, – произнесла Ольга Оскаровна, обращаясь в Муртуз-аге, – виды действительно чудесны! Не правда ли, Лидия?
Лидия ничего не ответила, но бросила на Муртуз-агу такой ласковый, благодарный взгляд, как будто этот вид был его собственностью, и он преподнес его им в подарок.
Постояв около получаса, путники двинулись дальше.
– Скоро стемнеет, – заметил Муртуз, – надо спешить!
Все прибавили шагу, но, несмотря на это, в Суджу приехали довольно поздно.
Все селение давно уже спало, и Муртуз-ага повел их прямо к приготовленному для их приема дому. Дом этот, архитектурой своей напоминавший большую шкатулку, с куполообразной башней посредине, примыкал ко дворцу сардаря и окнами своими выходил в парк, окружавший этот дворец с трех сторон.
На пороге приехавших встретило несколько человек слуг, очевидно, их поджидавших. С низкими поклонами они провели их в дом и указали приготовленные для ночлега комнаты. Комнат оказалось несколько, но все они были маленькие, с низкими потолками, и лишены почти всякой обстановки. Кроме ковров на полу да грубой работы стульев под красное дерево и нескольких маленьких круглых столиков, ничего другого не было. Стены украшали повешенные в близком расстоянии друг от друга разных величин и фасонов зеркальца в медной оправе и какие-то дощечки из разноцветного стекла с написанными на них черной жирной краской изречениями из Корана. В
одной комнате, побольше других, с потолка спускалась стеклянная люстра, а в стену было вделано большое зеркало, с вызолоченной деревянной рамой. По бокам зеркала красовались две бронзовые лампы, одна под красным, а другая под голубым шаром. Одна из этих ламп, с голубым колпаком была зажжена и бросала мягкий, лунный свет на всю комнату. Посредине комнаты, как раз против зеркала, в аршинном друг от друга расстоянии, стояли две низких железных кровати, самого простого, больничного фасона.
На каждой из этих кроватей лежало по два обтянутых шелковой материей матрасика из верблюжьей шерсти и по одной длинной, кишкообразной, тоже шелковой подушке.
Застланы кровати были шелковыми джеджимами111. Ни наволочек, ни простынь не было.
– Эта комната для вас и Ольги Оскаровны, – сказал
Муртуз-ага, обращаясь к Лидии, – сейчас принесут сюда ваши вещи. Здесь, я надеюсь, вам будет хорошо!
– А двери запираются? – не без некоторой боязливости в голосе спросила Ольга.
Муртуз-ага чуть заметно улыбнулся.
– Если желаете – заприте, но только это напрасно. Сюда никто не войдет. У дверей дома сторожа, которые никого не пропустят!
«Да, но кто будет сторожить нас от самих сторожей? –
подумала Ольга. – Нет, запереться покрепче – будет дело надежней».
– Теперь, господа, когда дамы устроены, я поведу вас в ваши комнаты, – обратился Муртуз к Воинову и Рожнов-
111 Джеджим (тюрк.) – ткань из шерсти или шелка, при этом последняя значительно дороже. Ткань представляет из себя узкую, в несколько метров длиной, материю очень изящного, подчас пестрого рисунка, которую режут на нужные размеры для последующего изготовления одеял, занавесок на окна и двери.
скому, – пожалуйте за мной, прошу вас!
– Надеюсь, вы нас устроите обоих в одной комнате, –
сказал Рожновский, идя за Муртуз-агой, – а то поодиночке спать в чужом месте скучно! Не правда ли, Аркадий Владимирович?
– Разумеется, – подтвердил Воинов, – нас, пожалуйста, вместе!
– Это как вам будет угодно! – любезно согласился
Муртуз-ага. – Хотя для каждого из вас приготовлено по отдельной комнате, но раз вы не желаете расставаться, то я сейчас прикажу снести обе кровати в одну!
– Да, уж если можно, то, пожалуйста, распорядитесь не разлучать нас!
Когда мужчины вышли, Ольга Оскаровна первым долгом осмотрела дверь и осталась ею очень недовольна.
Большой медный замок со стеклянной ручкой не действовал, ключ хотя и торчал в скважине, но был, очевидно, сломан и без пользы вертелся во все стороны. Приходилось довольствоваться маленькой медной задвижкой.
– Да полно тебе, – прервала Лидия сетования сестры по поводу неисправности замка, – вот трусиха, кто тебя здесь тронет, подумай только! Под боком у хана и под охраной
Муртуз-аги ты можешь спать так же спокойно, как на нашем хуторе, под крылышком у маменьки. Помоги лучше достать мне из хурджин простыни, да ляжем скорей.
Смерть спать хочется! Шутка сказать, больше тридцати верст в фаэтоне и около двадцати верст верхом и все в один день. Можно устать, я думаю. .
Когда обе сестры легли и успели уже задремать, вдруг к ним в двери кто-то осторожно стукнул.
– Что такое, что надо, кто там? – испуганно подняла голову Ольга Оскаровна. В ответ за дверями послышалось какое-то неясное бормотание. Долго ни Лидия, ни Ольга не могли понять, кто и о чем с ними толкует.
– Да ведь это слуга принес нам чай! – догадалась, наконец, Лидия и громко и весело расхохоталась, глядя на встревоженное, недоумевающее лицо сестры.
– Какой чай, зачем? – замахала та рукой. – Не надо, чох-саол, гэт, тэт112, не надо! – торопливо закричала она, обращаясь к продолжавшему царапаться за дверью нукеру.
– Чох-саол!
Лидия продолжала хохотать, приведенная в восторг неожиданно, со страху, открывшимися у ее сестры познаниями в татарском языке.
– Эк тебя! – укоризненно покачала головой Ольга, опуская голову на подушку. – Вот ты говорила, никто не войдет – никто не войдет, а не запри я дверей, он бы со своим чаем так-таки прямо и прилез бы к нам сюда, к самым постелям!
– Воображаю, как бы ты переполошилась!
– Воображай, сколько хочешь, а я спать буду – поздно!
XXV
В Судже
На другой день, едва Лидия и Ольга успели одеться и умыться из медного, высеребренного затейливого кунгана113, стоявшего в углу на низком табурете, как в комнату к
112 Гэт, гэт – уходи.
113 Кунган (кумган) (тат.) – металлический, обычно из меди, рукомойник, преимущественно на Востоке, кувшин с носом, ручкой и крышкой удлиненной формы. В
глубокую старину выполнялся и из серебра.
ним громко постучали.
– Татары! – трагическим голосом произнесла Лидия, делая шутливо-испуганное лицо.
– Mesdames114, – послышался голос Осипа Петровича, –
вы спите?
– Нет, мы уже одеты; что тебе? – спросила Ольга, отворяя дверь и подставляя мужу румяную щечку для поцелуя.
– Пожалуйте чаи пить. Давно уже готово!
Комната, где сервирован был чай, представляла из себя круглую башню, с окнами наверху, пропускавшими сквозь свои матовые стекла мягкий приятный свет. Посередине ее, на разостланном ковре, оригинального старинного рисунка, поверх полосатой скатерти стояло несколько подносов с закусками. Тут были: катых115, паныр, нарезанные ломтики арбуза и дыни, сотовый мед в чашках, разного сорта варенье и целая груда белого, как снег, испеченного по особому образцу, на цельном молоке, лаваша. В стороне возвышался большой, никогда, должно быть, не чищенный самовар. Вокруг него хлопотали два замечательно красивых мальчика-подростка, с томным выражением влажных черных глаз и легким румянцем на нежных, молочной белизны лицах. Одеты они были совершенно одинаково: в темно-синие суконные казакины с красными кантами, такие же шаровары, узкие на щиколотке и широкие у пояса.
Пуговицы на казакинах, с гербом Льва и Солнца, были
114 мадам – во множ. числе (фр.).
115 Катых, катык (тат.) – кислое молоко, овечий айран под простокваши. Овечье молоко варят, затем пахтают масло а уже пахтань квасят в катык. Пахтанье – сыворотка, оставшаяся после сбивания масла.
вызолочены; на голове у обоих красовались конусообразные папахи из мелкого блестящего черного барашка. Один из мальчиков, постарше, занимался разливанием чая по маленьким разрисованным золотом и красками стаканчикам, а другой разносил их гостям, причем каждый стаканчик помещался на отдельном подносике, с изображением шаха. Чай был душистый, сильно подслащенный и особого терпкого вкуса. Осип Петрович объяснил Лидии, обратившей внимание на особенности подаваемого чая, что этот чай не китайский, а индийский, к которому персы примешивают какое-то наркотическое снадобье, кажется, опиум, отчего он в большом количестве сильно действует на нервы.
– Вообрази себе, – обратился Рожновский к жене, со смехом качая головой на Муртуз-агу, сидевшего подле него, – каков наш Муртуз-ага! Он вчера не пошел домой, а ночевал в первой комнате, у входных дверей. Там ему приготовили постель, и он спал вооруженный, охраняя ваш покой. Каков?
– Не знаем, как вас и благодарить, – улыбнулась Ольга
Оскаровна, – вы чрезвычайно любезны и предупредительны!
– Ваш раб! – низко, по-восточному склонил голову
Муртуз-ага, бросая в то же время горячий взгляд на сидевшую подле сестры Лидию. – Моя жизнь и моя голова у ног ваших! – докончил он персидским изречением. Когда все напились чаю и закусили, в комнату вошел высокий худощавый молодой человек и, низко поклонившись присутствующим, произнес несколько персидских слов.
– Хан спрашивает, как дорогие гости почивали, – перевел Муртуз-ага слова юноши, – и просит, если желаете его видеть, пожаловать к нему на его половину. Он извиняется, что сам не в состоянии прийти: он болен и не выходит из своей комнаты. Впрочем, – уже от своего имени добавил Муртуз, – если дамы считают для себя унизительным идти первыми к сардарю, то они могут подождать его в соседней комнате; он сам туда выйдет, хотя, по совести говоря, ему это будет трудно. От сильного ревматизма он почти без ног!
– Нет, почему же, мы охотно сами пойдем к нему! –
воскликнула Лидия. – Зачем его утруждать, если он в самом деле болен?! К тому же, – добавила она, смеясь, –
как-никак, а все-таки же он владетельный князь. Применяясь к нашим титулам, «светлость» – так ведь?
– Совершенно верно! – кивнул головой Муртуз.
Пройдя крытой стеклянной галереей из дома, где они ночевали, в соседний с ним сардарский дворец и миновав две совершенно пустых комнаты, с выкрашенными сажею стенами и мутными окнами, гости вступили в обширный зал, со множеством колонн, поддерживавших сводчатый, высокий потолок. Стены, потолок и колонны зала были зеркальные, причем зеркала не были сплошными, а состояли в виде замысловатого узора, из бесчисленного множества мелких зеркальных кусочков, всевозможных форм и величин, замечательно искусно скомбинированных между собой. Каждая группа таких зеркалец изображала особый рисунок и была окружена белым гипсовым барельефом. Поставленные под разными углами и уклонами, эти крошечные, бесчисленные кусочки издали представлялись сверкающей чешуей, как бы густо-густо унизанной бриллиантами. Колонны, кроме зеркалец, были в верхней своей части украшены еще и разноцветными стеклышками.
Из таких же стеклышек, в соединении с зеркальцами, были выведены замысловатые узоры на потолке, посредине которого красовался сложенный из тех же цветных стекол больших размеров персидский герб Льва и Солнца. Вокруг большого герба было рассеяно еще несколько подобных же гербов, но несравненно меньших размеров.
Три огромных окна, по форме своей похожих на венецианские, занимали одну стену. Окна эти представляли из себя искусной резьбы дубовые рамы, в которые были вделаны посредине белые, а по краям разноцветные стекла.
Сочетание красок и узора хотя и было несколько смело и резко, но в общем носило печать своеобразной красоты.
Украшением этого фантастического зала служила прежде всего чудовищных размеров хрустальная люстра, с бесчисленным множеством граненых висюлек. Люстра эта была повешена посредине, а справа и слева от нее переливались всеми цветами радуги еще две такие же, но значительно меньше. Кроме этих люстр, со вставленными в них свечами, соединенными моментально воспламеняющимся шнурком, на всех трех стенах, не занятых окнами, были прибиты хрустальные бра на 5 свечей каждое. От ярких солнечных лучей, широкой волной проникавших через огромные окна, вся эта тяжелая масса хрусталя горела и сверкала миллионами разноцветных искр; искры эти, в свою очередь отражаясь бесчисленное множество раз в зеркальных осколочках потолка и стен, придавали всей комнате сказочно волшебный вид. Пол зала был застлан коврами, причем средний ковер был шелковый, удивительно изящного рисунка и огромной ценности.
Немалого внимания заслуживали также и двое дверей, расположенных одна против другой. Очень высокие, двустворчатые, они были сделаны из темного дуба и украшены художественно исполненной резьбой и барельефами.
Бронзовые литые вызолоченные ручки в виде львиных голов сами по себе могли быть причислены к высокохудожественным произведениям. Как впоследствии узнала
Лидия, двери эти были выписаны из Англии, и стоимость их равнялась целому состоянию.
Пройдя зеркальный зал, путники наши вступили в сравнительно небольшую комнату, довольно изящно убранную. Ковры на полу, ковры на стенах и множество развешанного по стенам оружия, составляли богатство и украшение этой комнаты. При входе их с противоположного конца комнаты навстречу им поднялся человек высокого роста, болезненно-худой и мертвенно-бледный, с глубоко провалившимися глазами, одетый в темно-синий кафтан с бриллиантовой звездой «Льва и Солнца» на груди и в турецкой феске на голове. На вид ему было лет 35, хотя на самом деле он был гораздо моложе; но упорная, застарелая болезнь согнула его высокий стан и сильно состарила его от природы красивое и выразительное лицо. Это был сам сардар, хан Суджинский, Хайлар-ага.
Сделав два-три шага колеблющейся походкой, с трудом волоча ноги, обтянутые в теплые туфли, Хайлар-хан с любезной улыбкой пожал руки сначала дамам, а затем
Воинову и Рожновскому.
– Милости просим! – произнес он глухим голосом по-русски, но с сильным акцентом, любезно показывая рукой на стоявшие перед ним стулья, обитые зеленым бархатом. – Очень рад вас видеть; хорошо ли доехали?
Гости поспешили поблагодарить любезного хозяина, и разговор мало-помалу завязался. Впрочем, Хайлар-хан сам почти ничего не говорил, а только время от времени задавал короткие, односложные вопросы, внимательно выслушивая ответы и время от времени одобрительно покачивая головой.
Хан сидел в мягких, широких креслах, гости же помещались против него на стульях, которые были низки, жестки и крайне неудобны. Кроме Хайлар-хана в комнате находилось еще несколько человек: высокий сухопарый старик, с длинной белой бородой и мрачным взглядом из-под нахмуренных клочковатых бровей, главный управитель и казначей хана, Халил-бек, сидел у ног хана, уткнув бороду в грудь и пытливо, исподлобья поглядывая на гостей. Молодой, краснощекий юноша, с блестящими глазами и ярко-пунцовыми губами, заведующий ханским столом, неподвижно помещался за креслом хана. На его бесстрастном лице не отражалось никакого внешнего впечатления.
С другой стороны ханского кресла сидел рыжебородый толстяк, смотритель ханской челяди. Подальше у окна, на мягких матрасиках, один против другого, помещались еще двое: древний старец-кадий, седой как лунь, с мутным потухшим взором, одетый, поверх белого халата, в белую аббу и белую чалму, с четками в руках, которые он медленно и методично перебирал длинными, сухими пальцами, и небольшого роста жилистый старичок, с красным, гладко выбритым лицом, украшенным длинными, сивыми, закрученными вниз усами.
Одет он был в серый дешевой материи кафтан домашнего покроя и шитья, на котором как-то странно выделялась небольшая бриллиантовая звезда на зеленой муаровой ленточке. Человек этот сидел, слегка повернув голову и, очевидно, с большим вниманием прислушиваясь к разговору хана с его гостями. По временам он торопливо оглядывался своими выразительными, быстро бегающими и вглядчивыми глазами, но сейчас же снова опускал их вниз и даже слегка прищуривался, как бы желая совершенно скрыть свои проницательные зрачки за занавеской густых, длинных ресниц. Старик этот был замечательнейший человек во всем ханстве и в действительности настоящий его правитель, так как постоянно болеющий Хайлар-хан давно уже всецело отдался ему в руки и беспрекословно следовал всем его советам. Звали старика Алакпер-Бабэй-хан. Он занимал пост старшего секретаря сардаря, исправляя при нем роль как бы министра иностранных дел. Несмотря на всю слабость и мизерность Суджинского ханства, Алакпер-Бабэй-хану было немало работы, и его, по справедливости, можно было сравнить с пловцом, принужденным лавировать между острыми подводными камнями на утлом челноке.
Ему надо было уметь ладить одновременно с двумя могущественными соседками, Турцией и Россией, и в то же время угождать деспотичному, алчному персидскому правительству, постоянно покушавшемуся на независимость ханства. Ко всему этому приходилось то и дело подавлять внутренние междоусобицы. Года не проходило, чтобы тот или другой из младших ханов не затевал ссоры с кем-нибудь из родственников, ссоры, кончавшейся кровопролитием. Селение подымалось на селение, вассалы ханские жгли и убивали друг друга, и правителю иногда приходилось самому собирать многочисленное войско, чтобы силой водворить спокойствие среди своих строптивых родичей. Но больше всего хлопот и неприятностей было с курдами. Этот самовольный, дикий и воинственный народ, видевший главный источник добывания средств к жизни в грабежах, решительно не хотел признавать никаких границ, бесцеремонно врывался в приграничные владения соседних государств и нагло там хозяйничал.
В свою очередь, курды России и Турции, будучи одинакового мировоззрения со своими собратьями в Персии, поступали точно так же по отношению к ним. Из-за этого между теми и другими возникали постоянные конфликты, возбуждавшие дипломатические переговоры с пограничными турецкими и русскими властями. Положение Алакпера-Бабэй-хана было тем труднее и щекотливее, что в душе он не мог не сознавать полной невозможности прекратить эти ненормальные отношения. Суджинские курды были слишком бедны, слишком безземельны, а в то же время слишком обременены поборами, чтобы иметь возможность существовать исключительно трудами своих рук, не прибегая к грабежу богатых, сравнительно с ними, соседей.
Ввиду таких условий даже исправность поступления податей зависела от удачи в разбойничьих набегах.
Надо было много ума и хитрости, чтобы изворачиваться среди всех этих, по-видимому, исключающих одно другое, положений; но Алакпер-Бабэй-хан умудрялся каким-то ему одному известным способом устраивать так, что в большинстве случаев и овцы были целы, и волки сыты.
XXVI
Сардар Хайлар-хан
– Скажи, – неожиданно спросил Хайлар-хан Рожновского в средине разговора, – где лучше доктора, в России или у ференгов116? Я хочу ехать лечиться. Мне советуют ехать в Париж. Там самые лучшие доктора. Не правда ли?
– Где доктора лучше, я не берусь судить! – отвечал
Осип Петрович. – В Петербурге и в Москве есть прекрасные, знающие врачи!
– Знаю, но они сами не будут лечить, а пошлют лечиться во Францию или Германию, стало быть, для чего же мне ехать так далеко – в Москву? Не проще ли прямо обратиться к ференгам?
Сказав это, Хайлар-хан лукаво улыбнулся и хитро посмотрел на собеседника. Рожновский должен был признать всю разумность приведенного ханом соображения.
– Русские доктора, – подумав немного, сказал он, –
могли бы посоветовать вам отправиться в Пятигорск, Кисловодск или Железноводск. .
– О, нет, нет! – с живостью перебил его хан. – Туда мой ехать не можно, никак не можно!
– Почему это? – удивился немного Рожновский.
– Пятигорск, Кисловодск, Сентука, все мой знают.
Армянин есть, татар есть, персиянин есть, – бэшкэш приносить будет, он давал бэшкэш яман 117, а я ему давай
116 Ференги – здесь: подразумеваются французы.
117 Яман – плохой, худо или плохо, нехорошо.
бэшкэш яхши118. Для меня нехорошо будет, а другой придет, дэньги дай, третий, посмотрэть желает, гаварыт будет, скажет знаком бывал. Улицам идэш – палициюм знай, торговцем знай. Один клянются, другой клянются – тому дай, и того купи, наш хан, говорят. Много беспокойством будет!
Рожновский не мог не улыбнуться в душе, слушая хана и сознавая справедливость его слов и опасений.
«А ведь хан прав, – подумал он, – в Пятигорске или в другом каком-нибудь кавказском курорте ему часу не дадут спокойно вздохнуть всякие его соотечественники из русско-подданных».
Посидев еще несколько минут и перекинувшись двумя-тремя незначительными фразами, гости поднялись и стали прощаться с ханом, который, ослабев от продолжительного сиденья в кресле и разговора, не стал очень сильно их удерживать. На прощанье он предложил им осмотреть его дворец, для каковой цели назначил в проводники, помимо Муртуза-аги, еще и Алакпер-Бабэй-хана.
Прежде всего вышли в сад, чтобы оттуда осмотреть наружный фасад здания.
Снаружи дворец сардаря представлял из себя двухэтажное, довольно неопределенной, смешанной архитектуры здание, на высоком фундаменте и с башней наверху.
Характерной особенностью этого здания было множество маленьких висячих балкончиков, со стенами и потолком из разноцветного стекла. Балкончики эти, как гнезда стрижей, лепились в беспорядке одни выше других, резко выделяясь
118 Яхши, якши – хороший, хорошо.
на ярко-белом фоне стен здания. Возвышавшаяся посредине дворца высокая башня с куполообразной крышей из пестрых изразцов окружена была колоннадой с блестевшими на солнце между колоннами металлическими, вызолоченными перилами. Колоннада эта, очевидно, была местом прогулок самого хана, где он мог прохаживаться, наблюдая с высоты жизнь всего селения и оставаясь сам в то же время невидимым для постороннего любопытного взгляда. На фронтоне здания красовалось барельефное, грубо размалеванное изображение персидского герба; канареечного цвета лев, с бабьим лицом и с выглядывающим из-за его спины оранжево-золотистым солнцем, от которого во все стороны расходились ярко-желтые, топорно сделанные лучи. Над башней, на высоком шесте, развевалось, как повешенная для просушки простыня, темно-зеленое знамя.
К главному зданию справа и слева примыкали флигели, соединенные с ним крытыми стеклянными галереями на столбах. В общем, дворец выглядел довольно неуклюжим, но его скрашивало то обстоятельство, что он был выстроен на вершине крутого холма и окружен роскошным садом.
Оглядев здание снаружи, приступили к внутреннему осмотру его бесчисленных комнат.
Некоторые из этих комнат походили на виденный уже зеркальный зал, смежный с комнатой сардаря. Такие же зеркальные стены, потолки и колонны, такие же люстры и бра, такие же разноцветные окна и паркетные, узорчатые полы. Только размером эти комнаты были меньше и в высоту ниже.
Другие же покои выглядели совершенно ординарно.
Отштукатуренные, выкрашенные белой масляной краской стены, гажевые, обклеенные кирпичного цвета бумагой полы и простые двустворчатые белые двери.
Мебель, которой было немного, состояла из разнокалиберных стульев, круглых столиков и нескольких пузатых, украшенных инкрустацией комодов на высоких, изогнутых ножках. Остальное убранство комнат заключалось в разостланных на полу коврах и небольших матрасиках из шелка, бархата и сукна, разложенных по углам и вдоль стен. Некоторые из этих матрасиков представляли из себя огромную ценность, так как были затканы золотом и унизаны жемчугом, бирюзой и другими самоцветными камнями.
Сидеть на таких матрасиках, разумеется, было немыслимо, и они, очевидно, играли роль только как украшение комнаты. Кроме матрасиков, повсюду грудами лежали бархатные и суконные, расшитые шелками продолговатые подушки-мутаки. Впрочем, самым оригинальным в убранстве этих комнат являлось изобилие всевозможной стеклянной, фаянсовой и фарфоровой посуды, служившей не прямому своему назначению, а являвшейся в виде своеобразного украшения. Почти в каждой комнате посредине, или у одной из ее стен, стояло по одному, а где и по два небольших стола, на которых, как в ламповом магазине, теснилось с десяток ламп. Каких-каких только тут не было! Высокие, низкие, бронзовые и фарфоровые, чугунные и разных имитаций, вызолоченные, высеребренные, цвета старой бронзы и просто-напросто пестро раскрашенные. На одних колпаки были красные, на других голубые, на третьих белые матовые или белые блестящие,
наконец, темно-зеленые; абажуры, тюльпаны, шары, простые колпаки пестрели в глазах, как на выставке. Большинство ламп было без стекол, горелки без фитиля. Вид этих горелок, совершенно чистых и не закопченных, ясно указывал, что все эти лампы ни разу не зажигались. Другим украшением комнат служила фарфоровая и стеклянная посуда. Вдоль стен, в два-три яруса шли стеклянные полки, тесно заставленные стаканами, рюмками, чашечками, вазочками, солонками и сахарницами. Даже аптечные разноцветные шары нашли себе место и торжественно возвышались среди беспорядочной груды прочего хлама, между которым попадались вещи большого изящества и ценности, как, например, восхитительные фарфоровые подсвечники, подчасники, куколки и т. п. Все эти вещи частью были выписаны из Англии, а частью куплены в приграничных армянских лавчонках, и надо было удивляться отсутствию вкуса и всякого художественного понимания, допускавшему такое безобразное смешение. Рядом с художественно исполненной вазой из дорогого тонкого фарфора стояла простая фаянсовая масленка, изображающая белого барашка с золотыми рогами, одна из тех, какими торгуют в молочных лавочках. Около старинного канделябра с порхающей на нем толпой крошечных амуров, из которых каждый, взятый в отдельности, являлся верхом искусства, ютилась глиняная, голая, раскрашенная богиня с зелеными волосами и ярко-пунцовыми щеками, поддерживающая размалеванный тюльпан-подсвечник.
Дорогие хрустальные бокалы, украшенные гравировкой, были перемешаны со стаканами из зеленоватого стекла с намазанными на них яркой краской букетами, видами и портретами. Остальное убранство комнат было в том же роде; так, например, в одной из комнат о двух окнах, на первом окне, спускаясь мягкими пышными складками от самого потолка, висела тюлевая занавеска, вся затканная золотой канителью. Рисунок был чрезвычайно сложен и замысловат. Глядя на него, даже трудно было представить себе, сколько терпеливого, упорного труда потребовала эта действительно роскошная вещь, а рядом с такой драгоценностью, на другом окне висел кусок ситца с какими-то нелепыми птицами и букетами.
– О, дикари, дикари! – невольно воскликнула Лидия, пораженная таким безвкусием; но вспомнив, что сзади нее стоит Алакпер-Бабэй-хан, понимавший по-русски, она смутилась и прикусила язык, но хитрый старик сделал вид, будто ничего не слышал и самым невинным тоном спросил ее, какое впечатление вынесла она из осмотра Дворца.
– Дворец прекрасный! – поспешила любезно успокоить его Лидия.
Осмотрев дворец и спустившись по крутой лестнице вниз, все вышли на широкий, выложенный плитняком и обнесенный высокой стеной двор, посреди которого монотонно журчал и искрился небольшой фонтанчик. Муртуз-ага предложил пройти в конюшню взглянуть на ханских лошадей. Предложение было охотно принято, но впечатление от осмотра благородных животных оказалось далеко не таким, какое ожидалось. Все лошади выглядели чрезвычайно раскормленными, и почти каждая имела какой-нибудь бросающийся прямо в глаза порок. Одна была чересчур седлиста, у другой облезлый хвост, третья выглядела чрезмерно узкогрудой, четвертая имела неправильный постав ног; было две-три лошади с бельмом на глазу, а одна и совершенно слепая; по всему было заметно, что о правильном коневодстве здесь, в Судже, не имеют никакого понятия. Ухода за лошадьми в европейском значении этого слова не было вовсе: лошади были не чищены, а конюшни грязны, душны и переполнены навозом. Чтобы не отгороженные ничем друг от друга жеребцы не лягались, они были прикованы короткими цепями к вбитым в землю кольям. От этих нелепых цепей нижняя часть ног лошадей была покрыта никогда не заживающими струпьями, переходящими в конце концов в бородавки и наросты.
Между лошадьми помещалось несколько катеров, –
великолепные животные, молочного цвета, с черными глазами и умеренной длины ушами. Головы их были украшены разноцветными ленточками, и они, очевидно, пользовались большим вниманием, чем лошади.
Воинов, большой любитель и знаток лошадей, ожидавший увидеть что-нибудь особенное, был сильно разочарован и не удержался, чтобы не высказать этого Муртуз-аге.
– Так вот это-то и есть знаменитые суджинские лошади, о которых так много говорят. Признаюсь, не вижу в них ничего особенного, разве только одно то, что все они раскормлены, как кабаны!
– Суджинских лошадей надо смотреть в езде, – спокойно возразил Муртуз, – под седлом они совершенно преображаются. В конюшне они действительно выглядят немного вялыми, неуклюжими и не совсем хорошо сложенными, но когда на них садится всадник, они подбираются, шея делается гибкой, и вся лошадь точно разгорается от скрытого в ней внутреннего огня. Впрочем, с тех пор, как сардар начал болеть и совершенно перестал ездить верхом, а этому уже будет года три-четыре, в его конюшне перевелись хорошие лошади. Которые подохли, которых он раздарил или пустил в табун. Во всей Судже его лошади теперь считаются худшими. Зато катера у него очень хороши.
– А для чего ему катера, он не может ездить верхом?
– Нет, на катерах он ездит. Катер гораздо спокойнее лошади, не горячится, не прыгает, идет осторожно, плавно.
Особенно у катеров этой породы, так называемых египетских, замечательно плавный ход; они несут своего всадника на своей спине, как мать ребенка, нигде не тряхнут, не толкнут. У нас на них ездят дряхлые старики, больные и женщины, и ценятся они вдвое дороже лошади.
XXVII
В старом дворце
– Не хотите ли пройти в другой дворец, принадлежащий дяде сардаря, Халил-хану? Самого хана нет, он уехал в
Мекку, но дворец стоит посмотреть. Он построен очень давно; это единственный старинный дворец, который уцелел в Судже; прочие ханы давно уже перестроили свои дворцы по-новому, и все они как две капли воды похожи на сардарский: такие же зеркальные залы, такое же множество стеклянной посуды, в виде украшения, словом, все одно и то же, и только один Халил-хан не пожелал изменить старине.
– Что ж, пойдемте, – согласилась Лидия, – все равно делать ведь нам нечего!
Они пошли.
Дворец Халил–хана находился на другом конце селения. Всю дорогу, пока они шли, толпа ребятишек бежала за ними, с испуганным любопытством глядя на невиданные костюмы «кяфиров»119. Попадавшиеся им навстречу татары отвешивали низкие поклоны и, миновав, останавливались и смотрели им вслед. Женщины в длинных чадрах, завидя их, торопливо выбегали из дворов и, распахнув немного чадру, с каким-то испугом и недоумением глядели во все глаза, слегка разинув рот и замирая от любопытства.
Видно было, что их больше всего поражали амазонки Лидии и Ольги. Одна даже не утерпела и в то время, когда
Лидия проходила мимо нее, слегка дотронулась пальцем до ее длинной замшевой перчатки с твердыми крагами, раструбом.
Лидия остановилась и ласково улыбнулась; татарка в свою очередь оскалила белые, как молоко, зубы и весело рассмеялась.
– Какая хорошенькая! – невольно воскликнула Лидия, любуясь продолговатым овалом лица татарочки, ее миндалевидными, темными глазами и густыми-густыми, длинными ресницами. Белая, с желтоватым отливом, как старинная слоновая кость, кожа слегка румянилась на щеках, придавая татарочке своеобразную прелесть.
– Да, хорошенькая! – согласился Рожновский, в свою очередь оглянувшись на татарку, которая, заметив на себе
119 Кяфир – неверный.
взгляд мужчины, сконфузилась и пустилась бежать, звеня монистами и мелькая голыми пятками загорелых ног.
Пройдя обширный двор, с беспорядочно настроенными на нем сараями и клетушками, путники, в сопровождении нескольких нукеров, выскочивших им навстречу, вошли в густой, запущенный тенистый сад. В этом саду, скрываясь за купами темно-зеленых чинар и нарбандов, возвышалось длинное одноэтажное здание, облицованное красными, белыми и темно-коричневыми кирпичами, уложенными так, что получался замысловатый рисунок. Широкие окна, из небольших стекол в частом переплете рамы, были украшены ярко размалеванными барельефами. Часть передней стены занимала стеклянная веранда, над которой на фронтоне дома красовался, как и во дворце Хайлар-хана, лепной, раскрашенный герб Персии; по всем четырем углам здания возвышались круглые башенки с узкими бойницами вместо окон.
Поднявшись по крутой лестнице на веранду, путники очутились в низкой, полутемной комнате, служившей передней, с тремя одностворчатыми дверями, ведущими во внутренние покои. Следующая за передней комната была значительно просторнее, длиннее и светлее. Лидии она живо напоминала старинные московские терема.
Толстые массивные стены с глубокими нишами и окнами-амбразурами были пестро расписаны от потолка до низу причудливыми узорами, такие же узоры покрывали низкие сводчатые потолки. Ярко-зеленая, огненно-красная, голубая краски мешались с густой позолотой. Чудовищные цветы переплетались с замысловатыми завитками и арабесками и рябили в глазах своей яркой дикой пестротой.
Пол комнаты был устлан коврами, с набросанными в беспорядке по углам ворохами суконных, шелковых и бархатных мутак и подушек. Низенькие, богато украшенные перламутровой инкрустацией восьмиугольные табуреты, заменяющие столики, стояли вдоль стен и посредине комнаты. В правом углу было устроено нечто вроде трона: небольшая низкая оттоманка, обтянутая золотистым бархатом, и над ней балдахин из шелковых джеджимов, украшенный по углам парчовыми золотыми кистями. По стенам в одинаковом друг от друга расстоянии висели в ряд, небольшой величины, но разные по своей форме зеркала, в бронзовых, золоченых рамах; круглые, овальные, многоугольные и квадратные, наподобие звезды и полулуния. Зеркала эти были единственным украшением; ни ламп, ни стеклянной посуды, как во дворце сардаря, здесь не было, что, конечно, могло только усилить приятное впечатление, производимое своеобразным видом комнат.
Пройдя эту комнату, компания очутилась в следующей, гораздо меньшей по величине, но еще более оригинальной.
Комната эта была овальной, наподобие башенки, с круглыми окнами, помещавшимися под куполообразным потолком. Потолок, ярко-белого цвета, был окаймлен пестрым широким бордюром.
Что же касается стен, то разрисовка их сразу приковала всеобщее внимание. Не надобно было быть знатоком, чтобы понять, насколько работа была художественна.
Нижняя часть стены, от пола на вышину человеческого пояса, была искусно раскрашена под малахит, выше же фон был бледно-бирюзовый, и по этому фону тянулись, прихотливо завиваясь и переплетаясь между собой, густые гирлянды цветов, перемешанные с виноградными гроздями и разными другими фруктами. Приблизительно через аршин расстояния гирлянды эти образовывали красивые, овальной формы рамы, в которых была нарисована одна и та же женская головка, хотя и в разных видах, то прямо, то в полуобороте в ту или другую сторону. Головка эта изображала красивую молодую женщину с восточным типом лица и густыми, распущенными по плечам волосами, которые только одни и служили ей одеянием. Впрочем, кроме глаз, губ и носа, остальное все было недоделано и как бы слегка только намечено.
– Какой оригинальный и в то же время странный рисунок! – воскликнула Лидия, внимательно разглядывая изображение женской головки.
– А вы не обратили внимания, – сказал Воинов, – что в одном месте стена осталась неразрисованной и просто-напросто грубо закрашена зеленой краской.
– Ах и в самом деле, смотрите, какое безобразие! –
возмутилась Лидия. – Точно здесь когда-то была дверь, ее впоследствии заделали и замазали зеленой краской. Удивительный народ эти персы! Отсутствие понимания всякого изящества. Ну, можно ли оставлять подобное пятно рядом с таким художественным рисунком?
– Это пятно, как вы называете, сделано нарочно и имеет свою историю, – вмешался Муртуз-ага, – если хотите, я расскажу вам ее.
– Ах, пожалуйста! Мы очень рады будем послушать!
XXVIII
История одной стены
– Вы не смотрите, господа, – начал Муртуз, – на то, что краски на этих рисунках так живы и ярки; рисовал их хороший мастер, потому они, должно быть, так и сохранились, несмотря на пятьдесят лет, пролетевших с той поры, как эта комната была отделана.
Когда построен этот дворец, в точности никто не знает, во всяком случае гораздо более ста лет; но лет пятьдесят тому назад, бывший владелец его, отец Халил-хана, Юзуф-хан, вздумал капитально его отремонтировать. На это у хана были свои причины, о которых я сообщу вам после, а теперь пока скажу несколько слов о Юзуф-хане.
Это был человек страшно жестокий и неумолимый. Когда кто-нибудь из подданных Юзуф-хана имел несчастье его рассердить, то не только самому провинившемуся, но и всему его семейству не было пощады. В Судже до сих пор рассказывают, как Юзуф-хан приказывал сбрасывать со скалы в пропасть ни в чем не повинных жен и детей осужденных им на смерть нукеров, причем грудных младенцев привязывали на шею матерям, и в таком виде сталкивали вниз. С другими ханами, своими родственниками, Юзуф-хан не знался, никогда ни к кому из них не ходил и к себе не звал. Особенно ненавидел он своего родного брата, знаменитого сардара Чингиз-хана, отца теперешнего сардаря Хайлар-хана, но Чингиз-хан был сам человек очень суровый и потому, ненавидя его всей душой, Юзуф-хан тем не менее не смел явно высказывать своей вражды к могущественному владыке. К довершению всего Юзуф-хан, несмотря на свое огромное богатство, был чрезвычайно скуп; скупость его не имела границ, о ней со смехом рассказывали на базарах, а потому все были поражены, когда в один прекрасный день Юзуф-хан выказал при одном случае небывалую щедрость.
Случай этот был следующий.
Однажды курды, после своего набега на русскую границу, привезли на базар, для продажи, в числе прочего награбленного добра, молодую девушку поразительной красоты. Где и как они ее добыли, курды, по своему обыкновению, никому не рассказывали, да по всей вероятности, никто их об этом и не расспрашивал, говорили только, что пленница по происхождению своему была армянка.
Когда весть о появлении на базаре такого редкостного товара облетела все население, к курдам явилось множество покупателей из числа ханов и богатых беков, но разбойники заломили такую баснословную цену, что никто не решался заплатить столько, хотя многим пленница чрезвычайно нравилась. Она стояла потупя голову, полуобнаженная, с волосами, ниспадавшими ей почти до пят, со стыдливым румянцем на щеках и заплаканными грустными глазами. Красота ее была настолько ослепительна, что один из ханов уже готов был уплатить требуемую курдами сумму и пошел за деньгами, но в это время на базаре появился Юзуф-хан. В то время ему было больше шестидесяти лет, но он еще был бодрый и сильный, хотя уже и совсем седой старик.
Увидя его, кто-то из присутствовавших молодых ханков со смехом закричал ему:
– Юзуф-хан, купи себе красавицу. Ты у нас самый богатый, и то, что другим не по карману, для тебя пустяки!
Никто из нас не в состоянии заплатить курдам столько, сколько они хотят!
– А сколько ты за нее хочешь? – не взглянув на говорившего ханка, спросил Юзуф-хан, обращаясь к предводителю шайки. Тот сказал свою цену. Юзуф-хан несколько минут молча в раздумье разглядывал замершую перед ним от страха красавицу, и вдруг глаза его вспыхнули, как у волка, и на лице появилась легкая краска волнения. Он взял красавицу за руку и грубо дернул ее к себе.
– Согласен! – угрюмо сказал он курду. – Хотя ты просишь чересчур дорого, но пусть будет по-твоему. Веди ее ко мне во дворец и там получишь деньги!
Прошло около года. О купленной Юзуф-ханом пленнице давно все забыли, и никто ею не интересовался. Она жила в доме своего повелителя за толстыми стенами и дальше сада нигде не появлялась. Что она испытывала, и какова была ее жизнь, никто не знал, и никому до этого не было дела, но, принимая во внимание злой характер
Юзуф-хана, его старость и скупость, можно с уверенностью сказать, что житье бедной рабыни было нерадостное.
Вдруг по селению разнеслась удивившая всех новость: скупой и угрюмый Юзуф-хан, упорно не соглашавшийся дотоле переменить подгнившей балки, подправить обвалившийся угол наружной стены, ни с того ни с сего неожиданно пожелал приступить к общей переделке своего старого, медленно разрушавшегося дворца. Сначала никто не хотел этому верить, но вскоре слух вполне оправдался.
Появились вызванные из России и Турции мастера: печники, штукатуры, плотники; из принадлежащих хану селений сгонялись простые рабочие. Закипела лихорадочно-торопливая работа.
Старые стены разламывались, и на их месте воздвигались новые; маленькие и тесные помещения расширялись и надстраивались; гнилые, ветхие рамы и двери заменялись другими, словом, весь дворец принимал совершенно другой, более роскошный вид.
Между приглашенными из России мастерами был один, обязанность которого была разукрасить стены дворца живописью. Это был молодой человек, армянин, державший себя весьма независимо, не как какой-нибудь бедняк мастеровой, а скорее как настоящий господин. По мере того как комнаты отделывались, он принимался их расписывать.
Первой он разрисовал большую комнату, рядом с прихожей, а затем приступил вот к этой, где мы сейчас находимся. Хан оказался большим любителем живописи и целыми часами просиживал на одном месте, глядя на работу художника. Его занимало следить, как на гладкой, загрунтованной стене под ударами кисти, постепенно один за другим рождались все новые и новые узоры, один причудливее другого; как они ярко расцветали, покрывались позолотой, получали живость и законченность. Раза два он сам брал в руки кисть и пробовал проводить ею по стене, но, разумеется, у него ничего не выходило, кроме грязных, уродливых пятен. При виде таких попыток со стороны старика художник весело смеялся и начинал рассказывать ему о том, как люди учатся искусству живописи. Как и все армяне, он хорошо говорил по-татарски, и хан охотно слушал его болтовню. В первый раз в жизни в суровом,
свирепом старике шевельнулось нечто похожее на расположение к другому человеку; оставаясь с глазу на глаз с молодым живописцем, он переставал хмуриться, лицо его прояснялось, и голос звучал не так строго. В одну из хороших минут он, должно быть, рассказал своей пленнице о художнике, и та стала просить старика дозволить и ей посмотреть, как он рисует. Юзуф-хан по-своему, очевидно, сильно любил молодую женщину, ради нее и дворец начал перестраивать, а потому не мог отказать ей в ее просьбе.
С тех пор каждый день, когда хан являлся в комнату, где работал художник, вместе с ним приходила и пленница, закутанная с ног до головы в густую чадру. Она садилась подле хана и сидела молча и неподвижно. Сначала ревнивый хан украдкой, подозрительно поглядывал то на того, то на другого, но, убедившись, что ни его пленница, ни художник не делают ни малейшей попытки завязать между собой знакомства, успокоился.
На первых порах художник действительно не обращал никакого внимания на закутанную фигуру женщины, которую принял за одну из жен хана, но однажды, провожая глазами удалившегося хана и его спутницу, он увидел, как та незаметно бросила на пол плотно скомканную бумажку, подкатившуюся ему под ноги. Развернув ее, он, к большому изумлению, прочел:
«Я, как и ты, армянка; зовут меня Зара Унаньянц, курды похитили меня и продали в Суджу здешнему хану. Мне очень худо. Спаси меня. Отец мой очень богат, и если ты отвезешь меня к нему, он озолотит тебя. Я уговорила хана перестроить дворец в надежде, что между мастерами будут, наверное, армяне, и мне удастся переговорить с которым-нибудь из них. Еще раз умоляю – помоги!»
Прочитав эту записку, художник сильно взволновался.
Хотя лично он не был знаком со старым Унаньянцем, но много слышал о дивной красоте его дочери и о таинственном ее исчезновении.
Она была похищена на большой дороге, когда ехала со своим дядей в гости к родственникам матери. В кругу родных и знакомых ее давно считали умершей.
Когда на другой день Юзуф-хан снова появился в сопровождении Зары, художник, рисуя замысловатую арабеску, написал на стене:
«Я весь к вашим услугам, надо только обдумать!»
Хан, разумеется, по-армянски не знал, а потому, несмотря на то, что глядел во все глаза, не понял разрисованных художником завитушек и черточек, которые были не что иное, как слова, понятные для его пленницы.
В ту минуту, когда старик особенно внимательно уг-
лубился в разглядывание рисунка, Зара быстрым движением на мгновенье распахнула чадру и глазам художника предстало дивное личико, с большими грустными глазами.
Когда молодой человек остался один, он начал в волнении прохаживаться взад и вперед по комнате, вызывая в своем уме образ молодой женщины. Потом он снова взялся за кисти и осторожно стал набрасывать на память мгновенно промелькнувшие перед ним черты красавицы. Тогда-то ему и пришла мысль поместить между гирляндами головку, которую вы видите. Это было очень смело и могло возбудить подозрение хана, но молодой человек не мог преодолеть своего художественного увлечения. Чтобы несколько замаскировать сходство рисуемой им головки с Зарой, он
изменил ей прическу, и все лицо оставил недоделанным, закончив только глаза, губы и нос. Юзуф-хан ничего не понял, но красавица сразу узнала себя. Сначала она страшно испугалась, но, видя, что хан ничего не замечает, успокоилась и при всяком удобном случае спешила распахнуть чадру и показать живописцу свое красивое личико, чтобы он мог получше запечатлеть его в своей памяти.
С этого времени между молодыми людьми установилась правильная переписка. Приходя в комнату, Зара всегда садилась на одно и то же место и, опускаясь на ковер, незаметно подымала одну из множества валявшихся повсюду бумажек, о которые художник во время работы обтирал кисти. Надо ли прибавлять, что эти бумажки содержали в себе послание художника пленнице, в котором он извещал ее о том, что он предпринимает для достижения успеха в намеченной им цели спасти ее из неволи
Юзуф-хана. В свою очередь, когда молодая женщина удалялась, художник всякий раз находил на том месте, где она сидела, скомканную в комочек бумажку с несколькими нацарапанными на ней словами Юзуф-хан по-прежнему ничего не видел и не подозревал. Выдумка художника изобразить на стенах медальоны с женской головой ему чрезвычайно понравилась, он только пожелал, чтобы художник не довольствовался верхним контуром плеч, а рисовал и грудь, почти до пояса.
Чтобы его задобрить, художник охотно исполнил его желание, почему, как вы сами видите, некоторые фигуры не отличаются особой скромностью.
XXIX
Замуравленные
Работа по разрисовке комнаты подходила к концу; подходила к концу и другая работа – по подготовке всего нужного к побегу. Оставалось сделать только последний, главный и самый опасный шаг – устранить старика и похитить пленницу. Задача эта казалась невыполнимой, но художник, очевидно, был человек смелый и решительный, и вот однажды, когда Юзуф-хан, в сопровождении Зары, по обыкновению пришел к художнику, тот, низко кланяясь, поманил его к себе, желая, очевидно, показать что-то интересное, но в ту минуту, когда старый хан углубился в рассматривание данной ему в руки художником картинки, последний, сделав шаг назад, незаметно вытащил из-за рукава острый, кривой сбичак120 и одним метким и ловким ударом перехватил ему глотку. Удар был так силен, что хан не успел даже вскрикнуть и, как прирезанный баран, повалился на землю. Наступив ему коленом на грудь, художник другим ударом почти отделил ему голову от туловища, после чего, вытащив из угла мешок, бросил его
Заре. В этом мешке были припасены старая армянская черкеска, шаровары, чувяки и огромная косматая папаха, длинная курчавая шерсть которой доходила чуть не до плеч. Сбросив чадру и лишнюю одежду, Зара быстро переоделась, и оба вышли через противоположные двери на двор, предварительно заперев другие снутри на крючок.
120 Сбичак – особой формы нож, который обычно скрывался в рукаве черкески или вдевался в голенище сапога.
Прошмыгнув незамеченными через сад, они перелезли стену и очутились в глухом переулке между садами. Здесь их ждал сообщник, тоже армянин, из числа рабочих, с двумя лошадьми в поводу. Вскочив на седла, беглецы осторожно спустились вниз по крутому обрыву, переехали вброд протекавшую внизу горную быструю речку и пустили лошадей вскачь. Так как русская граница была гораздо дальше, и дорога к ней шла открытой степью, мимо многих селений, то художник, составляя план побега, решил направиться в Турцию, путь в которую лежал по горным глухим тропинкам, где они легко могли избегнуть всяких встреч. Попасть же из Турции в Россию не представляло никакого труда.
Давая время от времени лошадям перевести дух, беглецы снова пускали их вскачь, и с каждой минутой турецкая граница, а за ней и спасение, становилась к ним все ближе и ближе.
Тем временем наступила ночь. Все рассчитал, все предусмотрел смелый художник, обдумывая план побега, но не принял во внимание одного – это кромешной тьмы, которая наступает в горах ночью. Как бы ни была темна ночь на равнине, но хоть что-нибудь да можно различить, в горах же в безлунную ночь темно, как в могиле. Не видать ушей лошади, на которой сидишь, «не чувствуешь своих собственных глаз», как говорят татары. Самое лучшее было бы путникам укрыться где-нибудь в пещере и дождаться появления луны; тогда бы они наверно спаслись, но страх погони помутил их разум, и они сделали непростительную ошибку, двинувшись дальше. Хотя художник, нарочно несколько раз съездивший перед этим в Турцию, для лучшего ознакомления с местностью, прекрасно изучил дорогу, но в такую темноту не сбиться с пути можно было только благодаря счастливому случаю. На их беду счастье отвернулось от них. Проехав порядочное расстояние, молодой армянин с ужасом заметил, что он заблудился. Открытие это, должно быть, окончательно сбило их с толку, и они принялись безрассудно метаться по горам, то в ту, то в другую сторону. Это было самое худшее, что они могли сделать. Вместо того чтобы беречь своих лошадей, они напрасно утомляли их, и когда, наконец, взошла луна, то оба с ужасом увидели себя в более далеком расстоянии от турецкой границы, чем-то, где их застала ночь; к тому же лошади их совершенно выбились из сил и еле волочили ноги.
Дав им немного отдохнуть, беглецы снова погнали их вперед, но, поднявшись на одну из вершин и оглянувшись назад, с отчаянием увидели большую толпу курдов, подобно стае борзых собак, несшихся по их следам. Это была погоня. К счастью, до турецкой границы было уже недалеко теперь: все спасение зависело от того, насколько велик запас сил, остававшийся у их лошадей. Началась скачка на жизнь и смерть. Вот и граница. Добежав из последних сил до вершины горы, лошади беглецов остановились, не будучи в состоянии сделать хотя бы один шаг далее; впрочем, теперь они уже были больше не нужны. С этого места шел крутой спуск вниз, по которому гораздо удобнее было сбежать, чем съезжать верхом, а потому наши беглецы, не теряя времени соскочили с лошадей и пустились сломя голову вниз. Курды тем временем только взбирались по противоположной крутизне, а потому беглецы успели значительно опередить их. Сбегая вниз, художник, к большой своей радости, увидел издали небольшую глиняную караулку, а подле нее несколько человек турецких аскеров 121, на покровительство которых он мог вполне рассчитывать, раз бы объяснил им, с присовокуплением хорошего бэшкеша, что состоит в русском подданстве и подлежит отправке в Россию.
В ту минуту, когда беглецы были недалеко от турок, курды, взобравшись на вершину, быстро врассыпную стали спускаться вниз. Увидя это, турецкие солдаты, которых было человек десять, встрепенулись и по приказанию начальствовавшего ими пожилого унтер-офицера, быстро стали заряжать ружья.
Увидя враждебное движение турок, очевидно, с оружием в руках готовившихся не допускать нарушения своей границы, курды тотчас же остановились, сбились в кучу и рысью отъехали назад.
Художник и Зара, наблюдавшие за всем происходящим из окна караулки, куда они пробежали, повинуясь молчаливому указанию турецкого унтер-офицера, вздохнули свободно. Всякая опасность миновала; хотя курдов было втрое больше, но они никогда бы не осмелились напасть на солдат регулярных турецких войск, раз те решили серьезно защищать отдавшихся под их покровительство беглецов.
Несколько минут стояли оба отряда один против другого, взаимно наблюдая друг друга, как вдруг со стороны курдов выделился один всадник, это был старший сын
Юзуф-хана, нынешний владетель дворца, Халил-хан; тогда ему было двадцать лет, не больше.
121 Аскер – здесь: регулярный солдат, воин.
Махая туркам рукой, чтобы они не стреляли, он смело подскакал к стоявшему впереди всех унтер-офицеру.
Стоя у окна, Зара и художник внимательно и с возрастающим беспокойством глядели, как между турком и молодым ханом завязалась оживленная беседа. Оба сильно жестикулировали, часто оборачиваясь лицом к сторожке и указывая на нее руками.
Страшное подозрение закралось в душу художника.
– Проклятые! – закричал он вдруг в бессильном, яростном отчаянии. – Они нас, кажется, продают!
Он не ошибся. Молодой хан, действительно, предложил турку порядочную сумму денег за выдачу беглецов. Хитрый старик сначала долго не соглашался, но когда хан удвоил предложенную вначале сумму, он, наконец, согласился.
– Конечно, если бы они не убили мусульманина, я бы их вам ни за что не выдал, – философствовал турок, пересчитывая полученные им деньги, – но раз проклятые гяуры осмелились нечестивыми своими руками зарезать правоверного, хотя бы и шиита122, они подлежат тяжкой каре.
Берите их и делайте с ними, что хотите, во славу Аллаха.
122 Уже в раннем Исламе произошло его разделение на два основных направления
– суннизм и шиизм. Еще при упоминавшемся здесь легендарном Али, жена которого
Фатима была дочерью пророка Магомета (Мухаммеда), объединившиеся вокруг него приверженцы именовали себя «шиа» – группировка, фракция, партия. В противовес им господствующая в то время в халифате династия Омейядов придерживалась учения по преданиям Сунны – Священного предания Ислама, занимающего в нем такое же место по отношению к Корану, какое иудаизм (Талмуд) занимает относительно христианской
Библии. Персы придерживались веры шиитов, их учения, а турки – суннизма. В прошлые века непримиримая ненависть шиитов к суннитам, и наоборот была так велика, что превосходила ненависть каждой из этих враждебных друг другу сект к христианам или сторонникам буддизма.
Эй, обратился он к своим солдатам, – вытащите этих двух негодяев и отдайте молодому хану, который так милостив, что подарил нам целую горсть монет. Да будет прославлено его имя!
Турки не заставили повторять приказания, и через минуту художник и Зара уже бились в сильных руках курдов.
Напрасно молодой человек кричал, что он русский подданный, и что за выдачу его они ответят перед русским правительством, турки оставались глухи к его воплям, нисколько не опасаясь его угроз, отлично понимая, что персы его живого не выпустят, стало быть, и жаловаться он уже не будет.
В тот же день к вечеру художник и Зара снова очутились в той самой комнате, где они сговаривались совершить побег и откуда так неудачно бежали, обагрив ее кровью старого Юзуф-хана.
– Пусть эта комната, где ты замыслил свое злое дело, –
сказал Халил-хан художнику, – послужит тебе и ей, – он указал на Зару, – могилой. Смотри: один кусок стены тобой еще не разрисован, пусть же, вместо твоего рисунка, ляжет туда твое тело!
По приказанию хана пришедшие рабочие живо разобрали часть стены настолько, чтобы в образовавшееся углубление можно было поместить стоящего во весь рост человека. Когда все было готово, с художника и Зары сняли всю одежду, скрутили их веревками и, вставив в стену, заложили кирпичами, а сверху обмазали стену известью.
Так погибли эти двое несчастных, и никто никогда не узнал об их судьбе.
– Неужели они еще до сих пор в стене? – прошептала
Лидия, с ужасом оглядываясь на зеленый четырехугольник.
– О, нет! – отвечал Муртуз, – лет десять тому назад, когда Халил-хан уступил эту половину дворца своему сыну
Мехти-хану, тот приказал сломать стену, вынуть оттуда кости замуравленных и выбросить их вон. После этого стену снова заделали и закрасили ее пока зеленой краской, а осенью обещал приехать один мастер, чтобы зарисовать это место, наподобие прочих стен, такими же гирляндами и цветами. Не знаю только, удастся ли этому художнику нарисовать так же хорошо, как нарисовал его предшественник, нашедший в этой комнате свою могилу!
– Откуда вы знаете все эти подробности, точно сами присутствовали там? – спросила Ольга Оскаровна.
– Мне об этой истории подробно рассказывал сам Халил-хан. Он тогда же подверг допросу всех армян-рабочих, и те сообщили ему все, что сами знали, а известно им было многое, так как молодой художник рассказывал им обо всем сам.
– А рабочим ничего не сделали?
– Нет. Когда они окончили отделку дворца, их отпустили с миром; только одного, кто помогал беглецам, задержали во дворце хана еще на год, но затем и тот был отпущен на все четыре стороны. Халил-хан был не в отца: тот бы не пощадил никого!
– Ужасная история! – нервно потерев рукой лоб, произнесла Лидия. – Ну, уж и страна же, ваша Персия! Тут каждый камень кажется свидетелем какого-нибудь убийства!. Я уже устала ходить и хочу вернуться в свою комнату отдохнуть немного!
– И я тоже! – поддержала сестру Ольга Оскаровна. Вся компания двинулась обратно.
Однако отдохнуть ни Лидии, ни Ольге не удалось.
Только что они вернулись, как явился посланец с докладом, что мать и жена Хайлар-хана очень желают видеть русских барынь.
Отказаться было неловко и пришлось идти на женскую половину.
XXX
Ханши
В противоположность своему болезненному, худощавому мужу, жена Хайлар-хана, Изаргэль-ханум – была высокая, тучная, дебелая молодая женщина, которая могла бы назваться красивой, если бы не дурной обычай знатных мусульманок безобразно белить и румянить щеки, разрисовывать брови и подводить глаза, отчего самое красивое лицо напоминает маску клоуна.
Костюм Изаргэль-ханум был богат, но крайне безвкусен. Вокруг бедер, обвисая спереди, было надето несколько шелковых, коротких до колен юбок, одна поверх другой, придававших татарке вид балерины. Белая кисейная рубаха, затканная мишурой, была так коротка, что едва доходила до талии, так что между подолом ее и поясом юбки обнажалось тело. Поверх рубахи была надета алая бархатная кофточка, вся расшитая золотом, с прорезами на боках и кармашками, где лежали зеркальце, притирания и амулеты. Обнаженные ноги были обуты в коротенькие,
доходящие до щиколотки джуранки, связанные из шелковых оческов. Волосы заплетены в бесчисленное, множество косичек, висевших со всех сторон, как черные змеи.
На голове красовалась небольшая кругленькая бархатная, расшитая золотом и украшенная бирюзой, шапочка, поверх которой был укреплен идущий от шеи по подбородку ожерельем кусок кисеи. На обнаженной груди, на шее, на голове болтались и звенели повешенные в несколько рядов золотые монеты и жемчужные нити. В ушах сверкали большие бриллиантовые серьги; руки почти от плеча были унизаны золотыми браслетами, а пальцы не сгибались от множества колец, покрывавших их сплошь до ногтей, выкрашенных в желтую краску.
Мать Хайлар-хана, одетая так же, как и ее невестка, была уже старуха лет за пятьдесят и выглядела совершенной дурочкой. Она бессмысленно таращила свои выпуклые серые глаза и поводила головой, как механическая кукла.
Ее раскрашенное, как у арлекина, лицо ничего не выражало, кроме тупого пресыщения и непомерной чванности.
Своим неподвижным лицом, выпученными глазами и величественно расплывшейся фигурой она напоминала китайского божка. На учтивый поклон Лидии и Ольги старуха не сочла нужным ответить хотя бы кивком головы и с идиотической бесцеремонностью во все глаза принялась их разглядывать. Зато Изаргэль-ханум оказалась в высшей степени любезной. С веселой улыбкой, жестом руки она пригласила их занять место подле себя, подсунула им под локоть мягкую мутаку и тут же принялась быстро и весело что-то им сообщать, но, видя по их недоумевающим лицам, что они ее не понимают, ханша добродушно рассмеялась.
– Кэрош, кэрош, ха, кэрош! – несколько раз повторила она, вся так и колыхаясь от хохота.
Глядя на ее непринужденную веселость, Лидия и Ольга невольно тоже улыбнулись. В это время служанка, очень хорошенькая девочка лет двенадцати, внесла на большом подносе крошечные чашечки кофе и бесчисленное множество хрустальных блюдечек с вареньем.
– Праашю! – нараспев произнесла Изаргэль-ханум и снова неудержимо расхохоталась.
Лидии положительно начинала нравиться эта веселая жизнерадостная толстушка, показавшаяся ей очень доброй, но случившееся вскоре происшествие сразу вывело молодую девушку из ее заблуждения, представив в настоящем свете кажущееся добродушие ханши. Когда кофе был выпит, убрать пустую посуду вошла другая девушка, постарше первой, с бледным, грустным, болезненным лицом.
Молча составив чашки и блюдечки из-под варенья на поднос, она направилась к выходу; но, подстрекаемая любопытством, уже у самых дверей еще раз оглянулась на странных, невиданных ею русских женщин. Она так засмотрелась на них, что не заметила подвернувшейся ей под ноги подушки, споткнулась на нее и чуть не упала, причем одна из чашечек покатилась на пол и, ударившись о стенку, разбилась.
– Гет-бурда123! – самым спокойным и добродушным тоном произнесла Изаргэль-ханум. Девочка задрожала всем телом, но повиновалась. Продолжая любезно улыбаться и по-прежнему что-то рассказывать своим гостям, 123 Гет-бурда – иди сюда.
Изаргэль-ханум, не оглядываясь, неторопливым жестом вытащила откуда-то длинную булавку с бирюзовой головкой и, не смотря на девочку, глубоко запустила острие ей в бок. Девочка вздрогнула и слегка ахнула, но кричать и плакать не посмела. Стиснув зубы и смигивая навернувшиеся на глаза слезы, она поспешила подобрать черепки чашки и проворно шмыгнула из комнаты. На Лидию Оскаровну и ее сестру этот случай произвел неприятное впечатление, и они поспешили распрощаться с ханшами. Выходя из комнаты, Лидия невольно воскликнула:
– Какая мерзость и подлость! А ведь какие-нибудь сорок лет тому назад такие же ужасы творились и у нас, при крепостном праве!
Когда они вернулись от ханш к себе в комнату, они застали там Рожновского.
– Где вы пропадали? – встретил он их вопросом. –
Обедать пора. Хайлар-хан прислал сказать, что ввиду болезни не может обедать с нами за общим столом и просит простить его. Вместо себя он прислал своего секретаря
Алакпер-хана и еще какого-то важного перса. Ну, идемте скорей, смертельно есть хочется.
Обед был приготовлен в той же круглой зале, где утром пили чай, и состоял он из неизменного плова, чахартмы, люля-кебаба, шашлыка, жареных цыплят и сладостей в виде кишмиша, миндаля, леденцов, паточных конфет и варенья. Все кушанья были разложены по тарелкам и расставлены на нескольких подносах. Гости разделились на группы, и перед каждой из них стояло по подносу с несколькими сортами кушаний. Приборов было мало и то только для русских; татары: Алакпер-хан, Муртуз и еще третий старик ели руками с помощью кусочков лаваша, из которого они устраивали род лодочек и этими лодочками захватывали не только мясо и рис, но и соус из поджаренного масла с поджаренным в нем изюмом и разными пряностями.
Лидию очень изумило, что при колоссальном богатстве
Хайлар-хана обеденные приборы были самого дешевого сорта: обыкновенные мельхиоровые ложки, железные ножи и вилки, с деревянными черенками. К тому же все это было страшно запущено, изогнуто, измято и поломано. Она не утерпела и поделилась своими мыслями с Рожновским.
– Ничего нет удивительного, – ответил тот, – зачем хану приборы, когда он ест руками?
Несмотря на довольно-таки неряшливое приготовление, обед оказался, против ожидания, весьма вкусным; особенно понравился всем плов, сваренный из какого-то особенного, продолговатого, крупного, молочного вкуса, риса.
До обеда и после него все присутствующие свершили омовение рук. Для этой цели прислуживавший у стола мальчик принес старинный серебряный, чеканный кунган с теплой душистой водой и богато расшитые по краям золотом и шелком полотенца. После обеда, ближе к вечеру, когда жара спала, Воинов и Рожновский, по приглашению
Муртуз-аги, отправились с визитами к остальным ханам, проживавшим в Судже. Таких, кроме Халил-хана, дяди
Хайлар-хана, было четыре человека; трое – двоюродные братья Хайлара и один, племянник его.
Лидия и Ольга, узнав о том, что все дворцы ханов построены по одному шаблону, с той только разницей, что одни из них были богаче, другие, беднее, отказались идти
«Христа славить», как выразилась Лидия, предпочитая остаться дома и отдохнуть. Муртуз-ага посоветовал им вечером выйти в сардарский сад, где, по его словам, бывает по вечерам очень хорошо.
Они так и сделали. Когда солнце начало склоняться к закату, Лидия и Ольга незаметно вышли в сад и пошли по крайней густой аллее, мимо высокого каменного забора.
Вечер был прекрасный. Слегка прохладный ветерок колебал чистый, прозрачный воздух, насыщенный ароматом цветов и фруктовых деревьев. Тишина была мертвая; неугомонное пернатое царство, утомившееся дневной суетой, давно уже дремало среди ветвей. Только изредка тревожно зачиликает в густой чаще испуганная чем-нибудь неведомая пичужка или завозятся драчливые, неспокойные воробьи, но тотчас же и утихнут, и лишь легкий шелест листьев да унылый, неизвестно откуда доносящийся крик филина, нарушают глубокую, чарующую тишину..
Ночь наступила, как всегда на юге, сразу, без сумерек.
Солнце закатилось; на его место на темно-синее, недосягаемое, прозрачное небо всплыла яркая луна и озарила таинственно-матовым светом вершины дерев, прогалины и полянки. Водоем посреди сада заблестел, как серебро, а в струях фонтана засверкали мириады голубоватых огоньков. Фантастические тени легли вдоль дорожек, поползли по стенам, пересекая одна другую, свиваясь и сплетаясь в причудливые, гигантские узоры. Цветы, издававшие раньше тонкий, ароматический запах, теперь благоухали со всей своей сладострастной мощью; они, казалось, ожили, зашептались между собой, открыли ведра своих чашечек,
из которых нежными, невиданными струйками полился в природу неотразимый опьяняющий яд.
...Е voi, о fiori,
Dall' olezzo sottile,
Vi faccia tufti aprire,
La mia man maladetta
Per voi Торга d'averuo sia compita.
Fruite di tendare
S'il cordi Marghereta124 !
Сколько глубокого понимания тайны природы и человеческой души, в их постоянном взаимодействии, таится в этих дивных строках.
Нагулявшись до усталости по тенистым аллеям уснувшего сада, Лидия и Ольга сели на ступеньку дворцовой террасы и обе задумались. Им было как-то особенно хорошо, спокойно на душе и в то же время грустно. Рой неясных воспоминаний, туманных образов, обрывки мыслей, целый хаос ощущений всецело овладел ими, убаюкивая и вместе с тем слегка раздражая; время утратило свое значение: прошлое, настоящее, будущее слилось в одно представление чего-то неясного, чего-то когда-то пережитого.
– Ольга, – прошептала Лидия, мечтательно склоняя свою головку на руку, – мне кажется, будто бы мы с тобой когда-то уже переживали эту самую ночь в такой же самой
124 А вы, цветы с тонким благоуханием, расцветите пышнее под моей проклятой рукой, смутите окончательно сердце! (ит.)
обстановке; такая же светлая, яркая луна, такой же сад, такие же восточные оригинальные здания.. Словом, все то же, все до мельчайших подробностей. Даже аромат такой же, сладостно-раздражающий, смесь разных неопределенных запахов..
– Можешь себе представить – и я ощущаю нечто подобное. Глубоко-глубоко, где-то там в тайниках моей души, вопреки здравому смыслу, таится твердое убеждение в том, будто бы я когда-то все это видела, пережила, перечувствовала. Как и чем объяснить это странное ощущение?
– Не знаю.. Я где-то читала об этом, но теперь положительно не помню!
Обе замолчали и долго сидели, озаряемые серебристым светом луны, убаюкиваемые дыханием теплой южной ночи.
– Ну, однако, и спать пора! – сказала Ольга. – Пойдем, Лидия. Я думаю, уже поздно!
– Иди... – с оттенком легкого неудовольствия на то, что сестра своими словами нарушила ее созерцательный покой, ответила Лидия. – Мне спать еще не хочется и я посижу еще немного!
– Как хочешь, а я иду спать! – сладко зевнула Ольга и, поцеловав Лидию в лоб, ленивым шагом направилась в дом.
XXXI
В Сардарском саду
Оставшись одна, Лидия поднялась со ступеней террасы и медленным шагом пошла по крайней, погруженной в тень аллее, огибавшей весь сад.
Отойдя довольно далеко от дома, она вдруг услышала за стеной легкий шорох, и одновременно с этим чья-то темная фигура проворно и мягко перескочила невысокую в этом месте ограду.
Лидия испуганно отшатнулась в тень кустов и замерла с тревожно бьющимся сердцем.
– Простите, пожалуйста, – раздался подле нее тихий знакомый голос, – я вас, кажется, испугал?
– Ах, это вы, Муртуз-ага, – обрадовалась девушка, – а я уже думала, не разбойник ли.
– Ну, разбойник сюда не посмеет пробраться; кругом дворца стража, и всякий, кто бы вздумал прошмыгнуть через ограду, был бы немедленно убит.
– А вот вы же перелезли и живы... – усмехнулась Лидия.
– Я – дело другое. Мой дом рядом с дворцом, я перескочил сюда из своего сада; за этим забором ведь моя земля.
– Ах, вот что! – произнесла девушка и замолкла. С
минуту оба хранили молчание.
– Страшная ваша страна! – заговорила Лидия, как бы продолжая вслух прерванные мысли. – На каждом шагу убийства, жизнь человеческая нипочем, в каждом встречном можно предполагать убийцу. Я просто не понимаю, как можно жить в такой стране!
При последних словах молодой девушки неуловимая скорбная тень пробежала по лицу Муртуз-аги.
– Вы нас не любите. . – уныло произнес он.
– Кого – нас? – прищурилась Лидия.
– Персиян.
– А вы персиянин? Полноте, Муртуз-ага, для чего мы будем морочить друг друга? Ведь вы же сами сознались мне, что вы не персиянин.
– А разве для вас не все равно, кто я такой? – горько усмехнулся Муртуз.
– Если хотите знать правду, не все равно! – горячо заговорила Лидия. – Узнав вас ближе, я убедилась, что вы человек не вполне обыкновенный, в вас есть нечто, возбуждающее симпатию. Вместе с тем я вполне ясно вижу, как вы глубоко несчастны. Не спорьте, вы несчастны и несчастны давно, наверно с того самого дня, как вы покинули вашу родину, по которой вы тоскуете, хотя тщательно скрываете это. Я не знаю причин, заставивших вас бежать в эту дикую страну, но мне почему-то кажется, что как бы эти причины ни были серьезны, они исключают для вас возможности вернуться к прежней жизни. Нет ли тут какого-нибудь рокового недоразумения, неосновательных опасений, которые могли бы рассеяться под влиянием дружеского участия.. Из этого видите, что вопрос идет не о простом любопытстве.
– От всего сердца благодарю вас!. – взволнованным голосом ответил Муртуз-ага. – Не умею сказать, как ценю я ваше участие ко мне.. Да, вы правы, я глубоко, глубоко несчастен с того самого дня, когда очутился в роли безродного бродяги. Персия приютила меня, дала мне некоторое положение, дала богатство, но счастья не могла дать.
Двадцать лет я не имел ни одной счастливой минуты и только сегодня, услыхав от вас слово участия, почувствовал, что невыразимо счастлив.. первый раз в двадцать лет!. К сожалению, вы ошибаетесь, предполагая, будто в моей судьбе играют роль какие-нибудь неосновательные опасения. На мое горе, я не заблуждаюсь, говоря о невозможности для меня вернуться на родину.. Если бы мне угрожала только смерть, я бы, пожалуй, не испугался; бывают минуты, когда мне жизнь в тягость, и я охотно бы рискнул ею в надежде на удачный исход, но мне грозит нечто хуже смерти. Долгие годы заточения в далекой, ужасной стране, где солнце почти не светит, где ночь тянется убийственно долго, где три четверти года лежит глубокий, холодный снег, воют вьюги и волки, и в этой страшной, особенно для меня, южанина, стране я принужден буду влачить свое существование, окруженный ворами, убийцами, преступниками, под постоянным опасением подвергнуться побоям от руки озлобленных, беспощадных смотрителей, под угрозой занесенной над головою плети!.
Он закрыл глаза руками, и по всему его телу пробежала нервная дрожь.
– Но кто же вы такой, наконец? – с ужасом шепотом произнесла Лидия, в волнении наклоняясь к самому лицу
Муртуз-аги. – Если, по вашему мнению, вам угрожает неминуемая каторга, то какое ужасное преступление совершено вами?
– Я – убийца.. Я убил, зарезал своего доброжелателя, своего лучшего друга и вместе с тем начальника.. Умоляю, не расспрашивайте больше! Я не могу, не могу ничего больше сказать.. Прощайте!
Сказав это, Муртуз-ага торопливо направился к забору и с ловкостью кошки перепрыгнул его, исчез из глаз пораженной девушки.
XXXII
Тревоги
– Лидия, что с тобой? – с тревогой в голосе спрашивала
Ольга Оскаровна сестру месяц спустя после их поездки в
Суджу. – Тебя узнать нельзя, ты стала какая-то странная, задумчивая, нервная, раздражительная. Здорова ли ты, мой друг? Или тебе очень скучно у нас. Но ведь первое время тебе здесь нравилось.
– Ах, почем я знаю, – нетерпеливо тряхнула головой
Лидия, – что со мной, вернее, что ничего; я здорова, а что у меня на душе, я сама не понимаю. Прошу только об одном, не обращать никакого внимания!
– Легко сказать, не обращать внимания, когда ты так страшно изменилась. Похудела, побледнела, можно подумать, что ты влюблена. . Впрочем, Аркадий Владимирович не на шутку убежден в этом...
– В чем в этом? – резким тоном спросила Лидия. – В чем убежден Аркадий Владимирович?
– В том, что ты влюблена!
– Не в него ли?
– То-то и беда, что не в него, а в Муртуз-агу!
Лидия стремительно вскочила со стула, на котором сидела. Лицо ее вспыхнуло.
– Ваш Аркадий Владимирович дурак! – гневно сверкнув глазами, крикнула она и даже ногой притопнула от негодования. – Передайте ему, чтобы он больше не смел мне на глаза показываться, довольно нагляделась я на его пошлую физиономию, больше не желаю! Так и передайте!
– Лидия, опомнись, что с тобой? – всплеснула руками
Ольга. – Ты сумасшедшая, право сумасшедшая. За что ты так на бедного Аркадия Владимировича? Он любит тебя, на него смотреть жалко, весь он исстрадался; чем он виноват перед тобою? Вспомни, как вначале ты хорошо относилась к нему, а теперь такая резкая и, главное дело, незаслуженная перемена.. Знаешь, воля твоя, я сестра тебе, люблю тебя, но я всецело осуждаю твое поведение, оно положительно недостойно умной, сердечной девушки, какой я тебя считала до сих пор.. Спроси Осипа Петровича, и он тебе скажет как ты виновата перед Воиновым!
– Ну и пусть! – упрямо произнесла Лидия, отворачиваясь к окну, и сквозь зубы добавила: – Вот еще адвокаты выискались!
Ольга Оскаровна посмотрела на сестру и пожала плечами.
– Знаешь, пожалуй, теперь и я готова признать, что ты действительно неравнодушна к Муртузу, но в таком случае, в таком случае.. – Она затруднилась подыскать подходящее выражение.
– Что в таком случае? – быстро обернулась Лидия и, скрестив на груди руки, пристальным взглядом поглядела в лицо сестры.
– В таком случае, это даже не безумие, а какая-то психопатия, извращенность чувств, безнравственность, если хочешь знать! – в крайнем раздражении закричала Ольга
Оскаровна. – Кто такой Муртуз-ага? Ну, сама подумай, что это за личность. Татарин, мусульманин. . впрочем, даже и не татарин, а, может быть, беглый арестант, вор, убийца или фальшивый монетчик. Кто его знает, откуда он родом и какое у него прошлое!
– Почему же непременно вор и фальшивый монетчик? –
совершенно спокойным тоном спросила Лидия, не спуская пристального взгляда со взволнованного лица Ольги.
– Да ведь не из-за добродетелей он бежал из России, принял мусульманство и поселился в Судже?
– А тебе наверно известно, что Муртуз-ага из России?
– Положим, не наверно; верного о нем никто ничего не знает, но так говорят!
– Мало ли что говорят, а я слышала, будто бы он из
Турции!
– Может быть, и из Турции, почем я знаю, во всяком случае личность темная; неизвестно даже, какой он народности: армянин, турок, грек, грузин, жид! Никто ничего не знает. Вернее всего армянин.
– Нет, не армянин!
– А ты почем знаешь?
– Знаю!
– Гм. . Странно, однако и на русского не похож.
– Он не русский!
– Ты и это знаешь?
– Знаю!
– От кого же ты это знаешь?
– От него самого!
– Выходит, что ты с ним в большом приятельстве, раз он с тобой откровенничает! – поморщилась Ольга. – Ну, Лидия, смотри, берегись, такая дружба до добра не доведет!
– Не понимаю, чего ты так волнуешься? – пожала плечами молодая девушка. – Ведь если на то пошло, вы все с ним знакомы, и ты, и твой муж, и сам Воинов. Он бывал у вас в доме, вы с ним любезничали и на охоте, и здесь, и в
Судже, находили его интересным, интеллигентным, оригинальным, не гнушались его обществом и вдруг, откуда ни возьмись, такая щепетильность и подозрительность!
Теперь он у вас и фальшивый монетчик, и вор, и арестант, и все что хотите!
– Ах, Лидия, ничего-то ты не понимаешь! – сокрушенно вздохнула Ольга. – В этой полудикой стране, окруженные
Бог знает кем, мы иногда поневоле снисходительно смотрим на завязывающиеся у нас знакомства, но эти знакомства, в сущности, ни к чему не обязывают. В свой интимный кружок и в свою интимную жизнь мы никого из этих татар и армян, комиссионеров, подрядчиков, торговых агентов, купцов и т. п. господ не допускаем. Сегодня какой-нибудь Аслам-бек у нас в гостях чай пьет, а завтра он может попасться с контрабандой, и Осип Петрович с легким сердцем прикажет его бесцеремонно обыскать с ног до головы и затем под конвоем отправить в полицию для привлечения к ответственности и взыскания с него штрафа.
Кстати, ты знаешь, Воинов уже собрал точные сведения; оказывается, Муртуз-ага в прошлом и запрошлом году переправлялся тайно на нашу сторону. Спрашивается, для чего он это делал? Если у него были дела на русской стороне, то по делу он всегда мог беспрепятственно переправляться днем на пароме, открыто, через таможню, между тем он предпочитает переезжать границу по ночам, в неуказанных местах, тайно. Из этого можно заключить, что он занимается или контрабандой, или другим каким предосудительным делом. Воинов убежден в том, будто бы он и теперь продолжает делать то же, и решил проследить его в надежде поймать на месте преступления.
– Что же, пускай! – презрительно пожала плечами Лидия. – Но только мне сдается, не такому губошлепу, как ваш Воинов, изловить Муртуза, если он и действительно захочет ездить на нашу сторону!
– Давно ли ты Аркадия Владимировича считала героем, а теперь он у тебя уже губошлеп?! Скоро же! – укоризненно покачала головой Ольга.
Лидия ничего не отвечала, но в душу к ней закралось беспокойство и сомнение.
«Не может быть, чтобы Муртуз-ага занимался контрабандным промыслом, – размышляла она про себя, – это так мало похоже на него! Но в таком случае зачем он ездил в
Россию тайно через границу?.. Не ездит ли он и теперь?
Хорошо было бы повидать его и предупредить!
Так думала молодая девушка, теряясь в догадках и сомнениях.
Наступила зима. Малоснежная южная зима, с морозными ветреными ночами, с теплыми, яркими, солнечными днями, когда в полночь мороз достигает иногда пятнадцати и более градусов, а в полдень градусник показывает два-три градуса тепла. Снег лежит только на полях, где никто не ходит, да и то таким тонким слоем, что пасущиеся всю зиму на вольном воздухе овцы легко разгребают его своими копытцами в поисках прошлогодней засохшей травы. На дорогах же и караванных тропах снега нет и в помине.
В один из таких погожих дней Лидия, одетая в легкую шубку и боярскую шапочку, особенно шедшую к ее красивому, разрумянившемуся на легком морозе личику, вышла на берег Аракса к парому. Благодаря зимнему времени движение «пассажиров» значительно уменьшилось, но товары шли по-прежнему безостановочно. Лидия особенно любила следить за проходящими караванами верблюдов.
Спесиво подняв голову, с отвислой нижней губой и черными, как агат, блестящими, огромными глазами, тяжело колыхаясь всем своим уродливым туловищем, медленно и величаво выступают огромные дромадеры, уныло погромыхивая колоколами. Татары очень любят украшать своих верблюдов, вследствие чего сбруя их, если и не изящна, то в достаточной мере пестра и оригинальна. На морды надеваются недоуздки из широкой тесьмы, с нашитыми на ней раковинами, цветными камешками, крупными стеклянными бусами белого и голубого цвета. Недоуздки украшены кистями, бахромой, лентами и высоким султанчиком. На спину, круп и бока верблюдов набрасываются, поверх войлочных попон, пестрые, узорчатые ковры и полосатые паласы, концы которых спускаются почти до земли.
Глядя на двигающиеся мимо нее бесконечные караваны, прислушиваясь к стону колоколов, Лидия невольно припоминала изученное ею еще в детстве чудное стихотворение Лермонтова «Три пальмы» и должна была сознаться, что лучшей картины идущего каравана, чем та, какую нарисовал великий поэт, нельзя придумать. Только, к сожалению, около этих караванов не гарцевал воспетый поэтом араб на прекрасном вороном коне. Вместо него лениво брели почернелые от грязи полудикие, звероподобные черводары125, в безобразных косматых папахах и
125 Черводар – погонщик верблюдов.
жалком рубище, и тащился караван-баши, не имеющий ничего общего с гордым наездником аравийской пустыни.
Это был, обыкновенно, толстый, пузатый татарин или армянин в засаленной черкеске, верхом на смиренном катере или добронравной, истощенной за долгий путь клячонке.
Он медленно, плелся сзади своего каравана, покуривая из длинной трубочки отвратительный турецкий табак, и с бессмысленным выражением в лице флегматично поплевывал по сторонам. <...>
XXXIII
Смертельная опасность
Подойдя к реке, Лидия остановилась на крутом берегу и рассеянным взглядом стала смотреть на глухо грохочущие темно-свинцовые волны. Ей нравилась эта буйная, непокорная река, усеянная торчащими из воды острыми камнями, о холодную грудь которых в бессильной ярости целые столетия разбивается клокочущая пена волн.
В это время к противоположному берегу подъехало трое всадников. Лидия сначала не обратила на них внимания, но когда паром уже был на середине реки, она, случайно взглянув в его сторону, не без волнения узнала в стоящем впереди всех Муртуз-агу. Он сидел на рослом рыжем жеребце, который, очевидно, испуганный ревом реки, нервно топтался на месте, нетерпеливо тряс головой, прижимал уши и выказывал стремление соскочить с гудящего и гремящего под его ногами парома. По мере приближения парома к берегу росло нетерпение горячего коня,
и когда паром наконец причалил и татары-паромщики кинулись настилать сходни, натерпевшаяся страху лошадь неожиданно взбесилась. Не слушая повода, она взвилась на дыбы, присела на задние ноги и бешеным скачком рванулась на берег. Лидия видела, как в воздухе промелькнула темная масса коня, и вслед за тем раздался всплеск воды от тяжело упавшего тела, Она вскрикнула и подбежала к обрыву. Внизу под берегом, тщетно стараясь вскарабкаться на его почти отвесную крутизну, билась лошадь Муртуз-аги, но самого его не было видно. Лидия бросила растерянный взгляд на паром и увидела, как сопровождавшие
Муртуз-агу курды проворно сбрасывали с себя оружие и лишнюю одежду. Еще мгновение, и оба они уже были в реке; нырнув раза два, они появились снова на поверхности воды, но уже гораздо ниже парома и быстро поплыли к берегу. Рассекая воду правой рукой, левой они волочили за собой что-то длинное, темное, бесформенное. Находившиеся на берегу татары и таможенные солдаты, кто с веревкой, кто с шестом, устремились им на помощь. Лидия тоже бросилась туда. Когда она приблизилась, курды были уже на берегу; они стояли с посиневшими лицами, дрожа всем телом, но такие же смелые и спокойные, как всегда.
На земле, раскинув руки, с запрокинутой головой, лежал
Муртуз-ага, бледный и неподвижный, с закрытыми глазами и крепко стиснутыми зубами. Поперек высокого белого лба шла глубокая рана, из которой обильно текла кровь.
– Что же вы стали? – громким, начальническим тоном закричал Сударчиков на столпившихся татар. – Бери, неси скорей, хоть в казарму, что ли, а ты, Иванов, – обратился он к своему помощнику, – живо беги за фельдшером, пусть поспешает!
Привыкшие к беспрекословному повиновению татары подхватили Муртуз-агу и бегом потащили его в находящуюся недалеко от берега казарму.
Когда его унесли, курды, несмотря на образовавшуюся на них от намокшей одежды ледяную кору, поспешили на выручку коня Муртуз-аги, но умное животное уже само позаботилось о своем спасении. Убедившись, что в том месте, где он пытался вскарабкаться, берег слишком крут, жеребец поплыл вниз по течению к видневшейся вдали отмели; через минуту он уже отряхивался на берегу, до мозга костей прозябший от столь неожиданной, хотя и по своей вине полученной ледяной ванны.
Перепуганная насмерть случившимся на ее глазах происшествием и не зная, жив ли Муртуз-ага или нет, Лидия хотела было тоже проскользнуть в казарму, но строгий блюститель порядка Сударчиков остановил ее.
– Помилуйте, сударыня, – пробасил он над самым ее ухом, загораживая дверь, – нешто вам, барышне, прилично идти сюда? Здесь солдаты живут, а к тому же мы сейчас раздевать его начинаем, так вам смотреть на это вовсе не пристало!
– А как вы думаете, Сударчиков, он жив? – тревожным голосом спросила Лидия, стараясь через его плечо еще раз взглянуть на Муртуз-агу, которого солдаты, уловив на койку, уже торопливо раздевали.
– Должно, жив! – успокоил ее старик. – Они, татарва эта самая, до страсти живучи, ничего им не делается!
В эту минуту мимо их прошмыгнула тощая сутуловатая фигура служащего при таможне фельдшера Конопатова, в сером потертом пиджаке и в гражданской с бархатным околышком фуражке.
Сознавая, что ей действительно не место вертеться около казармы таможенных досмотрщиков и в то же время чрезвычайно беспокоясь за судьбу Муртуза, Лидия решила бежать скорее домой и попросить Осипа Петровича, чтобы он сходил и узнал обо всем подробно и обстоятельно. Она так и сделала.
– Ну что, как, что с ним, есть какая-нибудь опасность? –
такими вопросами встретили обе сестры вернувшегося из казармы Рожновского.
Тот пожал плечами.
– Бог его знает! Конопатов уверяет, будто бы это все пустяки, и через неделю Муртуз-ага будет здоров, но насколько такой диагноз верен, трудно сказать. Я, по крайней мере, нахожу его рану опасной. Очевидно, падая с конем в воду, он ударился или о торчащий камень, или о седло; от сильного удара лишился сознания и наверно бы пошел ко дну, если бы не его курды. Вот, молодцы-то, отважный народ, не побоялись ни течения, ни холода! С такими телохранителями не пропадешь.
– А теперь он как, пришел в сознание?
– Пришел, его даже унесли из казармы.
– Куда?
– К нашему комиссионеру Али-беку, который предложил Муртуз-аге поселиться у него, пока он не выздоровеет. Там ему будет прекрасно.
В тот же день вечером за чаем Осип Петрович, обращаясь к Лидии, смеясь, воскликнул:
– А ведь недаром французы говорят, что во всяком происшествии надо искать женщину. Вот и в сегодняшней истории с Муртуз-агой виновницей является прелестная дщерь Евы и притом не кто иная, как вы, глубокоуважаемая
Лидия Оскаровна.
– Я, каким это образом? – удивилась девушка.
– Самым простым. Вы стояли на берегу в ту минуту, когда паром подходил к пристани. Муртуз-ага загляделся на вас и на мгновение забыл о своей лошади, которая и выкинула ему курбет, едва-едва не отправивший его к праотцам.
– Почему вы знаете о том, будто бы Муртуз-ага на меня загляделся? Все вы сочиняете! – с легким неудовольствием произнесла девушка.
– Почему? Ах, мой Создатель, да от самого Муртуз-аги, рассказавшего мне об этом. Я недавно заходил навестить его и между прочим спросил, как мог случиться такой казус с ним, прославленным наездником. Он улыбнулся и отвечал: «Это моя вина; я увидел вашу родственницу, барышню
Лидию, и после этого мои глаза не могли смотреть ни на что, как только на нее. Я забыл, где я, забыл о своей лошади, которая, как только мы въехали на паром, принялась беситься от страха, так как в первый раз в жизни переезжает реку...
– Ну, хорошо, хорошо, – поспешила прервать Рожновского Лидия, – скажите лучше, как его здоровье?
– Ничего особенного. Али-бек пригласил татарского хакима; тот сидит подле Муртуза, поит его крепким чаем с коньяком, а на голову кладет холодные ароматические примочки. Я предложил было послать в Нацвалы за доктором, но все трое об этом не хотят и слышать, находя своего хакима более сведущим и опытным.
– Я завтра навещу его! – решительно произнесла Лидия.
Осип Петрович комическим жестом почесал себе затылок.
– Отто буде нашим шах-абадцам ще брехаты, мабуть на цилый рок хватать!
– Что ж тут предосудительного, если я пойду навестить больного?
– Оно у вас там, в Москве, може даже и дуже добре, а тилько здесь, в Шах-Абаде, люди добрые злякаются. Дивчина молодесенька, гарнесенька пидеть в хату к бусурманину дывыться, як вин у в постели лыжыть расхристаний.
Добрая штука, то вже и я кажу, добрая штука!
– Конечно же, Лидия, – вмешалась Ольга, – разве это возможно! Будь еще он человек свой, сослуживец, ну тогда куда ни шло, все вместе пошли бы навестить больного, но идти к малознакомому татарину, лежащему в постели, в доме другого татарина, это, прости меня, безумие. Довольно того, что Осип Петрович будет каждый день навещать его и рассказывать нам обо всем.
– Вот уже не думала, – капризно надула губки Лидия, –
чтобы в каком-нибудь Шах-Абаде, на краю света, так строго соблюдались законы светского приличия!
Однако на сей раз она решила послушаться совета сестры и зятя и отказалась от задуманного ею посещения
Муртуз-аги, тем более что Рожновский заверил их обоих, будто бы не пройдет и двух-трех дней, как он выздоровеет настолько, что будет в состоянии сам прийти к ним.
XXXIV
Ночь над пропастью
Осип Петрович не ошибся – на третий день к вечеру, как раз к тому времени, когда у Рожновских подавался вечером чай, пришел в сопровождении самого Рожновского Муртуз-ага. Он был бледен и, хотя держался бодро, но, очевидно, чувствовал себя еще очень слабым. Голова его была повязана персидским шелковым платком с расшитыми концами, красиво падавшими на плечи и придававшими его лицу какое-то особенное, странное выражение. Одет он был в белую шерстяную аббу, чрезвычайно шедшую к его прямому стройному стану и всей худощавой фигуре.
«Какой он сегодня интересный», – невольно подумали
Ольга Оскаровна и Лидия, весело здороваясь с Муртузом.
– Я пришел, – заговорил он, опускаясь на предложенный ему стул, – чтобы поблагодарить вас за ваше участие.
Осип Петрович был так добр, навещал меня каждый день и говорил, что вы интересовались моим здоровьем, – от всего сердца приношу вам мою признательность! – Он приложил руку к сердцу и низко наклонил голову, затем продолжал, обращаясь к Лидии: – А перед вами я чувствую себя страшно виноватым, я, говорят, очень испугал вас!
– Если верить Осипу Петровичу, то во всем этом происшествии виновницей являюсь я, – засмеялась Лидия, – а потому не вам у меня, а мне у вас надо просить прощения!
Муртуз-ага с недоумением посмотрел на Лидию, потом на Осипа Петровича, но, уловив коварную усмешку на его лице, догадался и в свою очередь улыбнулся.
– Я знал одного старого хана, – сказал он, по восточному обычаю прибегая к притче, – который любил глядеть на солнце и через то ослеп. Кто-то из друзей дома стал при нем обвинять за это солнце, но хан улыбнулся и сказал:
«Ты не прав, мой друг, не солнце виновато в моей слепоте,
виноват я, что осмелился глядеть своими слабыми глазами на яркое светило!»
– Ай да Муртуз-ага, – засмеялся Осип Петрович, – да вы настоящий поэт; не ожидал от вас!
– Вы умеете льстить, как настоящий перс! – делая ударение на последних словах, сказала Лидия. – Мне, признаться, эта черта не особенно по сердцу. Скажите лучше, как чувствуют себя после такой холодной ванны ваши курды?
– О, им это нипочем, – рассмеялся Муртуз. – Я знаю один случай, когда один курд, спасаясь от турецких солдат, раненый, не шевелясь, просидел зимой более часу в воде по самое горло и затем еще принужден был пройти несколько верст до своего селения. Курд этот до сих пор жив и прекрасно себя чувствует!
– Вот-то лошадиное здоровье! – изумился Осип Петрович.
– Ну, нет, у лошади здоровье далеко не такое крепкое, –
ведь мой жеребец пропал!
– Как пропал? – изумилась Лидия, большая любительница лошадей. – Такой чудный конь!
– Дураки мои люди, – с досадой махнул рукой Муртуз-ага, – им надо было, как только лошадь вылезла из воды, сесть на нее и хорошенько прогонять вскачь, до сильной пены, и только после этого поставить в конюшню где-нибудь в угол, подальше от дверей, а они прямо отвели коня в караван-сарай и поставили на сквозном ветру. Он, конечно, в тот же день заболел, а сегодня утром издох!
– Ах, какая жалость! – воскликнула Лидия. – Я хотя и не успела хорошенько рассмотреть его, но мне он очень понравился; такая масть оригинальная, точно кофе со сливками!
– Конь хороший, – вздохнул Муртуз-ага, – это была лучшая моя лошадь. Я, зная, какая вы любительница, нарочно приехал на ней, чтобы показать вам её.
– Cherchez la femme126, – захохотал Рожновский.
– Господи! – с комическим ужасом воскликнула Лидия.
– Стало быть, и в гибели вашей лошади я тоже виновата!
Все весело рассмеялись.
Вечер прошел очень оживленно. Муртуз-ага рассказал несколько случаев из своей жизни, где ему так или иначе угрожала гибель. Так, однажды проезжая ночью в горах, конь его сорвался в пропасть, сам же он, непонятным для него образом, как-то успел соскочить и хотя тоже покатился вниз, но на пути зацепился за кусты горной розы.
– Была теплая, безлунная ночь, – рассказывал Муртуз, –
я лежал на спине, стиснутый густым кустарником, боясь шевельнуться, чтобы неосторожным движением не поломать поддерживающих меня ветвей, которые и без того предательски гнулись под тяжестью моего тела. Прямо предо мной возвышалась крутая, почти отвесная стена, по которой я катился. В темноте я не мог ничего разглядеть, мне не видны были даже края обрыва, я только чувствовал, что внизу подо мной бездонная пропасть, усеянная острыми камнями, о которые я неминуемо должен буду разбиться, если мой куст не выдержит и обломится. Всего ужаснее было то, что за темнотой я не мог предпринять ничего для моего спасения и принужден был терпеливо
126 Шерше ля фам – ищите женщину (фр.).
ожидать рассвета. Никогда время не тянулось для меня так медленно, как в ту ужасную ночь, и немудрено: с каждой следующей минутой я мог ожидать полететь вниз. . Много передумал я за эти три-четыре часа, проведенных мной в моей воздушной качалке! Наконец, небо начало слегка светлеть, поредели ночные тени и из мрака выступили скрытые дотоле очертания гор. Я увидел себя лежащим среди кустарника на небольшом выступе, подо мной зияла глубокая пропасть, еще погруженная в ночную тьму, надо мной высилась почти отвесная каменистая скала, по стенам которой уже скользили первые робкие солнечные лучи.
Осмотревшись настолько, насколько позволяло мне мое положение, я принялся усиленно раздумывать о своем спасении. Вдруг я услыхал где-то близко-близко над головой пронзительный крик, и в лицо мне пахнуло холодом, точно от большого опахала; в то же время я увидел огромную тень двух распластанных крыльев: это гигантских размеров орел, чуя во мне скорую добычу, кружил над моей головой, растопырив острые длинные кривые когти и полураскрыв жадный крючковатый клюв.. Появление этого орла повергло меня в окончательный ужас; я затрепетал всем телом, сделал отчаянное усилие и, ухватившись руками за торчащий над моей головой камень, как змея, пополз вверх. Не знаю, долго ли я полз таким образом, помню только, как руки и ноги мои скользили, как камни то и дело обрывались подо мной и с глухим шумом катились вниз, ежеминутно угрожая в своем падении увлечь и меня.
Наконец, после нечеловеческих усилий мне удалось выкарабкаться на Божий свет. Очутившись вне опасности, я упал на тропинку и, несмотря на то, что руки мои и ноги были изранены и из них текла кровь, тут же заснул крепким, мертвым сном; впрочем, это был не сон, а скорее бессознательное состояние, в котором я пробыл несколько часов, почти до вечера, пока меня не разыскали мои верные курды.
– Воображаю, что вы передумали, лежа в кустах над пропастью! – сказала Лидия. – Наверно, вся ваша жизнь прошла перед вами!
– Я тогда думал, что наступил час казни за мое преступление, – невольно вырвалось у Муртуза, но он спохватился и добавил, – за все мои грехи!
Через неделю Муртуз-ага настолько поправился, что мог уехать домой. За все время своей болезни он каждый вечер являлся к Рожновским и просиживал у них до поздней ночи.
В одно из таких посещений он почти весь вечер пробыл с глазу на глаз с Лидией. Рожновский был занят в таможне, а к Ольге Оскаровне пришла жена одного чиновника по какому-то секретному делу, о котором они долго толковали, запершись в комнате Ольги.
– Чем больше я узнаю вас, – говорила Лидия вполголоса, сидя в полутемном углу гостиной на мягкой, покрытой персидским ковром тахте и обращаясь к Муртузу, поместившемуся у ее ног на низком табурете, – тем более убеждаюсь в опрометчивости избранного вами шага. Я не знаю, какое преступление совершили вы в России, но внутренний голос подсказывает мне, что вы напрасно живете в Персии. Было бы гораздо лучше, если бы вы постарались тем или иным путем устроить свою жизнь в России, может быть, вам удалось бы выхлопотать себе прощение или смягчение своей участи!
– Вы не знаете всех подробностей и потому говорите так, – вздохнул Муртуз-ага, – вы думаете, я сам не стремлюсь в Россию? О, чего бы я не дал, чтобы иметь возможность снова увидеть свою родину! Вы знаете, – и голос его задрожал, – ах, я даже выговорить этого не могу, это выше моих сил! Вы знаете.. ведь моя мать еще жива..
Понимаете ли вы весь ужас этого положения... жива, и я не смею известить ее о себе. . Первое время после того, как я бежал из России, я не мог уведомить своих родных о том, что я жив и где нахожусь, из боязни, чтобы начальство не узнало и не потребовало моей выдачи; когда же прошло несколько лет, я понял, насколько будет жестоко с моей стороны встревожить мать неожиданным известием о своем существовании; ни я к ней, ни она ко мне приехать бы не могли, это бы ее угнетало и делало вдвое несчастнее.. Она считала меня мертвым, Давно оплакала мою смерть, сжилась с этой мыслью, и вдруг я воскрес бы, чтобы снова умереть.. Ну, скажите, разве я не прав?
Вместо ответа Лидия кивнула головой; она не могла говорить от подступивших к ее глазам слез, которые она всеми силами старалась скрыть. Между тем Муртуз-ага продолжал:
– Несколько лет тому назад я чуть было не поехал в
Россию, но благоразумие взяло верх, и я остался.. Вы, может быть, думаете: «Вот трус-то, дрожит за свою шкуру». Ах нет, я не трус, тысячу раз не трус, смерть меня не страшит... Вы ведь помните, я вам говорил, чего я боюсь...
– Но, может быть, вам вовсе не угрожает то, о чем вы думаете. Вы ведь законов не знаете; наконец, за это время могли произойти большие изменения во взглядах судейской власти. . Словом, я хочу сказать, нет ли во всем этом с вашей стороны преувеличений, излишнего страха.. Вы ни с кем ведь не говорили, не советовались, а сам человек не судья в своем деле, он или преувеличивает опасность, или уменьшает ее!
– Нет, я не преувеличиваю! – тяжело вздохнул Муртуз и замолк.
Несколько минут они сидели молча. Лидия глядела на красивый, энергичный профиль Муртуза, и вдруг ей неудержимо захотелось сделать что-нибудь такое, благодаря чему этот несчастный человек мог бы возродиться к новой, лучшей жизни, приобрел бы вновь свой прежний облик, свою родину, своих, близких ему людей. Она затрепетала даже вся при этой мысли и волнующимся, прерывающимся голосом воскликнула:
– Муртуз-ага, прошу вас, не из любопытства, а из искренней симпатии, которую я питаю к вам, откройте мне вашу душу, расскажите мне все подробно, поверьте, я не осужу вас, да и какое право имею я судить вас! Я вижу в вас только глубоко несчастного человека..
Муртуз с тоскливым выражением посмотрел вокруг себя и крепко стиснул пальцы рук.
– Ах, если бы вы знали, как мне тяжело, как невыносимо тяжело бередить мою незажившую рану.. До сих пор я никому, решительно никому не рассказывал. . Вы первая, которой я решаюсь открыть свою душу.. я верю вам, но, видите ли, здесь говорить об этом неудобно, каждую минуту могут войти, а я знаю, рассказ меня сильно растревожит, я не в силах буду скрыть своего волнения.. все заметят его.. начнут расспрашивать. . Нет, нет, если вы хотите выслушать мою исповедь, то дайте мне возможность увидеть вас совсем наедине, в таком месте, чтобы никто не мог помешать нам. Надеюсь, вы не побоитесь довериться моей чести?
– Ни на одну минуту не сомневаюсь в ней, – горячо воскликнула девушка, – но вашей просьбой вы поставили меня в тупик, я решительно не могу себе представить, где бы мы могли встретиться с вами без посторонних свидетелей!
– Если бы вы согласились на мое предложение, – сказал
Муртуз, – я знаю одно такое место. Отсюда версты четыре, в горах, там есть глубокая пещера..
– Над родником, – живо перебила его Лидия, – я эту пещеру знаю, я часто ездила туда верхом!
– Та самая! – подтвердил Муртуз. – Ровно через две недели от сегодняшнего дня в полдень приезжайте туда, я буду вас ждать, я нарочно перееду тайно через границу, а не на пароме, чтобы никто не узнал, что я здесь..
– Ах нет, этого-то вот и не делайте! – горячо воскликнула Лидия. – Я должна предупредить вас, Воинов подозревает, будто бы вы иногда переезжаете границу, и поклялся выследить; он на вас зол. .
– За что? – изумился Муртуз-ага. – Что я ему сделал дурного?
– Вы ничего! Но видите ли, – тут Лидия слегка замялась. – Воинов думает, будто бы вы причина моего к нему охлаждения, хотя в этом он ошибается, – добавила она поспешно. – Я никогда им не увлекалась, никогда; просто мне было вначале с ним интересно, пока я не разглядела, насколько он груб и ординарен. . Ну, да это все не к делу и не имеет значения; важно то, что Воинов решил изловить вас, а потому вам ни под каким видом не следует рисковать, тайно переходить границу!
Муртуз презрительно усмехнулся.
– Вы совсем напрасно беспокоитесь. Я знаю, Воинов лихой офицер и солдаты его лучшие, каких мне только случалось видеть здесь, на границе, но поймать меня им все же никогда не посчастливится. Правда, они ловят иногда контрабанду или с помощью доносчика, или по глупости самих же контрабандистов, но между мной и контрабандистами большая разница. Они люди наживы, сделавшие из нарушения границы ремесло, у них свои тропинки, броды, свои порядки и обычаи, подчас удачно угадываемые солдатами, я же, как вольный орел, выбираю свой путь по личному желанию. Никто, кроме меня, до последней минуты не знает, где и когда я пожелаю переехать Аракс, стало быть, и предупредить о том солдат некому. Наконец, у меня в распоряжении целые сотни удальцов, на помощь которых я всегда могу рассчитывать.. Если бы у Воинова было солдат втрое больше, чем у него их есть, и тогда бы он не в состоянии был помешать мне появляться здесь всегда, когда я только захочу!
Лидия, слушая Муртуз-агу, невольно залюбовалась его спокойной самоуверенностью.
– Ну, хорошо, делайте, как знаете, – сказал она, – что касается меня, то я обещаю вам быть в назначенном вами месте!
– Благодарю вас! – горячо воскликнул Муртуз и крепко пожал ей руку.
На другой день Муртуз-ага, собираясь уезжать в Суджу, перед самым отъездом зашел к Рожновским откланяться им и поблагодарить за их радушное гостеприимство. Лидия вызвалась проводить его до парома.
XXXV
Сударчикова тайна
– Отчего вы переезжаете паром, сидя в седле, а не стоя на ногах и держа лошадь в поводу, как это делают все? –
спросила Лидия, идя рядом с Муртузом, – тогда никакого несчастья не может случиться.
– Так, привычка! – пожал тот плечами и, наклонясь совсем к лицу девушки, шепнул ей на ухо: – Итак, вы помните, ровно через две недели, день в день, в полдень?
– А если будет вьюга, сильный мороз? Ведь теперь, слава Богу, не лето, а ноябрь месяц! – улыбнулась девушка.
– Я буду ждать в пещере три дня, авось за три дня выдастся несколько теплых хороших часов. Здесь зима не суровая, только в декабре и в начале января будут несколько морозных дней, а в ноябре ни морозов, ни вьюги не бывает. Впрочем, повторяю, жду вас три дня.
Разговаривая таким образом, они подошли к берегу и остановились, глядя, как курды осторожно вводили лошадей на паром по прыгающим доскам настилки.
– Вы на каком коне поедете? – спросила Лидия.
– А вон на том, светло-гнедом с белой лысиной на лбу, –
а что?
– Так, я загадала. Видите ли, я сама подумала, что этот лысый конь назначен под вас, и решила, если мое предположение оправдается, то судьба ваша изменится к лучшему...
– Моя судьба в ваших руках! – прошептал Муртуз-ага и, ранее чем Лидия успела собраться с ответом, он крепко пожал ее руку и скорым шагом почти взбежал на паром.
Цепь лязгнула, и тяжелая, неуклюжая махина медленно поползла от берега, постепенно, по мере приближения к середине реки, ускоряя свой ход.
– До свидания! – крикнул Муртуз-ага с парома.
– До свидания, – ответила ему Лидия с берега.
Все время, пока Лидия с Муртуз-агой находилась на берегу, Сударчиков неодобрительно на них покашивался.
Он стоял в нескольких шагах в стороне, по обыкновению следя за приходом и отходом парома; число прибывших пассажиров отмечал карандашом в списках и сердито покрикивал на других солдат. Однако, углубленный в свое служебное дело, он вместе с тем не переставал следить за
Лидией и Муртуз-агой. Старику очень не нравилась та, по его мнению, слишком большая любезность, с какой «барышня» обращалась к «гололобому басурманину».
– Ишь, стрекочет, – укоризненно думал он, – диви бы какой кавалер выискался,– а то азиат, азиат и есть! И где я эту рожу видел. . фу-ты, Господи Боже, вертится в памяти, а не могу вспомнить, хоть зарежь, не могу, а видел?!
Ей-Богу, видел и не похожую, а эту самую! Когда он еще в первый раз приезжал, тогда же мне мелькнуло, будто што знакомое, и теперь вот тоже.. Дай Бог памяти!.
Старик изо всех сил напрягал свою память, вызывая в ней давно забытые образы, но тщетно.
В это время Муртуз-ага наклонился к самому лицу
Лидии и зашептал ей что-то на ухо. Сударчиков, случайно взглянувши на них как раз в эту самую минуту, вдруг вздрогнул всем телом. Точно молния озарила его мозг; он даже ахнул от неожиданности. Привлеченный его возгласом. Муртуз-ага поднял голову и рассеянным взглядом посмотрел на старика. На мгновенье глаза их встретились, и этот мимолетный взгляд, оставшийся для Муртуз-аги без всякого значения, в Сударчикове разом уничтожил все его колебания.
«Это он, без всякого сомнения, он! – думал Сударчиков, не спуская с Муртуза, стоявшего уже на пароме, загоревшегося взгляда. – И как я, старый дурак, не узнавал его так долго! Удивление просто, да и только. Должно старости совсем из ума выжил! Кого-кого, а этого сокола завсегда в уме держал, а вот поди ж ты». . От волнения старик даже за голову взялся и несколько минут стоял, как ошеломленный. «Что же теперь делать надо, – продолжал размышлять
Сударчиков, – не иначе, как объявить следует! Но кому, как? Много ведь с тех пор годочков ушло! Теперь, чего доброго, и не поверят, тем паче, что тогда еще слух прошел, будто бы он помер; тело, вишь, там чье-то нашли и родные признали, словно бы это был он. . Оказия.. а ен, ишь ты, жив.. Ах ты, Господи Боже, как же тут быть?.. Нешто разве
Аркадию Владимировичу рассказать, ен господин правильный, разберет все, как следовает. . Не иначе как ему, другому некому!
Обуреваемый такими мыслями, старик до того в конце концов расстроился, что решил пока, что лучше уйти домой, чтобы не дать другим заметить охватившего его волнения.
– Иванов! – обратился он сурово к своему помощнику. –
Мне что-то того.. занездоровилось, я домой пойду. Так ты, знаешь, того.. останься-ка тут без меня, да смотри фитанции-то не переври, аккуратнее отмечай. Понял?
– Не извольте беспокоиться, Илья Ильич, все будет в аккурате, – идите себе с Богом. Справлюсь, как следует. Не тревожьте себя занапрасну!
– Знаю я вас, не тревожьте, – все вы ротозеи, того и гляди проморгаете! – не утерпел Сударчиков, чтобы не поворчать, хотя отлично знал, какой исправный человек был Иванов. – Ну, да ладно, пойду уж, невмоготу мне что-то!.. – добавил он и торопливо зашагал к стоявшей на бугре, в общем ряду таможенных построек, казарме.
Сударчиков был одинок, а потому жил в общей казарме, а не на частной квартире, как прочие вольнонаемные досмотрщики, все поголовно женатые и детные. В казарме, где помещались состоящие на действительной службе таможенные солдаты, у Сударчикова была отдельная небольшая комнатка с особым ходом и даже с небольшим палисадником под окном. Взглянув на убранство и обстановку этой комнаты, всякий тотчас же бы понял, что в ней живет человек аккуратный, любящий порядок и даже некоторый комфорт. Железная кровать с целым ворохом подушек, под шелковым, стеганым на вате, персидским одеялом, помещалась у задней стены; в головах у нее стоял шкаф, за стеклянными дверцами которого виднелась на одной полке чайная и столовая посуда, а на другой, какие-то книги, жестянки, баночки и склянки. Что было на нижних полках, закрытых от любопытного взора деревянной половиной дверей, не было видно. По всей вероятности там лежали вещи, которые и должны были сохраниться где-нибудь не на виду. Против шкафа в ногах кровати стоял высокий пузатый комод, покрытый красной скатертью. На комоде этом красовалось складное зеркало в черной раме и подле него лежали гребенка, щетка, ножницы и ящичек с разной мелочью, как-то: нитками, катушками, иголками и старыми медными и иными пуговицами. У единственного окна, завешенного до половины кисейной занавеской, стоял стол, застланный узорчатой клеенкой, с изображением летающих между ветвями птиц.
На столе помещалась чернильница, банка из-под ваксы с наколотой шилом крышкой, служившая вместо песочницы, лампа под зеленым абажуром, коробка сургуча, коробка перьев, перочинный ножик, ножниц; несколько карандашей, из которых один был красного графита, другой, синего, а прочие, черного, две ручки и наконец, несколько листов бумаги и серых казенного формата конвертов. Перед столом стояло большое кожаное кресло, с сильно помятым от долгого употребления сиденьем и спинкой. Три венских стула были размещены вдоль стен. В углу висел большой образ. Образ этот сложил украшением всей комнаты; он был в киоте и стоял на резной полочке, в которую была вделана лампада. Над образом было устроено из красного кумача нечто похожее на шатер, полы которого, обшитые по краям кружевами, спускались аршина на два ниже образа. Вопреки излюбленной солдатской привычке украшать стены лубочными картинами, в комнате Сударчикова их не было ни одной; только над кроватью, поверх прибитого к стенке небольшого персидского коврика, висело несколько фотографических портретов в самодельных рамках. Большинство этих портретов давным-давно выцвели настолько, что едва можно было разглядеть изображенные на них лица, но уже без всякой надежды угадать кто они такие.
На глинобитном полу во всю ширину комнаты быль постланы два старых-престарых, местами порванных, не аккуратно заштопанных куртинских паласа. Так как обогревающая соседнюю казарму огромная печь, выходящая одной только своей задней стеной в комнату Сударчикова давала мало тепла его старым костям, то на зиму ставилась еще другая, железная, свойство которой было за пять минут накаляться докрасна, но зато так же и быстро остывать.
Чтобы поддерживать в комнате ровную температуру Сударчикову приходилось топить ее почти весь день исподволь подбрасывая небольшие кусочки кизяка, сообщавшие всему помещению своеобразный, слегка угарный, едковатый запах.
Придя домой, Сударчиков с несвойственной ему в обыкновенное время торопливостью достал из кармана ключи, отпер верхний ящик комода и, порывшись в нем недолго, вытащил старый потертый корешок переплета, перевязанный голубой ленточкой; развязав ее, он вынул из переплета большой конверт серой бумаги, а из конверта извлек фотографическую группу, с которой и подошел к столу, ближе к свету. Долго смотрел он на нее, то приближая почти к самому носу, то удаляя на расстояние вытянутой руки и, казалось, не мог никак насмотреться.
Фотография, которую так внимательно разглядывал
Сударчиков, была не из важных; одна из тех, какие выполняются бродячими фотографами, на плохой бумаге,
небрежно наклеенная на картон, с резко расположенными тенями и, к довершению всего, слегка уже выцветшая. Она изображала группу из пяти человек, в непринужденных позах разместившихся на разостланных прямо на траве под деревьями паласах.
На главном месте, опершись обнаженным локтем на ворох персидских подушек, полулежала чрезвычайно красивая, немного полная барыня, с гордым выражением в лице и в слегка прищуренных глазах под тонкими, изящно очерченными бровями. Красивые губы ее были слегка полуоткрыты, придавая тем ее лицу что-то напоминающее вакханку. Одета она была в светлый, легкой материи капот, с открытой шеей и большим вырезом на груди; волосы ее с бесчисленным множеством пышных завитков на лбу были заплетены в толстую длинную косу, небрежно перекинутую через плечо на высокую, пышную грудь. У ног красавицы, сложив ноги по-турецки, сидел плечистый пожилой офицер в кителе с капитанскими погонами и пустым стаканом в приподнятой руке. Лицо у него было некрасивое, но очень энергичное; особенно хорош был взгляд больших, в натуре, очевидно, серых глаз, прямой, смелый, открытый. Длинные баки с пробором посредине веером расстилались по груди, придавая лицу капитана еще более мужественное выражение. Рядом с капитаном, привстав на одно колено и делая вид, будто собирается налить ему в стакан из бутылки, которую держал в руке, стоял молодой вольноопределяющийся в черкеске и лихо заломленной на одно ухо тушинке. Лицо его, обращенное в профиль, было замечательно красиво: тонкий с легкой горбинкой нос, изящные губы, высокий открытый лоб и огромные, даже на фотографии, живые и выразительные глаза, все вместе делало из юноши положительного красавца. Он был очень строен, с тонкой, перетянутой в рюмочку талией, с широкими плечами. В натуре он должен был быть еще красивее.
Против вольноопределяющегося, рядом с подушками, на которые облокотилась барыня, подобрав под себя ноги, сидел другой офицер, с смеющимся лицом, с фуражкой на затылке и поднятым в правой руке стаканом. Он как бы говорил: «За ваше здоровье, господа!» Сзади всей этой компании, прислонясь ко стволу дерева, под которым она расположилась, в мундире, сабле и кепке, молодцевато сдвинутой на одно ухо, стоял бравый, коренастый фельдфебель, с длинными закрученными вниз усами и богатырской грудью. Лицо его, слегка нахмуренное, выглядело строгим, даже немного сердитым. По всему было видно, что фельдфебель этот был человек не из мягких. Много лет прошло с тех пор, немного не четверть столетия, но и самого беглого взгляда было достаточно, чтобы узнать в этом кремне-фельдфебеле сурового ворчуна Сударчикова. Тот же умный нахмуренный лоб, те же проницательные, упорно глядевшие перед собой глаза, та же, упрямая, жесткая складка губ. Теперь только, помимо усов, старик носил еще и бороду, но и борода мало изменила общее характерное выражение его лица.
Долго, очень долго рассматривал Сударчиков фотографию, сосредоточив все свое внимание на красавце вольноопределяющемся.
– Он, разумеется, он, – прошептал, наконец, старик и положил фотографию на стол.
– Что ж мне теперь делать? – снова задал он уже встававший перед ним и раньше вопрос.
Несколько минут простоял Сударчиков в глубокой задумчивости, опустив на грудь седую голову, потом выпрямился и, повернувшись к образу, три раза истово перекрестился.
– Господи, – прошептали его бледные губы, – не попусти злодею надругаться над правдой, отомсти ему за кровь и за слезы!
Хотя эта странная молитва по смыслу своему едва ли согласовалась с духом христианского учения, но Сударчикова успокоила настолько, что он даже нашел в себе силы снова отправиться на паром к своим, на время покинутым, занятиям.
XXXVI
Друзья
С того дня как Аркадий Владимирович последний раз был в Шах-Абаде, прошло с месяц времени. Не видя так долго своего приятеля, Осип Петрович сильно соскучился по нем; всякий раз как в таможню приходил кто-либо из солдат Урюк-Дагского отряда, Рожновский не упускал случая расспросить их об их командире и послать с ними ему поклон.
– Да скажите его благородию, – добавлял он неукоснительно, – управляющий спрашивает, почему, мол, долго не приезжаете в Шах-Абад, очень они по вас соскучились.
Не довольствуясь устными поручениями, Осип Петрович отправлял иногда Воинову небольшие записочки, в которых дружески пенял ему за то, что тот совсем забыл своих шах-абадских соседей. В ответ на такие любезности
Аркадий Владимирович в свою очередь посылал Осипу
Петровичу нижайшие дружественные поклоны, отговариваясь в то же время недосугом за массой работы и хлопот по отряду, не дающих ему возможности приехать.
Убедясь, наконец, что Аркадий Владимирович умышленно сидит дома, Рожновский в одно из воскресений решил поехать сам к нему.
– Про Магомета рассказывают, – весело говорил Осип
Петрович, входя в комнату Воинова, – будто бы однажды он приказал горе приблизиться к нему, но гора его не послушалась; тогда он сам пошел к горе. Вот так и я: приглашал, приглашал вас, вы не едете, пришлось самому приехать. Ну, здравствуйте!
– Ах, это вы, Осип Петрович! – радостно воскликнул
Аркадий Владимирович. – Вот сюрприз-то. . Спасибо вам, дорогой, что приехали; вы представить себе не можете, как я соскучился здесь один на посту.
– Воображаю. Отчего же вы к нам не приезжали, коли уже так вам скучно было?
– Некогда, дорогой; масса работы.. Планы черчу, книги заканчиваю, мало ли еще что. .
– Та не брешите, пожалуйста, бо я сам бачу, якая-сь такая у вас работа! – перебил его Рожновский. – Скажите лучше, дуетесь вы на Лидию Оскаровну, оттого и не едете.
Воинов слегка вспыхнул, хотел что-то сказать, но вместо того махнул рукой и угрюмо насупясь, зашагал по комнате.
– Эх, Осип Петрович, – заговорил он после некоторого молчания,– разве я дуюсь? Что уж тут. . Будем говорить напрямки. Посмотрите на меня хорошенько: скажите – не изменился я? По глазам вашим вижу, что вы замечаете во мне большую перемену.. А отчего? Я думаю, мне и рассказывать не надо, без рассказов понимаете. И за что? Ну скажите – за что? Чем я виноват перед нею, чем заслужил такое отношение?
Последние слова Воинов почти прокричал, стоя перед
Рожновским и заглядывая ему в лицо тоскливо-недоумевающим взором. Тот ничего не ответил, а только с досадой крякнул и слегка потупился.
Он действительно с первого же взгляда на Аркадия
Владимировича нашел в нем большую перемену. Еще недавно такой жизнерадостный, бодрый и веселый, лихой поручик теперь как бы потух, осунулся, побледнел. . Глядя на него, можно было предположить в нем серьезную и упорную болезнь. Воинов между тем продолжал:
– Конечно, насильно мил не будешь, я это сам понимаю; понимаю и то, что такая барышня, как Лидия Оскаровна, не может полюбить меня..
– Почему? – резко, с досадой перебил его Рожновский.
– Понятно почему, – совершенно искренно воскликнул
Воинов, – я для нее слишком ординарен! Армейский поручик, малообразованный, неинтересный. . Все это я отлично понимаю и ни на минуту не увлекаюсь и прежде не увлекался несбыточными надеждами. . Не в том дело; но скажите, за что оскорблять меня так? За что относиться с таким недоверием, с такой враждебностью? Вот что больно и горько! Тем более обидно, что вначале она относилась ко мне очень хорошо, скажу прямо, по-дружески, припомните вы сами, Осип Петрович, как мы с Лидией Оскаровной по целым вечерам просиживали вдвоем, еще вы подчас подтрунивали над нами. . Ведь находила же она для меня тогда и слова, и разговоры, а теперь двух-трех слов не скажет, а если и скажет, то непременно съязвит, уколет. . Разве это не больно? Разве не имел я права огорчаться и приходить в отчаянье?
Высказав все это дрожащим от волнения голосом, Воинов снова заходил по комнате, нервно до боли крутя усы. Рожновский молчал, хмуря брови; ему от всего сердца было жаль Аркадия Владимировича, но он не знал, что сказать ему в утешение.
– Нет, вы вот что мне растолкуйте, – остановился тот вдруг сразу посреди комнаты и даже ногой слегка притопнул, – что она в нем нашла? Какие такие особенные достоинства и качества? Ведь это же нелепость! Кошмар какой-то дикий и больше ничего. . Кто он такой, позвольте вас спросить? Если даже брать его таким, каким он себя выдает, то и тогда он не что иное, как мусульманин, персюк, раб какого-то там Хайлар-хана, который во всякую минуту может его за ребро на крюк повесить.. Господи, мне кажется, я с ума скоро сойду!. И на такую-то, с позволения сказать мразь, Лидия Оскаровна обращает свое внимание, интересуется им. . Впрочем, что я говорю, интересуется, надо уж говорить правду: не только интересуется, а прямо-таки любит его. . да, любит, я это отлично знаю и никто меня в этом не разубедит. . Никто, никто!..
–кричал Воинов, точно кто спорил с ним – К чему все это поведет? Ведь не идти же Лидии Оскаровне замуж за него..
Уехать в Суджу, надеть чадру и ходить с кувшином к колодцу, в компании с прочими татарками. . или как все эти коровам подобные ханши пальцем варенье лизать и тириак 127 курить.. О, проклятие, – прорычал в заключение
Воинов и бросился на диван, с такой стремительностью, что весь он жалобно застонал.
– Ну, это вы уж чересчур преувеличиваете! – усмехнулся Осип Петрович, на мгновение со слов Воинова мысленно представив себе Лидию в роли ханши. – Дело так далеко не пошло, как вы себе воображаете. Мне даже смешно разуверять вас в том, что Лидия вовсе не влюблена в Муртуз-агу, даже и в мыслях у нее этого нет, просто-напросто он ее заинтересовал как новый, невиданный ею еще тип. Немалую роль играет и таинственность, окружающая его, дающая право делать всякие предположения романического характера, невольно возбуждающие любопытство, а любопытство основание женской натуры.
Про это, я думаю, вы и сами знаете. Я Лидию Оскаровну немножко изучил и нахожу в ней много романтизма. Довольно сказать, Жуковский ее любимый поэт. Она половину баллад его наизусть знает, от лермонтовского же
Измаил-бея без ума. Я уверен даже, хотя она этого и не говорит, но это бессознательно у нее прорывается, что
Муртуз-ага ей кажется тоже чем-то вроде Измаил-бея.
Однажды она высказалась в том духе, что, мол, наверно, у
Муртуза была в жизни драма, в которой замешана женщина и т. д., и т. д., а когда я на это со своей стороны сделал предположение, дескать, не был ли он фальшивым монетчиком, она страшно рассердилась и выговорила мне массу колкостей. . Институтское воспитание, ничего не
127 Тириак – то же, что и опиум.
поделаешь! Они там учителей чистописания в
Чайльд-Гарольды производят, а уж тут и Бог велел. Но, за всем тем, надо отдать справедливость Лидии Оскаровне, она барышня умная и скоро, скорее, может быть, чем мы думаем, разглядит этого самого Муртуза и даст ему надлежащую оценку. Вы только не волнуйтесь, глядите на все глазами философа и терпеливо выжидайте время; поверьте, не пройдет и месяца, как Лидия опять будет с вами такая же, как была раньше.. Вы только не делайте глупостей, не вдавайтесь в трагедии, продолжайте посещать нас, как раньше посещали, и в конце концов все будет прекрасно.
Верьте мне!
– Ах, вашими бы устами да мед пить! – задумчиво произнес Воинов, значительно успокоенный. – А я, признаться, с отчаянья удумал было в другую бригаду переводиться.
– Вот это уже была бы совсем глупость! – укоризненно покачал головой Рожновский. – Ну, Аркадий Владимирович, не ожидал я от вас, что вы такая баба окажетесь! Чуть неудача – он уже и в бега, а еще героем считаетесь.. Ай, ай, стыдно, стыдно!
– Ваше благородие, – доложил вошедший денщик, –
таможенный досмотрщик просит, могут они войтить, оченно, мол, нужное дело..
– Ах да, Аркадий Владимирович, я и забыл совсем; ведь я не один приехал, а и Сударчиков со мной. Я, знаете ли, совсем собрался к вам, в повозку уже садился, как вдруг, гляжу, Сударчиков бежит. «Ваше благородие, – спрашивает, – вы не к их благородию поручику Воинову ехать изволите?» – «Туда, а тебе что?» – «Ежели туда, будьте милостивы, позвольте и мне ехать с вами. Я до поручика важное дело имею, сообщить им известие надо одно, а кстати и вы прослушать изволите, по тому самому, что и до вас касательство имеет». Удивился я немного таким словам, но расспрашивать старика не стал и посадил его в свою повозку. По дороге он сообщил только, что дело, о котором он хочет говорить, заключает какую-то большую тайну и имеет непосредственную связь с именем Муртуз-аги. Подробнее же он обещал рассказать у вас на посту.
– Что ж, посмотрим, какое это такое дело; может быть, что-нибудь действительно важное. Ваш Сударчиков – человек положительный, серьезный и по пустякам болтать не станет. Надо позвать его и выслушать,
XXXVII
Рассказ Сударчикова
Через минуту в комнату вошел Сударчиков. Лицо его по обыкновению было сурово-спокойно, в руках он держал перевязанную тесемочкой папку.
– Здорово, старик; ты с чем? – дружелюбно приветствовал его Воинов.
– Здравия желаем, ваше благородие! – с былой молодцеватостью отвечал Сударчиков и, понизив тон, добавил: –
Открытие важное я сделал; такое открытие, что и не знаю, как оно и будет, того, значит, по законам-то...
– Открытие? Какое? – удивился немного Воинов. – Да ты, старик, вот что: бери стул да садись сюда поближе, выкладывай, что у тебя такое. Вы позволите ему сесть при вас? – шепотом обратился Воинов к Рожновскому.
– Разумеется! Ведь он у меня на правах почти чиновника! – кивнул головой Осип Петрович.
Тем временем Сударчиков подошел к дивану, на котором сидел Воинов, открыл папку, достал из нее знакомую уже читателю группу и, передавая ее Аркадию Владимировичу, внушительным тоном произнес:
– Извольте, ваше благородие, приглядеться хорошенько, а опосля, как вы всмотритесь, я вам все и доложу, как быть следует.
Воинов с некоторым недоумением в лице, взял из рук
Сударчикова группу, но стоило ему взглянуть на нее, как у него вырвался легкий крик изумления.
– Откуда у тебя эта группа, где ты ее взял?
– Как откуда? – немного опешенный таким вопросом, в свою очередь спросил Сударчиков. – Эта картина моя, поболее двадцати годов будет, как она у меня хранится. А
вы, сударь, нешто что знаете про эту картину, тоись стало быть, чьи тут портреты находятся?
– Как не знать! Это вот капитан Некраснев, Егор Сергеевич, а барыня, жена его Людмила Павловна; она моей матери двоюродной сестрой приходилась, а мне, стало быть, теткой. .
– Да неужели ж, ваше благородие? – всплеснул руками
Сударчиков. – Вот изумительное-то дело, скажите на милость! Кто думал, кто думал?..
Он несколько раз покачал седой головой и затем, оживившись, торопливо заговорил, тыча дрожащим пальцем в красавца вольноопределяющегося:
– Может быть, ваше благородие, вы и этого тоже знаете?
– Слыхал о нем, – мать моя нам рассказывала. У нас в доме тоже такая фотография есть, а к тебе-то она как попала?
– Да ведь капитан, покойник, царство ему небесное, ротным моим был. Извольте взглянуть: фельдфебель у дерева-то стоит, это же я сам и есть, помоложе тогда был, бороду брил; теперь-то я старая коряга.. Впрочем, не во мне толк. . а в том, что, стало быть, вы и про всю историю наслышаны..
– Слышал и про историю..
– Так, так. . Вот ведь он, злодей-то самый, убиец проклятый! – в приливе ненависти торопливым полушепотом заговорил Сударчиков, дрожащим скрюченным пальцем показывая на вольноопределяющегося. – Почитай что на моих глазах все и свершилось-то. . Я одним из первых прибег тогда, на моих руках капитан и душеньку Богу отдать изволил.. А как Людмила-то Павловна в те поры убивалась, и не дай-то Бог, смотреть страшно было, думали, ума решится!. Сколько годов с того дня прошло, а точно вчера было, так все и стоит в глазах.. Подумать страшно!
Старик замолчал и в глубокой задумчивости опустил голову.
– И как подумаешь, чудно выходит! – продолжал он после короткого молчания. – Восемнадцать лет пропадал человек; думали, помер, слух такой был, ан вышло не то, жив, и мало того жив, сам объявился.. Надо только умеючи взять, а сделать этого окромя вас, ваше благородие, некому.
Затем-то я и приехал к вам, чтобы, стало быть, известить вас обо всем, как следует. . Надеялся, не откажетесь. Ну, а теперь, как вы к тому же и сродственником приходитесь, то и подавно, беспременно вам, а не кому другому за это дело взяться надлежит. .
– За какое дело? Говори яснее, я тебя что-то, брат, понимаю плохо! Про кого ты говоришь?
– Про кого? Ни про кого иного, как про убийцу проклятого, князя Каталадзе.. Ведь он здесь! 18 лет о нем не было ни слуху, ни духу, а теперь вдруг выискался. Во всем святая воля Божья. . Вы, ваше благородие, вглядитесь позорче в рожу-то его злодейскую, припомните, не видели вы кого похожего? Да и вы, ваше благородие, – обратился
Сударчиков к Рожновскому, – извольте тоже поглядеть. Вы также его видали, еще недавно; не таким, правда, а много старше и одежда на нем другая, не та.. Только если вглядеться попристальней, то узнать можно!
Заинтересованные словами Сударчикова донельзя, Воинов и Рожновский принялись внимательно разглядывать фотографию. Сударчиков, дрожа от волнения, не сводил с них глаз, как бы гипнотизируя их своим взглядом.
– Ну, брат, воля твоя – не могу узнать! – произнес
Воинов. – Каталадзе был грузин, а это уже известная истина: все грузины на одно лицо, как родные братья.
– Постойте, постойте, – заговорил Рожновский, в свою очередь пристально вглядываясь в фотографию. – Я, кажется начинаю узнавать. Неужели он?
Поднял Осип Петрович глаза на Сударчикова, – тот торжествующе кивнул головой.
– Да кто он? – с легким раздражением спросил Воинов.
– Кто? Муртуз-ага. Неужели не узнаете? – сказал
Рожновский.
При этих словах Воинов даже с дивана вскочил.
– О, я дубина! – закричал он, хлопнув себя по лбу, – не мог догадаться сразу.. Гляжу, что-то кого-то как будто бы и напоминает, а кого, хоть убейте, не домекнулся.
– Мудреного нет, ваше благородие! – обратился к нему
Сударчиков. – Я сам сколько раз видел его здесь и ни разу в голову не пришло. А тут вот как-то на днях стоял я у парома, а он с нашей барышней к парому подошел; стали и разговаривают промеж себя; он наклонился к самому лицу
Лидии Оскаровны, шепчет что-то, а сам улыбается. Глянул я как-то, и вдруг меня осенило, словно пелена с глаз упала.
Припомнилось мне, что, почитай, точь-в-точь и тогда так же было: шел я в тот день рощицей, что за городом нашим росла, гляжу, навстречу мне покойница Людмила Павловна идет под ручку с князем и вдруг приостановились на тропинке, он ей что-то на ухо шепчет, а она головой качает, а сама улыбается.. Ну, словом, совсем так же, как и теперь, только заместо Людмилы Павловны, Лидия Оскаровна.. И
так мне тогда лицо его запомнилось, что все время забыть не мог, как он глазища таращил да губы крутил. . Глянул я на Муртуз-агу: батюшки светы! то же лицо, и глаза, и губы, тут-то я и признал его.
– Ты, стало быть, очевидцем всей этой истории был? –
спросил Воинов.
– Тоись, как вам доложить? Настоящего-то я не видел, как, значит, князь капитана нашего полосонул; я уже опосля пришел, минут этак с пяток. . Подхожу к казармам, гляжу: от угла денщик капитана, Лошаденков, бежит. Капитан жил от казарм неподалеку.. Бегит, стало быть, Лошаденков, а сам стены белее; завидел меня, замахал руками, лопочет что-то, а что, не могу понять. Рассердился и в ту пору на него крикнул, кажись, еще и по затылку слегка смазал: «Что ты, бесов сын, стрекочешь, уразуметь ничего невозможно!» А он мне: «Бегите, господин фельдфебель, до нас, у нас дело большое приключилось, князек капитана зарезал». Как сказал он мне эти слова, и света Божьего не взвидел. . Ударился бежать резвей мерина, добег, гляжу, в саду недалеко от лестницы лежит капитан на спине, китель весь в крови, кровь под ним, кровь около.. Удивительное дело, сколько крови было.. Тут же и барыня, бьется головой об землю, кричит не своим голосом. . Наклонился я над капитаном, гляжу: еще дышет, глазами по сторонам поводит тихо так, точно озирается, лицо же такое страшное, серое, осунулось, узнать нельзя. Увидал меня, губами шевелить зачал. Приник я это ухом к самому его лицу, прислушиваюсь, стараюсь понять, что такое говорит он мне.
Сначала никак разобрать не мог, насилу-насилу расслышал. «Умираю... – грит, – возьми мою руку, помоги крест сделать». Взял я его руку, он персты сжал, и я его рукой крестное знамение начал делать.. Только донес до левого плеча, чувствую, рука сразу потяжелела, холодеть начинает и ровно бы деревянная стала. Глянул я ему в очи, а на них словно бы туман лег, помутились, зрачки такие светлые, неподвижные.. Вижу я, помер наш капитан, царство ему небесное.. Опустил я его бережно на землю, перекрестился, а тут в скорости народ сбегаться зачал. . Шум, смятение; что, как. . А про убийцу-князя забыли.. Схватились, часа уже должно два спустя, кинулись туда-сюда, а его и след простыл. . Разослали по всем концам и пеших и конных, не тут-то было, как скрозь землю провалился! На другой день командир полка телеграммы послал, чтобы на турецкой границе караулили, одначе и там ничего. Спустя месяц уведомили полк, быдто где-то около границы нашли труп человеческий, весь изъеденный волками, по приметам похожий на князя. Сейчас же послали одного офицера из полка удостовериться. Тот приехал, выкопали из земли труп, а он уже загнил весь.. Затошнило офицера, не стал разглядывать, а чтобы покончить дело разом, вернувшись, доложил, быдто действительно это князь был. На том и дело покончилось.
– Что же нам теперь делать? – спросил Воинов, с недоумением поглядывая на Рожновского и Сударчикова
– Арестовать, ваше благородие, как он только приедет, и сдать полиции! – предположил последний.
– Не годится, – тряхнул головой Рожновский, – оснований нет. Одного свидетельства Сударчикова недостаточно. Согласитесь сами: с того дня, как вся эта история случилась, прошло около двадцати лет, – за такой долгий период времени Сударчиков мог забыть, как Каталадзе и выглядел-то, а не то чтобы узнать его в новой совершенно обстановке.
– Я, ваше благородие, не забыл, да и как было забыть, когда все это происшествие на моих глазах случилось?! Я и по сей час все будто бы глазами своими вижу! – немного обиженным тоном заявил Сударчиков.
– Да разве я тебе не верю? – нетерпеливо махнул Рожновский, – но не обо мне речь; я говорю не про себя, а про других. Другие не поверят, скажут: «Старик из ума выжил, померещилось ему сослепу». Не забудьте, ведь князь официально считается умершим, дело окончено и вновь возбуждать его никому не сладко. Ко всему этому прибавьте и то обстоятельство, что Муртуз-ага человек влиятельный, богатый, правая рука правителя Суджи Хайлар-хана, и затронуть его не так просто, как вам кажется.
Сейчас со всех сторон явятся прошеные и непрошеные заступники, подымется гвалт и в конце концов вас же обвинят и, чего доброго, подвергнут взысканию.
– Стало быть, по-вашему, оставить его гулять на свободе? – горячо воскликнул Аркадий Владимирович.
– Пока – да, но учините за ним зоркий надзор и как только он появится здесь тайно, помимо таможни, задержите как нарушителя границы. В то время, когда мы с него будем снимать допрос, Сударчиков пусть заявит свое показание о тождестве Муртуза с князем Каталадзе; мы сейчас же составим об этом протокол и все вместе препроводим в полицию. Таким образом, задержание будет вполне легальное: вы задержите Муртуз-агу не как князя Каталадзе, убийцу и дезертира, а как тайно перешедшего границу, на что имеете полное право. При этом показания
Сударчикова являются уже не главным мотивом задержания, а только второстепенным его дополнением.
– Вы совершенно правы! – воскликнул Воинов. – Теперь все дело за тем лишь, чтобы выследить его, когда он пожалует к нам. В этом случае, Сударчиков, надо, чтобы и ты помог нам: иногда на пароме можно собрать драгоценные сведения, у тебя к тому же есть среди татар знакомые.
– Не извольте беспокоиться, – я, со своей стороны, душу положу на это дело, во все глаза караулить буду!
– А как вы думаете, – обратился Воинов к Рожновскому, когда Сударчиков вышел и они остались вдвоем в комнате, – следует ли сказать об этом Лидии Оскаровне?
– По-моему, – не следует. Женщина всегда остается женщиной. Бог ее знает, как она отнесется к этому известию! Во-первых, поверит ли она ему, а если и поверит, то не случится ли так, что жалость к убийце пересилит негодование, вызываемое убийством, и она захочет спасти его от угрожающей ему кары.
– Пожалуй, и в этом вы правы. Итак, будем хранить все в глубокой тайне между нами, – и дай Бог скорого и полного успеха.
XXXVIII
Сударчиков орудует
– Что с тобой? – спрашивала Ольга Оскаровна Лидию, видя ее постоянно задумчивой, как будто бы чем-то расстроенной. – Ты последнее время такая грустная..
– Скучно мне у вас тут! – отвечала Лидия. – Сначала, пока все вновь было, интересовало, а теперь надоело до тошноты; глаза бы ни на что не глядели. Скучно жить без дела! Думаю весной назад в Москву ехать – службу искать где-нибудь в конторе!
– Вот глупости! – с неудовольствием воскликнула
Ольга. – Пришла фантазия место искать, точно есть тебе нечего! Это у тебя институтские бредни; лучше замуж выходи!
– За кого? – усмехнулась Лидия.
– А хотя бы за Воинова; чем не жених?
– Прекрасный, только не по мне!
– А почему, позволь тебя спросить? Человек молодой, хороший, любит тебя до безумия. Жалованье получает хорошее, кроме того свои средства небольшие есть; ты тоже имеешь ежемесячную ренту, жили бы без забот!
– Согласна, все это очень соблазнительно, но. .
– Что но?
– Но Воинов мне не нравится!
– Удивляюсь! – пожала плечами Ольга. – Кто же тебе нравится? Муртуз-ага, что ли? – презрительно улыбнулась она.
– А хотя бы и Муртуз-ага! Что же тут удивительного? –
спокойно произнесла Лидия.
Ольга пристально взглянула в лицо сестры и весело рассмеялась.
– Чудачка ты, Лидия, право чудачка, фантазерка, каких мало! – сказала она и, поцеловав сестру в лоб, вышла из комнаты. Оставшись одна, Лидия села на кушетку в уголок и задумалась. Последнее время ее мысли вращались все на одном и том же; возможно ли для Муртуза обновление его жизни и если возможно, то как это совершится, при ее участии или нет? Теперь, когда она знала, что он не перс-мусульманин, а европеец, она стала смотреть на него совершенно другими глазами; преграда, созданная слишком большой разницей в мировоззрении людей Востока и
Запада, рушилась, оставалось только ближе узнать и понять друг друга, испытать силу взаимной привязанности. .
и тогда.. Но что же тогда? Связать свою жизнь с его? Но разве это возможно? Кто он такой? Кто он такой? Какое место в жизни он может занять, какие отношения могут создаться у него с другими людьми? Все это были вопросы, которые ее чрезвычайно волновали и тревожили главным образом тем, что она не могла дать на них себе никакого ответа.
Сударчиков стоял на берегу и смотрел, как большая толпа рабочих, едущих из Персии на ранние весенние заработки в Россию, с шумом и гамом заполнила готовый отчалить от персидского берега паром.
В эту минуту на персидской стороне мимо парома верхом на красивом, рослом, сером коне проехал татарчонок и, с разбега вогнав его далеко в реку, по самое брюхо, начал поить. Лошадь пила долго и жадно, по временам подымая голову и оглашая воздух звонким, задорным ржанием. Сударчиков невольно обратил особое внимание на этого коня; такого в окрестностях ни у кого не было, слишком он был породист и красив и принадлежал, наверно, знатному и богатому человеку.
– Чем это конь мог бы быть? – раздумчиво произнес
Сударчиков, продолжая внимательно разглядывать серую лошадь и сидящего на ней татарчонка.
– А должно быть, Муртуз-аги? – заметил Иванюк, мельком бросив взгляд за реку. – Я, кажись, видел его один раз на этом коне, когда наши на охоту ездили!
– Да ну! Что ты говоришь?! – встрепенулся Сударчиков.
– А не врешь?
– А Бог его знает, может, и не Муртузова, – согласился
Иванюк, – много тут таких-то лошадей!
– Ну, нет, брат, это ты брешешь; таких коней тут нет.
Вот ты что, Иванюк: оставайся, а я съезжу на ту сторону, мне это важно узнать доподлинно. Если кто спросит, зачем я поехал, отвечай, паром персидский осмотреть; третий день подлецы гололобые свой паром чинят, а все справить не могут!
– Это у них уж заведение такое, – проворчал Иванюк, –
нарочито свой паром неисправным показывают, чтобы пассажиры больше на нашем ездили, а их без дела отдыхал!
– А вот я их, клятиков! – погрозился Сударчиков, спускаясь на паром и приказывая отчалить.
Мустафа, старший паромщик персидского парома, худощавый старикашка с жидкой сивой бороденкой и слезливым и в то же время лукавым выражением на сморщенном, как печеное яблоко, лице, увидя подплывшего Сударчикова, поспешил к нему навстречу, низко кланяясь и подобострастно улыбаясь.
– Когда же у вас, Мустафа, паром-то, наконец, готов будет? – сердито крикнул Сударчиков. – Управляющий хочет жалобу писать!
– Завтра, ага, в'алла 128 , завтра! – прижимая руки к сердцу и стараясь придать своему голосу особенную убедительность, зашамкал Мустафа. – Сабах дюн наш паром ходить начал!
– Знаю я ваше сабах дюн129! Врете вы все; три дня одну доску прибить не можете. Мошенники!
– Разви одна доска, господин старший? – сокрушенно покачал головой Мустафа. – В'алла, работи многа, почти все доска пропал, в'алла, пропал!
– Ладно, рассказывай! Ну да черт с тобой, – завтра так
128 «. .в'алла» – ей-Богу.
129 Сабах дюн (тюрк.) – завтра утром.
завтра, только смотри не надуй, а то сейчас жалобу пошлем; так и знай!
– Зачиво жалобу, не надо жалобу; говорю, завтри паром ходить начинал, Мустафа шалтай-болтай130 не будет!
– Подумаешь, какой праведник! – буркнул себе под нос
Сударчиков и, повернувшись к своему паромщику, сурово приказал ему плыть обратно. В ту минуту, когда паром уже тронулся, Сударчиков небрежно кивнул низко кланявшемуся ему Мустафе.
– Хороший конь у Муртуз-аги, этот серый; самая лучшая его лошадь! – сказал он, как бы между прочим, показывая на отъезжавшего от берега татарчонка на сером жеребце.
– А, якши ат, чох якши131! – прищелкнул языком Мустафа. – Такой лошка132 ни у кого нет во всей Судже!
– Верно, верно; ну, прощай, карташ133!
– Прощай, ага, бывай здоров!
Паром медленно пополз к русскому берегу. Сударчиков торжествовал; теперь он знал, что Муртуз-ага в Анадыре, иначе откуда взяться его лошади. Надо скорее предупредить поручика: может, Муртуз еще задумает переправиться через границу.
Вернувшись обратно, Сударчиков поспешил к себе в комнату, торопливо достал четвертушку бумаги и дрожащими, худо слушающимися пальцами начал выводить угловатым почерком донесение.
130 Шалтай–балтай (тат.) – зря говорит, обманывает.
131 Якши ат, чох якши (тат.) – хорошая лошадь, очень хорошая.
132 Лошка – здесь: татарин пробует выговорить по-русски слово лошадь.
133 Карташ – брат.
«Его высокородию, – писал он, – командиру
Урюк-Дагского отряда, отставного фельдфебеля Сударчикова донесение. Доношу Вашему Благородию, что
Муртуз-ага в настоящее время находится в сел. Анадыре и, очень может быть, сею ночью будет переправляться на нашу сторону. О чем вашему благородию и доношу для сведения».
Написав и запечатав пакет сургучной печатью, Сударчиков отправился разыскивать «подлеца Керимку». «Подлец Керимка» был круглый сирота, татарчонок лет 12, живший, как птица небесная, постоянно голодный, полунагой, но, несмотря на то, всегда веселый. Он с хитростью обезьяны льнул к солдатам, которые, по русскому добродушию, относились к нему несравненно лучше, чем его соплеменники-татары. Если бы не солдаты, «подлец Керимка», наверно, давно бы помер с голоду или замерз где-нибудь в поле. Солдаты его прикармливали, отдавали старые обноски и иногда в особенно лютую стужу пускали ночевать в казармы, где он, свернувшись на полу, как собачонка, без матраса и подушки, но пригретый, чувствовал себя совершенно счастливым. В благодарность за такое, в сущности, ничтожное внимание «подлец Керимка» исполнял для солдат разные поручения и состоял у них на побегушках.
Прошло добрых полчаса, а то и час, пока Сударчикову удалось разыскать, наконец, Керимку на дворе какого-то татарина, где он помогал складывать в кучу кизяки.
Раздосадованный долгими бесплодными поисками, Сударчиков первым долгом схватил мальчугана за шиворот и, ничего не говоря, пребольно оттрепал его за уши.
Впрочем, «подлец Керимка» к такому обращению привык давно; он даже не счел нужным сопротивляться, а только нищал, как поросенок, змеей извиваясь в грубых руках фельдфебеля. Окончив массирование Керимкиных ушей, Сударчиков отвел его в укромный уголок, где никто не мог их видеть, и сунул ему за пазуху пакет.
– Слушай, пострел, – строго хмуря брови, приказал старик, – беги сломя голову на пост Урюк-Даг к командиру, отдай ему этот пакет прямо в руки; слышишь, – сам отдай.
Если солдаты на посту захотят взять пакет – не отдавай им; скажи: Сударчиков, мол, приказал самому командиру отдать. Если спать будет, вели сбудить; не бойся ничего, от моего имени действуй. Смекаешь? Во тебе два шаура134, а проворно и умненько сделаешь, приходи – абаз135 дам.
Керимка жадно схватил деньги и торопливо сунул их в карман рваной солдатской жилетки, надетой поверх грязной холщовой рубахи, которая вместе с такими же портами составляла всю его одежду, весьма легкомысленную по зимнему времени. Не заставляя повторять приказания, он со всех ног с места пустился бежать на Урюк-Дагский пост; только голые пятки его, невзирая на зиму, босых ног замелькали в воздухе.
– Ишь, шустрый дьяволенок! – шевельнул усами Сударчиков, глядя вслед бегущему мальчишке. – Швидче лошади дует, за полчаса добегит. Ну, что Бог даст? Каково-то удастся? Помоги, Господи?
Старик от полноты чувств даже перекрестился.
134 Шаур – пятак.
135 Абаз – двугривенный. Персидская и старогрузинская серебряная монета достоинством в 20 копеек. Существовала и персидская мера веса в один абаз – 368 г.
XXXIX
В пещере
Был яркий солнечный день. Несмотря на декабрь месяц, градусник в полдень стоял на нуле, что, в связи со жгучими лучами южного солнца и отсутствием всякого ветра, производило впечатление положительно теплого дня. Лидия в суконной амазонке и плюшевой ватной кофточке, в меховой шапочке и перчатках из козьего пуха, вышла на крыльцо, подле которого таможенный солдат держал под уздцы застоявшегося Копчика. Горячий конь нетерпеливо топтался на месте и рыл землю то правой, то левой ногой, сердито встряхивая тонкой, как шелк, гривой.
– Куда это ты собралась? – удивилась несколько Ольга, увидя сестру в таком костюме.
– Хочу проехаться немного. Давно уже не ездила.
Копчик совсем застоялся!
– Одна?
– Я недалеко, на почтовую станцию, хочу письмо сдать; кстати, я, может быть, к почтмейстерше зайду, посижу у нее немного. Я тебе для того это говорю, чтобы ты не беспокоилась, если я немного запоздаю. Ну, до свиданья!
Она в несколько прыжков сбежала с лестницы и легко и грациозно, почти без всякой помощи, как бы вспорхнула на седло.
Почувствовав на себе всадницу, Копчик еще больше заволновался, захрапел, согнул шею дугой и, сделав два-три коротких лансада, пошел, играя и поджимаясь, сердито и нетерпеливо прося повода. Выехав из селения,
Лидия легким прикосновением хлыстика подняла его в галоп и поскакала к видневшимся вдали горам. Доскакав до подошвы ближайших скал, она перевела Копчика в шаг и, осторожно перебравшись через глубокую канаву, окаймлявшую шоссе, направилась по едва заметной дорожке к глубокому ущелью, черневшему, как пасть чудовища. В
ущелье было значительно холоднее, дул резкий ветер, но
Лидия не обращала на это внимания и продолжала скорым шагом подыматься вверх по каменистой, извилистой тропинке. Обогнув высокую, похожую на египетскую пирамиду, скалу, Лидия увидела широкую площадку, со всех сторон окруженную скалами, в одной из которых зияла большая, глубокая пещера. Не успела молодая девушка остановиться, как из-за камней ей навстречу поднялась высокая угрюмая фигура курда с ружьем за спиной и огромным кинжалом у пояса; одновременно с этим из глубины пещеры вышел Муртуз-ага.
– Видите, я сдержала свое слово! – сказала Лидия, легко спрыгивая с седла и передавая повод Копчика курду, который тотчас же куда-то с ним исчез.
– Вижу, вижу! – радостно улыбнулся тот, пожимая ей руку. – Ну, милости просим, пожалуйте в пещеру, а то здесь холодно!
– А там разве теплее? – усумнилась Лидия, следуя за
Муртузом.
– А вот сами увидите!
Они вошли, и молодая девушка была невольно изумлена тем видом, который приняла теперь знакомая ей пещера. Посредине ее были поставлены куртинские камышовые, оплетенные паласами ширмы; на небольшом пространстве, отгороженном этими ширмами, были настланы толстые войлоки, а поверх них персидские ковры с положенными на них двумя подушками; в углу горел яркий костер, дым которого уходил вверх, в едва заметную щель в скале. Несмотря на то, что вход в пещеру был открыт, в ней было тепло, как в комнате.
– Да вы тут прекрасно устроились! – воскликнула Лидия, оглядывая пещеру.
– Иначе было нельзя. Я сказал вам, что буду ждать вас три дня. Погода могла испортиться, наступят морозы, и тогда в этой пещере недолго и замерзнуть!
– Но откуда же вы достали все это – подушки, ширмы, ковры?
– Как откуда? Из Персии! Я взял с собой двух вьючных катеров, под вещи; кроме того, со мной четыре курда, одного вы сейчас видели!
– И вам удалось таким скопищем незаметно проскользнуть через границу? Удивляюсь!
– Что же тут удивительного? – усмехнулся Муртуз-ага.
– Я же вам говорил, если захочу, пройду через границу, и никто меня не увидит и не услышит. Скажу вам лучше: я имею неопровержимые сведения, что нас эту ночь ждали. У
Воинова все люди на границе. На посту два-три человека, не больше, у каждого брода заложены секреты из нескольких человек, кроме того, всю ночь разъезжают конные патрули. Сам он тоже на границе. Из всего этого ясно: он каким-то чудом узнал о моем приезде в Анадыр, сообразил, что я думаю тайно переправиться, и усиленно караулил всю ночь.
– В таком случае, как же вы проехали?
– Очень просто: я выбрал путь, где меня могли меньше всего ждать, а именно около самого поста. Я прошел со своими людьми в нескольких саженях от часового; не в меру усердный солдат слишком внимательно приглядывался вдаль и чересчур прислушивался к ожидаемой где-нибудь у дальнего брода тревоге, чтобы видеть и слышать около себя!
– Но почему же вы узнали, что вас ждут во всех бродах?
– все больше и больше изумлялась Лидия.
– Ну, это уж совсем пустяки. Накануне этого дня, когда я решил переправиться, я послал трех своих курдов; они весь день неподвижно пролежали в камышах, а вечером, когда солдаты начали занимать секреты, мои разведчики, как змеи, расползлись во все стороны, тщательно все высмотрели, а затем, незамеченные никем, переплыли Аракс и дали мне знать. Руководствуясь их указаниями, я прошел так же спокойно, как будто бы на границе никого не было.
– Ну, теперь я вижу, вы действительно не хвастались, говоря, что можете по желанию безнаказанно перейти границу, когда угодно! – воскликнула Лидия, невольно любуясь спокойным, мужественным видом Муртуз-аги, который стоял перед нею, поигрывая рукояткой кинжала, гордый, презирающий всякую опасность и в то же время почтительно-покорный.
Прошло несколько минут в томительном молчании.
Оба сидели один против другого на ковре, подложив под локоть подушку и не глядя в лицо друг другу. Первая заговорила Лидия.
– Ну, что же, Муртуз-ага, я исполнила свое обещание, приехала, теперь дело за вами. Повторяю еще раз: не любопытство руководит мной, а желание вам добра. Поделитесь со мной вашим горем, и затем мы вдвоем обсудим, Нельзя ли будет вам выйти из тяжелого положения, в котором вы находитесь!
– Нет слов, чтобы выразить вам мою благодарность! –
тронутым голосом произнес Муртуз. – За двадцать лет, что я покинул родину, первый раз я слышу голос искреннего участия.. Тем тяжелее мне будет моя исповедь, так как уверен, что после нее вы отвернетесь от меня.. Вот главная причина, сковывающая мой язык. .
– Я здесь не в качестве судьи! – тихо и спокойно произнесла Лидия. – Как бы ваше преступление ни было ужасно, вы успели уже много выстрадать за него; говорите смело и верьте, я не брошу в вас камня!
– Вы ангел, я давно это узнал и с первой же встречи стал боготворить вас! Вы казались мне существом нездешнего мира.. Ах, зачем я вас встретил! Мне и раньше было тяжело, теперь же моя жизнь невыносима!
Последние слова Муртуз произнес в порыве такого отчаяния, что Лидии стало его особенно жалко.
– Успокойтесь, – произнесла она ласковым, ободряющим тоном, – и рассказывайте вашу историю. Когда вы выскажетесь, вам будет легче, уверяю вас!
– Повинуюсь, но дайте мне собраться с мыслями!
С этими словами Муртуз закрыл глаза и несколько раз провел рукой по лбу; выражение его лица было страдальческое. Очевидно, ему было очень трудно приняться за рассказ, но после некоторого колебания, преодолев свое волнение, он, наконец, начал глухим, как бы чужим голосом.
XL
Признание
– Прежде всего о моем имени, кто я и откуда родом. Я
грузин, фамилия моя князь Каталадзе, зовут меня Михаил
Ираклиевич. Если бы вы были знакомы с историей нашего края, вы бы знали, что в прежние времена фамилия князей
Каталадзе играла большую роль в судьбах Грузии, а в конце царствования Императора Александра I один из князей Каталадзе занимал видный военный пост в Петербурге, но в конце сороковых годов он умер в преклонной старости, разорившийся и всеми забытый. Родных сыновей у него не было, но был племянник, мой отец, начавший свою карьеру в гвардии, но затем, по недостатку средств, принужденный перейти в гражданскую службу. Однако в гражданской службе отцу моему не повезло. Говорят, причиной этому были его грузинская вспыльчивость и откровенность, с которой он резко и грубо говорил людям в глаза то, о чем они не любят слушать. Не знаю, насколько все это правда, но когда я родился, отец уже нигде не служил, а проживал в своем родовом запущенном имении, едва-едва прокармливавшем его и его семью, состоявшую, кроме меня и матери, еще из двух сестер, обе старше меня, и младшего брата, теперь уже давно умершего.
Мать моя была русская, отец женился на ней, когда еще служил в Петербурге. Брак этот был счастлив, хотя, как мне кажется, вспыльчивый, строптивый характер отца немало приносил ей огорчений. Мать моя происходила из старинной зажиточной дворянской семьи; благодаря деньгам,
принесенным ею в приданое, отец мог выкупить от ростовщиков-армян свое родовое, с незапамятных времен заложенное имение, где он и поселился, оставив службу, причинявшую ему только одни неприятности. Когда мне исполнилось 12 лет, меня отправили в военную гимназию в
Петербург на попечение тетки, замужней сестры моей матери. Рожденный под роскошным солнцем Грузии, взлелеянный ее благотворным воздухом, я, однако, не мог выносить сурового, туманного климата северной столицы и постоянно болел. Благодаря тому обстоятельству, что я большую часть года проводил в госпитале, науки мои шли очень плохо, и я с грехом пополам окончил гимназию, но в военное училище уже не пошел, а вернулся поскорее на родину и поступил в один из туземных полков вольноопределяющимся. С этого-то момента и начинается история моего несчастья.
Муртуз-ага, которого мы теперь уже будем называть его настоящим именем князем Каталадзе, тяжело вздохнул и, помолчав немного, как бы обдумывая дальнейшее повествование, снова начал:
– Итак, я поступил в полк. Какое это было чудное время!. К сожалению, оно продолжалось недолго, всего несколько месяцев.
Полк наш был как одна семья; офицерство состояло из грузин и русских. Ни армян, ни татар в среде его не было, все были на «ты» друг с другом, все как братья. Вольноопределяющимся жилось прекрасно, они были приняты в офицерскую среду совсем запросто, по-товарищески, не так, как в других пехотных полках, где с ними обращаются немного лучше, чем с простыми нижними чинами. Так как большинство офицеров были грузины, то они давали тон всему полку; благодаря им, редкий день проходил без веселого сборища в квартире кого-либо из них. Кахетинское лилось рекой, благо в те времена оно было немногим дороже воды; «азарпеш136» весело ходил по рукам удалой компании, под дружное пение традиционного «Мравал
Джамиер» и забористые шутливые тосты остроумца тамады. Иногда пир затягивался дня на три, на четыре, причем заправские кутилы все это время так и не отходили от стола. Когда вино и сон одолевали их буйные головы, они облокачивались на стол и дремали час-другой со стаканами в руках, после чего как ни в чем не бывало снова принимались за кутеж, пока, наконец, какое-нибудь постороннее обстоятельство не прекращало попойки. Не довольствуясь кутежами в холостой компании, офицерство наше то и дело устраивало пикники с дамами: как с полковыми – женами офицеров, так и с городскими. На пикники преимущественно ездили верхом; у редкого офицера не было своего коня, какого-нибудь лихого кабардинца или золотистого
Карабаха.
Как теперь вижу я эти веселые поезда. Три-четыре фаэтона, наполненные нарядно одетыми дамами, мчатся четверками во весь дух по ровной дороге, среди виноградников и фруктовых садов.. Вокруг них, спереди и сзади, джигитуя и перекликаясь между собою, на поджарых, горячих конях несутся молодые офицеры, ловкие, стройные, в черкесках, увешанные оружием в богатой серебряной оправе.
136 Азарпеш – здесь: круговой кубок. Азарпеш выделывают из турьего рога, украшают серебром. В особо торжественных застольях кубок передавался от хозяина гостю, затем другому, ходил по кругу.
Тут же, не уступая мужчинам в лихости и удали, скачут две-три амазонки в цветных офицерских фуражках, с разгоревшимися лицами и блещущими глазами. . Глядя на молодежь, и у солидных офицеров разгорается сердце, не вытерпит иной тучный, седовласый и плешивый майор, слезет со своей повозочки, запряженной парой резвых иноходчиков, н попросит кого-нибудь из молодежи уступить своего коня, а самому сесть в его майоровскую повозку; кряхтя и сопя, влезает старик на седло и, пригнувшись к луке, мчится за умчавшейся кавалькадой, которая встречает его громким и дружным хохотом, добродушно подтрунивая над его не умещающимся на седле животом и толстыми короткими ногами.
– Ладно, смейтесь, молокососы! – добродушно ворчит старик-ветеран. – Думаете, я не был такой, как вы? Был, еще, пожалуй, получше! Помню, как в 1849, я был тогда совсем юным прапорщиком, мы..
И тут старик начинал бесконечную повесть из великой эпохи, которая зовется – Кавказская война. Эти бесхитростные рассказы, помню, действовали на нас, молодежь, как смола на огонь, зажигая в наших сердцах жажду к опасностям и подвигам. С горящими глазами, сжимая пальцами эфесы шашек и рукоятки кинжалов, слушали мы старых вояк, принося в душе своей клятвы при случае последовать их примеру и поддержать незыблемую геройскую славу кавказских войск. Ах, чудное, невозвратное время!.
Впрочем, простите, я, кажется, увлекся и говорю не отом, о чем следует. . На чем я остановился? Ах, да, на том, что я поступил в полк. В полку я был зачислен в 1-ю роту; ротный командир у меня был капитан Некраснев. На моем слабом языке нет таких слов, которыми бы я мог рассказать вам, что это была за личность; во всем, в чем только вы хотите, он мог служить образцом. Прекрасный фронтовик, службист, сумевший поставить свою роту на такую недосягаемую высоту в деле военного образования и воспитания, что никому и в голову не приходило тягаться с ним, Егор Сергеевич, так звали Некраснева, в то же время был человек весьма добрый, даже снисходительный; с солдатами обращался прекрасно, с отеческой о них заботливостью; что же касается товарищей-офицеров, то лучшего товарища нельзя было и представить себе. У нас его все любили и почитали, мы же, мальчишки, вольноопределяющиеся его роты, прямо обожали его. С нами он держал себя очень просто, дружески, на службе был строг и взыскателен, а вне службы он являлся для нас не начальником, а как бы старшим братом. Попасть к нему в роту считалось большой честью и счастьем. Как и подобает солидному ротному командиру, человеку пожилому, капитан Некраснев был женат. Жена его, Людмила Павловна, была моложе его на 20 лет. В то время, когда я с ним познакомился, Некрасневу было 45, а ей двадцать пять лет, но это не мешало им жить душа в душу и сильно любить друг друга.
Особенно Некраснев, он, как говорится, души не чаял в своей жене, да, признаться, в этом не было ничего удивительного; Людмила Павловна была во всех отношениях замечательная женщина. Умница, каких мало, образованная, всегда веселая, хорошая музыкантша и певица и ко всему этому красавица такая, каких я ни раньше, ни позже, до встречи с вами, не встречал. Высокого роста, стройная, с дивными глазами, она с одного взгляда могла свести с ума любого мужчину.. У нас в полку половина офицеров была влюблена в нее до потери рассудка.. Ко всему этому она была большая кокетка; у нее была страсть кружить головы своим многочисленным поклонникам. Теперь, под старость, припоминая прошлое, я нахожу эту черту характера в ней, ее единственным недостатком, тогда же, разумеется, я этого не находил. Напротив, в наших глазах кокетство
Людмилы Павловны имело особенную прелесть и вызывало ни с чем несравнимый восторг. Надо ли говорить, что я, в то время восемнадцатилетний юноша, не избег общей участи и с первых же дней моего знакомства с Людмилой
Павловной страстно и безумно влюбился в нее.
На беду, не знаю отчего, по отношению ко мне Людмила Павловна была как-то особенно внимательна. Я был самый юный из всех ее тогдашних поклонников, и она глядела на меня как на мальчика, забывая, что грузин, сын юга, в 18 лет, пожалуй, более мужчина, чем северянин в
20-22 года, и в несколько раз превосходит его пылкостью своего темперамента и страстностью натуры. К сожалению, Людмила Павловна не думала об этом и тем погубила всех нас троих. Относясь ко мне как к ребенку, она позволяла себе много лишнего, держалась чересчур запросто, возилась со мной. . шутя, драла меня за уши, шутя била меня по лицу, преимущественно по губам своими перчатками, веером, а то и просто пальчиками. . Ей, очевидно, доставляло наслаждение дразнить «мальчишку», каковым она меня считала, искренно забавляясь кипевшей во мне страстью. . Она смеялась, дурачилась, а я терзался, мучился, страдал. . Я места себе не находил, сжигаемый внутренним огнем. . Я бросался перед ней на колени, в пылких словах изливая ей мою любовь, мои терзания, но чем страстнее были мои объяснения в любви, тем громче и беззаботнее она смеялась, тем сильнее мучила меня.. Она была положительно безжалостна. Единственным ей оправданием служило то обстоятельство, что она искренно считала меня слишком юным, а страсть мою слишком ребяческой, чтобы придавать ей какое-нибудь серьезное значение: но, повторяю я был далеко не ребенок и очень скоро доказал ей это.. Как это случилось, признаюсь, я и сам не знаю, да и она, по всей вероятности, не знала..
Чудный вечер, опьяняющий воздух и аромат тенистого сада, где мы сидели уединенно одни, бешеная страсть, превратившая меня в зверя, давшая мне смелость и решительность, а в ней вызвавшая растерянность и испуг. . –
словом, целое сплетение причин и обстоятельств. Как бы то ни было, но с этой минуты мы поменялись ролями. Кошка, игравшая дотоле мышкой, вдруг сама превратилась в мышку и сделалась жалкой игрушкой в руках того, кого еще недавно она так безжалостно мучила.. Страх перед мужем, боязнь открытия проступка сделали Людмилу
Павловну покорной рабой моих желаний. . Сознаюсь и каюсь, я поступал подло, низко, бесчеловечно. Единственным если не оправданием, то объяснением моего тогдашнего поведения была моя страсть; я любил Людмилу
Павловну, любил горячо, безумно, но не самоотверженно.
Впрочем, трудно требовать от человека в восемнадцать лет само отверженности и великодушия в вопросах такого рода. Несколько раз несчастная женщина принималась умолять меня, чтобы я пожалел ее, уехал из того города, где мы жили, перевелся бы в другой полк и тем порвал наши отношения, пока еще не поздно, пока они составляют тайну, которая в противном случае рано или поздно должна же, наконец, открыться. Я отлично сознавал всю правоту, все благоразумие и, наконец, всю справедливость такого требования, но в то же время не находил в себе достаточно сил добровольно отказаться от своего счастья. Повторяю, я любил. . Обещая ей уехать, я, даже получив уже отпуск, все оттягивал свой отъезд, прося у нее последнего свидания.
После долгих отказов и отговорок, она уступила, наконец, моим настояниям, надеясь этим купить себе покой и избавиться от меня, но я под тем или иным предлогом опять откладывал тяжелый для меня день разлуки и опять требовал и настаивал на новой встрече.. Это было с моей стороны какое-то безумие. Гнуснее всего было то, что Егор
Сергеевич ничего не подозревал и продолжал относиться ко мне с большим расположением и доверием; а между тем по городу уже начали похаживать сплетни, сначала весьма неясные, туманные, робкие, но с каждым днем все более и более настойчивые и упорные.. В провинциальном городе, где жизнь каждого как на ладони, трудно уберечься от наблюдений милых соседей, и нет того секрета, который бы в очень непродолжительное время не сделался бы достоянием всех и каждого.
Кое-какие отголоски бродивших слухов достигли, наконец, и до моих ушей. Я понял, что дольше откладывать с отъездом нельзя. Отпускной билет у меня был готов давным-давно, вещи уложены, оставалось сесть в почтовую тележку и уехать, сперва к отцу в имение, а затем месяца через полтора в юнкерское училище. Была минута, когда я совсем готов уже был послать за лошадьми и ехать, но, видно, злой дух, желавший нашей гибели, подшепнул мне остаться еще на один день..
XLI
Убийство
С вечера я послал Людмиле Павловне записку о том, что утром уезжаю. В доказательство бесповоротности моего решения, я одновременно с этой запиской послал ее мужу рапорт о выезде; рапорт этот был помечен тем же числом. Таким образом, я считался выбывшим из города накануне того дня, когда рассчитывал уехать в действительности. Сначала я думал уехать, не повидавшись с
Людмилой Павловной, но желание еще раз взглянуть на нее перед вечной, по всей вероятности, разлукой взяло верх над благоразумием, и я на другой уже день, зная, что Егор
Сергеевич на занятиях в роте, послал Людмиле Павловне вторую записку требуя, чтобы она пришла в рощу на последнее свидание, угрожая в противном случае остаться и не уехать, несмотря на поданный накануне рапорт. Зная мою отчаянность и легко допуская возможность выполнения мною моей угрозы, Людмила Павловна, считавшая себя уже свободной, не на шутку испугалась и поспешила на мой призыв.. Тяжело мне было расставаться с ней, так тяжело, что не умею и сказать.. В эту минуту я искренно и глубоко страдал. Даже Людмиле Павловне стало под конец жалко меня, н она, стараясь меня утешить, первый, может быть, раз от всего сердца ласкала меня.. Впрочем, кто знает, может быть, и она любила меня? Да и наверно любила; не настолько, конечно, чтобы бросить мужа, порвать связи с обществом и пойти за мной без оглядки и без рассуждения, но, тем не менее, достаточно сильно.. Однако всему бывает конец; пришел конец и нашему свиданью. .
Обняв и поцеловав меня в последний раз, Людмила Павловна встала с поваленного ветром дерева, служившего нам скамьей, и быстрым шагом пошла домой.
– Позвольте мне проводить вас до вашего сада, –
взмолился я, – только до сада! Клянусь честью матери, я не переступлю порога калитки, а прямо пройду домой, сяду в повозку, которая, наверно, меня уже ждет, и уеду!
Людмила Павловна мне ничего не ответила, и я, приняв ее молчание за согласие, пошел с ней рядом. По моему расчету Егор Сергеевич был еще в роте, откуда он приходил, не раньше как солдаты, окончив занятия, сядут обедать, т. е. в час дня или около того, несколькими минутами раньше, несколькими минутами позже. Поэтому я немало был поражен, когда, подойдя с Людмилой Павловной к калитке сада, мы неожиданно столкнулись с Егором Сергеевичем. Всегда спокойный и сдержанный, на этот раз он был страшно взволнован; лицо его было бледно, и по нем бегали судороги, брови мрачно насуплены, а сжатые в кулаки руки дрожали, как при лихорадке.. Увидя меня и
Людмилу Павловну, он вздрогнул всем телом и, стремительно отпрянув назад, воззрился на нас пытливым, недобрым взглядом. . Я видел, как Людмила Павловна вдруг сильно побледнела, и все лицо ее приняло выражение одного сплошного ужаса. Низко наклонив голову, трепеща всем телом, проскользнула она мимо мужа, не решаясь поднять на него своих глаз, и поспешила скрыться в дом.
Проводив жену долгим взглядом, в котором одновременно отразились волновавшие его разнородные чувства: любовь, ненависть, жалость, бешенство, отчаяние и безысходная тоска, Некраснев поднял голову и пристально взглянул мне прямо в глаза, как бы ища в них подтверждения своих сомнений и догадок.
Только тут я заметил в его руке скомканный лист почтовой бумаги, очевидно, чей-нибудь анонимный донос, столь излюбленный в провинции способ открывания глаз недогадливым мужьям. . С минуту мы пристально, не сморгнув, глядели один другому в очи, и, должно быть, в моих глазах он прочел роковую для него истину, потому что он вдруг весь как-то перекривился, из груди его вырвался не то стон, не то глухое рычание.. Еще один миг, и он держал меня одной рукой за горло, а другой со всего размаха наносил мне удары по лицу.. В первое мгновение я растерялся от такой неожиданности, но уже со вторым, моя рука инстинктивно схватилась за рукоятку кинжала.. Одно, неуловимое, как молния, движение, и холодная, острая, блестящая сталь глубоко впилась в тело оскорбителя..
Одним бешеным ударом я вскрыл ему весь живот до самой груди. . Егор Сергеевич глухо застонал и, как подкошенный, обливаясь кровью, упал к моим ногам. . В это мгновение я услыхал отчаянный, душу раздирающий крик и увидел Людмилу Павловну, растрепанную, страшную, с безумным выражением лица, с широко раскрытыми, застывшими в смертельном ужасе глазами; она неслась к нам по дорожке сада.. Руки ее были простерты, а изо рта вылетал хриплый, нечеловеческий крик, похожий скорее на вой; в паническом страхе я поспешно выпустил из рук кинжал и без оглядки кинулся бежать. . Удивляюсь, как меня не поймали. . Охваченный ужасом, я бежал, не отдавая себе отчета, бежал, куда глаза глядят, нисколько не заботясь и не думая о скрытии своих следов.. Не понимаю до сих пор, откуда у меня только силы взялись, каким образом я мог бежать целый день, не останавливаясь, и только когда ночь опустила свой покров на землю, я, наконец, опомнился.
Осмотревшись кругом, я увидел себя в совершенно незнакомом для меня месте, среди каких-то угрюмых скал; предо мной вилась узкая каменистая тропинка, и я, недолго думая, торопливо зашагал по ней, обуреваемый одним желанием поскорее и как можно дальше уйти от того места, где я оставил на дорожке сада плавающего в крови моего начальника и друга, а подле него еще недавно столь любимую, а теперь страшную мне женщину.. Не страх кары за совершенное преступление, а ужас перед этими двумя загубленными мною людьми побуждал меня бежать вперед, и я бежал, то тихо, то шибко, по временам останавливаясь, переводя дух, но не смея ни на минуту присесть.. По мере того как я подвигался вперед и под влиянием ночной тишины и прохлады, мысли мои начали мало-помалу проясняться и, наконец, прояснились настолько, что я мог начать разумно обсуждать мое положение. Раз я решил скрыться, мне не оставалось иного пути, как бежать в
Персию или Турцию, смотря по тому, к какой из границ я находился ближе в эту минуту. Но, чтобы узнать это, необходимо было зайти в какое-либо селение и расспросить жителей относительно дороги. Решив поступить таким образом, я первым долгом озаботился изменить несколько свой костюм. Я уже говорил вам, что наш полк носил туземную одежду: короткие черкески верблюжьего сукна, черные бешметы и круглые шапочки-тушинки, на ногах чувяки137 и ноговицы138, в общем, это был костюм грузинского или скорее армянского поселянина. Так как я в этот день собирался уезжать, то на мне была надета не собственная щегольская черкеска, какие мы носили вообще, из тонкого дорогого сукна, а обыкновенная казенная из грубой верблюжьей материи; в моем настоящем положении это было как нельзя более кстати. Надо было только отпороть ворот бешмета с нашитыми на нем унтер-офицерскими галунами, сбросить серебряный пояс с серебряными ножнами кинжала да на всякий случай понаделать побольше прорех и дыр на самой черкеске, чтобы достигнуть полнейшего сходства с поселянином. Я так и сделал: забросил пояс, ножны и газыри в первую попавшуюся на пути расселину в скалах, острым камнем пропорол спину, бока и подмышники в своей черкеске, оборвал подол и затем, к довершению всего, хорошенько извозил ее по песку и, не теряя времени, двинулся дальше. На рассвете я встретил трех татар с навьюченными чем-то ишаками.
Родившись и проведя первые годы детства на Закавказье, я довольно хорошо говорил по-татарски, а потому для меня не составило труда расспросить встреченных мною погонщиков, куда ведет тропа, по которой я шел. Оказа-
137 Чувяки – здесь: вид обуви из сафьяна с мягкой подошвой и низким голенищем, тип кавказских сапог.
138 Ноговицы – обувь с нормальным голенищем, застегиваемая вокруг голени.
лось, я, не отдавая себе отчета, вполне случайно попал на дорогу, направлявшуюся в Персию. Можно было подумать, будто бы судьбе самой было угодно, чтобы я спасся, ибо лучшего выбора пути для своего спасения я не мог бы придумать. Если бы я пошел к Турции, граница которой была, правда, гораздо ближе от города, где я жил, но зато несравненно многолюднее, меня бы наверно схватили, ибо погоня, по всей вероятности, направлена была туда, так как естественнее было ждать от меня бегства по знакомой мне местности в ближайшую Турцию, чем отстоящую от места преступления в нескольких переходах далекую персидскую границу, дороги к которой я не знал и не мог знать.
Три дня и три ночи шел я, почти не останавливаясь, выбирая глухие тропинки, ориентируясь днем по солнцу, а ночью по звездам, и только в крайности заходил в попадавшиеся на пути глухие деревушки купить что-нибудь поесть да расспросить про дорогу. Деньги у меня были те самые, на которые я собирался ехать домой в отпуск, с чем-то более двадцати рублей. Хотя такая сумма могла считаться вполне ничтожной, но в моем тогдашнем положении это был целый капитал, во многом посодействовавший успеху моего бегства.
Только на четвертый день достиг я, наконец, персидской границы. Я был страшно измучен, ноги мои были изранены; от скудной пищи и непомерного напряжения всех физических сил я отощал до последней степени. .
Силы покидали меня. Еще немного, и я, пожалуй, упал бы от изнеможения, голода и жажды. Упал бы, почти достигнув цели своих стремлений. . Но судьба и на этот раз неожиданно пришла мне на помощь: в глухом, безлюдном ущелье я наткнулся на какого-то подозрительного армянина, оказавшегося впоследствии русским шпионом и спешившего через Персию в Турцию. Мне удалось уговорить армянина взять меня с собой в Персию. Только тогда, когда, сидя за его спиной на крупе крепкого и сильного катера, я въехал в бурливый, бешено несущийся в стремительном течении Аракс, я понял, насколько счастлива для меня была встреча моя с армянином. Без него, предоставленный самому себе, я ни под каким видом не в состоянии был бы переправиться на ту сторону. Бродов я не знал, а переплыть такую быструю и свирепую реку, особенно в том состоянии полного упадка сил, в каком я тогда находился, нечего было и думать. Всякая попытка в этом направлении неминуемо окончилась бы моей гибелью.
XLII
Новое отечество
Как я выше сказал, армянин был русским шпионом.
Тогда Россия готовилась к войне с Турцией, и Кавказские военные власти посылали шпионов-армян для собирания разных сведений о положении приграничных турецких крепостей и о состоянии неприятельских войск. К одним из таких шпионов принадлежал и встреченный мною армянин. Это был умный и ловкий старик, не лишенный доли мужества и даже склонный к самопожертвованию. К сожалению, его постигла горькая судьба большинства шпионов, направившихся в тот год в Турцию: он очень скоро был изобличен и без церемоний повешен турками.
Впрочем, в его гибели, как я потом узнал, был виноват
Чингиз-хан – владетель Суджи, отец нынешнего правителя
Хайлар-хана. Стиснутый с обеих сторон могучими соседями, собиравшимися в то время напасть друг на друга, Чингиз-хан старался угождать и тому, и другому. В угоду
России он помог армянину-шпиону, о котором я рассказываю, беспрепятственно и очень ловко пробраться в
Турцию и собрать кое-какие сведения, которые он имел неосторожность переслать через того же Чингиз-хана в
Россию. Это была с его стороны непростительная ошибка, ибо Чингиз-хан, доставив в Россию посылку армянина, счел, что этим он выполнил все по отношению к русским и пора подслужиться туркам. Выходя из такого соображения, он поспешил стороной предупредить пашу соседнего вилайета 139 и указать ему на проживавшего там русского шпиона. Таким образом, Чингиз-хан явился добрым соседом и для русских, и для турок. Не зная про его вероломство, и те и другие остались довольны. Недовольным мог считать себя один только бедняга-армянин, очутившийся в один печальный для него день нежданно-негаданно на довольно-таки высоком суку. Впрочем, об этом меньше всего была забота.
Оставшись в Судже, я поступил на службу к Чингиз-хану. Должно быть, под влиянием делаемых в России и
Турции приготовлений к войне Чингиз-хан задумал и у себя завести нечто вроде регулярного войска. Переговорив со мной и узнав от меня, что я военный, Чингиз-хан, оче-
139 Вилайет – название административных областей в Турции, управляются вали.
Каждая область делится на санджаки (округа).
видно, принял меня за русского офицера, в чем я, каюсь, его не счел нужным разубеждать. Он предложил мне организовать из подвластных ему курдов полк казаков, а из персов полк пехоты; он мечтал даже и об артиллерии, но из всех этих затей ничего не вышло; после долгих усилий мне удалось с грехом пополам сформировать одну сотню всадников, но дальше дело не двинулось ни на шаг. Причина такого неуспеха крылась, во-первых, в нежелании
Чингиз-хана делать большие расходы, а во-вторых, в полном отсутствии людей, могущих явиться моими помощниками. По хотя предприятие мое и не удалось, Чингиз-хан не изменил ко мне своего благоволения, вообще это был человек, имевший свои достоинства, и родись он не в
Персии, неизвестно, чем бы он мог быть. Гордый деспот, кровожадный зверь, не знавший жалости, хитрый и мстительный, он вместе с тем был человек умный. Людей, которые ему были полезны, он ценил и умел даже привязывать их к своей особе. Ко мне он относился особенно хорошо; он отлично понимал, что, не будучи природным персом, не связанный никакими местными интересами, тем не менее принужденный жить в Персии, я в силу своего положения являлся самым надежным, самым преданным ему человеком, на верность и усердие которого он мог положиться. Выходя из таких соображений Чингиз-хан приблизил меня к себе, и до самой его смерти я пользовался его расположением, несмотря даже на недовольство некоторых наиболее фанатичных мулл, не прощавших мне моего христианского происхождения. Хотя я в угоду
Чингиз-хану и принял мусульманство, но не очень-то усердно исполнял обряды и адаты; ярые фанатики мне ставили это в вину, и не раз только близость к свирепому хану избавляла меня от крупных неприятностей.
Вскоре после того, как я поселился в Судже, мне удалось на деле доказать Чингиз-хану свою преданность. Один из ближайших родственников хана затеял заговор против него, рассчитывая сам занять его место; во дворце многие даже из приближенных к Чингиз-хану знали об этом заговоре, но из сочувствия молчали. Благодаря одной счастливой случайности, я вовремя узнал о готовившемся бунте и поспешил предупредить хана. Хитрый старик выслушал меня очень внимательно, но сделал вид, будто бы не поверил ни одному слову, и с прежним доверием продолжал относиться к своему родственнику и ко всем его сообщникам. Так прошло недели две. Заговорщики уже назначили день нападения на дворец хана, как вдруг произошло неожиданное событие. Во время беседы со своим родственником за чашкой кофе, Чингиз-хан, показывая ему купленный им недавно револьвер, нечаянным выстрелом застрелил его на месте. Надо было видеть, с каким искусством разыграл сцену горести по убитому, как он искренне сокрушался! Из всех приближенных только я не поверил нечаянности убийства, остальные все были введены в заблуждение. Не успели, однако похоронить главного заговорщика, как погиб, и тоже неожиданно, один из его ближайших сообщников. Он шел по базару, как вдруг около него несколько человек курдов затеяли ссору, перешедшую в драку. Засверкали кинжалы, и один из курдов, желая ударить товарища, с размаху нечаянно всадил клинок в грудь подвернувшемуся тайному врагу Чингиз-хана. Когда оба главных и самых опасных затейщика смут погибли,
Чингиз-хан сбросил с себя личину, и тут-то я мог вдоволь наглядеться на его неукротимую злобу и беспощадную свирепую жестокость..
Последовал целый ряд убийств. По приказанию Чингиз-хана шайки курдов врывались в дома намеченных жертв и свершали кровавую расправу; гибли не только взрослые мужчины, но женщины и дети; при этом кровожадные курды не довольствовались простым убийством, а предварительно истязали свои жертвы самым ужасным образом; даже младенцы были подвергнуты неслыханным мучениям. . Кровь лилась рекой, имущество расхищалось, дома разрушались до основания.. Убийства прекратились только тогда, когда не осталось в живых ни одного заподозренного в участии в заговоре. Перепуганные насмерть суджинские жители притаились и трепетали, о каком-нибудь сопротивлении никто и помыслить не смел, все только об одном и молили, дабы милосердный Аллах утихомирил сердце сардара. Поняв из действий Чингиз-хана, что ему сделался известным заговор, заговорщики, тем не менее, не могли никак догадаться, откуда хан получил нужные ему сведения; старик до самой смерти таил это про себя и только умирая, и то с глазу на глаз, рассказал обо всем сыну своему Хайлар-хану, посоветовав ему приблизить меня к себе, что тот и исполнил. Теперь я и при сыне пользуюсь тем же положением, каким пользовался при отце.. Вот вам в коротких словах вся моя жизнь.
Того же, как я страдаю, как рвусь всей душой назад в
Россию, какое отчаяние по временам овладевает мной, я никакими, словами выразить не могу. Чтобы понять все это, надо испытать на себе.. Слова же тут бессильны.
Раньше, до встречи с вами, я еще кое-как влачил свое жалкое существование, но теперь.. теперь я чувствую, жить дольше нельзя.. К чему мне мое богатство, моя свобода, даже почет, который окружает меня! О, как бы охотно я отдал бы все золото свое, все бриллианты, лошадей, ковры, словом, все, все, за право вернуться в Россию под собственным своим именем и поступить хотя бы писцом куда-нибудь!. Иногда, тщательно заперев двери и окна, я по целым часам горячо молюсь у себя в комнате...
плачу.. прошу Бога помочь мне.. Но и произнося слова молитвы, я сознаю всю невозможность для меня иного исхода. Вернуться в Россию – это значит идти на каторгу.
Повторяю, я смерти не боюсь. Однако и так жить, как я жил, я тоже не могу, особенно теперь.. Остается, стало быть, только умереть!.
Последние слова Каталадзе произнес покорно–печальным голосом и замолк, тяжело опустив голову.
XLIII
Планы
Лидия Оскаровна сидела бледная, потрясенная до глубины души. Все ее существо прониклось жалостью к этому несчастному человеку, той стихийной, всесокрушающей жалостью, на какую бывают способны только женщины и которая толкает их иногда на величайшие подвиги самопожертвования.
– Как мне жаль вас, князь! – тихим голосом произнесла она, кладя свою руку на его. – Особенно теперь, когда я узнала, как мало виноваты вы в своем преступлении и как жестоко за него наказаны!
– Вы говорите, мало виноват! – глухим голосом произнес Каталадзе. – Как это можно! Нет, вина моя ужасна: я убил прекраснейшего человека, благородного, великодушного, перед которым сам же был кругом виноват; разбил жизнь женщины, мною любимой, переменил веру. .
Последнее самое ужасное.. Нет преступника больше меня!
– Полноте, не предавайтесь отчаянию! – ласково, наклоняясь к его лицу, заговорила Лидия. – Преступление ваше велико, но вы уже отчасти искупили его, отчасти можете искупить в будущем. Главное, это выйти из того положения, в котором вы находитесь теперь!
– Как это сделать? – мрачно произнес князь.
– Очень просто. Вы говорите, вы богаты, – в таком случае продайте все, что молено продать, и уезжайте в
Европу. Там вы обратитесь в любое русское посольство, расскажите со всей откровенностью о ваших злоключениях и умоляйте государя о помиловании. . Государь наш добр и милостив, он войдет в ваше положение и дозволит вам вернуться в Россию; преступление ваше будет вам прощено. Но если бы даже вы и подверглись наказанию, то, наверно, не такому ужасному, как вы думаете..
Князь Каталадзе печально покачал головой.
– Все это ни к чему!. – грустно произнес он. – Я уже не юноша, мне около сорока лет; горе и тяжелые обстоятельства состарили меня, потушили огонь в моем сердце. При таких условиях начинать новую жизнь немыслимо: у меня не хватит энергии начать новую борьбу с судьбою, хлопотать, ездить, волноваться, сталкиваться с новыми людьми,
с новыми условиями и порядками жизни. . Подумайте, разве все это легко?.. Гораздо легче и проще умереть. Если бы я еще был не один, если бы подле меня было существо, которое любило бы меня, поддерживало бы мою энергию, о, тогда бы я нашел достаточно силы преодолеть все препятствия, побороть все трудности, какие бы судьба ни выдвигала на моем пути! Но, увы! Я одинок, никому не интересен, никому не нужен. . Для чего же я буду вновь испытывать судьбу?..
– На новом своем пути вы можете встретить такое существо..
– Никогда! – порывисто воскликнул Каталадзе. – Никогда!
– Откуда же у вас такая уверенность? – изумилась Лидия.
– Потому, что я уже встретил такого человека, который бы мог меня спасти, вдунуть в меня душу, возвратить к жизни. . Но к чему говорить о том, чего никогда не может случиться!.
– Кто же этот человек? – пристально посмотрела на него Лидия. – И почему вы не ожидаете сочувствия с его стороны?
Князь Каталадзе вздрогнул всем телом и торопливо поднял глаза на Лидию. Несколько минут они пристально глядели в глаза друг другу.
– Послушайте, – дрожащим голосом, почти шепотом заговорил Каталадзе, – что это такое? Сон, шутка или обман слуха.. Скажите, так ли я понял?.. Нет, это – безумие!
Я сумасшедший; простите, я не понял вас. . Простите великодушно.. Мне показался намек в ваших словах; вы,
разумеется, не то хотели сказать, что мне вообразилось..
Моя судьба кончена, и песенка спета. Во всяком случае, я бесконечно признателен вам; если бы не встреча с вами, я, может быть, еще долго продолжал бы влачить свое позорное существование, как верблюд седло на израненной спине: незаметно подкралась бы старость с ее немощами и болезнями, а там и смерть.. Я умер бы как мусульманин, и ненавистные мне муллы похоронили бы меня на персидском кладбище.. Подумайте, разве это не ужас?.. Разве не в тысячу раз лучше и благороднее взойти на высокую пустынную гору, куда не ступала нога человеческая, и броситься в бездонную пропасть, где никто никогда не найдет моего трупа, чтобы совершить над ним кощунственное для христианина, каким я остался в душе, погребение.. Я умру среди вольных гор, как орел, одиноко пред лицом Бога, перед которым я так страшно виноват. . Вы же будьте счастливы и хотя изредка вспоминайте несчастного Муртуз-агу...
По мере того как он говорил, глаза его разгорались от охватившего его энтузиазма, голос окреп, и вся его фигура дышала твердой решимостью.
Лидия смотрела ему в лицо, и в ее уме с быстротой молнии, в свою очередь, зрели и слагались решения. .
– Погодите немного! – заговорила она, по-видимому, вполне спокойным голосом. – Речь идет о жизни, а не о смерти. . Повторяю еще раз: продайте ваше имущество и уезжайте в Европу; хлопочите, устраивайтесь, добейтесь разрешения вернуться в Россию и тогда..
– И тогда?
– И тогда, если вы вспомните о вашем друге, о том существе, которое, по вашему мнению, может сделать жизнь вашу счастливой, напишите ему и получите ответ. .
– Какой?
– А это смотря по вопросу!
– Лидия Оскаровна, – глухим голосом заговорил князь
Каталадзе, – понимаете ли вы, какое слово сказано вами?..
Какую ответственность берете вы на себя?.. Ведь, если впоследствии, когда я, преодолев все преграды, приеду напомнить вам ваше обещание, а вы к тому времени успеете забыть его, то какой ужасный удар нанесете вы мне!..
Подумайте хорошенько об этом и позвольте мне лучше умереть теперь, чем рисковать таким страданием в будущем!
– Ваши слова доказывают только ваше недоверие ко мне.. Чем я его заслужила? Или вы, может быть, думаете, что мне следовало бы теперь же последовать за вами. . Но если я этого не делаю, то не из страха связать свою судьбу с человеком без определенного положения, – вовсе нет; меня удерживает сознание, что один вы легче и скорее достигнете благоприятных результатов в задуманном деле. Мое присутствие связало бы вам руки и ослабило бы энергию, на которую я возлагаю твердую надежду!
– И не ошибетесь; клянусь вам, не ошибетесь! Не пройдет и месяца, как меня уже не будет в Судже..
– И отлично; во всяком деле важно начало. Вы только верьте и не теряйте бодрости духа!
– Но неужели я вас больше не увижу?
– Теперь и не надо. К чему рисковать? Подумайте, из
Суджи вы должны будете уехать тайно, ибо не думаю, чтобы Хайлар-хан добровольно отпустил вас; лучший вам путь в Европу через Турцию, и ближе, и безопаснее. Как же вы ухитритесь еще и сюда заехать? Нет, нет, я вам положительно запрещаю это делать, слышите? Когда будете уже в Европе, напишите мне, я вам отвечу: а пока, до свидания при лучших условиях. Мне надо торопиться домой, а то там будут беспокоиться!
Она протянула ему руку, которую князь крепко пожал.
– До свидания! – произнес князь. – Я как в тумане, мне кажется все это несбыточным сном, бредом!
– Напрасно! А я так, напротив, верю, верю в вас, верю в себя, верю в нашу счастливую звезду! Ну, а пока еще раз до свидания. Прикажите вашему курду подвести Копчика!
– Сейчас, – покорно произнес Каталадзе и, приложив палец к губам, резко свистнул. В то же мгновенье раздался топот бегущей лошади, и к отверстию пещеры подбежал с
Копчиком в поводу встретивший Лидию при ее приезде мрачный курд.
– Этот курд, – сказал князь, – моя правая рука, самый смелый и надежный изо всех; единственный человек, которого мне будет жаль покинуть в Судже!
– А разве вы не могли бы его взять с собой? – спросила
Лидия.
– Я лично охотно бы взял его, но он-то ни за что не согласится покинуть свою родину. Ни за какие блага в мире не променяет он своих диких, бесплодных гор!
Лидия еще раз крепко пожала руку князю, вспрыгнула на седло и начала осторожно спускаться с крутизны. Съехав вниз, она оглянулась, сделала прощальный жест рукой и, подняв Копчика в галоп, понеслась к Шах-Абаду.
Каталадзе, стоя на краю обрыва, долго и пристально смотрел ей вслед, пока она не исчезла, наконец, из виду.
Тогда он вошел снова в пещеру и, опустившись на колени, принялся горячо и усердно молиться, беззвучно повторяя одну и ту же молитву: «Господи, пожалей и помоги!»
В эту минуту ему показалось, что среди мрачных сумерек, густо нависших над его головой, блеснул яркий луч солнца, и первый раз за все эти двадцать лет душа его наполнилась тихой, светлой радостью.
XLIV
Последние опасности
Поздний вечер. Солнце давно уже скрылось, и ночная мгла окутала землю. Тучи медленно ползут по небу, заволакивая бледный диск луны, которая то выглянет из-за их разорванных лохмотьев, то снова спрячется, после чего на земле делается темно, как в могиле. Среди холодного мрака бесформенной громадой возвышается здание
Урюк-Дагского поста. Благодаря тому, что все окна обращены внутрь двора, а наружу выходят только высокие глухие стены, не светится ни одного огонька, и весь пост кажется погруженным в глубокий сон, но это только так кажется, на самом же деле там кипит лихорадочная деятельность. Из окон казарм, конюшни и офицерской квартиры тянутся скрещивающиеся между собой яркие полосы света, освещающие двор, в одном конце которого, кроме того, горит еще и небольшой фонарь на деревянном столбе с проволочной решеткой на стеклах. На дворе, как тени, снуют фигуры солдат пограничной стражи; их человек десять, одеты они в полушубки, папахи, башлыки, на ногах валенки или кавказские бурочные сапоги, за плечами у каждого винтовка, а на боку шашка. Тут же стоят, жмурясь на свет, оседланные лошади. Солдаты, видимо, озабочены и торопливо готовятся к скорому выступлению. Одни из них внимательно исследуют, насколько крепко держатся подковы, достаточно ли туго подтянуты подпруги, на месте ли и правильно ли положены лавки седел, осматривают и щупают пряжки на уздечках и прочих частях конского снаряжения, укорачивают или удлиняют путлища стремян.
Другие оправляют на себе амуницию: портупеи, перевязи винтовок, пояса; пробуют, свободно ли выходят из ножен клинки шашек, легко ли вынимаются патроны из заранее расстегнутых патронташей. Успевшие привести себя и лошадей в полный порядок терпеливо стоят и, в ожидании приказа сесть в седло, ведут между собой беседу вполголоса. Тем временем в кабинете офицера происходит последнее совещание между поручиком Воиновым и старшим вахмистром его отряда – Терлецким.
Аркадий Владимирович стоит у стола и наскоро дохлебывает остывший чай. Он одет по-походному: короткий романовский полушубок туго стянут боевым ремнем, на ногах бурочные сапоги, на голове большая косматая папаха, нахлобученная на уши и слегка сдвинутая на затылок, через плечо на тонком ремне висит отделанная в серебро кавказская шашка; торчащий из лакированной кобуры револьвер дополняет вооружение.
В этом костюме Воинов имел весьма воинственный, мужественный вид, особенно благодаря папахе из длинного волоса и кавказской шашке. И то и другое, в сущности, являлось нарушением установленной для пограничной стражи формы, но Воинов, как и многие из офицеров закавказских бригад, при обыкновенных служебных разъездах разрешал себе такое отступление, на практике убедясь, насколько прежняя большая косматая папаха несравненно красивее и удобнее форменной маленькой, из курчавого барашка. Относительно же преимуществ кавказской шашки перед драгунской не могло быть и речи.
– Итак, ты уверен, что он еще не успел перейти обратно в Персию? – спрашивал Воинов стоящего перед ним вахмистра.
– Так точно! – спокойным тоном отвечал тот. – Я доподлинно знаю, что он еще в нашем краю. Мне один верный человек сказывал, он его сегодня утром в горах встретил!
– А как ты думаешь, много у него народа?
– Думаю, есть человек с десяток, да на той стороне полсотни рыщут, чуть что, сейчас на подмогу подойдут!
– Трудно будет захватить, а? Как ты думаешь?
– Да, не легкое дело. Главная беда – хитры они, проклятые, очень. Я план-то их хорошо знаю; сначала курды завяжут для отвода глаз перестрелку в каком-либо конце, солдаты бросятся на выстрелы, а Муртуз-ага тем временем в суматохе-то этой самой где-нибудь и проскочит через границу!
– Как же нам быть?
– А вот для этого самого я и приказал собраться десяти объездчикам; разделим их на две партии, одни пусть с вашим благородием идут, человек пять, а с другими пятью я поеду. Как начнется стрельба на границе, так мы сейчас в сторону от нее вправо и влево и поедем. Может быть, Бог даст, наткнемся где на самого Муртуза!
– На выстрелы, стало быть, по-твоему, ехать не стоит?
– Так точно, не стоит, ваше благородие; они беспременно в другом месте проскользнуть норовят!
– Ну, ладно, посмотрим, что-то Бог даст! Пора выезжать, прикажи людям садиться!
– Слушаюсь!
Терлецкий повернулся и вышел. Увидя вахмистра, солдаты притихли и начали торопливо подравниваться.
– Садись, – вполголоса скомандовал Терлецкий. –
Убий-Собака, Мозговитов, Слесаренко, Злодийцев, поедете со мной, остальные с его благородием. Ну, с Богом!
Через несколько минут две кучки всадников, одна вслед за другой, осторожно выехали из ворот поста.
– Ну, ты поезжай вправо к своему посту, – сказал
Воинов, – а я возьму в Шах-Абаду; я думаю, он скорей туда сунется!
Обе партии, соблюдая полную тишину, разъехались в противоположные стороны и скоро исчезли из глаз друг друга, потонув в окружающем мраке.
Около часа ехал Терлецкий вдоль камышей, густой стеной окаймлявших берег реки. Время от времени он останавливался и чутко прислушивался к мертвой тишине пустыни, но пустыня была нема. Только изредка с налетавшими иногда порывами ветра доносилась откуда-то издалека едва уловимая для уха брехня собак на соседнем посту. По мере того как всадники подвигались вперед, брехня эта становилась все слышнее.
– Эк заливаются, проклятые! – проворчал вахмистр.
– Это они нас чуют, господин вахмистр! – почтительно прошептал подле него голос ефрейтора Убий-Собаки.
– А может, где в камышах курды притаились?
– И то может! – согласился ефрейтор.
Они двинулись дальше. Вдруг в нескольких шагах впереди по земле прокатилось что-то темное.. В то же мгновение из-под самых ног вахмисгровой лошади вынырнула из мрака огромная косматая белая овчарка и с громким, хриплым лаем принялась прыгать перед мордой коня, стараясь вцепиться в нее зубами.
– Цыц, ты, дьявол! – закричал на нее вахмистр. – Уймись, проклятая!
– Белка, Белка! – ласково позвал собаку ефрейтор. – Что ты, глупая, аль своих не признала?
Услыхав знакомый голос, овчарка сразу затихла, замахала хвостом и принялась кружиться вокруг лошадей, слегка взвизгивая, как бы желая этим сказать: «Простите, господа, дело ночное, к тому же и место разбойное, немудрено ошибиться».
– Послушай, Убий-Собака, – обратился вахмистр к ефрейтору, – постой-ка ты тут малость с людьми у камышей, а я на пост съезжу, надо взять кое-что. Да смотрите, избави Бог, не курите, а то теперь в такую темень огонь и невесть Бог откуда виден!
– Слушаюсь, не извольте беспокоиться, сами понимаем! – поспешил успокоить его Убий-Собака.
– Ну, то-то, я живо обернусь!
Сказав это, вахмистр ударил лошадь плетью и помчался в карьер к посту, который хотя за темнотой и не был виден, но находился не дальше как в полуверсте.
Урюк-Дагский отряд, протянувшийся без малого на 20 верст, состоял из 4 постов, удаленных на расстояние 3-7 верст друг от друга. На крайнем, Урюк-Даге, жил Воинов; на среднем – Тимучине, помещался вахмистр; два же остальных управлялись унтер-офицерами. Впрочем, не проходило дня, чтобы кто-нибудь из двоих, или вахмистр, или командир отряда, не посещали эти посты.
– Ишь, погнал! – произнес Убий-Собака, глядя вслед ускакавшему вахмистру.
– Это он к жене попер, – отозвался из темноты один из объездчиков, – дюже ен ее жалеет!
– А к тому же ребеночек еще, – добавил другой объездчик, – и по ем тоже сердце-то мрет!
– Известное дело! – согласился Убий-Собака. – Только бы не застрял там, вертался бы скореича!
– Ну, ен не застрянет. Не таковский!
Квартира вахмистра на посту Тимучин состояла из двух небольших комнат и крохотной кухни. Первая служила
Терлецкому его рабочей комнатой. Там стоял стол, на котором, кроме чернильницы, лежала пачка бумаги, коробка перьев, карандаши и прочие принадлежности для писанья; подле стола на стене в углу висела самодельная этажерочка, с колонками из размотанных катушек и с установленными на ней по порядку уставами и пособиями; далее, деревянная вешалка и несколько выкрашенных в темную краску табуретов. У противоположной стены помещалась запасная железная кровать под серым солдатским одеялом и с подушками, твердыми, как камень. Кровать эта служила на случай, если бы кто-нибудь из начальства, запозднившись на границе, пожелал переночевать на посту. Сюда же, в эту комнату, являлись по зову вахмистра солдаты поста, до которых он имел какое-нибудь дело, ибо в другую комнату, служившую вахмистру спальней, он не любил никого пускать. Там он жил своей интимной жизнью.
Всегда суровый, молчаливый, он, переступая порог этой комнаты, становился другим человеком: шутил, улыбался, не прочь был побалагурить и посмеяться. Там он переставал быть вахмистром, казенной косточкой, а делался обыкновенным смертным, каким создал его Бог, ласковым, добрым и веселым. Но таким его видела только жена его
Луша, или, как ее звали солдаты, Лукерья Ивановна, а другие едва ли даже подозревали. Одно только было всем хорошо известно, что Терлецкий «жалеет» жену; никогда никто не слыхал, чтобы между ними происходили ссоры или чтобы вахмистр грубо прикрикнул на жену.
Терлецкий служил на сверхсрочной. Окончив действительную пять лет тому назад, он заявил желание продолжать службу, взял отпуск, съездил на родину в Подольскую губернию, а оттуда вернулся с женой. Его назначили в Урюк-Дагский отряд, где он и зажил с молодой женой в крошечной квартирке на посту Тимучин. Четыре года у них не было детей, и только на пятый родился, наконец, столь давно и нетерпеливо ожидаемый ребенок.
Теперь ему шел уже восьмой месяц, и звали его Аркадием в честь его крестного отца Аркадия Владимировича.
XLV
Перед вечной разлукой
Подскакав к посту, Терлецкий быстро соскочил с коня и, бросив поводья дежурному, торопливой походкой прошел на двор. Там было темно. Слабый свет от полуспущенной лампы в казарме и фонаря из конюшни бесследно пропадал в густом мраке. Вахмистр взглянул на окна своей квартиры: из спальни по краям, спущенной суконной занавески пробивался луч света.
«Не спит. .» – подумал Терлецкий и осторожно отворил дверь.
В небольшой, но чисто убранной комнате, у стола, перед лампой с зеленым абажуром, сидела молодая женщина лет 23-24, и прилежно шила на машине ситцевую рубаху.
Около нее в деревянной, выкрашенной зеленой краской люльке крепко спал спеленутый младенец. Его озабоченное личико было сморщено, и во сне он преуморительно причмокивал губами. Время от времени молодая женщина бросала работу и, наклонясь над люлькой, минуты две-три смотрела в лицо сына полным любви и материнской гордости взглядом. При этом красивое лицо ее, с большими серыми глазами и пухлыми, ярко-пунцовыми губами, делалось еще красивее. Лукерья Ивановна не была простой крестьянкой, а происходила из духовного звания, отец ее был пономарем. Она имела случай выйти за семинариста, чтобы впоследствии стать «матушкой», но предпочла
Терлецкого.
Услыхав легкий стук в дверь, Луша вскочила и торопливо откинула крючок.
– Ты все шьешь, Луша? – ласково спросил Терлецкий, входя в комнату. – Ложилась бы лучше спать!
– Не хочется что-то!.. – ответила молодая женщина, любовно заглядывая в глаза мужу. – А ты что же так скоро вернулся?
– Да я на минутку только; близко от поста проезжали, захотелось поглядеть на тебя!
– Что же на меня глядеть, я все такая же, как и давеча! –
засмеялась Луша и вдруг, крепко обхватив мужа руками, поцеловала его прямо в губы. – Милый ты мой, хороший, любимый!. – прошептала она.
В ответ на эту ласку Терлецкий, в свою очередь, несколько раз поцеловал ее.
– Ну, а он как? – кивнул головой вахмистр на люльку.
– Ничего, спит. Как ты уехал, он с чего-то куражиться начал, насилу укачала, теперь уснул, Христос с ним.
– К зубкам, должно быть!
– И я то же думаю. Когда же ждать-то тебя?
– Раньше утра не жди. Сегодня, слышь ты, тяжелая ночь нам выдалась; должно, перестрелка здоровая будет; как бы не ухлопали у нас кого!
– Ты-то смотри у меня поосторожней будь, – с затаенной тревогой в голосе произнесла Луша, – оченно-то вперед не лезь. Не дай Бог ранят, что я буду делать?!
– А ежели убьют?
– Ох, что ты! – всплеснула руками молодая женщина, с ужасом отшатываясь в сторону. – Господь с тобой! Разве можно такие вещи говорить? У меня даже сердце замерло, дух захватило.. С чего это ты такую думку на себя напустил?.. Нешто Бог попустит такому делу? Ведь мне без тебя и жизни нет... А ребенок, на кого он-то останется?..
Терлецкий печально усмехнулся.
– Думается, не от нас ведь это! – задумчиво произнес он. – Пуля летит, не глядит, можно али не можно. .
Он подошел к люльке и заглянул в нее.
– Ишь ты, как спит важно! – улыбнулся он. – Горюшка мало; ну спи, Христос с тобой!
Терлецкий наклонился и, вытянув губы, осторожно прикоснулся ими до лба младенца.
– Ну, Луша, прощай, ехать надо! – обратился он к жене, ласково обнимая ее. – К утру с чаем жди; за ночь-то иззябнем, так оно горячего чайку выпить куда как хорошо будет!
– Небось, чай будет, не впервой! Вот только ты-то сегодня какой-то странный, грустный; я таким тебя никогда не видела. Чувствуешь ты, что ли, что?..
– Ничего, так! – тряхнул головой вахмистр. – Я и сам. –
начал он, но вдруг остановился на полуслове и чутко прислушался.
– Стреляют! – воскликнул он и опрометью бросился из комнаты.
– Господин вахмистр, тревога, должно па Ишачьем броде! – торопливо доложил дежурный, подбегая к Терлецкому с его лошадью в поводу.
Быстрей птицы взлетел вахмистр на седло и, припав к луке, вынесся за ворота.
Луша, накинув байковый платок, выбежала из кордона на площадку. Она остановилась подле дежурного и, трепеща всем телом, начала прислушиваться.
Где-то далеко-далеко бухали выстрелы. Иногда они сливались в один залп и зловещим рокотом проносились по пустыне. С каждой минутой выстрелы становились все чаще и чаще, очевидно, перестрелка разгоралась и становилась все упорнее и настойчивее.
– У нас на посту никого нет? – спросила Луша дежурного.
– Все на границе. Дома я, да на смену мне Трубачев,
еще Касаткин остался, да он больной второй день лежит, встать не могит. Ишь, жарят! – добавил он, приникая ухом.
– Должно, теперь там пол-отряда собралось!
– А вахмистр там?
– Где же ему быть! Должно быть, там; и командир, думаю, туда поскачет. . Помиловал бы только Бог, убитых бы у нас не было..
– Авось Бог милостив! – набожно перекрестилась Луша.
– Вы бы, Лукерья Ивановна, в комнату шли, а то в одном-то платке холодно, чай!
– Ничего, я еще постою, послушаю, чем кончится!
С минуту они простояли рядом, прислушиваясь ко все еще не умолкавшей перестрелке. Вдруг где-то совершенно близко от них, по направлению к границе, мелькнул огонек и грянул короткий, резкий выстрел.
– Это откуда? – изумился дежурный. – Совсем близко, не дальше, как на первой дистанции. . Что бы это могло быть?
– Постой, никак скачет кто-то? – насторожилась Луша.
– Не слышишь, будто бы подковы стучат?
– А и взаправду скачет! – всполошился часовой, сбрасывая с плеча винтовку. Вдали ясно послышался порывистый топот несущейся во весь опор лошади.
– К нам! – прошептал солдат и, выступив вперед, громко крикнул: – Кто едет?
Ответа не последовало, но топот быстро приближался.
– Кто едет? – еще громче повторил часовой. – Отвечай, стрелять буду! – добавил он, с угрозой взводя курок.
Топот раздавался уже под самой горой. В эту минуту из-за краев разорванной тучи ярко выглянула луна, и глазам Луши и дежурного представилась быстро скачущая солдатская лошадь без всадника..
Вихрем влетев на холм, лошадь сразу остановилась и захрапела, пугливо оглядываясь вокруг. Дежурный поспешил схватить ее за болтающийся оборванный повод.
– Да это Громобой! – воскликнул он с удивлением, узнавая лошадь, на которой постоянно ездил вахмистр.
– Ах, и то правда! – всполошилась Луша. – Что ж это такое значит? Уж не случилось ли с Иваном Парамонычем чего-нибудь? – добавила она дрогнувшим голосом.
– Чему случиться? Просто конь вырвался; может, спешились где-нибудь, дали конвойному держать, а лошадь строгая, испугалась, вырвала повод из рук, да и подалась на пост. Пойтить седло поправить, да поводить хорошенько, а вы идите-ка домой: смотрите, иззябли, да, слышь, ребеночек никак плакать зачал!
– А и вправду плачет, проснулся, неугомонный!
Луша бегом пустилась домой, а дневальный повел запыхавшегося коня в конюшню.
– Ишь ты! – глубокомысленно рассуждал он, при свете фонаря рассматривая лошадь. – Седло-то совсем набок свернулось, и подпруга задняя лопнула.. Поводья тоже оборвались.. А это что такое? Никак кровь?.. – и он торопливо приблизил фонарь. – А и вправду кровь!. Вот она штука-то какая! Дела!.
Дежурный растерянно оглянулся, как бы ища, с кем поделиться страшным открытием, но на посту никого не было, кроме спавших в казарме больного Касаткина и
Трубачева, который после полуночи должен был сменить дежурного.
– Вытереть, аль так оставить, покуль старшой не приедут? – колебался дежурный, косясь на залитое запекшейся кровью седло и конскую гриву. – Ох, Господи, грехи тяжкие! Неужели же и взаправду с Иваном Парамонычем что случилось?
Пока дежурный возился с лошадью и поправлял седло, Луша, взяв на руки раскричавшегося младенца, начала медленно ходить с ним по комнате, вполголоса напевая: Спи, касатик мой, усни,
Угомон тебя возьми!
Бай, бай, детка, бай.
Быстры глазки закрывай!
Шш.. шшш.. шшш..
XLVI
Напролом через границу
Когда совсем стемнело, Муртуз-ага вышел из пещеры и свистнул.
– Пора в путь! – сказал он появившемуся перед ним как из земли Каро. – Зажигай сигнал и веди коней!
Курд кивнул головой и торопливо полез на вершину скалы; там у него была сложена небольшая кучка хорошо высушенных кизяков, политых керосином.
Через минуту на черном фоне неба, высоко над головой
Муртуза вспыхнуло яркое пламя. Со стороны его легко можно было принять за костер, разведенный чабанами, ночующими в горах со своими стадами; только тем, кто был посвящен в тайну и караулил на том берегу Аракса, было понятно значение этого неожиданно вспыхнувшего и затем скоро погасшего огня.
Осторожно, медленным шагом, пробирался Муртуз-ага с верным своим Каро по широкой степи, направляясь к
Араксу. До границы было верст шесть. Днем это расстояние легко можно было проскакать в какие-нибудь двадцать минут, но в темную ночь иначе, как шагом, ехать было нельзя, не рискуя ежеминутно или свернуть себе шею, свалившись в одну из глубоких балок, по всем направлениям прорезывавших степь, или разбить голову о груды камней, то и дело попадавшихся под ноги лошадям.
Спустившись на дно глубокого оврага, по которому во время летнего таяния снегов в горах мутные потоки с ревом и гулом ниспровергаются в Аракс, Муртуз-ага и Каро поехали быстрее; мягкий песок заглушал шаги лошадей, а густая черная тень настолько хорошо скрывала всадников, что даже в нескольких шагах их нельзя было заметить.
Овраг тянулся до самого Аракса. В том месте, где он входил в реку, немного левее был хороший и удобный брод, но легко могло случиться, что около этого брода, хорошо знакомого солдатам Урюк-Дагского отряда, был заложен секрет. Поэтому необходимо было выждать время, когда, согласно сделанному заранее условию, предупрежденные сигналом курды завяжут перестрелку. Выбрав место поудобнее, где подмытый берег выдавался далеко вперед, образуя нечто схожее с навесом, Муртуз и Каро соскочили с лошадей и, прижавшись к стене, стали ждать, все время чутко вслушиваясь в мертвую тишину ночи. Им не пришлось, однако, долго дожидаться, не прошло и несколько минут, как где-то вправо от них грянул выстрел, за ним другой, третий. . Чем дальше, тем выстрелы становились все чаще и чаще, сливаясь по временам в раскатистые залпы.
– Ну, теперь пойдет тамаша140 по всей границе! – усмехнулся Каро. – О, уже скачут, слышите, ага?
Муртуз в ответ только головой кивнул и прижал палец к губам, давая знак молчания.
Где-то близко-близко впереди прогрохотал топот несущихся во весь опор по камням лошадей. Не успели они проскакать, как у конца оврага что-то зашевелилось, и несколько человек пеших солдат, лежавших там в секрете, вскочили и бегом устремились за конными, поспешая на разгоравшуюся с каждой минутой все сильнее и сильнее перестрелку.
Каро и Муртуз-ага многозначительно переглянулись.
Предположение их о том, что брод у оврага был охраняем солдатами, оказалось верным.
– Я говорил, ага, – шепнул Каро, – московы наверно сидят на броду, так оно и вышло! Хорошо, что мы не ехали дальше, а то так-таки прямехонько и наскочили на них. Ну, а теперь нечего время терять, скорее на лошадей и на ту сторону, пока дорога свободна.
Когда Терлецкий, пустив лошадь марш-маршем, примчался на то место, где оставил ефрейтора Убий-Собаку с четырьмя объездчиками, он уже не застал их: очевидно, они ускакали на тревогу, предполагая, что и он прямо с поста поспешит туда же.
140 Тамаша – здесь: шум, тревога.
– Ах, чтоб им пусто было! – в страшной досаде выругался вахмистр, видя в исчезновении объездчиков полное уничтожение задуманного им плана. – Что же мне теперь делать? Не догадался приказать им, ишакам, несмотря ни на что, ждать меня здесь. И зачем я домой-то поехал, занапрасно только жену растревожил! – негодовал на себя
Терлецкий, не зная, на что решиться и куда ехать. –
Стрельба по ту сторону поста у Ишачьего брода, туда стало быть Муртуз-ага не поскачет, он скорее на этот бок, к
Желтому броду направится. Там у меня тоже секрет заложен; лишь бы люди горячки не спороли, остались бы на месте и не бегли бы на тревогу.. Ах, досадно, мои-то дурачье ускакали! Ну, уж задам я этому краснобаю
Убий-Собаке, будет помнить!
Обуреваемый такими тревожными мыслями, Терлецкий крупной рысью пустился по патрульной дороге в противоположную сторону от того места, где по-прежнему продолжали рокотать частые выстрелы. Достигнув того места, где у Желтого брода, среди густого камыша и гребенчукового кустарника, по его расчетам, должен был находиться секрет, Терлецкий увидел только брошенные связки камыша, покрытые рваными старыми бурками, служившими логовищем для солдат, самого же секрета и след простыл. Заслышав тревогу, солдаты, очевидно, побежали на выстрелы.
– А будь вы трижды прокляты! – в бешенстве скрипнул зубами Терлецкий. – Теперь все дело пропало. Со всех бродов, стало быть, поснимались, как вороны. Сколько толкуешь: сиди смирно, не беги, без тебя есть кому на тревогу бегти, нет, несет их, анафем!. Теперь все, чай, там собрались до кучи, а граница вся открыта, хоть в фаэтоне езжай. Ну, солдаты! Можно сказать, ишаки умней их!.
В то время пока Терлецкий в бессильной ярости проклинал солдат, его конь вдруг насторожился, поднял голову и пугливо захрапел. Терлецкий встрепенулся, торопливо выхватил из кобуры револьвер и начал напряженно вглядываться в окружающую его темноту. Привычный к ночным тревогам, конь вахмистра нетерпеливым движением головы потянул повод и, когда Терлецкий поспешил ему его отдать, Громобой двинулся вперед, внимательно наставив уши. Было ясно, что своим тонким лошадиным слухом он уловил недоступный для человеческого уха шорох и смело шел на него. Терлецкий вполне доверился своему коню и ехал вперед, готовый каждую минуту пустить в дело оружие. Вдруг в нескольких шагах от него мелькнули силуэты двух быстро скачущих всадников. Не теряя ни одного мгновенья, Терлецкий припал к луке, гикнул и помчался им наперерез. Он сразу угадал не только то, кто были эти всадники, но и принятое ими направление, а потому вместо того, чтобы преследовать их по пятам, пустил коня наискосок к берегу, в расчете одновременно с ними подскакать к броду. Расчет его оказался верным: в ту минуту, когда лошадь Муртуз-аги передними копытами уже вступала в реку, Терлецкий как коршун налетел на него сбоку.
– Стой, сдавайся! – загремел он, одной рукой хватая
Муртузову лошадь за повод, а другой в упор направляя ему в грудь револьвер. Но Муртуз-агу нелегко был захватить врасплох. Своей левой рукой он быстро отвел руку вахмистра, вооруженного револьвером, а правой нанес ему сильный удар кинжалом по пальцам, державшим повод его лошади. Еще легче, чем перерубить пальцы Терлецкому, Муртуз-ага мог вспороть кинжалом его грудь, но он не хотел проливать русской крови и, вырвавшись от вахмистра, без оглядки бросился в воду, спеша поскорее достигнуть противоположного берега. Несмотря на боль в перерубленных пальцах и текущую из них кровь, Терлецкий, не теряя присутствия духа, прицелился в затылок
Муртуз-аги, но не успел нажать пальцем спуск, как где-то подле него ярко вспыхнуло ослепительное пламя, громко загрохотал выстрел, и Терлецкий по чувствовал, как словно бы кто изо всей силы ударил его кулаком в правую сторону живота. Он закачался и инстинктивно ухватился за переднюю луку седла. В глазах запрыгали огненные шары, но он на мгновенье пересилил себя, обернулся и почти в упор выстрелил в пронесшегося мимо него курда, который, не останавливаясь, бросился в реку вслед за исчезнувшим уже из глаз Муртуз-агой, Сделав выстрел; Терлецкий почувствовал, как все вдруг быстро завертелось вокруг него, и начал терять сознание. Громобой, испуганный выстрелом, сперва шарахнулся в сторону, а потом, повернув назад, во весь дух понесся на пост. . Несколько минут сидел Терлецкий в седле, обливаясь кровью и судорожно вцепясь пальцами правой руки в гриву. Пальцы его левой руки были перерублены, и когда он, теряя сознание, пытался ухватиться ими за луку, они беспомощно скользили по намоченной кровью коже седла. В одном месте, попав передней ногой в болтающийся повод, Громобой чуть было не упал, сильно споткнулся и едва-едва удержался на ногах. От неожиданного толчка Терлецкий выпустил из рук гриву, растерял стремена и тяжело повалился с седла на землю. Ударившись головой о каменистый грунт дороги, он несколько раз конвульсивно вздрогнул всем телом, затем судорожно вытянулся и замер, неподвижно распростертый среди глухой пустыни.
Когда Воинов услыхал первые выстрелы, ему стоило большого труда удержаться от желания поскакать на них, чтобы наказать дерзких курдов, затеявших так нахально перестрелку, но, помня слова Терлецкого, он решил лучше остаться и, приказав своим людям рассыпаться поодиночке на возможно дальнее друг от друга расстояние, поручил им медленно подвигаться вперед вдоль границы, тщательно осматривая все встречающиеся на пути кусты и камышовые заросли. Солдаты, поняв план своего офицера, со всем рвением пустились на разведки, но все их усердие не привело ни к чему; пройдя из конца в конец всю намеченную дистанцию, Воинов с грустью должен был сознаться, что
Муртуз-ага для своего прорыва, очевидно, выбрал другое место.
– Хотя бы он на Терлецкого наскочил! – в волнении размышлял Воинов. – Тот-то уж не пропустит!
Тем временем перестрелка на фланге отряда замолкла, и наступила полная тишина. На далеком горизонте показалась багровая полоса наступающего рассвета. С появлением этого вестника надвигающегося дня у Воинова не могло оставаться больше никаких сомнений, что Муртуз-ага или схвачен вахмистром, или давным-давно успел благополучно переправиться в Персию. Оставалось только ждать известий.
Измученный бессонной ночью, иззябший, недовольный, ехал Воинов, понуря голову, втайне ропща на судьбу и неудачу. Вдруг вдали показался скачущий в карьер всадник, в котором следовавший за Аркадием Владимировичем объездчик Сквернозуб, отличавшийся особой дальнозоркостью, тотчас же признал старшего поста Тимучин ефрейтора Убий-Собаку.
– Чтой-то-с да случилось! – вполголоса заговорили солдаты. – Смотри как палит, в кальер141 жарит!
– Может, убило кого?
– Типун тебе, чего каркаешь!
– Всяко может быть.
– Нешто Муртузку словили?
– Дай-то Бог, а только навряд ли! – Кабы словили, для че бы тогда Убий-Собаке лошадь так щунять? – Глянь-кось как нахлестывает.
По мере того как Убий-Собака приближался, волнение между объездчиками росло все больше и больше; у каждого из них на сердце копошилось недоброе предчувствие, но никто не хотел высказывать своих опасений, боясь нареканий со стороны товарищей. Воинов волновался больше всех. Наконец он не выдержал и, дав шпоры коню, помчался навстречу Убий-Собаке.
– Что у вас случилось? – крикнул он еще издали, карьером подскакивая к ефрейтору и с трудом осаживая разгорячившегося коня.
– Несчастье! – ваше благородие, – господина вахмистра убило!
– Как убило? – упавшим голосом спросил Воинов, 141 Кальер (гов. прост.), карьер – скачка во весь опор, во весь дух. Самый быстрый ход (аллюр) лошади под седлом.
чувствуя словно удар молота в голову, – Совсем?
– Так точно, совсем; сейчас на пост принесли, уж холодный.. На границе нашли.. Сначала лошадь прибегла, в крови вся, а затем наши с тревоги домой ехали, да и наткнулись.. Лежит посреди дороги, руки раскинумши, а с боку живота, вот в этом месте, объездчик для большей ясности хлопнул себя по животу, ранища, большая-пребольшая и крови из нее до ужасти. . А к тому же и пальцы на левой руке посечены.. А кто и как убили его, никто не знает.
– Да разве вахмистр был один?
– Выходит, ваше благородие, так, что быдто бы один.
Мы и сами спервоначалу удивились, как это оно все так вышло. Никто не слыхал, не видал. Дежурный сказывает, был один выстрел близ поста, а опосля того лошадь прибежала вахмистрова, Громобой, седло на боку и все в крови. .
Воинов не стал больше слушать пустившегося было в многословие от охватившего его волнения Убий-Собаку и, дав шпоры коню, шальным галопом поскакал на пост Тимучин.
– Ах, какое горе, какое горе! – изредка шептал он. – Вот тебе и изловили! Проклятый Муртуз!. Ну, попадешься ты мне когда-нибудь, тогда держись только!.
XLVII
Горя реченька
Когда Воинов въезжал во двор Тимучинсхого поста, его поразил громкий, заливистый хохот, раздававшийся из квартиры вахмистра. Вслушавшись в этот странный, ни на минуту не смолкавший хохот, Аркадий Владимирович почувствовал, как мурашки пробежали у него по телу..
Что-то нечеловеческое, дикое и в то же время скорбное было в этом неестественном смехе.
– Что это такое? – кивнул головой Воинов по направлению квартиры вахмистра, обращаясь с этим вопросом к выбежавшему к нему навстречу унтер-офицеру Незеленому, старшему соседнего поста, по случаю происшествия прискакавшему тоже на пост Тимучин.
– Лукерья Ивановна, ваше благородие, должно, умом решилась! – доложил тот, поддерживая офицеру стремя. –
Солдаты дурачье, не предупредили, прямо так в комнату и внесли, а она только что заснула под утро самое.. Ночь-то всю не спала, ребенок плакал; а тут такое дело. . Она спросонья вскочила, увидала, крикнула и давай хохотать, да с той поры вот все и хохочет, должно, памятки отшибло!
Воинов поспешно вошел в дом. В первой комнате, на запасной кровати, с которой были сброшены матрас и подушки, на голых досках лежал труп вахмистра Терлецкого.
Левая рука его, распухшая и посинелая, с изрубленной, болтающейся на коже и жилах кистью, свесилась на пол; правая была закинута на грудь. Захватанный окровавленными пальцами полушубок был расстегнут; весь низ живота и синие рейтузы алели запекшейся кровью. Осунувшееся за одну ночь до неузнаваемости лицо было изжелта-бледно, рот полуоткрыт, широко расширенные, закатившиеся под лоб глаза застыли в выражении нестерпимого страдания и ужаса.. Над левой бровью зияла глубокая рана, левая щека и часть бороды были залиты кровью, что придавало лицу особенно жалкое, страшное выражение.
Растерявшиеся солдаты робко толпились вокруг убитого, пугливо заглядывая ему в лицо; в углу у окна, удерживаемая за плечи одним из солдат, билась Луша. Сидя на стуле, она, как змея, извивалась всем телом, ломала руки, топала ногами и заливалась диким неистовым хохотом; при этом лицо ее судорожно подергивало, только глаза оставались странно безжизненными, упорно устремленными в одну точку. Воинова особенно поразили эти немигающие, широко раскрытые глаза, в которых не светилось никакой мысли, не отражалось никакого ощущения. Их холодная неподвижность как-то особенно резко не гармонировала с судорожно кривившимся лицом и вылетавшим из напряженного горла хохотом.
– Вы бы попробовали ей ребенка поднести, – обратился
Воинов к солдатам, – может быть, увидя его, она опомнится!
– Пробовано, ваше благородие, да чуть было греха не вышло. Мы ей дали его в руки, спервоначалу она было и взяла, а потом вдруг как шмякнет об пол! Спасибо, подхватить успели, а то бы убила младенца-то насмерть!
– Где же он теперь?
– На солдатской кухне; кашевар молоком поит, У нее, чай, молока теперь не будет уже!
Воинов полюбопытствовал взглянуть на своего крестника. Когда он вошел в солдатскую кухню, он увидел всегда грязного, запачканного сажей кашевара чухонца Алика, придурковатого лентяя, совершенно неспособного к строю и служившего для всего отряда посмешищем. За негодностью к службе на границе он состоял бессменным кашеваром и так сроднился со своей кухней, что, случайно очутившись в другом месте, чувствовал себя каким-то потерянным.
Сидя на табурете, Алик держал на руках маленького
Аркашу и осторожно вливал ему по каплям в рот подогретое молоко. Ребенок, не умея еще пить из ложки, захлебывался, таращил глаза, пускал губами пузыри и беспомощно разводил ручонками. Лицо его выражало полное недоумение; он как будто размышлял, заплакать ли ему сейчас или подождать еще немного.
– Ну, пэй, пэй, алупщик мой, жалуста, пэй! – мягким, несвойственным ему голосом проговорил Алик, и ласковая добродушная улыбка широко расползлась по его безобразному красному лицу, с клочьями белого моха вместо бровей. Алик так был увлечен своей новой ролью няньки, что даже не заметил вошедшего офицера.
Воинов с минуту простоял в дверях и, не желая тревожить ни ребенка, ни его импровизированную няньку, потихоньку вышел. Первый раз в его сердце шевельнулось доброе чувство по адресу Алика, которого он до сих пор терпеть не мог за его лень, тунеядство и неспособность к строевой службе, за что Алику постоянно влетало как от самого Воинова, так еще больше от покойного Терлецкого, любившего иногда дать одну-другую затрещину особенно упорным, по его мнению, лодырям.
Выйдя из кухни, Воинов еще раз прошел в комнату вахмистра. Несколько минут простоял он над ним, с тем особым чувством недоумения и тоски, которые охватывают человека всякий раз, когда ему приходится присутствовать при неожиданной, насильственной смерти его ближнего.
– Ведь всего каких-нибудь три-четыре часа тому назад я разговаривал с ним, обсуждал подробности предстоящего дела, – думал Воинов, – а теперь вместо Терлецкого, которого я знал, лежит что-то неведомое, какая-то масса холодного тела, а самого его нет. . Где он теперь?
Воинов тяжело вздохнул, перекрестился и вышел, чтобы сделать все нужные распоряжения.
В полуверсте от селения Шах-Абад, в стороне от большой дороги, ведущей в город Нацвали, расположено небольшое христианское кладбище. На этом кладбище хоронили преимущественно армян и айсор142; русских покойников на нем было немного: три-четыре таможенных солдата, один молодой, умерший несколько лет тому назад, таможенный чиновник, несколько человек детворы и один застрелившийся год тому назад с тоски и одиночества ветеринарный врач. Трудно было представить себе место более унылое и невзрачное. Небольшое пространство красно-желтой земли, усеянной мелкими камнями, было обнесено невысокой глиняной, местами осыпавшейся стеной с простыми не запирающимися ветхими воротами, над которыми красовался когда-то большой крест, теперь давно сломленный бурей. На всем кладбище не было ни одного кустика, ни единого деревца, даже травка не росла на нем...
Над армянскими и айсорскими могилками крестов не
142 Айсоры – народ, живущий отдельными селениями в Северной Персии (нынешнем Иране), в турецком Курдистане и в Закавказье (в бывшей Эриванской губернии) В начале XX века насчитывалось около 2400 человек. Айсоры по языку принадлежат к армянской ветви семитских языков. В начале X века значительная часть айсор из Турции эмигрировала в Россию. Несколько десятков семейств поселились и во второй столице –
Москве (район Самотечной площади и прилегающих переулков).
стояло; над православными кресты хотя и были, но старые, почерневшие, поломанные. Одно время, вскоре по приезде своем в Шах-Абад, Рожновский задумал было привести кладбище в порядок, мечтал даже обсадить его деревьями, но вскоре был принужден отказаться от своей затеи. Без воды на Закавказье немыслима никакая растительность, а так как вода в тех местностях представляет из себя величайшую драгоценность, то люди привыкли расходовать ее с большой осмотрительностью исключительно для поливки фруктовых садов, огородов и засеянных полей. Не проходит года, чтобы из-за обладания несколькими лишними ведрами воды не проливалась человеческая кровь.
Крестьяне с дубинами, кинжалами и даже ружьями выходят ночью в поля караулить каждый свою канавку с бегущей по ней в его поле водой, и горе тому, кто вздумает украсть у соседа часть его воды, переведя ее украдкой в свой арык. Удар железной лопатой по голове, а то и кинжал под ребро, обычное возмездие за такое вероломство.
При таких условиях на поливку ненужного никому кладбища, воды, разумеется, достать было невозможно, и
Рожновскому не оставалось ничего больше, как махнуть рукой на свою кладбищенскую реформу, оставя кладбище в том виде, в каком оно было до него.
В закавказских бригадах Пограничной Стражи солдат, умерших на постах от болезней или убитых в стычках с контрабандистами, принято хоронить тут же, неподалеку от постов. Много таких скромных, никому неведомых могилок разбросано среди необозримых пустынь и на вершинах гор нашей далекой окраины; редко можно встретить кордон143, около которого не чернел бы деревянный, немудрящий крестик, водруженный над бугорком из земли и мелкого камня. Не ищите на этих крестах надписей или каких-нибудь указаний о том, кто нашел под ними вечное успокоение, имена их давно забыты.
Такая же участь постигла бы и Терлецкого, если бы трагическая гибель его, в силу некоторых особых обстоятельств, не возбудила общего сочувствия.
Первый почин сделал командир отдела Павел Павлович
Ожогов. Он предложил своим офицерам устроить небольшую подписку на скромный памятник для «лучшего вахмистра в отделе», как он всегда называл Терлецкого.
Рожновский, узнав об этой подписке, в свою очередь попросил разрешения участвовать в ней со своими чиновниками. Благодаря этому собралась сумма, вполне достаточная на то, чтобы сделать приличные похороны и заказать небольшой каменный крест из местного красно-бурого песчаника.
По предложению Осипа Петровича, изъявившего желание принять участие в похоронах со всей своей таможней, а также из уважения к просьбам Ольги Оскаровны, Лидии и других таможенных дам, решено было Терлецкого похоронить на шах-абадском кладбище, что придавало похоронам более торжественный характер.
В день, назначенный для похорон Терлецкого, все население Шах-Абада уже с утра находилось в волнении.
Жадные до всяких зрелищ и любопытные, как все дикари, 143 Кордон – здесь: воинская пограничная цепь, по В. Далю «караулы во взаимной связи для берега». Кордонщик – караульный в цепи.
татары толпой теснились на холме за Шах-Абадом, глазея на дорогу, по которой должны были провезти с поста
Урюк-Дага тело вахмистра.. Чиновники, одетые, по просьбе Рожновского, в мундиры, с трауром на рукаве, собрались у Осипа Петровича в квартире и в ожидании пили чай. В казарме старый Сударчиков с очками на носу выкликал по списку тех солдат и досмотрщиков, которые должны были под его командой следовать за гробом.
Ровно в одиннадцать часов на почтовых лошадях прибыл из Нацвали православный священник, отец Ираклий. Это был довольно курьезный человечек: небольшого роста, суетливый грузин, говоривший по-русски весьма плохо и с таким уморительным акцентом, что, слушая его, трудно было иногда не расхохотаться.
Он всегда торопился, боясь опоздать, и теперь, войдя в квартиру Рожновского, озабоченно спросил, обращаясь ко всем:
– Ну, что, гаспада, покойник еще не приходил?
– Не приходил, но скоро будэт приходил! – ответил ему в тон, но соблюдая полную серьезность, один из чиновников.
– Ну, слава Богу, а то я пугалься, что опоздал! – успокоился батюшка и добродушно начал обходить присутствовавших, правой рукой пожимая им руки, а левой придерживая широкий рукав рясы.
Спустя полчаса после приезда батюшки прибежал солдат, поставленный на крышу караульщиком, и доложил, что на дороге «чтой-тось едет, должно быть, упокойника везут». Чиновники засуетились, оправили на себе мундиры, набросили на плечи шинели и вышли следом за священником на площадь, откуда хорошо была видна дорога к
Урюк-Дагу, по которой медленно двигалась теперь печальная процессия. Впереди, на дышловой пароконной повозке, везли обитый черным коленкором и украшенный серебряным татарским позументом гроб. Он был несоразмерно велик, грубо и неумело сколочен из досок, в виде простого ящика, с дном немного более узким, чем совершенно плоская крышка. Повозкой правил солдат в полушубке, без шапки, с туго натянутыми вожжами в руке. При взгляде на его напряженную, озабоченную фигуру сразу можно было видеть, насколько трудно ему сдерживать хорошо раскормленных, застоявшихся артельных лошадей и заставить их идти спокойным шагом. За гробом, шагах в десяти от него, ехал верхом Воинов впереди небольшого отряда конных объездчиков; за ними в своей повозочке следовал Ожогов, вдвоем с неизменным своим другом доктором.
XLVIII
На кладбище
Ольга Оскаровна и Лидия, вышедшие тоже на площадь, стояли несколько в стороне и внимательно следили, не спуская глаз с приближающейся процессии.
– Посмотри, пожалуйста, – шепнула Ольга Оскаровна сестре, – как Аркадий Владимирович изменился за это время. Просто узнать нельзя!
Лидия угрюмо подняла голову, взглянула в лицо Воинову и невольно должна была сознаться, что перемена в нем произошла большая. Он сильно похудел, осунулся, вокруг губ легла скорбная морщинка, глаза смотрели уныло и неприветливо. Поравнявшись с дамами, он холодно приложил руку к своей папахе, посылая им официальный поклон, причем Лидии показалось, будто бы Аркадий Владимирович взглянул на нее долгим, пристальным взглядом, в котором она прочла затаенный беспощадный укор себе. От этого взгляда Лидия почувствовала, как что-то холодное, тягучее заползло ей в душу, усиливая ее и без того мрачное настроение духа, вот уже три дня, с той самой минуты, как Рожновский рассказал ей о драме, случившейся в Урюк-Дагском отряде, она от беспокойства и волнения не может найти себе места. Общий голос убийцей называет Муртуза; Сударчиков и Аркадий Владимирович упорно стоят за то что это дело его рук; доносчик144 Воинова видел Муртуз-агу как раз в тот день утром на русской стороне в горах, откуда он, по всей вероятности, ночью и пробрался в Персию и, встретив на своем пути Терлецкого, застрелил его. Наконец, самой неопровержимой уликой, по мнению всех служил труп курда, выброшенный волнами на русский берег на другой день после перестрелки. Утонувший курд был не кто иной, как постоянный спутник Муртуз-аги, его верный телохранитель и сподвижник Каро, с которым он никогда не расставался. При осмотре в спине у курда, немного пониже шеи, найдена была пулевая рана с засевшей в ней пулей от
Галяновского револьвера, которыми снабжены вахмистры
Пограничной Стражи. Сопоставляя это с отсутствием в
144 Доносчик – здесь: соглядатай, разведчик.
револьвере Терлецкого одного патрона, легко можно было предположить, что пуля, сразившая Каро, была пущена
Терлецким; но когда при каких условиях и где, оставалось для всех неразгаданной тайной.
Вообще все это дело представлялось в высшей степени загадочным и неясным. Немало интересовал всех вопрос, зачем понадобилось Муртузу уезжать тайно в Россию, когда он мог сделать это вполне легально, через таможню, днем, на глазах у всех. Толкам и пересудам не было конца.
Делались предположения одно другого нелепее, и только два человека были недалеки от истины – это Ольга и ее муж
Рожновский.
Осип Петрович тогда же, как только до него дошло известие об Урюк-Дагской истории, сказал жене:
– Знаешь, Оля, я уверен, что Муртуз приезжал сегодня на свидание с Лидией; только, разумеется, об этом надо крепко молчать. Потом, когда вся эта история кончится, постарайся вразумить ее, объясни ей, что ведь тут не Москва: она себе антропологические наблюдения делает, а из-за этого людей убивают. Разве же это можно?
Ольга Оскаровна еще более мужа была потрясена всем этим происшествием, но, видя Лидию и без того чрезвычайно расстроенной, не решалась заговорить с ней, откладывая объяснение до более благоприятного времени.
Впрочем, хотя Рожновские, и муж и жена, таили упорное молчание, Лидия по их лицам ясно видела, что им прекрасно все известно; в глазах их она читала себе осуждение и искренно мучилась этим.
Стоя в толпе в нескольких шагах от глубокой ямы, подле которой черным безобразным пятном выделялся неуклюжий гроб, из которого строго выглядывало заострившееся, покрытое пятнами от начавшегося разложения лицо Терлецкого и белели на обшлагах мундира сложенные на груди руки, Лидия чувствовала себя как бы участницей этого ужасного убийства.
– Слыхали? – раздался подле нее голос доктора, говорившего Рожновскому. – Жена его с ума сошла. От испуга молоко в голову ударилось.. Теперь помирает у меня в лазарете, думаю, больше двух дней не выдержит!
– А ребенок?
– Что ребенок? Да разве вы ничего не знаете? Не слыхали разве?
– Нет, а что?
– Ведь она его задушила! Когда ее доставили ко мне в лазарет, то ребенка привезли туда же; сначала она все буйствовала, кричала, хохотала, пела.. Ну, ей, разумеется, сына не показывали, но к вечеру она, однако, успокоилась, утихла, стала как бы разумнее. Фельдшер-то с большого ума, думал психологическое испытание, дурак, сделать, возьми да и дай ей в руки младенца. Она, как взглянула на него, сразу в неистовство пришла, завизжала, как бешеная, и вцепилась пальцами в горло малютки. Кинулись отнимать, не тут-то было! Пальцы как стальные, не разожмешь; впилась ими в шею Аркаши, и давить, и давить, а сама визжать и трясется вся.. Ну, много ли восьмимесячному надо, сразу задушила, отняли уже мертвого, а она после этого упала на пол и давай биться.. С той минуты уже всякая надежда пропала, да, пожалуй, оно и к лучшему.
Такое потрясение бесследно для организма пройти не может: если бы чудом каким-нибудь она и осталась жива, то была бы калекой на всю жизнь.
Похолодев от ужаса, с замирающим от нестерпимой
Жалости сердцем, слушала Лидия рассказ доктора. Ее воображение ясно представило себе страшную, чудовищную картину: безумная мать, душащая своего ребенка. Ей казалось даже, что она слышит раздирающий вопль и визг сумасшедшей и судорожное хрипение конвульсивно корчащегося тельца..
– Иде же несть ни болезни, ни печали.. – несутся нестройные голоса солдат, добровольно принявших на себя обязанность певчих. – Но жизнь бесконечная..
«Зачем, зачем он сделал это?» – думает Лидия, подразумевая Муртуза. – Неужели нельзя было избегнуть убийства?.. Или ему человеческая жизнь действительно нипочем? Вот он убил человека, погубил целую семью и теперь готовится к отъезду из Персии. . И неужели я последую за ним?
При этом вопросе Лидия вздрогнула всем телом.
«Нет, нет! – с тоской и отчаянием поспешила она ответить сама себе, – теперь это невозможно.. Убийца..
убийца!. Но ведь и раньше он был убийца; почему же я то, прежнее убийство так скоро и охотно простила ему? То простила, а это не могу.. Чувствую, что не могу и никогда не прощу»!..
Лидия искоса и робко перевела свой взгляд на лицо
Терлецкого, и вдруг ей показалось, что мертвец зашевелился. Одна рука его слегка поднялась из гроба и грозно погрозила ей пальцем. .
Девушка дико вскрикнула и без чувств упала на руки успевшего подхватить ее Воинова.
Солдаты-певчие в суеверном ужасе отшатнулись от
гроба и замолкли, дрожа всем телом. Даже священник и тот в первую минуту растерялся и полными от ужаса глазами смотрел на мертвеца и на его приподнятую из гроба руку..
Все присутствующие смутились; один только Ожогов не растерялся и, обратясь к ближайшему унтер-офицеру, спокойно произнес:
– Должно быть, веревка развязалась, которой одна рука была притянута к другой, поди, поправь!
Эти просто сказанные слова разом всех успокоили.
Необычайное происшествие потеряло всю свою таинственность и легко объяснилось тем, что насильно согнутая много времени спустя после смерти рука, удерживаемая в своем положении веревочкой, освободясь от нее, приняла свое прежнее положение..
ЭПИЛОГ
Лидия серьезно и тяжко заболела. Вначале болезнь приняла такой оборот, что доктор не ручался за счастливый исход ее. Не имея возможности ежедневно за 30 верст навещать больную, он потребовал, чтобы Лидию Оскаровну перевезли в Нацвали, где для нее наняли две комнаты в доме одного армянина. Ольга переехала с нею и самоотверженно взяла на себя роль бессменной сиделки. Во все время, пока жизнь Лидии находилась в опасности, Воинов ежедневно навещал ее. Чтобы быть поближе к городу, он перебрался на крайний пост своего отряда, отстоявший от
Нацвали менее чем в десяти верстах. Утром и вечером аккуратно являлся он к Ольге Оскаровне, бледный и трепещущий, с одним и тем же неизменным вопросом:
– Ну, что, как сегодня?
Когда вести были утешительные, он весь расцветал и радостный и довольный возвращался домой, но зато, узнав о каких-нибудь осложнениях, впадал в такое отчаяние, что
Рожновской стоило большого труда утешить его.
– Неужели Лидия, – думала она, – будет так слепа, оттолкнет свое счастье? Лучшего, более любящего и преданного мужа ей никогда не найти. Надо во что бы то ни стало уговорить ее! – решала Ольга Оскаровна в эти минуты и ждала, когда сестра настолько поправится, что с ней можно будет говорить серьезно.
– Знаете, Ольга Оскаровна, новость? – спросил Воинов, входя однажды в комнату Ольги. – Муртуз-ага убит!
– Как, каким образом? Откуда вы это узнали?
– От самого Алакпера-Бабэй-хана. Помните, старичок, первый министр Суджинского хана, с которым мы познакомились тогда в Суджах. Вчера утром он прибыл в персидский Урюк-Даг и прислал просить меня приехать к нему по важному делу. Я поехал. Старик принял меня очень любезно. По его словам, он нарочно явился, чтобы выразить от имени хана его глубокое сожаление о случившемся в моем отряде несчастье. По словам Алакпера-Бабэй-хана, Хайлар-хан, когда узнал об убийстве моего вахмистра, был чрезвычайно опечален и огорчен. «Сначала мы не знали, чьих рук это дело, уверял меня Алакпер-Бабэй-хан, и сильно подозревали ваших татар-контрабандиров; только недавно открылось, кто был настоящий убийца». «Кто же, по-вашему? – спросил я, уверенный вперед, что услышу, по обыкновению, какую-нибудь басню. Но представьте себе мое изумление, когда Алакпер-Бабэй-хан, не моргнув бровью, спокойно сказал: «Вы наверно и не подозреваете; вашего вахмистра убил Муртуз-ага. Впрочем, – добавил старик, – от Муртуза всегда можно было ожидать злого дела; он был дурной мусульманин и плохой перс, шайтан возьми его душу!» «То есть как это так? – изумился я. –
Разве Муртуз-ага.. » – «Умер! – перебил меня Алакпер-Бабэй-хан». – Убит своими же курдами. Он замыслил нехорошее дело: бежать из Персии, изменить своему владыке, светлейшему Хайлар-хану сардарю Суджинскому, –
да будет Аллах всегда милостив к нему! Перед бегством
Муртуз-ага распродал все свое имущество, собрал все свои драгоценности и думал уйти с ними в Турцию, но на самой границе его же курды, которых он взял себе в охрану, проникнув в его сокровенный замысел, восстали против него и убили, а имущество разграбили. . Вот тогда-то и выяснилось все коварство Муртуза. Сардар, узнав всю правду о нем, не стал даже преследовать курдов, особенно когда выяснилось, что Муртуз убил вахмистра русского царя.. За одно это его следовало предать смерти. Не правда ли?» Старик старался показать, будто бы он от души возмущается, но я отлично видел, насколько все это было напускное, и для меня нет никаких сомнений, что убийство
Муртуза совершено хотя и курдами, но не иначе, как по приказанию самого же Хайлар-хана Суджинского, который, узнав о намерении Муртуза покинуть Персию навсегда, пожелал его ограбить.. У этих дикарей подобные действия – явление обычное.. Ну, да, впрочем, нас это не касается! Я во всяком случае рад тому, что смерть Терлецкого и бедной Лукерьи Ивановны теперь отомщена.
Было бы обидно, если бы злодей избег кары, он и то долго уклонялся от справедливого возмездия. До сих пор я не говорил вам: ведь он был русский подданный, князь Каталадзе, бывший вольноопределяющийся. Восемнадцать лет тому назад он убил мужа моей тетки, бежал в Персию, принял мусульманство и втерся в доверие сначала покойного Чингиз-хана, а после его смерти Хайлар-хана. Много преступлений было на его душе, но теперь судьба за все рассчиталась с ним, и я очень доволен!
– Меня его смерть тоже радует, – задумчиво произнесла
Ольга, – но вовсе не из тех соображений, какие у вас.
– А из каких? – удивился Воинов.
– Это уже мое дело! – загадочно улыбнулась Рожновская. – В свое время, может быть, скажу вам, а пока это секрет, и большой секрет!
Document Outline
КТО ПРАВ? БЕГЛЕЦ
КТО ПРАВ?
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
БЕГЛЕЦ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
Эпилог
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




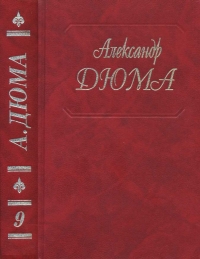
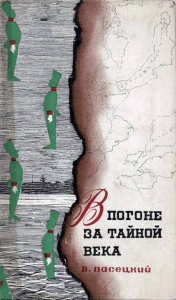


Комментарии к книге «Кто прав? Беглец», Фёдор Фёдорович Тютчев
Всего 0 комментариев